ФРЭНСИН РИВЕРС ВЕЯНИЕ ТИХОГО ВЕТРА
«Любящей рукой Фрэнсин Риверс написала историю об истине и надежде в мире, наполненном ложью и отчаянием. Читатели нескоро забудут Хадассу и ее победу над страхом, как не забудут ее верность Господу. Роман «Веяние тихого ветра», вне всякого сомнения, проникает в сердца всех, кто его читает».
Робин Ли Хэтчер,
президент ассоциации «Романисты Америки»
«Признаком того, что Фрэнсин Риверс — великий писатель, служит то обстоятельство, что она может погрузить читателей в свой мир и сделать их частицей этого мира. Своим романом «Веяние тихого ветра» Фрэнсин Риверс доказала всем, что является одним из великих писателей XX столетия. Жан Оель оживил для нас доисторический период, Маргарет Митчелл провела нас через юг США и гражданскую войну. Обладая талантом такого же масштаба, Фрэнсин Риверс написала историю, которую читатели будут помнить долго и которая достойна того, чтобы ее считали классикой».
Барбара Кинен,
издатель, журнал «Affaire de Coeur»
«Удивительно захватывающая книга! Мы с женой использовали любую свободную минуту, чтобы только прочитать ее».
Д-р Артур Руппрехт,
профессор кафедры древних языков Уитонского колледжа
«Время от времени в мире литературы появляется роман, который становится чем–то новым в христианской беллетристике. Думаю, что роман «Веяние тихого ветра» является одним из них. Это единственный христианский роман, опубликованный в наши дни, который можно назвать эпическим. Сравнить его можно, пожалуй, с романом «Камо грядеши?». «Веяние тихого ветра» — динамичное и сильное произведение.
Эта книга написана настолько хорошо, что никого не оставляет равнодушным! Атмосфера событий — закат Римской империи — представлена великолепно! Император, битвы гладиаторов, лачуги рабов, языческие храмы… Все это показано драматически и красочно. Психологические аспекты персонажей прекрасно сочетаются с аспектами духовными. Персонажи становятся сильнее — или слабее, — но во всех случаях читатель воспринимает эти перемены как нечто естественное.
Несмотря на то, что события романа разворачиваются в I столетии, это самый современный роман из всех, которые мне довелось читать за много лет. «Современные» проблемы, о которых сегодня то и дело пишут в газетах и говорят в ток–шоу, были актуальны и в Римской империи в период ее упадка. Гомосексуализм, насилие, коррупция в высших кругах власти, бунтарская молодежь, вырождение среднего класса — все это расшатывало Рим точно так же, как сегодня разрушает изнутри Америку. И какой же ответ дает роман на эти проблемы? Благую Весть Иисуса Христа. Не больше — и не меньше.
Как бы мне самому хотелось написать такую книгу! Это не «женская» книга и не «мужская», — эту книгу любят и читают как женщины, так и мужчины. Роман оказался из числа таких сокровищ и христианских свидетельств, которые мне редко доводилось, если вообще доводилось, читать».
Джилберт Моррис,
автор бестселлеров
«Пять баллов! Рекомендую эту книгу всем, кто хочет прочитать хороший роман. Если говорить об эпическом характере книги, то «Веяние тихого ветра» отвечает всем требованиям интересного и динамичного повествования. Персонажи увлекательны… Героиня вдохновенна и при этом не теряет чисто человеческих качеств… Замысел неповторим… Ход действий и все повествование носят захватывающий характер. Каждое слово достойно прочтения!»
Мэрилин Анита Далримпл,
обозреватель, журнал «Affaire de Coeur»
«На страницах романа Фрэнсин Риверс оживает Древний Рим с его живыми персонажами и удивительной историей. Однажды начав читать книгу «Веяние тихого ветра», я не могла от нее оторваться. Риверс — настоящий мастер своего дела».
Эмили Кармайкл,
автор бестселлеров
OCR & SpellCheck: TANYAGOR
«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» Санкт — Петербург 2006
Francine Rivers «A VOICE IN THE WIND», 1993
ISBN 0–8423–7750–6(англ.)
ISBN 978–5-7454–1308–7(рус.)
Переводчик М. А.Думчев
С любовью
посвящаю эту книгу моей матери,
ФРИДЕ КИНГ,
которая стала для меня
настоящим примером
смиренного служения.
ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Я хочу поблагодарить многих людей, которые помогли мне в писательской карьере: мужа Рика; детей, Тревора, Шэннона и Трэвис; маму, Фриду Кинг; родителей Рика, Билла и Эдит Риверс; брата и его жену, Эверетта и Эвелин Кинг; тетю Маргарет Фрид, — все вы любите меня бескорыстной любовью и помогаете мне во всем, что я делаю. Огромную благодарность я выражаю также своему агенту Джейн Джордан Браун. Без ее настойчивости и квалифицированной работы эта книга, наверное, никогда не увидела бы свет, а я сама давно бы уже оставила мысль заниматься писательской деятельностью.
Особую благодарность я хочу выразить Рику Хану, пастору христианской церкви в Севастополе, открывшему мне глаза и уши, чтобы я могла воспринять красоту Божьего Слова; членам моей церковной семьи, показавшим мне, что Бог действительно каждый день изменяет жизни людей. Вы даже не представляете, какую неоценимую поддержку оказали мне многие из вас, и я рада, что у меня столько братьев и сестер.
Не могу не упомянуть о Дженни и Скотте — что бы я без вас делала? Вы мне так дороги. Да благословит Господь вас здоровьем, счастьем и, конечно же, детьми.
Но больше всего я благодарна Господу за все то, что Он сделал в моей жизни. Я молюсь о том, чтобы Он благословил этот труд, принял мой скромный вклад и трудился через него в жизни других людей.
Фрэнсин Риверс
1
Город молча изнывал от палящего солнца; он гнил, подобно тысячам тел, лежавших там, где эти люди погибли в уличных сражениях. С юго–востока дул удушающий горячий ветер, разносивший повсюду смрад разложения. По ту сторону крепостных ворот стояла сама Смерть в лице Тита, сына Веспасиана, и шестидесяти тысяч легионеров, жаждавших сравнять город Бога с землей.
Еще до того как римляне пересекли долину Терновника и расположились на Елеонской горе, те вооруженные группировки, которые находились в крепостной стене Иерусалима, приготовились к уничтожению города.
Иудейские грабители, которые, как крысы, бежали от римлян, теперь оказались в Иерусалиме, убили уважаемых граждан, заняв священный храм. Взяв на себя функции священников, они превратили дом молитвы в торжище тирании.
Восточнее грабителей находились повстанцы и зилоты. Возглавляемые соперничающими предводителями — Иоанном, Симоном и Елеазаром — вооруженные люди заняли три крепостные стены. Ослепленные гордостью и властью, все эти люди раздирали Иерусалим на кровавые лоскуты.
Нарушая субботу и Божьи законы, Елеазар взял штурмом крепость Антонию и перебил римских воинов, которые в ней находились. Зилоты неистовствовали, убивая всех, кто только пытался восстановить порядок в бушевавшем городе. Всюду возникали стихийные трибуналы, которые, попирая все человеческие и Божьи законы, отправляли на смерть сотни ни в чем не повинных мужчин и женщин. Дома с богатыми запасами зерна были разграблены и сожжены. Вскоре за этим последовал голод.
Доведенные до отчаяния праведные иудеи искренне молились о том, чтобы Рим выступил против этого великого города. Они верили, что тогда — и только тогда — враждующие группировки в Иерусалиме объединятся ради одной цели: свободы от Рима.
Рим действительно выступил, и его военную мощь почувствовала на себе вся Иудея, поскольку римляне терпеть не могли, когда в подчиненных им землях кто–то поднимал голову. Они взяли Гадару, Вирсавию, Иерихон, Кесарию. Могучие легионы прошли по тем же местам, по каким когда–то шли паломники, для того чтобы поклониться Богу и праздновать священную Пасху. Десятки тысяч несчастных людей теперь бежали в этот город и оказались в мясорубке гражданской войны. Зилоты заперли ворота, в результате чего беженцы оказались в ловушке. Римляне подошли к городу, поскольку весть о разрушениях прокатилась от стен Иерусалима по долине Терновника. Тит осадил древний святой город и теперь был полон решимости положить конец иудейскому восстанию раз и навсегда.
Иосиф, иудейский военачальник, захваченный римлянами, плакал, стоя на вершине первой стены, занятой легионерами. С разрешения Тита, он призывал свой народ покаяться, предупреждая их о том, что Бог против них, что скоро исполнятся пророчества о разрушении. Те немногие, кто его слушал и решил уйти от зилотов, бежали к жадным сирийцам, которые вспарывали беженцам животы в поисках золотых монет, которые те якобы проглотили перед побегом. Те же, кто не внял Иосифу, познал на себе всю силу римской военной машины. Вырубив на мили вокруг все деревья, воины Тита построили осадные приспособления, из которых забрасывали город бесчисленными камнями, копьями и даже пленниками.
От верхней рыночной площади до нижней Акры город терзали волнения.
Внутри великого храма Божьего предводитель бунтовщиков, Иоанн, переплавлял золотые священные сосуды. Праведные люди не могли без слез смотреть на Иерусалим, невесту царей, мать пророков, дом царя Давида. Раздираемый собственным народом, он лежал теперь опустошенный и беспомощный, ожидая смертельного удара от ненавистных иноземных язычников.
Анархия уничтожила Сион, и Рим теперь готовился уничтожить анархию… где бы и когда бы она ни появилась.
* * *
Хадасса сидела рядом с матерью, и слезы наполнили ее глаза, когда она убрала черные волосы с исхудавшего, бледного материнского лица. Когда–то ее мать была красивой. Хадасса помнила, как мать распускала свои волосы, и они спадали по ее спине блестящими волнами. Папа называл эти волосы ее венценосной славой. Теперь они были тусклыми и грубыми, а когда–то румяные щеки стали бледными и впалыми. Она страдала от недоедания, кости ее рук и ног резко выпирали, и этого не могла скрыть даже ее серая верхняя одежда.
Взяв мамину руку, Хадасса нежно ее поцеловала. Рука была костлявой, безжизненной, холодной. «Мама?» Ответа не последовало. Хадасса оглядела комнату и посмотрела на свою младшую сестру, Лию, лежавшую в углу на грязном тюфяке. К счастью, она спала — во сне нестерпимые муки голода быстро проходят.
Хадасса отпустила мамину руку. Тишина давила на нее тяжелым грузом, боль в пустом животе была просто невыносимой. Только вчера Хадасса горько плакала, когда ее мать воздавала благодарность Богу за ту еду, которую Марк смог раздобыть для них: кожу со щита убитого римского воина.
Сколько все они еще проживут?
Пребывая в молчаливом горе, Хадасса отчетливо вспомнила, как ее отец сказал ей твердым и в то же время кротким голосом: «Людям не дано избежать своей судьбы, даже если они могут ее предвидеть».
Анания говорил ей эти слова несколько недель назад, — хотя теперь ей казалось, что прошла целая вечность. Все то утро он молился, а ей было так страшно. Она знала, что он собирается делать то же, что он делал все время до того дня. Он пойдет к неверующим людям и будет проповедовать им о Мессии, Иисусе из Назарета.
— Зачем ты опять хочешь идти и говорить перед этими людьми? В прошлый раз тебя уже чуть не убили.
— Перед этими людьми, Хадасса? Но они же твои братья и сестры. А я из колена Вениамина, — ей казалось, что она по–прежнему чувствует его нежное прикосновение к ее щеке. — Мы должны использовать любую возможность, для того чтобы говорить истину и проповедовать мир. Особенно сейчас. Для многих из них времени уже совсем не осталось.
Тогда она вцепилась в него:
— Прошу тебя, не уходи. Отец, ты же знаешь, что они с тобой сделают. Как мы тогда будем жить без тебя? Ты же не сможешь принести этим людям мир. В этом месте вообще нет никакого мира!
— Я говорю не о том мире, который есть на этой земле, Хадасса, а о Божьем. Ты сама об этом знаешь, — он прижал ее к себе. — Успокойся. Не надо так плакать.
Тогда она решила удержать его. Она знала, что никто не станет его слушать: люди не хотят слышать того, что он им говорит. Люди Симона разорвут его на части перед толпой, в назидание всем тем, кто только заикнется о мире. Такое уже бывало не раз.
— Надо идти, — его руки были твердыми, глаза добрыми, когда он коснулся ее подбородка. — Что бы со мной ни случилось, Господь всегда будет с вами. — Он поцеловал ее, обнял, затем отошел, чтобы обнять и поцеловать двух других детей. — Марк, ты теперь остаешься здесь с матерью и сестрами.
Подбежав к матери, Хадасса стала ее умолять:
— Ты же не можешь отпустить его! Он не может просто вот так уйти!
— Замолчи, Хадасса. Кому ты служишь, споря с отцом?
Мамин укор, несмотря на то что сказан он был мягким тоном, возымел действие. Мать и раньше много раз повторяла, что если человек не служит Господу, он неизбежно служит злу. С трудом удерживаясь от слез, Хадасса замолчала и больше ничего не сказала. Ревекка прикоснулась рукой к лицу своего мужа. Она знала, что Хадасса права, — он может не вернуться… наверняка не вернется. И все же, если на то Божья воля, значит, душе суждено спастись через самопожертвование. Одной жертвы вполне достаточно. Ее глаза были полны слез, и она не могла говорить — не смела говорить. Потому что, если бы она заговорила, она бы наверняка присоединилась к Хадассе и стала бы умолять его остаться в живых, остаться в их маленьком доме. Но Анания лучше нее знал, в чем состоит Господня воля, касающаяся его жизни. Он прикоснулся к ее голове, и ей стоило немалого труда, чтобы не заплакать.
— Помни о Господе, Ревекка, — многозначительно сказал Анания. — Он всегда с нами.
…Он не вернулся.
Хадасса осторожно склонилась над матерью, боясь, что потеряет и ее. «Мама?» Снова не последовало никакого ответа. Дыхание у матери было совсем слабым, а лицо — мертвенно–бледным. Почему так долго нет Марка? Он ушел еще на заре. Не может же Господь забрать и его…
Находясь в полной тишине, Хадасса все сильнее чувствовала страх. Она отрешенно гладила мать по волосам. Прошу Тебя, Боже. Прошу! Никакие слова в голову не приходили. Она чувствовала только стон, исходивший из глубин души. О чем просить? Чтобы они умерли поскорее, до прихода вооруженных римлян, и тем самым избежали мучительной смерти на кресте? О Боже, Боже! Ее мольба была беззвучной и отчаянной, беспомощной и наполненной страхом. Помоги нам!
Зачем они вообще пришли в этот город? Она ненавидела Иерусалим.
Хадасса изо всех сил боролась с отчаянием. Оно стало настолько тяжелым, что она физически ощущала его тяжесть. Она пыталась занять себя приятными мыслями, воспоминаниями о счастливых моментах своей жизни, но ничего такого на ум не приходило.
Она вспомнила о том давнем времени, когда они находились на пути из Галилеи, тогда они даже не предполагали, что окажутся запертыми в этом городе. Вечером, накануне въезда в Иерусалим, ее отец сидел на вершине холма; перед ним открывался вид на гору Мориа, на которой Авраам едва не принес в жертву Исаака. Он рассказывал истории о тех временах, когда он был мальчиком и жил в окрестностях этого великого города, до поздней ночи говорил о законах Моисея, при которых они выросли. Он говорил о пророках. Он говорил об Иешуа, Христе.
Хадасса тогда заснула и во сне видела, как Иисус накормил на склоне горы пять тысяч человек.
Она вспомнила, как потом отец разбудил всю семью на заре. Она вспомнила, как с восходом солнца свет озарил мрамор и золото храма, превратив здание в сияющее чудо, которое можно было видеть на мили вокруг. Хадасса до сих пор помнила тот трепет, который она испытала при виде храма. «О отец, он так прекрасен».
— Да, — торжественно сказал он. — Жаль только, очень часто то, что выглядит красиво, не живет вечно.
Несмотря на те преследования и опасности, которые ждали их в Иерусалиме, отец, входя в городские ворота, был полон радости и надежд. Можно было надеяться, что здесь больше соотечественников прислушается к нему, больше людей доверят свои сердца воскресшему Господу.
В Иерусалиме к тому времени почти не осталось истинных верующих. Много христиан было брошено в темницы, еще больше вынуждено было бежать в другие места. Лазарь, его сестры и Мария Магдалина были изгнаны; апостол Иоанн, дорогой друг семьи, оставил Иерусалим два года назад, взяв с собой Мать Господа. И все же отец Хадассы остался. Раз в год он вместе со своей семьей приходил в Иерусалим, чтобы встретиться с другими верующими в верхней комнате. Они ели хлеб и пили вино, как это делал накануне Своего распятия Господь Иисус. В тот год Пасху проводил Симеон Вар — Адония:
— Агнец, пресный хлеб и горькие травы Пасхи имеют для нас такое же значение, как и для наших иудейских братьев и сестер. Господь наполнил все это смыслом. Он есть святой Агнец Божий, Который, будучи Сам без греха, взял на Себя горечь наших грехов. Подобно тому как сынам Израиля в Египте было велено помазать кровью агнца косяки своих дверей, чтобы Божий гнев и Божий суд миновал их, Иисус пролил за нас Свою Кровь, чтобы мы в день суда оказались безвинными перед Богом. Мы сыновья и дочери Авраама, потому что мы спасаемся Его благодатью через веру в Господа…
Последующие три дня они праздновали, молились и повторяли учение Иисуса. На третий день они пели песни, радовались, повторно преломляли хлеб в день воскресения Иисуса. И каждый год в течение последнего часа собрания отец рассказывал о себе. В тот год все было как всегда. Большинство собравшихся много раз слышали его рассказ раньше, но всегда были те, кто только что обрел веру. И отец рассказывал свою историю именно им.
Он стоял перед собранием, простой мужчина с седыми волосами и бородой, с темными глазами, полными света и искренности. В нем не было ничего примечательного. Даже когда он говорил, в нем не было ничего необычного. Отличало его от других только прикосновение Божьей руки.
— Мой отец был прекрасным человеком, из колена Вениамина, который любил Бога и научил меня закону Моисея, — спокойно начинал он, глядя в глаза тех, кто сидел вокруг него. — Он был торговцем, жил в окрестностях Иерусалима, женился на моей матери, дочери бедного земледельца. Мы не были богатыми, но и не были бедными. За все, что у нас было, отец воздавал хвалу и славу Богу. Когда наступала Пасха, мы закрывали нашу небольшую лавку и шли в город. Мать оставалась с друзьями и готовила Пасху. Мы с отцом были в храме. Слышать Божье Слово означало есть твердую пищу, и я мечтал стать книжником. Но эти мечты жили во мне недолго. Когда мне было четырнадцать лет, мой отец умер и, поскольку у меня не было ни братьев, ни сестер, мне пришлось взять на себя его труд. Времена были тяжелыми, а я был молодым и неопытным, но Бог был добр. Он усмотрел все наши нужды.
Он закрыл глаза.
— Потом меня поразила лихорадка. Я боролся со смертью. Я слышал, как моя мама плакала и взывала к Богу. «Господи, — молился я, — не дай мне умереть. Я нужен матери. Без меня она останется совсем одна, и некому будет помочь ей. Прошу Тебя, не забирай меня сейчас!» Но смерть все же наступила. Она окружила меня холодной тьмой и забрала к себе. — Тишина среди слушателей была почти осязаемой, потому что всем хотелось дослушать до конца.
Сколько бы Хадасса ни слушала эту историю, ей никогда не надоедало, рассказ отца всегда производил на нее неизгладимое впечатление. Когда ее отец рассказывал, она чувствовала силу темноты и одиночества, давившую на него. Пораженная, она обхватывала руками колени, слушая дальше.
— Мама рассказывала, что друзья несли меня к месту моего захоронения, когда мимо проходил Иисус. Господь услышал ее плач и сжалился над ней. Мама не знала, Кто это, когда Он остановил процессию, но с Ним было множество людей, Его последователей, а также больных и калек. Затем она узнала Его, потому что Он прикоснулся ко мне, и я воскрес.
Хадассе хотелось вскочить и закричать от радости. Некоторые сидевшие рядом с ней люди плакали, их лица отражали удивление и трепет. Другим хотелось прикоснуться к ее отцу, потрогать человека, который силой Христа Иисуса воскрес из мертвых. У них было множество вопросов. «Как ты себя чувствовал, когда воскрес? Ты говорил с Ним? Что Он тебе сказал? Как Он выглядел?..»
В верхней комнате, вместе с другими верующими, Хадассе было спокойнее. Она чувствовала в себе прилив сил. «Он прикоснулся ко мне, и я воскрес». Божья сила может преодолеть все.
Затем они оставляли верхнюю комнату и все вместе шли в тот небольшой дом, в котором останавливались, — и тогда Хадасса снова начинала чувствовать страх. Она всегда молилась о том, чтобы ее отец не останавливался и не говорил. Когда он рассказывал о себе верующим людям, они плакали и радовались. Для неверующих же он был всего лишь объектом насмешек. Эйфория и безопасность, которые Хадасса испытывала, находясь с людьми, разделяющими ее веру, исчезали без следа, когда ее отец стоял веред толпой и страдал от оскорблений.
— Выслушайте меня, жители Иудеи! — обращался он к ним, стараясь привлечь к себе внимание. — Выслушайте ту добрую весть, которую я хочу сказать вам.
Поначалу они слушали. Он был пожилым человеком, а они были любопытными. Пророки никогда не были похожи на остальных. Анания не был таким красноречивым, как религиозные руководители; говорил он просто, искренне, от сердца. И люди всегда смеялись над ним. Кто–то бросал в него гнилыми овощами и фруктами, кто–то называл его ненормальным. Были и такие, которые, слыша его рассказ о воскресении, приходили в бешенство, называя его лжецом и богохульником.
Два года назад его так избили, что двум его друзьям пришлось нести его до самого дома, в котором они обычно останавливались. Елкана и Ванея пытались образумить его.
— Анания, тебе не следует больше приходить сюда, — сказал ему Елкана. — Священники тебя уже знают и хотят, чтобы ты замолчал. Они не так глупы, чтобы устраивать тебе допрос, но в городе полно людей, которые будут готовы за секиль исполнить чужую волю. Отряхни на Иерусалим прах с ног твоих и иди куда–нибудь еще, где тебя могут услышать.
— И куда мне идти из города, в котором умер и воскрес наш Господь?
— Многим из тех, кто свидетельствовал о Его воскресении, пришлось бежать от плена и смерти от рук фарисеев, — сказал Ванея. — Даже Лазарь бежал из Иудеи.
— И куда он отправился?
— Я слышал, что он забрал своих сестер и Марию Магдалину и направился в Галлию.
— Я не могу покинуть Иудею. Что бы со мной ни случилось, Господь хочет, чтобы я трудился здесь.
Ванея долго молчал, после чего медленно закивал головой:
— Ну что ж, тогда пусть на все будет воля Господа.
Елкана согласился и пожал руку отца Хадассы.
— Соломон и Кир останутся здесь. Они будут помогать тебе, пока ты будешь в Иерусалиме. Я увожу свою семью из этого города. Ванея отправится со мной. Да призрит Господь на тебя, Анания. Мы будем молиться о тебе и Ревекке. И о ваших детях.
Хадасса заплакала, потому что все ее надежды на то, чтобы оставить этот ужасный город, рассыпались в прах. Ее вера не была сильной. Отец всегда прощал своих обидчиков, тогда как она молилась о том, чтобы они познали весь ужас ада. Она часто молилась о том, чтобы Бог изменил Свою волю и послал отца куда угодно, но только не в Иерусалим. В какое–нибудь тихое и спокойное место, где люди прислушались бы к нему.
— Хадасса, мы знаем, что всем тем, кто любит Бога, и тем, кто призван исполнять Его волю, Он все делает во благо, — часто говорила ей мать, пытаясь ее утешить.
— Какое может быть благо в побоях? Какое благо в издевательствах и насмешках? Почему отец должен так страдать?
На спокойных просторах Галилеи, когда над Хадассой простиралось голубое небо, а в полях распускались лилии, Хадасса могла верить в Божью любовь. Дома, в родных просторах, ее вера была сильной. Она согревала Хадассу, от такой веры хотелось петь.
В Иерусалиме, однако, Хадассе было невыносимо. Она стремилась к вере, но та, казалось, ускользала от нее. Девушку ни на минуту не оставляли сомнения, а чувство страха все усиливалось.
— Отец, почему мы не можем верить и при этом молчать?
— Потому что мы призваны быть светом миру.
— Но они с каждым годом ненавидят нас все больше.
— Врагом для нас является ненависть, Хадасса. Но не люди.
— Но ведь тебя бьют люди, отец. Разве Господь не призывал нас не бросать бисер перед свиньями?
— Хадасса, если я умру ради Него, я умру счастливым. Тем, что я делаю, я исполняю Его самую благую волю. Истина не уходит и не возвращается впустую. В тебе должна быть вера, Хадасса. Помни обетование. Мы являемся частью Тела Христа, и во Христе мы имеем вечную жизнь. Ничто не может разлучить нас. Даже смерть.
Она прижалась лицом к его груди:
— Отец, почему я могу верить у себя дома, но не могу верить здесь?
— Потому что враг знает, в чем твои слабости, — он обнял ее. — Помнишь историю об Иосафате? Моавитяне, аммонитяне и обитатели горы Сеир выставили против него могущественное войско. Дух Господень сошел на Иозиила, и Бог говорил через него: «Не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия». И когда они пели и славили Господа, Сам Господь выступил против их врагов. И утром, когда израильтяне вышли в пустыню, они только увидели мертвые тела. Никто из врагов не избежал смерти. Израильтяне даже не вынимали для битвы своего оружия, как уже была одержана победа.
Поцеловав дочь в голову, он сказал:
— Оставайся твердой в Господе, Хадасса. Оставайся твердой в вере и дай Господу вести твои сражения. Не старайся сражаться в одиночестве.
Хадасса вздохнула, пытаясь не обращать внимания на жгучую боль в животе. Как ей не хватало мудрого совета отца в этом пустом и одиноком доме! Если бы она верила во все, чему он ее учил, она бы радовалась тому, что он теперь с Господом. Но сейчас она изнывала от горя, и горе это накатывало на нее волнами, усиливая в ней странное, непонятное чувство гнева.
Почему ее отец вел себя так упрямо, проповедуя Христа? Люди не хотели его слушать, они не верили ему. Его свидетельство оскорбляло их. Его слова порождали в них только ненависть. Почему он не мог хотя бы единственный раз промолчать и остаться дома, в безопасности? Он был бы сейчас жив и был бы рядом, в этой маленькой комнате, он дал бы им какую–то надежду, а не оставил бы их теперь самих бороться за жизнь. Почему он хотя бы в тот день не мог проявить благоразумие и переждать волнения?
Медленно открылась дверь, и сердце у Хадассы бешено заколотилось. Всюду в дома врывались грабители, убивавшие обитателей домов за кусок черствого хлеба. Но это вошел Марк. Она перевела дух, с радостью глядя на него.
— Я так за тебя боялась, — прошептала она. — Тебя так долго не было.
Он закрыл дверь и в бессилии опустился, прислонившись спиной к стене, рядом со своей сестрой.
— Ты нашел что–нибудь? — она ожидала, что он сейчас вынет что–нибудь из складок одежды. Если кто–то находил какую–нибудь еду, ее приходилось прятать, иначе на него могли напасть и ограбить.
Марк посмотрел на нее глазами, полными отчаяния:
— Ничего. Совсем ничего. Ни рваного башмака, ни даже кожи со щита убитого воина. Ничего. — Он заплакал, его плечи вздрагивали.
— Тише! А то разбудишь Лию и маму. — Хадасса осторожно встала, чтобы не разбудить маму, и подошла к брату. Она обняла его и прижалась к нему. — Ты сделал все, что мог, Марк. Я знаю, ты старался.
— Наверное, Бог хочет, чтобы мы умерли.
— Я уже просто не хочу знать Божью волю, — сказала она не задумываясь. Слезы быстро побежали по ее щекам: — Мама говорила, что Господь все усмотрит, — но слова ее звучали как–то пусто. Ее вера была такой слабой. Хадасса не была похожа ни на отца, ни на мать. Даже Лия, которая была моложе ее, любила Бога всем сердцем. И Марк говорил так, будто готовился умереть. Почему же она всегда и во всем сомневалась?
Верь. Верь. Если у тебя ничего не осталось, верь.
Марк вздрогнул, заставив ее отбросить свои мрачные мысли:
— Они сбрасывают тела в Вади–эль–Рабади, за священным храмом. Тысячи тел, Хадасса.
Хадасса помнила ужас долины Еннома. Именно туда со всего Иерусалима свозили мертвых и нечистых животных. Сюда свозили бесчисленное количество копыт, внутренностей и останков мертвых животных из храма. Это место заполонили крысы и стервятники, а жаркий воздух распространял зловоние по всему городу. Отец называл это место Геенной и говорил: «Недалеко от этого места распяли нашего Господа».
Марк обхватил голову руками и сказал:
— Я боялся подойти ближе.
Хадасса в ужасе закрыла глаза, но вопрос возник у нее в сознании помимо ее воли. Может быть, и тело ее отца бросили в том месте, оставив на съедение стервятникам под палящими лучами солнца? Она закусила губу и попыталась прогнать от себя эту мысль.
— Я видел Тита, — глухим голосом произнес Марк. — Он ехал верхом с несколькими людьми. Когда он видел тела, он что–то восклицал. Я не понимал его слов, но кто–то сказал, что он взывал к Иегове и говорил, что это сделал не он.
— Если город теперь окружен, проявит ли Тит милость?
— Если только сможет сдержать своих воинов. Они ненавидят иудеев и хотят перебить их всех.
— И нас вместе с ними, — задрожала она. — Они ведь не видят разницы между верующими и зилотами, ведь так? Мятежники, праведные иудеи и даже христиане — какая им разница? — Ее глаза наполнились слезами. — Неужели в этом Божья воля, Марк?
— Отец говорил, что не в Божьей воле, чтобы кто–нибудь страдал.
— Тогда почему мы страдаем?
— Мы расплачиваемся за последствия того, что мы сами сделали, и за грех, который правит этим миром. Иисус простил разбойника, но не снял его с креста. — Он снова обхватил голову руками. — Я не так мудр, как отец. Я не знаю ответов на все вопросы, но я знаю, что у нас есть надежда.
— Какая надежда, Марк? Какая здесь может быть надежда?
— Бог всегда дает надежду.
* * *
Осада продолжалась, и если жизнь в Иерусалиме угасала, о духе иудейского сопротивления этого сказать было нельзя. Хадасса оставалась в маленьком доме, и до нее доносились звуки, свидетельствовавшие об ужасных событиях, которые творились за незапертой дверью. Кто–то пробежал по улице, крича что есть мочи: «Они взбираются на крепостную стену!».
Когда Марк вышел, чтобы узнать, что произошло, Лия впала в истерику. Хадасса подошла к сестре и крепко сжала ее в объятиях. Она сама была на грани истерики, но, когда она обнимала сестру, ей становилось спокойнее. — Все будет хорошо, Лия. Только не плачь. — Эти слова звучали как–то бессмысленно, потому что Хадассе самой приходилось подавлять слезы. — Господь не оставит нас, — сказала она, нежно погладив сестру.
Конечно, мало что могло их утешить, потому что вокруг них, казалось, рушился весь мир. Хадасса посмотрела на мать, и слезы снова навернулись на глаза. Мама слабо улыбнулась, как будто стараясь приободрить ее, но Хадасса не чувствовала никакой бодрости. Что же будет с ними?
Вернувшись, Марк сказал, что сражение идет на крепостных стенах. Иудеи отбили атаку и отбросили римлян.
Однако в ту же ночь, под покровом темноты, десять легионеров проникли в город и заняли крепость Антонию. Битва разгорелась у самого входа в священный храм. Римляне снова отступили, но на этот раз разрушили часть стены, оставив открытым двор язычников. Пытаясь отбросить их, зилоты атаковали римлян на Елеонской горе. Но атака захлебнулась, и они были уничтожены. Взятые в плен зилоты были распяты перед крепостными стенами, чтобы все могли их видеть.
Снова наступила тишина. И снова ужас охватил город, когда разнесся слух о голодной женщине, которая съела своего ребенка. Пламя ненависти к римлянам разгорелось с новой силой.
Иосиф снова взывал к своему народу и говорил о том, что Бог трудится через римлян, чтобы уничтожить иудеев, исполняя тем самым пророчество, данное пророками Даниилом и Иисусом. Иудеи собрали все сухие материалы и смолу, которые только могли найти, и заполнили ими двор храма. Римляне выдвинулись вперед, а иудеи отступили, заманив тем самым римлян в храм. Находясь внутри, иудеи предали святое место огню и сожгли вместе с ним многих легионеров.
Тит быстро привел в порядок боевые ряды своих воинов и приказал погасить огонь, но не успели те спасти храм, как иудеи атаковали с новой силой. На этот раз командиры не смогли сдержать гнев римских легионеров, которые, жаждая крови иудеев, снова подожгли храм и пошли убивать всех, кто попадался у них на пути, и грабить поверженный город.
Когда пламя охватило вавилонскую завесу, изящно вышитую голубыми, алыми и фиолетовыми нитками, люди стали погибать сотнями. Высоко на крыше храма какой–то лжепророк кричал, чтобы люди взбирались наверх и получали избавление от всех мук. Вопли горящих заживо людей разносились по всему городу, смешиваясь с ужасными звуками битвы, перенесшейся на городские улицы и аллеи. Мужчины, женщины, дети падали от ударов мечей — смерть не разбирала никого.
Хадасса изо всех сил пыталась не думать о происходящем за стенами дома, но голос смерти был слышен везде. Ее мама умерла в тот же жаркий августовский день, когда пал Иерусалим, и в течение двух дней Хадасса, Марк и Лия обреченно ждали, зная, что рано или поздно римляне найдут и уничтожат их, как уничтожали всех, кто жил в городе.
Кто–то пробежал по их узкой улочке. Раздались крики человека, которого безжалостно рубили мечами. Хадассе захотелось вскочить и убежать, но куда ей было бежать? И как она могла бросить сестру и брата? Она вжалась спиной в темный угол небольшой комнаты и обняла Лию.
Послышались мужские голоса. Громче. Ближе. Неподалеку раздался стук открываемой настежь двери. Послышались крики людей внутри какого–то дома. Затем один за другим они стихли.
Слабый и изможденный, Марк с трудом поднялся и, став перед дверью, начал молча молиться. Сердце Хадассы бешено заколотилось, ее пустой желудок, казалось, превратился в один сплошной сгусток боли. Она услышала на улице голоса. Говорили по–гречески, надменным тоном. Кто–то один отдавал приказы обыскать все дома на улице. Раздался стук еще одной открываемой двери. Снова послышались крики.
Звук шагов кованой обуви послышался и возле их двери. У Хадассы замерло сердце. «О Боже… "
— Закрой глаза, Хадасса, — произнес Марк неожиданно спокойным голосом. — Помни о Господе, — сказал он, когда дверь резко растворилась. Марк издал громкий, быстро оборвавшийся стон и упал на колени. Из его спины торчал окровавленный меч, а его туника быстро покрылась кровью. Комнату наполнил истошный крик Лии.
Римский воин отбросил Марка назад, освободив свой меч.
Хадасса не могла произнести ни звука. Уставившись на пришельца и его облачение, покрытое пылью и кровью ее брата, Хадасса не могла пошевелиться. Его глаза блестели сквозь забрало. Когда он шагнул вперед и поднял свой окровавленный меч, Хадасса совершенно неосознанно сделала быстрое движение. Она подмяла под себя Лию и накрыла ее собой. «О Боже, сделай только все как можно быстрее, — молилась она. — Как можно быстрее». Лия молчала и не двигалась. Были слышны только резкое дыхание воина да крики людей на улице.
Терций крепче сжал свой меч и посмотрел сверху вниз на истощенную девочку, закрывшую собой еще одну, более тонкую и хрупкую девочку. Ну что с ними возиться — убить их обеих и тут же забыть о них! Эти кровожадные иудеи стали для Рима настоящим проклятием. Поедать своих детей! Убивать надо таких женщин, чтобы не рождали больше воинов. Этот народ заслужил того, чтобы стереть его с лица земли. Вот и этих нужно убить, и все дела.
Но что остановило его?
Старшая девочка посмотрела на него снизу вверх, и ее темные глаза были полны страха. Она была такой маленькой и тощей, вот только глаза… слишком большие глаза, которые так выделялись на ее исхудалом лице. Было в ней что–то такое, что лишило его решимости убивать. Его дыхание стало более ровным, сердце начало биться спокойнее.
Он пытался вспомнить тех друзей, которых потерял на этой войне. Диокл погиб от пущенного с крепостной стены камня, когда занимался осадными работами. Малкен был убит шестью мятежниками, пытаясь прорваться сквозь брешь в первой крепостной стене. Капаней заживо сгорел, когда иудеи подожгли свой храм. Альбион по–прежнему страдал от ран, когда в него вонзилась стрела, пущенная иудеем.
И все же гнев в нем остыл.
Воин опустил меч. Продолжая следить за всеми движениями девочки, он оглядел небольшую комнату. Его внимание сначала привлекло какое–то окровавленное тело. Ну да, это же тот юноша, которого он только что убил. Он лежал в луже крови возле какой–то женщины. Она выглядела такой спокойной, как будто спала, ее волосы были аккуратно убраны, а руки сложены на груди. В отличие от тех, кто сбрасывал мертвые тела в долину, эти дети отнеслись к умершей матери со всеми почестями.
Он слышал историю о женщине, которая съела своего ребенка, и был исполнен той ненависти к иудеям, которой проникся за десять лет своего пребывания в Иудее. Он хотел только одного — чтобы этот народ исчез с лица земли. Риму от него с самого начала не было никакой пользы — одни только беды: иудеи такие непокорные, гордые, не желающие поклоняться ничему, кроме своего единого истинного Бога.
Единый истинный Бог. Терций невольно усмехнулся. Ненормальные они все какие–то. Верить в единственного Бога — это же не просто смешно, но и нецивилизованно. А римлян они называют варварами. Как будто это не сами иудеи подожгли на днях собственный храм.
Скольких иудеев он перебил за последние пять месяцев? Следуя от дома к дому, движимый жаждой крови, охотясь за ними, как за дикими зверями, он не утруждал себя никакими подсчетами. Благословляемый на подобные убийства своими богами, он получал от этого наслаждение, считая каждого убитого иудея малой лептой, внесенной им в дело мести за своих убитых друзей.
Но что его остановило сейчас? Жалость к этим иудейским девчонкам? Убить их и разом избавить от всех страданий было бы с его стороны большой милостью. Старшая была такой тощей от голода, что, казалось, дунь на нее, ее и не станет. Он мог бы убить их обеих одним ударом… и в то же время он пытался собрать всю волю, чтобы сделать это.
Девочка ждала. Было видно, что она боялась, и все же она не просила о пощаде, как это делали многие другие. И она, и тот ребенок, которого она накрыла собой, по–прежнему молчали и смотрели на него.
Сердце Терция дрогнуло, и силы покинули его. Он глубоко вдохнул и резко выдохнул. Произнеся проклятие, сунул меч в ножны, висевшие у него на боку.
— Так и быть, оставлю вас в живых, но вы еще проклянете меня за это.
Хадасса знала греческий. На этом языке говорили римские легионеры, поэтому он был знаком многим из тех, кто жил в Иудее. Она заплакала. Он схватил ее за руку и рывком поставил на ноги.
Тут Терций взглянул на девочку, лежавшую на полу. Ее глаза были открыты и смотрели отрешенно куда–то вдаль. Ему не впервые приходилось наблюдать такое. Она долго не протянет.
— Лия, — сказала Хадасса, испугавшись такого пустого взгляда сестры. Она наклонилась и обняла ее. — Сестра моя, — добавила она, пытаясь приподнять девочку.
Терций понимал, что младшая сестра была уже почти мертва и возиться с ней не было никакого смысла. И все же при виде старшей девочки, старавшейся что–то сделать для младшей, пытавшейся ее поднять, он почувствовал жалость. Даже этот безжизненный ребенок был ей так дорог.
Оттолкнув Хадассу в сторону, Терций легко и в то же время аккуратно приподнял крохотную девочку и взвалил ее на плечо, словно сноп колосьев. Схватив старшую за руку, он вытолкнул ее за дверь.
На улице было тихо, другие воины ушли дальше. Крики людей раздавались уже где–то вдалеке. Он шагал быстро, зная, что старшая девочка изо всех сил старается не отставать.
Сам воздух в городе был наполнен смертью. Всюду лежали разлагающиеся трупы — кто–то был убит грабившими теперь город римлянами, кто–то умер от голода. Выражение ужаса на лице девочки привело Терция в удивление, и он догадался, что она, наверное, давно никуда не выходила из дома.
— Вот он, ваш великий Священный город, — произнес он и презрительно сплюнул.
Боль пронзила руку Хадассы, когда легионер резко подхватил ее. Она споткнулась о ноги какого–то мертвеца. Его лицо было изъедено червями. Смерть была повсюду. Хадассе стало плохо.
Чем дальше они шли, тем более ужасные сцены открывались ее взору. Разлагающиеся тела были свалены в огромные кучи, подобно забитым животным. Смрад был настолько невыносим, что Хадасса заткнула нос и рот.
— Куда тут сгоняют пленных? — окликнул Терций одного из воинов, возившихся возле мертвецов. Два римлянина поднимали убитого товарища, лежавшего между двумя иудеями. Другие легионеры выходили из храма с награбленными сокровищами. Повозки были наполнены золотыми и серебряными сосудами, кубками, подсвечниками. В кучу были свалены бронзовые чаши, курильницы и другие предметы, используемые для служения в храме.
Воин оглянулся, посмотрел на Терция, бегло взглянул на Хадассу и Лию:
— Вниз по улице и за поворотом пройдешь в большие ворота, только с такими вряд ли кто там будет возиться.
Хадасса взглянула на храм, который когда–то сверкал издали белым мрамором, подобно снежной горе. Теперь он был почерневшим, в стенах зияли огромные отверстия, выбитые камнями, пущенными осадными орудиями, золотой декор давно был разграблен. Местами стены были полностью разрушены. Священный храм… Теперь это было всего лишь еще одно место, где царствовали смерть и разрушение.
Хадасса вяло, как будто по инерции, шла дальше, пораженная увиденным. От дыма щипало глаза и першило в горле. Когда они шли вдоль стены храма, ей хотелось кричать от ужаса. Губы пересохли, а сердце усиленно заколотилось, когда они приближались к воротам, ведущим в женский двор.
Терций подтолкнул ее:
— Упадешь в обморок, я тебя тут же прикончу, и твою сестру заодно.
Во дворе она увидела тысячи людей, выживших в этой мясорубке, — кто–то отчаянно стонал, кто–то во весь голос молил о смерти. Воин втолкнул ее во двор, и она оказалась среди огромной толпы. Двор был полностью забит. В большинстве это были истощенные и умирающие от голода люди.
Терций снял с плеча младшую сестру. Хадасса подхватила Лию и попыталась ее удержать. Она бессильно опустилась на землю и держала сестру у себя на коленях. Воин повернулся и вышел.
Тысячи людей скитались по двору в поисках своих родственников или друзей. Некоторые собирались в небольшие группы и плакали, кто–то в одиночестве отрешенно смотрел перед собой, как Лия. Стояла такая духота, что Хадасса едва могла дышать.
Какой–то левит разодрал свою оранжево–синюю тунику и что есть мочи воскликнул: «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты оставил нас?». Женщина рядом с ним, одетая в серую окровавленную одежду, изодранную у плеча, в отчаянии завопила. Какой–то пожилой мужчина в черно–белой полосатой одежде сидел в одиночестве у стены и шевелил губами. Хадасса знала, что он из синедриона, потому что его одежда символизировала пустынную одежду и шатры первых патриархов.
В этой толпе были назореи, носившие длинные волосы, заплетенные в косы, зилоты в грязной и рваной одежде, поверх которой они надевали короткие безрукавки с синей бахромой. Оставшись без своих ножей и луков, они даже сейчас выглядели достаточно грозно.
Где–то в толпе завязалась драка. Женщины стали кричать. Группа легионеров вмешалась в толпу и перебила драчунов, а также еще несколько человек, чья вина состояла лишь в том, что они стояли рядом. Римский офицер стоял на возвышении и кричал на пленников. Он указал на еще нескольких людей в толпе, которых тут же увели, чтобы распять.
Хадасса перенесла Лию в более безопасное место у стены, рядом с левитом. Когда солнце зашло, и наступила тьма, она прижала Лию к себе, чтобы согреть ее своим теплом.
Наутро Лия умерла.
Милое лицо сестры не выражало ни страха, ни страданий. Губы застыли в блаженной улыбке. Хадасса подхватила ее под руки и встряхнула. В следующее мгновение ее охватила такая боль, что она не могла даже плакать. Она не сразу заметила, как к ней подошел римлянин, и только потом до нее дошло, что Лию хотят унести. Хадасса только крепче сжала ее в своих объятиях.
— Она умерла. Отдай ее мне.
Хадасса уткнулась лицом в одежду сестры и застонала. Римлянин на своем веку насмотрелся столько смертей, что этим его уже невозможно было разжалобить. Он схватил Хадассу, разжал ее руки, а потом отпихнул ногой. Превозмогая охватившую ее боль от удара, Хадасса беспомощно смотрела, как воин уносил Лию к повозке, наполненной трупами других пленников, умерших этой ночью. Там он небрежно бросил хрупкое тело в общую груду мертвецов.
Закрыв глаза, поджав ноги и уткнувшись в колени лицом, Хадасса заплакала.
Прошло еще несколько дней. Сотни людей умирали от голода, еще больше от отчаяния и безнадежности. Некоторых пленников покрепче увели копать общие могилы.
Среди толпы пошли слухи о том, что Тит приказал разрушить не только храм, но и весь город. Должны остаться только три башни, которые будут выполнять военные функции, и часть западной стены. Такого не бывало со времен Навуходоносора, когда вавилоняне разрушили храм Соломона. Неужели Иерусалима, их родного и любимого Иерусалима, больше не будет?
Римляне приносили для пленников хлеб. Некоторые иудеи, упорно продолжавшие не подчиняться римской власти, отказывались принимать пищу, осуществляя тем самым свой последний акт неповиновения. Наиболее несчастными среди пленников оказались слабые и больные, которым вообще не давали никакой еды, потому что римляне не хотели тратить пищу на тех, кто, по их мнению, все равно не выдержит предстоящего перехода в Кесарию. К этой категории относилась и Хадасса.
Однажды утром Хадассу вместе с другими вывели за городские ворота. Ее глазам предстала жуткая картина. Тысячи иудеев были распяты перед полуразрушенными стенами Иерусалима. Их тела клевали стервятники. Земля вокруг них настолько пропиталась кровью, что стала красно–бурой и твердой, как кирпич, но больше всего Хадассу поразил сам вид, открывавшийся перед ней. Если не считать целого леса крестов, вокруг, насколько хватало глаз, не было ни одного деревца, ни одного кустика, ни единой травинки. Перед ней лежала выжженная земля, а за спиной оставался могучий город, превратившийся в груду камней.
— Не стоять! — прокричал стражник, и его плеть, просвистев у Хадассы над ухом, ударила какого–то мужчину по спине. Шедший перед ней мужчина застонал и упал. Когда стражник вынул свой меч, какая–то женщина попыталась его остановить, но он ударил ее своим тяжелым кулаком, после чего быстро выхватил меч и ударил им упавшего мужчину по шее. Затем он схватил дергающегося в предсмертных судорогах пленника, бросил к краю дороги и столкнул под откос. Безжизненное тело медленно скатилось вниз, на камни, где лежали другие мертвые тела. Кто–то из пленников помог подняться плачущей женщине, и они продолжили путь.
Дойдя до стана Тита, римляне приказали пленникам сесть так, чтобы тем было видно и слышно все, что в этом стане происходит.
— Кажется, нам сейчас дадут возможность лицезреть весь триумф римлян, — с горечью произнес кто–то из пленников, чьи синие кисточки указывали на его принадлежность к зилотам.
— Молчи лучше, а то и тебя начнут клевать вороны, как тех несчастных глупцов, — зашипел кто–то на него.
Дальше пленники наблюдали за тем, как легионы строились и парадом проходили мимо Тита, который был великолепен в своем сияющем облачении. Пленников было больше, чем воинов, но римляне маршировали подобно единому ужасному чудовищу — такие организованные и дисциплинированные. Хадассе ритмичное шествие тысяч людей, проходящих безупречным строем, казалось красивым и в то же время жутковатым. Команду единственного командира сотни марширующих выполняли четко, слаженно. Разве придет после этого кому–то в голову мысль, что их можно победить? Казалось, что они могут затмить горизонт.
Тит выступал перед воинами с речью, делая время от времени паузы, и тогда раздавались радостные возгласы воинов. Затем стали вручать награды. Офицеры стояли впереди, и их облачение сверкало на солнце. Зачитывали список тех, кто совершил на этой войне великие подвиги. Тит лично водружал на головы этих воинов золотые венки и надевал им золотые украшения на шею. Некоторым он вручил длинные золотые копья и серебряные знаки. Всех награжденных повысили в звании.
Хадасса посмотрела на сидящих рядом с ней пленников и увидела на их лицах выражение горечи и ненависти — такое зрелище было подобно соли на открытых ранах.
Воинам раздали награбленные сокровища, после чего Тит снова выступил с речью, поздравив все свое войско и пожелав всем большой удачи и счастья. Исполненные ликования, воины стали восклицать многократные славословия в его адрес.
Наконец, Тит отдал приказ праздновать победу. В качестве жертвы римским богам были приготовлены многочисленные волы, и по команде Тита их закололи. Отец Хадассы говорил, что иудейский закон требует пролития крови в качестве очищения от грехов. Она знала, что священники в храме каждый день совершали жертвоприношения, которые служили постоянным напоминанием о необходимости покаяния. И в то же время отец и мать учили ее с самого рождения, что Христос пролил Свою Кровь в качестве искупления за грехи всего мира, что в Нем закон Моисея был полностью исполнен и что жертвоприношения животных больше не нужны. Поэтому она никогда не видела, как животных приносят в жертву. И теперь с невыразимым ужасом наблюдала, как при каждом благодарении в адрес богов одного за другим убивали волов. От вида огромного количества крови, стекающей на каменные жертвенники, ей стало не по себе. Она в ужасе закрыла глаза и отвернулась.
Заколотых животных раздавали воинам для праздничного пира. Весь вечер голодным пленным не давал покоя пьянящий аромат жареного мяса. Но даже если бы им и предложили его отведать, праведные иудеи ни за что не стали бы его есть. Лучше смерть и прах, чем мясо, пожертвованное языческим богам.
Наконец, воины подошли к пленным и приказали им вставать в очередь за своими порциями пшеничных и ячменных зерен. Хадасса с трудом поднялась и встала в очередь, не сомневаясь, однако, что и на этот раз ей ничего не дадут. Глаза ее наполнились слезами. Боже! Боже! Да будет на все воля Твоя. Приготовясь подставить руки, когда подходила ее очередь, она уже одновременно приготовилась к тому, что сейчас опять пройдет мимо с пустыми руками. Но на этот раз она почувствовала, как ей в ладони посыпались пригоршни золотых зерен.
Ей показалось, что она четко услышала мамин голос: «Господь все усмотрит».
Она подняла голову и взглянула в глаза молодого воина. Его лицо, загоревшее на жарком солнце Иудеи, было каменным, лишенным каких бы то ни было эмоций. «Спасибо», — произнесла она по–гречески, с простой покорностью, совершенно не думая о том, кто этот человек, что он может сделать. Его глаза заблестели. Сзади кто–то толкнул ее, выругавшись в ее адрес по–арамейски.
Уходя, она не знала, что молодой воин продолжает смотреть ей вслед. Он ссыпал очередную порцию зерна в руки следующего, кто стоял в очереди, не отрывая от нее глаз.
Хадасса присела на склон холма. Она сидела уединенно, ни с кем не общаясь. Склонив голову, она сжала в ладонях выданные ей зерна. Чувства переполняли ее. «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, — сокрушенно прошептала она и заплакала. — Отец мой Небесный, прости меня. Исправь пути мои. Только не будь ко мне суров, Господи, не низводи меня. Я боюсь, Господи. Сохрани меня в руке Твоей, Господи, прошу Тебя».
Она открыла глаза и раскрыла ладони. «Господь все усмотрит», — тихо сказала она и стала не спеша есть, тщательно пережевывая каждое зерно.
Когда зашло солнце, Хадасса неожиданно для себя стала спокойнее. Несмотря на смерть и разрушения, которые всюду ее окружали, несмотря на все страдания, которые ждали ее впереди, она чувствовала, что Бог с ней. Она взглянула на ясное ночное небо. Ярко светили звезды и дул легкий ветерок, и это напоминало ей Галилею.
Ночь была теплой… она поела… она была жива. «Бог всегда дает надежду», — говорил Марк. Из всех членов семьи Хадасса была самой слабой в вере, ее дух был самым сомневающимся и самым нетвердым. Из всех них она менее всего была достойна Божьей милости.
«Почему же Ты выбрал меня, Господи? — тихо спросила она. — Почему меня?»
2
Атрет высоко поднял руку, дав своему отцу знак, что римский легион приближается. Спрятавшиеся в лесу германские воины затаились. Все они были вооружены фрамеями — специальными копьями, которых римляне очень боялись, потому что крепкое древко такого копья венчал невероятно остро заточенный наконечник, способный пробивать амуницию римлян. Этим копьем германцы умели поражать противника с дальних дистанций и пользоваться в ближнем бою.
Убедившись в том, что настал подходящий момент, Атрет опустил руку. Его отец тут же издал воинственный клич. Клич этот стал распространяться далеко за горизонт, по мере того как остальные воины стали взывать к Тивазу, богу войны. К ним присоединился Маркобус, правитель Бруктерии, объединитель всех германских племен, вместе с племенами Бруктерии и Батавии — всего около ста человек. Ужасающий хаотический звук разносился вниз по долине, подобно рыку демонов Гадеса. Атрет усмехнулся, увидев, как легионеры сбились со своего ритма. И именно в этот момент воины германских племен устремились со склонов холмов в атаку.
Растерявшиеся римляне не могли из–за такого крика слышать команды своих командиров, которые приказывали им выстроиться в «черепахи». Командиры знали, что такой военный маневр — когда воины вставали тесно друг к другу и плотно закрывались со всех сторон щитами, сформировав таким образом некое подобие черепашьего панциря, — был единственной эффективной защитой от варваров. Однако, увидев, как орды свирепых воинов, вооруженных только копьями, стремительно атакуют фланги римских рядов, легион растерялся, отдав тем самым врагу драгоценную инициативу. Полетели грозные германские копья. Легионеры стали падать замертво.
Отец Атрета, Гермун, командовал тем клином, который начал атаку. Его шлем сверкал на солнце, когда он вел свою группировку из укрытий густого леса, а находящиеся под его командованием хатты бежали вниз со склонов холмов. Длинноволосые германцы в большинстве своем были одеты только в сагумы — короткие защитные плащи, державшиеся на плечах с помощью простых бронзовых застежек, и были вооружены щитами из кожи и железа и фрамеями. Только самые богатые вожди были вооружены мечами и носили шлемы.
Издавая воинственный клич, Атрет на бегу бросил в противника свою фрамею. Длинное копье пронзило шею римского офицера, и тот рухнул на землю. Другой римлянин пытался его подхватить, но Атрет подбежал к нему и одним ударом своего огромного кулака переломил ему хребет. Вынув копье из убитого, он швырнул его в еще одного воина.
Женщины и дети из германских племен тоже сбежали по холмам вниз, сели и криками стали поддерживать своих мужчин. Такие битвы долго не продолжались, поскольку единственным мимолетным преимуществом германцев была неожиданность. Как только римляне перехватывали инициативу, германцы уходили. Они понимали, что в длительной битве против вооруженных до зубов и обученных римлян у них нет никаких шансов. За последние месяцы германцы стали прибегать к тактике, которая срабатывала безошибочно: внезапно ударить по флангам противника, нанести как можно больший урон и отойти, не вступая в длительные сражения.
Копье Атрета треснуло, когда он пронзил им сотника. Он призвал на помощь Тиваза и ударил щитом по голове другого римлянина, пытавшегося напасть на него, одновременно выхватывая у убитого им сотника гладий, короткий меч, и пытаясь отбиться от ударов двух других римлян. Он не умел сражаться таким коротким мечом и понимал, что ему пора уходить, пока его не убили или не взяли в плен.
Тем временем легионеры оправились от первоначальной паники. Офицеры активно сражались, ловко орудуя своими мечами и отдавая приказы. Воины снова сомкнули ряды и, пользуясь всей своей выучкой, пошли на противника.
Атрет увидел, как упал его брат, Вар. Взмахнув мечом, он отсек руку какому–то римлянину. Когда он попытался прорваться к брату, у него на пути стал еще один сотник, и у Атрета не было никакой возможности уцелеть, орудуя только непривычным мечом. Атрет отражал удар за ударом. Затем, призвав на помощь всю свою недюжинную силу, обрушился на сотника всем весом и свалил его на землю.
— Атрет, сзади! — закричал ему отец. Атрет мгновенно нырнул к земле и обернулся назад, сделав резкое движение мечом вверх и проткнув нападавшего ударом меча в живот. Нападавший закричал, быстро рухнул на землю, и Атрет не успел высвободить оружие.
Тот сотник, которого Атрет свалил, снова встал на ноги и пошел в атаку. Оставшись без меча, Атрет схватил сотника за ноги и повалил его на землю. Прижав римлянина к земле, он обхватил его голову и сломал ему шею. Выхватив гладий из мертвых рук, он вскочил на ноги и напал на римлянина, вытаскивавшего копье из убитого германца. Атрет нанес легионеру удар мечом по шее, и в лицо ему брызнул фонтан крови. Бросив меч, он вынул фрамею из тела убитого воина и побежал.
Он не видел позолоченного шлема своего отца, а силы германцев стали заметно таять, когда римляне перегруппировались и показали всю свою организованную разрушительную силу, которой всегда славились. Маркобус, чья левая рука безжизненно повисла вдоль тела, приказывал своим воинам отходить. В отличие от римлян, эти племена не видели ничего позорного в том, чтобы отступать, не ввязываясь в кровопролитные сражения. Батавы отступили, оставив Атрета и его отряд практически беззащитными. Атрет понимал, что здравый смысл призывал хаттов уходить в лес, но кровь у него была горячей, а руки сильными. И, снова издав воинственный клич, он бросился на двух римлян.
Сраженный в грудь стрелой римлянина, упал дядя Атрета. Его двоюродный брат, Рольф, пытался пробиться к нему и был сражен сотником. Издав бешеный рык, Атрет рубил своих противников направо и налево, раздробив голову одному легионеру и оставив без руки другого. Слишком много воинов его племени полегло в этом бою, и здравый смысл, наконец, возобладал в нем. Он приказал оставшимся в живых уходить в лес. Те растворились в лесу, оставив римлян, которые не могли их преследовать и испытывали горечь, оттого что битва закончилась так быстро, едва начавшись.
В глубине леса, на несколько сот метров выше, Атрет увидел свою сестру, Марту, обрабатывавшую раненое плечо своего мужа. Рядом без сознания лежал его брат с перевязанной раненой ногой.
Корчась от боли в плече, Юзипий, муж сестры, произнес только: «Твой отец» — и, с трудом подняв руку, указал Атрету куда–то в сторону.
Атрет пробежал по лесу в западную сторону и увидел мать, державшую на коленях отца. Одна сторона шлема была пробита мечом, позолоченная бронза на шлеме была покрыта кровью. Атрет издал дикий крик и опустился на колени.
Мать с бледным и искаженным от ужаса лицом лихорадочно работала над глубокой раной, прошедшей по всему животу отца. Со слезами на глазах она пыталась запихнуть обратно вывалившиеся внутренности и закрыть рану. «Гермун, — причитала она, — Гермун, Гермун…».
Атрет схватил мать за покрытые кровью запястья, намереваясь положить конец ее тщетным усилиям:
— Оставь его.
— Нет!
— Мама! — он еще крепче сжал ей запястья. — Он мертв. Ты уже ничем ему не поможешь.
Она успокоилась и больше не сопротивлялась. Он отпустил её, и она в бессилии опустила красные от крови руки. Атрет закрыл широко раскрытые глаза отца и положил его руки на грудь, которая уже не колыхалась. Мать долго сидела неподвижно, затем, всхлипывая, нагнулась и обхватила руками окровавленную голову мужа. Концом его короткого плаща она утерла ему лицо, как будто перед ней лежал ребенок.
— Я отнесу его к остальным, — сказал Атрет. Мать приподняла Гермуна за плечи, и Атрет поднял его с земли. Когда он споткнулся под тяжестью тела своего отца и опустился на одно колено, по его суровому лицу потекли слезы. Но, переборов усталость, он подавил рыдания, снова встал и пошел, и каждый шаг давался ему с трудом.
Когда они дошли до его сестры и Юзипия, он положил тело отца рядом с телами Дульга и Рольфа, вокруг которых возились другие женщины их семьи. Тяжело дыша и чувствуя слабость в спине, Атрет взял в руки изящно вырезанный талисман, который отец носил на шее, и сжал деревянный образ в ладони. Этот образ был вырезан из дуба, росшего в священной роще, и оберегал Гермуна во многих битвах. Атрет хотел получить от него силу, но на самом деле не чувствовал ничего, кроме отчаяния.
Битва была проиграна, его отец погиб. Власть теперь переходила к нему, если только у него хватит сил справиться с ней. Но хотел ли он ее?
Пророчества Веледы, бруктерской провидицы, которая жила в своей башне, где никто не мог ее видеть, не сбылись. И хотя Юлий Цивилис со своими повстанцами уничтожил первые легионы, восстание терпело поражение. Спустя год они так и не обрели свободы.
После того как в течение двенадцати месяцев они стали свидетелями падения трех императоров, к власти пришел Веспасиан. И теперь против Юлия Цивилиса были брошены восемь дополнительных легионов под командованием младшего сына этого правителя Домициана. Веледа предрекла, что молодость Домициана погубит его, но юноша пришел во главе своих легионов в первых рядах и не стал прятаться за спины своих воинов. Он был полон решимости доказать всем, что является таким же искусным военачальником, как его отец, Веспасиан, и как его брат, Тит. И это ему удалось. Разгромив силы мятежников, Домициан взял их в плен. Воинов Юлия Цивилиса он приказал уничтожить. Пленников выстроили в ряд и каждого десятого отправляли на распятие. Когда сам Юлий Цивилис в цепях был отправлен в Рим, единство тех племен, которые его поддерживали, распалось. Многие из батавов оказались в плену. Из племени Атрета погиб почти каждый третий.
Глядя на своего отца, Атрет чувствовал, как в нем закипает гнев. Всего неделю назад вождь хаттов бросал куски веток и коры священного дуба на белую материю. Он не смог различить, какое знамение получилось в результате, но жрец сказал, что ржание и храпение белой лошади означает, что его ждет победа.
Победа! Где она, эта победа? Неужели даже боги повернулись против них? А может быть, римские боги оказались сильнее самого Тиваза?
Пока в селение приносили остальных погибших, оставшиеся в живых воины собирались вместе и говорили о том, что римляне ушли на север.
Атрет рубил дерево, чтобы построить дом смерти для своего отца, тогда как его мать одевала мужа в самые дорогие одежды и готовила траурный пир. Она поместила рядом с мужем самую дорогую посуду и наполнила чаши зерном и крепким медом. На блюдо положили куски жареной баранины и свинины. Когда все было готово, Атрет зажег дом смерти. В темноте пламя казалось особенно ярким.
— Вот и все, — сказала мать, и слезы текли по ее щекам. Она положила руку на плечо Атрета. — Завтра вечером собери людей в священной роще.
Он знал, что имела в виду мать, — он должен будет стать новым вождем.
— Пусть все решат жрецы.
— Они уже выбрали тебя, как и все остальные. Кто, как не ты? Разве не твои команды они беспрекословно выполняли, когда завязалась битва? И хатты последними покинули поле боя.
— Это потому, что отец к тому времени был уже убит, но не благодаря мне.
— Ты будешь вождем, Атрет. Гермун знал, что этот день когда–нибудь придет. Вот почему он всегда воспитывал тебя так — гораздо строже, чем остальных сыновей. Еще во время твоего рождения было знамение о том, что ты станешь великим вождем.
— У нас были и неправильные знамения.
— Но только не это. Есть вещи, которые мы не можем выбирать. Ты не можешь уйти от того, что тебе предопределено. Ты помнишь тот вечер, когда отец привел тебя на совет и представил тебя с твоими щитом и фрамеей?
— Да, — ответил он, с трудом сдерживая свои горестные чувства при взгляде на огонь, где уже было видно тело отца, потому что рушились стены траурного дома. Он сжал кулаки. Бремя лидерства — это то, чего ему меньше всего хотелось.
— В тот вечер ты стал мужчиной, Атрет. И с тех пор ты возмужал еще больше. Первого своего врага ты убил, когда тебе было четырнадцать лет. — Она улыбнулась, и ее глаза наполнились слезами. — У тебя еще не начали расти усы, которые ты мог бы брить над телом мертвого врага, но ты все равно скоблил лицо, чтобы не нарушать традиции.
Она сжала руки:
— В пятнадцать лет ты взял себе в невесты Анию, а когда тебе было шестнадцать, она умерла от родов, так и не родив сына. Через два года ты победил совершавших набеги бруктеров, и тебе была оказана великая честь — ты смог снять с пальца железное кольцо. Отец сказал, что ты сражался лучше всех воинов, которых он когда–либо видел. Он гордился тобой. — Она сжала ему руку. — И я горжусь тобой!
Она замолчала, и только слезы текли по ее щекам, когда она смотрела на огонь:
— Два года мы жили в мире.
— А затем пришел Юлий Цивилис и рассказал нам о восстании в Риме.
— Да, — сказала она, снова обернувшись к нему, — и о том, что у нас есть возможность обрести свободу.
— К власти пришел Веспасиан, мама.
— Веспасиан всего лишь человек. А на нашей стороне Тиваз. Разве ты не слышал пророчества Веледы? Свободу никто нам не подарит, Атрет. Мы должны ее завоевать.
Он провел руками по своим светлым волосам и посмотрел на звезды в небе. Как бы он хотел обладать мудростью жрецов и знать, что говорят эти звезды. Он хотел сражаться! Это желание было таким сильным, что мускулы у него напряглись помимо его воли, а сердце забилось чаще. Весь смысл своей жизни он видел именно в сражениях — в борьбе за свободу и за саму жизнь. Когда он станет вождем, ему придется думать о многом другом.
— Когда ты был еще мальчиком, ты мечтал уйти из нашего племени и вступить в дружину Маркобуса, — спокойно сказала мать.
Атрет удивленно посмотрел на нее. Неужели она знала все, что было у него на уме?
Она нежно прикоснулась рукой к его щеке:
— Ты никогда не говорил об этом из верности отцу, но он знал об этом, как и я. Но у тебя, Атрет, другая судьба. Я читала знамения во время твоего рождения. Ты поведешь свой народ к свободе.
— Или к смерти, — мрачно добавил он.
— Многие умрут, — многозначительно сказала мать, — и я в том числе.
— Мама, — сказал он, но ее рука сжала его руку, и он невольно замолчал.
— Будет именно так. Я видела это. — Ее глаза стали какими–то отрешенными и в то же время тревожными. — Твое имя станет известным в Риме. Ты будешь сражаться так, как никто из хаттов до тебя еще не сражался, и ты победишь всех своих врагов. — Ее голос стал каким–то странным и отдаленным. — Приближается буря, которая охватит всю империю и уничтожит ее. Она придет с севера, востока и запада, и ты станешь частью этой бури. И будет женщина — женщина с черными волосами и черными глазами, совсем ни на кого не похожая, и ты ее полюбишь. — Она замолчала и стала закрывать глаза, как будто проваливаясь в глубокий сон.
Сердце Атрета учащенно забилось. Он видел свою мать в таком состоянии всего несколько раз в жизни, и каждый раз при этом у него все холодело внутри. Он мог бы и не относиться всерьез к ее словам — какая мать не мечтает о великом будущем своего ребенка? — если бы не одно обстоятельство. Она была почитаемой всеми провидицей, а некоторые даже называли ее богиней.
Затем ее взгляд стал более осмысленным. Она сделала глубокий выдох и слабо улыбнулась.
— Пойди, отдохни, Атрет, — сказала она. — Тебе нужно приготовиться к тому, что ждет тебя впереди. — Она посмотрела на догоравшие головешки дома смерти. — Огонь уже почти погас. Оставь меня с Гермуном, — добавила она тихим голосом, и в свете догоравшего огня ее лицо казалось золотистым.
Атрет смог заснуть только через несколько часов. Когда же на рассвете он проснулся и вышел из длинного жилища, то увидел, как мать собирает обгоревшие кости отца и кладет их для захоронения в специальное земляное сооружение.
В первой половине дня от ран умерло еще четыре человека, и в племени принялись строить новые дома смерти.
Затем до Атрета дошел слух, что поймали дезертира. Атрет понимал, что теперь все ждут, чтобы он провел совет. Он знал, каким должно быть решение, но при одной мысли о том, что ему придется осудить человека, пусть даже такого, каким оказался Вагаст, ему было не по себе.
Мужчины собрались в дубовой роще, высший совет расположился возле священного дерева. Вечерний воздух был прохладным и сырым, вокруг собравшихся эхом раздавалось кваканье лягушек и уханье сов. Атрет старался не выделяться, надеясь на то, что вся инициатива окажется у Руда и Хольта, а не у него. Они были более опытными людьми, старше его по возрасту.
Жрец Гундрид вытащил из ствола священного дуба образы и поместил их на нижних ветвях. Бормоча вполголоса какие–то молитвы, он бережно развернул и поднял высоко над головой золотые рога, которым все с почтением поклонились.
Когда он опустил эти священные предметы, Атрет застыл на месте. Светло–голубые глаза жреца медленно смотрели то на одного, то на другого и наконец остановились на нем. Сердце у Атрета учащенно забилось. Жрец подошел к Атрету, и тот почувствовал, как по спине у него пробежал холодок. Только жрецы и вождь имели право прикасаться к этим священным предметам и золотым рогам. Когда жрец предстал перед Атретом, тот увидел на одном роге изображение трехголового человека, державшего топор, и змеи. На другом роге был изображен рогатый человек, держащий серп и ведущий козу. Атрет знал, что прикоснуться к священным рогам означало объявить себя новым вождем. Собравшиеся уже радовались и потрясали копьями в знак одобрения.
Подавив волнение, Атрет воткнул свою фрамею в землю рядом с собой и протянул к жрецу руки, с облегчением отметив, что они не дрожат. Когда жрец протянул ему священные образы, Атрет встал и взял их в руки. Собравшиеся закричали еще громче. Атрет воскликнул хвалу Тивазу, и его зычный голос разнесся далеко по лесу.
Когда Атрет нес священные образы к алтарю, жрец шел рядом с горящими курениями. Поместив образы на алтарь, Атрет опустился на колени, приготовившись принять от жреца благословение. Гундрид обратился к Тивазу с молитвой и просил его направлять пути нового вождя, дать ему мудрость в правлении и решительность и силу в сражениях. Атрет почувствовал, как покраснел, когда жрец молился о том, чтобы вождь нашел себе жену и чтобы в этом браке у него были дети.
Когда Гундрид закончил, Атрет встал и взял нож, который ему протянули. Легким движением он вскрыл себе вену на запястье. Не проронив ни звука, протянул руку вперед и окропил своей кровью священные рога.
Гундрид дал ему белое полотно, чтобы остановить кровь. Атрет тщательно перевязал руку, после чего отвязал тонкий кожаный ремень, державший у пояса небольшой мешочек. Мать приготовила ему это для жертвы богам. Когда священник высыпал содержимое мешочка на светильник, тот загорелся более ярким огнем алого и синего цвета, и собравшиеся испуганно вздрогнули.
Когда воздух наполнился сладким хмельным ароматом, Гундрид закачался и застонал. Он простер над собой руки и стал в экстазе молиться, произнося слова, понятные только Тивазу и лесным духам. Другие жрецы возложили руки на Атрета и снова повели его к алтарю. Он опустился на колени и поцеловал рога, а жрецы надрезали свои руки священными ножами и, в знак благословения, окропили Атрета своей кровью.
Его сердце стучало все сильнее и сильнее, дыхание становилось все чаще. Аромат благовоний заставил его впасть в полуобморочное состояние, перед ним предстали видения крылатых чудовищ и каких–то тел, корчащихся в священном пламени. Откинув голову назад, он дико закричал, и чувство восторга в нем становилось все сильнее и сильнее, пока не показалось, что его сейчас разорвет. Его зычный голос снова и снова разносился по темному лесу.
Гундрид подошел к нему, и когда он возложил свои руки на Атрета, они были горячими, как огонь. Атрет откинул назад голову и дал жрецу возможность поставить ему знак на лоб. «Пей», — сказал Гундрид и поднес к его губам серебряный кубок. Атрет осушил его и, почувствовав смешанный вкус меда и крови, одновременно ощутил, что сердце стало биться спокойнее.
Ритуал закончился. Он теперь стал новым вождем.
Поднявшись, он занял самое почетное место и приступил к своей самой первой задаче: суду над своим старейшим другом.
Вагаста привели на совет и бросили перед Атретом. По лицу молодого соплеменника текли капли пота, губы в страхе дрожали. Глядя на него, Атрет вспомнил, что Вагаст получил свою фрамею и щит на месяц раньше, чем Атрет.
— Я не трус! — в отчаянии закричал Вагаст. — Битва была проиграна! Атрет, я видел, как был убит твой отец. Батавы бежали в лес.
— Он бросил свой щит, — сказал Руд, и на его тяжелом бритом лице в свете огня была видна твердая решимость и готовность не идти ни на какие компромиссы. Бросить щит считалось самым тяжким преступлением для мужчины, каким бы молодым и неопытным он ни был.
— Его выбили у меня из рук! — закричал Вагаст. — Клянусь вам!
— А ты пытался его подобрать? — спросил Атрет.
Вагаст отвел глаза:
— Я не мог его взять.
Собравшиеся стали выражать недоверие словам Вагаста. Руд с отвращением взглянул на преступника, и его голубые глаза загорелись ненавистью:
— Я же сам видел, как ты бежал с поля боя, как трусливая собака. — Он повернулся к Атрету и членам совета: — Наказание трусам всем известно. Здесь вопросов быть не может — закон требует его смерти!
Собравшиеся стали размахивать мечами, хотя и без особого энтузиазма. Никому из них не доставляло радости казнить своего соплеменника. Когда же свой меч поднял Атрет, суд стал неизбежным. Вагаст пытался защищаться, увертываясь и отбиваясь от окруживших его людей. Он все еще умолял пощадить его, но его уже тащили к болоту. Упираясь из последних сил, Вагаст рыдал и продолжал умолять о пощаде. Не в силах все это больше терпеть, Атрет свалил его с ног своим кулаком. Затем, подняв его на руках высоко над собой, он сам бросил его в трясину. Двое старейшин поставили возле него загородку и стали с помощью длинных шестов вдавливать осужденного в трясину.
Чем сильнее Вагаст пытался вырваться из трясины, тем быстрее она затягивала его. Его голова уже скрылась в трясине, а руки еще судорожно пытались ухватиться хоть за что–нибудь. Один из старейшин выдернул свой шест из болота и отбросил в сторону. Остальные сделали то же самое. Грязные пальцы Вагаста вцепились в загородку. Но уже через несколько секунд они отпустили ее и также скрылись под водой, и поверхность болота нарушали теперь только несколько пузырьков.
Мужчины молча стояли. Никто такой смерти не радовался. Лучше пасть от римского меча, чем вот так бесславно утонуть в трясине.
Атрет повернулся к длинноволосому седому мужчине, стоявшему немного поодаль. Положив руки на плечи Херигаста, он крепко сжал пальцы:
— Ты был другом моего отца. Мы все знаем, что ты заслуживаешь только уважения, и не виним тебя в трусости твоего сына. — Лицо пожилого мужчины дрогнуло, но тут же стало спокойным, хладнокровным. Атрет испытывал к нему искреннюю жалость, но внешне этого не показал. — Я рад видеть тебя у моего огня, — сказал он и пошел прочь от болота. Остальные последовали за ним. Только Херигаст остался стоять на месте. Когда все ушли, он сел на траву, уткнулся головой в свою фрамею и заплакал.
* * *
Север Альбан Майорин и раньше сражался с этими ненавистными германскими племенами. За последние два месяца они изрядно потрепали некоторые римские легионы, внезапно нападая и также внезапно растворяясь, нанося при этом временами весьма болезненные удары. Но даже сейчас, ожидая нападения германцев, этот римский военачальник был поражен тем, с какой яростью ему пришлось столкнуться.
Услышав воинственный клич, Север тут же дал сигнал к контратаке. Эти дикие германцы воевали нечестно, нападая подобно ядовитой змее, которая появляется ниоткуда и затем моментально скрывается в своей норе. Единственный способ убить змею состоит в том, чтобы отрубить ей голову.
Незаметно подкравшись, кавалерия вышла на исходные позиции. Ряды стали разворачиваться. Когда полуголые германцы с ревом бросились из леса, Север сразу же разглядел среди них вождя, который, размахивая, словно знаменем, гривой светлых волос, бежал впереди своей стаи волков. Римского командира обуяла ярость, на смену которой пришла твердая решимость. Он закует этого молодого варвара в цепи. Поскакав на своем коне вперед, Север стал четко отдавать приказы.
Ринувшись на легион, молодой варвар начал орудовать своей смертоносной фрамеей с такой ловкостью, что находившиеся в первых рядах римляне в ужасе бежали от него. Бесстрашный Север снова дал сигнал, звуки труб возвестили, что пора начинать атаку, и римская кавалерия помчалась вперед, чтобы ударить в тыл варварам. Уцелевшие от первоначального натиска ряды легионеров снова сомкнулись и приняли на себя новые удары варваров, тесня их на этот раз в заранее приготовленную ловушку.
Север на коне устремился в самую гущу сражения, размахивая мечом направо и налево, — он прекрасно знал тактику германцев и понимал, что у него есть всего несколько минут, после чего варвары снова устремятся в лес. Если им удастся оторваться от легионеров, то они исчезнут, чтобы позднее снова напасть. Уже сейчас Север видел, что их вождь понял замысел римлян и что–то приказывал своим подчиненным.
— Хватайте великана! — кричал Север. Он нагнулся, и фрамея едва не попала ему в голову. Поразив мечом одного из нападавших, он снова прокричал: — Великана! Его хватайте! Великана!
Атрет издал пронзительный свист, еще раз дав сигнал своим воинам отходить. Руд упал со стрелой в спине, Хольт что–то неистово кричал другим сражавшимся. Некоторым германцам удалось прорваться сквозь засаду, но Атрет оказался в ловушке. Он поразил копьем одного римлянина, успел пронзить другого, нападавшего на него сзади. Но не успел он вынуть из убитого копье, как еще один воин бросился ему на спину. Воспользовавшись силой инерции и продолжая держаться за фрамею, Атрет повернулся, встал на ноги и, выхватив фрамею, швырнул ее в живот нападавшего.
Краем глаза он увидел, что кто–то справа атакует его, и сдвинулся в сторону, чувствуя, как острый меч обжег его правое плечо. Какой–то римлянин верхом на коне направлялся прямо к нему. С полдюжины других римских воинов сомкнулись вокруг него плотным кольцом.
Издав что есть силы воинственный клич, Атрет двинулся на самого молодого из воинов, которые шли на него, и одним ударом смял его шлем, а потом нанес удар в пах. Когда на него бросился другой римлянин, он резко нырнул вниз и повернулся, ударив того пяткой в лицо. Римский офицер направился к нему, но Атрет успел обернуться и быстро встать на ноги, вскинув руки вверх и издав пронзительный свист, от которого жеребец римлянина встал на дыбы. Увернувшись от копыт жеребца, Атрет снова взял в руки фрамею.
Как только хаттское копье снова оказалось в его руках, римляне отпрянули назад. Изо всех сил пытаясь справиться со своим конем, римский командир продолжал отдавать приказы воинам, его лицо было красным от бешенства.
Атрет видел, что бежать ему некуда, и поэтому решил унести с собой в могилу как можно больше римлян. Стиснув зубы, он озирался, ожидая новой атаки. Когда один из римлян вышел в круг, Атрет встал к нему лицом, обеими руками держась за копье. Воин выхватил меч и сделал им круговое движение, тогда как образовавшие круг воины подбадривали его своими криками. Римлянин атаковал первым. Без труда отбив его удар, Атрет плюнул ему в лицо и оттолкнул. Взбешенный воин снова бросился на Атрета. Атрет только этого и ждал, поэтому увернулся и, сделав круговое движение фрамеей, сильно ударил тыльной стороной копья в голову неразумного противника. Как только тот упал, Атрет моментально развернул копье и вонзил его в шею упавшего. Легионер судорожно вздрогнул и скончался.
Еще один воин пошел на Атрета, размахивая мечом. Атрет нырнул в сторону и обернулся, ожидая, что кто–нибудь из стоящих вокруг вонзит свой меч ему в спину. Но этого не последовало. Казалось, римляне хотели превратить его убийство в некое соревнование.
Атрет достаточно быстро ранил второго воина, нанеся ему глубокую рану в бедро. Атрет наверняка убил бы его, если бы третий воин не выбежал в круг и не заблокировал его смертельный удар. Раненый воин отполз в сторону, а перед Атретом встал третий противник, против которого Атрет делал резкие короткие движения копьем, оттесняя того назад. Круг разорвался, но тут же снова сомкнулся. Еще один римлянин, вставший против Атрета, бросил на землю свой щит, потом свое длинное копье и стал размахивать мечом. Атрет ловко уходил от его ударов, нанося рукояткой фрамеи удары по голове противника. В конце концов римлянин упал на землю и перестал шевелиться.
Воины вокруг впали в ярость и отчаянно закричали, призывая двух других легионеров выступить против варвара. Атрет передвигался так ловко, что новые нападавшие столкнулись друг с другом. Смеясь, Атрет пинал их и плевал им в лицо. Уж если ему суждено умереть, то он умрет, высмеяв своих врагов.
Сидя верхом на своем черном жеребце, Север наблюдал за тем, как сражается молодой германец. Окруженный воинами, готовый принять смерть, этот пес открыто издевался над теми, кто на него нападал. Север смотрел, как этот великан описывал своим копьем большие круги вокруг себя, а римляне шарахались от него. Когда очередной римлянин вышел против него, варвар быстро справился с ним, пользуясь своим длинным копьем как мечом и дубиной одновременно. Подойдя к упавшему противнику, он держал свое оружие двумя руками и, яростно усмехаясь, выкрикивал какие–то смешки на языке, который могли понять только его германские соплеменники. Когда против него вышел еще один воин, германец двигался настолько быстро, что воину оставалось только провожать его глазами. Воин захотел собраться с силами, но было поздно. Варвар хлопнул одним концом копья по шлему римлянина, а затем, описав дугу, полоснул острым наконечником ему по шее.
— Ну хватит! — яростно закричал Север. — Вы что, собираетесь здесь умирать один за другим? Схватить его! — Когда же три римлянина вышли в круг, полные яростной решимости расправиться с этим молодым германцем, Север снова закричал: — Он мне нужен живым!
Хотя Атрет не понимал, о чем они говорят, по выражениям лиц нападавших он понял, что вокруг него что–то меняется. С помощью мечей римляне стали блокировать его удары, но ответных ударов не наносили. Наверное, они решили схватить его живым, а потом распять. Издав нечеловеческий крик, Атрет стал в ярости размахивать оружием. Уж если смерть близка, то он встретит ее с фрамеей в руках.
Все больше воинов окружало Атрета, кольцо щитов вокруг него постепенно сужалось. Один из римлян уже схватился за его копье, а другой прикоснулся плоской стороной своего меча к его голове. Воззвав к Тивазу, Атрет бросил свою фрамею и что есть силы нанес лбом удар в лицо первому попавшемуся римлянину. Когда тот упал, Атрет бросился еще на двоих. Он увернулся от щита, но его тут же ударили плоской стороной меча, и этот удар оглушил его. Он нанес сильный удар ногой в пах одному из нападавших, но получил удар по спине и упал на колени. От третьего удара он упал навзничь.
Чисто инстинктивно он еще пытался перевернуться и встать, но четыре воина схватили его за руки и за ноги. Они плотно прижали его к земле. Даже сейчас Атрет продолжал дико орать и сопротивляться, пытаясь встать. Римский командир слез с коня и подошел к нему. Он отдал какой–то краткий приказ, после чего Атрет успел увидеть, как он размахнулся рукояткой меча, целясь Атрету в висок. В глазах у Атрета потемнело, и он как будто провалился в бездну.
Атрет медленно пришел в себя. Он не понимал, где находится. Видел он как бы сквозь какую–то пелену, но при этом сразу понял, что находится явно не в своем лесу. В нос ему ударил запах крови и мочи. В голове стоял сильный шум, а во рту ощущался вкус крови. Атрет попытался подняться, но, едва пошевелился, сразу почувствовал, как звук грохочущих цепей отозвался болью в его висках, и тут он вспомнил о своем поражении. Застонав, он снова лег.
Видимо, пророчества его матери стали сбываться. Она ведь говорила, что его победит какой–то враг, и вот теперь он прикован цепями к деревянной колодке и ждет, что будет дальше. Он остался без своего народа, он потерял самого себя.
«Если мы умрем, то умрем свободными!» — кричали его воины, когда он поставил их перед выбором: либо уйти всем племенем на север, либо продолжать бороться против римской власти. Какой горькой казалась ему эта клятва сейчас, — ведь и он сам, и его воины до сих пор считались неуловимыми. Никто из них не боялся смерти, и они шли в бой с решимостью уничтожить как можно больше своих врагов. Все его соплеменники знали, что могут умереть. И Атрет, и его воины не сомневались, что умрут только в битве.
И вот теперь, скованный цепями, Атрет испытывал все унижение поражения. Рефлекторно он попытался вырваться из цепей, но от этого у него только снова потемнело в глазах. Придя в себя через минуту, он подождал, пока пройдут головокружение и тошнота, после чего открыл глаза.
Он осмотрелся, пытаясь понять, где оказался. Это было небольшое помещение, сложенное из толстых бревен. Из небольшого окна, находившегося высоко под потолком, бил солнечный свет, и Атрету приходилось щуриться, поскольку свет сейчас был подобен болезненному удару по голове. Атрет распрямился, и цепи сползли с него на огромный настил. С него сняли даже его сагум. Он передвигался осторожно, стараясь разглядеть, в какие цепи его заковали. Больше всего у него болели плечи и спина. Короткие и толстые цепи были прикованы к железным обручам, плотно охватившим его запястья и щиколотки.
В помещение вошли два человека.
Атрет слегка приподнялся и с ненавистью взглянул на своих поработителей. Он произнес короткое и резкое проклятие в их адрес. Те стояли спокойно, наслаждаясь своей победой. Один из них, одетый в дорогое воинское облачение и алый плащ, держал в руках бронзовый шлем. Атрет узнал в нем того командира, который стоял над ним, злорадствуя, в конце битвы. Другой был одет в шерстяную тунику изящной выделки и темный дорожный плащ, что говорило о его знатном происхождении.
— Ну, я вижу, ты очнулся, — сказал Север, с улыбкой глядя в свирепые глаза молодого варвара. — Рад сообщить тебе, что ты жив и у меня есть кое–какие соображения насчет тебя. Мои воины хотели забить тебя до полусмерти, а потом распять, но у меня на этот счет другие, более выгодные планы.
Атрет не понимал ни латинского, ни греческого языка, но высокомерный тон этого римлянина был для него унизителен. Он дал волю своей ярости, невзирая на сильную боль.
— Ну, что ты думаешь о нем, Малкен?
— Только то, что он рычит, как дикий зверь, и ужасно воняет, — сказал работорговец.
Север добродушно засмеялся и пояснил:
— Ты не смотри, что он таков, Малкен. Думаю, ты увидишь, что это весьма незаурядный варвар, и цена, которую я за него предлагаю, более чем справедливая.
Когда работорговец подошел к Атрету и стал его внимательно разглядывать, в Атрете все закипело от гнева. Когда же римлянин протянул к нему руку, чтобы дотронуться до него, пленник издал дикий рев и рванулся, будто пытаясь вырваться из своих цепей. От резкой боли в голове и плечах он лишь еще больше рассвирепел. Затем он плюнул в римлянина. «Грязная римская свинья!» — прохрипел он, продолжая неистово греметь цепями.
Малкен состроил недовольную гримасу и аккуратно закатал рукава своей одежды:
— Эти германцы просто дикие звери, а язык, на котором они говорят, вообще ужасен.
Север схватил юношу за волосы и силой приподнял ему голову:
— Звери, это верно. Но посмотри, какой это зверь! С лицом Аполлона и телом Марса. — Германец рванулся вперед, норовя вцепиться зубами в руку своего поработителя. Север снова вздернул голову пленника, крепче ухватив его за волосы.
— Малкен, ты же сам видишь, как сложен этот молодой варвар, — женщины в Риме просто с ума сойдут от него во время зрелищ. — Север посмотрел на раскрасневшееся лицо Малкена, и его губы расплылись в циничной улыбке. — Да и некоторые мужчины тоже, насколько я могу судить по выражению твоего лица.
Малкен сжал свои полные губы. Он не мог глаз отвести от молодого варвара. Он знал, что германцы свирепы, но при виде голубых глаз этого юноши он почувствовал, как по нему пробежал трепетный холодок. Даже при том, что пленник был закован в цепи, Малкен не чувствовал себя в безопасности. Это раздражало его. Но деньги есть деньги, а Север требовал за этого пленника немалую сумму.
— Он красив, Север, спору нет, но вот только сможет ли он чему–нибудь научиться?
— Научиться?! — Север рассмеялся, отпустив волосы пленника. — Ты бы видел, как он сражался. Да он лучше всех тех гладиаторов, которых ты отправлял на арену за последние лет десять. — Тут его лицо помрачнело. — В первые же минуты битвы он перебил с дюжину обученных легионеров. Его едва могли сдержать четыре воина. Его окровавленное копье не могли у него вырвать из рук… пока я не ударил его по голове. — Тут он снова рассмеялся. — Я не думаю, что его надо будет чему–то обучать. Просто держи его на привязи, пока не наступит пора выпустить его на арену.
Малкен с восхищением смотрел на горы мышц этого мощного юноши. Если помазать его маслом, он вообще будет похож на бронзового бога. А эта копна светлых волос… Римляне любят блондинов!
— И все же, — сказал Малкен, разочарованно вздохнув и делая последнюю попытку сбить цену, — по–моему, ты запрашиваешь слишком много.
— Он стоит таких денег. За него можно было бы дать и больше!
— А я думаю, сам Марс столько не стоит.
Север пожал плечами:
— Что ж, очень жаль. — Он направился к двери. — Пошли. Продам тебе двух других, но похуже.
— И ты не торгуешься?
— Этак мы с тобой только время зря потратим. Прохор не задумываясь купит его за несколько тысяч сестерциев.
— Прохор! — при одном упоминании о конкуренте Малкен приходил в бешенство.
— Да, он приедет завтра.
— Ну, хорошо, — нетерпеливо сказал Малкен, и его лицо при этом помрачнело, — я возьму этого.
Север довольно улыбнулся:
— Вот это уже другой разговор, Малкен. Ты начинаешь соображать, когда дело доходит до человеческой плоти.
— А ты, мой дорогой Север, ловкий пройдоха.
— Будешь смотреть других?
— Ты же сказал, что они хуже. Предложи их Прохору. Я подпишу договор на этого, а деньги пошлю тебе, как только вернусь в Рим.
— Решено.
Малкен подошел к двери и открыл ее. К нему быстро подошел какой–то человек в простой тунике. Малкен кивнул в сторону Атрета. Он понимал, что путь до лудуса — школы гладиаторов — неблизкий:
— Позаботься о нем, Квинт. У него раны кровоточат. Я не хочу, чтобы он потерял много крови и умер еще до того, как мы доберемся до лудуса в Капуе.
3
Децим Виндаций Валериан выпил еще вина и с резким стуком поставил серебряную чашу на мраморный стол. Он посмотрел через мраморный стол на своего сына, который развалился на диване с ленивым взором на красивом лице. Этот молодой человек явно испытывал его терпение. Они уже говорили больше часа, и Децим так ничего и не добился.
Марк потягивал итальянское фалернское и кивал: «Отличное вино, отец». Этот комплимент был встречен каменным взглядом. Как всегда, отец пытался наставить сына на тот путь, который сам для него выбрал. Марк улыбался про себя. Неужели отец действительно ждет от него уступок? Но ведь он уже не мальчик. Поймет ли когда–нибудь Валериан–старший, что у его сына свои планы, свой путь в жизни?
Его отец был неугомонным человеком, который легко раздражался, если его сын делал что–нибудь не так, как ему бы хотелось. Вот и сейчас он вел с ним эти бесконечные разговоры и держался внешне спокойно, но Марк прекрасно знал, что такое спокойствие — всего лишь ширма, скрывающая кипящий вулкан эмоций.
— Веспасиан, при всей его военной мудрости и тактическом таланте, все равно плебей, Марк. И, будучи плебеем, он ненавидит аристократию, которая едва не уничтожила нашу империю. Один сенатор провозгласил, что его род принадлежит императорской линии Юпитера. Так Веспасиан ему в лицо рассмеялся.
Марк пожал плечами и приподнялся на диване:
— Я слышал это, отец. Он убрал четырех сенаторов, чей род восходит к Ромулу и Рему.
— И ты веришь в эту чушь?
— В моих интересах верить в это. Флавий даже не скрывает, что является сыном испанского сборщика налогов, и это может стать его окончательным падением. Он простолюдин, который захватил власть над империей, основанной императорами.
— Если ты самая большая собака, это еще не значит, что ты самая умная или лучшая. У Веспасиана, может быть, и нет такой родословной, но он прирожденный правитель.
— Разделяю твое восхищение Веспасианом, отец. Гальба был выжившим из ума стариком, а Отон — скрягой и тупицей. Что касается Вителлия, то у меня такое ощущение, что он хотел стать императором только для того, чтобы набить себе брюхо гусиными потрохами и язычками колибри. Другого такого обжоры я в жизни не видал. — Презрительная улыбка сошла у него с лица. — Так что Веспасиан сейчас, пожалуй, единственный правитель, способный удержать империю.
— Вот именно, и ему сейчас, как никогда, нужны толковые помощники в лице сильных молодых сенаторов.
Лицо Марка стало жестким. Вот оно в чем дело! То–то он думал, почему это отец совершенно не стал настаивать, когда Марк отказался от предложения выгодно женить его. Теперь все становилось ясно. Отец думал о более высокой цели — политике. Об этом кровавом спорте, как ее называл Марк.
Последние несколько лет боги не миловали его отца. В результате пожара и народных волнений Децим Валериан лишился нескольких хранилищ и потерял миллионы сестерциев состояния. Он проклинал Нерона, хотя тот изо всех сил старался свалить вину за эти беды на секту христиан. Приближенные знали о мечтах Нерона полностью перестроить Рим и назвать его Нерополисом. Но вместо этого разъяренный народ лишь довершил разрушение города.
При этом, с позволения сказать, правлении Нерона Рим то и дело сотрясали волнения.
Император Гальба оказался полным глупцом. Приказав всем, кто получал от Нерона дары и денежные вознаграждения, вернуть в казну девяносто процентов от полученного, он тем самым приблизил свою смерть. Прошло всего несколько недель, и легионеры императорской охраны — преторианская гвардия — принесли его голову Отону и провозгласили этого обанкротившегося торговца новым императором Рима.
Рим был в шоке.
Отон оказался ничуть не лучше. Когда легионы Вителлия вторглись в Италию и разгромили северные гарнизоны преторианцев, Отон покончил с собой. Но как только Вителлий пришел к власти, он лишь усугубил ситуацию, переложив все свои обязанности на Асиатиса, пользовавшегося безраздельной властью. Вителлий, эта глупая свинья, полностью предался лени и бесконечным пирам.
По мере того как власть в Риме лихорадило, волнения разрастались по всей империи. Продолжались восстания в Иудее. Восстала Галлия. Германские племена под командованием воспитанного в Риме Цивилиса объединились и напали на передовые посты.
Судьба Рима висела на волоске.
Веспасиану необходимо было снова поставить Рим на ноги. Когда до провинций долетела весть о распаде власти в центре, ведущие легионы провозгласили своим императором Веспасиана и послали мощное войско генерала Антония в Италию, чтобы свергнуть Вителлия. Разбив войска Вителлия в битве при Кремоне, Антоний вошел в Рим, где перебил остатки сил, верных Вителлию. Сам Вителлий скрывался во дворце, но был обнаружен там, после чего его с позором провели по улицам города. Граждане города забросали его навозом, а потом нещадно забили до смерти. Но горожане и воины не успокоились даже после его смерти. Его изуродованное тело долго таскали по улицам и в конце концов сбросили в грязный Тибр.
— Что ты молчишь? — нахмурясь, спросил Децим.
Слова отца заставили Марка оторваться от своих мыслей. Ему доводилось видеть, как многие люди умирали в результате желания сделать политическую карьеру. Молодые люди, чья единственная ошибка состояла в том, что они поддерживали «не тех» людей, были мертвы. Конечно, Веспасиан — достойный и способный политик, умеющий держать удары. Однако, думал Марк, где гарантия того, что он не умрет от яда наложницы или кинжала наемного убийцы?
— У многих моих друзей были политические амбиции, отец. Взять хотя бы Гименея или Аквилу. И что с ними стало? Им приказали совершить самоубийство, когда Нерон заподозрил их в государственной измене, опираясь при этом всего лишь на слова какого–то завистливого сенатора. А Пудена убили только за то, что его отец был другом Отона. Когда в Рим вошел Антоний, зарезали Аппика. А если вспомнить о том, как закончилась жизнь большинства наших императоров, то я тем более не вижу в политике ничего привлекательного.
Децим сел и заставил себя сохранить спокойствие, хотя это было нелегко. Он знал, что означает это выражение лица Марка. Если бы только можно было направить могучую волю сына на что–то более дельное, чем эгоистичная праздность!
— Не спеши с выводами, Марк. Пока Веспасиан у власти, есть возможность сделать блестящую политическую карьеру. Сейчас самое время найти достойный путь в жизни. Времена переменчивы, и вряд ли у нас еще будет такой мудрый и справедливый правитель. — Он посмотрел в глаза сыну и добавил. — За миллион сестерциев ты можешь приобрести место в конном строю и место в сенате.
Марк с трудом подавил гнев и выразил его в иронической усмешке:
— Стало быть, я могу стать частицей того класса, над которым ты всегда смеялся, который ты всегда презирал?
— Ты можешь стать частью нового порядка в Риме!
— Я и так являюсь его частью, отец.
— Но у тебя нет власти, — отец наклонился вперед, сжав кулаки, — а ты мог бы ее иметь.
Марк рассмеялся:
— Антигон чуть не стал нищим, пытаясь задобрить толпу. Ты, отец, остался в стороне от этих игр, но тебе ли не знать, что снабжение народа деньгами — политическая необходимость. Толпу необходимо умиротворять, чего бы это ни стоило. Кому охота закончить свою жизнь на песке арены, которую ты так не любишь? Или нам нужно сыпать тысячи сестерциев в руки тех жирных аристократов, которых ты так ненавидишь?
Децим едва не вышел из себя, услышав, как Марк говорит те же слова, которые он любил повторять сам. Этим методом спора Марк, владел в совершенстве — а Децим этот метод терпеть не мог.
— Время великих потрясений может стать временем великих возможностей.
— О, здесь я с тобой полностью согласен, отец. Однако политические ветра настолько переменчивы, что я совершенно не хочу, чтобы они меня сдули. — Он слегка улыбнулся и поднял свой кубок. — У меня совсем другие планы.
— Есть, пить и наслаждаться жизнью до самой смерти, — мрачно произнес Децим.
Марк глубоко вздохнул и дал волю эмоциям:
— И сделать тебя богаче, чем ты есть. — Его губы скривились в циничной улыбке. — Уж если ты хочешь оставить след в истории, империи, то пусть он будет из кедра и камня. Нерон уничтожил нас огнем, Гальба, Отон и Вителлий — волнениями. Так пусть же дом Валериана станет свидетельством возрождения Рима.
Взгляд Децима помрачнел:
— Уж лучше бы ты искал славы, став сенатором, чем стремился к деньгам, как какой–то торгаш.
— Я не называю тебя «каким–то», мой господин.
Децим в сердцах поставил свой кубок на стол, пролив при этом на мрамор немного вина:
— В тебе нет ни капли совести. Мы ведь говорим о твоем будущем.
Марк тоже поставил свой кубок и принял удар.
— Нет, ты просто пытаешься навязать мне свои планы, которые ты выработал, даже не посоветовавшись со мной. Если ты хочешь, чтобы Валериан был в сенате, иди туда сам. Извини, но я снова вынужден тебя разочаровать, отец, потому что у меня свои планы на будущее.
— Может быть, ты все–таки поделишься со мной, что это за планы?
— Радоваться тому, как мало времени у меня здесь, на земле. Идти своей дорогой; и это я, как ты хорошо знаешь, умею делать.
— Ты женишься на Аррии?
Марк почувствовал, как при одном упоминании об Аррии у него застучало в висках. Отцу не понравился ее свободолюбивый дух. Досадливо поморщившись, Марк оглянулся и увидел, как его мать и сестра выходят из сада. Он встал, испытав облегчение от того, что разговор с отцом закончен. Ему не хотелось говорить ничего такого, о чем позднее он мог бы пожалеть.
Когда он вышел, чтобы поприветствовать свою мать, она вопросительно взглянула на него.
— Все хорошо, Марк? — спросила она, когда он наклонился, чтобы поцеловать ее.
— А разве может быть иначе, мама?
— Вы с отцом так долго разговаривали, — сказала Юлия, незаметно присоединяясь к разговору.
— Только о делах, — сказал он, добродушно потрепав ее по щеке. В свои четырнадцать лет она была уже настоящей красавицей.
Феба пошла впереди сына и вошла в триклиний — просторную гостиную, элегантно обставленную мебелью и красиво украшенную. Обычно Фебе доставляло удовольствие входить в эту комнату. Однако на этот раз она совершенно не обращала внимания на обстановку, она не сводила глаз с мужа. Децим выглядел каким–то напряженным, седые кудри свисали у него на лоб. Она села рядом с ним на диван и положила свою руку на его руки.
— Разговор не получился? — спросила она как можно мягче.
Взяв ее руки в свои, Децим слегка сжал их. Он видел обеспокоенность в глазах жены и попытался разрядить обстановку. Они были женаты уже тридцать лет, и хотя страсть в их отношениях давно прошла, любовь от этого между ними не ослабла.
— Марка совершенно не интересует благородная политическая карьера.
— Благородная?! — удивленная Юлия весело рассмеялась. — Ты теперь называешь политику благородной, отец? Ты же всегда ненавидел политиков. Я еще не слышала от тебя в их адрес ни одного доброго слова, и теперь ты предлагаешь Марку стать одним из них? Я тебя просто не понимаю!
Глядя на такой искренний взрыв чувств сестры, Марк невольно улыбнулся. Казалось, Юлии достаточно сказать первое, что ей пришло на ум, и ее слова звучали остроумнее и язвительнее, чем слова их патриарха.
— Сколько бы отец ни говорил о сомнительной законности пребывания в сенате большинства людей, втайне он просто надеется увидеть в форуме Валериана.
— О-о, а ведь это было бы здорово! — сказала Юлия, и ее темно–карие глаза заблестели. — Знаешь, Марк, я так и представляю, как ты стоишь перед сенатом. — Тут она встала в драматическую позу. Вздев свой красивый подбородок кверху, она подобрала пал, элегантно вышитую мантию, и прошлась взад–вперед перед братом и родителями, при этом одна ее рука лежала вдоль груди, а на лице было такое выражение важности, что даже Децим улыбнулся.
— Сядь, егоза, — сказал Марк, усадив ее на диван.
Неугомонная Юлия схватила его за руку:
— Ты станешь самым красивым сенатором, Марк.
— Красивым? Такое описание лучше подходит красавчику Скорпу, — сказал он, имея в виду процветающего купца, перебравшегося в Рим из Ефеса и теперь успешно ведущего с отцом торговлю. Юлия была в восторге от его темных глаз и смуглой кожи.
— А это правда, что он педераст?
— Юлия! — строго прикрикнула на нее мать, пораженная тем, что ее дочь говорит о таких вещах.
Юлия скорчила гримасу:
— Извини, мама.
— Где ты такое услышала?
— Отец говорил Марку, что не доверяет педерастам, а Марк сказал…
— Как долго ты стояла у дверей библиотеки? — быстро перебил ее Марк, пока сестра не сболтнула еще что–нибудь лишнее. Он испытывал раздражение и по поводу того, что она подслушала его разговор с отцом в библиотеке, и по поводу того, что она огорчила мать, явно шокированную таким «вольным» разговором. Юлия в четырнадцать лет знала о жизни больше, чем мать в свои сорок четыре года. Наверное, потому, что мать и не хотела этого знать.
— Я просто проходила мимо, — только теперь Юлия обратила внимание на реакцию матери. Она тут же решила переменить тему. — Так ты станешь сенатором, Марк?
— Нет, — ответил Марк и взглянул на отца, — а если ты хочешь иметь в политике своих людей, то лучше помоги несчастному Антигону.
— Антигону? — переспросил Децим. — Этому щенку, который продает аристократам статуи?
— Не статуи, отец, а произведения искусства.
Децим насмешливо фыркнул.
Марк налил в кубок вина и передал его отцу:
— Сегодня днем Антигон сказал мне, что готов поставить на карту свою жизнь, это касается тех зрелищ, в которые он вложил средства на прошлой неделе. Всего за несколько тысяч сестерциев ты мог бы иметь в сенате своего человека. У него есть связи с Веспасианом через сына императора, Домициана. Они с Антигоном вместе тренируются в лудусе. Так что сенаторский пост для Антигона — лишь вопрос времени, конечно, если только до этого он не убьет себя.
— Не думаю, что Антигон способен сделать с собой что–нибудь, — сухо сказал Децим. — Разве что в результате несчастного случая.
— Антигон преклоняется перед Сенекой, а ты знаешь, что Сенека проповедовал самоубийство. Так что, если Антигон умрет, мы упустим такой шанс, — сказал Марк, и по его тону было понятно, что его все это забавляет.
Феба была потрясена:
— Я думала, Марк, что Антигон твой друг.
— Он и есть мой друг, мама, — мягко сказал Марк, — в данный момент упавший духом, — он снова посмотрел на отца, — а политические амбиции часто приводят к бедности.
Децим сжал губы. Его сын говорил правду. Децим знал не одного сенатора, наложившего на себя руки, когда жизнь полетела под откос, потому что все силы были отданы политике. «Задобрить толпу», — сказал Марк. Это утверждение было вполне уместным. А толпа напоминает дорогую и неверную госпожу. Он смягчился:
— Выясни, в чем он нуждается, и мы обсудим это.
Марк был удивлен уступкой отца. Он ожидал длинных и трудных дебатов, прежде чем отец согласится дать динарий. Он назвал цену, от которой отец вздел кверху брови.
— Сегодня я сказал Антигону, что мой отец мудрый и щедрый благодетель.
— В самом деле? — сказал Децим, разрываемый между гневом и гордостью по поводу такой дерзости своего сына.
Улыбаясь, Марк поднял свой кубок в знак приветствия:
— Вот увидишь, Антигон не забывает доброты. Прежде чем пойти домой, я обсудил с ним возможный вариант договора на определенный срок. Он с готовностью согласился.
Децим увидел, что его сын уже приступил к осуществлению собственных планов:
— И что ты имеешь в виду, Марк? Храмы богине Фортуне?
— Нет, ничего такого грандиозного, отец. Дома для твоей новой и благородной аристократии, я думаю. И жилища для плебеев, если ты так хочешь.
Пришедшая в уныние от напряженных отношений между отцом и сыном, Феба кивнула рабу Партиану, стоявшему в дверях: «Обслужите нас». Партиан дал сигнал, и два молодых греческих раба молча вошли в помещение и скромно сели в углу. Один мягко ударил в легкий барабан, а другой заиграл на лире. Молодая египетская рабыня внесла серебряное блюдо, на котором лежали куски жареного мяса свиньи, откормленной в дубовых лесах.
— Я обещал Антигону, что сегодня вечером сообщу ему твое решение, — сказал Марк, выбирая себе кусок мяса.
— Ты так уверен, что я соглашусь? — сухо спросил Децим.
— Ты всегда учил меня не упускать выгодной возможности. Другого такого случая может и не представиться.
— Не все то, чему я тебя учил, тебе следовало бы усваивать, — заметил Децим.
Когда мясо было съедено, принесли фрукты. Юлия выбрала себе небольшую гроздь сирийского винограда. Марк взял персидский персик. Рослый Партиан невозмутимо стоял в дверях. Когда кубки опорожнялись, египтянка снова наполняла их вином.
— Мрамор легко можно взять в Луне и Паросе, — говорил Децим, обсуждая идею Марка. — А вот кедр растет только в Ливане, и он нам дорого обойдется. Лучше ввозить лес из Греции.
— А почему не из Галлии? — спросил Марк.
— В этом регионе по–прежнему очень неспокойно. Если ты хочешь, чтобы договор выполнялся, тебе нужен материал на руках, а не в пути.
Партиан знаком приказал египтянке принести в небольших чашах теплую ароматизированную воду. Наклонившись, чтобы поставить воду перед Марком, египтянка подняла глаза и многозначительно посмотрела на него. Слегка улыбнувшись, Марк опустил руки в чашу и стал мыть пальцы от мяса и фруктового сока. Он взял полотенце, которое дала ему девушка, и весело взглянул на нее, пока она стояла в ожидании его приказов.
— Можешь идти, Вития, — мягко сказала Феба, отпуская девушку. Молодая египтянка была не первой рабыней в доме Валериана, влюбленной в его сына, и Феба знала об этом. Марк был красивым, статным юношей, от которого исходила большая энергия. Его мораль была вовсе не такой, какую хотела бы видеть Феба; его мораль была, пожалуй, полной противоположностью всему тому, чему мать учила его еще с тех пор, когда держала у себя на коленях. И если только у какой–нибудь молодой и красивой женщины возникало желание, Марк всегда был готов его удовлетворить. Но в Риме было полно молодых женщин из социального круга Марка, которым эта египтянка и в подметки не годилась.
Недовольство матери позабавило Марка, но он решил ответить на ее молчаливую мольбу. Положив полотенце на стол, он встал.
— Пойду и скажу Антигону о твоем решении, отец. Он очень обрадуется. Я благодарен тебе.
— Ты опять уходишь? — разочарованно произнесла Юлия. — О Марк! Несколько часов назад ты пришел, большую часть времени вы разговаривали с отцом. Мы так толком и не поболтали!
— Сегодня вечером ничего не получится, Юлия, — он наклонился и поцеловал ее в щеку, — когда приду, расскажу тебе о зрелищах, — шепнул он ей на ухо так, чтобы слышала только она.
Децим и Феба смотрели вслед уходящему сыну. Юлия вскочила и побежала за ним. Фебе доставляло большую радость видеть, как Юлия любит своего старшего брата, и какие нежные чувства испытывает Марк к своей сестре. Разница в возрасте между ними составляла восемь лет, а два других ребенка Фебы умерли в младенчестве.
Однако в последнее время близость в их отношениях стала беспокоить Фебу. Юлия была одухотворенной и страстной натурой, которую легко испортить. А Марк стал убежденным эпикурейцем. В жизни он видел только две цели — приумножать богатства и получать удовольствия всюду, где это только возможно. Феба подумала, что вряд ли стоит обвинять молодежь в приверженности такой философии, потому что за последние несколько лет кроме потрясений и кровопролития они мало что видели. Жизнь была нестабильной. И все же такие взгляды ее беспокоили.
Куда девалась благопристойность? Куда девались чистота и верность? Жизнь — это ведь не только удовольствия. Это еще и долг, и честь. Это еще и строительство семьи. Это еще и забота о тех, кто сам о себе не может позаботиться.
Она повернулась к Дециму. Тот был погружен в свои мысли. Она снова прикоснулась к его руке и сказала:
— Я хочу, чтобы Марк женился и остепенился. Что он сказал о твоей идее породниться с Гарибальди?
— Он отказался.
— И ты не смог его уговорить? Олимпия очень милая девушка.
— Ты, наверное, уже обратила внимание, что Марк сам выбирает себе красивых девушек, даже не разбирая, рабыни они или свободные, — сказал Децим, — Я не думаю, что он вообще хочет жениться.
В этот момент ему стало интересно, по–прежнему ли его сын так глуп, чтобы всерьез думать о прочных отношениях с Аррией. Вряд ли.
— Он становится каким–то бесцельным, — сказала Феба.
— Не бесцельным, моя любовь. А устремленным в себя. Нетребовательным. — Децим встал, вместе с ним встала и Феба. — Он ничем не отличается от своих друзей из аристократов. Жизнь для него — это большая охота; все нужно испытать, попробовать. И мало кто в эти дни думает о благе Рима.
Они прошли в перистиль, огромный коридор, который опоясывал кругом двор, прошли мимо белых мраморных колонн и вышли в сад. Вечер был теплый, и в чистом небе сияли звезды. Дорожка пролегала среди постриженных кустов и цветущих деревьев. Посреди клумбы стояла мраморная статуя обнаженной женщины, а в другом конце дорожки стояла аналогичная мужская скульптура. Совершенные скульптурные формы сияли белизной в лунном свете. Децим вспомнил тот день, когда Марк впервые побрился. Они тогда вместе отнесли сбритые волосы в храм Юпитера. Марк принес их в жертву и стал мужчиной. Казалось, что это было вчера, — и в то же время прошла целая вечность. Позднее, когда Марк подрастал, Децим был свидетелем того, как мальчик обучался риторике и военному искусству. И все же, в какой–то момент времени он потерял над ним контроль. Он потерял своего сына.
— Я надеялся убедить Марка в том, что новый порядок может принести империи такие необходимые сейчас перемены, — сказал он, взяв руку Фебы в свои руки.
— Разве желание восстановить Рим не достойно уважения? — спросила она, положив поверх его ладоней вторую свою руку. Он казался таким обеспокоенным, в последнее время он выглядел не лучшим образом, хотя и не говорил никому, что именно его гнетет. Возможно, все дело было только в его беспокойстве за будущее Марка. И Юлии.
— Рим необходимо восстанавливать, — сказал Децим, но он знал, что судьба империи беспокоит Марка лишь постольку, поскольку это затрагивает его личные интересы. Желая возрождать римские дома, Марк не преследовал никаких альтруистических целей. Единственным мотивом для него было желание приумножить богатства семьи Валериана. Нельзя заниматься чем–то в жизни, не зная, для чего именно ты это делаешь, а Марк все делал главным образом ради денег.
Децим полагал, что Марк слишком много думает о деньгах. Он сам большую часть жизни посвятил тому, чтобы обеспечить своей семье достойное будущее через различные предприятия. Он начал трудиться в Ефесе, став совладельцем небольшого корабля. Теперь у него был свой богатый дом в самом Риме, а в его власти находился весь торговый флот. Его корабли бороздили все известные моря и доставляли грузы с берегов практически всех стран Римской империи: скот и шерсть из Сицилии; рабов из Британии; диких зверей с берегов Африки; редкие эссенции, драгоценности и евнухов из Партии и Персии; зерно из Египта; корицу, алоэ и настой опия из Аравии.
Караваны Валериана доходили до самого Китая и привозили оттуда шелк, краски и лекарства; другие караваны доходили до Индии, возвращаясь оттуда с перцем, специями и лечебными травами, а также с жемчугом, сардониксом, драгоценными камнями, карбункулами. Караваны Валериана могли поставить все, на что только был спрос на римских рынках.
Еще когда Марк был мальчиком, Децим обратил внимание на его способности. У Марка был дар делать деньги. Он умел нестандартно мыслить, обладал невероятной интуицией. Кроме того, он прекрасно разбирался в людях. Децим гордился этими природными дарованиями своего сына, но в то же время видел в нем одну черту, которая его сильно огорчала. Обладая редкими очарованием и проницательностью, Марк ловко манипулировал людьми.
Децим помнил, когда он впервые увидел, каким холодным и расчетливым стал Марк. Случилось это три года назад, когда Марку было девятнадцать лет.
— Песок даст больше золота, чем хлеб, отец.
— Но людям нужен хлеб.
— Они хотят зрелищ, но невозможно наслаждаться зрелищами без песка, впитывающего кровь.
— Но сотни людей голодают, и им нужна пища. А мы должны думать о наипервейшем благе нашего народа.
Тогда сын впервые бросил ему вызов:
— Хорошо, пусть в порт войдут два корабля, один из которых будет загружен хлебом, а второй песком, и мы посмотрим, какой груз купят и разгрузят быстрее. Если хлеб, то я в течение последующего года буду делать все, что ты мне скажешь. Но если песок, ты предоставишь мне возможность распоряжаться шестью кораблями так, как я того хочу.
Децим не сомневался, что нужда окажется сильнее желания. Так ему диктовал здравый смысл…
В конце концов, ему пришлось отдать Марку шесть своих кораблей. Децим с грустью поймал себя на мысли: он радуется тому обстоятельству, что Марк будет теперь перевозить на них лес и камень для строительства, а не песок и будущие жертвы кровавых зрелищ на арене.
Отец вздохнул. Феба ошибалась, утверждая, что Марк стал бесцельным. Марк был простодушным в своем стремлении к богатству и удовольствиям — всему, что он только мог взять.
* * *
У входной двери Марк завернулся в свой плащ и поцеловал Юлию в лоб.
— Возьму тебя на зрелища, когда немного подрастешь.
Юлия капризно затопала ногами, обутыми в сандалии.
— Терпеть не могу, когда ты считаешь меня маленькой, Марк, — сказала она. Когда Марк открыл дверь, чтобы уйти, она быстро схватила его за руку, — Марк, ну пожалуйста. Ты же обещал.
— Ничего я тебе не обещал, — смеясь, сказал он.
— Ну-у… почти обещал. Ма–арк. Ну так нечестно. Я никогда еще не была на зрелищах и умру, если не попаду туда.
— Но ты же знаешь, какую головомойку устроит мне мама, если я тебя возьму.
— Ну, она же все равно простит тебя, ты и сам знаешь. Да мама может вообще об этом не узнать. Скажешь ей, что взял меня покататься на своей новой колеснице. Возьми меня только на один–два часика. Пожалуйста. Ну, Марк. Мне так обидно — в нашей компании только я одна еще не видела бои гладиаторов.
— Ну, хорошо, я подумаю.
Юлия понимала, что он не возьмет ее. Отойдя немного назад, она наклонила голову.
— Глафира сказала мне, что ты ходишь туда с Аррией. А она всего на три года старше меня.
— Так то Аррия…
— И вообще, это не по–римски — не ходить на зрелища!
Марк быстро закрыл ей рот рукой и прижал палец к губам.
— Еще раз так закричишь, я вообще никуда тебя брать не стану. — По щекам сестры быстро потекли слезы, и Марк смягчился: — Но, как бы то ни было, сейчас я просто не могу взять тебя с собой.
— Потому что ты разочаровал отца тем, что в тебе нет благородных амбиций? — с иронией спросила Юлия.
— В политике я не вижу ничего благородного. Как и в женитьбе.
Юлия смотрела на него, широко раскрыв глаза.
— Отец хочет, чтобы ты женился? На ком?
— Он только высказал общее пожелание, не говоря ничего конкретного, — зная о том, как Юлия любит посплетничать, Марк не хотел, чтобы слухи о его нежелании жениться на Олимпии дошли до семьи Гарибальди через уста одной из подруг Юлии. Кроме того, он не столько не желал жениться на Олимпии, сколько не желал жениться вообще. Сама мысль о том, что остаток жизни ему придется провести только с одной женщиной, была для него невыносима.
Во время страстного романа с Аррией он еще подумывал о женитьбе на ней. Но здравый смысл заставил его замолчать. Аррия, прекрасная, восхитительная Аррия. Поначалу одна мысль о ней приводила его в неописуемый восторг. Иногда он чувствовал, как кровь стучит в висках, когда он смотрел, как она страстно выражает свои эмоции, глядя на схватку двух гладиаторов. Аррия была красива, очаровательна, остроумна, но, несмотря на все эти качества, она стала надоедать Марку.
— Вы с отцом проговорили больше часа. Просто ты не хочешь мне сказать, кто это. Никто другой мне этого не скажет. Я ведь уже не ребенок, Марк.
— Тогда перестань вести себя, как ребенок, — он поцеловал ее в щеку. — Мне надо идти.
— Если ты не возьмешь меня на зрелища, я скажу маме, что слышала о твоих отношениях с женой Патроба.
Ошеломленный, Марк мог только рассмеяться.
— Так–так… В нашем доме ты такого услышать не могла, — сказал он. — Бьюсь об заклад, это кто–то из твоих глупых подружек. — Он обошел ее сзади и крепко шлепнул по спине. Она вскрикнула от боли и зло сверкнула на него своими темными глазами.
Марк еще раз улыбнулся и сказал:
— Если я соглашусь взять тебя с собой… — Юлия тут же успокоилась, думая, что он уступает ей, и по ее лицу уже расплывалась победоносная улыбка, — я сказал если, маленькая егоза. Так вот, если я соглашусь, то будь уверена, что не из–за твоих угроз разнести слухи о жене сенатора!
Она жалобно надула губы.
— Но ты же знаешь, что я не стану этого делать.
— Даже если и станешь, мама тебе все равно не поверит, — сказал он, зная, что мать никогда бы не поверила, что он способен на такое.
Знала об этом и Юлия.
— Я так давно мечтала пойти на зрелища…
— Да тебе там плохо станет, когда ты впервые увидишь столько крови.
— Обещаю, что не опозорю тебя, Марк. Я даже не вздрогну, сколько бы там крови ни было. Клянусь тебе. Так когда мы пойдем? Завтра?
— Не торопись. Я возьму тебя в следующий раз, когда их будет проводить Антигон.
— О Марк, я люблю тебя. Я так люблю тебя, — сказала она, обнимая его.
— Я знаю, — нежно улыбаясь, сказал Марк, — пока я делаю то, что тебе нравится, ты меня действительно любишь.
4
Марк вышел на улицу и глубоко вдохнул вечерний воздух. Он был рад тому, что оказался вне дома. Он любил своего отца, но смотрел на все уже по–новому. Если ты не намерен наслаждаться плодами своего труда, тогда зачем вообще трудиться?
Он наблюдал за тем, как живет его отец. Глава семьи вставал в семь часов и два часа проводил в атриуме, центральном дворе, раздавая деньги клиентам, которые в большинстве случаев уже годами не работали. Затем после легкого завтрака он уходил на склады. Во второй половине дня он шел в гимнасий и занимался физическими упражнениями, после которых расслаблялся в бане, беседуя с аристократами, политиками, такими же преуспевающими торговцами, как и он. Домой он возвращался к ужину, который проводил с женой и детьми, после чего уединялся со своими книгами. На следующий день все повторялось. И на следующий день тоже. И на следующий…
Марк хотел от жизни большего. Он хотел, чтобы кровь стучала в висках, как во время состязаний колесниц или поединков гладиаторов, свидетелем которых ему доводилось быть бесчисленное количество раз, или как во время его страстных любовных приключений с красивыми женщинами. Ему нравилось испытывать наслаждение от хорошего вина, от жарких и страстных ночей. Ему нравилось пробовать новые и редкие деликатесы. Ему нравилось наблюдать за танцорами, слушать певцов, ходить на зрелища.
Жизнь должна быть насыщением голода. Жизнь необходимо проглатывать, а не посасывать. Но такая жизнь стоит денег… и немалых денег.
Несмотря на все речи и увещевания отца, Марк был уверен, что жизнь в Риме, как и во всем мире, определяется не честью. Ею движут золото и деньги. За деньги были куплены союзы и торговые соглашения; деньги получают воины, которые расширяют границы империи. Деньгами был обеспечен Пакс Романа.
Марк осторожно спускался с Авентинского холма. Город был полон разбойников, всегда готовых напасть на зазевавшихся прохожих. Марк был осторожен. Его реакция была молниеносной, а кинжал острым. Он не боялся нападений и даже был бы рад им. Хорошая кровавая драка могла бы заставить его забыть о том разочаровании, которое осталось в нем, после того как отец высказал ему свои надежды и ожидания. Откуда у отца это неожиданное презрение к деньгам, если он сам жизнь посвятил тому, чтобы скопить богатства? Марк даже рассмеялся во весь голос. Он, по крайней мере, в своих стремлениях к богатству честен. Он не делает вид, что презирает то, что обеспечивает ему желанный образ жизни.
По мере того как Марк приближался к транспортной дороге, звук катящихся по камням колес становился все громче. Тележки и повозки, нагруженные самым разным товаром, катились по городу, создавая оглушительный шум, который зачастую был громче шума битвы. Марку следовало бы выйти из дома пораньше, еще до того, как колесные повозки стали впускать в Рим.
Марк прошел через аллеи и двинулся по извилистым улицам, пытаясь оставаться в стороне от транспортных дорог. Он старался держаться ближе к стенам, чтобы не попасть под струю помоев, которые то и дело выливали из верхних окон. Переходя через главную улицу, он увидел опрокинутую двуколку. Рядом валялись вывалившиеся из нее винные бочки. Люди кричали, кони ржали. Греческий возница замахнулся кнутом на кого–то, кто уже пытался укатить одну из этих бочек. Двое людей стали драться прямо на улице.
Марк вздрогнул, услышав над самым ухом пронзительный крик уличного торговца, несущего кувшин с вином, корзину с хлебом, а на плече еще и свиной окорок. Выругавшись, он оттолкнул торговца в сторону и пошел сквозь толпу. Он направлялся к Тибрскому мосту. Вонь от испражнений была невыносимой. Слава богам, ему хватило сил пройти через это место, затаив дыхание, после чего он вышел туда, где воздух был почище. Возможно, следует вложить средства в землю к югу от Капуи. Город разрастался, и цены росли.
Перейдя через мост, Марк направился к югу, в сторону садов Юлия. Дом Антигона находился недалеко, а прогулка доставляла ему удовольствие.
Дверь открыл чернокожий раб. Это был эфиоп почти двухметрового роста и атлетического сложения. Марк оглядел его с головы до ног и решил, что это, наверное, новое приобретение Антигона. Антигон как–то говорил, что хочет приобрести в качестве телохранителя хорошо обученного гладиатора. Марк тогда подумал, что это напрасная трата денег, потому что жизни молодого аристократа вряд ли что–нибудь угрожает.
— Марк Люциан Валериан, — сказал Марк рабу.
Раб низко поклонился и повел его в большой зал рядом с атриумом.
В тускло освещенном помещении царила явно унылая атмосфера. Два ладно сложенных молодых человека, одетых в набедренные повязки и венки из лавровых листьев, играли на свирели и лире какую–то грустную мелодию. Друзья Антигона переговаривались тихими голосами. Некоторые, развалившись на кушетках, ели и пили. Патроб занял один из диванов, рядом с ним стояло блюдо с какими–то лакомствами. Марк не увидел жены сенатора, Фаннии, и подумал, не уехала ли она в свое загородное имение, как и собиралась.
Он отыскал глазами Антигона, который лежал на диване и наслаждался ласками прекрасной юной нумидийской рабыни. Марк подошел поближе. Скрестив руки на груди, он прислонился плечом к мраморной колонне и, скривив губы в ухмылке, несколько секунд смотрел на друга и его рабыню.
— Да-а, Антигон, когда мы расстались с тобой сегодня днем, ты уже подумывал о том, не отправиться ли тебе по реке Стикс в царство мертвых. А теперь, я вижу, ты уже поклоняешься Эросу.
Антигон открыл глаза и попытался сосредоточиться. Приподнявшись, он слегка оттолкнул рабыню, давая ей понять, что ей следует уйти, и, шатаясь, встал — было видно, что он уже успел изрядно напиться.
— С какой вестью ты ко мне пришел, дорогой Марк, — с траурной или праздничной?
— Ну, конечно, с праздничной. Я же дал тебе слово, разве не так? В течение недели у тебя будет все, что тебе нужно.
Антигон издал глубокий вздох облегчения.
— Слава богам за их щедрость, — обратив внимание на ироничный взгляд Марка, юный аристократ тут же поспешил добавить, — и, конечно же, твоей семье. — Он хлопнул в ладоши, заставив нескольких гостей пробудиться от полудремы. — Прекратите играть эти траурные мелодии, сыграйте–ка что–нибудь поживее! — Затем он нетерпеливо приказал одному из рабов: — Принеси нам еще вина и еды.
Антигон с Марком сели и стали обсуждать свои планы относительно зрелищ, которые Антигон собирался проводить во славу императора.
— Чтобы заинтересовать нашего благородного Веспасиана, нам нужно придумать что–то новое и привлекательное, — сказал Антигон. — Скажем, тигры. Ты говорил, что на днях вернулся один из ваших караванов.
У Марка не было никакого желания продавать Антигону тигров, после чего возмещать свои убытки за счет семейной казны. Дара в шесть миллионов сестерциев вполне достаточно и без всяких диковинных животных.
— Думаю, народу было бы интереснее посмотреть театрализованное воспроизведение какой–нибудь успешной битвы в иудейской войне.
— Да, я слышал, что Иерусалим разрушен, — сказал Антигон. — Пять месяцев осады, которые уничтожили город и несколько тысяч наших воинов. Но, наверное, это стоило того, если в результате эта глупая нация перестала существовать. — Он щелкнул пальцами, и к нему поспешил раб с блюдом, наполненным фруктами. Антигон взял финик. — Тит пригнал в Кесарию девяносто тысяч пленных.
— Значит, Иудея окончательно покорена?
— Покорена?! Ха! Пока на земле жив хотя бы один иудей, волнения обеспечены, и мира от них не жди!
— Сила Рима в его терпимости, Антигон. Мы ведь позволяем нашим народам поклоняться тем богам, которых они сами себе выбирают.
— Но при этом они должны славить императора. А иудеи? Вся эта заваруха началась еще и потому, что они отказались поклоняться в своем храме нашему императору. Видите ли, жертвы иноземцев оскверняют их священное место. Вот и нет у них теперь никакого священного места, — он довольно засмеялся и отправил в рот финик.
Марк взял кубок с вином, предложенный ему рабом.
— Наверное, теперь они оставят свою никчемную веру.
— Кто–то, наверное, оставит, но те, которые называют себя праведными, никогда не угомонятся. Эти глупцы поклоняются какому–то Богу, Которого они не видят, и даже идут на смерть, не желая склонить головы перед единственным истинным божеством — императором.
Лежа на своем диване, Патроб повернулся к ним.
— Они хотя бы поинтереснее этих трусливых христиан. Натрави иудея на кого угодно и увидишь, как яростно он будет драться, а выведешь на арену христианина, так он опустится на колени, начнет что–то там петь своему невидимому Богу, да так и умрет, даже пальцем не пошевелив, чтобы хотя бы защититься, — он взял с блюда еще какое–то яство. — Они меня просто раздражают.
Марк хорошо помнил сотни христиан, которых Нерон приказал казнить. Он даже приказал залить некоторых из них смолой и поджечь, чтобы те служили факелами на игрищах. Когда император объявил, что именно христиане виновны в пожаре Рима, потому что они таким образом, дескать, хотели доказать истинность их пророчества о том, что весь мир погибнет в огне, толпа стала жаждать крови христиан. Но толпа тогда еще не догадывалась, что Нерон просто хотел построить новый город и назвать его своим именем.
Видя, как эти мужчины и женщины погибают, не оказывая никакого сопротивления, Марк испытывал какое–то смутное чувство беспокойства, смятения, которое не давало ему покоя. Патроб назвал их трусами, но Марк не был согласен с такой оценкой. Трус убежал бы от разъяренного льва, а не стоял бы к нему лицом. Антигон нагнулся к Марку и прошептал, улыбаясь:
— Аррия идет.
Аррия вместе с двумя другими молодыми женщинами, смеясь, появилась из глубины сада. Белая стола элегантно облегала ее стройное тело, а ее тонкую талию обвивал широкий пояс, украшенный золотом и драгоценностями и сделанный на манер того пояса, который она видела у одного из гладиаторов на арене. Она осветлила свои темные волосы специальной батавской пеной, и теперь светлые локоны были причудливо убраны на ее гордой голове. Мелкие завитки окаймляли ее нежное лицо. Марк слегка улыбнулся. Чистота и хрупкая женственность. Сколько мужчин потеряло голову из–за этого светлого образа?
Аррия посмотрела вокруг, пока ее взгляд не остановился на Марке. Она улыбнулась. Он прекрасно знал этот взгляд, но уже не реагировал на него с такой страстью, как в начале их романа. И хотя он улыбнулся ей в ответ, больше всего ему сейчас хотелось, чтобы она исчезла. То чувство свободы, которое он испытывал мгновением раньше, испарилось, как только она вошла.
— Марк, наш верный друг, — сказала она своим сладким голосом, сев рядом с ним, — мы услышали в саду, что музыка стала совсем другой. Я так поняла, что ты спас нашего дорогого Антигона от денежного краха.
Удивившись ее язвительному тону, Марк взял ее маленькую белую руку и поцеловал. Ее пальцы были холодными и подрагивали. Что–то было не так.
— Только на время, — сказал Марк, — пока он не сможет занять место в сенате и не начнет пользоваться общественной казной.
Ее взгляд стал каким–то мечтательным.
— Вечерний воздух так освежает, Марк.
— О, да, как бы то ни было, наслаждайся им, пока можешь, — сказал Антигон, скривив губы в усмешке. Только сегодня днем, в банях, до него дошли слухи об Аррии. — Марк, почему мир устроен так, что, если страсть женщины к какому–то мужчине становится сильнее, его страсть к ней ослабевает? — Всем, кроме самой Аррии, было очевидно, что Марк просто устал от нее.
Марк встал и взял Аррию за руку. Они пошли в сад по мраморной дорожке, освещенной лунным светом. Нет, Марк не станет недооценивать Аррию. Ее непросто сбросить со счетов. Его роман с ней длился дольше, чем с другими женщинами. И он знал, что дело здесь не столько в его силе, сколько в его натуре. Хотя он с самого начала потерял из–за нее голову, он никогда не шел у нее на поводу, к чему юная Аррия была совсем не приучена.
— Ты видел самую последнюю статую Антигона? — спросила она. — Афродиту? — Хотя Антигон был полностью удовлетворен работой своих греческих мастеров, Марка это произведение совершенно не трогало. Он очень сомневался, что это приторное творение принесет Антигону реальную пользу. Отец был прав в своей оценке произведений искусства, которыми располагал Антигон. Единственное, чего они заслуживали, так это насмешек.
— На этот раз, любовь моя, это не боги. Мне кажется, эта работа — лучшее из всего, что он сделал. Он мог бы с ней прославиться, а он спрятал ее от всех. Сегодня вечером он мне ее показал, но больше ее еще никто не видел. — Аррия повела Марка в дальний угол сада. — Вон там, за деревьями.
Среди цветов, возле высокой мраморной стены, находилась статуя мужчины, стоящего рядом с прекрасной молодой женщиной с длинными вьющимися волосами. Ее голова была наклонена набок, глаза опущены. Руки мужчины лежали на ее плечах и бедрах. Скульптор вложил в эти руки столько силы, что казалось, будто мужчина собирается повернуть женщину к себе и обнять. Ее юное хрупкое тело выражало сопротивление и невинность. В то же время, и в этой женщине чувствовалась страсть. Ее глаз не было видно, а губы, казалось, жадно хватали воздух. Сам конфликт заключался не столько в действиях мужчины, сколько в ней самой.
— Посмотри на лицо мужчины, — сказала Аррия, — Сколько в нем желания и разочарования. Она как будто движется, правда? — Аррия зачарованно смотрела на скульптуру.
Удивленный тем, что в коллекции Антигона оказалось что–то, достойное внимания, Марк стоял и бесстрастно изучал скульптуру. Оценка Аррии была точной. Это произведение было достойно высокой оценки. Однако он понимал — что бы он сейчас ни сказал, об этом узнает Антигон, и это лишь будет способствовать повышению цены, если скульптуру собираются выставить на продажу. Оглядев четкие, совершенные линии белого мрамора, Марк с подчеркнутым равнодушием произнес:
— Да, это получше, чем все остальные его скульптуры.
— Да у тебя что, глаз нет, Марк?
— Я просто думаю, что за эту скульптуру он получит больше прибыли, чем за весь тот мусор, который он продает, — сказал Марк. Если бы это произведение стояло у него в саду, он, возможно, отозвался бы о нем по–другому, но теперь его совершенно не волновало мастерство скульпторов, создающих каменных богов и богинь для украшения садов богатых римлян.
— Мусор! Это же произведение искусства, и ты это прекрасно знаешь.
— Я видел десятки других точно таких же скульптур в половине садов знатных горожан.
— Только не такую.
Да, Марк должен был признаться в том, что она права. Женщина выглядела такой живой, что ему показалось, — она вздрогнет едва он прикоснется к ней.
Аррия скривила губы.
— Антигон сказал, что мужчина рядом с ней был изваян ради приличия.
Марк громко рассмеялся.
— С каких это пор Антигон стал так заботиться о благопристойности или о приличии?
— В такой ответственный момент своей политической карьеры он не хочет обижать традиционалистов, — сказала Аррия. — Тебе она нравится, не так ли? Я могу судить об этом по скрытому блеску твоих глаз. У тебя есть какие–нибудь статуи Антигона?
— Вряд ли. Его мастера следуют традиционным взглядам, а тучные женщины никогда не были в моем вкусе.
— А у Антигона нигде и нет тучных женщин, Марк. Они пышные. Уж тебе ли не понимать эту разницу, — она подняла на него глаза. — Вот Фанния действительно тучная.
Эта маленькая Аррия тоже услышала о его кратковременном романе с женой сенатора. Ему не понравилось выражение ее глаз.
— Чрезвычайно объемная — вот лучшее определение для нее, Аррия. И гораздо более точное.
Ее темные глаза блеснули в темноте.
— Она похожа на перекормленную свинью!
— Аррия, дорогая моя, очень жаль, что ты веришь всему, что вокруг говорят.
Щеки у Аррии покраснели.
— Слухи, как правило, просто так не возникают.
— Тебя не удивляет, что ты знаешь обо мне гораздо больше, чем я сам о себе?
— Не смейся надо мной, Марк. Я знаю, что это правда. Фанния была здесь и всем хвасталась.
— О, боги, — сказал он, теряя терпение. — И что ты сделала? Устроила ей допрос в присутствии Патроба? — Марк уже знал, что именно в такие моменты женщины способны на самые непредсказуемые шаги.
— Патроб так был увлечен гусиной печенью, что ничего вокруг себя не слышал.
— Он не обращал внимания на Фаннию. Вот в чем ее проблема.
— И это одна из причин того, почему она уступила твоим домогательствам. Так ведь? Не сомневаюсь, что ты мне сейчас скажешь, будто встретился с ней в садах Юлия только из жалости к ее незавидному положению.
— Не кричи так громко! — Марк не испытывал никаких желаний по отношению к Фаннии. Она сама подошла к нему во время зрелищ. Только после этого он встретился с ней в саду и провел с ней длинный и страстный день.
— Она свинья.
Марк оскалил зубы.
— А ты, моя дорогая Аррия, зануда.
Удивленная такой неожиданной реакцией, Аррия на мгновение застыла, после чего попыталась ударить его. Марк без труда схватил ее за руки и засмеялся, глядя, как она теряет терпение.
— Я зануда, да? — на глазах у нее выступили слезы, отчего она стала выглядеть еще более злой. — А ты неверная собака!
— Ну-у, радость моя, ты ведь мне тоже не всегда была верна. Тот гладиатор, например. Помнишь? Ты тогда мне так ничего и не сказала.
— Я хотела, чтобы ты меня приревновал!
Ей было приятно осознавать, что при упоминании каких–либо подробностей ее встречи с тем гладиатором Марк приходил в ярость. Он отпустил ее, испытав отвращение от ее выходки и своей вспыльчивости.
Аррия закусила губу и с минуту смотрела на него.
— Что с нами происходит, Марк? Ведь было время, когда ты не мог жить без меня. — А теперь она не могла жить без него.
Марк хотел было сказать правду, но потом решил, что будет лучше поиграть на ее тщеславии.
— Ты как богиня Диана. Ты обожаешь охоту. Вот и поймала меня когда–то.
Она поняла, что он пытается ее успокоить.
— Но тебя больше нет со мной, Марк, разве не так? — тихо сказала она, чувствуя острую боль потери. Глаза ее наполнились слезами. Она не пыталась их сдерживать. Может быть, эти слезы смягчат его, как это было с другими. — Я думала, что значу для тебя что–то.
— Это действительно так, — сказал он, обняв ее. Затем он приподнял ее подбородок и поцеловал. Она отвернулась, и он почувствовал ее трепет. Он повернул ее лицо к себе и снова поцеловал, чувствуя, что она уже не так сильно сопротивляется.
— Я всегда восхищался тобой, Аррия. Твоей красотой, твоей страстью, твоим духом свободы. Ты хочешь радоваться жизни, и эта радость должна быть именно такой. Ты хочешь испытать все. И я тоже.
— Марк, ты единственный мужчина, которого я люблю.
Он засмеялся. Он просто не мог сдержать смеха.
Аррия вырвалась из его объятий и уставилась на него, при этом ее слезы моментально просохли.
— Как ты можешь смеяться, когда я говорю, что люблю тебя?
— Потому что ты так мило и сладко лжешь. Как же быстро ты забыла Аристобула, Сосипатра, Хузу и еще кое–кого? Даже бедного Фада. Я думаю, ты просто хотела посмотреть, сможешь ли обставить его на том гладиаторе, на которого он ставил. Тогда многие делали ставки. Когда ты, наконец, победила, заставив его влюбиться в тебя, многие теряли едва ли не состояния.
Скривив рот, Аррия села на скамью, скрестив ноги. С раздражением глядя на Марка, она сказала:
— А как же Фанния, Марк? У меня тоже есть причины быть недовольной. Она лет на десять старше меня, и не такая красивая.
— И не такая опытная.
Она подняла голову.
— Значит, она не доставила тебе особой радости?
— А это уже не твое дело.
Она сжала губы.
— Ты снова с ней встречаешься?
— И это тебя не касается.
Ее темные глаза снова сверкнули.
— Это нечестно, Марк. Я говорю тебе все.
— Потому что ты неосмотрительна, — его губы скривились в ухмылке, — и жестока.
Ее знойные глаза округлились.
— Жестока? — произнесла она невинным голосом. — Как ты можешь обвинять меня в жестокости, когда я с самого начала не сделала тебе ничего плохого?
— Когда мужчина думает о женщине, в которую влюблен, он не хочет ничего знать о ее любовных похождениях с другими.
— А ты любил меня? — она встала и подошла к нему. — Я обидела тебя чем–нибудь, Марк? В самом деле, обидела?
Он увидел удовлетворение в ее глазах.
— Нет, — откровенно сказал он, наблюдая за ее реакцией. Порой она приводила его в бешенство. Часто выводила его из терпения. Да, она оставила след в его сердце. Но в этом она не была одинока. Он никогда и ни к кому не испытывал всепоглощающей страсти.
Она провела ногтем по его подбородку.
— Так ты не любишь меня?
— Ты для меня приятное развлечение, — видя, как ей неприятны эти слова, Марк наклонился и посмотрел на нее в упор. — А иногда и не только развлечение.
Она посмотрела на него с тревогой.
— Ты когда–нибудь любил меня, Марк?
Он слегка провел пальцем по ее гладкой щеке, совершенно не желая говорить о любви.
— Наверное, я вообще не способен на это, — с этими словами он медленно поцеловал ее. Как это все было ему знакомо!
Вероятно, именно это и было препятствием в их отношениях. С его стороны не было никакой страсти. Прикосновение гладкой кожи Аррии, запах ее волос, вкус ее губ совершенно не сводили его с ума. Даже разговор с ней становился каким–то скучным, неинтересным. Аррия хотела говорить только о себе самой. Все остальное было не более чем уловкой.
— Я не готова к тому, чтобы расстаться с тобой, — сказала она, затаив дыхание и откидывая голову назад.
— Я и не призываю тебя к этому.
— Я знаю тебя лучше, чем Фанния.
— Может, ты забудешь о Фаннии?
— А ты? О Марк, никто не испытал такого наслаждения, как я, — ее руки обвили его шею. — Сегодня я была в храме Астарты, и жрица разрешила мне посмотреть, что она делает с одним из поклоняющихся. Хочешь, я покажу, что она делала, Марк? Хочешь?
Возбужденный, но в то же время испытывающий необъяснимое отвращение, Марк отстранил ее от себя.
— В другой раз, Аррия. Здесь неподходящее место. — Его занимали совсем другие мысли. Из дома доносился смех. Музыканты играли веселые мелодии. В этот вечер он хотел предаться вину, а не женщинам.
Ария выглядела разочарованной, но Марк изо всех сил старался не думать о ней.
Свет факелов освещал статую. Наблюдая за Марком, Аррия пыталась сдержать свои бурные эмоции. Она сжала губы, заметив, что Марк изучает скульптуру, изображающую молодых влюбленных, с гораздо большим интересом, чем ее. Ей так хотелось, чтобы он говорил с ней и упрашивал ее так, как это когда–то делал Хуза.
Но Марк — не Хуза, и она не хотела его терять. Он был богат, красив, и в нем было что–то еще — неугомонность, страсть, — что притягивало ее к нему.
Подавив свою гордость, она взяла его руку в свою.
— А тебе ведь нравится эта статуя, признайся. Она действительно хороша. Не думаю, что Антигон расстанется с ней. Он влюблен в них.
— Посмотрим, — сказал Марк.
Они вернулись в дом, где продолжалось веселье. Пребывая в задумчивости, Марк опустился на диван рядом с Антигоном. Вино текло рекой, говорили о политике. Скучающая Аррия рассказала, что Марку очень понравилась статуя, изображающая влюбленных. Антигон высоко поднял брови, после чего переменил тему. Марк говорил о будущих финансовых расходах, жалуясь на то, сколько средств необходимо будет направить на организацию зрелищ для толпы, праздников для аристократии, другие мероприятия, находящиеся в ведении политиков. Антигон вскоре повял, что нужно проявить щедрость со своей стороны.
— Эта статуя в концу следующей недели будет стоять в саду Валериана, — великодушно предложил он.
Марк знал Антигона не первый год. Антигон быстро забывал свои обещания, когда был пьян. Слегка улыбаясь, Марк налил себе и Антигону еще вина.
— Я позабочусь обо всем, — сказал он и подозвал одного из рабов.
Когда Марк отдавал приказ о том, чтобы перевезти статую в сад Валериана в течение часа, Антигон пребывал в недоумении.
— Какой ты щедрый, Антигон, — заметила Аррия, — особенно к Марку, который вообще не понимает толку в истинной красоте.
Лениво откинувшись назад, Марк насмешливо улыбнулся, глядя на нее.
— Истинная красота — это редкость, и ее редко ценит тот, кто ею обладает.
Почувствовав прилив гнева, Аррия грациозно встала. Улыбнувшись, она положила свою руку, изящно украшенную драгоценностями, на плечо Антигона.
— Будь осторожен, дорогой друг, иначе окажешься жертвой плебейских амбиций.
Антигон посмотрел, как она уходит, после чего с усмешкой обратился к Марку:
— Аррия услышала о твоих похождениях с Фаннией.
— Одна женщина — это наслаждение, две женщины — это уже проклятие, — сказал Марк и вернулся снова к разговорам о политике и, в конечном счете, к составлению договоров. Он тоже мог бы воспользоваться тем обстоятельством, что Антигон становился сенатором. К восходу солнца у него уже были все гарантии того, что о нем скоро заговорят как о строителе Рима, а его сундуки будут наполнены золотыми монетами.
Он достигнет своей цели. Еще до того как ему исполнится двадцать пять лет, он станет богаче и выше по положению, чем отец.
5
Хадасса стояла среди множества других иудейских мужчин и женщин, а богато одетые ефесские работорговцы проходили между ними, выискивая товар поздоровее. Пока пленные шли с колонной Тита, их как–то охраняли, но после того как он отправился в Александрию, они были отданы на откуп работорговцам, накинувшимся на них, словно стервятники на падаль.
Семьсот самых крепких и ладных мужчин отправились вместе с Титом на юг, в Египет, глядя на развалины Иерусалима. Оттуда их повезут в Рим. Тит покажет этих пленных всему Риму во время триумфального марша, после чего те начнут в качестве гладиаторов выходить на арену.
Одна женщина закричала, когда римский стражник стал срывать с нее и без того изорванную тунику, чтобы работорговец мог ее как следует рассмотреть. Когда пленница попыталась прикрыться руками, стражник ударил ее. Сотрясаясь от плача, она стояла под пристальными взглядами двух мужчин.
— Эта и сестерция не стоит, разочарованно сказал работорговец и проследовал дальше. Стражник бросил женщине ее жалкое тряпье.
Самые красивые женщины уже побывали в руках римских офицеров, и теперь их продавали в тех городах, через которые гнали пленников. Оставшаяся колонна представляла собой довольно разношерстную толпу: большинство составляли старые женщины и дети, а также молодые девушки, которые были настолько непривлекательны, что на них едва обращали внимание даже римские воины. Но все же, несмотря на свою непривлекательность, у этих людей было одно преимущество. Они выжили, несмотря на месяцы изматывающих переходов и лишений. В каждом городе, через который проходил Тит, проводились зрелища, и тысячи пленников погибали. Эти же оставались в живых.
Когда Тит взял иродианскую царевну Веренику в свой двор, блеснул слабый свет надежды на то, что пленников минует страшная участь жертв зрелищ. Они молились о том, чтобы Вереника освободила их, как когда–то это сделала со своим народом царица Есфирь. Однако любовь Тита к юной и прекрасной царевне не принесла освобождения ее народу. Арены Кесарии Филипповой, Птолемея, Тира, Сидона, Верита и Антиохии жаждали крови иудеев. Из тысяч живших в Иерусалиме уцелело лишь несколько изможденных женщин. Хадасса страдала так же, как и другие. Смерть преследовала пленников по пятам, приходя к ним в виде жары, пыли, голода болезней и празднований римлянами победы. Когда легионы Тита и пленники дошли до Антиохии, от тех, кого силой угнали из Священного города, в живых осталось меньше половины.
Жители Антиохии вышли на улицы, чтобы приветствовать Тита как бога. Восторженные женщины следовали за красивым сыном императора, от них не отставали и дети. С недавних пор свободные иудеи Антиохии враждовали между собой, возбуждая тем самым ненависть сирийцев. Когда пленники проходили по улицам города, в них — в том числе и в Хадассу — летели камни, а сирийцы кричали им вслед оскорбления и требовали их смерти. Римские стражники в конце концов сумели оттеснить нападавших. По городу поползли слухи, будто сирийцы призывают Тита присоединить к этим пленным и свободных иудеев, живущих в этом городе, но Тит отказался это делать, и его даже стали раздражать эти прекращающиеся требования. В конце концов, что он будет делать с новыми пленниками? Страна иудеев разрушена, их Священный город лежит в развалинах, а у него уже достаточно пленных, необходимых для зрелищ в Риме. Кому нужны еще и эти?
Сирийцы требовали, чтобы бронзовые скрижали, на которых написаны привилегии иудеев, также исчезли из Антиохии, но Тит не стал делать и этого. Он даже совершил решительный шаг в противоположном направлении и, по причинам, известным только ему самому, провозгласил, что свободные иудеи Антиохии должны и дальше пользоваться всеми привилегиями, которые у них были до сих пор. Если этого не будет, сирийцам придется держать ответ перед Римом.
И если жизнь антиохийских иудеев была таким образом спасена, над жизнью изможденных пленников все больше нависала угроза. Решив избежать в будущем каких бы то ни было конфликтов в римских провинциях Иудеи, Тит задумал рассеять оставшихся в живых пленников по всем другим странам Римской империи. На крепких и работящих рабов спрос был всегда, на рынках их раскупали в больших количествах, грузили на корабли и увозили во все концы империи.
Одних иудеев отправляли в чрева сотен кораблей, где они проводили остаток своих дней, сидя за веслами. Других посылали в Галлию рубить деревья и поставлять лес для растущих римских городов. В огромном количестве их угоняли в Испанию, где они пасли скот или трудились на серебряных рудниках. Сотни других отправлялись в Грецию, чтобы работать на мраморных каменоломнях. Самых непокорных и гордых продавали их вековым врагам, египтянам. Они умирали от непосильного труда, когда грузили на баржи песок, — тот самый песок, который везли на арены империи, где он впитывал в себя кровь иудеев, потешающих римскую толпу.
Лучших пленных продали, остались самые слабые и непривлекательные. Среди последних нескольких сотен оказалась и Хадасса. Тому работорговцу, который теперь их осматривал, были нужны ткачи, полевые работники, работники по дому и проститутки. Сложив перед собой руки, Хадасса молилась Богу о том, чтобы Он, наконец, избавил ее от всех страданий.
— А как насчет этой? — спросил римский воин, указав на женщину из их ряда.
Смуглый ефесянин презрительно посмотрел на нее.
— Отвратительнее видеть не приходилось, — он двинулся дальше, продолжая пренебрежительным тоном оценивать женщин, которые остались в этой колонне. — Не забывай, я ведь покупаю рабынь для служения жрицами в храм Артемиды. Они должны быть красивыми.
Когда он подошел к Хадассе, ее сердце бешено заколотилось. Господи, пусть он пройдет мимо. Сделай меня невидимой. Лучше убирать нечистоты, чем служить какой–то языческой богине.
Работорговец остановился напротив нее. Хадасса уставилась на его сандалии из тонкой кожи с разноцветными застежками. Дорогое полотно его одежды было голубым и чистым. Работорговец продолжал рассматривать ее, и она почувствовала, что покрывается холодным потом и что у нее свело живот от страха.
— А вот эта, может, подойдет, — сказал вдруг покупатель. Он взял Хадассу за подбородок и приподнял ей голову. Она посмотрела ему в глаза и едва не лишилась чувств.
— Слишком молода, — сказал воин.
— Как это она еще уцелела? — покупатель повернул ее лицо вправо и влево. — Ну–ка, девочка, посмотрим твои зубки. Открой рот. — У Хадассы задрожал подбородок, когда она подчинилась. — Зубы хорошие.
— Уж больно тощая, — сказал римлянин.
Покупатель снова приподнял ей голову и внимательно ее рассмотрел.
— Покормим как следует, и все будет в порядке.
— Да она страшная такая.
Покупатель повернулся к воину и улыбнулся.
— Уж не настолько страшная, чтобы ты ею совсем не заинтересовался. Признайся, она уже побывала в твоих руках?
Оскорбленный такими словами, воин ответил обиженным тоном:
— Да я вообще до нее пальцем не дотронулся.
— Что ж так?
— А она одна из праведных.
Покупатель расхохотался.
— Одна из праведных, — тут он повернулся к ней и продолжил с презрительной усмешкой, — тогда тем более нужно ее купить. Половина мужчин в Ефесе полжизни отдадут только за то, чтобы иметь доступ к праведной иудейке. — Он снова посмотрел на Хадассу, его полные губы скривились в улыбке, от которой ей снова стало не по себе.
Воин усмехнулся.
— Мне–то что, если я получу тридцать кусков серебра за девчонку, которая сдохнет еще до того, как вы доберетесь до Ефеса?
— А по мне, так она достаточно крепка, раз прошла такой путь. Не думаю, что она умрет от страха перед тем, что ей придется делать в храме.
— Готов поспорить на свой рацион соли, она покончит с собой еще до того, как вы достигнете Ефеса.
— Зачем ей это нужно?
— Вы не знаете иудеев. Эта скорее умрет, чем будет служить тому, кого она называет языческим богом, — он схватил Хадассу за тунику и притянул ее к себе, — впрочем, дело твое. Бери ее. Мне только забот меньше.
Хадасса похолодела, когда работорговец снова посмотрел на нее. Ее спина покрылась холодным потом. В лицо девушке ударила краска, и она покачнулась. Рука воина, крепко державшая ее за тунику, не дала ей упасть, а ефесянин продолжал ее осматривать.
Наконец, сощурив в задумчивости глаза, покупатель сказал:
— Пожалуй, ты прав. Того и гляди, она уже сейчас умрет, — он презрительно щелкнул пальцами и пошел дальше. — Ох уж эти ненормальные иудеи. Лучше пойду, посмотрю египтянок.
Молодой воин отпустил девушку и пошел было за покупателем. Хадасса импульсивно схватила его за руку.
— Да благословит тебя Бог за твою милость, — сказала она и поцеловала руку воина.
Он отдернул руку.
— Ты меня уже благодарила один раз. Помнишь? Я дал тебе зерна, а ты… — он усмехнулся. — Я все время смотрю, как ты молишься. Миля за милей, месяц за месяцем. Что толку–то тебе от этого?
Ее глаза наполнились слезами.
— Что толку? — спросил он, на этот раз уже сердито, очевидно, желая услышать от нее ответ.
— Еще не знаю.
Он слегка нахмурился, внимательно глядя ей в глаза.
— Ты ведь по–прежнему веришь? Ненормальная. Все вы какие–то сумасшедшие. — Он уже повернулся, но потом снова оглянулся, лицо его было суровым, холодным. — Не оказал я тебе никакой милости. К рабыням в храме очень хорошо относятся. Особенно к жрицам любви. Ты еще когда–нибудь проклянешь меня.
— Никогда.
— Вернись в строй.
— Я никогда тебя не прокляну, — сказала она и повиновалась ему.
Работорговец купил десять женщин и уехал. На следующий день приехал греческий работорговец. Хадассу взяли в качестве рабыни для работы по дому. Связав с десятью другими женщинами, ее повели по улицам Антиохии. Маленькие смуглые мальчишки бежали рядом, швыряли в них навозом и обзывали их унизительными словами. Одна иудейка огрызнулась на них, после чего вместо навоза в женщин полетели камни. Стражники отогнали мальчишек, а потом раздели и избили ту женщину. Чтобы окончательно унизить ее, они заставили ее остаток пути идти обнаженной.
Взору Хадассы предстали корабельные мачты, а в лицо ей подул Морской ветер, навеяв воспоминания о родной Галилее, об отце, матери, брате и сестренке. Ослепленная накатившими на глаза слезами, она споткнулась, когда вместе с остальными женщинами стала подниматься на борт по трапу.
Затем Хадасса спустилась по крутым ступенькам и пошла по узкому проходу между рядами потных рабов, сидевших за веслами. Чернокожие эфиопы, голубоглазые британцы, темноволосые галлы равнодушно смотрели на нее, когда она проходила мимо них. По второму трапу женщины спустились в трюм. В нос ударил смрад от испражнений, мочи, пота и рвоты.
Спускаясь, Хадасса увидела какие–то движущиеся фигуры. Привыкнув к темноте, она поняла, что это отдыхающая смена рабов, сидящих за веслами. «Женщины», — произнес кто–то из рабов по–гречески, и по тону, каким это слово было произнесено, можно было судить, сколько лет этот раб не видел ни одной женщины.
С женщин сняли веревки, и клеть над ними закрылась. Щелкнули засовы. В течение последующих секунд кто–то схватил обнаженную женщину, ее крик быстро утих, и ему на смену пришли другие ужасные звуки. Хадасса отползла в сторону, шатаясь уберечься от той страшной возни, которая началась в темноте. Между двумя мужчинами завязалась драка. Крики и шум напоминали рычащую преисподнюю, и Хадасса в диком ужасе спряталась в самом дальнем и темном углу трюма.
В конце концов драка утихла, и Хадасса услышала женские истерические рыдания. Потом кто–то пнул женщину ногой и приказал замолчать, и она медленно, ползком двинулась вдоль дощатой обшивки, в поисках места. Когда она оказалась поблизости, Хадасса протянула к ней руку и дотронулась до нее. Женщина вздрогнула, и Хадасса тихо сказала ей: «Здесь, рядом со мной, есть место».
Когда женщина придвинулась ближе, Хадасса увидела, как ее трясет. Ее трясло все сильнее. Хадасса почувствовала ее холодную и потную кожу. Она не могла найти слов, чтобы утешить эту женщину, хотя ей очень хотелось это сделать. Женщина снова заплакала, стараясь на этот раз заглушить свои рыдания, уткнувшись лицом в согнутые колени.
У Хадассы перехватило горло. Она сняла свою верхнюю одежду и отдала ее женщине, оставшись только в длинной серой тунике. «На, возьми», — мягко сказала она. Трясясь, женщина взяла одежду. Хадасса обняла женщину и прижала ее к себе, поглаживая по растрепанным волосам, как когда–то она гладила по волосам свою мать.
— Блаженна неплодная женщина, которая никогда не увидит, как ее дитя доживет до такого, — простонал кто–то в темноте.
Затем среди находившихся в трюме воцарилась тишина. Ее нарушали только скрип корабля, удары барабана, задающие ритм гребцам, да скольжение весел. Несколько раз в день клеть открывали и отдохнувших рабов гнали на палубу, за весла, а уставшие спускались вниз. Иногда раздавался резкий свист кнута, после чего все слышали крик боли того, кто оказывался не слишком проворен, работая веслом.
Дни сменялись ночами. Хадасса спала, просыпалась, когда щелкали засовы, открывалась клеть, после чего либо гребцы сменяли друг друга, либо в трюм приносили скудную еду. Некоторые не могли вынести качку, им становилось плохо; да и без этого в трюме было ужасно. Воздух был спертым и нездоровым. Хадасса с нетерпением ждала глотка чистого воздуха и вспоминала Галилею.
Когда корабль проходил вдоль Ликийского побережья, начался сильный шторм. Корабль бросало по волнам высоко вверх и глубоко вниз, а ветер стонал и завывал. Рабов охватила паника, все держались, кто за что мог, и взывали на десятке языков к десяткам своих богов, моля спасти их.
Ледяная вода проникала в трюм и плескалась там взад–вперед; туника Хадассы, державшейся за ребро корпуса корабля, промокла насквозь. Дрожа от холода, девушка стучала зубами и молча молилась среди крика остальных рабов. Корабль подбрасывало на волнах так высоко, что казалось, будто он уже парит над водой. После этого он так стремительно устремлялся вниз, что вместе с ним и все внутри Хадассы, казалось, тоже летело вниз. Корабль с силой ударялся о воду, и его сотрясало так, что казалось, будто он вот–вот расколется пополам.
— Мы погибнем здесь! Выпустите нас!
Когда вода в очередной раз лилась с палубы в трюм, мужчины в страхе цеплялись за клеть. «Выпустите нас! Выпустите нас!» В тот момент, когда корабль очередной раз устремился вниз по волне, кто–то упал на Хадассу и сломал тот поручень, за который она держалась. Затем корабль снова приподняло, ее отбросило в сторону и она ударилась о какую–то балку. Рев бушующего моря походил на рык дикого зверя. Корабль пошел вниз, и Хадасса почувствовала, как вода в очередной раз окатывает ее с ног до головы. О Отец Небесный, помоги нам! Спаси нас, как Ты спас учеников в Галилейском море. Хадасса хотела ухватиться за поручень, но не нашла его. Затем что–то сильно ударило ее по голове, и она застонала. В глазах все потемнело, и она словно куда–то провалилась.
* * *
Очнулась она от ритмичного стука барабана и плеска весел. Шум моря и плеск легких волн действовали на нее успокаивающе. Ей казалось, что она спала. Голова болела, туника промокла насквозь, волосы тоже. В трюме было полно морской воды. Два раба черпали ее кожаными мехами и выносили наверх.
Рядом с ней сидела какая–то женщина, которая дотронулась рукой до ее брови.
— Как ты себя чувствуешь?
— Голова немного болит. Что случилось?
— Ты ударилась головой во время бури.
— А буря прошла?
— Да, давно. Гребцы уже сменились четыре раза, как она кончилась. Я слышала, как стражники сказали, что мы проплываем Родос. — Женщина достала какую–то грязную тряпку и протянула ее Хадассе. — Вот, я тут оставила тебе немного зерна.
— Спасибо, — сказала Хадасса и взяла сверток.
— Ты отдала мне свою тунику, — сказала женщина, и Хадасса теперь узнала ее.
Дни и ночи сливались в одно. В обстановке, в которой не было нормальной еды, никаких условий для личной жизни и вообще никаких человеческих условий, Хадасса становилась ближе к Богу. Отец говорил, что страдания воспитывают в человеке терпение, чтобы укрепить человека для того, что ждет его впереди. Хадассе не хотелось думать о том, что ждет ее впереди. Столько раз ей уже довелось избежать тяжелейшей участи. Сколько раз смерть только чудом проходила мимо.
Бог всевидящ, всесилен, вездесущ, и отец много раз уверял Хадассу в том, что все в этом мире делается для Божьего блага, во исполнение Его плана. И все же она не могла понять, в чем смысл страданий ее самой и всех тех, кто ее окружает. Как и она сама, эти женщины оказались в Иерусалиме в самое неподходящее время. Их схватили, как кроликов, затравленных охотничьими собаками. Что зилот, что римлянин — ей было все равно. Все они жестокие люди.
Многие друзья их семьи верили, что последние времена, о которых говорил Иисус, уже грядут, и что Господь вернется и будет править уже в их время. Некоторые из них настолько были убеждены в этом, что даже продавали все свое имущество и отдавали деньги церкви. После этого садились и ждали последних времен. Отец Хадассы не был из их числа. Он, как всегда, последовательно шел своим путем.
— Бог вернется в Свое время, Хадасса. Ученикам Он сказал, что придет как тать в ночи. И поэтому, я думаю, Его не нужно ждать. Мы просто знаем, что Он вернется. А когда, нам не следует знать.
Вне всякого сомнения, разрушение храма и уничтожение Иерусалима говорят о том, что конец мира совсем близко. Конечно, Господь вот–вот вернется. Ей так хотелось, чтобы Он вернулся. Ей так этого хотелось! И в то же время что–то внутри нее предостерегало ее от ожидания быстрого избавления от бед и страданий. «Бог не всегда вмешивается в нашу жизнь», — подумала она. И в Писании она читала, что Бог трудился через языческие народы, чтобы привести к Себе израильский народ.
— «Пойдем и возвратимся к Господу! — шептала женщина рядом, — ибо Он уязвил — и Он исцелит нас, поразил — и перевяжет наши раны; оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его».
Голос ее дрожал. Хадасса дождалась, когда женщина, цитирующая слова пророка Осии, сделает паузу.
— «Итак познаем, будем стремиться познать Господа; как утренняя заря — явление Его, и Он придет к нам как дождь, как поздний дождь оросит землю».
Женщина взяла Хадассу за руку.
— Почему только в минуты невзгод мы помним то, что поддерживало нас даже в свете? Я с самого детства никогда не задумывалась над этими словами пророка, а вот теперь, когда нам так тяжело, они стали для меня еще яснее, чем в те годы. — Она тихо заплакала. — Иона, должно быть, испытывал такое же отчаяние, находясь в чреве рыбы.
— Осия говорил здесь об Иешуа и о воскресении, — не задумавшись, сказала ей Хадасса.
Женщина подняла голову и уставилась на нее в темноте.
— Ты что, христианка? — слова звучали, как проклятие. Испугавшись, Хадасса ничего не ответила. Ей стало не по себе от той враждебности, которая внезапно пробудилась в этой женщине. Молчание, которое внезапно возникло между ними, казалось, стало крепче самой прочной стены. Хадасса хотела что–то сказать, но не находила слов.
— Как же ты можешь верить в то, что наш Мессия уже пришел? — зашипела на нее женщина. — Мы что, освободились от власти Рима? Или наш Бог уже правит на земле? — Тут она снова заплакала.
— Иешуа пришел, чтобы очистить нас, — прошептала Хадасса.
— Всю свою жизнь я жила по законам Моисея. Не говори мне об очищении, — сказала женщина, и на ее лице при этом отразились горечь и гнев. Она встала и пересела подальше от Хадассы. Еще долго она пристально смотрела на нее, но потом решительно отвернулась.
Хадасса уткнулась лицом в колени и стала бороться с нахлынувшим на нее отчаянием.
* * *
Когда корабль прибыл в Ефес, рабынь вывели на палубу и снова связали. Хадассу буквально опьянил первый за долгое время глоток свежего воздуха. После бесконечных дней и ночей в темном чреве корабля ей стоило немалого труда снова привыкнуть к яркому солнечному свету. Пристань напоминала пчелиный улей. Всюду работали люди, каждый занимался своим делом. Дочерна загорелые ступпаторы конопатили корабль, стоявший рядом с тем, на котором привезли Хадассу. Слева от корабля стояло еще одно римское судно. Сбурарии разгружали корабль, неся на плечах мешки с песком. Тяжело спускаясь вниз по доскам, они складывали груз на повозки, которые потом везли этот песок на ефесскую арену.
Другие работники, которых называли сакрарии, несли мешки с зерном и складывали их на весы. Мензоры взвешивали их и вели учетные записи. Один человек споткнулся, и в море полетел какой–то ящик. Чтобы достать его, в воду нырнул уринатор.
С самых разных кораблей на множестве языков раздавались приказы и распоряжения. Снова раздался щелчок плети, и один из стражников приказал женщинам спускаться на берег по доскам. Их повели по городской улице, уставленной торговыми лавками и наполненной шумом торговцев и покупателей. Многие останавливались и глазели на рабынь. Кто–то проходил мимо, бросая вслед: «Опять эти грязные, вонючие иудеи!».
Хадасса покраснела от стыда. В ее волосах завелись вши, туника была пропитана испражнениями и воняла. Какая–то гречанка, проходя мимо, плюнула на нее, и Хадасса закусила губу, чтобы не заплакать.
Их привели в бани. Какая–то женщина крепкого сложения грубыми движениями раздела ее и стала стричь. Страдающей от унижения Хадассе больше всего хотелось в этот момент умереть. Еще ужаснее было то, что эта женщина стала натирать ее какой–то отвратительно пахнущей мазью.
— Стой там, пока я не скажу тебе мыться, — лаконично сказала она Хадассе. Мазь жгла как огонь. После нескольких мучительных минут женщина приказала ей идти в следующую комнату. — Тщательно смой с себя все, не то мне снова придется тебя намазывать, — сказала женщина. Хадасса послушалась, радуясь тому, что теперь она, наконец, отмоется от всей грязи и нечистот, которые были на ней после такого долгого пути. Мазь уничтожила на ней всех паразитов.
Хадассу облили ледяной водой, после чего велели ей идти в бани.
Она вошла в просторное помещение, в котором находился огромный бассейн, выложенный белым и зеленым мрамором. Там стояла охрана, поэтому Хадасса поспешила нырнуть в воду, чтобы скрыть свою наготу. Стражник не обратил на нее никакого внимания.
Теплая вода смягчила жжение кожи. Хадасса никогда раньше не была в римских банях, поэтому смотрела на все с трепетом. Стены были покрыты фресками, которые показались Хадассе такими красивыми, что она не сразу поняла, что на них изображены языческие боги, соблазняющие земных женщин. Щеки у Хадассы покраснели, и она опустила глаза.
Стражник приказал ей и всем остальным, находящимся в бассейне, выходить и идти в следующее помещение, где им выдали полотенца, чтобы вытереться. Затем им выдали одежду, и Хадасса натянула на себя простую тунику и верхнюю одежду темно–коричневого цвета. Она дважды опоясалась красно–коричневой материей, которую тщательно завязала на талии. Длинные истрепанные концы материи свисали вдоль бедра. Затем ей дали светло–коричневую ткань, чтобы обвязать остриженную голову. Она обвязала еще и шею, чтобы не потерять повязку. И, наконец, ей на шею повесили унизительный рабский обруч и какую–то табличку.
Когда все было готово, к ним вошел хозяин. Став напротив Хадассы, он стал внимательно ее осматривать. Затем он приподнял табличку и что–то на ней написал, после чего перешел к другим женщинам.
Женщин снова связали вместе и повели на рынок рабов. Хозяин торговался с владельцем рынка, пока оба не пришли к устраивающим их комиссионным. Затем посыльный побежал к многолюдному причалу, чтобы привлечь внимание толпы. «Продаются иудейские женщины! — выкрикивал он. — Лучшие из пленниц Тита, недорого!» Когда вокруг рабынь собралась толпа, хозяин развязал одну из женщин и приказал ей встать на большое возвышение, похожее на гончарный круг. Рядом стоял полуголый раб с веревкой на широких плечах, готовый тут же выполнить любое приказание хозяина.
В адрес женщины со стороны толпы сразу полетели обидные шутки и оскорбления. «Раздень ее, покажи, что ты нам на самом деле хочешь подсунуть!» — кричал кто–то. «Проклятые иудеи! На арену их, собакам на съедение!» Женщина стояла прямо, а колесо вращалось, чтобы собравшиеся могли рассмотреть товар как следует, со всех сторон. Однако среди толпы были и серьезные покупатели, искавшие себе прислугу в дом. Одну за другой женщин стали постепенно раскупать: одну взяли в качестве поварихи, другую как ткачиху, двух купили как швей, еще одну в качестве няни для детей, другая пошла кухонной работницей, еще одна — носить воду. Когда очередную женщину покупали, ей приказывали сойти с колеса, после чего рабы нового хозяина связывали ее и уводили. Глядя им вслед, Хадасса чувствовала себя обездоленной.
На колесо она поднялась последней.
— Эта мала и худосочна, но она проделала путь от Иерусалима до Антиохии, стало быть, она выносливая. Она будет хорошей домработницей! — сказал владелец рынка и назначил первоначальную цену в тридцать сестерциев. Никто больше не предлагал, поэтому цену сбавили до двадцати пяти, потом до двадцати, а потом до пятнадцати.
В конце концов, ее купил один худой мужчина в белой тоге, отороченной фиолетовыми узорами. Она сошла с колеса и встала перед ним, почтительно склонив голову и сжав перед собой руки. И чем дольше он смотрел на нее, тем теснее ей казался медный рабский ошейник. Когда он сдернул с ее головы материю, она подняла голову и посмотрела в его глаза, выражавшие смятение.
— Как жаль, что они тебя обрили, — сказал он, — с волосами ты бы больше походила на женщину.
Он бросил ей повязку, которой она тут же снова покрыла голову.
— Интересно, какой бог на этот раз посмеялся надо мной, — досадливо пробормотал мужчина, взялся за веревку, связывающую ее руки, и быстрым шагом пошел вдоль причала. Стараясь не отставать от него, Хадасса делала два шага, когда он делал один. От быстрой ходьбы у нее заболело в боку.
Прокоп вел ее за собой и думал, что с ней делать. Его жена, Ефихара, голову ему оторвет, если увидит его с этой девчонкой. Она терпеть не могла иудеев, считая, что им нельзя верить ни в чем, их нужно только уничтожать. В Иудее погиб сын ее лучшей подруги. Он недовольно покачал головой. И как это его угораздило купить ее? Что теперь с ней делать? Десять сестерциев на ветер! Смешно даже. Шел по пристани, обдумывал свои дела, мечтал отплыть на Крит и забыть обо всех своих проблемах, и тут натолкнулся на этого торговца. Ему было любопытно посмотреть на пленных иудеев, а потом он вдруг почувствовал необъяснимую жалость, когда увидел, что эту рабыню никто не хочет покупать.
Не нужно было вообще ходить сегодня на пристань. Пошел бы лучше в бани — больше толку было бы. От досады у него даже голова разболелась; он злился; он был противен сам себе оттого, что почувствовал жалость, и к кому?! Если бы сейчас кто–нибудь вдруг выхватил веревку, за которую он вел свою пленницу, он был бы просто счастлив.
Пожалуй, он подарит ее Тиберию, и с глаз долой. Тиберий любил брюхатить таких молоденьких девочек. Он оглянулся на нее. Она посмотрела на него своими большими карими глазами и тут же опустила голову. Напугана до смерти. Оно и понятно. Большая часть ее народа истреблена. Сотни тысяч, как он слышал. Но разве они не заслуживают истребления после всех тех бед, которых натерпелся от них Рим?
Он тяжело вздохнул. Нет, Тиберий ее не возьмет. Одни кожа да кости, а в глазах сплошная печаль. Такая и самому сатиру не нужна. Тогда кому?
Может, Клементии? Ей нужна еще одна женщина, вот только ему очень не хотелось встречаться сегодня с этой язвой. Вряд ли ее обрадует подарок в виде костлявой рабыни, особенно после того, как он так и не удосужился зайти к своему ювелиру и приобрести хоть какую–нибудь безделушку, чтобы покачать ею перед ее жадными глазами. Раньше он не понимал, насколько она проницательна, и не предполагал, как быстро и тонко она все умеет оценивать.
— После всего того, что ты мне обещал, как ты посмел подарить мне какую–то подделку! — закричала на него Клементия, швырнув ему в лицо прекрасное украшение. Женщины ужасно некрасивы, когда плачут, особенно если слезы вызваны чувством ярости. Обычно привлекательная, Клементия состроила в тот момент такую отвратительную гримасу, что Прокоп в страхе подобрал украшение и убежал из ее дома. А жена приняла украшение с большой благодарностью.
Несколько римских сотников конвоировали группу изорванных, истощенных рабов, которые в одной связке поднимались на корабль. В этой группе было около сорока мужчин и женщин, может быть больше.
— Куда вы их везете? — спросил Прокоп главного стражника, стоявшего на палубе корабля.
— В Рим, — ответил тот.
Сердце у Хадассы подпрыгнуло. Она посмотрела на рабов и поняла, что их ждет. О Боже, пощади меня, прошу Тебя.
— Они иудеи?
— А на кого они, по–твоему, похожи? На римских граждан?
— Может, возьмете еще одну? — предложил Прокоп, дернув за веревку и вытолкнув Хадассу вперед. — Пятнадцать сестерциев, и она ваша. — Римлянин так и расхохотался. — Ну, тогда за десять. — Римлянин только рукой на него махнул. — Она вынослива, проделала путь от Антиохии. У нее хватит сил на все, что бы вы ни приготовили для этих рабов.
— От этих силы не потребуются. — Ну хорошо, отдам ее за семь сестерциев.
— За иудея не дам и самого мелкого гроша, — отозвался римлянин. — Проваливай.
Прокоп подтолкнул Хадассу вперед.
— Хорошо, тогда берите ее так! Даром! Увезите ее в Рим вместе с остальными. — Он выпустил веревку из рук. — Иди вместе с ними, — приказал он ей, — а я умою после тебя руки.
Хадасса смотрела, как он уходит, и почувствовала, что слабенький лучик надежды неумолимо гаснет. «Вперед», — прикрикнул на нее легионер, подтолкнув к кораблю. Поднявшись на палубу, она посмотрела в глаза командиру. Его лицо было обветрено жарким воздухом и годами жестоких битв, и он смотрел на нее тяжелым и холодным взглядом.
Фест ни во что не ставил иудеев. Слишком много друзей погибло от их грязных рук, поэтому у него теперь не было никакой жалости даже к этой девчонке. Он заметил, как она шевелила губами, поднимаясь по трапу, и догадался, что она молится о спасении своему невидимому Богу. Она оказалась единственной иудейкой, которая смотрела ему в глаза. Он взял ее за веревку и вытянул из строя. Она снова посмотрела на него. В ее глазах он увидел только страх, но никакой непокорности в них не было.
— Тебя везут в Рим, — сказал он. — Ты ведь знаешь, что это для тебя значит, правда? Арена. Я видел, как ты сейчас молилась своему Богу, чтобы Он тебя спас, но ты ведь все равно будешь в Риме?
Когда она ничего не ответила, он рассердился.
— Ты понимаешь по–гречески?
— Да, мой господин.
Ее голос был мягким, но не дрожал. Фест сжал губы.
— Кажется, твой невидимый Бог не собирается тебя спасать, а? Что ты на это скажешь?
Она подняла на него глаза.
— Если Богу угодно, чтобы я умерла, значит, я умру. И никакая сила на земле не сможет этому помешать.
В этих простых словах, сказанных хрупкой девочкой, виделись семена нового, еще более кровавого сопротивления. Фест снова сжал губы.
— На земле есть только одна настоящая сила, девочка, и это сила Рима. — Он резко повернулся к сотнику, стоявшему рядом. — Уведи ее вниз, к остальным.
6
Атрета, закованного по рукам и ногам, вывели из повозки и повели через ворота в лудус Капуи. По пути на юг Малкен приобрел еще девять человек, причем некоторых из них явно не для гладиаторских боев. Атрет сразу увидел, что в них не было никакой агрессивности и они совершенно не умели драться. Подобно вьючным животным, они выполняли все, что им ни приказывали. Германский воин смотрел на них с нескрываемым презрением.
Страдая от побоев, которые он перенес в результате своей последней попытки бежать, Атрет едва передвигался. «Встать в строй!» — прикрикнул на него стражник, щелкнув кнутом. Атрет вздрогнул, потому что в тот же миг его спину тысячами игл пронзила резкая боль. Он выругался и встал в строй.
Малкен обходил строй закованных в кандалы людей, временами отдавая приказы. «Стой прямо!» — крикнул он на одного из рабов, а стражник угодливо ткнул явно больного пленника. Другие пленные стояли, потупив глаза в землю, преклонившись перед силой завоевателя, — все, кроме Атрета, который стоял, широко расставив ноги и глядя прямо в глаза торговцу, не скрывая ненависти, которую к нему испытывал. Стражник изо всей силы ударил его кнутом по плечам. Атрет только слегка вздрогнул.
— Хватит, — сказал Малкен, когда стражник замахнулся на Атрета еще раз, — не стоит его уродовать сверх того, что он уже получил.
Страдая от боли, Атрет прищурил глаза и стал внимательно изучать все вокруг себя, выискивая хоть малейшую возможность для побега. Его окружали высокие каменные стены. Железные решетки, тяжелые двери и готовые к любым неожиданностям вооруженные до зубов стражники — все это говорило о том, что ему выпала тяжелая участь рабской жизни в плену врага. За решетчатой дверью мужчины тренировались перед выступлением на арене. Значит, и его теперь сделают гладиатором?
Наставника можно было определить легко, поскольку он был рослым, крепко сложенным, одетым в покрытую тяжелыми доспехами кожаную тунику и единственным, кто носил в ножнах на поясе меч. Атрет подумал, что такое оружие здесь было нужно явно не для защиты и не для нападения, — наверное, оно служило знаком отличия.
Малкен поймал взгляд молодого германца и злорадно улыбнулся.
— Это Тарак. Можешь теперь огрызаться на него так, как ты огрызался на меня все эти недели. А ведь ему ничего не стоит перерезать горло любому рабу без всякой причины — просто так, в назидание другим.
За первые недели своего рабства Атрет стал немного понимать по–гречески, но угрозы Малкена его совершенно не пугали. Он сделал резкое движение вперед, как будто хочет напасть на торговца, и посмеялся над тем, как римлянин попятился от него. Это была единственная радость, оставшаяся у Атрета, — видеть, как тот, кто называет себя «хозяином», в страхе шарахается от него.
— Родился бы ты хаттом, мы бы тебя живо в болоте утопили, — презрительно усмехнулся варвар.
Малкену не нужно было знать германский, чтобы понять, что над ним жестоко посмеялись. Покраснев от гнева, он выхватил у стражника плеть и хлестнул германца по груди, располосовав кожу. Атрет тяжело задышал, но не шелохнулся. Посмотрев на Малкена, он плюнул ему в лицо.
— Скорп идет, — сказал один из стражников, когда Малкен снова поднял плеть.
Опустив плеть, Малкен сунул ее одному из стоявших рядом стражников.
— Глаз с него не спускайте.
— Лучше бы убить его, — пробормотал стражник.
— Он единственный, кто действительно стоит хороших денег, — сердито сказал Малкен. Но, вспомнив, что к нему пришел гость, тут же повернулся, состроил приветливую улыбку и добродушно двинулся навстречу пришедшему.
Атрет наблюдал за тем, как мужчина, сопровождаемый двумя вооруженными стражниками, приветствует «хозяина». Гость походил на воина, но одет он был на манер римского аристократа. Потеряв к ним всякий интерес, Атрет отвернулся и стал снова смотреть на тренирующихся. Это была довольно разношерстная толпа из самых дальних уголков Римской империи. Разрисованные татуировкой британцы, смуглые галлы, чернокожие африканцы — все они двигались, выполняя команды. Вооруженные деревянными мечами, они совершали синхронные движения под зычный голос Тарака. «Удар, защита, замах сверху и круговое движение, блок, поворот, удар. Еще раз».
Атрет еще раз внимательно осмотрелся вокруг, стараясь найти хоть какую–нибудь лазейку для побега. Никаких надежд. Он еще никогда не видел такого укрепленного места. Стены были толстыми и высокими, все двери были окованы, и на каждой несколько крепких замков, всюду стояли вооруженные стражники, причем некоторые смотрели на него так, будто читали его мысли и были готовы в любую минуту остановить его. Раздался смех Малкена, и кровь в висках Атрета застучала еще сильнее; как много он дал бы за то, чтобы толстая шея Малкена оказалась зажатой в тисках его рук. И пусть это будет последнее, что он успеет сделать, но зато какое наслаждение он испытал бы от смерти Малкена!
— Ну, Скорп? Видишь ли ты тут что–нибудь такое, что тебе действительно нужно? — спросил Малкен, самодовольно отметив, что богатый хозяин лудуса уже во все глаза смотрит на дерзкого германца. — Просто красавец, а? — При этом он продолжал опасливо коситься на Атрета.
— Красота меня не интересует, Малкен, — сухо сказал Скорп. — Сила и выносливость — вот что приносит мне прибыль.
— Этого у него тоже не отнимешь.
— Где ты его взял?
— На границе с Германией. Он был вождем какого–то племени и в одном сражении убил более двадцати воинов.
— Вечно ты все преувеличиваешь, Малкен. Слишком уж молод он для вождя, — сказал Скорп и пошел вдоль строя мужчин. От его взгляда не ускользал ни малейший дефект, от гнилых зубов до болезненного цвета кожи. Малкен был явно раздражен и отчаянно спорил, часто оглядываясь на германца. Было видно, что ему не терпелось избавиться от этого варвара. Скорп вернулся к Атрету и еще раз внимательно осмотрел его. Малкен просто не находил себе места, со лба у него стекал пот.
— Я вижу, у него какие–то побои. Что случилось, Малкен? Он был недоволен комфортными условиями жизни у тебя?
Малкену было не до смеха.
— Он пытался бежать, — сказал он, рукой подзывая к себе своих стражников, — четыре раза. — Никто не осмелился бы напасть на Скорпа в его собственном лудусе, но от этого германца всего можно было ожидать.
Скорп обратил внимание на приближение стражников. Германец становился ему определенно интересен. Малкен весь покрылся потом от страха, и Скорпу это показалось забавным. Голубые глаза варвара смотрели на него яростно, в них была видна неприкрытая ненависть. Неукротимую ярость, пожалуй, стоило приобрести.
— Сколько ты за него хочешь?
— Пятьдесят тысяч сестерциев, — сказал Малкен, молча помолившись Марсу.
— Пятьдесят тысяч?
— Поверь, он стоит того.
— Да все твои пленные, вместе взятые, не стоят пятидесяти тысяч сестерциев. Откуда я знаю, где ты их нашел? Может, на винограднике, или на строительстве дорог? А может, на рудниках? У них и мозгов–то, наверное, нет. — Только этот германец, судя по всему, был не так глуп — такое качество было и желанным, и опасным одновременно.
Малкен еще немного поторговался, но Скорп покачал головой и уже перешел к двум другим пленникам. Малкен стиснул зубы от ярости; ему очень хотелось избавиться от этого молодого германца, даже если придется снизить цену. По пути сюда варвар уже убил одного из его стражников, и Малкен знал, что германец теперь только и мечтает, как бы убить его самого. Он читал это в его холодных глазах всякий раз, когда смотрел на него. Чувствовал он это и сейчас, почесывая в затылке и думая о новой цене.
— Хорошо, я отдам тебе германца за сорок тысяч сестерциев, но это уже самая низкая цена.
— Ну, и оставь его себе, — сказал Скорп, — Этот сколько? — Он остановился напротив галла, которого Малкен приобрел у каких–то разбойников.
Как обычно, Скорп оказался точен в оценке всех тех рабов, которых ему привел Малкен. Большинство стоящих в этом строю обладало таким скудным умом, что на арене они не прожили бы и пяти минут.
— Десять тысяч, — ответил Малкен, даже не глядя на того пленника. Он с опаской глядел во все глаза на германца и чувствовал, как холод голубых глаз варвара пронизывает его до самых костей. Он ни одной мили не хотел больше куда–либо идти с этим дьяволом. — Если ты думаешь, что германец не стоит тех денег, которые я за него прошу, выпусти против него Тарака. — Уж если он не сможет этого германца продать, то почему бы не насладиться его смертью?
Скорп удивленно посмотрел на него.
— Тарака? — он весело рассмеялся. — Ты что же, перед тем как его продать, хочешь сделать из него отбивную? Он же против Тарака и минуты не протянет.
— А ты дай ему фрамею и посмотри, на что он способен, — с вызовом сказал Малкен.
Скорп насмешливо взглянул на Малкена.
— А ведь ты его боишься. Несмотря на всю свою охрану.
Издевка задела Малкена за живое. Разве не он поставляет Скорпу живой товар для лудуса? Да что бы Скорп без него делал? Стиснув зубы, Малкен холодно произнес:
— Он четырежды пытался от меня бежать, а в последний раз убил одного из моих людей. Свернул ему шею.
Скорп поднял брови.
— Четырежды?! — он внимательнее вгляделся в германца. — Да, такому палец в рот не клади. А уж смотрит так, будто всю жизнь мечтал выпить твою кровь. Ну хорошо, Малкен. Так и быть, избавлю тебя от него. Тридцать тысяч.
— Согласен, — сказал Малкен, все–таки недовольный компромиссной ценой, — а другие?
— Нет, только его.
— Этот галл силен и хорошо сложен.
— Только варвара.
Малкен отступил назад, приказав своим стражникам снять кандалы с ног Атрета.
— Прежде чем снять кандалы с ног, посмотрите, надежно ли у него связаны руки за спиной, — сказал он стражникам. Скорп издевательски засмеялся, но Малкен был готов вытерпеть эти насмешки, лишь бы остаться невредимым.
Сердце Атрета забилось чаще, но он стоял невозмутимо, когда с его ног снимали оковы. Один шанс, вот и все, что у него было, — один шанс. Тиваз увидит его умирающим воином. Один стражник высвобождал от цепей ноги трех других рабов, и только после этого добрался до него. Другой стражник шепнул ему на ухо: «Только попробуй отсюда хотя бы дернуться, и я забью тебя, как бешеную собаку». Он проверил оковы, сковывающие запястья Атрета, чтобы убедиться, что руки скованы надежно.
Когда ноги оказались свободными от цепей, кровь Атрета стала горячей, как огонь, и он решил немедленно действовать. Навалившись всем телом на стражника, который стоял у него за спиной, он тут же ногой со всей силой ударил в пах стражнику, стоящему перед ним. Издав воинственный клич, он отшвырнул от себя еще одного стражника, пытавшегося усмирить его, и бросился на Малкена, который панически отдавал приказы и отчаянно пытался найти убежище.
Весело смеясь, Скорп наблюдал затем, как стражники Малкена пытаются утихомирить германца. Когда стало ясно, что этого варвара боится не один Малкен, а стражники торговца ничего не могут с ним поделать, Скорп щелкнул пальцами, и за дело взялась уже его стража.
— Теперь отойди в сторону и смотри, Малкен! — смеясь сказал Скорп. — Сейчас нашего германца успокоят.
Атрет отчаянно сражался, но люди Скорпа оказались сильнее и проворнее. Слаженно действуя, двое из них навалились на него всей своей тяжестью, а третий набросил ему на шею толстую веревку. Со связанными за спиной руками Атрет ничего не мог поделать. Ему не хватало воздуха, а кровь перестала поступать в мозг. Веревка сжималась все сильнее. Дергаясь в попытке освободиться от пут, он упал на колени. Перед глазами у него померкло, и он упал на землю, а ему на спину насели стражники Скорпа. Тяжелую веревку ослабили — но не сняли — и Атрет снова мог дышать. Он уткнулся в пыль и прохрипел какое–то ругательство.
— Поднимите его, — лениво произнес Скорп. Бледный и потный Малкен опасливо подошел к нему.
— Сабин, переведи ему в точности, что я скажу. — Стражник кивнул и стал повторять за Скорпом то, что он говорил Атрету. — Меня зовут Скорп Проктор Карпофор, и я твой хозяин. Поклянись клятвой гладиатора, что будешь забит плетьми, сгоришь в огне или погибнешь от оружия, если ослушаешься меня. Понял?
Атрет плюнул ему под ноги.
Скорп прищурил глаза.
— Да, Малкен, ты был, пожалуй, прав, запросив за него пятьдесят тысяч. Жаль только, что не настоял на своем. — С этими словами он дал своим стражникам какой–то знак, и те стали избивать Атрета. Германец вынес побои и продолжал молча смотреть на Карпофора, не желая давать никакой клятвы.
Скорп кивнул своим стражникам еще раз, и избиение продолжилось.
— Я думаю, что для меня будет большим счастьем избавиться от него, — сказал Малкен, не скрывая своих чувств. — Вообще, с ним надо быть особенно осторожным. Если он сейчас не даст клятвы, то будет считать себя победителем над вами.
Легким мановением руки Скорп приказал прекратить избиение.
— Таких, как этот, можно усмирить и по–другому. Я вовсе не хочу сломить его дух — я хочу сломить его волю, — с этими словами он повернулся к Сабину. — Поставьте на него клеймо и бросьте в нору.
Атрет понял, что сейчас он будет заклеймен как римский раб, и издал нечеловеческий крик, отчаянно сопротивляясь стражникам, которые тащили его к железной решетчатой двери. Дверь открылась, затем захлопнулась за его спиной, а стража повела его к кузнечному горну, где на раскаленных углях лежали куски железа с какими–то эмблемами на концах. Он стал сопротивляться еще отчаяннее, не обращая внимания на то, что веревка на шее снова стала затягиваться. Уж лучше умереть, чем носить на себе римское клеймо.
Один из стражников, не удержав Атрета, отлетел к стене. Другой, стоявший за спиной германца, выругался и подозвал на помощь еще двух человек. Атрета повалили на пол и держали до тех пор, пока раскаленное железо не прожгло ему кожу на пятке. От невыносимой боли Атрет не мог не закричать, когда воздух наполнил тяжелый запах паленой плоти. Затем его снова поставили на ноги.
Атрета повели по каменному коридору вниз, потом еще по одному коридору. Открылась тяжелая дверь, с него сняли цепи, заставили опуститься на колени и втолкнули в крохотную темную камеру. Дверь за его спиной закрылась. Ему хотелось кричать. Стены буквально облегали его; каменный потолок был таким низким, что Атрет не мог сесть, а сама камера была такой короткой, что он не мог вытянуть ноги. Он со всей силой уперся в дверь, но дверь не поддавалась. Он выругался и услышал, как стражники смеются, а звуки шагов, усиленные кованой обувью, эхом отдаются по коридору. «Готов поспорить на что угодно», — послышался голос Сабина, убежденного, что «уже завтра он будет просить о помиловании». Закрылась еще одна дверь, после чего наступила мертвая тишина.
И тут Атрета охватила паника. Он крепко закрыл глаза, пытаясь совладать с собой, тогда как стены камеры, казалось, душили его со всех сторон. Стиснув зубы, он старался не произносить ни звука, зная, что если закричит, то даст волю страху, который и без того начинал его угнетать. Бешено билось сердце, ему не хватало воздуха. Он сильно пнул в дверь ногой, не обращая внимания на боль от клейма, и стал колотить ногами по двери, пока не разбил их в кровь.
Атрет тяжело дышал от страха и весь покрылся потом. Больше одного дня он здесь не выдержит, после чего просто закричит. Он повторял эти слова самому себе снова и снова, пока на смену страху не пришел гнев.
В полной темноте прошли часы.
Чтобы не сойти с ума, Атрет повернулся на бок и постарался представить себя в родном лесу. У него не было ни воды, ни еды. Его мышцы свело судорогой, и он застонал от боли, не имея возможности вытянуть конечности и избавиться от страданий. Он снова пнул ногами в дверь и от всей души проклял Рим.
Наконец послышался голос стражника: «Сейчас он будет посговорчивее». Открылась дверь. Когда стражник нагнулся и заглянул в камеру, Атрет изо всех сил ударил ему в лицо ногой, и тот отлетел назад. Атрет попытался придержать дверь открытой, но второй стражник навалился на дверь и снова ее запер. Атрет слышал, как пострадавший от его удара стражник ругается по–германски.
— Да, двух дней ему там, видимо, мало, — сказал другой.
— Да пусть он там вообще сгниет! Эй, ты, слышишь? Сгноим тебя там!
Атрет произнес в ответ проклятия и пнул ногой в дверь. Его сердце билось все сильнее, а дыхание становилось все тяжелее и чаще. «Тиваз!» — кричал он, и крик этот эхом разносился по всем ближайшим помещениям. «Тиваз!» — выкрикивал он имя своего бога, пока не охрип, потом лег и снова стал бороться со страхом, который опять пробудился в нем.
Подавленный темнотой и страхом, Атрет потерял ощущение времени. Когда дверь снова отворили, он думал, что это сон, но пришел в себя, когда чьи–то руки взяли его за щиколотки и вытащил и за ноги, от чего по всему телу снова прошла боль. Мышцы у него свело судорогой, и он не мог встать. К его губам приставили сосуд, и он сделал несколько жадных глотков воды. Два стражника подняли его на ноги, подставив свои плечи под его руки. Его привели в большое помещение и бросили в каменный бассейн.
— От тебя воняет! — сказал на германском языке один из стражников, бросив ему на грудь какую–то губку. Нос стражника был распухшим, и Атрет понял, что это был тот самый, которого он ударил ногой. — Вымойся, не то я сам тебя вымою.
Атрет презрительно посмотрел на него.
— Как получилось, что мой соплеменник оказался римским прихвостнем? — спросил он, едва шевеля разбитыми губами.
Лицо стражника стало каменным.
— Я слышал, как ты кричал этой ночью. Еще один день в такой норе, и ты сошел бы с ума или забыл бы всех своих богов, как это произошло со мной!
Атрет сжал кулаки и стал мыться, чувствуя присутствие двух стражников. Они разговаривали, и Атрет понял, что этого германца звали Галл.
Галл заметил, что Атрет внимательно изучает его, и снова обратился к пленнику.
— Меня взяли в плен примерно так же, как и тебя, и я стал рабом, — сказал он, — но я извлек для себя из этого максимальную пользу. — Он взял в ладонь и показал Атрету висевший на шее небольшой квадратный предмет из слоновой кости, на котором были какие–то надписи. — Семь лет я сражался на арене, а потом заслужил свободу. — Он выпустил этот предмет из рук. — Ты можешь сделать то же самое даже за более короткий срок, если поставишь себе такую цель.
Атрет внимательно огляделся, посмотрел на каменные стены и стоявших всюду вооруженных стражников, затем в глаза Галлу.
— Я не вижу здесь никакой свободы, — он вышел из бассейна и стоял обнаженный и мокрый. — Можно мне вытереться, или таким я вам больше нравлюсь?
Галл взял с полки полотенце и бросил его Атрету.
— Будь осторожен, раб. Здесь ты либо многому научишься, либо умрешь. А что из этого ты выберешь, мне совершенно безразлично. — Он кивнул в сторону полки с одеждой. — Бери тунику, пояс, верхнюю одежду и одевайся.
Атрет взглянул на лестницу, глаза у него поначалу загорелись, но он вовремя заметил, что к стоявшему там стражнику подошел еще один.
— Я бы на твоем месте даже не пытался, — сказал ему Галл, взявшись за рукоятку меча.
Стиснув зубы, Атрет оделся и пошел вверх по лестнице. Впереди него шли два стражника, и еще трое шли сзади. Возможности убежать не было никакой. Его вели по длинному коридору, по обеим сторонам которого находилось множество дверей. Галл остановился напротив одной из них и открыл ее.
— Это твой новый дом. Пока тебя не продадут.
— Видно, что он не горит желанием вселяться сюда, — насмешливо заметил один из стражников, после чего грубо втолкнул Атрета в небольшую комнату. Атрет вздрогнул, когда дверь за ниц захлопнулась и звякнул засов.
— Выспись хорошенько, — сказал ему Галл сквозь зарешеченное окошко в двери.
Темная и сырая камера была чуть больше двух метров в длину я около полутора метров в ширину. На каменном возвышении лежал соломенный тюфяк. Внизу находился глиняный горшок для пищи. Каменные стены были украшены многочисленными надписями и рисунками. Атрет не умел читать, но рисунки и без того были достаточно красноречивы. Сражающиеся и умирающие мужчины. Мужчины и женщины, занимающиеся любовью. Линии, прочерченные одна за другой, — очевидно, кто–то считал дни. В задней стене была проделана ниша для какого–то идола — уродливой богини с двенадцатью грудями, сидящей на корточках.
Свет факела, горящего в коридоре, проникал в камеру сквозь зарешеченное окошко двери, отбрасывая тени. Атрет услышал стук кованой обуви, посмотрел сквозь окошко в коридор и увидел стражника, который взглянул на него и пошел дальше по коридору.
Атрет сел на тюфяк. Запустив руки в свои густые волосы, он долго сидел, положив голову на руки, потом откинулся спиной к холодной каменной стене. Его снова затрясло внутри и снаружи.
Казалось, прошло несколько часов, прежде чем он услышал звук открывающейся двери и голоса входящих в коридор людей. Раздался чей–то шепот, и стражник криком приказал замолчать. Открывались по очереди двери, и в камеры запускали людей, после чего двери снова закрывались. Затем наступила долгая тишина. Атрет услышал чей–то плач.
Опустившись на каменное возвышение, он закрыл глаза и попытался представить себе леса Германии, лица своих родных и друзей. Ему это не удавалось. Ему виделась какая–то толпа и те люди, которые повторяли отточенные движения.
Голоса стражников, ходящих взад–вперед по коридору, все время внушали Атрету мысль о том, что убежать отсюда невозможно. Единственный путь к свободе лежал через смерть.
Он проснулся от окрика стражника и встал, ожидая, что сейчас к его двери подойдут. Но люди в коридоре прошли мимо его двери.
Прислушавшись, он услышал, как из других камер вывели людей, и снова наступила тишина. Он сел, схватившись за край каменного возвышения.
Спустя какое–то время Галл, наконец, открыл дверь его камеры. «Снимай верхнюю одежду и следуй за мной», — сказал он. Когда Атрет вышел в коридор, его сопровождали два стражника. От недостатка пищи он чувствовал слабость и подумал, собираются ли они кормить его или же бросят умирать от голода. Его привели в тренировочный зал, к Тараку, ланисте, или главному наставнику лудуса.
Лицо Тарака было суровым и тяжелым, а его темные глаза умными, проницательными. Вдоль щеки проходил глубокий шрам, а половина уха была отсечена, но он тоже носил на шее квадратный предмет из слоновой кости, говорящий о том, что свою свободу он заслужил на арене.
— У нас здесь новый раб, из Германии, — объявил он всем остальным, собравшимся в зале. — Он считает себя бойцом. Но мы–то с вами знаем, как все германцы трусливы. Сражаясь, они так и норовят спрятаться за деревьями и кустами! И как только начинает разворачиваться настоящая битва, они тут же удирают в лес.
Некоторые из собравшихся засмеялись, но Атрет стоял молча и невозмутимо, наблюдая за тем, как Тарак прохаживался взад–вперед перед гладиаторами. С каждым оскорблением ланисты сердце у Атрета начинало биться все чаще, но стоявшие по краям зала стражники, расположенные через каждые несколько метров, снова убедили Атрета в том, что сделать он тут ничего не сможет.
— Слов нет, бегают германцы просто великолепно, — продолжал тем временем Тарак издеваться над Атретом. — Так давайте же посмотрим, умеют ли они сражаться по–настоящему, как подобает мужчинам. — С этими словами он остановился напротив Атрета. — Как тебя зовут, раб? — Он говорил на германском диалекте. Атрет спокойно смотрел на него и ничего не отвечал. Тарак сильно ударил его по лицу.
— Еще раз спрашиваю, — сказал Тарак, и его лицо исказила кривая усмешка. — Имя!
Атрет в ответ только звучно сплюнул кровь с рассеченной губы. Второй удар сбил его с ног. Атрет тут же, не задумываясь, бросился вверх и вперед, но ланиста ударом ноги отбросил его и выхватил свой меч. Не успев сделать никакого дальнейшего движения, Атрет почувствовал на своей шее холодное острие.
— Или ты скажешь, как тебя зовут, — совершенно спокойно сказал Тарак, — или я прямо сейчас тебя прикончу.
Атрет посмотрел на холодное лицо стоявшего над ним человека и понял, что Тарак не шутит. Он бы с радостью принял смерть, но только стоя на ногах и держа в руках фрамею, — он ни за что не опозорит себя, умирая лежа на лопатках.
— Атрет, — заскрипел он зубами, глядя снизу вверх на ланисту.
— Атрет, — повторил Тарак, запоминая имя, но по–прежнему держа меч на шее германца. — Так вот, запомни, Атрет. Ты будешь во всем повиноваться мне, и тогда будешь жить; еще раз ослушаешься меня, и я тебе, как поросенку, глотку перережу, а потом подвешу вверх ногами, чтобы ты подыхал перед лудусом и чтобы весь мир на тебя смотрел. — С этими словами он ткнул острием меча ровно настолько, чтобы порезать кожу и пустить несколько капель крови, тем самым показывая, что все это не пустые угрозы. — Понял? Отвечай. Понял?
— Да, — произнес Атрет сквозь зубы.
Тарак отошел назад и сунул меч в ножны.
— Вставай.
Атрет поднялся.
— Мне говорили, что ты хорошо дерешься, — сказал Тарак, насмешливо улыбнувшись. — Пока ты мне ничего, кроме своей глупости, не показал. — Он кивнул одному из стражников. — Дайте ему шест. — Тарак взял один шест себе и принял бойцовскую стойку. — Ну, посмотрим, что ты умеешь.
Атрета не надо было уговаривать дважды. Взмахивая шестом, он стал передвигаться вокруг ланисты, делая ныряющие движения, отражая и нанося жесткие удары, пока Тарак не сделал резкий поворот и не нанес ему удар в подбородок. Еще один резкий удар ниже колена сбил его с ног, и Тарак другим концом шеста уперся Атрету в голову, прижав его к земле. Пораженный, Атрет уткнулся лицом в землю и начал жадно хватать ртом воздух.
— Маловато, чтобы выжить на арене, — презрительно сказал Тарак, отбросив ногой шест Атрета. Затем он сунул свой шест стоявшему рядом стражнику и подошел к германцу. — Вставай!
Сгорая от стыда, Атрет поднялся. Он стоял и ждал, какое еще унижение приготовил для него ланиста. Тем временем остальные гладиаторы по команде Тарака разошлись со своими стражниками и наставниками по разным углам зала.
Тарак снова повернулся к нему.
— Скорп заплатил за тебя большие деньги. Я ожидал от тебя большего. — Атрет, услышав эти слова, стиснул зубы, но ничего не сказал. Тарак холодно улыбнулся. — Ты удивлен тем, что тебя так быстро спустили с небес на землю, да? Но ведь тебя пять недель держали в цепях, а потом еще четыре дня в норе. Наверное, поэтому ты ослаб и поглупел. — И тут он заговорил с ним более серьезным тоном. — Тебя погубит не столько неумение, сколько высокомерие и глупость. Запомни это, и тогда, может быть, выживешь.
Возвращаясь к своим делам, Тарак критически посмотрел на него и сказал:
— Тебе нужно набрать в весе и тренироваться, тренироваться, тренироваться. Потом ты пройдешь проверку. Когда я увижу, что ты достоин того, чтобы я тратил на тебя время, присоединишься к тем, с кем я работаю, — кивнул он в сторону разношерстной группы мужчин, тренировавшихся в дальнем углу зала, — а пока тобой займется Трофим.
Атрет взглянул на низкорослого и мускулистого офицера, кричавшего на нескольких мужчин, которые выглядели так, будто пришли не с поля боя, а из рудников. Атрет усмехнулся. Тарак снова выхватил свой меч и плашмя слегка ударил им Атрета, сразу почувствовавшего на своем животе холод металла.
— Я слышал, что по дороге сюда ты убил римского стражника, — сказал Тарак. — Вижу, что смерти ты не боишься. Для тебя только важно, как именно умереть. Это хорошо. Нет ничего позорнее для гладиатора, чем страх смерти. Но предупреждаю тебя, Атрет, что бунтарства здесь никто не потерпит. Посмей только руку поднять на стражника, и ты проклянешь тот день, когда родился. — Атрет почувствовал, как внутри него все холодеет, когда Тарак слегка провел мечом вверх и вниз по его животу, а потом едва коснулся кончиком меча половых органов германца. — Тебе ведь лучше умереть с мечом в руках, чем быть кастрированным, не так ли? — Тарак тихо засмеялся. — Надеюсь, теперь до тебя дошли мои слова, юный Атрет? — В этот момент Атрет почувствовал, что кончик меча угрожающе уперся в его плоть. Лицо Тарака мгновенно стало суровым. — Мне сказали, что ты отказался дать Скорпу клятву гладиатора. Ты дашь ее мне сейчас… или станешь евнухом. На них сейчас в Риме большой спрос.
У Атрета не было выбора. Он повиновался.
Тарак убрал свой меч.
— Ну, а теперь посмотрим, хватит ли у германского варвара характера и чести, чтобы сдержать свое слово. Иди к Трофиму.
Все оставшееся утро Атрет тренировался в беге через препятствия, но недели, проведенные в кандалах, и несколько дней без пищи сделали свое дело — он быстро уставал. Однако другие в его группе тренировались еще хуже. Одного из них приходилось подстегивать едва ли не на каждом шагу.
По свистку Трофима все встали в колонну. Затем их повели в зарешеченное помещение, служившее столовой. Атрет взял деревянную миску, которую протянула ему какая–то рабыня. От запаха пищи у Атрета даже свело в животе. Он занял свое место на длинной скамье, рядом с остальными, к ним подошли две женщины, которые несли два больших сосуда и раздавали сидящим большие порции мяса и ячменной каши. Все, в том числе и пища, было здесь не случайным. Мясо способствовало росту мышечной массы, богатая калориями зерновая каша покрывала артерии слоем жира, что предотвращало быстрое кровотечение и смерть от потери крови при ранениях на арене. Еще одна женщина раздавала большие куски хлеба. Другие женщины разливали по деревянным стаканам воду.
Атрет с жадностью набросился на пищу. Когда его миска опустела, смуглая темноволосая женщина подошла и положила ему еще еды. Затем она подошла к еще одному рабу, который стукнул своей миской по коленям, чтобы подозвать ее. Когда женщина вернулась к Атрету и положила ему еды в третий раз, сидящий рядом британец прошептал по–гречески:
— Не увлекайся, не то тебе будет тяжело на дневных тренировках.
— Не разговаривать! — крикнул Трофим.
Атрет съел все в третий раз, и тут всем приказали встать. Когда их выводили, он бросил свою миску и стакан для воды в большой сосуд у выхода.
Стоя под лучами солнца, Атрет почувствовал сонливость, а Трофим тем временем говорил им о необходимости наращивать силу и тренировать выносливость для выступлений на арене. Атрет неделями не ел как следует, и теперь тяжесть пищи в животе навевала на него самые приятные чувства. Он вспомнил те пиры, которые следовали за каждой их удачной битвой, вспомнил, как воины набрасывались на жареное мясо и пили хорошее пиво, а потом все рассказывали веселые истории и смеялись.
Трофим повел их на огороженную тренировочную площадку, где стояло несколько пали. Пали представляли собой большие колеса, положенные набок и возвышающиеся над землей, а через центры этих колес были продеты толстые столбы. Через каждый столб были продеты два меча, покрытые кожей, — один на уровне головы взрослого человека, а другой на уровне колен. Кривошип, приводимый в движение рабом, передавал это движение пали, от чего столб с мечами начинал вращаться с такой скоростью, которую задавал наставник. Всякий, кто становился на колесо, должен был перепрыгивать через нижний меч и тут же нырять, увертываясь от удара верхнего меча по голове.
Трофим вызвал на колесо Атрета и британца. Они заняли свои места, а нумидиец встал за привод. Когда столб начал вращаться, Атрет стал своевременно подпрыгивать и нырять, уворачиваясь от ударов. На шестом круге британец пропустил удар верхнего меча и слетел с колеса. Атрет продолжал тренироваться.
— Быстрее, — приказал Трофим.
Нумидиец стал крутить быстрее. Атрет уже чувствовал усталость, но продолжал тренироваться, до предела напрягая мышцы.
Тяжесть пищи мешала ему, но столб все крутился и крутился. Трофим как ни в чем ни бывало стоял рядом и равнодушно наблюдал за происходящим. Атрет уже начал задыхаться, он почувствовал, что его тошнит. Верхний меч уже чиркнул его по голове, и он едва не споткнулся о нижний. Пот застилал ему глаза. Он посмотрел на Трофима и тут же почувствовал взрыв боли в переносице. Его отбросило назад, и он тяжело упал спиной на землю. Со стоном он с трудом заставил себя приподняться, и тут его вырвало. Из сломанного носа хлестала кровь. Тут он услышал смех стоявшего неподалеку Галла. Атрет отполз от колеса и тряхнул головой, пытаясь сообразить, что с ним произошло.
Трофим вызвал на колесо двух других рабов и подошел к Атрету.
— Встань на колени и откинь голову назад.
Атрет вспомнил предупреждение Тарака о кастрации и сделал так, как ему сказали. Трофим схватил его за голову, после чего провел большими пальцами вдоль разбитого носа Атрета, прощупывая хрящ.
— Твоя ошибка была в том, что ты смотрел на меня.
Атрет стиснул зубы — больше всего он боялся в этот момент опозориться дальнейшими промахами. Кровь ручьем текла по губам и щекам на полотенце, которое дал ему кто–то из рабов. Трофим не отнимал пальцев от переносицы, пока хрящ не стал на свое место.
— Женщины любят смотреть на привлекательных мужчин, — улыбаясь, сказал Трофим. Затем он вымыл руки в сосуде с водой, который раб принес для него. Взяв из сосуда губку, он протянул ее Атрету. — Чтобы хорошо сражаться, нужна выносливость, — сказал он, вытирая руки о полотенце, которое дал ему раб, — когда кровь перестанет течь, встанешь в строй. — Он бросил полотенце на землю, рядом с Атретом и повернулся к двум другим, стоящим на колесе.
Атрет прижал влажную губку к разбитому лицу. Холодная вода облегчила боль, но самому ему легче не стало. Тут он услышат удар и стон другого раба, летевшего с колеса. «Следующий!» — выкрикивал Трофим.
День был в самом разгаре. Трофим повел своих подопечных на другие тренировки только после того, как все они прошли через пали.
Солнце сияло в полную силу, когда обучаемые вернулись к бегу с препятствиями. Атрет устал, его туника пропиталась потом и кровью, но эти упражнения он преодолевал без особых трудностей. Он всю жизнь прожил в германских лесах — ему было не привыкать к бегу с препятствиями. Качающиеся ветки, корни и валуны, стволы сосен — все это было частью его жизни.
Другие, которые попали сюда из рудников и с полей, спотыкались и падали, задыхались и поднимались только тогда, когда свистела плеть, хлеставшая их по спинам. Но когда у Атрета снова стало пусто в животе, те препятствия, которые римляне ставили для тренировок, были для него детской игрой.
Трофим был явно недоволен состоянием некоторых тренирующихся.
— Сколько дней вы уже тренируетесь здесь и до сих пор ничего толком не можете сделать! Вон, берите лучше пример с германца! Если он что–то и умеет, так это хорошо бегать!
Атрет весь загорелся от гнева, когда Трофим приказал ему сделать еще один круг в беге с препятствиями, тогда как остальные стояли и наблюдали за ним.
Когда раздался еще один свисток, группу повели в здание, и они стали спускаться по лестницам в бани. Выбившийся из сил Атрет сидел в бассейне, положив руки на холодные камни. Нос горел, все мышцы болели. Он наполнил губку водой и прижал ее к шее. От воды ощущения были приятнее, приятно также было осознавать, что он хорошо поработал.
Единственным звуком, нарушающим тишину в освещенных факелами банях, был плеск воды. Никто не разговаривал. В зале находились четыре стражника. Несмотря на неостывшие в нем бунтарские чувства, Атрет понимал, что Тараку ничего не стоит осуществить те угрозы, которые Атрет от него сегодня услышал.
Ему дали новую тунику. Как только он оделся, ему приказали подниматься по лестнице. Рабов снова привели в столовую — на этот Атрет раз уже не набрасывался на пищу, — после чего всех развели по камерам и заперли на ночь. Он взял тяжелую верхнюю одежду, оставленную здесь утром, и расстелил ее поверх тонкого соломенного тюфяка.
Всю свою жизнь он испытывал только одно желание, — он хотел, чтобы кровь кипела в жилах, он хотел быть воином, чтобы сражаться. Он почитал за честь уничтожать врагов, вторгшихся в его землю; он почитал за честь сражаться, чтобы защищать свой народ; он почитал за честь умереть в битве. Но какая может быть честь в том, чтобы на потеху римской толпе убивать равного тебе?
Атрет уставился сквозь решетку на мерцающий и отбрасывающий тени огонь факела, освещающего коридор. Он так устал, что уже не чувствовал ничего, кроме глубокого стыда и жгучей ярости по поводу того, что ждало его впереди.
7
Юлия попыталась протиснуться вперед, чтобы увидеть находившуюся внизу арену, но Марк держал ее за руку и не отпускал.
— Не торопись, Юлия, — сказал он ей успокаивающим голосом, ища глазами распорядителя. — Когда наступит наша очередь, локарий покажет нам наши места.
— А я думала, у тебя здесь своя ложа.
— Да, но сегодня она занята, и я подумал, что тебе лучше сесть среди толпы и получить от зрелища настоящее удовольствие.
Зрители уже занимали трибуны, спускаясь по ступеням и проходя на свои места, называемые кавеями. Три выстроенные кругом стены, балтеи, были разделены на четыре многоступенчатых сектора. Самый высокий и поэтому самый дешевый — это пуллаты. Ближайший к арене — это подиум, где обыкновенно сидел император. Представители военного сословия и трибуны занимали места за подиумом и выше, в первом и втором менианумах. Третий и четвертый менианумы резервировались для патрициев.
— Ну что они там так долго тянут? — нетерпеливо сказала Юлия. — Я уже боюсь, что пропущу что–нибудь.
— Им нужно рассадить толпу. Не беспокойся, сестренка, ты все увидишь. Они еще даже не представили благотворителя. — Он протянул распорядителю проходные жетоны из слоновой кости и поддержал Юлию своей твердой рукой за локоть, когда они стали спускаться по крутым ступенькам. Распорядитель указал им, в какой ярус нужно идти, после чего вернул Марку жетоны, чтобы Марк мог сличить номера на жетонах с номерами на каменных скамьях. — Первые часы будут неинтересными, — сказал Марк, когда Юлия села, — уж и не знаю, как это ты меня уговорила взять тебя с собой. Настоящий бой начнется еще не скоро.
Юлия вполуха слушала, как Марк выражал свое недовольство, — она была так увлечена всем тем, что ее здесь окружало. Здесь собрались сотни людей — от самых богатых патрициев до самых низких рабов. Она остановила свой взгляд на женщине, спускающейся вниз по ступенькам, за которой шел сирийский раб. Он нес завесу от солнца, которой закрывал свою госпожу от жары, и корзину, наверняка наполненную вином и деликатесами.
— Марк, посмотри на ту женщину. На ней такие украшения! Поспорю на что угодно, что каждое из них весит не меньше десяти фунтов, и это все драгоценности.
— Это жена патриция.
Юлия уставилась на него.
— Не понимаю, как тебе здесь может быть скучно, Когда вокруг столько интересного?
Марк ходил на зрелища уже сотни раз, а может быть, и больше. Ему здесь было интересно только на смертельных схватках, но она проводились ближе к концу представления.
— Потому что мне действительно скучно. Я бы все отдал, лишь бы не было всех этих предварительных представлений.
— Марк, ты обещал, что будешь здесь ровно столько, сколько здесь захочу быть я. А я хочу посмотреть все. К тому же, я слышала, что сегодня будет драться Келер. Октавия сказала, что он просто прелесть.
— Ну, если тебе нравятся фракийцы, которые владеют оружием так же, как нагруженные быки…
Юлия пропустила сарказм брата мимо ушей. С тех пор как Марк начал строить дома на Авентинском холме, он только и говорил, что о делах да о том, сколько стоят лес и камни, или о том, сколько еще рабов ему нужно купить, чтобы завершить работы в соответствии с договорами. Юлия с таким нетерпением ждала этого дня, что теперь была готова стерпеть ворчание брата по поводу того, что он потратил несколько драгоценных рабочих часов ради пустого развлечения. В конце концов, она единственная из всей ее компании подруг до сих пор так и не была на зрелищах. Она заслужила это удовольствие. Теперь от ее внимания не уйдет ни один звук, ни один момент, ни одно явление.
Но ей все же было немного неловко. Мать и отец думают, что они с Марком отправились в небольшую поездку по окрестностям. Это была всего лишь маленькая ложь, на самом деле это вовсе не обман. Марк и раньше брал ее кататься на своей колеснице. Разве отец и мать не вели себя так же непоследовательно? Установленные ими правила были нечестными, а иногда и просто смешными. И если отцу эти зрелища не нравятся, это еще не значит, что им с Марком они тоже не должны нравиться. Отец всегда был расчетливым традиционалистом и лицемером. Иногда он и сам ходил на зрелища, хотя говорил при этом, что делает это только тогда, когда того требуют общественные и политические дела.
— Не понимаю, как можно всей толпой приветствовать человека, который является обыкновенным разбойником или убийцей, — как–то раз сказал отец на следующий день после посещения зрелища. — Келер, как петух, ходит по арене и сражается лишь постольку, поскольку это не угрожает его жизни. И все ему поклоняются как богу.
Юлия возблагодарила богов за Марка, который не мог ей отказать. Он справедлив, разумен и готов рисковать навлечь на себя гнев отца, чтобы дать ей те простые привилегии, которыми обладают ее подруги.
— Я так рада, что ты привел меня сюда, Марк. Теперь мои подруги больше не будут надо мной смеяться, — сказала она, положив свою руку на его ладонь.
Оторвавшись от своих мыслей, он слегка улыбнулся ей.
— Наслаждайся и ни о чем не беспокойся.
Марк думал о том, что говорил отец об использовании на строительных работах рабского труда вместо труда свободных людей. Отец утверждает, что именно рабы являются причиной ослабления Рима. Свободный человек хочет работать, у него всегда есть цель в жизни. Марк отвечал, что свободному человеку нужно платить, и немало. А так можно купить рабов, использовать их на строительстве, а потом, когда работа будет завершена, снова продать их. Он, таким образом, экономит деньги, работа не останавливается, а по ее окончании он даже получает дополнительную прибыль. Отец не признавал такой логики, утверждая, что, если Рим хочет выжить, он должен использовать наемный труд своих граждан, а не ввозить рабов извне.
Юлия наклонилась к Марку и сжала его руку в своей.
— Если ты волнуешься о том, что я проболтаюсь отцу, то напрасно. Я не скажу ни слова.
— Ну, тогда я совершенно спокоен, — иронично ответил Марк.
Она откинулась назад, обиженная его снисходительным тоном.
— Я умею хранить секреты.
— Я бы не доверил тебе ни одного!
— А разве это не секрет? Да если отец узнает, что ты привел меня сюда, он с тебя живого шкуру спустит.
— Ему сегодня утром достаточно было на твое лицо взглянуть, чтобы понять, что ты отправляешься не просто на загородную прогулку.
— Он никогда еще не запрещал тебе брать меня с собой.
— Наверное, он знает, что ты все равно найдешь способ попасть сюда. И, вероятно, он считает, что лучше уж тебе пойти сюда со мной, чем с кем–то из твоих ветреных подруг.
— Я могла бы пойти с Октавией.
— Да–да, с этой маленькой невинной Октавией…
Ей определенно не нравился его издевательский тон.
— Она, между прочим, ходит на церемониальный пир накануне зрелища и видит там всех лучших гладиаторов.
— Я знаю, — сухо сказал Марк, действительно хорошо осведомленный в этих делах. — Октавия вообще делает много такого, чего я не хотел бы знать за тобой.
— Не понимаю, почему ты не одобряешь ее поступки. Она всюду ходит со своим отцом.
Марк ничего не сказал, так как был уверен, что все то, что он скажет о Друзе, будет передано Октавии. Друз не был богат настолько, чтобы реально угрожать ему, но все же обладал достаточным влиянием и деньгами, чтобы попортить Марку нервы.
Юлия крепко сжала руками колени. Он хочет, чтобы она чувствовала себя виноватой. С его стороны, конечно, это свинство, но ее никто не заставит пуститься в дискуссию об отце. По крайней мере, сейчас. Она прекрасно понимала, что ослушалась его, но почему она должна чувствовать себя виноватой? Марк живет вполне самостоятельной жизнью с восемнадцати лет. Он никогда не следовал смехотворным представлениям отца о нравственности, так почему же она должна это делать? Отец всегда был непоследовательным и нудным диктатором. Он хотел, чтобы она училась и готовилась стать хорошей женой, как мама. Никто не спорит, мама прекрасный человек — кто бы не хотел иметь такую умную жену? — но Юлия желала большего. Она хотела радоваться жизни. Она хотела страсти. Она хотела испытать все, что только может дать ей жизнь.
Марк тоже откинулся назад. Он прикрыл глаза, казалось, он сейчас уснет от скуки. Юлия сжала губы. Ей было все равно, скучно ему или нет. Ее раздражало то, что он защищает взгляды отца, тем более что они с отцом нередко вели какие–нибудь споры. В последнее время Марк спорил с отцом постоянно и на любые темы.
Она взглянула на брата и увидела, каким жестким стал у него подбородок. Марк был погружен в свои мысли. Такое выражение лица она видела у него очень часто и теперь понимала, что он думает о каком–то конфликте, который произошел у него с отцом. В конце концов, это нечестно. Она ни за что не позволит сегодня испортить ей вечер — ни отцу, ни Марку, никому.
— Октавия сказала, что на таких пирах несколько раз видела Аррию.
Губы Марка скривились в циничной улыбке. Юлия ни разу еще не сказала ему ничего такого, чего он бы не знал.
— Аррия тоже делает много такого, чего я не хотел бы знать за тобой.
Ну почему никто не хочет, чтобы она была такой же, как все?
— Аррия красива и богата. Она делает все, что хочет, чтобы получать удовольствия. И я бы тоже хотела быть в точности такой, как она.
Марк зло рассмеялся.
— Ты слишком мила и простодушна для того, чтобы стать такой, как она.
— Принимаю это как комплимент, — сказала Юлия и отвернулась. Мила и простодушна! Он мог бы также сказать, что она глупа. Никто ее по–настоящему не знал, даже Марк, который знал ее лучше остальных. Для него она была всего лишь младшей сестренкой, которую надо баловать, над которой надо подтрунивать. Отец и мать смотрели на нее сквозь пелену собственных ожиданий и делали все возможное, чтобы сформировать ее в соответствии со своими надеждами.
Юлия завидовала свободе Аррии.
— А она придет сегодня? Я бы хотела с ней встретиться.
— Аррия?
— Да, Аррия. Твоя любовь.
Марку меньше всего хотелось, чтобы его сестра встретилась с Аррией.
— Если и придет, то не скоро. По крайней мере, не раньше чем на арене прольется первая кровь. И уж если придет, моя радость, то сидеть она будет не с нами, а с Антигоном.
— Ты хочешь сказать, что Антигон будет сидеть не здесь? — удивленно спросила Юлия.
— Он будет в ложе благотворителя.
— Но ты ведь всегда сидишь с ним.
— Не сегодня.
— Почему? — Юлия испытывала растущее чувство негодования, решив, что этот юный аристократ счел унизительным сидеть вместе с сыном какого–то ефесского торговца. — Мы должны сидеть в той же ложе. Ведь все это проводится на деньги отца, и я не думаю, что в интересах Антигона исключить нас.
— Да успокойся ты. С его стороны никакого неуважения к нам нет. Я сам уступил им места, — сказал Марк. У него не было ни малейшего желания втягивать свою сестру в общество его похотливого друга или его безнравственной возлюбленной. Он хотел, чтобы Юлия радовалась сама по себе, а не погрязла в разврате после первого же жаркого представления на арене. Антигон как–то уже заметил, что Юлия растет и превращается в прекрасную девушку, и для Марка одно это было серьезным предупреждением. Юлия была очень впечатлительна, поэтому запросто могла стать добычей ловких интриг Антигона. Марк хотел сделать все возможное, чтобы обезопасить Юлию. Уж он постарается сделать так, чтобы Юлия оставалась нетронутой, пока не выйдет замуж за того, на ком остановится выбор отца, а там пусть она делает все, что хочет.
Тут Марк внезапно нахмурился. А ведь отец уже сделал свой выбор, хотя Юлии никто не должен ничего говорить до тех пор, пока не будут закончены все приготовления. Отец сказал об этом Марку всего час назад, непосредственно перед тем, как к ним вошла Юлия. «Насчет свадьбы твоей сестры уже все решено, — сказал он, — мы объявим о ней в течение месяца».
Марк сидел, как оглушенный. Если отец хотя бы заподозрит, что он взял Юлию на зрелища, все пропало. Он тогда настороженно посмотрел на отца, желая знать, почему тот заговорил с ним о помолвке.
— Я никогда не давал Юлии своевольничать, ни при каких обстоятельствах, — заверил Марк отца, — она моя сестра, и мне небезразлична ее честь.
— Да, я знаю это, Марк, но нам с тобой также известно, что Юлия немного взбалмошна. Ее очень легко сбить с толку. Ты должен защищать ее всеми силами.
— От жизни? — усмехнулся Марк.
— От глупых и бесцельных развлечений.
Марку не понравились эти слова отца, потому что он понял, что они адресованы и ему самому. Однако он не стал спорить.
— И кого ты выбрал ей в качестве жениха?
— Клавдия Флакка.
— Клавдия Флакка?! Самый худший выбор, который ты только мог сделать!
— Я делаю то, что считаю для твоей сестры благом. Ей нужна стабильность.
— Да она умрет с ним от скуки.
— Когда у нее будут дети, она остепенится.
— Перед всеми богами, отец, ответь, знаешь ли ты свою собственную дочь?
Лицо Децима стало жестким, а темные глаза сверкнули огнем.
— Когда речь идет о твоей сестре, ты почему–то становишься глупцом и слепцом. То, чего она хочет, и то, что есть для нее благо, — не одно и то же. Тебе бы давно пора это понять. — Марк отвернулся, понимая, что в гневе может наговорить такого, о чем потом сам пожалеет. — Марк, пока ты заботишься о Юлии, смотри, чтобы никто и никаким образом ее не скомпрометировал.
Марк знал, что Флакк был из практически безупречной семьи — отец это качество открыто презирал, но втайне ему завидовал. Флакк был не из бедной семьи, у него было определенное положение в обществе. Однако Марк подозревал, что истинная причина выбора отца заключалась в традиционных взглядах и высокой нравственности Флакка. Флакк уже был женат и, насколько Марк слышал, оставался верен своей жене до самого конца. Пять лет назад она умерла от родов, и с тех пор его имя ни разу не связывали с какой–либо женщиной. Одинокий мужчина мог быть либо холостяком, либо гомосексуалистом.
При всех достоинствах Флакка Марк все же не был уверен в том, что Юлия будет с ним счастлива. Флакк был гораздо старше Юлии, обладал интеллектуальным складом ума. Такой человек будет скучной компанией для девушки с темпераментом Юлии.
— Ты совершаешь большую ошибку, отец.
— А ты совершенно не беспокоишься о будущем своей сестры.
В этот момент к ним вошла Юлия, не дав тем самым Марку высказать свое мнение на этот счет. Кто знал Юлию лучше его? Она была такой же, как и он, так же не принимала ограничений той морали, которую во всей империи уже давно забыли.
По пути к арене он дал Юлии поводья и разрешил ей пустить коней в дикий галоп. Ей ведь едва исполнилось пятнадцать лет… Пусть же она насладится ветром свободы, дующим ей в лицо, пока отец не выдаст ее за Флакка и ее не запрут за высокими стенами Авентинского дворца, — мрачно подумал он. Та самая горячая кровь, которая бежала по его жилам, бежала и по жилам Юлии, и мысли о ее будущем теперь отзывались в нем болью. Лично ему хотелось дать сестре все самое интересное, что ей хотелось испытать, но честь семьи и его собственные амбиции этого ему не позволяли.
Марк прекрасно понимал то, что отец не высказал в своем предупреждении: держи сестру подальше от своих друзей, особенно от Антигона. Мог бы и не предупреждать. Марк и сам понимал, что ему нужно сделать все, чтобы защитить честь сестры и тем самым честь всей семьи, но при этом в его планы вовсе не входило осложнение отношений с Антигоном. Он знал своего друга, молодого аристократа, слишком хорошо и понимал, что Юлию нужно всеми силами оградить от его общества. Антигону не стоило бы большого труда соблазнить ее, а потом жениться на ней, чтобы обеспечить себе в будущем доступ к финансам семьи Валериана. Марк вовсе не был так глуп. Существенное финансовое обеспечение карьеры Антигона было необходимо постольку, поскольку оно открывало путь к вожделенным договорам на строительство, но при этом Марку совершенно не нужен был брак, который, в конечном счете, лег бы на него тяжелым материальным бременем.
Теперь, когда у него были строительные договора, он мог значительно расширить свои возможности. Через три или четыре года Антигон уже будет ему не нужен. Какое–то время Антигон был Марку интересен, он даже был в определенной степени умен, но теперь Марк видел, что в сенате Антигон долго не протянет. Он был расточителен, невоздержан в вине, за короткий срок мог потерять слишком много. Однажды он устроил очень бурную вечеринку, во время которой напился, наговорил много лишнего, да вдобавок соблазнил жену какого–то патриция, и все это кончилось приказом императора примерно наказать его. Поэтому Марк предпочитал до поры до времени держать с ним определенную дистанцию.
Восторженные крики Юлии снова заставили его оторваться от своих мыслей.
— О Марк, как тут здорово! Просто потрясающе! — Зрительские места заполнялись мужчинами, женщинами, детьми. Шум то нарастал, то затихал, подобно прибою. Марк не видел вокруг ничего интересного и лениво откинулся назад, решив молча пережить эту скуку. Юлия же сидела напряженно, широко раскрытыми глазами оглядывая все вокруг, стараясь запомнить все, что происходит на арене.
— Марк, на тебя какая–то женщина уставилась. — Его глаза в это время были прикрыты от солнечного света.
— Ну и пусть, — равнодушно сказал он.
— Ты, наверное, ее знаешь, — сказала Юлия, — открыл бы глаза пошире да посмотрел.
— Не вижу смысла. Если она красива, я бы за ней, конечно приударил, но мне нужно защищать свою прекрасную и невинную сестренку.
Хихикнув, Юлия подтолкнула его локтем.
— А если бы меня здесь не было?
Марк приоткрыл один глаз и поискал ту женщину, о которой говорила сестра. Затем снова закрыл глаза.
— Хватит болтать.
— А на тебя и другие смотрят, — сказала Юлия, гордая тем, что сидит рядом с ним. Валерианы не могли похвастаться тем, что в их жилах течет римская кровь, но Марк был очень обаятелен, от него исходил дух уверенности в своих силах и способностях. Его внешность привлекала внимание как женщин, так и мужчин. Юлии это было приятно, потому что, если люди смотрели на него, она неизбежно тоже попадала в их поле зрения. Она сегодня как следует поработала над своей внешностью и теперь выглядела потрясающе. Почувствовав на себе смелый взгляд одного мужчины, находившегося в нескольких рядах от нее, она сделала вид, что не замечает его. Может быть, он подумал, что она любовница Марка?
Эта мысль позабавила ее. Ей очень хотелось выглядеть загадочной, непонятной для окружающих, но она знала, что ее выдавал яркий румянец невинности на щеках.
Интересно, как бы в такой ситуации поступила Аррия? Сделала бы вид, что не замечает открытого взгляда этого мужчины? Или взглянула бы в ответ?
Тут, напугав ее, заиграли трубы.
— Марк, проснись? Зрелища начинаются! — восторженно воскликнула Юлия, наклонившись вперед.
Когда началась скучная предварительная часть, Марк широко зевнул. Обычно он приходил позже, чтобы не слушать все эти утомительные объявления о том, какому благотворителю обязаны зрители сегодняшними представлениями. Сегодня парад со своими знаменами возглавит Антигон. Но никому на самом деле не было интересно, на чьи деньги все это проводится. Более того, если кого–то из благотворителей восхваляли слишком долго, со стороны зрителей в его адрес начинали раздаваться крики недовольства и даже оскорбления.
Юлия радостно захлопала в ладоши, когда на арене появились колесницы с благотворителями и участниками состязаний.
— Нет, ты только посмотри! Как здорово! — Ее восторг забавлял Марка.
Будучи главным благотворителем зрелища, Антигон возглавил парад. Он был одет в праздничные одежды белого и золотистого цвета, украшенные знаками отличия, которые свидетельствовали о том, что он стал сенатором. Возница правил парой красивых жеребцов, а находившийся в колеснице Антигон махал зрителям рукой в знак приветствия. Когда они проехали полтора круга по арене, возница повернул коней и остановил колесницу прямо напротив императорского места. Антигон, воспользовавшись своими актерскими способностями, произнес речь, которую Марк написал ему накануне вечером. Толпа явно одобрила то, какой краткой она оказалась; речь воздавала честь императору и его таланту. После этого Антигон дал сигнал, по которому участники состязаний спрыгнули с колесниц, чтобы представиться публике.
Юлия, задыхаясь от восторга, указала на гладиатора, снимавшего с себя ярко–красный плащ. Под плащом у него красовалось отполированное бронзовое вооружение.
— Ты только посмотри на него! Какой красавец!
Его шлем был украшен желтыми, синими и красными страусиными перьями. Гладиатор важно прошелся по арене, чтобы все зрители могли полюбоваться на него. Губы Марка скривились в усмешке. Пожалуй, отец прав. Келер действительно похож на петуха, прогуливающегося по двору. Юлия же смотрела на гладиатора не отрываясь, и ей казалось, что это самый красивый мужчина из всех, кого она когда–либо видела, — пока остальные гладиаторы также не сбросили свою верхнюю одежду и не присоединились к Келеру.
— А это еще кто такой? — спросил Юлия, указывая пальцем.
— Кто?
— Ну, вон тот, с сетью и трезубцем.
— Это ретарий. Он будет сражаться с мурмиллоном, с одним из тех, у которых на шлемах гребни, как у рыбы, или с секутором. Видишь там гладиатора в полном вооружении? Это секутор. Они должны будут сражаться со своими врагами до тех пор, пока не перебьют друг друга и не станет ясно, что схватку пора останавливать.
— Мне нравятся мурмиллоны, — засмеялась Юлия. — Рыбак против рыбы. — Щеки у нее горели, глаза сверкали все ярче, когда она смотрела на гладиаторов. Марк был доволен, что привел ее сюда. Она захлопала в ладоши, когда вновь заиграли трубы. — А вон тот случайно не фракиец? — спросила она, указав на высокого гладиатора с продолговатым щитом и украшенным перьями шлемом. Он был вооружен мечом и копьем, а его правая рука была покрыта специальным рукавом. — Октавия говорила, что фракийцы самые потрясающие!
— Нет, это самнит. Фракиец вон тот, с кривым кинжалом и маленьким круглым щитом, — ответил Марк, не испытывавший ни малейшего интереса ни к тому, ни к другому.
Келер остановился напротив сидящих на своих местах богато одетых женщин и покрутил перед ними бедрами. В ответ раздался восторженный визг сгорающих от похоти женщин. И чем более явственными становились его ужимки, тем громче женщины смеялись и визжали, а другие зрители их в этом поддерживали. Некоторые даже стали пробираться вниз, к ограждению, чтобы перегнуться и вручить знаменитому гладиатору цветы. «Келер! Келер! Я люблю тебя!» — закричал кто–то.
Юлия смотрела на это, широко раскрыв глаза и рот. Марк попытался отвлечь ее внимание от аморате, как называли ярых поклонников гладиаторов, и указал ей на других участников предстоящих боев. Она, однако, не могла отвести глаз от происходящего. Когда же Келер сделал круг по арене и поравнялся с их сектором, женщины встали и начали снова и снова выкрикивать его имя, пытаясь перекричать друг друга, будто надеясь, что он обратит внимание именно на какую–то одну из них. Юлия тоже вскочила с места и стала кричать в истерике, приведя Марка в замешательство. Раздраженный, он притянул ее вниз, чтобы она успокоилась.
— Отпусти! Я хочу его получше рассмотреть, — воскликнула она в негодовании. — Все встали, я же ничего не вижу!
Марк сдался. В самом деле, почему бы сестре не испытать для разнообразия восторг от чего–то нового? Большую часть своей жизни она провела в доме, под бдительным оком родителей. Пора бы ей хоть немного посмотреть на мир за пределами высоких стен и украшенных скульптурами садов.
Юлия стояла и что есть силы вытягивалась на носках.
— Он смотрит на меня! Обязательно расскажу Октавии! Она лопнет от зависти! — Смеясь, она помахала рукой и вместе со всеми стала выкрикивать: — Келер! Келер!
Женщины кричали все громче и громче, но вдруг Юлия застыла на месте, раскрыв рот. Глаза ее делались все шире, а лицо залила краска. Марк схватил ее за руку и решительно усадил рядом с собой. Юлия зажмурила глаза, когда крик женщин перешел в неистовство.
Марк посмотрел на выражение лица сестры и засмеялся. Келер всегда гордился своим телом, и ему доставляло наслаждение показать его беснующейся толпе — все, что они хотели увидеть. Марк усмехнулся.
— Ну, что? — произнес он со всей бестактностью старшего брата. — Ты хорошо его разглядела?
— Мог бы предупредить меня заранее!
— Хотел сделать сюрприз…
— Я терпеть не могу, когда ты надо мной смеешься, Марк, — наклонив голову, она отвернулась. Женщины продолжали вопить так громко, что ей казалось, у нее вот–вот разболится голова. Что там еще делал этот ужасный гладиатор? Наконец понемногу зрителя стали успокаиваться и рассаживаться по местам. Юлия снова увидела Келера, который уходил от них. Он присоединился к другим гладиаторам, которые, стоя перед императорской ложей, подняли вверх правые руки и произнесли ритуальное гладиаторское приветствие.
— «Ave, Imperator, morituri te salutant!» — «Славься, император, идущие на смерть приветствуют тебя!»
Несмотря на все то, что говорила Октавия, Юлия вовсе не находила Келера красивым. У него не было нескольких зубов, и у него был ужасный шрам на бедре, а еще один проходил по лицу. Но было в нем что–то такое, от чего ее сердце начинало учащенно биться, а во рту пересыхало. Сидя рядом со своим братом, который следил за ней и был ею недоволен, Юлия испытывала неловкость. Вдобавок ко всему, какой–то молодой человек, сидящий несколькими рядами ниже, все время смотрел на нее, и от выражения его глаз у нее холодело внутри.
— Ты, кажется, покраснела, Юлия.
— Я тебя ненавижу, Марк! — произнесла она, едва сдерживая слезы гнева. — Я тебя ненавижу, когда ты надо мной смеешься!
Видя ее ярость, Марк слегка приподнял брови. Наверное, он стал слишком равнодушным ко всему тому, что показывали бустарии, или смертники, как их еще называли. Его уже ничто не удивляло, тогда как Юлию все приводило либо в восторг, либо в состояние шока. Он сжал ее руку в своей.
— Извини, — искренне сказал он сестре. — Глубоко вздохни и успокойся. Просто я, наверное, настолько привык ко всем этим спектаклям, что они меня уже не шокируют.
— Я не шокирована, — ответила она, — Но если ты еще раз надо мной посмеешься, то я расскажу матери и отцу о том, что ты привел меня сюда против моей воли!
Ее заносчивый тон и смехотворные угрозы стали выводить из терпения даже его. Юлия последние два года только и делала, что упрашивала брата взять ее с собой на зрелища. Марк посмотрел на нее прищуренным, сардоническим взглядом.
— Если будешь вести себя как последний избалованный ребенок, я немедленно уведу тебя домой!
Она увидела, что он не шутит. Губы у нее разжались, и на темные глаза стали наворачиваться слезы.
Марк проклял все на свете. Ему был очень хорошо известен этот взгляд сестры, и он знал, что еще немного, и она просто разрыдается, и он будет выглядеть как последний хам, способный унизить такую хрупкую девочку.
— Если ты сейчас разревешься, ты сделаешь всю нашу семью посмешищем Рима, и тогда, клянусь, больше я никогда не возьму тебя на зрелища.
Юлия сдержала слезы и свой протест. Отвернувшись, она напрягла все силы, чтобы обуздать свои эмоции. Временами Марк бывал очень жесток. Было хорошо, когда он над ней подтрунивал, но если она защищалась, он угрожал, что отправит ее домой. Она сжала руки.
Марк понаблюдал за ней с минуту, затем нахмурился. Он так хотел показать ей любимое развлечение римлян. Юлию можно было легко увлечь, она сразу приходила в восторг от всего нового, но все же она не была похожа на тех женщин, которые впадали в самую настоящую истерию.
Видя, как брат ее изучает, Юлия сжала губы. Если он ждет извинений, то ждать ему придется вечно. Он не заслужил этого, насмехаясь над ней.
— Я буду вести себя как положено, Марк, — сказала она очень серьезно, — и тебя не опозорю.
Здравый смысл подсказывал Марку, что лучше ему увести ее домой, пока не началось кровопролитие. Да, она рассердится на него, несколько дней не будет с ним разговаривать… Но Марк все же отбросил эту идею. Ему не хотелось разочаровать сестру. Она ведь так долго этого ждала. Наверняка она получит здесь самые эмоциональные переживания.
Он снова сжал ее руку в своей.
— Если тебе станет здесь невыносимо, мы уйдем, — сказал он совершенно серьезным тоном.
Она почувствовала огромное облегчение.
— О, вовсе нет, Марк, клянусь тебе. — Она взяла его за руку. Наклонившись к нему, она посмотрела вокруг с широкой улыбкой. — Ты не пожалеешь, что привел меня сюда. Я даже не вздрогну, когда Келер кому–нибудь перережет горло.
Затрубили трубы, возвещающие о том, что наступает второй этап бескровных представлений, предназначенных для «разогрева» публики. Однако Юлии понравились пегнарии, или шутливые борцы. Она аплодировала, выкрикивала какие–то реплики в адрес выступающих, привлекая внимание более опытных зрителей, которые в этот момент смотрели не столько на арену, сколько на нее. Вышедшие позднее лузории уже сражались всерьез, но не могли нанести друг другу серьезные повреждения своим деревянным оружием.
Солнце уже было высоко и палило вовсю. На арене не было ни ветерка, и Марк увидел, как пот выступил на бледном лбу Юлии.
Он дотронулся до ее руки и почувствовал, что она холодная.
— Надо купить вина, — сказал он, обеспокоенный тем, что сестра от жары может упасть в обморок. Ей нужно было что–нибудь попить и посидеть в тени. Его настолько заняли текущие заботы, что он просто не успел как следует подготовиться к зрелищу. Обычно Аррия брала с собой вина, еды и раба, который держал над ней навес от солнца. — Оставайся здесь и ни с кем не разговаривай.
Спустя несколько минут место Марка занял молодой римлянин, который все время смотрел на нее.
— Твой возлюбленный оставил тебя, — сказал он ей на греческом.
— Мой брат меня не оставил, — высокомерно ответила она, и ее щеки при этом загорелись, — он просто вышел купить вина и скоро вернется.
— Твой брат, — сказал он, обрадовавшись. — Я Никанор из Капуи. А ты?..
— Юлия, — медленно произнесла она, помня о том, что ей велел Марк, но при этом испытывая жгучее желание поделиться с Октавией как можно большим количеством впечатлений.
— У тебя прекрасные глаза. От таких глаз любой мужчина может потерять голову.
Юлия покраснела, а сердце забилось чаще. Всю ее бросило в жар от смущения. Судя по одежде, юноша не принадлежал ее классу, но именно его простота и приводила ее в восторг. Глаза у него были карие, с длинными ресницами, губы полные и чувственные.
— Мой брат запретил мне с кем–либо разговаривать, — сказала она, снова вздернув подбородок.
— Твой брат мудрый человек. Здесь много людей, которые были бы не прочь соблазнить такую юную и прекрасную особу, как ты, — его глубокий голос стал ласковее, когда он добавил: — Ты настоящая дочь Афродиты.
Польщенная и тронутая, Юлия слушала. Он говорил долго и пламенно, а она упивалась его словами. Но когда его мозолистая рука прикоснулась к ее нежной руке, все обаяние исчезло. Слегка вздрогнув, девушка отпрянула.
Никанор последний раз взглянул на нее и исчез.
Марк пришел с большим мехом вина, который тут же передал ей в руки.
— Ты уже с кем–то успела тут познакомиться?
— Его зовут Никанор. Он пришел, сел на твое место, рядом со мной, стал со мной разговаривать, а я не знала, что делать, чтобы прогнать его. Он сказал, что я прекрасна.
— Клянусь всеми богами, Юлия, тебя уж слишком долго держали взаперти. Ты чересчур легковерна.
— А он мне понравился, хотя и простоват. — Она повернулась к брату. — Как ты думаешь, он еще вернется?
— Если вернется, то у Антигона будет дополнительное мясо для его львов, — с этими словами Марк налил из меха немного вина в специальный кубок и передал кубок Юлии.
Тут заиграли трубы, возвещавшие о том, что сейчас начнется первая схватка с настоящим вооружением. Юлия тут же забыла о Никаноре, быстро выпила вино и бросила кубок обратно Марку, чтобы наклониться вперед и лучше все видеть. Антигон дал знак музыкантам, и, когда началась схватка, затрубили все трубы. Отразив несколько ударов, защищающийся сам пошел в атаку, после чего трубы и флейты заиграли трель. Зрители стали кричать и поддерживать тех, за кого они болели. Схватка продолжалась довольно долго, и даже Юлия стала испытывать разочарование.
— И часто они так долго сражаются?
— Часто.
— Я хочу, чтобы ретарий победил.
— Не победит, — сказал Марк, без особого интереса наблюдая за схваткой. — Смотри, он уже выдыхается.
— Откуда ты знаешь?
— Вижу, как он держит трезубец. Смотри внимательно. Видишь, как он ныряет и заваливается набок? Плохо защищается. Фракиец скоро с ним покончит.
Один из наставников подбадривал фракийца, тогда как другой призывал сражаться как следует. Толпа свистела, выкрикивала оскорбления, с нетерпением ожидая убийства. Наставник ретария выбрал совершенно неподходящий момент, чтобы подхлестнуть своего подопечного, потому что наконечник плетки обвил острие трезубца ровно настолько, чтобы дать фракийцу возможность нанести решающий удар. Удар мечом оказался сильным, и ретарий упал на песок.
— О! — разочарованно произнесла Юлия, когда толпа продолжала кричать и подбадривать фракийца. — Ты был прав, Марк.
Ретарий стоял на коленях, держась руками за бок, из которого обильно лилась кровь. «Фракиец победил!» — кричала толпа, показывая большими пальцами рук вниз. «Югула! Югула!» Фракиец посмотрел на императора. Веспасиан, перемолвившись парой фраз с сенаторами, показал большим пальцем вниз. Фракиец повернулся к противнику и схватил его за голову. Отклонив ее назад, он сделал быстрое режущее движение своим кинжалом и пустил из шейной вены ретария кровь. Прежде чем побежденный упал замертво, фонтан крови брызнул из его шеи, забрызгав фракийца. Ретарий остался лежать на песке, в луже крови.
Марк взглянул на Юлию и увидел, что она сидит с закрытыми глазами, стиснув зубы.
— Первое убийство в твоей жизни, — сказал Марк. — Ты его хоть видела?
— Да, видела. — Руками она вцепилась в переднюю часть туники. Глаза она открыла уже в тот момент, когда какой–то африканец, одетый в костюм Меркурия, танцевал на песке возле убитого гладиатора. Символизируя божественный дух убитого, он оттащил тело через специальный проход. Победителю вручили пальмовую ветвь, а другие африканские мальчики стали сгребать пропитанный кровью песок, после чего насыпали свежий песок для следующей схватки.
Юлия была бледной и вся дрожала. Марк провел кончиками пальцев по ее мокрому лбу и почувствовал, что лоб холодный.
— Давай уйдем.
— Нет. Я не хочу уходить. Просто меня немного затошнило, Марк. Все, уже прошло. — Ее темные глаза были широко раскрыты и горели. — Я хочу остаться.
Марк внимательно посмотрел на нее, потом кивнул, испытывая гордость за сестру. Он ошибался, думая, что Юлия не выдержит.
Юлия была достойной дочерью Рима.
8
Енох понимал, что очень рискует. Его хозяин велел приобрести семь рабов, но при этом ничего не говорил о необходимости покупать иудеев. Енох сам принял это решение, несмотря на то что его хозяин предпочитал галлов или британцев. Но, насмотревшись на то, как его соотечественников сотнями пригоняют из Иудеи в Рим и отправляют умирать на арену, Енох не мог удержаться, чтобы не спасти хотя бы нескольких из них.
Страдали все иудеи, а не только те, кто поднял восстание. Раньше с иудейских граждан Рима собирали по полсекиля, чтобы поддерживать в должном состоянии храм в Иерусалиме, а теперь деньги собирали для того, чтобы строить колоссальный амфитеатр. Иудейские рабы таскали камни, иудейские пленники первыми умирали на арене, иудейские граждане платили самые большие суммы денег.
При мысли о том, что стало с его родиной и его народом, Енох испытывал одновременно гнев и боль. До сегодняшнего утра он не мог сделать ничего, чтобы спасти хотя бы одного своего соотечественника. Теперь на его попечении было несколько человек. Но он боялся. Никто из них не годился для тяжелой работы, которую требовалось делать в имении. Даже если их вымыть, побрить и одеть в новую одежду, на них все равно было жалко смотреть. Выложить четыреста сестерциев за каждого, когда никто из них не стоил даже половины этой суммы!
Он смотрел на девушку и не мог взять в толк, зачем вообще он купил ее. Ну куда она годится? Однако едва он посмотрел ей тогда в глаза, как почувствовал на себе Божью руку и услышал спокойный и мягкий голос: Спаси ее. Енох тогда взял ее без колебаний, а вот теперь думал о том, что скажет ему хозяин. Тот ожидал галлов и британцев, а ему приведут каких–то семерых доходяг–иудеев, среди которых одна маленькая девушка с глазами пророчицы. Всю дорогу Енох отчаянно молился о том, чтобы Бог уберег его.
Открыв замок западного входа, Енох пропустил семерых рабов за высокие стены имения своего хозяина. Затем он повел их по дорожке в заднюю часть дома. Выстроив всех семерых в специальном приемном помещении, в котором хозяин каждое утро раздавал деньги, Енох приказал им стоять прямо и молчать, смотреть при этом вниз и говорить только тогда, когда хозяин обратится с вопросом именно к ним.
— Ждите здесь, а я пойду говорить с хозяином. Молитесь о том, чтобы он взял вас всех. Децим Виндаций Валериан добр, в отличие от большинства римлян, и если вы ему понравитесь, вам тут будет хорошо. Да защитит всех нас Бог отцов наших.
Децим находился со своей женой в перистиле — она вертела в своих изящных пальцах маргаритку и слушала мужа. Еноху показалось, что хозяин не в духе, но все же, сделав глубокий вдох и набравшись смелости, он подошел к супругам. Он подождал, когда хозяин заметит его и кивнет, разрешив тем самым говорить.
— Мой господин, — начал Енох, — я вернулся с семью рабами, которых ты можешь посмотреть.
— Галлы?
— Нет, мой господин. Галлов на рынке не было. Не было и британцев. — Он надеялся, что глаза и выражение лица не выдадут его лжи. — Они из Иудеи, мой господин, — сказал он и увидел, как губы хозяина сжимаются в тонкую суровую линию.
— Иудеи — самый грязный народ в империи, и ты осмелился привести их в мой дом?
— Но ведь Енох тоже иудей, — неожиданно раздался голос улыбающейся Фебы, — и он нам преданно служит уже пятнадцать лет.
Енох возблагодарил Бога за то, что она оказалась рядом.
— В данном случае он послужил самому себе, — сказал Децим, пристально смотря на своего управляющего холодным взглядом. Если этот раб хочет защитить себя, значит, сейчас он должен покривить душой и смолчать. — Они годятся для тяжелой работы?
— Нет, мой господин, — совершенно искренне ответил Енох, — но для прислуживания на пирах и отдыхе они вполне годятся.
— У меня нет ни времени, ни желания плодить здесь бунтовщиков.
Феба дотронулась до руки мужа.
— Децим, может быть, возьмешь хоть кого–нибудь из сострадания? — произнесла она мягким голосом. — Они ведь его соотечественники. Енох все время преданно служит нам. По крайней мере, не такой уж большой труд посмотреть на них и решить, годятся они нам или нет.
— О боги! — произнес Децим, глубоко вздохнув при виде только что прибывших рабов. Ему доводилось видеть многих пленных из множества стран, но никогда он еще не видел таких слабых, беспомощных людей, как эти, выжившие после разрушения Иерусалима.
— О! — только и произнесла Феба, и ее нежное сердце было тронуто жалостью к этим несчастным. — Для арены они не годятся, мой господин, но клянусь моим Богом, они будут служить тебе так, как это делаю я, — сказал Енох.
— А эта немного постарше Юлии, — сказала Феба, когда ее внимание привлекла молодая девушка, чьи темные глаза были полны страдания и познания в жизни многого из того, что словами объяснить невозможно. — Смотри, какая девушка, Децим, — тихо сказала Феба. — Что бы ты ни решил насчет остальных, но вот ее я хочу взять.
Он слегка удивился и посмотрел на жену.
— Зачем она тебе?
— Пусть прислуживает Юлии.
— Юлии? Для Юлии она не годится.
— Положись на меня, Децим. Прошу тебя. Эта девушка будет очень хорошо служить Юлии.
Децим еще раз внимательно оглядел девушку, задумавшись, что же в ней привлекло его жену, что заставило Фебу выбрать ее из всех остальных. Да, Феба какое–то время искала прислугу для дочери. Ей было представлено больше десятка рабынь, но ни одна из них Фебе не приглянулась. И вот теперь, недолго думая, она выбирает истощенную молодую иудейку, которая так ужасна, что и словами не выразить, — не иначе как дочь какого–нибудь ненавистного зилота.
Тут во двор смеющиеся и радостно возбужденные вошли Марк с Юлией. Увидев рабов, они притихли. Марк оглядел всех без особого восторга.
— У нас тут гости из Иудеи? — сказал он ироничным я удивленным голосом. — И что им тут надо?
— Мне нужны рабы для работы в имении.
— А я думал, ты предпочитаешь галлов и британцев.
Децим пропустил его слова мимо ушей и повелел Еноху отправить шестерых мужчин в загородное имение на Апеннинах, добавив: — А эта девушка останется здесь.
— Ты действительно купил их? — Марк был удивлен не на шутку. — И ее тоже? — добавил он, едва взглянув на девушку. — Никогда не знал за тобой привычки транжирить деньги, отец.
— Девушка будет служить Юлии, — сказала Феба.
Юлия посмотрела на девушку и снова повернулась к матери.
— Нет, мама, не шути так! Посмотри, какая она страшная. А я не хочу, чтобы у меня были страшные служанки! Я хочу служанку, как у Олимпии.
— Такой служанки у тебя не будет. Рабыня у Олимпии, может быть, и красивая, но только чересчур надменная и все время врет. Такой рабыне ничего нельзя доверить.
— Тогда Витию! Почему Вития не может мне служить?
— Вития тебе служить не будет, — твердым голосом сказала Феба.
Марк криво улыбнулся. Он прекрасно понимал, почему его мать ни за что не хотела, чтобы Вития служила Юлии, и догадывался, почему она хотела оставить у себя именно эту рабыню. Его губы скривились в усмешке. Иудейская мораль его не прельщала, но если у сестры будет рабыня, которая будет ей прислуживать и оберегать ее, это будет забавно.
— Как тебя зовут, дитя? — спросила Феба добрым и мягким голосом.
— Хадасса, моя госпожа, — тихо ответила девушка, устыдившись насмешливого взгляда молодого римлянина и капризного протеста молодой девушки. От разговора этих людей зависела вся ее дальнейшая жизнь. Она невольно сложила перед собой руки и опустила глаза, прекрасно понимая, что, если хозяйка дома не настоит на своем и ее отправят на рынок рабов, ее ждет смерть на арене.
— Да вы только посмотрите на нее, — разочарованно сказала Юлия. — Волосы обрезаны, будто это мальчишка какой–то, а тощая какая!..
— Покормить ее надо будет, вот и поправится, а волосы снова отрастут, — спокойно парировала Феба.
— Мама, но это нечестно. Я и сама уже могу выбирать себе служанок. Октавия так и делает. И ей прислуживает эфиопка, чей отец был вождем племени.
Марк рассмеялся.
— Ну, скажешь Октавии, что это родственница царицы Вереники.
Юлия вздохнула.
— Так она и поверит. Октавия только глянет на нее и сразу поймет, что она не может быть родственницей женщины, завоевавшей сердце Тита.
— Ну, тогда скажи ей, что твоя рабыня — дочь первосвященника. Или скажи, что она родилась пророчицей своего невидимого Бога и может предсказывать будущее.
Хадасса взглянула на молодого римлянина. Он был очень красив. Черные волосы были коротко пострижены и кудрями спадали ему на лоб. Широкоплечий, с узкой талией, он был одет в белую тунику, опоясанную прекрасно выполненным кожаным с золотом поясом. Кожаные ремни дорогих сандалий плотно облегали его мускулистые ноги. Руки у него были сильными и красивыми, на указательном пальце сверкал золотой перстень с печатью. Казалось, каждый дюйм его внешности говорил о высоком положении и богатстве.
По сравнению с физической силой этого мужчины, его сестра была само изящество. Хадасса была очарована неземной красотой этой девушки. Даже когда она была чем–то недовольна, ее голос звучал мягко и сладко, а гневный румянец на щеках только добавлял красоты ее бледному лицу. Она была одета в светло–голубую тогу, отороченную золотом. Густые темные волосы были завиты в кудри и убраны золотыми и жемчужными заколками, которые хорошо сочетались по цвету с серьгами. На шее красовалось тяжелое украшение с изображением какой–то языческой богини. Марк обратил внимание на то, что девушка рассматривает ее сестру. В ее глазах он не увидел ни горечи, ни ненависти — только искреннее восхищение. Она смотрела на Юлию так, будто его сестра была самым красивым творением, какое ей только доводилось видеть. Марку это показалось интересным, и он подумал, что его мать, пожалуй, права. Эта девушка пережила весь ужас иудейской войны, а в ее лице, как ни странно, были видны доброта и благородство; кто знает, может быть, ей удастся смягчить дикий и необузданный нрав Юлии.
— Оставь ее у себя, Юлия, — сказал Марк, зная, что одно его слово успокоит сестру быстрее, чем сотни слов, сказанных матерью или отцом.
— Ты действительно считаешь, что мне лучше ее оставить у себя? — удивленно спросила Юлия.
— Есть в ней что–то таинственное, — сказал Марк, не отрывая глаз от рабыни. Он уже чувствовал, что отец начинает сердиться. Уходя, он поцеловал Юлию и мать.
Когда Марк снова весело взглянул на Хадассу, сердце у нее так и запрыгало. Но когда он ушел, Хадасса почувствовала облегчение. Достаточно было одного его слова, и эта девушка успокоилась, начав внимательнее рассматривать ее и вогнав ее в краску.
— Хорошо, пусть останется у меня, — снисходительно сказала Юлия, — идем со мной, девушка.
— Ее зовут Хадасса, Юлия, — сказала Феба с мягкой укоризной.
— Ну Хадасса. Идем, — повелительно выговорила Юлия.
Хадасса послушно последовала за ней. Все в этом огромном доме удивляло ее. Полы были выложены яркой мозаикой, стены были мраморными. У дверных проемов стояли греческие вазы, со стен свисали вавилонские завесы. Они пересекли открытый двор, украшенный цветочными клумбами, диковинными растениями и мраморными статуями. Неподалеку раздавался нежный звук журчащей в фонтане воды. Хадасса вновь смутилась, увидев посреди небольшого бассейна статую, изображающую обнаженную женщину.
Ее хозяйка привела ее в какое–то помещение, где в беспорядке была разбросана одежда.
— Убери это все, — велела Юлия, развалившись на постели. Хадасса принялась за работу, собирая с пола и низенького стула тоги, туники и шали. Ее хозяйка наблюдала за тем, как она работает, а Хадасса тем временем аккуратно складывала одежду, чтобы потом убрать ее.
— Говорят, Иерусалим — священный город, — сказала Юлия.
— Да, моя госпожа.
— От него что–нибудь осталось?
Хадасса медленно выпрямилась и расправила в руках мягкую тунику.
— Почти ничего, моя госпожа, — ответила она спокойным голосом.
Юлия посмотрела в темные глаза этой девушки. Рабы обычно не смотрели в глаза своим хозяевам, но Юлия не почувствовала никакой обиды от того, что эта девушка смотрит на нее. Наверное, она еще не знает местных обычаев и правил.
— Мой отец был в Иерусалиме много лет назад, — сказала Юлия. — Он видел ваш храм. Сказал, что он очень красивый. Конечно, не такой красивый, как храм Артемиды Ефесской, но хотелось бы посмотреть. Жаль, что его больше нет!
Хадасса отвернулась и стала приводить в порядок разбросанные флакончики и сосуды.
— А что стало с твоей семьей, Хадасса?
— Они все погибли, моя госпожа.
— Они были зилотами?
— Отец мой был простым торговцем из Галилеи. В Иерусалим мы приехали на Пасху.
— А что такое Пасха?
Хадасса рассказала о том, как Бог забрал всех первенцев Египта, потому что фараон не хотел, чтобы Моисей и его народ ушли из его страны, но при этом Бог пощадил всех сынов Израиля. Юлия слушала, потом вынула из волос свои заколки.
— Если твой Бог такой могучий, почему же Он не вмешался и не спас Свой народ на этот раз?
— Потому что люди отвергли Его.
Юлия нахмурилась, ничего не понимая.
— Вы, иудеи, все очень странные, — сказала она и равнодушно пожала плечами, оставив эту тему. Потом она отвернулась и тряхнула головой, от чего ее волосы рассыпались по плечам. Она запустила пальцы в волосы, потому что любила чувствовать руками их шелковистость. Волосы у нее были действительно прекрасные. Марк ей неоднократно об этом говорил. — Непонятно, как можно верить в то, чего ты не видишь, — сказала она и взяла в руки расческу из черепашьего панциря. Проводя ею по своим черным волосам, она совершенно забыла о юной рабыне.
Ну когда Марк возьмет ее на зрелища в следующий раз? Ей так понравилось сегодня, и теперь ей не терпелось как можно скорее попасть туда снова.
— Что ты мне прикажешь делать теперь, моя госпожа?
Юлия вздрогнула и испытала разочарование, оттого что ее оторвали от таких сладостных мыслей. Она взглянула на несчастную девушку, потом оглядела комнату. Все вокруг было аккуратно прибрано. Даже постельное покрывало было разглажено, а диванные подушки сложены.
— Прибери мои волосы, — сказала Юлия и увидела, как девушка побледнела, когда увидела перед собой гребешок. — Ты ведь знаешь, как их убирать, разве нет?
— Я… я могу заплести вам косу, госпожа, — заикаясь, произнесла рабыня.
— Не понимаю, и зачем только тебя мама купила. Ну что мне пользы от тебя, если ты даже волосы мне убрать не можешь? — С этими словами Юлия досадливо сунула гребешок рабыне и подошла к двери. — Вития! Вития! Подойди сюда, сейчас же.
В дверях тут же показалась молодая египтянка, преданно глядя на хозяйку.
— Да, моя госпожа?
— Научи–ка эту бестолочь убирать мне волосы. Уж если ей выпало служить мне, надо же ей научиться выполнять свои обязанности.
— Слушаюсь, госпожа.
— Она, видите ли, умеет плести косы, — сказала Юлия с едким сарказмом. Хадасса стала наблюдать за тем, как египтянка умело справляется с этой работой. Хадассе показалось, что волосы были убраны прекрасно, но хозяйка осталась недовольна: — Снова! — После второго раза Юлия выдернула из волос золотые шпильки и гневно замотала головой. — А сейчас еще хуже. Убирайся! Ты такая же идиотка, как и эта. — Ее темные глаза наполнились слезами обиды. — Ну почему я не могу сама выбирать себе служанок?!
— У тебя самые красивые волосы из всех, что я видела, моя госпожа, — искренне сказала Хадасса.
— Неудивительно, если сравнить их с тем, что осталось от твоих, — снова язвительно произнесла Юлия, думая, что рабыня хочет польстить ей. Она взглянула на девушку. Было видно, что опустившая глаза иудейка молча сносила обиду. Юлия нахмурилась, почувствовав угрызения совести за свою резкость. Эта девушка заставила ее почувствовать себя неловко. Юлия отвернулась. — Подойди сюда. Я хочу, чтобы моя служанка убирала мне волосы так, как они убраны у Аррии, возлюбленной моего брата, и ты должна научиться этому с первого раза, прямо сейчас!
Испугавшись того, с каким хладнокровием были сказаны эти слова, Хадасса взяла дрожащими руками гребешок и сделала в точности все, что ей было сказано.
Затем они пошли в ванную комнату, и Юлия приказала размешать в прохладной воде благовония.
— Мне так скучно, — сказала она. — Ты знаешь какие–нибудь истории?
— Только истории моего народа, — ответила Хадасса.
— Ну, так расскажи что–нибудь, — сказала Юлия, потеряв всякую надежду на то, что в ее жизни будет что–то интересное и захватывающее. Она откинулась назад, прислонившись к мраморной стене, и слушала тихий голос девушки, говорящей с довольно сильным акцентом.
Хадасса рассказала ей историю об Ионе и рыбе. Юлии эта история показалась скучной, и тогда Хадасса рассказала о схватке Давида с Голиафом. Эта история заинтересовала Юлию уже гораздо больше.
— Он, наверное, был красивым? Да, интересная история, — сказала она. — Октавии наверняка понравится.
Хадасса изо всех сил старалась угодить своей юной хозяйке, но это было не так–то просто. Юлия всецело была поглощена только собой, своими волосами, своей кожей, своей одеждой, а Хадасса не знала ничего о том, как здесь делать все надлежащим образом. Однако она быстро все усваивала. Раньше ей только доводилось слышать об ароматических смолах и других веществах, подчеркивающих женскую красоту, но она никогда не видела, как ими пользуются. И ей было интересно наблюдать, как Юлия натирает этими веществами свою бледную кожу. Потом Хадасса снова и снова причесывала Юлию, пока той не надоело сидеть на одном месте. Хозяйку не устраивало ровным счетом ничего, и ничего перед ее глазами не складывалось в точности так, как она того хотела.
Когда вся семья собралась в триклинии на обед, Хадасса стояла за спиной Юлии, постоянно наполняя ее кубок вином и держа чашу с теплой водой и полотенце, чтобы Юлия могла ополоснуть и вытереть пальцы. Разговаривали о политике, праздниках, делах. Хадасса стояла молча, не произнося ни слова, слушая хозяев с большим интересом, хотя и старалась своего интереса ничем не выдавать.
Ей показалось интересным то, какие активные споры вела семья Валерианов за столом, когда все они по тем или иным вопросам выражали разные мнения. Децим был догматичным и жестким, легко выходил из себя из–за своего сына, который ни в чем с ним не соглашался. Юлии нравилось провоцировать остальных и насмехаться над ними. Феба выступала в роли миротворца. Она напомнила Хадассе ее собственную мать: такая спокойная, непритязательная, но достаточно сильная для того, чтобы примирить спорщиков, если дискуссия заходила слишком далеко.
Позднее в гости пришла Октавия.
— Какая страшная, — сказала она, без всякого интереса глядя на Хадассу, — и зачем твоя мать ее выбрала?
Уязвленная Юлия гордо подняла подбородок.
— Может быть и страшная, зато умеет рассказывать удивительные истории. Хадасса, подойди сюда. Расскажи Октавии о царе Давиде и его могучих воинах. Да, расскажи ей еще о человеке с шестью пальцами.
Хадасса, продолжая испытывать неловкость, послушно исполнила приказание.
— Она еще и другие истории знает, — сказала Юлия, когда Хадасса кончила рассказывать. — Сегодня уже рассказала мне чушь о какой–то башне, от которой, якобы, пошли все языки на земле. Полная ерунда, но, в общем–то, забавно.
— Ну что ж, истории довольно интересные, — заключила Октавия, — а моя служанка вообще едва по–гречески говорит. — Октавия и Юлия пошли дальше рука об руку по саду. Потом сели на скамье возле статуи обнаженного Аполлона. Хадасса стояла неподалеку, пока две девушки сидели, о чем–то шептались и смеялись. Красивая эфиопка Октавии за все время не проронила ни слова, но при этом ни на секунду не спускала с Октавии заносчивого, с оттенком ненависти, взгляда.
Хадасса, прислушиваясь к разговору девушек, была смущена излишне вольным разговором Октавии. Но еще больше ее поразило то обстоятельство, с каким интересом прислушивалась к своей гостье Юлия, готовая ловить каждое слово и каждую идею своей подруги.
— Это правда, что ты выходишь за Клавдия Флакка? — спросила Октавия, после того как рассказала о каком–то празднике, который она посетила, и о тех приключениях, в которых она там побывала.
От веселой улыбки Юлии не осталось и следа.
— Да, — горестно произнесла она. — Все уже решено. И как отцу только такое в голову пришло? Ведь Клавдию Флакку почти столько же лет, сколько и ему.
— Твой отец ефесянин, поэтому он, наверное, хочет породниться с римской знатью.
Юлия исподлобья посмотрела на Октавию, сверкнув глазами. Все знали, что отец Октавии, Друз, был дальним родственником кесаря по линии незаконнорожденной сестры одного из отпрысков Августа. Октавии доставляло удовольствие напоминать Юлии о том, что императорская кровь течет и в ее жилах, — так, слегка уколоть, чтобы Юлия понимала, какое ей выпало счастье быть подругой девушки, обладающей такими связями.
— В нашем роду ничего плохого нет, Октавия, — отцу Юлии ничего не стоило купить Друза. Их семья не состояла в родстве с кесарями, но вышла в свет исключительно благодаря своему богатству.
— Да не сердись ты так на белый свет, Юлия, — рассмеялась Октавия. — Если бы, например, мой отец мог выдать меня замуж за Клавдия Флакка, он бы это сделал не задумываясь. Клавдий происходит от древнего рода римских аристократов, и его семью можно считать поистине счастливой, потому что ему хватило хитрости избежать политических передряг. Так что в том, чтобы выйти за него замуж, по–моему, нет ничего плохого.
— Да мне нет дела до его родственных связей или происхождения. Мне просто становится плохо от одной мысли о том, что он прикоснется ко мне, — покраснев, Юлия недовольно передернула плечами и отвернулась.
— Ты еще совсем ребенок, — Октавия наклонилась к ней и взяла ее за руку. — Закрой глаза, и через несколько минут все пройдет, — с этими словами она захихикала.
Огорченная, Юлия решила переменить тему.
— Марк меня сегодня снова взял на зрелища. Было так здорово. Сердце так и прыгало, а были моменты, когда я просто не могла дух перевести.
— Келер был, наверное, великолепен?
— Келер! Ха! Не понимаю, что ты в нем находишь. Там были красавцы гораздо лучше него.
— Тебе нужно как–нибудь сходить на вечерний пир накануне зрелища. Посмотреть на него поближе — это просто сказка.
— Мне кажется, он так страшен со всеми своими шрамами.
Октавия засмеялась.
— Эти шрамы как раз и делают его таким неповторимым. Ты знаешь, сколько человек он убил? Пятьдесят семь. И всякий раз, когда он смотрит на меня, я больше не могу ни о чем думать, как только о нем. От него просто с ума сойти можно.
Пораженная такими словами, Хадасса стояла неподалеку и молчала, склонив голову и закрыв глаза. В тот момент ей больше всего хотелось ослепнуть и оглохнуть, лишь бы не видеть возбужденных юных лиц девушек и не слышать шокирующих слов. Как они могут так весело говорить о людской смерти или так бесцеремонно выставлять напоказ свою драгоценную девичью невинность? Октавия, судя по всему, гордилась тем, что давно утратила свою, а Юлия только и ждала момента, чтобы последовать примеру подруги. Они встали.
— Ну а Марк чем занимается все эти дни? — спросила Октавия, снова взяв Юлию под руку, сделав вид, будто спрашивает это без особого интереса.
Но Юлия была не так наивна. Слегка улыбнувшись, она рассказала об Аррии и Фаннии. Так, разговаривая, девушки снова углубились в сад. Как бы Октавия ни восхищалась Келером, Юлия знала, что ее подруга тут же забудет о гладиаторе, если речь зайдет о Марке.
* * *
Не в силах уснуть, Марк встал с постели и подошел к двери, ведущей в перистиль. Прислушиваясь под лунным светом к пению сверчков, он провел рукой по груди и стал вглядываться во внутренний двор. Ему не спалось, и он не мог понять, почему. Дела по строительству шли как нельзя лучше. Деньги лились рекой. Аррия на несколько недель уехала за город, избавив его от своего присутствия и своей ревности. Вечер он провел с друзьями, наслаждаясь разговором и ласками юных рабынь Антигона.
Жизнь была хороша и становилась все лучше, поскольку его состояние непрерывно росло. Но тогда откуда эта бессонница и какое–то непонятное чувство неудовлетворенности?
Он вышел, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Даже перистиль показался каким–то тесным, и Марк прошел через арочную дверь в северный конец двора, утопающий в саду. Он ходил по садовым дорожкам, мысли его постоянно путались — корабли с лесом из Галлии, Аррия и ее внезапные приступы ревности, отец и его неодобрительное отношение ко всем делам Марка. Нервы были напряжены до предела.
Остановившись возле розового куста, он вдохнул пьянящий аромат цветов. Наверное, его беспокоила Юлия, и именно поэтому он не мог успокоиться. Она так не хочет выходить замуж! Этим вечером она просто разрыдалась и крикнула отцу, что ненавидит его. Он велел ей убираться к себе в комнату, где она и оставалась весь оставшийся вечер со своей странной служанкой.
Вдруг внимание Марка привлекло какое–то движение, и он обернулся. В перистиль вышла иудейка, служанка Юлии. Сощурив глаза, он смотрел, как она шла по садовой дорожке, недалеко от розовых кустов, среди которых он оставался незамеченным. Что это она делает во дворе? В такой поздний час в саду делать просто нечего.
Марк наблюдал, как она идет по дорожке. Он знал, что она не собирается сбегать, потому что она шла в прямо противоположном направлении от западной стены. Она остановилась на широком пересечении двух дорожек. Покрыв платком голову, опустилась и колени. Затем, сложив перед собой руки, она склонила голову.
Теперь Марк смотрел на нее расширенными от удивления глазами. Она молится своему невидимому Богу! Прямо здесь, в саду. Но почему в темноте, подальше от людских глаз? Молилась бы себе вместе с Енохом в небольшой синагоге, куда тот ходит с другими иудеями. Любопытство обуяло Марка, и он подошел поближе. Она молилась очень тихо, и ее профиль четко вырисовывался в лунном свете.
Было в ее внешности что–то трогательное, печальное. Глаза ее были закрыты, губы шевелились, хотя вслух она ничего не произносила. По щекам катились слезы. Тихо простонав, она вытянулась на камнях и простерла вперед руки, и тут он услышал, как она что–то говорит на непонятном ему языке. Может, на арамейском?
С интересом наблюдая за происходящим, Марк подкрался еще ближе. Он часто видел, как в специальном уголке, где хранятся все семейные святыни и жертвенники, его мать молилась богам, которые считаются хранителями домашнего очага, но она никогда так не падала перед ними. Каждое утро она приносила в качестве жертвы соленые печенья и просила у богов защиты для всех, кого она любит, кто ей дорог. Отец не приносил туда ничего, после того как два младших брата Марка умерли едва ли не младенцами. Сам Марк в богов почти не верил, хотя поклонялся деньгам и Афродите. Деньги делали его богатым, а Афродита покровительствовала его чувствам. Марк был убежден в том, что вся та реальная сила, которой обладает человек, исходит от самого человека, от его воли и его возможностей, но не от какого–то там бога.
Юная рабыня встала.
Она была маленькой и тонкой, совсем не похожей на Витию с ее пышными формами, полными губами и знойными глазами. Эта маленькая иудейка еще долго стояла под лунным светом, опустив голову, очевидно не желая уходить из такого тихого сада. Она откинула голову назад, и лунный свет полностью осветил ее лицо. Глаза у нее были закрыты, а лицо озарила мягкая, добрая улыбка. Марк увидел на ее лице отражение такого мира и спокойствия, которых он сам никогда не испытывал, которых ему так не хватало и к которым он так стремился.
— А тебе разрешили быть в саду в такой поздний час?
Она вздрогнула от его голоса, и ей казалось, что она сейчас лишится чувств, когда она увидела, что он идет к ней. Она вся напряглась, к ней снова вернулось спокойствие, при этом она вцепилась пальцами в тонкую шаль, упавшую ей на плечи.
— И часто ты так делаешь? — Он слегка наклонил голову набок, пытаясь лучше разглядеть ее лицо. — Часто ты молишься своему Богу, когда все вокруг спят?
Сердце у Хадассы бешено заколотилось. Догадался ли он, что она христианка, или же считает ее иудейкой?
— Госпожа разрешила мне… — ее голос заметно дрожал. Ночь была теплой, но ей вдруг стало холодно, а потом, когда она увидела, что на нем только набедренная повязка, ее снова бросило в жар.
— Кто тебе разрешил, Юлия или моя мать? — спросил Марк, остановившись в метре от нее.
Она взглянула на него, но потом снова почтительно опустила голову.
— Твоя мать, мой господин.
— Ну, тогда молись себе, пока твои молитвы не мешают тебе служить моей сестре.
— Когда я выходила, госпожа Юлия хорошо спала, мой господин. Иначе я ни за что не оставила бы ее.
Марк с интересом смотрел на нее. Что же это за народ такой, иудеи, что они так искренне молятся какому–то Богу, Которого никто не видит? Он никак не мог понять. Если не считать Еноха, Марк не испытывал к ним никакой симпатии и никогда им не доверял. Эта маленькая рабыня пережила уничтожение Иерусалима, и у нее были причины — и даже право — ненавидеть римлян. Но Марк не хотел подвергать Юлию опасности.
Тем не менее, эта девушка выглядела совершенно неопасной, даже робкой. Внешность, однако, бывает обманчива. Марк поднял брови.
— Рим терпимо относится ко всем религиям, за исключением тех, которые проповедуют непокорность, — сказал он, продолжая пристально смотреть на нее, — а иудеи годами проливали кровь римлян, вот поэтому твой Священный город сейчас и лежит в развалинах.
Хадасса ничего не ответила. В его словах была изрядная доля истины.
Марк видел на ее лице только смятение. Он подошел ближе, чтобы получше рассмотреть ее, и это вызвало ответную реакцию. Ее подбородок задрожал еще сильнее, и Марк увидел, что его нагота пугает ее. Он улыбнулся, забавляясь ее смущением. Сколько времени прошло с тех пор, как он в последний раз видел девушку, которую хоть что–то смущало?
— Не бойся. У меня нет ни малейшего желания даже прикоснуться к тебе, — сказал он, заметив, однако, за собой, что внимательно изучает девушку. За последние недели она поправилась, а волосы немного отросли и покрывали ее голову, подобно черной шапке. Ее нельзя было назвать красивой, но и такой страшной, как в первый день, она уже тоже не была. Когда он замолчал, она взглянула на него, и тут Марка поразила поистине мистическая глубина ее темных глаз. Он слегка нахмурился.
— Можно мне вернуться в дом, мой господин? — спросила она, уже не глядя на него.
— Нет, подожди, — он стоял у нее на дороге, не давая ей пройти. Он говорил грубее, чем ему самому хотелось, и девушка была готова в любую минуту бежать от него. Однако чтобы сделать это, ей пришлось бы пробежать по цветочным клумбам, а Марк сомневался, что у нее хватит на это смелости.
Что–то в этой девушке заинтриговало его. Наверное, невероятное сочетание страха и невинности. Она напомнила ему ту статую, которую он купил у Антигона и которая теперь стояла примерно в двадцати метрах от того места, где находились они. Марк вспомнил Витию, которая использовала любую свободную минуту, чтобы только быть рядом с ним. Эта же девушка сейчас хотела быть где угодно, но только не здесь, с ним в саду. Марк видел, что она боялась его, и ему было интересно, оттого ли это, что он римлянин, враг ее народа. Или же причина была более глубокой? Они ведь были одни, и он был при этом почти без одежды.
— Как тебя зовут? — спросил он. — Я что–то забыл.
— Хадасса, мой господин.
— Хадасса, — повторил он.
Хадасса снова вздрогнула. Как–то странно, необычно произнес он ее имя. В чем–то даже красиво.
— Хадасса, — повторил он, и, услышав, как ласково прозвучало в его устах ее имя, Хадасса вдруг испытала такие чувства, которых раньше никогда не знала.
— Почему же ты так настойчиво молишься Богу, Который покинул тебя?
Удивленная вопросом, девушка взглянула на него. Почему он с ней вообще разговаривает? Он стоял перед ней, сильный, красивый, само олицетворение Рима: могущественного, богатого и полного пугающих искушений.
— Выбрала бы себе кого–нибудь другого, — сказал Марк. — Пойди на Сакра Виа и подумай, кому тебе поклоняться. Выбери того, кто будет к тебе добрее, чем тот невидимый Бог, перед Которым ты только что так усердно молилась.
Она приоткрыла рот, и щеки ее покраснели. Сколько же времени он наблюдал за ней? Она так старалась уединиться этой ночью в саду, думала, что ее сейчас никто не видит. От одной мысли о том, что он наблюдал за ней с самого начала, у нее все похолодело внутри.
— Ну, что ты молчишь? Дар речи потеряла?
Заикаясь, Хадасса произнесла:
— Мой Бог не оставил меня, мой господин.
Он весело рассмеялся.
— Интересно. Твой Священный город в развалинах, твой народ рассеян по всей земле, а ты стала рабыней. И ты еще говоришь, что твой Бог не оставил тебя?
— Но Он оставил меня в живых. У меня есть пища, кров и добрые хозяева.
Марка удивило ее спокойствие, ее чувство благодарности.
— И ты считаешь, что твой Бог таким образом оказал тебе милость?
Его сарказм был достаточно едким, но она ответила просто и искренне:
— Наверное, я это заслужила.
— Ты так говоришь, потому что думаешь, что именно это я хочу от тебя услышать? — Она склонила голову. — Посмотри на меня, маленькая Хадасса. — Когда она подняла голову, Марка снова поразили ее глаза, темные и удивительно большие на этом маленьком овальном лице. — И тебе неважно, что ты лишилась свободы? Скажи, только честно. Ну, девочка, скажи мне!
— Мы все служим кому–нибудь или чему–нибудь, мой господин.
Он улыбнулся.
— Интересная мысль. Ну, и кому же служу я? — Когда ему показалось, что она боится ответить, он взял на вооружение все свое обаяние. — Я не причиню тебе зла. Можешь говорить со мной откровенно, я тебя никак не накажу. Так кому же, по–твоему, я служу?
— Риму.
Услышав это, он рассмеялся.
— Риму, — иронично повторил он и с улыбкой посмотрел на нее. — Глупая девочка. Уж если мы все чему–нибудь и служим, то я служу самому себе. Служу своим желаниям и амбициям. Я исполняю свои желания так, как мне хочется, и здесь мне не нужны никакие боги. — Когда он произносил эти слова, ему было странно, почему он говорит все это какой–то рабыне, которой нет до этого никакого дела. Еще больше его удивило то, почему она смотрит так печально.
— Разве не в этом цель человеческой жизни? — насмешливо произнес он, испытывая досаду от того, что эта рабыня смотрит на него с какой–то жалостью. — Искать счастье везде, где только можно наслаждаться им. Что ты об этом думаешь? — Девушка стояла и молчала, снова потупив глаза, и он даже стал испытывать раздражение. — Так что ты об этом думаешь? — спросил он ее уже повелительным тоном.
— Я не верю, что главная цель в жизни — быть счастливым. Она в том, чтобы служить. Чтобы быть полезным.
— Для раба, пожалуй, это действительно так, — сказал Марк и отвернулся. Он вдруг почувствовал усталость. Усталость во всем теле.
— Но разве мы не служим всему тому, чему поклоняемся? — Ее слова заставили Марка снова обернуться к ней. Его лицо исказила гримаса надменного презрения. Она обидела его. Испугавшись, Хадасса закусила губу. Как она осмелилась так свободно говорить с римлянином, который мог убить ее по одной своей прихоти?
— Значит, по твоим словам получается, что если я служу самому себе, то я раб самому себе? Это ты хочешь сказать?
Она сделала шаг назад и побледнела.
— Прошу простить меня, мой господин. Я не философ.
— Нет, теперь уж не отступай, маленькая Хадасса. Поговори со мной, мне интересно тебя послушать. — Но при этом он вовсе не выглядел заинтересованным.
— Кто я такая, чтобы ты просил меня о чем–нибудь? Разве во мне есть такая мудрость, которую я могла бы тебе передать? Я всего лишь рабыня.
То, что она сказала, было правдой. Что рабыня может ему ответить, и зачем он вообще с ней тут беседует? Но что–то не давало Марку покоя. Он хотел услышать от нее что–то важное. Ему хотелось спросить, за какие такие заслуги ее невидимый Бог дал ей силы пройти через все то, что ей довелось пережить, и при этом сохранить в душе мир, который он в ней видел и который хотелось обрести ему самому. Но вместо этого он спросил:
— Твой отец тоже был рабом?
Зачем он ее мучил?
— Да, — спокойно ответила она.
— И кто был его хозяином? Во что он верил?
— Он верил в любовь.
Это показалось Марку настолько банальным, что он даже поморщился. Он столько раз слышал это от Аррии и ее подруг. Я верю в любовь, Марк. Именно поэтому, как он догадался, Аррия столько времени проводила в храмах, участвуя во всех ритуалах, пресыщаясь ими. О любви он знал все. От этого он испытывал усталость и пустоту. Он мог потерять голову из–за какой–нибудь женщины, погрузиться в страсть и удовольствия, но когда все кончалось, и он оставался один, его не покидало чувство голода, — голода по тому, что он даже не мог для себя определить. Нет, любовь не приносила Марку удовлетворения. Наверное, его надо было искать там, где он и пытался это делать. Власть несла ему мир, а власть можно было купить за деньги.
Почему он думал, что узнает от этой рабыни что–то новое? Он ведь уже знал для себя ответ, не так ли?
— Возвращайся в дом, — резко сказал он, отойдя в сторону и дав девушке возможность пройти.
Хадасса посмотрела на него. На его красивом лице явно проглядывали черты глубокой задумчивости. Марк Валериан имел все, что только мог дать человеку этот мир. И все же он стоял в саду молчаливый и какой–то одинокий. А может быть, все его высокомерие и богатство были только внешней стороной его внутренней неудовлетворенности? В ее сердце пробудилась жалость. Может быть, стоило сказать ему о том, какую именно любовь она подразумевала? Что он тогда сделает — рассмеется или отправит ее на арену?
Хадасса боялась говорить с римлянами о Боге. Ей было известно, что творил Нерон. Она знала, что происходит каждый день на арене. Поэтому все то, что ей дано было знать, она хранила в тайне.
— Да будет с тобой мир, мой господин, — мягко сказала она и пошла прочь.
Марк удивленно посмотрел на нее. Она говорила так тихо, так нежно, будто утешала его. Он продолжал смотреть ей вслед, пока она не скрылась из виду.
9
Марк стал наблюдать за юной иудейкой всякий раз, когда бывал дома. Он и сам не мог понять, что его так привлекало в ней. Она была преданна его сестре и, казалось, всегда знала, в каком Юлия настроении, что ей в данный момент нужно, и при этом смотрела на свою хозяйку с благородным смирением. Вития служила Юлии еще до Хадассы, но у египтянки не было такой преданности. Юлия была капризна, да и вообще характер у нее был невыносимый. Вития подчинялась ей. Эта юная иудейка служила ей. Марк мог судить об этом по тому, как она прикасалась руками к плечам Юлии, когда та в очередной раз выходила из себя. Никто, кроме матери, так к Юлии не прикасался. Самым удивительным было то, что одно это прикосновение, казалось, тут же успокаивало сестру.
Объявление о предстоящей свадьбе Юлии стало для всех в доме настоящим шоком, а для Хадассы испытанием. Как только отец сказал об этом, Юлия впала в истерику.
— Я не выйду за него! Никогда! — кричала она отцу в тот вечер, когда он сообщил ей об этом. — Ты не можешь мне приказывать! Я убегу из дома! Я покончу с собой!
Отец дал ей пощечину. Он никогда себе такого не позволял, и Марк настолько удивился, что даже не знал, что делать, но все же привстал на месте и со стуком поставил свой кубок на стол.
— Децим! — возмущенно сказала мать, также шокированная поступком мужа. Юлия такого вовсе не заслуживала. Как бы то ни было, бить ее по лицу не следовало.
Пораженная и притихшая, Юлия стояла и придерживала рукой щеку.
— Ты ударил меня! — сказала она таким тоном, будто не верила случившемуся. — Ты ударил меня!
— Сейчас же прекрати истерику, Юлия, — процедил отец сквозь зубы. — Еще раз заговоришь со мной таким тоном, и я ударю тебя еще раз. Поняла?
Она опустила руки, и ее глаза наполнились слезами.
— То, что я делаю, я делаю для твоего блага, и мне жаль, что ты никак не можешь это понять. Ты выйдешь за Клавдия Флакка. Его высоко уважают в обществе, у него большое имение в Апеннинах, которые ты, насколько я знаю, любишь больше, чем Рим. Он был верным мужем своей жены до самой ее смерти. Таким же верным мужем он будет и тебе.
— Он старый и дряхлый.
— Ему сорок пять лет, и он полон сил.
— Я не выйду за него, сказала же! Не выйду! — Юлия снова разразилась слезами. — Я возненавижу тебя, если ты не передумаешь. Клянусь тебе. Возненавижу до самой смерти! — С этими словами она выбежала из комнаты.
Марк хотел было догнать ее, но мать мягким голосом остановила его:
— Оставь ее, Марк. Хадасса, позаботься о ней.
Марк посмотрел вслед убегающей к Юлии рабыне.
— В этом была необходимость, отец? — спросил Марк, явно теряя терпение и из последних сил стараясь сохранять вежливый тон.
Децим опустил голову и смотрел на свою руку, лицо его стало бледным и напряженным. Сжав руку в кулак, он закрыл глаза и молча вышел из комнаты.
— Марк, — сказала мать, твердо положив свою ладонь на его руку, когда он хотел встать и пойти вслед за отцом, — оставь его. Если даже ты в этом вопросе примешь сторону Юлии, это ей все равно не поможет.
— Он не имел никакого права бить ее.
— Он ее отец. Многое из того, что не принято в империи, приходится делать отцам, которые не воспитали своих детей должным образом. Она не имела права так разговаривать со своим отцом!
— Права, может быть, и не имела, но у нее были на то свои причины! Клавдий Флакк… Клянусь всеми богами, мама! Ты же сама этого не хочешь.
— А вот здесь ты совершенно неправ. Клавдий прекрасный человек. И он никогда и ничем не обидит ее.
— Но и удовольствия особого он ей тоже не доставит.
— Марк, удовольствия в жизни — не главное.
Марк недовольно покачал головой и вышел из комнаты. Он постоял с минуту в раздумье, после чего направился к комнате Юлии. Ему самому хотелось убедиться в том, что с Юлией все в порядке. Она по–прежнему плакала, но уже не так истерично, а юная иудейка обнимала ее, подобно матери, гладила ее по волосам и что–то говорила. Он стоял в дверях, никем не замеченный, и смотрел на них.
— Как только моему отцу в голову взбрело выдавать меня за такого жалкого старика? — стонала Юлия, вцепившись в девушку, будто в этой служанке была ее последняя надежда.
— Твой отец любит тебя, моя госпожа. Он желает тебе только блага.
Марк на всякий случай отошел назад, но остался в коридоре и продолжал слушать.
— Да не любит он меня, — воскликнула Юлия. — Ему на меня вообще наплевать. Разве ты не видела, как он меня ударил? Он только и думает, как бы держать меня в узде. Без его разрешения я ничего в доме не могу сделать, а меня уже тошнит от этого. Как бы я хотела, чтобы моим отцом был Друз. Октавия может делать все, что ей нравится.
— Иногда такая свобода говорит не о любви родителей, а об ее отсутствии.
Марк ждал, что Юлия после таких спокойных слов сейчас снова взорвется в истерике. Но последовало долгое молчание.
— Странные вещи ты говоришь, Хадасса. В Риме если ты кого–то любишь, ты позволяешь ему делать все, что ему хочется… — в голосе Юлии слышалось удивление.
— И что ты хочешь делать, моя госпожа?
Марк наклонился вперед и увидел Юлию, спокойно сидящую и явно растерянную.
— Что–нибудь, — сказала она, нахмурившись. — Все, — поправилась она и решительно встала, — кроме семейной жизни с Клавдием Флакком.
Марк криво усмехнулся, услышав такую нелестную оценку Клавдия. Он наблюдал за тем, как его сестра прошла по комнате к своему косметическому набору. Там она взяла в руки дорогое греческое косметическое средство.
— Не понять тебе этого, Хадасса. Что ты знаешь? Иногда мне кажется, что это я рабыня, а не ты.
Застонав от разочарования, она вдруг швырнула косметическое средство в стену. Сосуд разбился, и жидкость растеклась по мозаичному изображению детей, радостно бегающих среди цветов. Комната наполнилась приторным запахом.
Юлия села и снова горько заплакала. Марк подумал, что Хадасса сейчас убежит от гнева сестры и увидит его, но она даже не обернулась. Вместо этого она встала и подошла к Юлии. Опустившись перед ней на колени, она взяла Юлию за руки и стала ей что–то тихо говорить, — настолько тихо, что ему ничего не было слышно.
Юлия перестала плакать. Она кивнула головой, видимо, отвечая на какой–то вопрос, заданный Хадассой. По–прежнему держа Юлию за руки, Хадасса начала что–то петь ей по–еврейски. Юлия закрыла глаза и стала слушать, хотя, насколько Марк знал, она совершенно не знала еврейского языка. Не знал его и он. И все же, стоя в тени, он тоже прислушался — не к словам, а к удивительному голосу Хадассы. Почувствовав непонятное смятение, он незаметно ушел.
— Юлия успокоилась? — спросила его мать, когда он подошел к ней возле фонтана.
— Вроде бы да, — сказал Марк, оторвавшись от своих мыслей. — Эта маленькая иудейка наводит на нее свои чары.
Феба улыбнулась.
— Юлии с ней очень хорошо. Я знала это с самого начала. Было в ней видно что–то такое еще в тот день, когда Енох привел ее к нам, — она провела рукой по струе фонтана. — Надеюсь, ты не будешь выступать против решения отца.
— Мама, но Клавдий Флакк вряд ли будет радовать девушку с темпераментом Юлии.
— Юлии вовсе не нужна радость, Марк. Она сама способна радоваться жизни. По любому поводу загорается, как огонь. Ей нужен человек, который остепенит ее.
— Боюсь, что Клавдий Флакк не просто остепенит ее. Он ее усыпит.
— Не думаю. Он блестящий человек и многое может ей дать.
— Может быть, но проявляла ли Юлия хоть когда–нибудь интерес к философии или литературе?
Феба тяжело вздохнула.
— Я понимаю, Марк. Об этих трудностях я тоже много думала. Но кого бы ты посоветовал ей в мужья на месте отца? Кого–нибудь из твоих друзей? Может быть, Антигона?
— Вовсе нет.
Услышав такой торопливый ответ, она добродушно засмеялась.
— Тогда ты должен согласиться с отцом. Юлии нужна зрелость и стабильность, которые может дать ей муж. В молодом человеке таких качеств не встретишь.
— Девушку в мужчине интересуют не только зрелость и стабильность, мама, — сухо сказал он.
— Любая девушка, обладающая здравым смыслом, понимает, что характер и разум оказываются долговечнее обаяния и внешней красоты.
— Сомневаюсь, что от такой мудрости Юлии станет легче.
— Какие бы сцены тут Юлия ни устраивала, ей все равно придется подчиниться решению отца, и ей самой же будет лучше, — Феба сложила перед собой руки и разглядывала их, — если только ты не спровоцируешь ее на непослушание.
Марк сжал губы.
— Ее не нужно ни на что провоцировать, мама. У нее своя голова на плечах!
— Ты же сам понимаешь, что оказываешь на нее заметное влияние, Марк. Если бы ты с ней поговорил…
— О, нет, мама, только не это. Если бы я мог решать судьбу Юлии, она бы имела право выбирать того, кто ей нравится.
— А кого бы ты хотел видеть женихом Юлии?
В этот момент Марк вспомнил того красивого плута, с которым Юлия встретилась во время зрелищ. Скорее всего, крестьянин. Марку неприятно было вспоминать этот эпизод. Желваки заиграли на его скулах. Все девушки так падки на красивые мужские лица, его сестра не исключение. Но, как бы то ни было, он от своего мнения не отступит.
— Клавдий Флакк ей не пара.
— Думаю, ты глубоко заблуждаешься, Марк. Мы тебе не говорили о том, что не отец приходил к Клавдию Флакку. Клавдий Флакк сам пришел к нам. Он влюблен в нее.
* * *
Клавдий Флакк и Юлия под бдительными взглядами двух главных жрецов храма Зевса обменялись облатками пшеничного хлеба под названием фар. Юлия была бледна и не выражала никаких эмоций. Когда Клавдий взял ее руку и нежно поцеловал, Юлия посмотрела на него, и ее щеки покраснели. Децим весь напрягся, ожидая взрыва. Он видел, как глаза дочери наполнились слезами, и знал, что она могла выкинуть на глазах всех присутствующих какую–нибудь глупость.
В храме царила тишина, и только мраморные идолы, казалось, свысока следили за всем происходящим. Лицо Марка застыло в мрачной маске, лишь его темные глаза блестели. Он долго и упорно выступал против этого брака. Он даже предлагал коемптио, или откуп за невесту, после чего можно было бы оформить развод. Но Децим и слышать об этом не хотел.
— Ты не посмеешь обращаться к Клавдию с подобным предложением и позорить всю нашу семью! Неужели ты не подумал, что ждет твою сестру в будущем после такого развода? При всей красоте и жизнерадостности, Юлия пуста, эгоистична и капризна. При таком характере с ней ни один мужчина не уживется. Или пример Аррии тебя ничему не научил?
Марк взорвался в гневе:
— Между Юлией и Аррией нет ничего общего.
— Если она сочетается нерасторжимым браком, конфарратио, с человеком, подобным Клавдию, то уже точно не станет такой, как Аррия.
— Ты так сомневаешься в собственной дочери?
— Я люблю ее больше собственной жизни, но при этом не закрываю глаза на ее недостатки, — Децим печально покачал головой. Он знал, что, если пользоваться красотой в корыстных целях, она быстро увядает, а обаяние Юлии было средством для манипуляций. Марк видел в своей сестре только то, что хотел видеть, — жизнерадостного и капризного ребенка. Он не понимал, какой она может стать, если предоставить ей свободу выбора. С другой стороны, если у нее будет достойный муж, Юлия может стать такой же зрелой женщиной, как ее мать.
Юлии нужны были стабильность и четкое направление в жизни. Клавдий Флакк мог дать и то и другое. Да, Децим понимал, что Флакк вовсе не был предметом дум и вожделений молоденьких девушек, но он обладал более важными качествами: чувством чести и долга, в том числе и семейного. Децим хотел обеспечить своей дочери достойное будущее, и никакие возражения темпераментного сына его не переубедят. Абсолютная свобода может быть только деструктивной. Когда–нибудь и сын, и дочь поймут это и простят его.
Децим увидел, как его дочь приподняла голову и смело улыбнулась Клавдию. Отец почувствовал гордость и облегчение. Вероятно, Юлия все же начинала понимать, за какого хорошего человека только что вышла замуж, и, возможно, процесс привыкания к новой жизни у нее пройдет гораздо легче, чем все ожидали. Нетрудно было увидеть, что Флакк ее очень любит. Наверное, она все же не так глупа, как он того опасался. Децим слегка сжал руку Фебы, удовлетворенно наблюдая за тем, как Юлия перед священнослужителями вступает в традиционный союз, конфарратио, который нельзя было расторгнуть и который будет длиться до самой смерти. Его глаза наполнились слезами, поскольку он вспомнил день своей собственной свадьбы и то чувство любви, которое он испытывал к своей напуганной невесте. Он по–прежнему любил свою жену.
Когда после церемонии гости обступили молодых и стали их поздравлять, Юлию первой обняла Октавия. Голоса гостей эхом разносились по священному залу храма. Жрецы подошли к Дециму, который заплатил им и взял документ, подтверждающий законность брака. Феба дала им несколько монет и попросила возжечь курения и принести жертву, чтобы благословить этот брак. Децим был щедр, и жрецы обещали все исполнить. Затем служители пошли своей дорогой, в мешочках у них звенели монеты.
Децим не без некоторой боли смотрел, как его прекрасная юная дочь принимает от гостей поздравления и добрые пожелания. После сегодняшнего пира Клавдий увезет ее в небольшое путешествие. Через несколько недель он планировал увезти ее в свое имение в Капуе, где они и собирались жить. Децим лишний раз убедился в том, что все это будет дочери только во благо. В том уединенном и тихом месте Юлия будет вдалеке от пагубного влияния таких людей, как Октавия и Аррия с их современными идеями о независимости и свободной любви. Да и от Марка она будет находиться подальше.
Но… как же ему самому будет не хватать его единственной дочери.
— Ну, вот и все, — тихо сказала Феба, улыбаясь ему сквозь слезы. — Все битвы позади, и война закончилась победой. Думаю, у них все будет хорошо. Ты сделал для нее все, что мог. Когда–нибудь она будет тебе за это благодарна.
Они присоединились к гостям и вышли из храма на солнечный свет. Клавдий помог Юлии усесться в украшенный цветами паланкин. Децим не сомневался в том, что Клавдий будет внимательным и терпеливым мужем. Он смотрел, как Клавдий сел рядом и взял Юлию за руку. Было видно, что он преклоняется перед ней, и все же она выглядела такой юной, такой беззащитной.
Когда процессия медленно двигалась по переполненным улицам Рима, люди что–то кричали молодоженам. Некоторые дурно воспитанные молодые люди выкрикивали какие–то непристойности, от которых у Фебы, сидевшей рядом с Децимом, краснели щеки. От распущенного и порой просто непристойного поведения горожан в жизни Фебу защищали высокие стены, мимо которых они проезжали и которые находились от нее на расстоянии вытянутой руки.
Дециму не терпелось оказаться в тишине, за городом. Он хотел поскорее добраться до чистой голубой воды Эгейского моря. Он хотел поскорее добраться до холмов, где располагался его дом. Рим был ему невыносим.
Феба сидела рядом, под навесом, прижавшись к нему. Сколько лет они прожили вместе, а он по–прежнему испытывал к своей жене сильное влечение, хотя его уже начинали угнетать мысли о смерти, а та боль, которая поначалу появлялась лишь периодически, теперь стала его постоянным спутником. Он взял руку жены и продел свои пальцы между ее пальцами. Она улыбнулась ему. Знает ли она о том, что знает он, — что его болезнь прогрессирует?
Гости собрались на брачный пир в триклинии. Гостей Децим пригласил не очень много — больше, чем граций, но не больше, чем муз. Феба позаботилась о том, чтобы украсить место праздника обильным количеством ярких ароматных цветов. Децим не разделял ее убежденности в том, что благоухание цветов нейтрализует копоть светильников, а также воздействие вина, которое сегодня будет литься рекой. Он устал, потому что постоянная боль истощала его силы. Приторный запах цветов вызывал у него тошноту.
Клавдий и Юлия сняли обувь и уселись на самые почетные места, а все остальные расселись вокруг них. Наклонившись к невесте, Клавдий о чем–то тихо ей говорил. Она покраснела. После того как свадебная церемония закончилась, Юлия, как всем казалось, выглядела лучше.
Децим надеялся, что у них быстро появятся дети. С ребенком на руках Юлия быстрее станет примерной римской женой. Она будет заботиться о доме и станет такой хозяйкой, какой ее воспитывала Феба. Ее мысли будут заняты образованием детей и заботой о семье, а не зрелищами и развратными сплетнями.
В дверях стоял Енох. Децим кивнул ему, чтобы тот приказал слугам накрывать на стол.
Хадасса на кухне наблюдала за тем, как Сейан раскладывает на серебряные блюда аппетитные кушанья. В жарком помещении кухни было столько экзотических и вкусных яств, что у нее просто текли слюнки. Повар тщательно раскладывал на блюдах каждую порцию мяса, добавляя щедрые порции медуз и икры, а потом приправу. На отдельном блюде красовалась фигура птицы из гусиной печени, и вокруг этой фигуры были разложены яйца, оформленные в виде белых перьев. Хадассе никогда раньше не доводилось видеть ничего подобного и не приходилось вдыхать таких соблазнительных ароматов. Все рабы и слуги только и говорили, что о свадьбе Клавдия и Юлии.
— Хозяин, наверное, вздохнет с облегчением, когда она уедет к мужу.
— Пусть теперь Флакк мучается с ней.
— А она может выглядеть радостной, когда не впадает в свои капризы.
Весь этот разговор проходил вокруг Хадассы. Большинство слуг и рабов надеялось на то, что Юлия не будет счастлива в браке, потому что никто не любил ее из–за ужасного характера. Хадасса в этих сплетнях не участвовала. Она с восхищением наблюдала за работой Сейана.
— Никогда не видела таких блюд, — сказала она, с восторгом глядя на творения повара.
— Конечно, не как во дворце императора, но это лучшее, что я могу сделать, — Сейан поднял голову, когда вошел Енох. Вытерев пот со лба, повар еще раз критическим взглядом оглядел приготовленные блюда и сделал несколько небольших изменений.
— Все пахнет и выглядит так удивительно, Сейан, — сказала Хадасса, испытывая гордость от того, что ей довелось видеть его последние приготовления.
Весьма польщенный, Сейан был щедр.
— Можешь попробовать все, что останется после пира.
— Она не прикоснется ни к одному из этих блюд, — кратко сказал Енох. — Свинина, миноги, морские ежи, икра, теленок, сваренный в молоке своей матери, — брезгливо произнес он, и его передернуло от отвращения, — наш закон запрещает нам есть все нечистое.
— Нечистое! — повторил Сейан, едва не лишившись чувств. — Да ваш иудейский Бог пальчики облизал бы, едва посмотрев на все это. Горькие травы и пресный хлеб! И это все, что едят иудеи.
Енох не обратил внимания на слова Сейана и приказал нескольким слугам взять блюда. Затем он посмотрел на Хадассу взглядом строгого отца.
— Тебе нужно очиститься после сегодняшнего вечера.
Съежившись при такой оценке кулинарного таланта Сейана, Хадасса бросила взгляд на повара. Его лицо покраснело от гнева.
— Возьми это блюдо, — сказал Енох, брезгливо указав на нарезанную свинину. — Постарайся не прикасаться к этому, — Хадасса подняла блюдо и вышла из кухни вслед за Енохом.
Когда Хадасса ставила это блюдо перед Юлией, та смеялась, разговаривая о чем–то с Октавией. Повелев взмахом руки Хадассе отойти, Юлия начала есть медузу и икру, а Клавдий выбрал свинину, приправленную моллюсками. Енох стал разливать в серебряные кубки вино, а несколько музыкантов тем временем тихо заиграли на свирелях и лирах.
Хадасса отошла к стене. Она с облегчением увидела, что Юлия снова смеется и разговаривает, хотя и догадывалась, что Юлия делает это не из искренней радости, а чтобы только не огорчать своих друзей. При всей той жизнерадостности и веселости, на которую Юлия была способна, в ней все же была такая пустота, которая Хадассе причиняла боль. Хадасса могла ее успокоить. Она могла ей служить. Она отдавала ей всю свою любовь. Но эту пустоту она заполнить не могла.
Боже, она нуждается в Тебе! Она думает, что все те истории, которые я ей рассказываю, предназначены для развлечения. Она ничего не слышит. Господи, я так бессильна. Хадасса испытывала к Юлии огромную нежность — это чувство напоминало ту нежность, которую она испытывала к Лии.
Молча прислуживая, Хадасса наслаждалась красотой этого вечера. Неприметно играли в углу музыканты, и по залу мягко разливались негромкие звуки свирели и лиры. Все было прекрасно — люди, одетые в тоги и драгоценности, украшенное цветами помещение, разноцветные подушки, еда. Однако Хадасса видела, что при всей праздничности и щедрости вечера атмосфера вовсе не была радостной.
Децим Валериан выглядел усталым и бледным. Феба Валериан явно беспокоилась за него, но пыталась не докучать ему своими вопросами. Октавия откровенно флиртовала с Марком, которому это явно надоело. Смех Юлии казался каким–то неестественным, хотя она изо всех сил старалась выглядеть счастливой — не столько перед своей семьей, сколько перед Октавией. Из всех присутствующих по–настоящему счастливым выглядел, пожалуй, только Клавдий, который забыл обо всем на свете, любуясь красотой своей юной невесты.
Хадасса научилась искренне заботиться об этой семье. Она непрестанно молилась за нее. Сейчас, на пиру, все члены этой семьи выглядели какими–то неискренними, и каждый из них при этом преследовал свои цели, одновременно борясь как со всеми окружающими, так и с самим собой. Неужели в природе римлян постоянно находиться в состоянии войны? Децим, самостоятельный и трудолюбивый человек, сделавший себя и семью богатыми, теперь стремился к тому, что его собственное богатство приказывало ему сделать со своими детьми. Феба, преданная и любящая жена, искала утешений и благословений у своих каменных идолов.
За Юлию Хадасса молилась больше, чем за всех остальных, потому что Бог дал Хадассе возможность служить ей; кроме того, Хадасса видела, что Юлия стала жертвой своего необузданного характера, сочетающего самые сильные черты семьи Валерианов. Она обладала волей, не уступающей по силе воле ее отца, преданностью — хотя и не такой сильной, как у ее матери, — и такой же страстью, какой, по словам окружающих, обладал Марк.
Откинувшись на спинку дивана рядом с Октавией, Марк страдал от ее ласк. Октавия подвинулась к нему и тесно прижалась к нему своим бедром. Марк сардонически улыбнулся и взял с блюда яйцо, окунув его в гусиную печень. Октавия обладала неуловимой грацией похотливой кошки.
Марку было интересно, что сейчас делает Аррия. Она бы непременно рассердилась, если бы Марк сообщил ей о том, что его отец категорически запретил приглашать ее на свадьбу и на свадебный пир. И пришла бы в бешенство, если бы узнала, что Друз и Октавия оказались в числе приглашенных. Друза она считала не более чем плебеем, которому просто улыбнулась фортуна. Как и отец Марка, Друз приобрел римское гражданство и уважение в обществе за деньги.
— Твой отец ведь считает, что я тебе совсем не пара, не так ли? — сказала Аррия накануне, когда они встретились после зрелищ.
— Он считает большинство молодых женщин в наше время слишком фривольными.
— Спасибо, приятно слышать, что он меня хоть последней шлюхой не считает. Он действительно думает, что я порчу тебя, Марк? Ему не пришло в голову, что на самом деле все наоборот?
Марк засмеялся.
— Твоя репутация намного превзошла мою. Это как раз было одной из причин, почему я решил приударить за тобой, — чтобы узнать, правда ли все то, что о тебе говорят! — сказав это, он крепко поцеловал ее.
Аррия, однако, решила продолжить тему разговора:
— А что говорит Юлия обо всех этих приготовлениях?
Марк нетерпеливо вздохнул.
— Приняла все как что–то неизбежное, — сказал он, стараясь изо всех сил не показывать своего гнева.
— Бедная девочка. Мне ее так жалко, — едва уловимый оттенок насмешки в голосе Аррии едва не вывел Марка из себя. — Ведь после того как будут произнесены клятвы, как они обменяются в присутствии служителей ритуальным хлебом, она уже ничем не будет отличаться от мебели. Никаких прав у нее уже не будет.
— Клавдий не посмеет ее обидеть.
— Но и не обрадует ее ничем.
Марк посмотрел на Клавдия и на сестру, которые сидели на саном почетном месте. Было видно, что Клавдий на седьмом небе. Он так внимательно наблюдал за каждым движением Юлии, что всем было очевидно, — он влюблен. Юлия выглядела веселой, но не потому, что радовалась своему замужеству, а потому, что Енох все время подливал ей в кубок вина. Пьяная, она не испытывала никакой боли — равно как и радости.
Хадасса, как обычно, стояла неподалеку от нее, сохраняя спокойствие среди дарящего вокруг хаоса. Она внимательно всматривалась в членов семьи и в гостей. Глядя на нее, Марк пытался угадать, что она думает о каждом из них — сострадание к отцу, восхищение матерью, нежность к Юлии, любопытство по отношению к Клавдию.
А что она испытывает по отношению к нему?
С той самой ночи, когда Марк видел ее молящейся, он больше с ней не разговаривал, хотя всякий раз, когда он виделся с сестрой, он видел и Хадассу. Он никогда не слышал от нее больше одного–двух слов, хотя Юлия говорила ему, что Хадасса часто рассказывает ей удивительные истории о своем народе. Однажды Хадасса рассказала историю о младенце одной рабыни, которого оставили в камышах на берегу Нила и которого нашла и приютила дочь царя. Другая история повествовала об иудейке, ставшей царицей Персии и спасшей свой народ от истребления, а еще была история о Божьем служителе, которого бросили в ров со львами, и он провел там всю ночь, однако львы его не тронули. Марк считал все эти истории не более чем забавными рассказами, помогающими скоротать длинные и скучные дни. И все же, глядя на Хадассу, он уже испытывал желание оставить этот праздник и уйти с ней в сад, чтобы самому услышать от нее все эти истории. Интересно, расскажет ли она ему что–нибудь, или будет трепетать от страха перед ним, как тогда, в ту ночь?
Хадасса почувствовала взгляд Марка и посмотрела на него, при этом ее темные глаза выразили готовность ответить на его повеления. Марк поднял руку и подозвал ее, она тут же подошла.
— Да, мой господин?
Ее голос был мягким и нежным. На лице ее была рабская покорность, никаких эмоций. Марк испытывал необъяснимое раздражение.
— Ты по–прежнему молишься ночью в саду? — спросил он, забыв о том, что рядом с ним сидит Октавия. — Иудеи везде молятся, — насмешливо сказала Октавия, — только пользы им от этого никакой.
Выражение лица Хадассы стало еще более непроницаемым, и Марк сжал губы. Лучше бы он не задавал таких личных вопросов, хотя бы в присутствии других людей. Октавия же продолжала высмеивать иудеев. Здесь он оказался явно неосторожным.
— Что у нас еще будет к столу на сегодняшнем кена, Хадасса? — спросил он так, будто это было все, что он хотел у нее спросить. Зачем?
Она говорила без запинки, вспоминая, что еще должны были приготовить для праздничного пира:
— Жаркое из оленя, миноги из Сицилии, дикие голуби, приправленные свининой, иерихонские финики, изюм и яблоки, сваренные в меду, мой господин, — точно таким же тоном с ним разговаривала Вития в присутствии его матери. Когда же они оставались одни, голос Витии становился гораздо эмоциональнее и глубже.
Марк смотрел на изящную форму губ Хадассы, ее удивительно нежную шею, на которой был виден сильный и частый пульс, а затем снова взглянул ей в глаза. Она не двигалась, но он чувствовал ее отчужденность. Неужели она смотрела на него как на льва, считая себя жертвой? Он не хотел, чтобы она его боялась.
— Ты отправишься с Юлией в Капую?
— Да, мой господин.
Марк испытал что–то похожее на утрату, и это показалось ему неприятным. Он поднял руку и жестом дал понять, что она свободна.
— Она такая дурнушка. И зачем твоя мать определила ее служить Юлии?
Дурнушка? Марк снова посмотрел на Хадассу, когда та заняла прежнее место у стены. Да, определенно, она не красавица. Скромная, незаметная. И все же в ней была какая–то красота, которую он не мог определить. Что–то, что выходило за рамки чисто физического восприятия.
— В ней нет никакого тщеславия.
— Как у всех рабов.
— И у твоей эфиопки тоже? — сухо спросил Марк.
Октавия почувствовала укол и решила переменить тему. Принявшись снова за гусиную печень, Марк перестал слушать, что говорит Октавия. Ее мысли были теперь заняты зрелищами. О некоторых гладиаторах она знала достаточно много… может быть, даже слишком много. Уже через несколько минут она снова наскучила ему, и он стал прислушиваться к разговорам сидящих вокруг гостей, но к виноградникам и садам Клавдия у него тоже не возникло особого интереса.
Пир тем временем продолжался, и Марк стал наблюдать за тем, как Хадасса убрала блюдо со свининой и принесла блюдо с жарким из оленя, поставив его перед Юлией и Клавдием. Никто не обращал на нее никакого внимания, кроме Марка, а он чувствовал ее присутствие всем своим существом.
Может быть, ему было скучно и он хотел как–то развлечься? Отвлечься во что бы то ни стало? Или в этой девушке действительно было что–то необычное, неуловимое для простого глаза? Как бы то ни было, но всякий раз, когда она появлялась, Марк не мог отвести от нее глаз.
Когда она убирала блюдо со стола, он смотрел на ее сильные и в то же время изящные руки. Когда она отходила, он смотрел на ее движения, полные грации. За шесть месяцев, проведенных в их доме, тощая девочка из Иудеи превратилась в молодую женщину с красивыми и таинственными темными глазами.
Марк знал, что Хадасса примерно такого же возраста, что и Юлия, следовательно, ей примерно пятнадцать–шестнадцать лет. Какие же мысли овладели ею, когда она наблюдала за этим свадебным пиром? Мечтает ли она о собственном муже, собственной семье? Рабы, прислуживающие в семьях, редко вступают в брак. Есть ли среди рабов в их доме кто–нибудь, кто заинтересовал бы Хадассу в этом смысле? Единственный иудей, кроме нее, здесь только Енох, но он ей в отцы годится. Других иудеев отец убрал из дома в загородное имение.
Хадасса поправила блюдо перед Юлией, сделав это ненавязчиво и в то же время удобно для своей хозяйки. Когда она наклонилась, Марк посмотрел на ее щиколотки и маленькие ноги, обутые в сандалии. Он закрыл глаза. Эта девушка пережила гибель своей страны, гибель своего народа. Она прошла тысячи миль по самым страшным местам империи. Она видела и испытала столько, что он не мог этого представить, как ни старался.
Тихая музыка начинала действовать ему на нервы. У него не выходило из головы то обстоятельство, что Хадасса отправится в Капую вместе с его сестрой. Неужели для него это так важно? Кто она ему, как не рабыня в доме его отца, которая прислуживает его сестре?
Затем танцевала Вития, которая отвлекла Марка своими волнующими движениями и стремительным вихрем цветного покрывала. Она прошла мимо Друза, приостановилась возле Флакка, не сводившего глаз с уже изрядно подвыпившей невесты. Марк был мрачен. Мысли о сестре и ее муже, который намного старше ее, явно не внушали ему оптимизма; а мысль о том, что теперь он не увидит и тихой Хадассы, вообще вгоняла его в депрессию.
Музыканты продолжали играть, а к столу тем временем подавали последние блюда — сладкую выпечку и финики с орехами.
Именно в своем доме Марк чувствовал себя полностью беззащитным. Он по–прежнему находился под покровительством своего тиранического отца; он был сыном, а не мужчиной, обладающим всеми правами римского гражданина. Он хотел идти по жизни своим путем, что приводило к постоянным перебранкам с отцом, и хотя Марк знал, что смерть когда–нибудь сделает его победителем, ему такая победа была вовсе не нужна.
Они с отцом редко ладили, но он любил отца. Они во многом были похожи, оба были сильными людьми. Децим самостоятельно прошел путь от простого моряка до процветающего торговца. Теперь у него был огромный флот. Не терпящий застоя, Марк хотел двигаться дальше. Он хотел воспользоваться всем тем, что приобрел отец, и расширить эти богатства путем дальнейших предприятий, чтобы будущее семьи не зависело ни от Нептуна, ни от Марса. Но отец идти дальше уже не хотел, несмотря на то что Марк, пользуясь теми шестью кораблями, которые отец передал в его распоряжение, уже приумножил богатства семьи. Он вложил эту прибыль в лес, гранит, мрамор и строительство. Теперь он вынашивал идею о том, чтобы вложить средства в лошадей, которые были необходимы для конных состязаний.
Когда Марку исполнился двадцать один год, он уже пользовался уважением среди своих сверстников, считался среди них самым преуспевающим. К двадцати пяти годам он превзойдет в богатстве и общественном положении своего отца. Может быть, тогда Децим Валериан поймет, что традиции и архаические ценности должны уступить дорогу прогрессу.
* * *
Хадасса, отпущенная Клавдием на этот вечер, вернулась на кухню. Она успела заметить взгляд Юлии: гнев по поводу того, что он осмелился отпустить ее служанку… а потом страх в широко раскрытых девичьих глазах.
Сейан послал Хадассу мыть посуду. Двух других рабынь он отправил убирать столы, поскольку гости стали уже расходиться.
— Я так понимаю, что тебе надо будет очиститься в чистой воде, после того как ты вымоешь посуду, — сказал он, вспоминая замечания Еноха. — Только руки, или же тебе придется омыться с головы до ног, чтобы убедиться в том, что ты по–прежнему маленькая красивая и чистая иудейка?
Услышав в его колком вопросе оттенки горечи, Хадасса закусила губу и обернулась к нему.
— Ты прости, пожалуйста, не обижайся, Сейан, — она улыбнулась ему, желая, чтобы он все понял. — Все действительно было прекрасно и пахло вкусно. Юлия и все остальные остались очень довольны.
Сейан взял в руки сосуд, который она только что вымыла, и задумчиво взвесил его в руке.
— А почему ты извиняешься за то, что он сказал?
— Енох слишком привязан к закону. Если бы он не подумал о том, что я собираюсь этот закон нарушить, он бы и слова не сказал.
Смягчившись, Сейан стал наблюдать за тем, как она моет посуду, вытирает ее и откладывает в сторону. Ему нравилась эта юная рабыня. В отличие от других, которым все время приходилось указывать, что они должны делать, Хадасса сама видела, что нужно сделать, и делала это. Другие выполняли свои обязанности и вечно были всем недовольны. Хадасса никогда не роптала и делала все так, будто это было ей в радость. Она быстро всему училась и даже, если позволяло время, помогала другим.
— Много еды осталось, — сказал он. — Вития и другие девушки уже наелись и пошли спать. Музыканты и все остальные тоже поели — кроме Еноха, чтоб его от запора скрутило. Сядь, поешь чего–нибудь. Ты сегодня, кажется, кроме хлеба ничего в рот–то не брала. Возьми сыра, вина, — он сел на скамью возле стола. — Попробуй свинины. Я знаю, ты, наверное, в жизни ничего подобного и не пробовала. Уверяю тебя, никакого вреда от этого не будет.
Хадасса знала, что не будет, и она вовсе не считала, что употребление такой пищи чем–то осквернит ее. Вообще она понимала, что осквернить ее может не то, что она кладет в рот, а то, что исходит из ее уст, — злые слова, клевета, сплетни, хвастовство и богохульство. И все же она не могла есть, потому что Енох, который строго придерживался иудейского закона, питал к такой пище отвращение. Ведь он спас ее от арены. И съесть такую пищу означало проявить к нему неуважение, обидеть его; и она не могла этого сделать, несмотря на свое желание попробовать такие деликатесы.
Но и Сейан был для нее другом, поэтому отказаться отведать то, над чем он так трудился, значило обидеть его. Хадасса посмотрела ему в глаза и поняла, что это испытание ее верности. Енох временами был колким на язык, гордым и заносчивым, но он проявил к ней сострадание, он оказался достаточно смелым и рисковал собой, чтобы спасти ее и еще шестерых человек, которых он привел в этот дом. Сейан тоже был горд, и его легко было обидеть. Еще он был щедрым, великодушным, нередко шутил с другими рабынями, когда они работали.
От еды исходил такой аромат, что у Хадассы живот свело от голода. Она с самого утра ничего не ела. Искушение отведать что–нибудь было таким сильным, но Енох был ей очень дорог.
— Я не могу, — сказала она извиняющимся тоном.
— Из–за твоего закона, будь он неладен? — спросил Сейан с отвращением.
— Я пощусь, Сейан. — Он отнесся к этому с пониманием. Постились даже язычники.
— За Юлию, — догадался он, — Мало тебе того, что ты и так каждый день за нее молишься? Стоило из–за этого еще и о еде забыть? Пост ее сердце не смягчит. Для этого и дюжины жертвоприношений не хватит!
Хадасса отвернулась и принялась мыть оставшуюся посуду, не желая выслушивать критику в адрес своей хозяйки. У Юлии было полно недостатков. Она была эгоистична и тщеславна. Кроме того, она была молодой, красивой и страстной. Хадасса любила ее и боялась за нее. Юлия была слишком отчаянной, а таким очень трудно обрести свое счастье.
Хадасса раньше никогда не была среди таких людей, как семья Валерианов, у которых было все — и в то же время практически ничего. Они нуждались в Господе, но ей не хватало смелости рассказать им обо всем том чудесном и удивительном, что ей было известно. Она пыталась, но слова застревали у нее в горле; страх заставлял ее молчать. Каждый раз, когда ей предоставлялась такая возможность, она вспоминала те арены, которые ей уже довелось видеть по пути из Иерусалима; она до сих пор слышала по ночам крики ужаса и боли. Никто в этом доме не поверит в то, что ее отец умер и теперь в вечности с Иисусом, — даже Енох, который знает Бога. Одним неосторожным словом она подпишет себе смертный приговор.
Зачем ты сохранил мне жизнь, Господи? Я же не могу им ничем помочь, — думала она в отчаянии.
Да, она рассказывала Юлии те истории, которые когда–то сама слышала от отца в Галилее. Но для Юлии они были лишь забавными сказками. Никаких уроков из них она не извлекала. Как Юлия могла стать на путь истины, если ее уши не могли эту истину услышать? Как она могла искать Христа, если совершенно не нуждалась в Спасителе? Сколько бы Хадасса ни рассказывала ей истории из Писания о том, как Бог трудился для Своего народа, Юлия ничего в них не понимала. Она была убеждена в том, что каждый человек, живущий на этой земле, должен брать себе как можно больше и делать все то, что ему хочется. При этом Юлия не испытывала ни малейшей нужды не только в Спасителе — порой казалось, что ей вообще никто не нужен.
Те богатства и тот достаток, в которых жила семья Валерианов и которыми эта семья наслаждалась, Хадасса считала их проклятием. Именно из–за материального богатства они не испытывали никакой нужды в Боге. У них были тепло, сытная пища, прекрасная одежда, роскошный дом. Они пользовались всеми благами богатых римлян, им служило множество рабов. Но из всей семьи лишь Феба обладала религиозными чувствами, только она поклонялась каменным идолам, которые не могли ей дать ничего, в том числе не могли дать ей мира и радости.
Хадасса грустно покачала головой. Как же Ты доходишь до тех людей, которые не испытывают никакой нужды и никакого желания обрести Спасителя? — думала она. — Боже, что мне делать, чтобы они увидели, что Ты здесь, в этом саду, что Ты обитаешь и в их доме, если не в их сердцах? Я беспомощна. Я труслива. Я не могу помочь Юлии, Господи. Я не могу помочь никому из них. Они улыбаются и смеются, но они потеряны. О, Боже, как Ты велик. Никакие боги и богини Рима не могут воскресить мертвые души, как это Ты делаешь. Но эти люди все равно не верят в Тебя.
— Я не хотел обидеть тебя, — сказал Сейан, подойдя к Хадассе.
Он заметил, что в последние несколько минут на ее лице сохраняется выражение недовольства, и решил, что это по его вине. В глубине души он совершенно не уважал Юлию — слишком часто ему приходилось слышать ее гневные выкрики, видеть, как ее милое лицо искажала гримаса диких эмоций. Но по какой–то необъяснимой причине эта юная рабыня продолжала любить ее, преданно служила ей. — За Юлию тебе нет нужды беспокоиться, — сказал он, стараясь говорить утешительным тоном. — Она все равно возьмет от жизни все, что ей нужно.
— Только найдет ли она в своей жизни мир и покой?
— Мир и покой? — Сейан рассмеялся. — Этого как раз Юлия хочет меньше всего. Она во многом похожа на своего брата, с той лишь разницей, что Марк гораздо умнее ее. Он обладает проницательностью своего отца, но во взглядах на нравственность они расходятся. Однако Марк в этом не виноват. В этом виноваты восстания, — сказал он и тут же поправился: — Слишком много друзей у него либо погибло, либо покончило с собой. Поэтому немудрено, что он живет по принципу: «Живи сегодня, потому что завтра умрешь».
— Не похоже, чтобы он был доволен жизнью.
— А кто в этом мире доволен жизнью? Только дураки и покойники.
Хадасса закончила ту работу, которую ей поручил Сейан, и посмотрела, что нужно сделать еще. Вместе они вычистили столы, убрали оставшуюся пищу и все расставили по местам. Сейан с гордостью говорил о Греции.
— Римляне владеют миром, но завидуют грекам. Римляне только и умеют что воевать. При этом они ничего не знают о красоте, философии и религии. Тому, что им не украсть, они начинают подражать. Наши боги и богини, наши храмы, наше искусство и литература. Они изучают наших философов. Они завоевали нас, но мы переделали их на свой лад. Хадасса обратила внимание, что гордость в его словах смешивалась с чувством негодования.
— Ты знаешь, что наш хозяин родом из Ефеса? — сказал Сейан. — Он был сыном мелкого торговца, который торговал на пристани. Своим умом он добился многого и стал великим. Потом он купил себе римское гражданство. Это был, конечно, разумный ход, — сказал он, как бы оправдываясь за свою дерзость, — тем самым он избежал необходимости платить большие налоги и приобрел определенные привилегии в обществе для себя и своей семьи.
Хадасса знала о некоторых из этих привилегий. Апостола Павла неоднократно освобождали из темниц, потому что он был гражданином Рима. А уж если кому–то суждено было быть казненным, то лучше умереть от одного удара меча, чем от мучительного распятия на кресте. Даже к преступникам относились милостивее, если они являлись римскими гражданами. Павел был обезглавлен, тогда как Петр, галилеянин, был распят вниз головой, после того как на его глазах пытали и убили его жену.
Хадасса содрогнулась. Ей казалось, что она уже почти забыла о тысячах крестов, которые стояли у стен Иерусалима. Сегодня она снова их увидела — как и лица тех, кто висел на этих крестах. — Пойду, упакую оставшиеся вещи госпожи Юлии, — сказала она, пожелав Сейану спокойной ночи.
В пустой комнате Юлии по–прежнему горел масляный светильник. Четыре наполненных сундука уже были закрыты. Еще два оставались открытыми. Хадасса подняла светло–голубую тунику и аккуратно сложила ее, положив поверх желтой, уже лежащей в сундуке. Потихоньку она собрала и упаковала оставшиеся вещи. Закрыв сундуки, она заперла их. Затем встала и еще раз оглядела комнату. Вздохнув, она присела на стул.
— Грустно, не правда ли? — сказала Феба, подошедшая тем временем к двери комнаты и увидевшая, что застала юную рабыню врасплох. Хадасса сидела такая маленькая и заброшенная среди окружавших ее сундуков. Она тотчас встала и повернулась к хозяйке. — Вот, хотела посмотреть, как Юлия готова к отъезду.
— Все готово, моя госпожа, — сказала Хадасса.
Феба улыбнулась.
— Мне не спится. Такой был насыщенный день, — она вздохнула. — А я уже по ней скучаю. Мне показалось, что и ты по ней скучаешь.
Хадасса улыбнулась ей в ответ.
— У нее начинается новая жизнь.
Феба провела рукой по столику, на котором уже не было косметики, парфюмерии и шкатулок с драгоценностями, — всего того, что принадлежит ее дочери. Потом она подняла голову и повернулась к Хадассе.
— Клавдий пришлет кого–нибудь, чтобы забрать тебя и вещи Юлии.
— Да, моя госпожа.
— Наверное, к концу этой недели, — добавила она, оглядев комнату. — До Капуи не так далеко. Места там очень красивые. У тебя там будет достаточно времени, чтобы распаковать вещи Юлии и приготовить все к ее приезду в новый дом.
— Я все приготовлю, моя госпожа.
— Я и не сомневаюсь, — Феба посмотрела на эту совсем еще юную девушку и испытала к ней прилив самых нежных и теплых чувств. Хадасса всегда была такой доброй и верной, и, несмотря на невыносимый характер Юлии, Феба знала, что Хадасса любит ее дочь. Она присела на постель Юлии. — Расскажи мне о своей семье, Хадасса. Кем был твой отец?
— Он был торговцем, продавал гончарные изделия, моя госпожа.
Феба жестом пригласила Хадассу сесть рядом с ней, на стул.
— У него был хороший доход?
Зачем она задает такие личные вопросы? Чем Хадасса заинтересовала эту римлянку?
— Мы никогда не голодали, — ответила Хадасса.
— Он сам делал сосуды или только продавал их?
— Некоторые он делал сам — большей частью самые простые, но у него были и очень красивые.
— Значит, твой отец был трудолюбивым и творческим человеком.
— Люди приходили к нему из других провинций. — Они покупали его изделия, но Хадасса знала, что, в первую очередь, они приходили, чтобы больше узнать о нем. Она помнила, что ей часто доводилось слушать, как отец рассказывал о своем воскресении совершенно незнакомым людям, приходившим к нему впервые.
Феба заметила слезы в глазах юной рабыни и опечалилась.
— А как он умер?
— Я не знаю, — сказала Хадасса. — Он пошел на улицу, чтобы говорить с народом, и не вернулся.
— Говорить с народом?
— Да, о Божьем мире.
Феба нахмурилась. Она хотела что–то сказать, но запнулась.
— А твоя мать? Она жива?
— Нет, моя госпожа, — сказала Хадасса, опустив голову.
Феба увидела слезы, которые девушка пыталась скрыть.
— А что случилось с ней? И с остальными твоими родными?
— Мать умерла от голода, за несколько дней до того, как римские легионы взяли Иерусалим. Воины шли из дома в дом и всех убивали. Один из них вошел в тот дом, где мы жили, и убил моего брата. Я до сих пор не знаю, почему он не убил меня и мою сестру.
— А что стало с твоей сестрой?
— Господь забрал Лию в первую же ночь, после того как мы оказались в плену.
Господь забрал… как странно она говорит. Феба вздохнула и отвернулась.
— Лия, — тихо повторила она, — красивое имя.
— Ей не было и десяти лет.
Феба закрыла глаза. Она вспомнила двух своих детей, которые умерли от лихорадки. Лихорадка часто поражала город, потому что он был окружен болотами и часто подвергался наводнениям во время разлива великого Тибра. Некоторые, заболев лихорадкой, выживали — среди них оказался и Децим, — но потом каждый год страдали от приступов простуды. Других мучили приступы кашля, которые приводили к легочному кровотечению и, в конечном счете, к смерти.
Жизнь была неопределенной, и свидетельство Хадассы было тому лишним подтверждением. Она потеряла в Иерусалиме всех своих родных. Она говорит о Божьем мире, но даже боги не дают никакой гарантии. Сколько Феба ни молилась богине домашнего очага Гестии, богине брака Гере, богине мудрости Афине и богу путешествий Гермесу, а также десятку других богов о том, чтобы они защитили ее родных, ни один из богов до сих пор этого не сделал.
Даже сейчас самый дорогой ей человек, Децим, был болен и старался скрыть это от всех. Феба сцепила руки, и слезы брызнули у нее из глаз. Неужели он думает, что может что–то скрыть от нее?
— Тебе плохо, моя госпожа, — сказала Хадасса, дотронувшись до ее рук.
Фебу удивило нежное прикосновение девушки.
— Мир — такое капризное место, Хадасса. По прихоти богов нас бросает из стороны в сторону. — Она вздохнула. — Но тебе ли об этом не знать? Ты ведь потеряла все — семью, дом, свободу. — В свете светильника она внимательно смотрела на Хадассу, на мягкие изгибы ее щек, темные глаза, изящную фигуру. Она заметила, с каким интересом смотрел на нее Марк. Хадасса была старше Юлии максимум на год, ей было не больше шестнадцати лет, но насколько они были разными. В Хадассе были спокойствие и смирение, которые она обрела через неимоверные страдания. И было в ней что–то еще… В ее темных глазах светилось удивительное и редкое чувство сострадания. Без сомнения, несмотря на юный возраст, эта девушка обладала мудростью.
Феба крепко сжала ее руки в своих.
— Я доверяю тебе мою дочь, Хадасса. Я очень прошу тебя всегда заботиться о ней и следить за ней. Тебе часто будет с ней трудно, порой она может вообще оказаться жестокой, хотя я и не верю, что она идет на такое по собственной воле. Юлия была таким милым, ласковым ребенком. В ней до сих пор остались эти качества. Она отчаянно нуждается в друге, Хадасса, в настоящем друге, но она не умеет делать мудрый выбор. Именно поэтому я и выбрала тебя, когда Енох привел тебя к нам с другими рабами. Я тогда увидела в тебе такого человека, который мог бы быть рядом с моей дочерью во всех обстоятельствах. — Она внимательно посмотрела Хадассе в глаза. — Обещай мне, что исполнишь все, о чем я тебя прошу.
Хадасса была рабыней, и ей не оставалось ничего другого, как исполнять волю своих хозяев. И все же она понимала, что хозяйка просила дать ей такое обещание не только по этой причине. С ней говорила Феба Люциана Валериан, но Хадасса знала, что это Сам Бог просит ее любить Юлию во всех обстоятельствах, чего бы это ей ни стоило. Это будет нелегко, потому что Юлия капризна, эгоистична и безрассудна. Хадасса могла ответить, что постарается. Она могла ответить, что приложит к этому все свои силы. Любой из этих ответов удовлетворил бы ее хозяйку. Но ни один из них не удовлетворил бы Господа. Да будет твоя воля или Моя? — спрашивал ее Господь. И ей надо было сделать выбор. Не завтра, а сейчас, в этой комнате, перед этой женщиной.
Феба прекрасно знала, о чем просит. Иногда ей было нелегко любить свою собственную дочь, особенно в эти последние дни, когда Юлия стала совершенно невыносимой для Децима, который только и думал, что о собственном благе. Юлия хотела все делать по–своему, а на этот раз ей пришлось подчиниться чужой воле. Феба видела по лицу юной рабыни, как ей нелегко ответить, и Фебе даже было приятно, что она не ответила сразу. Немедленный ответ сулит быстро забытое обещание.
Хадасса закрыла глаза и глубоко вздохнула.
— Да будет твоя воля, — тихо произнесла она.
Феба испытала огромное облегчение, потому что знала, что Юлия будет под опекой Хадассы. Она доверяла этой девочке и теперь испытывала к ней особенно глубокую нежность. Верная рабыня оказалась более чем достойной ее доверия. И интуиция, когда она выбрала именно эту маленькую иудейку, ее не подвела.
Она встала. Дотронувшись до щеки Хадассы, она посмотрела на девушку сквозь слезы.
— Да благословит тебя твой Бог, — другой рукой она по–матерински погладила ее мягкие черные волосы, после чего тихо вышла из комнаты.
10
Атрет бежал по дороге, сохраняя темп, который задал Тарак, ехавший верхом, рысью, параллельно с бегущим германцем. Тарак то и дело подгонял или подбадривал Атрета, следя за тем, чтобы жеребец сохранял заданную скорость. Жеребец все время недовольно фыркал, тогда как Атрет чувствовал, что каждая миля становится для него все тяжелее. Стиснув зубы, превозмогая боль, германец продолжал бежать, его тело покрылось потом, мышцы напряглись до предела, а в груди все горело от тяжелого дыхания. Споткнувшись, Атрет с трудом удержался на ногах и, задыхаясь, выругался. Казалось, еще немного, и он не выдержит, опозорив себя на всю жизнь. Его мысли были сосредоточены только на том, чтобы добежать до ближайшей вехи, а добежав до нее, он тут же начинал думать о том, как добежать до следующей.
— Стой, — приказал Тарак. Атрет сделал еще три шага и остановился. Наклонившись вперед, он уперся руками в колени и набрал воздуха в легкие.
— Выпрямись и пройдись немного, — кратко сказал Тарак. За тем он сунул Атрету сосуд с водой.
Атрет облизал пересохшие губы и сделал несколько жадных глотков. Прежде чем вернуть сосуд, он плеснул воды себе на лицо и на обнаженную грудь. Затем он отдал сосуд Тараку и прошелся по обочине дороги взад–вперед, пока дыхание не пришло в норму, а тело не охладилось до нормальной температуры.
— А на тебя тут кое–кто смотрит, Атрет, — улыбаясь, сказал Тарак, кивая на противоположную сторону улицы.
Атрет посмотрел через дорогу и увидел в персиковом саду двух молодых женщин. Одна из них была одета в белую льняную тунику, другая была в коричневой тунике и коричневой верхней одежде, препоясанной полосатым кушаком.
— Посмотри на вон ту, кажется, у нее сердце вот–вот выскочит, — смеялся Тарак. — Наверное, раньше никогда не видели полуголого мужика, — цинично заметил он. — Смотри, одна прямо так и уставилась на тебя.
Атрет настолько устал, что ему уже было не до внимания смазливой девушки или смущения шокированной маленькой иудейки, как и не до насмешек ланисты. Пределом мечтаний для него в этот момент была его лежанка и приятная прохлада камеры. Он уже достаточно отдохнул, но и Тарак, судя по всему, был настроен сегодня развлечься в полную силу.
— Да ты посмотри на нее как следует, Атрет. Хороша, правда? Вот когда выйдешь на арену, увидишь множество таких, как эта. Аристократки с тебя глаз сводить не будут. Да и аристократы тоже. Они дадут тебе все — золото, драгоценности, свои тела — все, что ни попросишь.
Слегка улыбнувшись, он продолжал:
— Была у меня одна… Все время меня ждала, пока я сражался. Она хотела, чтобы я дотронулся до нее, пока мои руки были в крови убитого мною противника. Она от этого просто в экстаз приходила, — при этих словах его улыбка стала какой–то злой. — Интересно, что с ней потом стало. — Тарак развернул коня.
Атрет еще раз посмотрел на противоположную сторону улицы, на девушку в белой одежде, стоявшую в тени дерева. Он продолжал смотреть на нее, пока она не отвернулась. Маленькая иудейка что–то сказала ей, после чего они повернулись и пошли в глубину сада. Девушка в белом оглянулась через плечо и еще раз посмотрела на него, потом приподняла подол одежды и побежала, а до Атрета донесся ее веселый смех.
— Римляне любят блондинов, — сказал Тарак. — Так что наслаждайся этим, пока есть время, Атрет. Бери от жизни все, что она тебе дает! — С этими словами он слегка стукнул Атрета кончиком своего кнута. — Ну все, она ушла. Теперь беги назад. На перекрестке повернешь налево и побежишь по холмам, — сказал ланиста, задавая Атрету обратный маршрут.
Атрет забыл о девушке и побежал. Он начал бежать ровным шаром, который он умел сохранять, но Тарак приказал ему увеличить темп. Собравшись с силами, Атрет побежал вверх, по холмам, выбирая нужное дыхание.
Прошло шесть месяцев изнурительных тренировок в лудусе. Первый месяц с ним работал Трофим. Тарак внимательно наблюдал за германцем и вскоре взял его к себе. Отдав других подопечных Галлу и другим наставникам, Тарак теперь большую часть времени занимался с Атретом. Он давал ему больше нагрузок, чем все другие, одновременно делясь с ним теми хитростями, которых больше никому не показывал.
— Если будешь слушать меня и усваивать мои уроки, думаю, что проживешь достаточно времени, чтобы обрести свободу.
— Я рад, что ты уделяешь мне внимание, — сказал Атрет сквозь стиснутые зубы.
Тарак холодно улыбнулся.
— Я сделаю из тебя лучшего гладиатора. Если ты выживешь, я обрету достаточно почета, чтобы получить место в римском лудусе, а не торчать всю жизнь в этой кроличьей норе.
В отличие от многих других, Атрет тренировался с удовольствием. Поскольку его всю жизнь воспитывали как будущего воина, гладиаторские тренировки были для него лишь повышением уже обретенного мастерства. Он поклялся, что когда–нибудь все то, чему он здесь научится, он обратит против Рима.
Пока он хорошо научился пользоваться мечом, хотя Тарак чаще давал ему трезубец и сеть ретария. Несколько раз Атрет в отчаянии отбрасывал сеть и нападал на своего противника с такой яростью, что Тараку приходилось вмешиваться, чтобы не потерять своего воспитанника.
Именно ярость придавала Атрету силы. Она помогала ему пробегать длинные дистанции, защищала от депрессии, приходившей к нему по ночам под стук шагов кованой обуви стражников, придавала ему желание научиться всем способам убийства людей в надежде, что когда–нибудь он снова обретет свободу и больше никаких хозяев над ним не будет.
У Атрета не было друзей. С другими гладиаторами он не общался. Он не хотел знать, как их зовут. Ему было все равно, откуда они, как они попали в рабство. С кем–нибудь из них он когда–нибудь встретится на арене. Незнакомца он мог убить без малейшего сожаления, убийство друга будет потом преследовать его всю жизнь.
Увидев вдалеке лудус, Атрет почувствовал, как к нему пришло второе дыхание. Ноги веселее побежали по вымощенной дороге. Тарак скакал ровно, держась впереди Атрета, но и не отрываясь от него слишком далеко. Стражник, стоявший на стене, на своем посту, пронзительно свистнул, и ворота лудуса тут же открылись.
Тарак слез с коня и отдал поводья рабу.
— Иди в бани, Атрет, затем к Флегону, на массаж. — Его губы расплылись в довольной улыбке. — Ты сегодня хорошо поработал. Жди поощрения.
Войдя в раздевалку, Атрет снял промокшую от пота набедренную повязку, взял полотенце и пошел в бани. Вода была теплой и действовала успокаивающе. Он расслабился и мылся не спеша, не обращая внимания на других моющихся, которые говорили тихо, чтобы не слышали стражники. Затем он отправился в следующее помещение, калидарий, которое находилось по соседству с котлами. Атрет вдыхал насыщенный паром воздух, а раб натирал его тело оливковым маслом, после чего сдирал масло специальным скребком, похожим на нож.
В следующем помещении Атрет нырнул во фригидарий. Холодная вода бассейна подействовала отрезвляюще, но приятно, и он с удовольствием плавал по нему взад–вперед. Затем он вылез на край бассейна и завертел головой, стряхивая с волос воду, подобно вылезшей из воды собаке. Потом он вернулся в бани, чтобы несколько минут передохнуть, после чего отправился на массаж.
Флегон работал резко, даже грубо. Он колотил и месил мышцы Атрета, пока те не стали рыхлыми. Создавалось ощущение, что в этом помещении все было направлено на то, чтобы сломить тело, а потом снова его выстроить, превратив плоть в сталь.
Атрет с аппетитом съел мясо с ячменной кашей, потом вместе со всеми остальными отправился в камеру. Как только его заперли на ночь, он растянулся на своей лежанке и положил руки под голову. Он старался ни о чем не думать. Но вскоре послышались мужские голоса, и звук открываемой наружной двери заставил его приподняться. Кто–то направлялся к его камере. Он сел и прислонился спиной к холодной каменной стене, а его сердце учащенно забилось.
Послышался лязг железного замка, тяжелая дверь открылась. В коридоре стоял Галл, а перед ним какая–то рабыня. Она вошла в камеру, не глядя на Атрета, а Галл закрыл за ней дверь. Не сказав ни слова, она прошла вперед и стала перед ним. Он вспомнил ту красивую девушку в белом одеянии, которая смотрела на него из тени персикового сада, и теперь почувствовал одновременно страсть и гнев. Он мог теперь выместить на этой рабыне весь свой гнев, испытав от этого наслаждение. Но эта девушка была больше, чем та маленькая иудейская рабыня. Когда Атрет прикоснулся к ней, он не испытал никакой вражды.
Затем Атрет отошел в другой конец камеры. Услышав скрежет, он посмотрел и увидел, что за ними наблюдает стражник. Он с трудом сдержался, чтобы не закричать от унижения. Здесь он был всего лишь диким животным, на которое всякий может глазеть.
Девушка подошла к двери, дважды стукнула в нее и стала ждать. Атрет стоял к ней спиной, не столько от чувства стыда, сколько из нежелания мешать ей. Снова послышался звук замка, дверь открылась, потом снова закрылась, и стражник опять запер его. Девушка ушла. Это и было то поощрение, которое обещал ему Тарак.
Атрет почувствовал себя бесконечно одиноким. А если бы он заговорил с ней? Ответила бы она ему? Она приходила к нему и раньше, и он не испытывал никакого желания с ней разговаривать, даже не хотел смотреть ей в лицо. Она приходила к нему, потому что ее посылали служить ему. Он принимал это, чтобы снять с себя невыносимое напряжение, которое приносило ощущение рабства, но во всем этом не было ни тепла, ни любви, ни человечности. Рабыня давала ему лишь мимолетное физическое удовлетворение, за которым всегда следовало опустошающее чувство стыда.
Он лег на свою каменную лежанку, положил под голову руки и уставился на зарешеченное окошко. Он вспомнил, как его жена смеялась и бегала по лесу, а ее светлые волосы развевались по спине. Он помнил удивительные минуты интимной близости на залитом солнцем лугу. Он помнил ту нежность, которой они делились друг с другом. Как быстро забрала ее смерть. Его глаза загорелись, и он сел, борясь с отчаянием, — в эту минуту ему захотелось бить себе голову о каменную стену.
Неужели он перестал быть человеком? Неужели за те несколько месяцев, что его тут держат, он превратился в животное, живущее только дикими инстинктами? Ему хотелось умереть. Но мысль о самоубийстве он отбросил сразу. Стражники следили за каждым его шагом и быстро пресекли бы его попытки, хотя даже в таких условиях некоторые умудрялись лишать себя жизни. Один, пример, съел глиняный сосуд, и стражники не успели остановить его. Он умер в течение нескольких часов, его внутренние органы были изрезаны. Другой просунул голову между спицами тренировочного колеса и сломал себе шею. А всего лишь позапрошлой ночью один заключенный связал из своей одежды веревки и пытался повеситься на решетке окна.
Атрет был убежден, что в самоубийстве нет ничего героического или почетного. Если уж ему суждено будет умереть, он унесет с собой на тот свет как можно больше римлян или тех, кто служит Риму. Наконец он закрыл глаза и уснул, и ему снились германские леса и его покойная жена.
На следующий день Тарак не погнал его на длинные дистанции, Вместо этого он повел его на малую тренировочную арену. Тарак решил, что Атрету пора начать готовиться к выступлениям. Атрет с интересом смотрел на четырех вооруженных стражников, которые стояли на укрепленных стенах, после чего оглядел трибуны для зрителей. Там стоял Скорп, а рядом с ним находился высокий темнокожий мужчина, одетый в красную с золотистой оторочкой тунику.
— Ну посмотрим, сможешь ли ты меня одолеть, Атрет, — сказал Тарак на германском языке и вручил Атрету один из двух длинных шестов. Он согнулся и отошел в другой конец, умело держа шест и ожидая нападения. — Давай, — с насмешкой сказал он, — атакуй меня, если хватит смелости. Покажи мне, чему ты здесь научился.
Атрет чувствовал в руках тяжесть дубового шеста. Концы этого орудия были покрыты кожей. Скорп пришел посмотреть схватку по одной из двух причин: либо стоящий рядом с ним богатый африканец хотел полюбоваться боем, либо он хотел приобрести гладиатора. Но Атрету было все равно. Поскольку до Скорпа ему было не добраться, он всю свою ненависть собирался выместить на Тараке.
Медленно и осторожно перемещаясь вокруг Тарака, Атрет терпеливо ждал того момента, когда можно будет напасть. Тарак сделал резкое движение вперед. Атрет сумел его заблокировать, и по арене раздался треск от удара двух деревянных орудий. Тарак переменил центр тяжести, мягко повернулся и нанес Атрету удар сбоку по голове, от чего рядом с ухом у Атрета открылась небольшая рана.
Кровь в жилах Атрета закипела, но усилием воли он поборол свой гнев. Отразив еще два удара, он нанес два ответных, от которых Тарак едва устоял на ногах. Гнев придал Атрету силы, и он пошел в атаку. За эти месяцы он научился узнавать намерения своего противника, глядя не на его руки, а на его глаза. Он отразил две атаки Тарака и нанес ему удар шестом по почкам. Сразу после этого он сделал шестом плавную дугу и нацелился нанести удар Тараку по голове. Ланиста успел увернуться и, сделав быстрый кувырок назад, снова встал на ноги. Одного его слова было достаточно, чтобы стражники вмешались и остановили схватку. Но он ничего не сказал.
По небольшой арене продолжал разноситься треск деревянных орудий. Оба участника схватки взмокли, каждый из них хрипел, нанося очередной мощный удар. Видя, что оба они равны по силе и явным преимуществом завладеть не удастся, Атрет резко опустил свой шест и стал изо всех сил давить им на шест Тарака, чтобы опустить его до уровня подбородка ланисты. Он знал все хитрости своего наставника. Сейчас Тарак попытается нырнуть ему в ноги. И когда тот сделал соответствующее движение, Атрет поднял колено вверх и вперед. Тарак сделал резкий выдох, глаза осветились болью, а пальцы ослабли. Атрет поднял колено еще раз, а затем, воспользовавшись шестом, нанес удар ланисте по спине.
Краем глаза он увидел, как задвигался стражник в момент падения Тарака. Он знал, что времени у него уже не осталось. Отбросив длинный шест, Атрет прыгнул на Тарака, сорвал с него своей левой рукой шлем, а правую занес назад. Тарак посмотрел на него широко раскрытыми глазами и попытался увернуться от удара, которому сам его научил, но понял — слишком поздно. Атрет направил всю мощь нижней части ладони в основание носового хряща Тарака, смяв его и вдавив прямо в мозг.
Два стражника оттащили его от бьющегося в конвульсиях Тарака. Атрет откинул голову назад и издал победный воинственный клич. Адреналин по–прежнему играл в его крови, и у него хватило сил отбросить одного воина и нанести удар в живот другому, выхватив при этом свой меч из ножен. Третий и четвертый стражники также обнажили свои мечи. «Не убивайте его!» — закричал с трибуны Скорп.
Убрав свои мечи в ножны, стражники воспользовались для усмирения германца сетью. Запутавшись в ней, как пойманный в ловушку дикий зверь, Атрет оказался прижатым лицом к песку и при этом почувствовал, как кто–то вырвал меч у него из рук. Его связали по рукам и ногам, потом поставили на ноги, при этом он продолжал выкрикивать проклятия по–гречески. Его поставили перед трибуной для зрителей.
Выпятив грудь, он смотрел на Скорпа и его гостя и выкрикивал самые унизительные оскорбления, которые только узнал за полгода своего пребывания в лудусе. Скорп смотрел на него сверху вниз лицо его побледнело. Чернокожий гость улыбнулся, сказал что–то Скорпу и ушел.
В течение часа Атрета заковали в кандалы и повезли в повозке вместе с галлом, турком и двумя британцами из Капуи. Чернокожий гость ехал впереди, в закрытом навесом паланкине, который несли четыре раба.
Африканца звали Бато. Он был собственностью императора Веспасиана и занимал престижный пост главного ланисты римского лудуса.
Атрета везли в самое сердце Римской империи.
* * *
— Скажи ему, что у меня болит голова, — сказала Юлия презрительным тоном, не глядя на раба, который стоял в дверях, передав ей просьбу Клавдия о том, чтобы она пришла к нему в библиотеку. При этом Юлия, не отрываясь от своей игры, бросала игральные кости и смотрела, как они с шумом падают на мраморный пол. Не услышав слов Хадассы и стука закрывающейся двери, она подняла голову и увидела умоляющий взгляд Хадассы. — Скажи ему, — повторила она повелительным тоном, и Хадассе ничего не оставалось, как передать слова своей хозяйки.
— Понял, — ответил, тяжело вздыхая, Персис, раб Клавдия, который тут же ушел к хозяину.
Хадасса тихо закрыла дверь и посмотрела на свою юную госпожу. Неужели Юлия настолько эгоистична и глупа, что не принимает даже самую элементарную любезность своего мужа? Какие чувства должен испытывать после этого Клавдий Флакк?
Видя, как смотрит на нее Хадасса, Юлия начала оправдываться:
— Ну нет у меня совершенно никакого желания проводить еще один нудный вечер в библиотеке и слушать, что он там говорит об этих дурацких философах. Как будто интересно, что там думал Сенека. — Она снова взяла игральные кости и сжала их в руке. Ее глаза наполнились слезами. Почему все оставили ее? Она швырнула кости, которые веером разлетелись по всему полу.
Хадасса молча наклонилась и собрала кости с пола.
— А ты меня просто не понимаешь, — продолжала капризно твердить Юлия, — да и никто меня не понимает.
— Он твой муж, моя госпожа.
Юлия сердито вздернула подбородок.
— И что теперь, я должна выполнять все его прихоти, как рабыня?
Хадассе теперь оставалось лишь гадать, что же будет делать Клавдий Флакк, когда ему скажут, что его юная жена не захотела прийти к нему под смехотворным предлогом головной боли. Поначалу Юлия с увлечением играла роль счастливой невесты, но не столько для того, чтобы радовать своего супруга, сколько для того, чтобы произвести впечатление на своих друзей и подруг. Однако, оказавшись за пределами Рима, она уже с большим трудом играла в вежливость. Приехав в Капую, она снова стала раздражительной.
Клавдий Флакк обладал завидным терпением, но открытое неповиновение Юлии могло вывести из себя кого угодно. Первые шесть месяцев Клавдий смотрел на ее выходки сквозь пальцы. Но он тоже начинал терять терпение из–за ее вызывающего непослушания и грубости. Хадасса стала не на шутку опасаться за свою хозяйку. Она еще не знала, бьют ли римские мужья своих жен.
Хадасса сама в глубине души испытывала досаду. Неужели Юлия настолько слепа, что не видит, какой Клавдий Флакк интеллигентный, добрый и благородный человек? Он был бы достойным мужем для любой молодой женщины. Для Юлии он делал все — познакомил ее со своими друзьями, возил ее на своей колеснице по всей Кампании, покупал ей подарки. Но Юлия не выказывала в ответ ни малейшей признательности. Все его знаки внимания она принимала как должное.
— Он очень добр к тебе, моя госпожа, — сказала Хадасса, пытаясь хоть как–то урезонить свою хозяйку.
— Добр, — с усмешкой повторила Юлия. — Настолько добр, что обращает на меня внимание, когда я в этом совершенно не нуждаюсь? Настолько добр, что заявляет о своих правах, тогда как от одной мысли о нем мне становится плохо? Я не хочу проводить с ним вечера! — Она закрыла лицо руками. — Мне противно, когда он прикасается ко мне, — сказала она и задрожала. — У него тело бледное, как у покойника.
При этих словах Хадасса покраснела.
— От одной мысли о нем мне становится не по себе, — Юлия встала, подошла к окну и стала смотреть во двор.
Хадасса посмотрела на свои руки, не зная, что сказать, чтобы смягчить Юлию. От таких жестоких разговоров она полностью терялась. Что она знала об интимных тайнах супружеской жизни? Наверное, для Юлии это было невыносимо, и ее не следовало так строго судить.
— Думаю, твои чувства изменятся, когда у вас будут дети, — сказала Хадасса.
— Дети? — воскликнула Юлия, сверкнув глазами. — Я не готова иметь детей. Я еще жизни–то не видела. — Она провела рукой по вавилонской шпалере. — Готова поклясться всеми богами, но я еще не в положении, несмотря на все старания Клавдия. О, а он так старается. И как бы ни хотел мой отец стать частью императорского рода, но у Клавдия для этого уже, похоже, просто нет сил.
Когда она оглянулась на Хадассу, ее горечь перешла в злую насмешку. Она засмеялась.
— А ты, я вижу, покраснела. — Однако улыбка быстро сошла у нее с лица, и она села, откинувшись в легком кресле. Ей в глаза бросилась фреска на стене, изображающая мужчин и женщин, бегущих по лесной лощине. Они были такими радостными. Почему ее жизнь не такая? Почему ей достался такой старый и нудный муж? Неужели ей суждено всю оставшуюся жизнь провести взаперти, на этой вилле? Ей так хотелось в Рим. Ей так не хватало мудрости Марка. Ей хотелось приключений. Клавдий не пожелал отвезти ее даже в школу гладиаторов, чтобы посмотреть тренировки.
— А ты помнишь того гладиатора, которого мы увидели? — мечтательно спросила Юлия. — Он был так красив, правда? Как Аполлон. Кожа у него была бронзовой, а волосы, как солнце. — Она нежно положила руку на живот. — У меня от его вида все задрожало внутри. А когда он на меня посмотрел, мне показалось, что я горю.
Она повернулась, ее лицо было бледным, а глаза блестели от слез горького разочарования.
— А здесь я вижу только Клавдия, от которого у меня внутри все холодеет.
Хадасса помнила того гладиатора. Юлия настаивала на том, чтобы прийти в сад на следующий день, а потом еще через день, но, к счастью, ни гладиатор, ни его наставник больше не появлялись.
Юлия беспокойно встала и стала тереть виски.
— У меня действительно болит голова, — сказала она. — Как подумаешь о Клавдии, так голова поневоле заболит. — Только сейчас ей пришла в голову мысль о том, что ее отказ может вызвать гнев Клавдия. Жена не должна отказывать своему мужу. Она вспомнила о матери и почувствовала себя виноватой. Ей казалось, что она видит укоряющий взгляд матери и слышит ее упрек, высказанный без гнева, но с осуждением.
Юлия закусила губу от досады. Она еще никогда не видела Клавдия в гневе. Ее сердце забилось сильнее.
— Он, наверное, не поверит, но я действительно чувствую себя нехорошо. Пойди, поговори с ним от моего имени, — сказала она и махнула рукой в сторону двери. — Передай ему мое самое глубокое почтение и объясни, что я собираюсь принять ванну и отправиться спать. Позови ко мне Катию. — Этот глупый Персис уже, наверное, донес Клавдию, что она играла в кости.
Хадасса позвала к хозяйке македонянку и пошла по внутреннему коридору в библиотеку. Огромный дом был тихим и торжественным.
Клавдий сидел за столом, перед ним был развернут какой–то свиток. В свете светильника его седые волосы казались ослепительно–белыми. Клавдий поднял голову.
— Персис уже сказал мне, что у госпожи Юлии болит голова, — проговорил он сухим голосом; тон был скорее равнодушным, чем гневным. — Она передумала?
— Нет, мой господин. Госпожа Юлия просила передать тебе самое глубокое почтение и сожаление о том, что она чувствует себя нехорошо. Она собирается принять ванну и отправиться спать.
Клавдий усмехнулся. Значит, этот день вообще для него закончился еще до того, как зашло солнце. Он не верил в оправдания Юлии, но и не сердился на нее. Более того, он даже почувствовал некоторое облегчение. Откинувшись немного назад, он медленно вздохнул. Попытки расположить к себе Юлию уже становились утомительными. За шесть месяцев, которые прошли после свадьбы, Клавдий многое узнал о своей молодой жене, и это не добавило ему радости. Он грустно улыбнулся. Она была прекрасной и созданной для того, чтобы ею восхищаться, но вместо этого она вела себя по–детски капризно и эгоистично.
А он оказался старым глупцом, слишком доверившимся романтическим настроениям.
Впервые увидев Юлию, он был поражен ее сходством с Еленой, которая была так дорога его сердцу, его памяти. Он подумал — или, скорее, возмечтал, — что Юлия стала новым воплощением его покойной жены. Он был одурманен, опьянен мечтами, невозможное показалось ему возможным. Боги, наверное, просто жестоко посмеялись над ним.
Мысли о Елене обострили в Клавдии чувство одиночества. Память о ней отозвалась в нем невыносимой болью. Ему показалось мало всех тех лет, что они прожили вместе. Но здесь бы и всей жизни показалось мало.
Елена была тихой, задумчивой, нежной женщиной, которая всегда с радостью приходила к нему в эту комнату. Они говорили обо всем — об искусстве, богах, философии, политике. Елене были интересны даже мирские, повседневные дела, о которых он говорил со своим надсмотрщиком. Юлия же не могла сидеть без движения, из нее так и била энергия. Он видел, какие в ней бушуют страсти, и эти страсти он не мог обуздать, как ни старался. Она была прекрасна, прекраснее, чем Елена, ее внешностью восхищались все. Но она была совершенно необузданной.
Юлию ничего не интересовало, за исключением разве что тех гладиаторов, которые жили в Капуе. Она хотела посетить это варварское место и посмотреть, как гладиаторы тренируются. Она хотела знать все о них. И как он ни пытался отвлечь ее от этих мыслей, она все равно возвращалась к этим несчастным варварам, которых держали за высокими стенами и толстыми засовами.
Наверное, он ожидал от нее слишком многого. Она была юной и неопытной. Она была неглупой, вот только круг интересов у нее был слишком узким. Елена была нацелена на духовный мир, а Юлия — на физический. Он получал какое–то удовольствие от юного тела Юлии, но удовольствие это становилось все более кратковременным, после чего наступало уныние. С Еленой он мог поделиться своей страстью и нежностью. Иногда они даже смеялись и разговаривали до самой поздней ночи. Юлия страдала от замужества в полном молчании. Он никогда не оставался на ее половине дольше того времени, которое было нужно на самые обыденные дела.
Клавдий так и не избавился от мучительной мысли о том, что ему довелось пережить Елену. Он думал преодолеть свою боль женитьбой на юной и трепетной Юлии. Как же жестоко может заблуждаться человек! У них не было ничего общего. Он совершил роковую ошибку, как последний глупец, приняв за любовь физическую потребность.
Как же теперь смеялся над ним Купидон, столь быстро и точно пустивший свою стрелу! Клавдий потерял голову, но не сердце, и теперь ему предстояло всю оставшуюся жизнь раскаиваться в своей глупости.
Он раскрыл свой свиток дальше и окунулся в изучение религий Римской империи. Пожалуй, следовало обратить внимание на эту тему, пока Гадес, бог подземного царства, не призовет его душу.
На следующее утро Клавдий увидел, как его молодая жена прогуливалась в саду со своей служанкой. Юлия села на мраморную скамью и стала срывать цветы, а ее служанка стояла рядом и что–то ей говорила. Один раз Юлия подняла голову и, перебив служанку, что–то ей сказала, после чего дала ей знак продолжать. Он долго наблюдал за ними, а служанка все говорила, и Клавдий решил присоединиться к ним и узнать, о чем идет разговор.
Юлия увидела, как он приближается, и ее лицо побледнело. Хадасса тоже увидела его и замолчала. Нижняя губа у Юлии затряслась. Она лихорадочно думала, будет ли Клавдий отчитывать ее за то, что она не пришла к нему вчера в библиотеку, но он, подойдя, ничего не сказал. Хадасса стояла в почтительном молчании. Юлии очень хотелось, чтобы он побыстрее ушел.
Клавдий сел на скамью рядом с женой.
— Я вижу, твоя служанка что–то говорит тебе. — Тут он увидел, как лицо юной рабыни покраснело.
— Она рассказывала мне одну из своих историй.
— А что это за истории?
— О ее народе, — Юлия сорвала еще один цветок. — Такие истории помогают мне скоротать время, когда больше нечего делать, — она поднесла цветок к лицу и вдохнула сладкий и приторный аромат.
— Это истории о религии? — спросил Клавдий.
Юлия посмотрела на него сквозь свои ресницы и тихо засмеялась.
— У иудеев все в жизни религия.
Клавдий посмотрел на служанку Юлии с явным интересом.
— Я бы хотел, дорогая, послушать некоторые ее истории, когда она тебе не будет нужна. Сейчас я как раз изучаю религии. Было бы интересно услышать, что твоя служанка может рассказать об основах веры иудеев в их невидимого Бога.
И когда Клавдий в очередной раз послал Персиса пригласить жену, Юлия послала ему свое почтение и извинение — и Хадассу вместо себя.
11
Марк крепко держал в руках уздечку, ведя сквозь толпу возле городских ворот своего белого жеребца. Жеребца только недавно привезли из Аравии, поэтому он пугался городского шума и толпы. Марк быстро понял, что сквозь такую толпу ему просто не пробиться, поэтому он сел верхом. «С дороги, а то задавлю!» — закричал он на нескольких человек, стоявших в непосредственной близости от него. Жеребец тряхнул своей большой головой и в волнении встал на дыбы. Марк заставил его идти вперед и при этом внимательно смотрел на дорогу, чтобы никого не задавить.
За стенами Рима дорога была заполнена путниками, желающими войти в город. Самые бедные шли пешком, неся на плечах и спинах все свое имущество, тогда как богатые восседали на роскошных паланкинах или проезжали на позолоченных колесницах, обитых красной материей. Четырехколесные повозки, реды, запряженные четверками лошадей, заполненные пассажирами, еле двигались, тогда как кисий — двухколесная, более легкая и потому более быстрая, колесница могла без труда обогнать их. Возницы тех повозок, которые были загружены товарами, никуда не торопились, потому что знали, что им придется ждать захода солнца, когда таким телегам, как у них, разрешат въезд в город.
Марк, гордый своим новым приобретением, ехал по Виа Аппия. Он пустил коня в легкий галоп, и жеребец, гордо подняв голову в явно испытывая желание разбежаться в полную силу, резко рванул вперед. Дорога была заполнена послами из разных уголков империи, римскими чиновниками, легионерами, торговцами, купцами, рабами из десятков провинций. Марк проезжал по пригородам, мимо строительных площадок, где трудилось большое количество рабов, пленных и воинов; все эти люди были задействованы в строительстве дорог, ведущих в новые горные селения. Везде в окрестностях города была видна кипучая деятельность.
Чем дальше Марк ехал, тем легче становилось дышать. Ему нужно было освободиться от городского непрекращающегося шума, от действующих на нервы обязанностей. Он уже почти закончил строительство инсуле — огромных, высоких жилых строений, каждое из которых занимало целый квартал, — возле Марсова поля и скотного рынка. Желающих поселиться в этих домах уже было предостаточно, потому что такие дома по качеству превосходили большинство зданий в Риме, к тому же они были надежно защищены от пожара. Арендная плата скоро начнет расти. Вилла на Капитолийском холме была выстроена только наполовину, а Марк уже получил четыре предложения, связанные с ней, одно другого лучше. Но он пока ни одно из них не принял. Сначала он ее построит, а потом откроет для особых гостей, после чего проведет частный аукцион, и прибыль от нее станет на порядок выше.
Отец все время требовал от Марка, чтобы тот больше внимания уделял перевозкам, но собственные предприятия Марка шли настолько хорошо и отнимали столько времени, что на другие дела у него просто не оставалось сил. Какой смысл менять род занятий и отказываться от того, что уже надежно установилось? Марк хотел прославить свое имя и основать империю в империи. И он уже осуществлял эту мечту. Его репутация неуклонно росла, а те договора, которые устраивал ему Антигон, используя свои политические связи, успешно заключались.
Антигон был еще одной из причин, по которым Марк хотел на несколько дней покинуть Рим. Он устал слушать нытье своего приятеля по поводу бесконечных проблем и нехватки денег. Слишком часто Антигон критиковал тех, кто находится у власти.
Кроме того, Марку хотелось отдохнуть от Аррии. Он перестал с ней общаться, но она по–прежнему искала возможности встретиться с ним. Аррия сообщила ему, что Фанния развелась с Патробом и теперь всем говорит, что у нее есть любовник, а Марку не хотелось, чтобы, помимо всех остальных проблем, еще и эта легла на его плечи. Он усмехнулся, вспомнив гневный тон Аррии.
— Ведь это из–за тебя, Марк?
— Я не видел Фаннию с той самой вечеринки, которую Антигон устроил накануне зрелищ, — сказал он честно. — Ты была тогда там, разве забыла? Еще купалась в голом виде в фонтане Антигона. — Аррия была пьяна и пришла в ярость, увидев Марка в саду с Фаннией. Он столкнул ее в фонтан, но не был уверен, что она помнит об этом.
Теперь Аррия посещала все праздники и вечеринки, которые устраивал Марк, все время приставая к нему. Уязвленная его нежеланием с ней общаться, она рассказывала своим подругам, что устала от него, хотя было очевидно, что она все время бегает за ним. Ее настойчивость превратилась прямо–таки в одержимость.
Теперь, вырвавшись за город, Марк наконец почувствовал облегчение. Он мог делать то, что хочется, когда хочется и с кем хочется. Несколько дней он провел в общении с Маллонией, подругой Тита, сына императора. Через нее Марк познакомился и с Титом.
Младший Флавий пребывал в депрессии по причине того, что его любовным отношениям с иудейской царевной Вереникой пришел конец. Несмотря на то, что Вереника была пленницей, на самом деле он был ее пленником. Марка забавляли ходившие по империи слухи о том, будто Тит хочет жениться на иудейке. Он не верил в них, пока не познакомился с Титом. Если бы Веспасиан в приказном порядке не положил конец этим отношениям, Тит вполне мог бы совершить такой поступок.
Тит не имел права даже думать о браке с женщиной такой непристойной расы. Наверное, на него подействовали долгие месяцы военных походов и жаркого иудейского солнца. Женщинам надлежало быть в плену и наслаждаться выпавшей на их долю судьбой, а не разрушать жизнь мужчины или подстрекать империю к бунтам.
Марка посещали и мысли о Хадассе, о ее благородном облике, но потом он решил не думать о ней. Он все больше размышлял о каменоломнях. О них рассказал один из его чиновников, и Марк заинтересовался двумя каменоломнями, размышляя о строительстве во время дневной поездки по Риму. Кто–то из дворцовых рабов Веспасиана подслушал разговор между императором и несколькими сенаторами относительно озера Нерона, что находилось возле Золотого дворца. Веспасиан подумывал о том, чтобы осушить это озеро, а на его месте соорудить огромный амфитеатр, способный вместить более ста тысяч плебеев.
Для этого понадобятся тонны камней, и где их еще покупать, как не в ближайших от Рима каменоломнях? Марк стал владельцем только небольшой части каменоломен, но даже такая часть открывала ему перспективы для осуществления этого колоссального проекта.
Довольно улыбнувшись, Марк снова пустил коня в галоп по дороге. Скорость и мощь управляемого им животного привели его в радостное состояние, кровь в висках застучала чаще. Проскакав несколько миль, жеребец сбавил скорость. Марк с наслаждением вдыхал свежий воздух.
Он подумал, как там поживает Юлия со своим уже немолодым Клавдием. Он не видел сестру несколько месяцев. Она не ожидала его, и мысль о том, чтобы удивить Юлию своим внезапным появлением, показалась Марку интересной.
Купив по пути продуктов на рынке в небольшом поселке, Марк двинулся дальше. Он проехал мимо одного богатого путника, приказывавшего своим рабам разбить шатер на ночлег. Это был менее опасный способ ночевать в пути, если учитывать, какая у путника была свита и как часто по дорогам проходили воины. Ночевать местной гостинице значило подвергать себя риску стать жертвой нападения грабителей, а возможно, и того хуже.
У Марка на этом пути было много друзей, но он решил ни у кого не останавливаться. Ему хотелось побыть наедине с тишиной и со своими мыслями. Для ночлега он выбрал место подальше от дороги, скрытое от посторонних глаз несколькими гранитными валунами.
Вечер был теплым, и разводить костер не было необходимости. Марк расседлал коня и увел его за кустарник. Рядом протекал небольшой ручей, вокруг росло много травы. Марк стреножил коня так, чтобы тот мог достать до воды и вволю пастись, а сам лег спать под яркими звездами.
Сладостная тишина ласкала его слух, будто сирены пели свои песни. Марк наслаждался спокойствием, природой. Однако довольно скоро покой оставил его, потому что на смену ему опять пришли мысли о тех деловых решениях, которые Марку предстояло принять в течение ближайших недель. Неожиданно для себя он пришел к выводу о том, что чем успешнее шли его дела, тем сложнее становилась его жизнь. Даже для того, чтобы вырваться из города на несколько дней, ему пришлось приложить немало сил.
Но, по крайней мере, он занимал уже не то социальное положение, что его отец. Ему не приходилось каждое утро выдавать динарии двум десяткам клиентов, стоящих с протянутыми головными уборами. Эти люди смиренно стояли перед отцом, спрашивали у него совета, льстили ему, благодарили его, причем совершенно неискренне.
Отец Марка был великодушным человеком, но бывали минуты, когда даже у него нельзя было выпросить самой мелкой монеты. Децим утверждал, что это убивает в людях всякое желание трудиться и зарабатывать. Из–за нескольких динариев они готовы были утратить всякое уважение к себе. С другой стороны, был ли у римлян какой–то выбор, если население непрерывно росло за счет людей из завоеванных провинций, а на рынке начинали преобладать иноземные товары? Свободные труженики империи, в отличие от рабов из провинций, требовали все более высокой оплаты. Римляне думали не столько о всеобщем благе, сколько о собственном. Ефесяне, включая отца Марка, тоже не упускали своего.
Родившийся и выросший в Вечном городе, Марк на себе испытал противоречие между чувством патриархальной верности и современными нравами. Он уже был римлянином, а не ефесянином. Но отец по–прежнему считал себя ефесянином. Несколько дней назад отец сказал в гневе:
— Римлянином я могу стать за деньги, но по крови я всегда останусь ефесянином — как и ты!
Марка удивило то, с какой яростью отец это говорил.
— Когда–то быть римлянином означало обеспечить себе защиту и открыть перспективы на будущее, — сказал Децим, объясняя причины, по которым он стал римским гражданином. — На это требовалось потратить время и силы. Тогда быть римлянином было огромной честью, и ее удостаивались немногие. А сегодня всякий, у кого есть деньги, может стать римлянином — и друг империи, и ее враг! Империя стала походить на последнюю шлюху, и так же, как шлюха, она болеет и гниет изнутри.
Отец, судя по всему, испытывал болезненную ностальгию по Ефесу, который оставил более двадцати лет назад. Даже сильное правление Веспасиана не могло удержать Децима от осуществления своих самых смелых планов. Как будто какая–то невидимая сила толкала стареющего Валериана вернуться в Ефес.
Марк вздохнул и стал думать о более приятных вещах. Маллония с ее зелеными глазами и хитрыми уловками; Глафира и ее соблазнительный стан. И все же, засыпая, он невольно подумал о той юной иудейке, и перед глазами четко предстали ее руки, поднятые к небу, к ее невидимому Богу.
* * *
Юлия была несказанно счастлива, увидев своего брата. Она бросилась в его объятия, смеясь и говоря, как она благодарна ему за то, что он приехал. Он крепко поцеловал сестру, и они пошли во двор. За те месяцы, что Марк не видел Юлию, она выросла и стала еще красивее.
— А где твой любимый муж?
— Наверное, в библиотеке, как всегда, со своими свитками, — сказала Юлия, равнодушно пожав плечами и безнадежно махнув рукой. — Что привело тебя в Капую?
— Ты, — ответил Марк, гордясь тем, какой она стала красавицей. Глаза у нее были яркими и сияли от радости.
— Слушай, ты не возьмешь меня с собой в какую–нибудь гладиаторскую школу? У Клавдия из–за его библиотеки на это нет времени, а я просто сгораю от нетерпения — так хочется посмотреть на их тренировки. Возьмешь, Марк? Ну, пожалуйста. Это же будет так весело.
— Не вижу проблем. В какую ты хочешь?
— Есть тут одна, недалеко. Она принадлежит Скорпу Проктору Карпофору. Я слышала, что она одна из лучших в провинции.
Сады Клавдия были обширными и прекрасными. В них трудились многочисленные рабы, подрезая, подстригая, пропалывая бесчисленные растения и наводя везде порядок. На ветвях больших деревьев пели птицы. Семья Клавдия владела этой виллой уже много лет. Марк не увидел никаких признаков того, что Юлия несчастлива в браке. Она казалась сейчас куда счастливее, чем в день брачной церемонии.
— Как тебе тут живется с мужем? — насмешливо спросил Марк.
— Неплохо, — ответила Юлия с лукавой улыбкой. — Иногда мы гуляем в саду, иногда беседуем. — Она рассмеялась, глядя на его злую усмешку. — Иногда и это, но в последнее время, слава богам, не так часто.
Марк слегка нахмурился, когда она побежала вперед и села на мраморную скамью, расположенную в тени старого дуба.
— Расскажи мне все о Риме, Марк. Что там сейчас происходит? Каких сплетен я еще не слышала? Сгораю от нетерпения узнать последние новости.
Марк рассказывал, а сестра внимала каждому его слову. Подошла какая–то служанка и принесла вино и фрукты. Он никогда не видел ее раньше. Юлия отпустила ее и улыбнулась Марку.
— Ее зовут Катия. Хорошенькая, правда? Постарайся только, чтобы она не забеременела, пока ты будешь здесь. А то это будет посягательством на имущество Клавдия.
— Ты уже продала ту иудейку, которую мать отдала тебе?
— Хадассу? Не–ет, с ней я не расстанусь ни за какие деньги! Она верная и послушная, к тому же столько сделала для меня за последние несколько месяцев.
В последних словах Юлии скрывался какой–то смысл, поскольку в глазах сестры в этот момент мелькнула какая–то многозначительность. Марк криво улыбнулся.
— В самом деле?
— Клавдий, похоже, очень ею увлекся, — сказала Юлия, и было видно, что ее это забавляет.
Марка как будто что–то ударило изнутри при таких словах. Он не мог понять, какие чувства испытывал в тот момент, но тот холод, который он почувствовал в животе, вряд ли можно было назвать приятным ощущением.
— И тебя это нисколько не тревожит? — спросил он, стараясь из последних сил сохранять спокойствие.
— Скажу тебе больше. Меня это радует! — взглянув на его лицо, Юлия перестала улыбаться. Она закусила губу, подобно ребенку, до которого только что дошло, что он нашкодил. — Только не смотри на меня так. Ты себе представить не можешь, Марк, как это было ужасно. Не представляю, как я все это вынесла.
Чувствуя прилив гнева, Марк сжал ее ладонь в своей, когда она отвернулась.
— Он что, был с тобой жесток?
— Вовсе нет, — сказала Юлия и смущенно посмотрела на него. — Только настойчив. Он так мне надоел, Марк. Не оставлял меня в покое ни на одну ночь. И вот однажды мне пришла в голову идея послать к нему Хадассу. В этом ведь нет ничего плохого? Она всего лишь рабыня. И готова исполнять все, что я ей ни скажу. Клавдия, похоже, это тоже устраивает. По крайней мере, с тех пор он ни разу не жаловался.
Кровь ударила в голову Марку.
— Какой же разразится скандал, если окажется, что она забеременеет раньше, чем ты.
— Плевать, — сказала Юлия. — Пусть делает с ней все, что хочет, лишь бы оставил меня в покое. Только бы не прикасался ко мне, — она встала и отошла от него, вытирая слезы с бледных щек. — Я так долго тебя не видела, а ты уже сердишься на меня.
Марк встал и подошел к ней. Он взял ее за плечи.
— Я вовсе не сержусь на тебя, — нежно сказал он сестре. — Успокойся, маленькая, — затем он повернул ее к себе и крепко обнял. Он знал, что во многих семьях установлены такие отношения. И какое ему дело до того, что его сестра тоже решила установить такие отношения в своем доме? Кому какое дело, если она счастлива?
И все же что–то не давало ему покоя. Он говорил себе, что покоя ему не дает беспокойство о семейном счастье родной сестры. Но на самом деле он не мог смириться с мыслью о том, что Клавдий Флакк состоит в интимных отношениях и с Юлией, и с Хадассой. Такого он предположить не мог.
Позднее к ним присоединился Клавдий. Он был крепок и силен, несмотря на свои без малого пятьдесят лет, к тому же он смотрелся прекрасным семьянином. Весь оставшийся день и вечер Марк наблюдал на Клавдием и Юлией. Ему было ясно одно: Клавдий больше ее не любит. Он относился к ней вежливо и благоговейно, но искры в отношениях между ними никакой не было.
Юлия держалась непринужденно и все время спрашивала Марка о Риме. Она совершенно не пыталась подключить к разговору Клавдия, откровенно игнорируя его. Когда же Клавдий что–то начинал говорить, она слушала с явной неохотой, показывая, что делает ему одолжение, от чего Марку становилось не по себе. Однако Клавдию практически нечего было сказать в их беседе. Он вежливо слушал Юлию и Марка, но его, видимо, не слишком интересовали дела государства или то, что происходило на различных праздниках. Да он, скорее всего, и не очень их слушал, погрузившись в свои мысли.
Потом все пошли на вечерний пир. Сочный поросенок, откормленный желудями, был главным блюдом, но Марк не был голоден, поэтому на еду не набрасывался. Вина он пил больше обычного, поэтому напряжение в нем быстрее нарастало, чем расходовалось. Хадасса прислуживала Юлии.
Взглянув вскользь на иудейку, Марк больше на нее не смотрел. Однако он заметил, что Клавдий несколько раз посмотрел на нее. Один раз он улыбнулся, и от этой откровенной улыбки Марк крепче сжал в руке свой кубок. Юлия, судя по всему, была всем довольна.
Музыканты играли на свирели и лире, и эти звуки благотворно действовали на растревоженное сердце. Когда последнее блюдо из фруктов было съедено, Клавдий поднял свой золотой кубок и опрокинул его. Красное вино, как возлияние богам, разлилось по мраморному полу, и пир на этом закончился.
Юлия сидела в саду.
— Нам с Марком надо о многом поговорить, Клавдий, — сказала она, обняв одной рукой Марка и всем своим видом дав понять, что присутствие Клавдия здесь совершенно лишнее.
— Конечно, дорогая, — сказал тот, наклонившись, чтобы поцеловать ее в щеку. Марк почувствовал, как в этот момент напряглись ее пальцы. Клавдий выпрямился и посмотрел на него. — Увидимся утром, Марк. Если что–то понадобится, можешь обо всем сказать Персису, — с этими словами Клавдий ушел.
— Тебе дать шаль, моя госпожа? — спросила Хадасса. — Становится прохладно.
Ее мягкий голос пронзил сердце Марка, и он испытал по отношению к ней непонятное чувство гнева. Она вошла в дом и вернулась с шерстяной шалью, которой нежно накрыла плечи Юлии. Марк стал открыто смотреть на нее, но ее глаза так и не встретились с его взглядом. Хадасса лишь смиренно склонилась и отошла назад.
Юлии хотелось, чтобы брат рассказал ей обо всех гладиаторских боях, которые он видел за последние несколько месяцев. Марк развлекал ее различными историями о зрелищах.
— Этот британец бросил меч и стал бегать по арене. Он был маленьким и юрким, а галл по сравнению с ним был, ну, просто каким–то неуклюжим быком. Британец сделал вокруг своего меча, наверное, круга три и даже не думал его подбирать. Публика так и покатывалась со смеху.
Юлия тоже весело смеялась.
— Ну и что, галл победил его?
— Нет. Вообще, поединок получился таким скучным, что галла отозвали с арены и вместо него выпустили натренированных собак. Британец долго не протянул. Через несколько минут все было кончено.
Юлия вздохнула.
— Я тут недавно видела одного гладиатора, который бежал по дороге вместе со своим наставником. Он был таким быстрым. С этим британцем он разделался бы без труда. — Она положила свою руку на бедро Марка. — Так когда ты возьмешь меня в этот лудус?
— Дай мне отдохнуть с дороги хотя бы день. Потом поговорим об этом, — ответил ей Марк с натянутой улыбкой. Как он ни старался, но не мог избавиться от мыслей о Хадассе.
— И слышать ничего не хочу. Всякий раз, как только я пытаюсь заговорить об этом с Клавдием, он меняет тему. Говорит, что у него, дескать, нет времени. Есть у него время. Он просто не хочет туда ездить. И если ты еще ответишь мне отказом, я все равно придумаю, как попасть в этот лудус.
— Вижу, все так же грозишь мне ужасными последствиями, — сказал Марк, улыбаясь ей.
— Не смешно. Ты представить себе не можешь, как скучно жить в этой глуши.
— Ты же всегда любила такие места.
— Любила… съездить на пару недель, когда была маленькой. А сейчас я выросла. Эти игральные кости я уже видеть не могу.
— Тогда остепенись и роди несколько детей, — сказал Марк сестре, игриво потрепав ее по щеке, — тки пряжу, как наша мама.
Ее глаза негодующе загорелись.
— Очень остроумно, — сказала она, сдерживая гнев, и начал было подниматься.
Марк рассмеялся, взял ее за запястье и усадил опять.
— Возьму я тебя, сестричка, возьму. Послезавтра я все устрою.
Она тут же просияла.
— Я знала, что ты меня не разочаруешь. — Вечерний воздух становился прохладным, и они вернулись в дом.
Марк пошел в великолепные бани Клавдия. Он был доволен, когда Юлия прислала к нему Катию. Катия держала для него полотенце, когда он выходил из воды, и предложила обтереть его, а потом помазать благовонными маслами. Но Марк отпустил Катию, воспользовавшись услугами массажиста Клавдия. Он проделал большой путь верхом, спал на жесткой земле. Его мышцы болели, и женские нежные руки ему сейчас были абсолютно не нужны. Может быть, позже.
Пока раб массировал его мышцы, он думал о Хадассе.
Массаж подействовал на него расслабляюще, и он отправился в комнату для гостей, где растянулся на постели. Тут он стал ошеломленно рассматривать фреску с изображением детей, играющих на поле, усеянном цветами. Наверное, когда–то эта комната задумывалась как детская.
Невеселая мысль мелькнула у него в голове. Сможет ли Юлия стать матерью, если позволяет служанке занимать ее место?
Было уже поздно. Юлия наверняка давно спала, и служанка ей сейчас была не нужна. Ему стало интересно, по–прежнему ли Хадасса тайно выходит в сад, чтобы помолиться своему Богу. Надеясь найти ее там, он встал и вышел. Не найдя ее, он снова вошел в дом и позвал раба.
— Приведи ко мне Хадассу, — сказал он и увидел, как раб удивленно посмотрел на него.
— Прости, мой господин, но она сейчас с хозяином.
— С хозяином? — мрачно переспросил Марк.
— Да, мой господин. Он позвал ее после вечернего пира. Может быть, я могу принести что–нибудь? Немного вина? — Понизив голос, раб спросил: — Может быть, привести к тебе Катию?
— Нет. — Вечерний пир закончился несколько часов назад. И все это время они вместе? От гнева кровь закипела у Марка в жилах. — Где покои хозяина?
— Хозяин сейчас не в покоях, мой господин. Он в библиотеке.
Кивком головы Марк отпустил раба. Он был полон решимости положить конец всяческим отношениям между Клавдием Флакком и Хадассой, какими бы они ни были. Он не мог себе представить, как Юлия оказалась столь безрассудной и допустила, чтобы эти отношения зашли так далеко. Он вышел из комнаты и пошел по коридору в библиотеку. Дверь была открыта.
Приближаясь к двери, Марк услышал голос Клавдия:
— Из всех тех законов, о которых ты говорила мне последние несколько дней, какой является самым важным, превосходящим все остальные?
— «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим»: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».
Марк подошел к двери и увидел, что они сидят друг напротив друга. Хадасса сидела довольно скованно, на краешке стула, выпрямив спину и сложив руки на коленях. Клавдий устроился в своем кресле более свободно и с интересом смотрел ей прямо в глаза. Марк медленно встал в дверях, стараясь сохранять спокойствие, несмотря на гнев, что кипел у него внутри.
— А если этот ближний — твой враг? — размеренно произнес он.
Клавдий удивленно вскинул голову. Очевидно, ему было неприятно такое вмешательство. Марка это особенно не волновало, и он перевел взгляд на Хадассу. Она встала, потупила глаза и стала ждать, когда хозяин ее отпустит.
— Можешь идти, Хадасса, — поднимаясь, сказал Клавдий.
Марк продолжал стоять в дверях, не давая Хадассе возможности выйти. Он внимательно рассматривал ее с головы до ног. Он ждал, когда она поднимет голову и посмотрит на него, но она этого так и не сделала.
— Проходи, Марк, садись, — сказал Клавдий, отодвигая чернильницу и сворачивая свитки.
Марк отошел немного в сторону, и Хадасса вышла. Он только слышал тихий звук ее шагов по коридору.
— Я всегда после Рима к такой тишине привыкаю лишь через несколько дней, — сказал Клавдий, сочувственно улыбаясь Марку.
Марк вошел в помещение. Разумеется, вовсе не тишина не давала ему покоя.
— Налить тебе вина? — спросил Клавдий и налил вина в кубок еще до того, как Марк успел ответить. Кубок он протянул Марку. Марк взял кубок и стал смотреть, как Клавдий наливает другой кубок себе. Клавдий выглядел довольным, глаза его были веселее, чем за все то время, что Марк его здесь видел. Похоже, с Хадассой ему было здесь очень хорошо. — Извини, если я помешал тому, что было здесь между тобой и служанкой моей сестры, — стараясь сохранять спокойствие, произнес Марк.
— Не нужно извиняться, — сказал Клавдий и откинулся на диване. — Мы можем продолжить и завтра, — было видно, что он в прекрасном настроении. — Ты хотел поговорить о своей сестре?
— Разве она тебе не жена?
Клавдий едва заметно улыбнулся.
— Уж не знаю, считает ли она сама себя таковой, — грустно сказал он. Он сделал глоток вина из кубка и жестом пригласил Марка сесть. — Если ты хочешь попросить у меня разрешения взять ее в местную гладиаторскую школу, то, пожалуйста, я не возражаю. Если хочешь, завтра же дам распоряжение все подготовить к вашей поездке туда.
— Я завтра сам займусь этим, — сказал Марк.
— Это все, о чем ты меня хотел спросить, Марк? — Клавдий чувствовал, как напряжен Марк, даже чувствовал его гнев, хотя и не мог понять причину этого.
— В твоих отношениях с Юлией все в порядке? — спросил Марк.
— А разве она ничего тебе не рассказала? — спросил Клавдий с некоторым удивлением.
Марк понимал, что его доводы неубедительны. Он находился в доме Клавдия Флакка, а не в своем собственном. Юлия была женой Клавдия, Хадасса — ее рабыней. И у Марка не было никаких оснований интересоваться отношениями другого мужчины с его женой или с его собственными рабами.
— Нет, — медленно сказал он, — она говорит, что довольна жизнью. — Сощурив глаза, он тут же холодно произнес: — По–моему, ты уделяешь ей слишком мало внимания.
Клавдий внимательно посмотрел на него.
— О чем ты на самом деле хочешь поговорить со мной, Марк?
Марк решил говорить откровенно:
— О твоих отношениях со служанкой моей сестры.
— С Хадассой? — Клавдий выпрямился и отставил в сторону свой кубок. — Твоя сестра оказала мне огромную честь, послав ко мне ее. Это первая представительница иудейского народа, которая так свободно говорит со мной о своей религии. Ведь большинство иудеев считает нас язычниками. Забавно, правда? Каждая религия считает другие религии языческими, но при этом иудейское единобожие стоит как–то особняком. Вот, например, возьми Хадассу. Она смиренная служанка, верная, послушная. Но при этом ты никогда не отнимешь у нее веры в ее Бога.
Он встал и подошел к свиткам.
— Хадасса меня просто поражает. За последние два месяца от нее я получил такие сведения об иудейской истории и религиозной культуре, каких не получил бы и за несколько лет. Она прекрасно знает свое Писание, несмотря на тот факт, что большинству иудеек недоступно изучение иудейской Торы. Ее, очевидно, учил отец. Наверное, он был вольнодумцем. Вот, послушай.
Он развернул свиток и склонился над ним.
— «Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой! я вопию днем, — и Ты не внемлешь мне, ночью, — и нет мне успокоения».
Клавдий поднял голову.
— Ты слышишь, какая в этих словах боль? В тот вечер, когда она цитировала мне эти отрывки, у нее слезы текли по щекам. Для нее это не просто красивые слова… — Он провел пальцем по своим записям. — Она сказала, что падение Иерусалима было предсказано заранее и стало наказанием за неправедность ее народа. Она верит, что ее Бог имеет власть над всем, что происходит на земле.
— Как Зевс.
Клавдий посмотрел на него.
— Нет. Не как Зевс. Ее Бог обладает абсолютной властью и не делится ею с другими богами и богинями. Хадасса говорит, что Он неизменен. Он думает не так, как люди. Подожди минуту. Зачитаю тебе ее слова об этом. — Он достал еще один свиток и развернул его на столе.
— Вот. «Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? будет говорить и не исполнит?» — Клавдий снова поднял голову, и в его глазах была видна заинтересованность. — Она рассказала мне интересную историю после этого отрывка. В ней говорится о царе по имени Валак, который нанял пророка по имени Валаам, чтобы тот проклял израильский народ. И вот, когда пророк отправился к царю, ослица Валаама остановилась на дороге, потому что путь им преградил ангел с мечом в руке.
— Ангел? — не понял Марк.
— Сверхъестественное существо, которое служит их Богу, — пояснил Клавдий. — Хадасса говорит, что время от времени эти существа приходят к людям. Что–то вроде посланников типа Меркурия. Это служители ее Бога. — Он махнул рукой и стал рассказывать дальше. — Как бы то ни было, пророк пытался побить ослицу, чтобы заставить ее идти дальше, но ослица упорно не хотела идти и, в конце концов, заговорила с ним. — Он засмеялся. — Когда же пророк добрался до царя, то всякий раз, когда он пытался проклясть израильский народ, проклятие превращалось в благословение. — Клавдий продолжал разворачивать свитки. Марк посмотрел на них и, глядя на объем написанного текста, представит, сколько же часов они провели здесь с Хадассой за такими беседами. — Хадасса верит, что ее Бог любит каждого человека в мире как иудея, так и любого другого. Она сказала, что иудейское писание является тем светильником, который освещает ее жизненный путь. — Клавдий взял еще один свиток. — Она говорит, что ее Бог не может лгать. И если Он что–то обещает, то верен этому обещанию до конца. Его любовь и доброта никогда не прекращаются, Он всегда сострадает людям.
Марк язвительно засмеялся.
— Тит сказал мне, что во время уничтожения Иерусалима было убито более миллиона иудеев, тысячи были распяты. Если этой есть доброта и сострадание ее Бога к целому народу, то остается удивляться, почему иудеи до сих пор не потекли рекой в храмы Артемиды и Аполлона.
— У меня есть на этот счет свои догадки. Об этом мы тоже говорили. Хадасса считает разрушение Иерусалима наказанием израильскому народу за неверность. Она говорит, что ее Бог использует войны, горе и страдания как средство вернуть Себе народ. Интересная мысль, правда? Скорбь как средство защиты и напоминания им об их вере! Хадасса сказала еще одну довольно интересную вещь. Оказывается, Человек по имени Иисус из Назарета пророчествовал о разрушении Иерусалима. Его распял Его же собственный народ, но Хадасса сказала, что всех иудейских пророков ждала незавидная участь. Некоторые иудеи поклоняются Иисусу как воплощенному Сыну их Бога. Они называют себя христианами. Это иудейский культ.
— Помнишь, Нерон пытался истребить их после пожара в Риме, — сказал Марк.
— Да. Они верят в то, что мир ждет всеобщий пожар, а этот Христос вернется с каким–то войском и установит на всей земле Свою собственную империю.
Марка мало интересовало сравнительное изучение религиозных культов Европы.
— Правильно ли я тебя понял, что ты с ней не спишь?
Клавдий оторвался от свитков.
— С Юлией?
— С Хадассой.
— С Хадассой?! Она же совсем ребенок.
— Ей столько же лет, сколько и моей сестре, — холодно произнес Марк.
Клавдий покраснел. Прошло несколько томительных и болезненных минут, прежде чем Клавдий медленно и торжественно произнес:
— Твоя сестра — моя жена, Марк. И я клянусь тебе, что буду ей верен так же, как был верен Елене до самой ее смерти.
Марк редко испытывал смущение, но именно это чувство он испытал сейчас, взглянув в глаза Клавдию. Он не просто обидел Клавдия, но и разбередил его старую рану.
— Пойми, мне ведь небезразлична участь моей сестры, — сказал Марк, пытаясь оправдать свою бесцеремонность. — Если я тебя обидел, прими мои извинения.
Прошло еще несколько долгих минут, прежде чем Клавдий ответил:
— Принимаю.
Марк допил вино и поставил кубок на стол.
— Спокойной ночи, Клавдий, — тихо сказал он и вышел из библиотеки.
* * *
— Он уехал в Рим! — воскликнула Юлия, бросив в сердцах полотенце на пол и бессильно опустившись в кресло.
— Кто, моя госпожа? Твой брат? — спросила Хадасса, подбирая брошенное полотенце и аккуратно его складывая.
— Нет. Тот гладиатор, которого мы видели на дороге пять недель назад. Я узнала, что его зовут Атрет. Он убил ланисту своего лудуса и был продан человеку по имени Бато, который тренирует императорских гладиаторов. Месяц назад его увезли в Рим. — Она отвернулась, и ее лицо исказила гримаса горечи. — А я все торчу здесь, в Капуе. Октавия увидит его схватку раньше меня. А перед зрелищами будет, наверное, пить с ним вино. — Глаза Юлии наполнились слезами от жалости к самой себе.
И хотя Хадасса научилась не показывать своих чувств, от известия о том, что гладиатор уехал, она испытала огромное облегчение. Может быть, теперь Юлия выбросит его из головы и будет больше думать о своем муже. Клавдий ничем не заслужил ее пренебрежения. Он был добрым, умным, чутким, нежным. Зная о чувствах Юлии, Клавдий ни разу не настаивал на своих супружеских правах. Если бы Юлия только уделила ему больше времени, она бы научилась любить его таким, какой он есть.
Хадасса непрестанно молилась и за Юлию, и за Клавдия.
Она проводила много часов с Клавдием в библиотеке. Это не доставляло ей радости, потому что она видела, насколько он одинок. Его стремление к знаниям занимало его ум, но не приносило ему удовлетворения. Она пыталась передать ему знания о Боге, которые сама почерпнула из Писания и которые ей передал отец. Она хотела рассказать Клавдию о Христе. Но как? Если он не верит в Творца, в греховность человека и в необходимость покаяния, он не примет Господа.
Судя по всему, Клавдий не пытался понять важности всего того, что она ему говорила. Как и для Юлии, для него слова Хадассы были не более чем забавными историями, позволяющими убить время, из которых он что–то для себя записывал в своих свитках. Бог в его представлении стоял в одном ряду со всеми остальными известными ему богами — всего лишь еще один интересный культ или религия Римской империи.
Это приводило Хадассу в уныние. Клавдий не был спасен, и она не могла помочь ему, как и Юлии. Ей не удавалось нести достойное служение Господу. Отец наверняка знал бы, что сказать, чтобы глаза и уши этих людей открылись и чтобы они приняли Иисуса.
Было еще одно обстоятельство, которое угнетало Хадассу не меньше, чем тщетные попытки Клавдия обрести как можно больше знаний. Юлия все больше и больше отдалялась от своего мужа. И вот теперь, вместо того чтобы попытаться восстановить отношения с женой, Клавдий по–прежнему вызывал к себе в библиотеку Хадассу. Поначалу эти беседы проходили в вечерние часы, когда служанка была Юлии больше не нужна. И они все время говорили об иудейской культуре и религии. Но за последнюю неделю Клавдий дважды вызывал Хадассу в середине дня, когда она прислуживала Юлии и Марку. Сегодня он позвал ее в сад, как только Марк с Юлией куда–то уехали из виллы.
К Хадассе подошел Персис. Он был старшим над рабами в доме и был верен Клавдию — и его возмущало то, как Юлия относится к его хозяину.
— Ты просто подарила моему господину вторую жизнь, — сказал он Хадассе, когда они шли к Клавдию. — Когда умерла госпожа Елена, мы уже думали, что он покончит с собой. На госпоже Юлии он женился, потому что она очень похожа на госпожу Елену. Жестоко же посмеялись над ним боги. — Персис помолчал и положил свою руку на ладонь Хадассы. — То, что ты оказалась в распоряжении хозяина, — единственный самоотверженный поступок, который госпожа Юлия совершила, с тех пор как приехала сюда. Ты очень добра к нему, — с этими словами он кивнул в сторону открытой двери. — Иди, он ждет тебя в саду.
Хадасса сгорала от стыда. Она знала, что все рабы, которые общались с Юлией, сразу настраивались против нее. Неужели они надеялись на то, что Клавдий отвергнет свою жену, предпочтя ей какую–то рабыню? Только не это! Она шла к Клавдию без всякой охоты, потому что стеснялась того, что окажется в его обществе на виду у всех.
Клавдий говорил о гладиаторах. Хотя он, как и все римляне, бывал на зрелищах, вид человеческой смерти пугал его. И его угнетал тот факт, что Юлию зрелища приводили в восторг.
— Часто твоя госпожа ходила на зрелища в Риме?
— Нет, мой господин. Ее брат брал ее с собой туда несколько раз.
— А Децим это поощрял?
Хадасса покраснела.
Клавдий улыбнулся, глядя на нее.
— Понимаю, Хадасса, тебе не хочется нарушать обещание не говорить ничего такого о моей жене. Но дальше моих ушей это никуда не пойдет, обещаю.
— Хозяин не знал об этом, — сказала Хадасса.
— Я так и думал, хотя все же он, наверное, догадывался. Юлию трудно удержать от того, что ей нравится. — Затем Клавдий спросил Хадассу, были ли в иудейском народе великие воины. Хадасса рассказала ему о том, как Иисус Навин взял Иерихон и заставил хананеев бояться Бога. Затем она рассказала о том, как сын царя Саула, Ионафан, и его оруженосец взобрались на холм и разбили филистимлян, изменив таким образом ход целой войны. Потом она рассказала ему историю о Самсоне.
Выслушав последнюю историю, Клавдий громко рассмеялся.
— Этот твой Самсон все же имел слабость к неверной женщине. Сначала изменяющая жена, потом блудница в Газе и вот теперь прекрасная, но хитрая Далида. — Клавдий и Хадасса прохаживались по садовым дорожкам, он заложил руки назад и недовольно покачивал головой. — Милое лицо и красивая фигурка ослепляют мужчину быстрее, чем рана, поражающая глаза. — Он вздохнул. — Неужели все люди являются рабами своих страстей, Хадасса? Неужели все мужчины теряют рассудок, когда дело касается женщин? — Он посмотрел перед собой, погружаясь в свои мысли. — …Как я потерял рассудок, когда женился на Юлии?
Угнетенная его словами и настроением, Хадасса остановилась и, сама того не осознавая, положила свою руку на его плечо. Клавдий выглядел таким подавленным, таким одиноким. Ей хотелось утешить его.
— Не думай так, мой господин. Ты не совершил ошибку, женившись на моей госпоже. — При этом Хадасса лихорадочно стала думать, как ей оправдать недостатки своей хозяйки. — Юлия просто неопытна в жизни. Ей, наверное, просто нужно дать время.
Клавдий грустно улыбнулся.
— Да, действительно, она неопытна. Она никогда не страдала от невзгод. Она никогда не голодала, никогда ни в чем не нуждалась. Она никогда ничего и никого не теряла. — Он говорил все это без злобы. — Только время ничего не изменит.
— Все в жизни к лучшему, мой господин.
— Мне от этого брака тоже стало лучше. — Клавдий нежно дотронулся до ее щеки. — Я встретил тебя. — Он широко улыбнулся, увидев, как краска залила лицо Хадассы и она опустила глаза. — Не бойся, девочка. Спустя несколько недель после свадьбы дальнейшая жизнь казалась мне пустыней. А теперь ты со мной, и я могу все перенести.
Клавдий нежно потрепал Хадассу по щеке и пристально всмотрелся в ее наполненные слезами глаза.
— Страсть мимолетна, а сострадание остается на всю жизнь, — тихо сказал он. — Всякому человеку нужен друг, Хадасса. Такой человек, с которым он мог бы поговорить, с кем мог бы поделиться. — Он наклонился и поцеловал ее в лоб, как когда–то делал ее отец. Выпрямившись, он взял ее руки в свои. — Спасибо тебе. — Он поцеловал ее пальцы и ушел, оставив ее одну в саду. Она села на скамью и заплакала.
И вот теперь, наблюдая за тем, как Юлия угрюмо смотрела из окна в сад, расстроенная тем, что какой–то гладиатор уехал в Рим, Хадасса снова стала думать, что ей делать, чтобы Клавдий опять воспылал любовью к Юлии. Ведь это ненормально, что он все больше внимания начинает уделять не Юлии, а ей.
— Хозяин в библиотеке, моя госпожа. Утешься его обществом, — мягко сказала Хадасса.
Юлия одарила ее уничтожающим взглядом.
— Клавдий мне уже до смерти надоел. Он о своих свитках заботится больше, чем обо мне. — Она вздохнула и снова отвернулась к окну, теперь она была похожа не столько на раздражительную и эгоистичную молодую жену, сколько на беззащитного ребенка. — Я устала, и у меня в горле пересохло.
Хадасса налила ей в кубок вина.
— У тебя ноги в пыли, моя госпожа. Прикажешь омыть их? — Юлия равнодушно кивнула, и Хадасса отправилась за сосудом с водой.
В комнату вошел Марк. Когда он поприветствовал Юлию, в животе у Хадассы похолодело. Когда Марк подошел ближе, ее пульс забился чаще; одно его присутствие почему–то приводило ее в трепет. Склонившись над чашей и наливая в нее воду, чтобы омыть ноги Юлии, Хадасса старалась не поднимать глаза. Смазав хозяйке ноги ароматными маслами, она стала их массировать.
— Ну как, сестричка, понравилась тебе поездка в лудус? Или тебе испортило настроение отсутствие твоего германца? — Марк говорил весело, без укора.
— Все было прекрасно. Поединок между ретарием и фракийцем был очень интересным.
— По твоему голосу этого не скажешь, — шутливо заметил Марк, наблюдая за тем, как Хадасса массирует ноги его сестры. Делала она это нежно и в то же время сильно. — Я тут говорил с Клавдием. Он, я вижу, серьезно увлекся религиями империи.
— Мне нет никакого дела до того, чем там занимается Клавдий, — сказала Юлия, поморщившись от одного только упоминания о муже.
— А что, тему он себе выбрал довольно интересную, — странным тоном произнес Марк, и Хадасса настолько остро почувствовала, как он пристально смотрит ей в затылок, что ей даже показалось, что он прикоснулся к ней. Она уже заметила, что после приезда сюда Марк не раз смотрел на нее, и взгляд его был пристальным… и укоряющим.
— Пусть Клавдий делает все, что ему нравится, — сказала Юлия. — Молю богов о том, чтобы быть такой же свободной, как мужчина. — С этими словами она нервно подняла ноги из воды, обрызгав Хадассу водой. — Хочу пойти в сад. — Бросив на брата угрюмый взгляд, она добавила: — Одна…
— Как тебе будет угодно, моя дорогая сестричка, — иронично отреагировал Марк. — Эта сладостная атмосфера так и располагает к уединению.
Когда Юлия ушла, Хадасса собрала влажные полотенца, сосуды с маслом и грязной водой. Намереваясь вынести все это, она направилась к выходу, но Марк преградил ей дорогу.
— Не торопись так. Мои ноги тоже грязные, — сказал он. — Вылей воду вон на ту клумбу и возвращайся.
Хадасса сделала то, что он сказал. Когда она вернулась, он сел на диван. Она склонилась к его ногам, и когда она расстегивала его сандалии, руки у нее дрожали. Зачерпнув полкувшина воды, она стала лить Марку на ноги и тереть их руками. Смазывая ноги благовонными маслами, перед тем как начать их массировать, она чувствовала, что Марк неотрывно следит за ней. Спустя несколько мгновений он нарочито прокашлялся, от чего ей стало не по себе.
— Какие у тебя отношения с мужем моей сестры? — мрачно спросил он.
Его вопрос удивил Хадассу и привел ее в замешательство.
— Он интересуется религией моих предков, мой господин.
— И только–то? — с сомнением спросил он. — Больше ничем? — Тут он резко протянул руку и, грубо схватив Хадассу за подбородок, приподнял ее голову. Увидев, как покраснели ее щеки, он разозлился еще сильнее. — Отвечай! Ты стала его наложницей?
— Нет, мой господин, — сказала Хадасса, покраснев еще сильнее, — мы говорим о моем народе и моем Боге. Сегодня он говорил о гладиаторах и Юлии.
Рука Марка была уже не такой твердой. Ее взгляд был лишен лукавства. Невинна.
— И он ни разу не прикоснулся к тебе? — Марк отпустил ее, и она снова опустила голову.
— Не в том смысле, как ты подумал.
Краска гнева снова залила его лицо.
— Тогда как?
— Сегодня он обнял меня за плечи. Он взял меня за руки… — И?..
— Поцеловал их, мой господин. — Хадасса подняла голову и посмотрела на него. — Он сказал, что каждому человеку нужен друг, но только я не должна быть ему другом, мой господин. Молю вас. Поговорите с вашей сестрой, мой господин. Попросите ее быть добрее к своему мужу. Хотя бы просто добрее, если она так хочет. Он так одинок. Ведь нехорошо, что он вынужден ради общения обращаться к рабыне.
— И ты осмеливаешься критиковать Юлию? — спросил Марк. Он обратил внимание на то, как щеки Хадассы сначала покраснели, а потом побледнели. — Ты хочешь сказать, что она совершенно не выполняет свой супружеский долг и недобра к своему мужу?
— Я вовсе не хочу никого критиковать, мой господин. Пусть Бог покарает меня, если я лгу тебе. — Она посмотрела на него умоляюще. — Госпожа Юлия несчастна. Как и ее муж.
— И что, по–твоему, я должен сделать?
— Она послушает тебя.
— Ты считаешь, что мой разговор с Юлией что–то изменит? — Не так много, как ей кажется. — Вымой мне ноги, — резко сказал Марк, и она выполнила его повеление, хотя руки у нее по–прежнему тряслись. Затем она тщательно вытерла ему ноги и застегнула сандалии. Он встал и отошел от нее.
Он и сам прекрасно видел, что брак его сестры рушится и Юлия ничего не делает для того, чтобы этому помешать. Это его тревожило, но гораздо сильнее его мучила мысль о том, что Хадасса целые часы проводит в уединении с Клавдием. Она сказала, что Флакку нужен друг. Неужели это все, что ему нужно? Марк говорил себе, что семейная жизнь Юлии должна наладиться, и это пойдет только на благо самой же Юлии. И тут он неожиданно понял истину: он хочет этого вовсе не ради блага сестры, а для того чтобы Клавдий оставил в покое Хадассу, — он понял это, и эта мысль его просто поразила.
Марк оглянулся и посмотрел, как Хадасса собирает принадлежности для мытья ног. Каждый раз, когда он ее видел, она становилась все краше, но не потому, что он видел какие–то перемены в ее внешности. Она по–прежнему была худой, с большими глазами, полными губами, смуглой кожей. Волосы у нее отросли и теперь падали на плечи, хотя все равно она выглядела дурнушкой. Но притом в ней было что–то прекрасное.
Он видел, как она дрожит, и испытывал некоторую неловкость от того, что так напугал ее. Она всего лишь рабыня. Ему не должно быть никакого дела до ее чувств. Но на самом деле это было не так. Почему–то чувства Хадассы много значили для него. Ему не нравилось то, как смотрел на нее Клавдий.
И вот теперь, когда Марк был так близко от нее и мог рассмотреть ее, его поразила еще одна мысль: он ревнует! О боги, какая жестокая шутка! Он испытывает ревность из–за рабыни. Он, римлянин от рождения, стоит тут, завороженный худосочной иудейкой с большими глазами, которая дрожит перед ним. Вот Аррия–то рассмеется!
Ситуация складывалась нелепая, хотя ничего необычного здесь не было. Антигон тоже заводил романы со своими рабами — как с женщинами, так и с мужчинами. Марк вспомнил о Витии, такой горячей и желанной, с которой не раз проводил темные ночи. Нет, не было ничего необычного в том, чтобы использовать рабынь для сексуальных утех.
Он смотрел, как Хадасса выливала воду под пальму в саду, а потом вернулась назад и убрала посуду. А ведь он может командовать ею. Его сердце забилось чаще. Убрав посуду, она вытерла руки. Пройдя через комнату, она стала убирать какие–то стеклянные пузырьки. Потом она снова выпрямилась, держа в руках полотенце.
Марк посмотрел на ее тонкую фигуру, облаченную в коричневое шерстяное платье, препоясанное полосатой материей, свидетельствующей о ее наследии. Иудейка. У иудеев до смешного строгие представления о морали. Девственность до вступления в брак, верность до самой смерти. Эти их ограничения противоречат самой природе человека, но Марк мог бы заставить ее нарушить все ее законы одним только своим словом. Все, что ему нужно было, — это повелевать ей, а она должна была повиноваться. И если она не послушается, он имел право наказать ее так, как ему заблагорассудится, даже убить. Ее жизнь была в его руках.
Она посмотрела на него.
— Тебе нужно что–нибудь еще, мой господин?
Каждая женщина, с которой у него когда–либо были интимные отношения, приходила к нему с большой охотой, или даже сама не давала ему покоя; так было с Витией, Аррией, Фаннией и многими другими как до них, так и после. Если бы Марк повелел Хадассе, как бы она ответила, — растаяла бы в его руках или начала бы кричать во всеуслышанье, что он ее осквернил?
Он знал ответ на этот вопрос. Она была не такой, как все.
— Оставь меня, — кратко ответил он.
Когда он направлялся обратно в Рим, ему пришла в голову мысль, что с ним случилось то, чего никогда не случалось в его жизни раньше, — он поставил чувства другого человека выше своих собственных.
12
Атрет был поражен красотой и величием Рима. В густых лесах Германии он видел дисциплинированных и хорошо обученных легионеров, которые были хорошо вооружены и одеты в свои странные юбки. Он сталкивался с жестокостью офицеров. И все же он не мог себе представить, каков Рим, с его многочисленным населением, с какофонией языков, с массой римских граждан и иноземцев, которые сновали всюду, подобно муравьям, с его мраморными колоннами и зданиями, с тем потрясающим разнообразием, которым тогда Рим отличался от всех остальных городов.
Главная артерия империи, Виа Аппия, была заполнена путниками, прибывшими из десятков регионов империи; и все эти люди ждали, когда их впустят в город. По всей дороге, прижавшись друг к другу, стояли самые разные повозки в ожидании, когда с заходом солнца откроют ворота. Бато, как слуга самого императора, был в этой очереди первым. Римские стражники уже проверили его бумаги и осмотрели гладиаторов, которых он вез. Когда ворота открылись, Атрет почувствовал прилив адреналина, поскольку телеги, повозки и колесницы, а также люди, которые их везли, разом устремились в город.
Слегка опешив от шума и толчеи в воротах, Атрет стал вертеть головой во все стороны. Греки, эфиопы, галлы, крестьяне из Испании, египтяне, каппадокийцы, парфяне — все двигались в тесной толпе по транспортной дороге. Какой–то римлянин лениво восседал в паланкине, а его несли четыре раба. Затем мимо Атрета проехал еще один — этого несли рабы–нумидийцы. Арабы в своих красно–белых каффиях причудливым образом перемешались в толпе с варварами из Дакии и Фракии. Какой–то грек ругался с сирийским лавочником.
Улицы были заполнены лавочками и магазинами. По обе стороны улиц открывались винные таверны, в которых всегда было полно народу. Между ними, сжатые настолько тесно, что казалось, будто они образуют единую стену, стояли лавки продавцов фруктов, книг, парфюмерии, одежды, цветов и лавки красильщиков. Кто–то что–то выкрикивал, расхваливая прохожим свой товар. Какой–то стеклодув привлекал внимание к своему товару, ловко показывая всем свое умение, а продавец сандалий расхаживал по улицам и продавал обувь прямо из своей коробки. Какая–то полная женщина в голубой тоге, за которой следовали такие же полные дети в белых одеждах, вошла в ювелирную лавку, чтобы присмотреть себе украшения, которые и без того обильно покрывали ее волосы, шею, руки и пальцы. На другой стороне улицы собралась толпа зевак, наблюдающих за тем, как два легионера о чем–то громко спорили с кожевенным мастером. Один смеялся, а другой подталкивал продавца лавки к его товарам.
Повозка, в которой сидел закованный в кандалы Атрет, сильно трясясь, продвигалась по улицам Рима. Пораженный увиденным, Атрет мог только в молчании озираться по сторонам. Всюду, куда он только ни смотрел, стояли дома: маленькие лавки и крупные торговые строения, убогие лачуги и богатые жилища, гигантские мраморные храмы с ослепительно–белыми колоннами и небольшие храмы, покрытые черепицей и позолотой.
Рим пестрел разными красками. Массивные здания были сложены из красно–серого гранита и алавастра, лилово–красного египетского порфира, черно–желтого нумидийского мрамора, белых каррарских камней. Каждый день в городе возводились здания из дерева, кирпича, покрытые ослепительно–белой штукатуркой. Даже статуи были выкрашены в яркие цвета, некоторые были украшены богатыми тканями.
Несмотря на все это великолепие, над имперским городом стояла нестерпимая вонь, от которой голова Атрета раскалывалась и начались спазмы у него в животе. Атрет вспомнил свежий лесной воздух своих родных мест, запах сосны. Здесь же он ощущал запах жареного мяса вперемежку с вонью, идущей от вод Тибра и сточных городских труб. Какая–то женщина вылила помои прямо из окна своей лачуги, едва не обдав ими раба, несущего узлы своей хозяйки. Другому прохожему повезло меньше. Облитый помоями, он стоял и проклинал ту женщину, которая уже отставила ведро в сторону и поставила на окно корзину с бельем. Пострадавший все кричал на нее, а она, не обращая на него никакого внимания, развешивала выстиранные туники на веревку для просушки.
Атрет остро затосковал по своему поселению, уюту бревенчатого длинного дома, очищающему огню. Он затосковал по тишине. Ему не хватало уединения.
Мужчины и женщины самых разных национальностей глазели на него и на других, сидящих в повозке. Повозка ехала очень медленно, поэтому любой похожий мог не спеша подойти и спокойно высказать в адрес сидящих в ней какие–нибудь оскорбления. Судя по всему, к Атрету толпа проявляла особый интерес. Какой–то прохожий прикоснулся к нему так, что волосы на загривке Атрета стали дыбом. Германец хотел броситься на него только с одной целью — свернуть ему шею, но сделать это ему не давали цепи, в которые он был закован. Бато отдал приказ, и несколько стражников подошли к повозке, чтобы отогнать от нее зевак. Но те все равно шли за ней следом, отпуская весьма нелестные замечания.
В Германии мужчин, которые испытывали влечение к мужчинам, топили в болоте, таким образом стирая разврат с лица земли. Но здесь, в Риме, люди открыто говорили о своих страстях, заявляя о них с крыш домов и на углах улиц, и делали это гордо, как павлины.
Сердце Атрета наполнилось жгучим негодованием. Тот Рим, о котором вокруг говорили с таким благоговением, на самом деле оказался вонючим болотом, погрязшим в грязи разврата. Ненависть Атрета возрастала, и в нем далее пробудилась гордость. Его народ был чистым, незагрязненным теми, кого он завоевывал. С другой стороны, Рим принимал к себе всех, кого он покорял, Рим терпимо относился ко всем излишествам, принимал всяческую философию, поощрял всяческую мерзость. Рим был, таким образом, представлен всеми уголками своей империи.
Когда повозка въехала в ворота Великой школы, Атрет почувствовал некоторое облегчение, увидев ту обстановку, к которой он успел привыкнуть. Возникло ощущение, что, очутившись за толстыми стенами гладиаторской школы, он вернулся домой. Чувство достаточно неприятное.
Между этим лудусом и лудусом Капуи особой разницы не было. Римская школа представляла собой огромное прямоугольное строение с открытым двором посередине, где проходили тренировки. Вокруг этого двора проходил крытый проход с небольшими помещениями, открытыми в сторону двора. Здесь располагались также кухня, больница, арсенал, квартиры для наставников и стражников, тюрьма с оковами, железом для клейма, плетями. Была в этом лудусе и отдельная крохотная камера, в которой узник не мог сесть или вытянуть ноги. Единственное, чего здесь не было, — это огромного кладбища. Закон запрещал хоронить мертвецов на территории Рима.
Даже после того как ворота закрылись, до Атрета продолжал доноситься шум города. К этому времени уже стемнело, и путь освещал свет факелов. Когда Атрета вели в его камеру, он изо всех сил боролся с нарастающим чувством отчаяния. Даже если ему удалось бы бежать из этого лудуса, ему еще пришлось бы добираться до городских ворот и миновать стоящую там охрану. И даже если бы он вырвался за пределы города, до родных мест все равно было очень далеко, и как туда добраться, он не имел ни малейшего представления.
Атрет начинал понимать, почему каждого человека перед входом в камеру тщательно обыскивали и почему стражники в темные ночные часы все время ходили взад–вперед по длинному коридору. Смерть начинала казаться желанной.
Жизнь снова вошла в привычное русло. Еда в Великой школе была лучше и обильнее, чем у Скорна Проктора Карпофора. Атрету было интересно, будет ли у него другой такой высокомерный и глупый ланиста, как Тарак.
Бато оказался не таким, как все те, с кем Атрет имел дело во время своего заточения. Эфиоп был интеллигентным и проницательным человеком. Более крепкий, чем Тарак, он никогда не опускался до насмешек, унижений или неоправданных физических оскорблений, чтобы добиться от тренируемых того, чего ему было нужно. Атрет испытывал к нему невольное уважение и всегда говорил себе, что Бато не римлянин, а потому с ним можно иметь дело. Из разговоров других людей Атрет понял, что у него много общего с этим чернокожим. Бато был вождем своего племени, старшим сыном вождя, убитого в битве римским легионером.
Тренируясь у Бато, Атрет учился владеть левой рукой так же мастерски, как и правой. Чтобы укреплять мышцы, Бато давал ему для тренировок оружие в два раза тяжелее, чем то, с которым ему предстояло выходить на арену. Бато выводил его на тренировочные схватки с более опытными гладиаторами, часть из которых уже сражалась на арене. Дважды Атрет получал ранения. Бато никогда не останавливал поединок после первой крови. Он ждал до того момента, когда для нанесения смертельной раны оставалось нанести единственный удар.
Атрет работал усерднее остальных. Не произнося ни слова, он внимательно слушал, наблюдал, внимательно изучал каждого гладиатора, прекрасно понимая, что его дальнейшая жизнь зависит от изучаемого им человека.
Иногда в лудус приходили женщины — те римлянки, которые находили интересным потренироваться с каким–нибудь гладиатором. Находясь под неотступным вниманием стражников, они выполняли вместе с гладиаторами упражнения. Одетые в короткие туники, как мужчины, они показывали всем свои ноги. Атрет смотрел на таких женщин с презрением. Они с высокомерием считали себя такими же сильными, как и мужчины, однако от своих капризов и избалованности им все равно не удавалось избавиться.
Мать Атрета была сильной женщиной, способной в случае необходимости вступить и в бой. И все же Атрет никогда не слышал от нее заявлений о том, что она лучше или хотя бы не хуже какого–нибудь мужчины. Ее мужем был Гермун, вождь хаттов, и ему не было равных. Мать Атрета была колдуньей и провидицей, и никто из хаттов не мог с ней сравниться. К ней даже относились как к богине.
Атрет вспомнил свою молодую жену, Анию. В нем тогда впервые пробудилась нежность. Он пытался защитить ее от каких бы то ни было обид, но лесные духи забрали от него и ее, и его сына.
Он посмотрел на молодую римлянку, которая тренировалась с мужчинами. Ни одна из женщин его племени не оделась бы в мужскую одежду и не стала бы размахивать мечом, как будто одно упоминание о том, что она женщина, могло вызвать гнев и обличение со стороны окружающих. Губы Атрета презрительно изогнулись. Эти римлянки приходили в лудус, презирая мужчин, после чего старались на них же походить.
Он обратил внимание на то, что эти женщины не старались овладеть навыками боя. Они выбирали самых неопытных воспитанников, на которых можно было бы испытать клинки, а нанеся кровавые раны, начинали важно прохаживаться по двору. Они считали себя равными мужчинам по силе. Как глупо! Все те, с кем они тренировались в парах, были ограничены негласным законом — только свободные римлянки могли тренироваться с гладиаторами, и одна–единственная царапина на нежной белой коже римлянки могла стоить гладиатору жизни, если только эта женщина не проявляла великодушие и не приказывала помиловать его.
Были и такие женщины, которые приходили не «сражаться», а наблюдать за тренировками с безопасных балконов. Бато не возражал против этого, потому что под женскими взглядами гладиаторы начинали работать более старательно, особенно если это были взгляды привлекательных женщин. Мужчины начинали напрягать мускулы, распрямлять плечи, тогда как женщины с улыбками и смехом смотрели на них с балконов. Другие же, как Атрет, совершенно не обращали на них внимания, полностью сосредоточившись на тех навыках, которыми еще предстояло овладеть.
Римляне также приходили тренироваться в лудус, но Атрет старался держаться от них подальше. Он уже тренировался в Риме три месяца, когда какой–то молодой аристократ, посчитавший себя умелым бойцом, указал на Атрета и сказал Бато, что хочет сразиться с ним. Бато пытался отговорить его, но молодой римлянин, уверенный в своих силах, настаивал на своем.
Бато вызвал Атрета и подозвал к себе.
— Сразись с ним, но не наноси кровавых ран, — сказал он германцу. Атрет посмотрел, как аристократ упражняется во владения мечом, и улыбнулся Бато.
— Зачем мне римская кровь?
Атрет держался на почтительном расстоянии от молодого человека, дав ему возможность показать свой характер и умение. Будучи поначалу внимательным и осторожным, германец проверил соперника, пока не выяснил все его слабости. В течение нескольких минут даже этому глупому юнцу стало ясно, кто в этом поединке сильнее. Атрет играл с ним, пока лицо и все тело римлянина не покрылись потом, а в глазах не показался страх.
— Осторожно, Атрет, — раздался голос Бато.
— Это что, все, что Рим может выставить? — улыбаясь, Атрет сделал резкий выпад вперед и нанес римлянину едва заметный удар по лицу. Соперник испугался и дернулся назад, уронив свой меч, и Атрет оставил на его груди тонкую полоску крови. При виде крови в голову варвару ударил жар, он издал воинственный клич и уже со всей силы замахнулся мечом. Но тут же меч уткнулся во что–то стальное — Бато заблокировал удар.
— В другой раз, — спокойно сказал Бато, сжав в своих могучих руках меч Атрета. Тяжело дыша, Атрет посмотрел в темные глаза ланисты и увидел в них полное понимание.
— В другой раз, — согласился он, стиснув зубы и выпустив меч из рук.
Римлянин, напрочь забыв о своей гордости, подобрал меч и из последних сил стараясь сохранять достоинство, произнес, глядя на Атрета:
— Ты еще пожалеешь о том, что нанес мне раны.
— Какие смелые слова, — смеясь сказал Атрет. Римлянин направился к двери. — Приходи еще, если смелости хватит! — крикнул Атрет ему по–гречески, на общепринятом языке Римской империи. — Вы, римляне, я вижу, жаждете крови. Дам я тебе крови! Твоей собственной, мальчишка. Нальешь себе в кубок! — Он снова рассмеялся. — Для возлияния своим богам!
Дверь захлопнулась. Атрет почувствовал, какая тишина нависла над двором. Бато был мрачен. Когда Атрет уходил в свою камеру, два стражника ничего ему не сказали. Он ожидал за свои действия суровых наказаний. Но вместо этого Бато прислал ему женщину. Это была не какая–то изможденная рабыня с кухни, а молодая проститутка с фантазией и чувством юмора.
Открылась дверь, и на пороге стояла она, с интересом глядя на него, а за ее спиной стоял стражник. Она была молодой и красивой, одетой так, как одеваются римлянки по праздникам.
— Так–так, — сказала она, смеясь и оглядывая его с головы до ног. — Бато сказал, что ты бы мне понравился. — Смеясь, она вошла в камеру, а он стоял, пораженный, и смотрел на нее.
Стражник не приходил до утра.
— Спасибо… — сказал Атрет Бато на следующий день.
Бато улыбнулся.
— Я просто подумал, что надо же тебе доставить перед смертью хоть что–нибудь приятное.
— Смерть — это еще не самое страшное.
Бато перестал улыбаться и хмуро кивнул головой.
— Умирают и мудрецы, и глупцы, Атрет. Разница лишь в том, что у мудрецов смерть достойнее.
— Я знаю, как умереть достойно.
— На кресте нет достойной смерти. Это медленная, мучительная и глупая смерть, и в ней нет никакой чести, если ты висишь обнаженным, на виду у всего мира. — Бато посмотрел ему в глаза. — Не послушался ты меня вчера. Одна глупая ошибка — и тебя нет. Победить римлянина в честном бою — это одно, Атрет. А преднамеренно смеяться над ним и унижать его — это совсем другое. Тот молодой человек, над которым ты вчера так издевался, — сын уважаемого сенатора. Он также близкий друг Домициана, младшего сына императора, — ланиста многозначительно замолчал.
У Атрета внутри все похолодело.
— И когда меня казнят? — тихо произнес он, начав лихорадочно думать о том, как ему покончить с собой.
— Это уж как решит император.
Спустя несколько дней Бато отозвал Атрета в сторону.
— Похоже, что боги улыбнулись тебе. Император сказал, что ему жалко тратить время и деньги на то, чтобы распять тебя. Он приказал выпустить тебя на арену на ближайших зрелищах. — Бато положил руку на плечо Атрету. — Еще бы пару месяцев, и ты был бы полностью готов, но зато ты хоть умрешь с мечом в руке.
* * *
Атрет подбирал себе вооружение для арены. Он с презрением посмотрел на красную накидку и позолоченный шлем со страусовыми перьями и отшвырнул их. Раб молча подобрал их и снова протянул Атрету, после чего германец недвусмысленно сказал, куда их засунуть. Бато смотрел на все это с каменным лицом.
— Все это ты носить не будешь. Это только для церемонии открытия, сказал он с досадой. Накидку ты снимешь перед зрителями. Это всего лишь часть представления.
— Пусть кто–нибудь другой облачается в перья. А я не буду.
Бато недовольно тряхнул головой, и раб со всеми нарядами ушел.
— Тогда наденешь медвежью шкуру. Она как раз подходит варварам. Если только ты не предпочтешь выйти вообще без одежды. Это ведь ваша, германская традиция, сражаться обнаженными, да? Толпе, думаю, это понравится.
Следующие несколько дней Бато дополнительно работал с Атретом, обучая его всем хитростям и уловкам, которые могли бы спасти ему жизнь. Оба работали до изнеможения, после чего ланиста отправлял его в бани и на массаж. Женщины к Атрету больше не приходили, но он в них сейчас и не нуждался. Он настолько уставал, что сил на плотские утехи уже не оставалось. Сейчас у него была одна задача — копить силы для борьбы на арене, для выживания, и растрачивать их попусту он не имел права.
За два дня до зрелищ Бато продолжал работать с Атретом, но уже давал ему больше времени для отдыха. В последний вечер он пришел к нему в камеру.
— Завтра тебя повезут в другие кварталы, на арену. Перед зрелищами там всегда проводят пиры. Все это будет непохоже на то, что ты видел до этого, Атрет. Запомни мой совет. На еду и питье не набрасывайся. Женщин сторонись. Сосредоточься и храни все силы для арены.
Атрет поднял голову.
— Что же, никаких удовольствий перед смертью? — насмешливо спросил он.
— Запомни, что я тебе сказал. Если боги будут милостивы, ты выживешь. Если нет, то хоть сражаться будешь достойно. И не посрамишь свой народ.
Слова Бато запали Атрету в сердце. Он кивнул. Бато протянул ему руку, и Атрет крепко сжал ее. Ланиста был мрачен. Атрет криво усмехнулся.
— Когда вернусь, буду с нетерпением ждать своей награды.
Бато засмеялся.
— Если вернешься, получишь.
На Луди Плебеи, зрелищах, проводимых для плебеев, которые составляли основную массу римских граждан, предстояло сражаться шестерым гладиаторам Великой школы. Их привезли в специальную комнату, где им нужно было ждать, пока не появится охрана арены, которая отведет их в подтрибунные помещения. Другие пять гладиаторов уже имели опыт сражений на арене. На счету одного из них было двадцать два убитых. Атрет был единственным новичком в этой группе. У него одного были оковы на руках и ногах.
Фракиец был большим и сильным. Атрет уже тренировался с ним в паре и знал, что действует он излишне прямолинейно, движения его предсказуемы. Главной его угрозой была огромная физическая сила, и он пользовался ею, как драчливый баран. Совсем не таким был парфянин. Более стройный и проворный, он умел наносить быстрые удары. Два грека были хорошими бойцами, но Атрет с ними тоже тренировался и знал, что они ему вполне по силам.
Последним был иудей, который каким–то образом умудрился выжить, когда Тит уничтожил их страну. Звали его Халев, он был стройным и атлетически сложенным. Он–то и представлял главную угрозу, поскольку именно он убил двадцать два соперника. Атрет внимательно изучал его и очень хотел потренироваться с ним в паре в лудусе. Тогда бы он знал, как с ним сражаться, — знал бы, чего от него ожидать, на что обратить внимание в первую очередь, как наиболее эффективно контратаковать.
Сейчас иудей склонил голову и закрыл глаза, видимо, погрузившись в какую–то странную медитацию. Атрет слышал, что иудеи поклоняются какому–то невидимому Богу. Может быть, их Бог похож на его лесных богов. Существует, но остается неуловимым. Атрет увидел, что губы иудея шевелятся в тихой молитве. Стараясь отключиться и сосредоточиться, германец все же ощущал волнение от всего, что его окружало. Это волнение только усилилось, когда иудей, наконец, поднял голову и посмотрел прямо в глаза Атрету, почувствовав его внимание, Атрет продолжил смотреть на иудея, пытаясь не показать своей тревоги. В глазах соперника он увидел смелость и силу.
Так они довольно долго смотрели друг другу в глаза, впрочем без всякой враждебности. Иудей был старше и, очевидно, намного опытнее. Его немигающий взгляд предупреждал Атрета о том, что в схватке с ним варвара ждет неминуемая смерть.
— Тебя зовут Атрет, — сказал он.
— А тебя Халев. Двадцать два убитых гладиатора.
Лицо этого человека на какое–то мгновение перестало быть каменным. Он скривил губы, но это была не ухмылка.
— Я слышал, ты пытался убить гостя нашего лудуса.
— Он сам на это напрашивался.
— Я молю Бога о том, чтобы не сражаться с тобой, юный Атрет. Мы с тобой оба ненавидим Рим. Мне будет больно убивать тебя.
Халев говорил с такой искренностью и такой уверенностью, что сердце Атрета забилось чаще. Он ничего не ответил. Пусть лучше Халев поверит, что запросто убьет юного и неопытного варвара. Как знать, может излишняя самоуверенность окажется единственной слабостью этого человека и одновременно единственным оружием, которое поможет Атрету выжить в схватке с ним.
Пришли императорские легионеры. К каждому из гладиаторов было приставлено по два воина, но Атрета конвоировали трое. Усмехнувшись, Атрет встал, почувствовав в себе прилив гнева от холодного металла кандалов. Неужели ему придется шаркать по коридору, тогда как остальные пойдут уверенной поступью? Тут он увидел Бато, стоявшего в дверях.
— Скажи этим псам, что я не убегу от сражения.
— Они это знают. Их беспокоит только, как бы ты на пиру не съел кого–нибудь из римлян.
Атрет засмеялся.
Бато приказал снять с Атрета оковы, чтобы тот мог идти свободно. Сопровождаемый шедшими по бокам стражниками, Атрет проследовал по освещенному факелами тоннелю. За ними закрылась тяжелая дощатая дверь. В конце тоннеля виднелось осажденное помещение. Когда они прошли в него, за ними закрылась вторая дверь. Оставалась открытой только одна, ведущая в лабиринт соседних комнат, расположенных под трибунами и ареной.
Где–то раздавалось рычание львов, и Атрет почувствовал, как по телу пробежали мурашки. Не было большего позора, чем быть скормленным диким зверям. Гладиаторы в сопровождении стражников прошли дальше, по длинным и холодным каменным коридорам, затем поднялись в нижние помещения какого–то дворца.
Войдя в мраморный зал, Атрет услышал музыку и взрывы смеха. Перед ними была закрытая тяжелая двойная дверь; возле нее стояли два раба, одетые в белые туники с красными и золотистыми узорами, — они уже были готовы открыть эту дверь.
— Они здесь! — воскликнул кто–то в восторге, и Атрет увидел огромный зал, заполненный римлянами и римлянками в богатых разноцветных тогах. Какая–то молодая женщина, на которой был украшенный драгоценностями пояс, перестала танцевать, когда Атрет вместе с остальными гладиаторами прошел в середину зала, оказавшись в центре внимания всех гостей. Мужчины и женщины оценивали гладиаторов так, будто собирались покупать мясо, — судили об их весе, ширине плеч, фигуре.
Атрет с интересом наблюдал за другими гладиаторами. Фракийцу, парфянину и грекам такая обстановка, судя по всему, была по душе. Они прошли к помосту в дальнем конце зала, улыбаясь и отпуская какие–то комментарии нескольким молодым женщинам, смотревшим на них. Только Халев оставался сдержанным. Атрет последовал его примеру, уставившись на тех почетных гостей, которым они были официально представлены. Узнав одного из них, Атрет почувствовал, что его сердце так и подпрыгнуло.
Стражники выстроились в шеренгу, и Атрет оказался лицом к лицу с римским императором, Веспасианом. По правую руку от него сидел его старший сын, Тит, покоритель Иудеи, по левую — Домициан.
Атрет во все глаза смотрел на Веспасиана. Император был атлетически сложен и всем своим видом напоминал воина. Его седые волосы были аккуратно причесаны, а обветренное лицо говорило о том, что этот человек не один год провел в военных походах. Тит, который выглядел не менее впечатляюще, сидел рядом с ним, а за его спиной стояли три прекрасные молодые женщины. Домициан выглядел не так воинственно, как его старший брат и отец, хотя Атрет и вынужден был признать, что именно этот юноша, почти подросток, оказался покорителем ряда германских племен. Атрет прикинул, на каком расстоянии он находится от них и сможет ли он до них добраться, и с горечью убедился, что ничего сделать невозможно. Но уже от самой мысли о том, чтобы свернуть шею кому–нибудь из них, он почувствовал, как у него закипела кровь.
Веспасиан пристально смотрел на него, не выражая никаких эмоций. Атрет отвечал императору таким же холодным взглядом, мечтая лишь о том, чтобы руки его были свободны от цепей, а под рукой оказался меч. Перед ним на помосте сидела сама всемогущая власть Римской империи. Стражники стояли вдоль всех стен, вдобавок два стражника стояли за спиной Атрета. Один–единственный шаг к помосту мог бы оказаться последним в его жизни.
Атрет оставил без внимания возглас сотника и не последовал примеру других гладиаторов, которые тут же подняли сжатые кулаки в знак приветствия и чествования кесаря. Веспасиан по–прежнему смотрел на Атрета. По залу прошел шепоток. Атрет показал свои закованные запястья и насмешливо улыбнулся. Впервые он был даже рад тому, что его руки были в цепях. Это в конечном счете спасало его от дальнейших необдуманных поступков. Он перевел взгляд с Веспасиана на Тита, потом на Домициана, потом снова на Веспасиана — пусть они видят всю силу его ненависти к ним.
Два стражника взяли его под руки и вместе с другими гладиаторами увели из большого зала в помещение поменьше. Его усадили на кушетку.
— Благодари судьбу, что тебе оказали сегодня такую честь, — сказал ему один из стражников, — ведь завтра ты все равно умрешь.
Атрет смотрел, как другие гладиаторы тоже расселись в этой комнате. Некоторые из гостей императора прошли с ними в это помещение и окружили их. Одна красивая юная римлянка смеялась и тискала парфянина, как будто это был какой–то симпатичный пес.
Несколько мужчин и женщин подошли и к Атрету, глядя на него и оценивая его силу и стать. Атрет с ненавистью смотрел на них.
— Вижу, ему не нравится, когда о нем говорят, — сухо отметил один красивый молодой римлянин.
— Не думаю, что он понимает по–гречески, Марк. Германцы славятся тем, что они сильны, но глупы.
Мужчина по имени Марк засмеялся.
— Если судить по его взгляду, Антигон, то он понял все, что ты сейчас сказал. Вот на него я и поставлю. Не знаю, почему, но он мне нравится.
— Нет, я поставлю на грека Аррии, — сказал другой, когда они отходили от германца. — Она утверждает, что он удивительно вынослив.
— Не сомневаюсь, что она его уже испытала, — сказал Марк, подойдя к парфянину, чтобы внимательнее разглядеть его.
Атрет думал о том, как долго ему еще будет оказана эта «честь». Принесли подносы с яствами, но Атрет посмотрел на них с презрением. Он никогда не видел такой еды раньше, никогда не знал таких запахов, поэтому отнесся к предложенной пище с недоверием. Вино он пил умеренно, и его кровь становилась горячее от вида танцующих рабынь, исполнявших соблазнительные движения эротического танца.
— Как жаль, Орест, — сказал какой–то мужчина своему собеседнику, когда оба остановились напротив Атрета, — похоже, германец предпочитает женщин.
— Действительно, жаль, — вздохнув, ответил другой.
Атрет стиснул зубы и сжал кубок так, что побелела рука. Он чувствовал, как пристально они на него смотрят, и поклялся, что убьет любого из них, кто только дотронется до него.
Тут его внимание привлек взрыв смеха. Один из греков схватил рабыню и стал ее целовать. Она кричала и пыталась вырваться, а римляне вокруг него смеялись и подбадривали его, призывая быть смелее.
В нескольких метрах от него, на другой кушетке, парфянин, сидевший среди множества яств, не останавливаясь пил вино. Глупец предпочитает наслаждаться — ведь если мне повезет завтра сразиться с ним, этот пир окажется для него последним, — подумал Атрет.
Халев откинулся на кушетке, как бы отстранившись от всех. Он не выпил ни капли вина, и поднос с деликатесами перед ним остался нетронутым. Какая–то женщина стояла у него за спиной, что–то ему говорила и ласкала его плечи. Он не обращал на нее никакого внимания. Глаза у него были прикрыты, лицо было мрачным и отстраненным. Женщина поначалу пыталась привлечь его внимание, но потом, разочаровавшись, ушла.
Рядом с Атретом никого не было. Веспасиан приказал снять с него оковы, но стражники не отходили от него, готовые к любым его выходкам, и предупреждали всех гостей, чтобы они держались от него подальше. «Все германцы какие–то сумасшедшие», — услышал он от кого–то. Казалось, что половина собравшихся наблюдала за ним, надеясь увидеть его разъяренным. Несколько молодых римлянок в богатых одеждах жадно всматривались в него. Он сжал зубы. Интересно, все римлянки такие смелые? Пытаясь не обращать на них внимания, он поднял свой кубок с вином и сделал глоток. Женщины подошли к нему настолько, что он мог ясно слышать, что они о нем говорят. Неужели они думают, что он глухой или глупый?
— Домициан сказал, что его зовут Атрет. Он красив, не правда ли? Люблю блондинов.
— Да, вот только диковат. От его голубых глаз мне как–то не по себе.
— О–о–о! — сказала другая. — А меня от них в жар бросает. Несколько гостей после этих слов засмеялись.
— Как ты думаешь, скольких человек он убил? Ты думаешь, он завтра выживет? Домициан сказал мне, что он будет сражаться с фракийцем Фадом, и что он так же хорош, как Халев.
— Готов поспорить, что он победит. Вы видели, как он смотрел, когда его привели к нам? Он не приветствовал кесаря.
— А как он мог его приветствовать? Он же был в кандалах.
— Говорят, германцы выходят на битву голыми, — прошептал кто–то. — Как вы думаете, Веспасиан заставит его обнажиться завтра для поединка?
Кто–то в ответ сухо засмеялся.
— Надеюсь, что да, — ответом ему был ехидный смех остальных присутствующих.
— Хотелось бы на него посмотреть…
— Аррия! Я думал, тебе нравится парфянин.
— Надоел он мне.
А как они сами надоели Атрету! Слегка повернув голову, он уставился на самую красивую из всех римлянок, которые были здесь, и которая только что сказала, что хотела бы увидеть его обнаженным. Массивная шапка неестественно светлых волос, казалось, была слишком тяжелой для ее тонкой шеи, украшенной редкими жемчужинами. Эта римлянка была красивой. Увидев, что Атрет смотрит на нее, она самодовольно поглядела на своих подруг и улыбнулась ему. Его прямой взгляд не вогнал ее в краску.
— Может, нам отойти от него подальше?
— А что, по–твоему, он может сделать? Схватить меня? — промурлыкала Аррия, по–прежнему улыбаясь Атрету в глаза, как бы призывая его сделать именно это.
Атрет продолжал смотреть на нее. На ней был бриллиантовый пояс, похожий на тот, который носит этот жадный грек. На какое–то мгновение взгляд Атрета застыл, потом германец взял кубок, не спеша сделал глоток и снова стал смотреть на танцующих рабынь, как будто они привлекали его больше.
— По–моему, Аррия, тебе нанесли обиду.
— Это только кажется, — послышался ее холодный ответ. Римляне отошли в сторону, избавив Атрета от своего назойливого присутствия. Он снова подумал о том, сколько еще ему терпеть этот вечер «удовольствий». Ему налили еще вина, и он старался не думать об этом веселье, которое оскорбляло его душу.
Наконец, их увели с пира и заперли по одному в камерах, расположенных под амфитеатром. Атрет растянулся на каменной лежанке и закрыл глаза, испытывая сильное желание заснуть. Ему снились леса его родины, он видел себя стоящим среди старейшин, а мать пророчествовала ему, что он принесет мир своему народу. Потом раздался какой–то шум, и Атрет проснулся от громкого стука стражника в дверь. Он снова заснул, и теперь ему снилось, будто он в болоте. Он чувствовал, как оно затягивает его, а он, стараясь вырваться, лишь погружается все глубже, и влажная земля сдавливает его со всех сторон, тянет вниз, вниз, пока эта земля не оказалась над ним, и он уже не мог дышать. Он слышал, как кричат его мать и другие его соплеменники, как звон оружия раздается по всему лесу. В воздухе висел крик умирающих людей. А он не мог избавиться от тяжести этой влажной земли.
Дико закричав, Атрет вскочил и проснулся. Спустя мгновение он вспомнил, где находится. Он был весь в поту, хотя в каменной камере было довольно прохладно. Глубоко вздохнув, он запустил трясущиеся руки в волосы.
Мать сказала, что он принесет своему народу мир. Какой же мир он им принес? Какой мир, если завтра его уже, скорее всего, ждет смерть? Сколько еще хаттов осталось живыми и свободными в германских лесах? Что стало с его матерью? Что стало с остальными? Может, они теперь, как и он, стали римскими рабами?
Трясясь от гнева, Атрет сжал кулаки. Потом он снова лег, стараясь расслабиться и отдохнуть перед предстоящей схваткой, — теперь у него в голове крутились жестокие и изощренные фантазии, подстрекаемые жаждой мести.
Завтра. Завтра он умрет с оружием в руках.
13
Утром стражники пришли к Атрету в камеру и принесли тяжелую медвежью шкуру. Его повели по освещенному факелами коридору к остальным гладиаторам, стоявшим возле Порта Помпее, центральной двери, ведущей к Большому Цирку. Солнце уже палило вовсю.
— Император уже прибыл, и церемония открытия началась, — объявил им стражник, и все поспешили к колесницам, которые должны будут вывезти гладиаторов на арену, под взоры тысяч зрителей, уже сидящих на трибунах.
Атрету приказали сесть в одну колесницу с Халевом.
— Да будет Господь с нами обоими, — произнес иудей.
— Какой именно? — спросил Атрет, стиснув зубы и стараясь крепче держаться за колесницу, чтобы не упасть. Когда вместе с несколькими другими колесницами, в которых сидели гладиаторы из других школ, они выехали на арену, толпа неистово завизжала. При крике и виде тысяч людей, заполнивших Большой Цирк, у Атрета вспотели ладони, и сильнее забилось сердце. Играли трубы, а свист и крик собравшихся были столь оглушительными, что показалось, будто дрожит сама земля.
Дорога была примерно семьдесят метров в ширину и шестьсот метров в длину. В центре этой дороги, как бы разделяя ее пополам, располагалась гигантская платформа, или спина. Сделанная из мрамора, она была размером более семидесяти метров в длину и около семи метров в ширину. Эта спина служила платформой для мраморных статуй и колонн, фонтанов и жертвенников, посвященных десяткам римских богов. Атрет проехал мимо небольшого храма Венеры, в котором жрецы жгли благовония. В центре спины Атрет увидел обелиск в виде башни, привезенный из Египта. Прищурившись от ослепительного света, он посмотрел на золотой шар, возвышавшийся на самом верху и сияющий, как солнце.
В конце спины возвышались две колонны, на вершине которых находились мраморные поперечины. На поперечинах располагались семь бронзовых яиц — священных символов Кастора и Поллукса, небесных близнецов и покровителей Рима, — и семь дельфинов, посвященных Нептуну.
Возница сделал резкий разворот и проехал всего в нескольких сантиметрах от мете, поворотных указателей в виде конусов, стоявших подобно кипарисам и призванных защищать спину от повреждений во время состязаний колесниц. Конусы были около семи метров в высоту, на них были вырезаны изображения батальных сцен римского войска. Когда колесница разворачивалась и выезжала на другую сторону дороги в одном ряду с двумя другими, Атрет внимательно рассматривал все эти атрибуты.
Они проехали еще один круг, потом остановились как раз напротив трибуны, где сидели император и другие важные особы. Халев слез с колесницы. Атрет сделал то же самое и почувствовал ногами горячий песок. Солнце жарко палило, и Атрет не мог дождаться момента, когда он сможет скинуть медвежью шкуру. Над зрителями были протянуты яркие навесы, защищающие их от палящего солнца. У Атрета пересохло во рту. Больше всего ему сейчас хотелось одеться в свою привычную легкую тунику.
Халев прошел широкой поступью вдоль ограждения, подняв руки в знак приветствия неистовствовавшей толпы. Другие гладиаторы сделали то же самое, выставляя напоказ свои нагрудники, украшенные серебром и золотом. У некоторых из них мечи были украшены драгоценными камнями. Сверкающие шлемы были увенчаны страусиными и павлиньими перьями. Нарукавные повязки и пояса были украшены батальными изображениями. Ослепленная блеском гладиаторов, публика выражала им свой восторг, приветливо выкрикивая имена одних и насмехаясь над другими, особенно над Атретом, облаченным в варварский мех, молчаливо стоящим, расставив свои массивные ноги. Некоторые зрители выкрикивали в его адрес оскорбительные эпитеты и смеялись.
Зрители были одеты в красные, белые, зеленые и синие тоги, демонстрируя тем самым свое предпочтение какой–то из школ гладиаторов. Те из них, которые поддерживали императорских гладиаторов, были одеты главным образом в красные одежды. Объявили имя организатора и хозяина церемонии. Когда объявляющий назвал его имя, а сам организатор сошел с колесницы, публика стоя приветствовала его. «Диокл Проктор Фад — друг народа!» Улыбаясь и раскланиваясь, этот человек, одетый в фиолетовую тогу, помахал руками зрителям и выступил перед императором с краткой речью.
Затем императору были представлены гладиаторы, и среди них Атрет. Он поднял руку в торжественном приветствии и вместе со всеми воскликнул: «Славься, император! Идущие на смерть приветствуют тебя!». Эти омерзительные слова застряли в горле Атрета, и он сжал ладонь в кулак и задержал ее поднятой дольше остальных.
Забравшись вместе с Халевом в колесницу, Атрет снова вцепился в нее, колесница проделала последний круг и направилась к воротам.
— Теперь будем ждать, — сказал Халев, спускаясь вниз.
— Сколько? — спросил Атрет, направляясь вместе с ним в те помещения, где им предстояло ожидать, пока их не позовут на арену. В стороне стояли какие–то женщины, которые из–за рядов стражников выкрикивали имена Келера, Ореста и Прометия.
— Никто не знает. Час. День. Главным представлением здесь являются не игры, а зрители. Когда начинаются гонки, они рвут на себе одежду, падают в обморок от восторга, прыгают, как сумасшедшие, ставят целые состояния на тех, кого поддерживают. Я видел, как проигравшие продавали себя в рабство только ради того, чтобы получить несколько монет и сделать ставку. Они это называют иппоманией. Римляне просто помешаны на лошадях.
Атрет горько усмехнулся.
— А мы, значит, развлекаем их между гонками.
— Будь злее. Это придаст тебе силы. Но только старайся, чтобы злость не лишила тебя разума. Иначе не миновать тебе смерти, — с этими словами Халев взглянул на Атрета. — Я видел людей, которые сами переставали себя защищать, чтобы можно было нанести смертельный удар.
— Я свой щит не брошу.
Халев улыбнулся, но без насмешки.
— Я видел, как ты сражаешься. В тебе столько злости, что ты из–за нее ничего не видишь. Посмотри вокруг себя на толпу, юный Атрет. Завоеватели этого мира — рабы своих страстей, и когда–нибудь эти страсти окончательно погубят их. — Стражник открыл в освещенном факелами коридоре одну из камер, и Халев шагнул в нее. На пороге он оглянулся на Атрета и посмотрел ему в глаза. — У тебя много общего с Римом. — Дверь закрылась, скрыв его из виду, затем лязгнул засов.
Атрета вызвали только в середине дня. Когда он выходил из камеры, ему дали меч, который можно держать двумя руками, — это было все его вооружение. Рабы убирали остатки разбитой колесницы и разглаживали песок. Из толпы доносился запах жареной курицы. Многие зрители уже одурели от солнечных лучей и вина, и теперь, развалившись, сидели, поедая принесенный с собой хлеб.
Сорвав с плеч тяжелую медвежью шкуру, Атрет вышел навстречу своему противнику, мурмиллону с галльским вооружением и знаком рыбы на шлеме. Приветствием Атрету были насмешки и оскорбления; когда он появился на арене, в его сторону с трибун полетели куриные кости. Не обращая на это никакого внимания, Атрет остановился возле галла и повернулся к императору, подняв свое оружие в знак приветствия. Затем он повернулся к противнику.
Они стали двигаться по кругу, выискивая друг у друга слабые места. Галл был тяжеловооруженным и первым нанес удар. У него была сильная правая рука, и он воспользовался всей своей массой, чтобы смять Атрета, когда тот отразил его удар мечом. Атрет нырнул под бросок галла и нанес удар кулаком снизу вверх, сдвинув шлем противника набок. Воспользовавшись секундным замешательством, он нанес удар мечом в бок галлу. Потом он вынул меч, и противник упал на колени. Безвольно откинув голову назад, раненый гладиатор упал на спину. Собравшись с последними силами, он поднялся на одно колено, но тут же упал замертво. Атрет отступил назад, а толпа взорвалась недовольными криками; люди сочли себя обманутыми, потому что битва получилась до неприличия короткой.
Схватив оружие галла, Атрет поднял его вверх и издал воинственный клич, обращаясь к Тивазу. Положив оружие на песок, он повернулся к императорской трибуне.
— Прежде чем меня схватили, я убил десять ваших легионеров! — закричал он императору и его свите. — Чтобы свалить меня с ног и заковать в цепи, понадобилось четыре человека. — Он поднял над головой меч и обернулся в сторону толпы. — Самый слабый германец стоит легиона желтопузых римлян!
Удивительно, но толпа взорвалась криками одобрения. Аплодируя и смеясь, люди забавлялись его выходкой. Он сплюнул на песок.
— Выпустите против него Келера! — закричал какой–то трибун, окруженный своей охраной.
Атрет направил в его сторону меч.
— Трус! Выходи сюда сам! Или за свою римскую кровь боишься? — Трибун встал и уже направился было к выходу, но руки сидящих рядом усадили его обратно. Атрет засмеялся. — Как за тебя боятся твои люди! — Тут встало еще два человека.
— Келер! Келер! — закричали сотни зрителей, но тут на арену выбежал какой–то молодой офицер, который тут же потребовал доспехи и оружие.
— За честь Рима и всех тех, кто погиб, сражаясь с германцами! — воскликнул он, идя навстречу Атрету.
Физически оба были подготовлены одинаково, поэтому толпа какое–то время молчала, и в полной тишине раздавался звон мечей. Ни у кого из сражавшихся не было преимущества, схватка шла какое–то время ровно. Атрет нырнул под противника и ударил его плечом в грудь, тот отпрыгнул назад. Не давая ему опомниться, германец ударил его по коленям. Римлянин сделал быстрый кувырок назад и снова встал на ноги. Атрет едва успел отпрянуть, когда сверкнул меч римлянина, оставив на груди германца порез длиной около шести дюймов. Поскользнувшись в кровавой луже на том месте, где упал галл, Атрет тяжело рухнул на песок.
Когда офицер устремился вперед и оседлал Атрета, толпа неистово закричала. Атрет увидел, что римлянин уже занес меч для смертельного удара, поэтому, недолго думая, со всей силы ударил кулаком римлянину между ног, заставив того согнуться в три погибели. Отбросив его в сторону, он встал на ноги и нанес своему врагу сильнейший удар мечом, прорубив воротник, который защищал шею офицера.
Обезглавленное тело замерло на песке, при полном молчании толпы.
Атрет гордо выпрямился и поднял свой окровавленный меч, бросая вызов легиону убитого им офицера. Толпа снова взорвалась криком восторга, но в этот момент императорским воинам пришлось удерживать двух легионеров, чтобы не выпустить их на арену. Веспасиан дал знак, и на арену вышел ретарий.
Атрет понял, что теперь ему придется играть роль секутора, или «преследователя», и он должен будет схватить этого воина, вооруженного сетью. Он знал также, что у ретария есть одно немалое преимущество. Его сеть была снабжена кусочками металла, помогающими при броске сразу охватывать большую площадь. Попав в такую сеть, гладиатор становился практически полностью беззащитным. Атрет устал после двух схваток, поэтому у него сейчас не было никакого преимущества.
— Мне нужен не ты, — громко сказал ретарий, цитируя традиционную песню. — Мне нужна рыба! — С этими словами он сделал пробный бросок сети, тут же отдернув ее назад.
Атрет неподвижно стоял, ожидая, когда ретарий направится к нему. Тот вел себя нахально, совершая танцевальные па, кружась вокруг него, называя его трусом и варваром. Толпа призывала Атрета сражаться. Легионеры кричали ему: «Цыпленок!». Атрет ни на кого не обращал внимания. У него не было никакого намерения впадать в бездумный гнев и бросаться на ретария. Он будет наблюдать и ждать своей минуты.
Ретарий тем временем устраивал представление, готовясь совершить решающий бросок. И вот, наконец, он бросил сеть к ногам Атрета, явно намереваясь захватить его, но Атрет отпрыгнул назад.
— Ну что же ты убегаешь? — издевался ретарий, бросая сеть вперед и назад, при этом наступая. Но во время очередного такого броска Атрет схватил сеть, отразил бросок трезубца, и тут же нанес противнику удар в живот. Обмотав сетью голову ретария, он ударом ноги в спину опустил его на колени, а потом нанес мечом смертельный удар в затылок.
Толпа, встав на ноги, неистово кричала. Тяжело дыша, Атрет отошел от убитого ретария. Его руки и ноги дрожали от усталости и потери крови. Упав на одно колено, он тряхнул головой, пытаясь лучше разглядеть, что происходит вокруг.
Веспасиан кивнул головой, и Атрет увидел, как на арену выходит фракиец. Келер. Сжав меч в руке, Атрет встал и приготовился к новой схватке, зная, что теперь его смерть близка.
В этот момент тысячи зрителей встали со своих мест и начали размахивать белыми платками — этим они показывали свое расположение к Атрету. Веспасиан неотрывно смотрел на германца. Тит наклонился к отцу и что–то ему сказал. Рев зрителей, казалось, сотрясал землю. Белые куски материи, развевавшиеся на всех трибунах, ясно говорили императору: пощади варвара, пусть он сражается и дальше.
Атрет не хотел милости от толпы римлян. Он почувствовал гнев, и это придало ему силы. Он широкими шагами направился к фракийцу и закричал:
— Сражайся со мной!
— Тебе не терпится умереть, германец! — прокричал в ответ Келер, не сделав ни одного движения. Потом он посмотрел на императора — тот не подал ему никакого знака. Когда же Атрет оказался в непосредственной близости от фракийца, тот повернулся к нему с мечом наготове. Рев толпы стал просто угрожающим, а белые платки стали двигаться в унисон, словно по чьей–то команде. Веспасиан дал знак, и ланиста Келера приказал своему подопечному убрать оружие. На арену вышли Бато и четыре стражника из императорской школы.
— Я умру так, как я хочу! — схватив меч в обе руки, Атрет принял боевую стойку.
Бато щелкнул пальцами, и стражники обступили Атрета со всех сторон. Двое взмахнули кнутами. Когда Бато кивнул головой, один кнут обвил меч Атрета, а другой обхватил его лодыжки. Руки германца были все в крови, и он уже не мог держать оружие. Отпустив его, он ударил локтем одного стражника по голове, а второго ногой по спине. Подоспевший третий стражник подкрался сзади и опять же плетью обмотал ноги Атрета, лишив его равновесия, дав таким образом двум другим стражникам окончательно схватить его. Дергаясь из стороны в сторону, Атрет отчаянно пытался вырваться. Не сумев это сделать, он снова издал воинственный клич. Бато приказал зажать ему плеть между зубами, заставив таким образом замолчать, после чего его унесли с арены.
— Несите его на стол! — раздался чей–то голос, и Атрета уложили на деревянную раму, руки и ноги у него оказались закованными.
— Останови ему кровь! — сказал этот же человек, одетый в запачканную кровью тунику, что–то нетерпеливо показывая жестами своему помощнику, моющему руки в воде, налитой в большой сосуд. — Он потерял много крови, — сказал он Бато, после чего прикрикнул на помощника. — Этого оставь. Видишь, он же мертв. Скажи Друзу, что, если хочет, может забрать его для препарирования, пусть только поторопится. Сам знаешь, закон это запрещает. Сходи к нему, но возвращайся побыстрее. Мне нужна будет помощь вот с этим! — Он посмотрел на Атрета, потом на Бато. — Он еще будет сражаться?
— Не сегодня, — хмуро ответил Бато.
— Хорошо. Тогда все проще. — Врач взял кувшин и вылил из него в чашу кровь. Затем он примешал туда опиум и лекарственные травы. — Это придаст ему силы и охладит пыл. Держи ему голову ниже. Пусть выпьет, если не захлебнется, — помощник оттянул подбородок Атрета и влил ему питье в рот.
Атрет стал глотать, но помощник продолжал лить. Кто–то закричал за их спинами; ни Бато, ни врач даже не вздрогнули. Ланиста наклонился над Атретом, но тот едва ли что мог видеть из–за слез гнева. Чаша опустела, помощник отошел от стола. Атрет всхлипнул и выругался по–германски. Его трясло. Врач склонился над ним и заглянул в глаза.
— Хорошо, опиум действует.
— Зашей ему раны, — сказал Бато.
Врач сделал свою работу быстро, после чего перешел к другому гладиатору, которого принесли на собственном щите. Бато стоял возле стола. Его губы скривились в безрадостной улыбке.
— Лучше смерть, чем милость Рима. Не так ли, Атрет? Ты не хочешь, чтобы твоя жизнь зависела от милости римской толпы. Вот что тебя взбесило.
Схватив германца за волосы, Бато повернул его голову к себе и заговорил уже совсем другим тоном:
— Ты же сам себя лишаешь своего единственного шанса. А он в твоих руках, — шипел он в необъяснимой злости, и глаза его горели, как огонь. — Ты можешь отомстить Риму только на арене! Ты хочешь быть победителем. Так будь же им! Хватай их женщин. Бери их деньги. И пусть Рим падет к твоим ногам и поклоняется тебе. Пусть они сделают тебя одним из своих богов.
Он отпустил Атрета и выпрямился:
— Иначе и ты сам, и твои соплеменники погибнете ни за грош.
14
— Они все думают, что это я виновата, — говорила Юлия, лежа в своей постели, и по ее щекам текли слезы. — Я же вижу, как они смотрят на меня. Они винят меня в смерти Клавдия. Я знаю. Но я же не виновата, Хадасса. Я действительно не виновата, разве не так? Я не хотела, чтобы он ехал за мной, — ее плечи снова затряслись в рыданиях.
— Да, я знаю, что ты не хотела, — ласково сказала Хадасса, сама сдерживая слезы и пытаясь утешить свою обезумевшую хозяйку. Юлия никогда не причиняла никому зла умышленно. Просто она всегда думала только о себе и никогда не задумывалась о последствиях своих поступков.
Тот трагический день начался с недовольства Юлии, которая жаловалась на то, как ей скучно. Она хотела отправиться на показательные тренировки в гладиаторскую школу, и нужно было, чтобы Клавдий сопровождал ее. Привыкший к бесконечным жалобам своей супруги, Клавдий ее почти не слушал. Он был погружен в свои исследования. Юлия уговаривала его, но он отвечал отказом, вежливо объяснив, что заканчивает свои тезисы об иудаизме. В конце концов, Юлия ушла от него в молчаливом гневе. Переодевшись, она приказала подать ей колесницу.
Персис, беспокоившийся не столько о репутации хозяйки, сколько о чести хозяина, сообщил Клавдию, что Юлия уехала из дома совершенно одна. Клавдий рассердился, что Юлия опять причиняет ему массу хлопот. Кубок вина успокоил его нервы. Он решил, что в Риме, возможно, никто уже и не удивляется, видя, как молодая замужняя женщина едет на колеснице без всякого сопровождения, но в Кампании это не принято. Персис предложил сначала послать за Юлией кого–нибудь из прислуги, но Клавдий ответил отказом. В конце концов, ему самому давно пора поговорить с женой серьезно и откровенно. Он приказал подать ему коня и поехал верхом.
Спустя примерно час его конь вернулся домой один.
Встревоженный, Персис собрал еще несколько человек, и они все вместе отправились на поиски хозяина. Нашли его в трех километрах от лудуса, со сломанной от падения шеей.
Потрясенная смертью Клавдия, Хадасса не на шутку перепугалась за Юлию. В доме все были в возмущении, и никто не хотел за ней идти. Персис открыто сказал, что она достойна только проклятия.
Юлия вернулась лишь после захода солнца, вся в пыли и растрепанная. Когда никто не вышел ее встречать, она оставила колесницу, ворвалась в дом и начала кричать на Хадассу. Хадасса бросилась к ней, испытывая огромное облегчение от того, что с хозяйкой все в порядке, но не зная при этом, как сказать ей о смерти Клавдия.
— Наполни баню теплой водой и принеси что–нибудь поесть, — приказала Юлия, наступая на Хадассу решительным шагом. — Разве ты не видишь, что я вся в дорожной пыли и умираю от голода.
Хадасса быстро передала ее приказания, хотя была уверена в том, что вряд ли кто–то начнет их исполнять, и снова поторопилась к хозяйке.
Юлия металась по комнате, как рассерженная домашняя кошка. Ее лицо было красным и пыльным, а на щеках появились белые полоски от слез. Она совершенно не обратила внимания на то, что лицо Хадассы побледнело, и что ее служанка вела себя как–то неестественно.
— Я за тебя так боялась, моя госпожа. Где ты была?
Юлия повернулась к ней, и в этом повороте головы явно виделся повелительный жест.
— Ты, я вижу, осмелела здесь, если смеешь задавать мне вопросы! — воскликнула Юлия возмущенным тоном. — Я не обязана отчитываться за свое поведение перед рабами! — она в отчаянии опустилась на диван. — И вообще, я ни перед кем не в ответе. Даже перед своим супругом.
Хадасса налила в кубок немного вина и подала ей.
— Я вижу, у тебя руки дрожат, — сказала Юлия, уставившись на нее. — Ты что, действительно так за меня беспокоилась? — она отставила кубок в сторону и взяла Хадассу за руку. — Ну что ж, по крайней мере, хоть кто–то меня здесь любит.
Хадасса села рядом с ней и взяла ее за руки.
— Где ты была?
— Направилась поначалу к Риму, но потом поняла, что это бесполезно. Отец все равно отослал бы меня обратно. И вот, я здесь, снова в этом тоскливом месте.
— Так ты не поехала в лудус?
— Нет, не поехала, — устало сказала Юлия. Ее губы скривились в горькой улыбке. — Мне было бы неприлично появиться там без сопровождения, — иронично добавила она. После этого она тихо засмеялась над собой. — Марк наверняка сказал бы, что я думаю по–плебейски. — Она встала и отошла в сторону. Хадасса чувствовала, что напряжение нарастает снова, грядет буря. Как же сказать Юлии о Клавдии? Нервы у хозяйки и без того на пределе. Ее собственные не лучше.
Юлия вынула из волос несколько заколок и бросила их на пол. Они запрыгали по полу, и Хадасса наклонилась, чтобы подобрать их.
— Наверное, мне стоило бы поехать и посмотреть какой–нибудь поединок, — сказала Юлия. — Небольшой скандал пошел бы даже на пользу, Клавдий, наконец, проснулся бы, да вспомнил о своем супружеском долге. Мне что, больше делать нечего, как торчать здесь всю оставшуюся жизнь, а он так и будет сидеть, зарывшись в свои нудные исследования религий империи? Да кто их будет читать? Ну, скажи мне. Никому это не интересно. — Ее глаза наполнились слезами гнева и жалости к себе. — Я его просто презираю.
— О, моя госпожа, — произнесла Хадасса, закусив губу и не в силах сдержать слезы.
— Я знаю, ты без ума от него, а на меня он такую тоску наводит. При всем том, что он такой умный, он все же самый нудный из всех мужчин, которых я только встречала. И пусть он знает об этом, мне уже все равно, — устремившись к двери, Юлия распахнула ее и закричала на весь коридор: — Клавдий, слышишь меня? Ты зануда!
В ужасе от поведения хозяйки, Хадасса с трудом взяла себя в руки. Она устремилась к двери, оттолкнула Юлию в сторону и закрыла дверь.
— Ты что делаешь?! — пронзительно завизжала Юлия.
— Моя госпожа, прошу тебя, успокойся! Он умер! Ты хочешь, чтобы все тебя услышали?
— Что?! — едва слышно произнесла побледневшая Юлия, не веря своим ушам.
— Он отправился вслед за тобой. Его нашли на пути в лудус. Он упал с лошади и сломал себе шею.
Глядя на Хадассу округленными глазами, Юлия отпрянула назад, будто ее толкнули.
— Клянусь всеми богами, какой же он глупец!
Потрясенная, Хадасса в смятении уставилась на свою хозяйку.
Что Юлия имела в виду — он глупец, потому что упал с лошади, или потому что отправился за ней? В этот момент Хадасса ненавидела ее, но одновременно ей было стыдно и за себя. Она не справилась со своими обязанностями. Она должна была удержать Юлию и не дать ей уехать с виллы. Она должна была отправиться вслед за ней.
— Это неправда! Что мне теперь делать? — закричала Юлия и забилась в истерике.
Послали сообщить Дециму Валериану о смерти Клавдия. Хадасса знала, что необходимо готовиться к траурным мероприятиям, но Юлия, единственный человек, который мог теперь давать в этом доме распоряжения, в ее нынешнем состоянии не была способна принимать какие–либо решения. Тело Клавдия лежало в его покоях, омытое, в пеленах, разлагающееся.
Персис оплакивал смерть Клавдия, подобно сыну, оплакивающему смерть своего отца. Плакали даже служанки. Садовники пребывали в молчании и неутешном горе. Рабы собирались вместе и вели свои разговоры. Никаких работ в доме не велось.
Юлия была права. Все обвиняли только ее. Некоторые выступали даже против Хадассы — только за то, что она служила Юлии и оставалась ей верна. Ей отдавали должное за то, что она служила и Клавдию, помогая ему в его исследованиях, но теперь она была не с ними.
Горе Юлии было вызвано ее виной, и теперь ее истерия переросла в неосознанный страх, что рабы захотят ее смерти. Она ни за что не хотела покидать своих покоев. Она не могла есть, не могла спать.
— Я не должна была выходить за него, — сказала она однажды, бледная и обезумевшая. — Я не должна была соглашаться на этот брак, что бы мне ни говорил отец. Этот брак был обречен с самого начала. Клавдий был несчастен. Я оказалась не той женой, которая ему была нужна. Ему была нужна такая же жена, какой была его первая жена, которой были интересны эти его нудные исследования. — Юлия снова заплакала. — Я не виновата в том, что он умер. Я не хотела, чтобы он поехал вслед за мной… — Слезы полились ручьем. — Во всем виноват отец! Если бы он не настаивал на этом браке, ничего бы не случилось!
Хадасса делала все возможное, чтобы развеять опасения Юлии и вразумить ее, но Юлия ничего не хотела слушать. Она отказывалась есть, боясь, что рабы, работающие на кухне, отравят ее.
— Они ненавидят меня. Разве ты не видела, как она на меня посмотрела, когда вносила поднос? Персис теперь хозяйничает в доме и ненавидит меня так же, как любил Клавдия.
Наконец Юлия уснула, но вскоре проснулась от того, что ее мучили кошмары. Хадасса уже не на шутку стала бояться, что ее хозяйка стала одержима этими необузданными фантазиями и страхами.
— Никто не хочет причинить тебе зла, моя госпожа. Они беспокоятся за тебя.
Это было действительно так, рабы беспокоились; они уже прослышали о диких и необоснованных подозрениях Юлии, что они якобы хотят ее убить. Если Валериан узнает и поверит этому, им несдобровать.
Децим Валериан не приехал. Он отплыл по своим делам в Ефес еще до того, как произошло несчастье. И о смерти Клавдия он узнал только после возвращения. Феба приехала с Марком на третий день после смерти Клавдия. Катия прибежала к покоям Юлии, постучалась в дверь, и сообщила об их приезде. — Не открывай! — зашептала Юлия, глядя на Хадассу дикими от бессонницы глазами. — Я знаю, это ловушка.
— Юлия, — раздался за дверью спустя несколько минут голос Фебы. — Юлия, родная моя, впусти меня. — Только услышав голос матери, Юлия вскочила с постели, устремилась к двери и отворила ее. — Мама! — закричала она и со слезами упала в объятия Фебы. — Мама, они все хотят меня убить. Они ненавидят меня. Они все хотят моей смерти, а не смерти Клавдия! Феба ввела Юлию обратно в комнату.
— Успокойся, Юлия. Сядь, пожалуйста, и успокойся, — повернувшись к Хадассе, Феба велела: — Прикажи кому–нибудь сейчас же принести сюда мои вещи. У меня там есть кое–что успокоительное.
Хадасса увидела стоявшего в дверях Марка, лицо его было мрачным и в то же время обеспокоенным. В том, что сказала Юлия, не было и доли истины, но если бы Марк поверил сказанным в гневе обвинениям, их было бы достаточно, чтобы погубить жизнь всех рабов в этом доме. Юлия неудержимо плакала, не отпуская от себя мать.
Как только Хадасса вернулась, вслед за ней вошел раб, который нес две поклажи. Феба велела Хадассе достать из ее косметического набора небольшую амфору:
— Капни несколько капель в кубок с вином.
— Я не буду пить вино в этом доме! — воскликнула Юлия. — Они же отравили его!
— Вовсе нет, моя госпожа, — сказала в бессилии Хадасса. Дрожащими руками она налила в кубок вина и сделала глоток. Потом она показала кубок Юлии и посмотрела на Фебу, готовая тоже расплакаться. — Клянусь тебе, никто здесь не хочет причинить ей зла.
Марк взял у нее кубок.
— Где, ты говоришь, мама, твоя амфора? — Достав амфору из багажа, он добавил в кубок капли и передал матери, после чего проследил, как сестра выпила содержимое. — Мама, если я тебе не нужен, то я займусь подготовкой к похоронам, — мрачно сказал он. Она понимающе кивнула.
Марк крепко схватил Хадассу за руку и почти что вытолкнул ее в коридор, плотно закрыв за собой дверь.
— Неважно ты выглядишь, — сказал он, вглядываясь в ее бледное лицо и тени под глазами. — Сколько времени Юлия в таком состоянии?
— Три дня, мой господин. С тех пор как она узнала о смерти Клавдия.
Марка поразило то, каким тоном Хадасса произнесла «Клавдия». Может, она влюбилась в него?
— Судя по тому, что нам сказали, это был несчастный случай, — сказал Марк. Глаза Хадассы наполнились слезами, которые она пыталась скрыть. Слезы потекли по ее щекам. — Ладно иди, отдохни, — сказал ей Марк. — Я с тобой потом поговорю.
Пока мать утешала Юлию, Марк ходил по дому и отдавал необходимые распоряжения. Он пришел в ужас от того состояния, в которое пришла вилла. Было видно, что уже несколько дней в доме не велись никакие работы. Клавдия так и не похоронили. Марк приказал, чтобы это было сделано немедленно.
— Его жена похоронена здесь? — спросил он Персиса, который ответил утвердительно. — Значит, и вашего хозяина похороните здесь. И быстрее! — Всю мебель из пропахших зловонием комнат Клавдия сожгли, а комнаты вычистили и проветрили.
Закрывшись в библиотеке, Марк стал внимательно изучать все подробные записи и документы, касающиеся виллы и прилегающей к ней территории. Попивая вино и делая подсчеты, он цинично улыбался. Юлия будет довольна, когда поймет, что смерть Клавдия открыла перед ней хорошие перспективы, хотя вряд ли ей достанется что–то существенное от всего этого имущества.
В отсутствие отца Марк обладал полной властью принимать те решения, которые считал нужным принимать. Юлия не скрывала, что ненавидит Капую, и Марк знал, что она ни за что не захочет здесь оставаться. Он пригласил юриста, чтобы тот осмотрел имение. Та цена, которую назвал Марк, повергла юриста в шок. Марк его успокоил:
— Я назову тебе имена двух сенаторов, которые готовы с удовольствием приобрести имение в Капуе, — и после этих слов юрист сдался.
Зная, что мать рядом, Юлия немного успокоилась. Она снова обрела аппетит и сон. Марк сообщил ей о своем решении продать виллу, и страх Юлии окончательно сменился радостью от осознания того, что она вернется в Рим.
— А как быть с рабами? Что ты сделаешь с ними?
— А что ты хочешь, чтобы я с ними сделал?
— Делай что хочешь. Со всеми… кроме Персиса. Он никогда не уважал меня. Его надо отправить на галеры. Я настаиваю на этом, — сказала она.
— Здесь ты ни на чем не можешь настаивать, — раздраженно сказал Марк. — Ты снова будешь под опекой отца, я же являюсь в его отсутствие исполнителем воли опекуна.
У Юлии загорелись глаза.
— Я что, не имею слова? Я была женой Клавдия.
— Судя по твоим рассказам, я бы этого не сказал…
— Еще и ты меня обвиняешь! — закричала Юлия, и из ее глаз снова потекли слезы.
— Чтобы приехать сюда и разобраться с твоими делами, мне пришлось бросить свои. Ты уже не маленькая, Юлия! Не усложняй и без того непростую ситуацию, — сказал Марк, чувствуя, что теряет терпение при виде ее слез.
Каждый вечор он в одиночество выходил в сад, бесцельно слоняясь и не находя покоя. Ему было интересно, выходит ли Хадасса по–прежнему ночью в сад молиться, как это она всегда делала. И какому богу нужно молиться ему, чтобы разобраться в этой путанице? Что ему делать с рабами? Марк знал, что ему надо принять какое–то решение, но как это было нелегко!
Он взошел на холм и сел под фанумом, небольшим храмом. Прислонившись спиной к мраморному столбу, Марк стал бесцельно смотреть в лунную ночь. Он с самого начала знал, что этот брак был большой ошибкой, но, конечно же, вовсе не хотел Клавдию таких мучений. Юлия за последние дни рассказала ему многое, и он понял, как здесь было ужасно. Он знал, что во многом виновата и она сама. Теперь нужно было заботиться еще и о сестре.
В этом доме о ней не заботился никто. Эти несколько дней Марк наблюдал за обстановкой в доме, ему стало интересно, справедливыми ли были упреки и обвинения Юлии. Возможно, рабам и в самом деле в голову не приходило убивать ее, но они ее и не оберегали.
— Мой господин?
Удивленный, он привстал. Когда он увидел стоящую в тени Хадассу, его сердце забилось чаще.
— Так, значит, ты по–прежнему молишься по ночам своему невидимому Богу, — сказал он, снова прислоняясь к столбу.
— Нет, мой господин, — сказала Хадасса, и он почувствовал улыбку в ее голосе. Она подошла ближе. — Могу я говорить с тобой откровенно? — Он кивнул в знак согласия. — Я не думаю, что господин Клавдий согласился бы с тем, чтобы Персиса и других рабов убрали из этого дома.
Губы Марка сжались. Он уединился здесь, чтобы хоть на какое–то время уйти от проблем, и теперь ему меньше всего хотелось к ним возвращаться.
— Персис обвинял Юлию в смерти Клавдия? — спросил он.
Молчание затянулось.
— Мой господин, нельзя обвинять кого–либо в действиях другого человека.
Он приподнялся и в гневе сказал:
— Ты не ответила на мой вопрос, а он не такой уж сложный. Теперь я вижу, что обвинения Юлии не так уж несправедливы.
— Никто не хотел ей причинить никакого вреда, мой господин. Пусть то и то сделает мне Господь и еще больше сделает, если я говорю неправду. Персис оплакивает своего хозяина, как родного отца. Все его мысли были всегда только о нем. Господин Клавдий привел его сюда, когда тот был еще ребенком. Персис служил ему преданно, с любовью, и господин Клавдий доверял ему во всем, относился к нему как к сыну. Персис никогда не хотел причинить никакого вреда твоей сестре.
— Твои слова пока некому подтвердить, — резко оборвал ее Марк.
— Говорю перед Богом, что я никогда тебе не лгала.
Марк поверил ей, но легче ему не стало. Он по–прежнему не находил покоя.
— Сядь со мной и расскажи, что произошло в тот день, — он указал ей место на мраморе, рядом с ним. Она медленно села, обхватив руками колени. Марку хотелось взять ее за руки и дать ей понять, что она может доверить ему все, но он понимал, что такой поступок может привести к совершенно противоположному эффекту. — Рассказывай. И ничего не бойся.
Хадасса изложила ему голые факты. Юлия захотела отправиться в лудус, Клавдий был против. Юлия уехала одна, а Клавдий отправился за ней, чтобы вернуть ее. Марк знал все это от самой Юлии.
— А когда Клавдия нашли и привезли сюда, кто отправился за Юлией? — спросил он, многозначительно посмотрев на Хадассу, заранее зная, что никто этого не сделал. Не дождавшись ответа, он добавил: — Юлия сказала мне, что направилась в Рим. — Он рассердился, когда узнал об этом от сестры. Выйдя из себя, она совершенно утратила чувство здравого смысла. — Ты знаешь, что может произойти с одинокой женщиной на Аппиевой дороге? Она может оказаться беззащитной добычей грабителей… в лучшем случае. Так кто за ней отправился, Хадасса?
— Это моя вина, — сказала она. — Да простит меня Бог, но я, как и все в доме, не стала тогда искать госпожу Юлию. Я не знала, куда она отправилась и что мне делать. Я только ждала. В этом виновата в первую очередь я сама — ведь я отвечаю за нее.
Марк рассердился на Хадассу за то, что она пыталась защитить остальных рабов в доме и брала всю вину на себя.
— Ты винишь себя за бездействие всех остальных? Ты ведь все время думала только о ней. После того как она узнала о смерти Клавдия, ты ее ни на минуту не оставляла. Когда я приехал, я же видел, как ты извелась, потому что все время заботилась о ней.
Он встал.
— Возможно, тому есть еще одна причина, о которой я не хотел говорить, но о которой постоянно твердит Юлия. Ты опасалась за ее жизнь?
— Нет, мой господин! — сказала Хадасса, испугавшись такого поворота его мыслей. — Никто и никогда ей здесь не угрожал. Никогда.
— Как никто и не помогал ей, — добавил Марк, отвернувшись от Хадассы.
— Они любили Клавдия. И до сих пор его любят.
— Довольно! — оборвал ее Марк. — Больше никогда не подходи ко мне просить за них.
— Они не виноваты в том, в чем она их обвиняет, — сказала Хадасса, проявляя в этот момент необычную для нее смелость, не подчинившись его приказу.
Марк уставился на нее.
— В чем же тут невиновность, если раб не выполняет того, что должен выполнять, Хадасса? Требование Юлии послать Персиса на галеры — это еще милость по сравнению с тем, чего он заслуживает. После того как он не позаботился о безопасности своей госпожи, его вообще следовало бы убить.
У Хадассы перехватило дыхание от его слов.
— Я знала, что именно так ты и подумал, — она подошла к Марку ближе, — но прошу тебя, Марк, умоляю тебя. Не бери на свою голову грех невинной крови.
Пораженный услышанным и тем, что Хадасса назвала его по имени, Марк стоял и смотрел на нее. Ее глаза наполнились слезами, и Марк задумался. За кого же она в действительности пришла просить — за Персиса, или за него?
— Ну что ж, приведи мне хоть один практический довод в пользу того, чтобы пощадить Персиса, — сказал наконец Марк, заранее зная, что таких доводов нет.
— Персис умеет читать и писать, причем делает это красиво, — ответила Хадасса.
— Таких людей множество.
— Господин Клавдий научил его управлять всеми делами имения.
— А почему он сам не управлял имением? — нахмурился Марк.
— Чтобы заниматься только своими исследованиями. Мой господин, госпожа Юлия сказала, что ты собираешься продать виллу сенатору, который хочет устроить здесь место для загородного отдыха. Почему бы рабу со знаниями и способностями Персиса не остаться здесь и не доказать своему новому хозяину, что он прекрасно справится с этим домом в его отсутствие?
Марк добродушно засмеялся.
— Да-а, железная логика, маленькая Хадасса, — он постоял какое–то время в раздумье, потом покачал головой, — вот только мнение Юлии все же придется принять во внимание.
— Нужно, чтобы госпожа Юлия как следует подумала обо всем, а не мстила за то зло, которого никто и никогда ей не причинял.
Марк знал, что Хадасса права, но почему вокруг жизни какого–то раба столько шума? Если он исполнит желание Юлии относительно рабов, она немного успокоится, но этот поступок причинит боль Хадассе — тут Марк снова поймал себя на мысли, что ему будет тяжело это сделать.
— Вся эта трагедия произошла из–за ее капризов, — сказал Марк, потирая сзади шею. Он нуждался в бане и массаже.
— Не нужно винить ее, — тут же сказала Хадасса.
Марк удивился тому, что она с такой готовностью встала на защиту его сестры.
— Она же не послушалась своего мужа, и он отправился за ней. Логично предположить, что виновна именно она.
— Но ведь Юлия не виновата в том, что Клавдий выпил вина, перед тем как отправиться за ней. Она не виновата в том, что он не был хорошим наездником и упал с лошади. Она не виновата и в том, что он решил разыскать ее. Каждый человек в ответе за свои поступки, и даже в таких случаях окончательное решение остается за Богом.
— Следовательно, Клавдий мертв по прихоти какого–то невидимого Бога, — сухо сказал Марк.
— Не по прихоти, мой господин.
— Нет? — спросил он с ухмылкой. — Но все боги действуют по своей прихоти. Чем же твой отличается от остальных?
— Бог не похож на тех идолов, которых люди сами себе создают и которых наделяют своими качествами. Бог не думает и не действует так, как люди. — Хадасса сделала шаг в сторону Марка, как будто от этого он лучше поймет ее. — А каждый из нас подобен нитке в огромном гобелене, сшитом Богом. Только Он видит всю картину в целом, и ни одна птичка в мире не упадет без Его воли.
Она говорила не как рабыня, а как женщина, которая знает, что говорит.
— Я вижу, что те беседы, которые ты вела с Клавдием в его библиотеке, развязали тебе язык, — отметил Марк. Хадасса склонила голову, он протянул руку и приподнял ее подбородок. — Ты хочешь сказать, что смерть Клавдия является частью какого–то божественного плана?
— Ты смеешься надо мной.
Марк отпустил ее.
— Нет. Мне только интересен твой Бог, Который так легко уничтожает Свой народ и убивает человека, единственное преступление которого состоит в том, что он наскучил своей молодой жене. Мне интересно, что ты по–прежнему поклоняешься этому жестокому Богу и тебе не приходит в голову выбрать себе другого.
Хадасса закрыла глаза. Ей так ничего и не удалось ему объяснить. Она даже не смогла избавиться от своих собственных сомнений.
Господи, зачем Ты взял Клавдия? Зачем, если я уже была так близка к тому, чтобы привести его к Тебе? Зачем Ты сделал это сейчас, когда я уже набралась смелости, для того чтобы говорить о Тебе? У него было столько вопросов, и я пыталась ему все объяснить. Но, Господи, я так и не привела его к Тебе. Он не понимал всего. Он не поверил в Тебя в полной мере. Зачем Ты его взял? А теперь я не могу помочь все понять Марку Валериану. И теперь он идет к гибели.
— Бог все делает во благо, — сказала она не столько Марку, сколько самой себе.
Он засмеялся мягко, но цинично.
— О, да. Это благо мы уже почувствовали. Смерть Клавдия сделала Юлию свободной. — Марк увидел, как Хадасса подняла руку к горлу, услышав эти бездушные слова. Он пожалел о сказанном, и ему захотелось взять свои слова обратно, потому что он понимал, что обидел Хадассу, которая искренне горевала о смерти Клавдия Флакка. — Увы, такова реальность, — произнес он как бы в оправдание.
Хадасса долго молчала, потом тихо сказала:
— В Риме у госпожи Юлии будет меньше свободы, чем здесь, мой господин.
Он изучал ее лицо, освещенное луной, и теперь она показалась ему гораздо интереснее, чем когда–либо.
— Ты очень проницательна.
Когда Юлия поняла, что практически не сможет распоряжаться теми средствами, которые достались ей в наследство от Клавдия, она сопротивлялась этому, как могла.
Такое же сопротивление она окажет, когда отец скажет свое последнее слово относительно ее дальнейшего общественного положения. Марк понимал, что скоро ему предстоят большие неприятности, которые очень быстро будут усугубляться. Мать будет его умолять воздействовать на Юлию, тогда как отец прикажет ему не предпринимать никаких усилий. Что касается самой Юлин, то она всеми силами будет стараться делать все по–своему.
Владение виллой в Кампании обещало определенные сложности. Марк устало вздохнул. По крайней мере, одна тяжесть с плеч свалилась. Он теперь знал, что сделает с Персисом и другими рабами. Ничего. Вообще ничего.
— Иди спать, Хадасса. Ты сделала то, что хотела, можешь теперь ни за кого не бояться. Персису и другим рабам ничто не угрожает.
Она говорила с ним так мягко и тихо, что он знал, она больше не собирается сказать ему: «Больше всего я боюсь за тебя, Марк».
Он смотрел, как она уходит вниз по дороге, и понимал, что все те вечера, что он проводил в саду, он ждал ее и того покоя, который она приносила с собой.
15
Децим взял Фебу за руку и сжал ее в своей руке, когда они шли по вымощенной садовой дорожке, прилегающей к императорскому дворцу. По бокам стояли мраморные скульптуры, а из фонтанов доносилось мягкое журчание воды. Молодые люди смеялись и пробегали мимо Децима и Фебы, тогда как другие пары прохаживались не спеша, как они, наслаждаясь красотой дня.
Посреди клумбы, на которой обильно росли цветы, стояла статуя обнаженной женщины, льющей воду из кувшина. Звук текущей воды навеял Дециму приятные воспоминания. «Посидим здесь», — сказал он и опустился на каменную скамью, освещенную солнцем.
Путь в Ефес был тяжелым, и Децим устал. Его голова всегда была занята делами, но в последние дни ему не давали покоя какие–то странные и путаные мысли. Болезнь вызвала в нем и духовный кризис, — болезнь самой души, если у него вообще была душа.
Зачем он так упорно трудится все эти годы? Ради какой цели? Ему казалось, что вся жизнь прошла зря, его достижения оказались пустыми. Его семья была процветающей, богатой, жила в достатке. Его уважали в римском обществе. И все же, вместо того чтобы греться в лучах славы его достижений, его семья разрывалась от разных идеологий и представлений о жизни. Единства больше не было — сын не соглашался с Децимом ни в чем, от политики до вопросов воспитания детей, а его дочь не думала ни о чем, кроме своей независимости. Он всю жизнь трудился, для того чтобы создать некую империю, дать своим детям все, что только возможно, и результаты превзошли даже самые смелые его ожидания. Но что он получил взамен, кроме пустого триумфа?
Марк вырос красивым, интеллигентным, красноречивым, проницательным. Юлия была красивой, очаровательной, полной жизни. Оба получили хорошее образование и пользовались уважением сверстников. И все же Децим испытывал какое–то болезненное отчаяние, такое чувство, что он не стал достойным отцом.
Кто мог бы подумать, что сознание само по себе может оказаться самым настоящим полем боя? Если бы не Феба, Децим с радостью вскрыл бы себе вены и разом покончил с отчаянием своей души и физической болью, которая не давала ему ни минуты покоя.
Наверное, приближение смерти открыло ему глаза на жизнь и заставило видеть все гораздо лучше. Да, он был слеп и не замечал в своей жизни многих проблем, поэтому, вероятно, не страдал от эмоциональных мук. Он надеялся, что приезд в Ефес, на родину даст ему какой–то покой. Но покоя он не мог найти нигде.
Подошел раб с навесом, чтобы укрыть Децима в тени, но Децим нетерпеливо отмахнулся от него. Ему как раз нужно было солнечное тепло, чтобы избавиться от озноба, вызванного нехорошими предчувствиями. Феба взяла его руку и прижала к своей щеке.
— Я оказался неудачником, — отрешенно сказал он.
— В чем, родной мой? — мягко спросила она.
— Во всем, что в этой жизни важно, — Децим снова сжал ее руку в своей.
Феба опустила голову, вспомнив последнюю ссору между Децимом и Юлией. Юлия хотела поехать на зрелища, но Децим ей не разрешил, напомнив, что она в трауре по Клавдию. Последующая сцена повергла в шок и Фебу, и Децима. Юлия закричала, что ей плевать на Клавдия, что она не обязана оплакивать какого–то идиота, который и в седле–то не умеет сидеть как следует. Децим дал ей звонкую оплеуху, и Юлия какое–то время стояла ошеломленная, уставившись на него. В следующую минуту ее состояние изменилось настолько, что, казалось, она и сама не сознает, что делает. Казалось, что противодействие отца ее желаниям пробудило в ней все темные силы, и ее глаза загорелись такой яростью, что Фебе стало по–настоящему страшно.
— Это ты виноват в смерти Клавдия, — зашипела Юлия на своего отца. — Ты и оплакивай его, если хочешь, а я не буду. Я рада его смерти. Ты слышишь меня? Я счастлива, что избавилась от него. И перед всеми богами говорю, что буду рада избавиться и от тебя тоже! — с этими словами она убежала в свои покои и оставалась там все оставшееся утро.
Феба посмотрела на каменное лицо Децима.
— Юлия не отдает себе отчета в том, что наговорила тебе, Децим. Она потом сама об этом пожалеет.
Да, Юлия извинилась за эти слова позднее, гораздо позднее, уже после того, как Феба поговорила с ней и объяснила, какими последствиями грозит Юлии ее поступок. Децим вспомнил о том, как Юлия со слезами на глазах просила у него прощения за свое ужасное поведение, но ему не давало покоя выражение ее глаз в тот момент. Она ненавидела его, ненавидела настолько, что ему хотелось умереть. Ему стало страшно при мысли о том, что тот ребенок, которого он породил, которого он так любил, теперь ненавидел и его, и все то, что было для него дорого и свято.
— Как же так получилось, что наши дети настроены против всего, во что мы верим, Феба? Что же стало с добродетелью, честью, идеалами? Марк убежден, что истины нет и что все дозволено. Юлия вообще считает, что на свете существуют только ее удовольствия. Я всю жизнь трудился, для того чтобы дать моим детям все, чего не было у меня в их возрасте, — богатство, образование, положение в обществе. И вот теперь я смотрю на них и думаю, не прошла ли моя жизнь впустую. Они стали эгоистами, не способными умерить свои аппетиты. И ни малейшего представления о нравственности…
В его словах звучала неподдельная горечь, и Феба изо всех сил старалась защитить своих детей:
— Не суди их так строго, Децим. Здесь нет ни твоей, ни моей, ни их вины. В этом виноват тот мир, в котором они живут.
— А кто делает этот мир, Феба? Они сами хотят полностью распоряжаться своей жизнью. Они хотят избавиться от старых норм. Для них хорошо все то, что им приятно. Они готовы уничтожить всякого, кто встанет у них на пути. Они требуют разорвать цепи нравственности и не понимают, что только нравственные ограничения и делают человека цивилизованным существом. — Децим закрыл глаза. — Говорю перед богами, Феба, я слушаю свою дочь, и мне становится стыдно.
Глаза Фебы наполнились слезами, и она закусила губу.
— Юлия еще ребенок и ничего не понимает.
— Ребенок и не понимает, — отрешенно повторил он. — А какое оправдание мы найдем для Марка? Ему двадцать три года, он уже совсем взрослый мужчина. Вчера он мне сказал, что Юлии нужно дать свободу поступать так, как она считает нужным. Он говорит, что траур по Клавдию — всего лишь фарс. Феба, человек умер из–за открытого неуважения и эгоизма нашей дочери, а ей до этого нет никакого дела! Что же, Марк тоже слишком молод и поэтому не признает никакого чувства чести и приличия по отношению ко всему тому, что случилось в Кампании?
Феба отвернулась, чтобы скрыть свои слезы, испытывая боль от такой резкой оценки дочери. Децим снова нежно прикоснулся к ее щеке.
— Я ни в чем не виню тебя. Ты оказалась благороднейшей из матерей.
Она внимательно всмотрелась в измученное лицо мужа, покрытое морщинами.
— Наверное, в этом и заключается проблема, — она дотронулась до его висков. Волосы Децима за последние дни стали еще более седыми. Видят ли Марк и Юлия, что их отец тяжело болен? Так ли необходимо Марку спорить с ним по любому поводу? Имеет ли Юлия право докучать ему своими бесконечными требованиями?
Децим вздохнул и отпустил руку Фебы.
— Я боюсь за них, Феба. Что происходит с обществом, в котором нет никаких ограничений? Я вижу, как наши дети радуются виду крови, которая проливается на арене. Я вижу, как они не могут насытиться удовольствиями. Куда все это приведет? Как может быть свободным развращенный ум, если они стали рабами их собственных страстей?
— Наверное, мир изменится.
— Когда? И как? Чем больше наши дети имеют, тем больше им хочется и тем меньше они задумываются над тем, как они это обретут. И такой кризис испытываем не мы одни. Я об этом слышу каждый день в банях. От этого страдает большинство моих друзей! — Обеспокоенный, Децим встал. — Пойдем.
Они пошли по дорожке, проходя мимо молодой пары, поклонявшейся Эросу в тени развесистого дерева. Чуть дальше на скамье сидели и целовались двое мужчин. На лице Децима отразилось отвращение. Греческое влияние захлестнуло римское общество, которое приняло гомосексуализм и сделало его нормой жизни. Децим не осуждал это явление открыто, но и не испытывал от него никакой радости.
Ради свобод и прав простого человека Рим относился терпимо даже к тому, что противно человеческой природе. Граждане больше не скрывали своих извращений, многие даже открыто ими гордились. И те, кто еще придерживался каких–то нравственных норм, не могли пройти по общественному парку, не увидев мерзких картин.
Что произошло с общественными цензорами, которые защищают большинство граждан от морального разложения? Неужели свобода означает отказ от всех приличий? Неужели свобода означает, что каждый может делать все, что захочет, не задумываясь о последствиях?
Децим приказал приготовить паланкин. Ему не терпелось вернуться домой и оказаться в стенах своей небольшой виллы, отгородившись таким образом от того мира, которому он уже не принадлежал.
* * *
Юлия бросила игральные кости на мозаичные черепицы пола в своей спальне и радостно рассмеялась. Октавия застонала.
— Всегда тебе везет, Юлия, — сказала она и встала. — Надоело играть. Пойдем лучше на рынок, может, купим чего–нибудь.
Оставив кости разбросанными по полу, Юлия встала.
— Отец не дает мне никаких денег, — мрачно произнесла она.
— Вообще никаких? — в ужасе спросила Октавия.
— Мне нравятся жемчужные украшения, а отец говорит, что они совершенно лишние, потому что у меня, видите ли, и без того полно золотых и бриллиантовых украшений, — сказала Юлия, передразнивая отца.
— Клянусь всеми богами, Юлия, тебе надо просто заявить в суд о своих правах делать то, что тебе хочется. И твоему отцу тогда придется отдать тебе часть денег Клавдия. Он должен будет либо уступить тебе, либо запятнать свою репутацию, которой он так дорожит.
— У меня не хватит смелости на такое, — устало сказала Юлия.
— Но ведь эти деньги по праву принадлежат тебе, разве не так? Ты была замужем за этим старым глупцом. Ты же заслужила какую–то компенсацию за то время, что жила в Кампании!
— Марк это имение уже продал. Большую часть средств, вырученных за имение, он вложил.
— Во что? — спросила Октавия с явным интересом. Марк славился в Риме своим талантом финансового предпринимателя. Ее отец будет рад любой информации, связанной с деятельностью брата Юлии.
— Я не спрашивала.
Глаза у Октавии сделались круглыми.
— Тебе, что, не интересно, куда идут твои деньги?
— Я целиком доверяю Марку.
— Разве я не говорила тебе, что не следует так поступать? Я считаю, что женщина всегда должна быть в курсе всех дел. — Октавия налила себе еще вина. — Есть у меня одна подруга, с которой тебе не мешает познакомиться. Зовут ее Калаба. Она была замужем за Аурием Ливием Фонтанеем. Ты не помнишь его? Низкорослый, толстый и вообще страшный, но безумно богатый. Иногда он сидел на зрелищах вместе с Антигоном и твоим братом.
— Нет, его я не помню, — без всякого интереса ответила Юлия.
Октавия махнула рукой.
— Неважно. Он умер. Умер своей смертью, хотя она и была вызвана такой причиной, о которой я тебе до сих пор не говорила. Калаба тебе понравилась бы, — сказала Октавия, попивая вино и перебирая другой рукой все то, что лежало на туалетном столике Юлии. Взяв золотую брошь, она с интересом повертела ее в руке. Брошь была простой, но при этом весьма изящной — чем–то напоминала свою владелицу. Бросив брошь обратно на стол, Октавия повернулась к Юлии. — Калаба ходит в лудус и тренируется вместе с гладиаторами.
— Разве женщины этим занимаются? — поразившись, спросила Юлия.
— Да, некоторые. Я бы туда не пошла. Мне больше по вкусу пиры накануне зрелищ. Знаешь, есть что–то завораживающее в том, чтобы находиться рядом с мужчиной, который завтра может погибнуть на арене. — Октавия налила себе еще вина и одарила Юлию ласковой улыбкой. — Почему бы и тебе не сходить туда?
— Отец мне этого никогда не позволит. Он знает, что происходит на таких пирах.
— Невероятное наслаждение — вот, что там происходит. Когда, ты, наконец, появишься в обществе, Юлия? Ты уже была замужем, стала вдовой и по–прежнему собираешься оставаться под диктатом своего отца?
— А что, по–твоему, я должна делать? Мой отец не так уступчив, как твой, Октавия. И мне приходится жить в его доме.
— Прекрасно. Его ведь сейчас нет дома, разве не так? А мы все сидим здесь, болтаем без толку и ждем, когда кончится твой двенадцатимесячный траур. — Октавия допила вино и поставила кубок на стол. — С меня хватит. Я пошла.
— Куда?
— За покупками. Пройдусь по парку. Может быть, навещу Калабу. Не знаю. Все лучше, Юлия, чем сидеть здесь с тобой и плакать о твоей судьбе, — Октавия подняла свою шаль.
— Подожди, — воскликнула Юлия.
— Чего мне здесь ждать? — высокомерно сказала Октавия. — После своего замужества ты превратилась в глупую домашнюю мышь. — Она обмотала шаль вокруг своей искусно сделанной прически. — Сколько ты его уже оплакиваешь? Три месяца? Четыре? Ну вот когда освободишься от своих обязанностей, связанных с этим спектаклем под названием «счастливый брак», сообщишь мне.
— Не оставляй меня, Октавия. Я думала, что ты мне подруга.
— Я и есть твоя подруга, глупая девочка, но я же не собираюсь сидеть сиднем и скучать только потому, что тебе не хватает смелости стать хозяйкой собственной жизни!
— Очень хорошо, — сказала Юлия. — Я иду с тобой. Пойдем за покупками, посетим твою подругу, Калабу, хоть я и не знаю, кто она такая. Может быть, даже пройдем мимо тех мест, где живет Марк, и посмотрим, не возьмет ли он нас на какое–нибудь торжество. Как ты на это смотришь? Довольна ли ты, Октавия, тем, как я распоряжаюсь своей жизнью?
Октавия насмешливо возразила:
— Посмотрим, хватит ли у тебя смелости.
Юлия посмотрела на нее и хлопнула в ладоши.
— Хадасса, поторопись! Принеси мне лавандовый настой, аметистовые серьги и ожерелье, — приказала она, прекрасно зная, как Октавия завидует ее драгоценным украшениям. Потом она сняла белую траурную тунику, скомкала ее и швырнула на пол. — Да, и не забудь шаль. Я ухожу с Октавией и приду поздно. — Она весело засмеялась. — Теперь мне гораздо лучше.
— Сколько тебе понадобится времени, чтобы собраться? — спросила Октавия, довольно улыбаясь и зная, что ситуация находится под ее контролем, — все идет так, как ей хочется.
— Ну, подожди еще немного, — сказала Юлия и села перед зеркалом, быстро и умело подкрашивая лицо. Сделав паузу, она посмотрела на Октавию в зеркало, ее глаза загорелись. — Плюнь ты на эти покупки, Октавия. Поехали в лудус, посмотрим тренировки гладиаторов. Ты ведь говорила, что можешь ездить туда в любое время, потому что у твоего отца есть связи с римской школой.
— Только отец должен заранее известить об этом ланисту, а отец вчера уехал в Помпеи. Он там задержится по делам на несколько дней.
— О! — с сожалением простонала Юлия. В этом лудусе был сейчас Атрет, и ей так хотелось снова его увидеть.
— Не стоит горевать по этому поводу. Если ты хочешь посмотреть на мужчин, мы можем отправиться на Марсово поле. Там всегда собираются легионеры.
— Я надеялась взглянуть на гладиатора, которого видела в Кампании. Я видела его однажды, издали, когда он пробегал мимо виллы Клавдия, но он был так прекрасен. — Юлия взяла еще немного крема и стала втирать его в щеки. — Мне удалось узнать, что его зовут Атрет и что оттуда его увезли в римский лудус.
— Атрет! — засмеялась Октавия.
— Ты знаешь его?
— Его все знают! Он появился на зрелищах всего несколько недель назад и заставил всех, кто жаждал его крови, поклоняться ему как богу.
— А что там произошло? Расскажи–ка!
Октавия все рассказала, начав с пира накануне игр, когда Аррия была очарована Атретом, и закончив его сражением на арене.
— Но вряд ли ты его увидишь, даже если нам удастся побывать в лудусе. Его держат подальше от гостей.
— Но почему?
— Он чуть не убил сына одного сенатора, который хотел потренироваться в паре с ним. Наверное, Атрет просто не понимал, что это была всего лишь тренировка. Он так жаждал крови.
— Как интересно! Но он ведь не посмеет убить женщину, — сказала Юлия.
— По–моему, он способен на все. У него самые холодные голубые глаза из всех, которые я только видела.
Юлию охватил жар ревности, потом она рассердилась на отца за то, что он лишил ее возможности посещать пиры накануне зрелищ, на которые Октавия ходит так свободно.
— И ты была с ним на том пиру?
— Нет, когда Атрета представили в первый раз, я была с Халевом. На сегодняшний день на его счету двадцать семь убитых. — Октавия заносчиво подняла голову. — Атрет, на мой взгляд, все же самый настоящий дикарь.
Пока две молодые женщины разговаривали, Хадасса натирала Юлию лавандовым настоем. Она надела на хозяйку золотой пояс и подогнала его так, чтобы одежда подчеркивала стройность фигуры. Потом она надела на хозяйку аметистовое ожерелье, а Юлия надела серьги.
— Не хочешь ли ты, чтобы я заново причесала тебя, моя госпожа? — спросила Хадасса.
— С прической у нее и так все в порядке, — нетерпеливо сказала Октавия.
— Много я отдала бы за то, чтобы по моим волосам провел Атрет, — засмеялась Юлия. Повернувшись, она встала, взяла Хадассу за руку и стала совершенно серьезной. — Ничего не говори отцу, даже если он потребует объяснений. Скажи, что я отправилась а храм, поклониться Диане.
Октавия простонала:
— Не Диане, Юлия. Гере, богине домашнего очага и брака.
— А, неважно, — сказала Юлия, повернувшись к Хадассе. — Назови ему любого бога, который тебе понравится. — Взяв у Хадассы шаль, она, счастливая, направилась к двери. — Можешь даже сказать ему, что я отправилась купить себе быстродействующий яд. Ему это понравится.
Они поспешили из дома и пошли вниз с холма в сторону оживленных кварталов.
Юлия испытывала наслаждение от того, что она идет по многолюдным улицам и все на нее оглядываются. Она знала о своей красоте и от внимания людей после долгого заточения в доме отца чувствовала себя на вершине блаженства. Отец, конечно, на нее разозлится, но сейчас она об этом совершенно не думала. Ей не хотелось сейчас портить себе настроение.
Если дать отцу волю, он вообще отравит ей всю жизнь. Он стал совсем старым и уже не помнит, что когда–то сам был молодым и полным жизни. Он больше не верил в богов, он вообще ни во что не верил, кроме своих древних правил и устаревшей морали.
Мир давно уже не тот, ему не нужны старые идеалы, а отец упрямо держался за них. Но хуже всего было то, что отец хотел, чтобы этих идеалов держалась и она. С Марком у него это не получилось, теперь он набросился на Юлию. Ей нужно быть такой же сильной, как Марк, и не позволять отцу устанавливать диктат над ее жизнью. Она не собиралась следовать примеру матери, которая довольна существованием за высокими каменными стенами, и преклоняться перед мужем, как перед богом. Она будет жить своей жизнью и делать только то, что доставляет ей радость и удовольствие. Она будет ходить на пиры накануне зрелищ, пить и смеяться с гладиаторами; на следующей неделе она отправится в лудус и будет веселиться с друзьями. Она сделает все, чтобы встретиться с Атретом.
— Сколько у тебя было любовников, Октавия? — спросила Юлия, когда они проходили по торговым рядам, время от времени останавливаясь, чтобы посмотреть разные заморские безделушки.
Октавия засмеялась.
— Не считала.
— Как бы мне хотелось быть такой свободной, как ты, делать то, что мне хочется, и с тем, с кем мне хочется.
— Что же тебе мешает?
— Отец…
— Какая же ты простодушная, Юлия. Тебе надо стать хозяйкой своей жизни. Они сделали свой выбор и поступили так, как хотели. Почему же ты не можешь делать то же самое?
— Закон гласит…
— Закон… — насмешливо перебила ее Октавия. — Ты вышла замуж за Клавдия, потому что так хотел твой отец, но теперь Клавдий мертв. Все, что у него было, принадлежит тебе. Но все это находится под контролем Марка, так? Твой брат тебя обожает. Так воспользуйся этим.
— Я не знаю, получится ли у меня, — сказала Юлия, встревоженная словами Октавии.
— Ты это делаешь все время, — засмеялась Октавия. — Только ты тратишь свое умение на всякие мелочи — ухитряешься убегать на игры, вместо того чтобы завладеть теми деньгами, которые по праву принадлежат тебе. Разве честно, что твои отец и брат пользуются твоими деньгами, а ты должна была спать с этим тоскливым стариком?
Юлия покраснела и отвернулась, прекрасно понимая, что оказалась ужасной женой.
— Он не был таким уж тоскливым. Он был прекрасным человеком.
Октавия рассмеялась.
— Таким прекрасным, что до смерти наскучил тебе. Ты же сама писала мне в письме, или тебе напомнить?
Юлия вдруг почувствовала, как у нее перехватило дыхание. Ей стало не по себе при мысли о том, сколько гадостей она наговорила о Клавдии, и теперь все это отчетливо всплыло в ее памяти. Октавия знала, что Клавдий отправился за ней верхом. Зачем же она сейчас напоминала о нем Юлии, если знала, каково ей было жить с ним?
— Я не хочу говорить о нем, Октавия. Ты же знаешь.
— Он мертв. О чем вообще говорить? Боги улыбнулись тебе.
Юлию передернуло. Чтобы отвлечься от невеселых мыслей, она остановилась возле прилавка с хрустальными подвесками. Продавал их смуглый и красивый египтянин. Он неплохо говорил по–гречески, но произносил слова с сильным акцентом, и это придавало ему некую таинственность. Юлия с интересом рассматривала одну из подвесок. Она была холодной на ощупь, ее украшала фигурка змейки, служащая своеобразным креплением продолговатого хрустального камня, — через него можно было продеть цепочку.
— Меня зовут Чакр, я привез этот хрусталь с самых далеких берегов империи, — египтянин смотрел, как Юлия примеряет подвеску. — Красиво, правда? — спросил он. — Розовый кварц повышает в человеке страстные желания и смягчает чувства гнева, негодования, вины, страха и зависти.
— Дай–ка посмотреть, — сказала Октавия, взяв подвеску у Юлии, чтобы рассмотреть ее повнимательнее.
— Еще этот камень славится тем, что защищает от бесплодия, — сказал Чакр.
Октавия засмеялась и вернула подвеску Юлии.
— Можешь взять себе.
— А нет ли у вас чего–нибудь менее опасного? — спросила Юлия, засмеявшись вместе с Октавией. Она указала на другую подвеску. — Вот это что?
— Прекрасная вещь, — сказал купец, почтительно передавал ее. — Лунный камень обладает целебными свойствами при болезнях живота, а также избавляет от беспокойства и депрессии. Он также помогает при деторождении и избавляет от женских проблем, — обратив внимание на гримасу Октавии, он добавил: — Хороший подарок для женщины, которая собирается выйти замуж.
— Мне нравится, — сказала Юлия, откладывая подвеску в сторону. — А вот это что?
Египтянин взял прекрасный лавандовый хрусталь и положил на покрытый материей прилавок.
— Это александрит, моя госпожа, разновидность хризоберилла, который славится тем, что исцеляет от внутренней и внешней деградации.
— То есть не дает человеку состариться? — уточнила Октавия.
— Совершенно верно, моя госпожа, — сказал он, наблюдая, как она перебирает подвеску пальцами. Он отошел, не сводя глаз с Октавии, достал и предложил на ее суд еще несколько подвесок. — Александрит еще помогает контролировать эмоции и испытывать от всего радость. — Он положил перед ними светло–голубую подвеску. — А этот аквамарин является редкой разновидностью берилла, известного своими свойствами укреплять внутренние органы и очищать тело, — сказал он. — Кроме того, он очищает ум и наделяет человека творческими способностями. Он примирит вас с богами.
— Моему отцу она бы понравилась, — сказала Юлия, откладывая подвеску. — А то мама говорит, что он болен.
— О моя госпожа, тогда вам непременно нужно посмотреть этот сердолик. Он обладает огромными целебными свойствами, может открыть сердце человека, чтобы оно общалось с духами подземного царства, и больной человек таким образом находит путь к избавлению от смерти.
— Какой красивый красный цвет, — сказала Юлия и взяла подвеску в руки. — И эта мне нравится, — добавила она, отложив ее в сторону, наряду с аквамариновым хрусталем, лунным камнем, александритом и розовым кварцем. Октавия тем временем бледнела и сжимала губы, а ее глаза горели жгучей завистью.
Чакр едва заметно улыбнулся.
— А посмотрите вот эту подвеску, моя госпожа, — сказал он, держа в руках хрустальное украшение в виде копья, длиной около трех дюймов.
— Эта слишком большая, — сказала Юлия.
— Хрусталь укрепляет и стимулирует работу тела и ума. Он позволяет вам общаться с любыми богами, с которыми вы захотите. Стоит вам только надеть его, как вы почувствуете его силу. Он пробуждает чувства и делает вас неотразимой.
— Очень хорошо, — сказала Юлия, зачарованная не столько хрустальным изделием, сколько гипнотизирующим, мелодичным голосом купца. Он почтительно дал ей примерить украшение.
— Вы чувствуете его силу?
Юлия посмотрела на египтянина, а он взглянул ей в глаза взглядом, полным темной и жгучей страсти. Сначала ей стало не по себе, но тут же она испытала необыкновенное спокойствие.
— Да, действительно, — сказала Юлия с трепетом. Она неосознанно перебирала подвеску в руках, не в силах оторвать глаз от Чакра. — Такая красивая подвеска, правда, Октавия?
— Кусок камня на цепочке.
Чакр продолжал в упор смотреть на Юлию.
— В этом хрустале живут древние египетские боги. Ваша подруга навлекает на себя их гнев.
Октавия уставилась на него.
— Пошли отсюда, Юлия, — сказала она настороженно. Она смотрела, как египтянин протянул руку и осторожно взял у Юлии подвеску.
— Этой силой обладают только те, кто ее заслуживает, — сказал Чакр с такой улыбкой, от которой лицо Юлии налилось жаром.
Октавия сухо засмеялась.
— Юлия, да хватит тебе и жемчужных украшений. Эти стекляшки и сестерция не стоят. Юлия слегка отстранилась от прикосновения Чакра, ее прежние украшения сияли у нее на груди.
— Но они такие красивые!
Чакр тем временем внимательно изучал дорогое аметистовое ожерелье, которое красовалось на Юлии.
— Эта хрустальная подвеска стоит двадцать пять динариев, — сказал Чакр, зная, что Юлия может позволить себе заплатить столько и даже больше.
— Так дорого? — разочарованно сказала Юлия. Эта сумма равнялась примерно среднему месячному заработку.
— Смешно, — усмехнулась Октавия, довольная тем, что Юлия это купить не сможет. Подвески были красивыми, и если она не могла их купить, ей не хотелось, чтобы и Юлия их покупала. — Пошли.
— Что делать, сила стоит дорого, моя госпожа, — сказал Чакр своим мелодичным, вкрадчивым голосом, усиленным таинственностью самого Древнего Египта. — Эти редкие подвески сотворены самими богами.
Юлия посмотрела на выбранные ею украшения.
— Но мне не позволяют брать с собой деньги на рынок.
— Мы можем оформить расписку, и я позабочусь обо всем, как вы прикажете, моя госпожа.
— Я вдова, — стыдливо проговорила она, — а моими средствами распоряжается мой брат.
— Это не меняет дела, — сказал Чакр, выписывая счет.
— Она же еще не сказала, хочет ли купить их, — сердито заметила Октавия.
— Но я хочу, — сказала Юлия и стала смотреть, как Чакр записывает цену каждой подвески. Она продиктовала ему полное имя Марка и его адрес. Торговец спросил, живет ли она у брата, и она ответила, что нет. — Я живу у отца, Децима Виндация Валериана.
— Великий человек, — уважительно сказал Чакр и больше не задавал ей вопросов. — Распишитесь здесь, пожалуйста, — он окунул перо в чернила и передал его Юлии. Пока она расписывалась, он заворачивал четыре ожерелья в белую шерсть и укладывал их в кожаную сумку. Затем, почтительно поклонившись, передал покупку Юлии. — Пусть же тот чистый хрусталь, который вы будете носить, принесет вам исполнение всех ваших желаний, моя госпожа.
Юлия была рада своим приобретениям и теперь останавливалась едва ли не у каждого прилавка. Она купила еще благовония в изящном пузырьке, небольшую амфору с приятно пахнущими маслами и красочную коробку с пудрой.
— Клянусь Зевсом, Юлия, я твои покупки за тебя носить не буду, — сердито сказала Октавия. — Тебе надо было взять с собой свою маленькую иудейку. — Она сунула покупки Юлии в руки и пошла прочь, пробираясь сквозь толпу и не желая больше подстрекать Юлию к ссоре с отцом и продолжать с ней эту прогулку.
Смеясь, Юлия поспешила за ней.
— Но ты же сама хотела пойти сюда!
— Только посмотреть. А не покупать все, что подвернется под руку.
— Ты так ничего и не купила!
Октавия заскрипела зубами, услышав замечание Юлии, раздраженная тем, что ее подруга может купить множество товаров, даже не почувствовав этого, тогда как у нее вообще нет своих денег. Она оставила без внимания просьбу Юлии подождать ее. У нее не было ни малейшего желания признаваться в правоте Юлии. Все ее мысли были теперь заняты хрустальными подвесками в маленькой кожаной сумочке. С такими деньгами Юлия могла бы подумать и о том, чтобы купить хоть какой–нибудь подарок своей подруге. Но, увы, она думает только о себе!
— Октавия!
Подавив в себе негодование, Октавия замедлила шаг. Стараясь выглядеть как можно спокойнее, она подняла голову и сказала:
— Здесь все как–то уж очень дешево и безвкусно. Я не увидела того, что мне бы хотелось.
Юлия прекрасно знала, что Октавия в восторге от хрустальных ожерелий, но не собиралась уговаривать свою подругу взять что–либо, после того как была вынуждена догонять ее, пробираясь по заполненным улицам. Юлия тоже посмотрела на подругу как можно спокойнее.
— Жаль. А я было подумала о том, чтобы подарить тебе какую–нибудь одну подвеску, — сказала она, зная, что Октавии нравятся такие украшения, но она не может себе позволить их купить. Марк говорил, что Друз на грани разорения. Единственное, что может спасти его от окончательного позора, — это самоубийство.
Октавия посмотрела на нее.
— В самом деле?
Юлия продолжала идти дальше.
— Ну, теперь, наверное, нет. Я бы не хотела дарить своей лучшей подруге что–то безвкусное и дешевое. — Она оглянулась и осталась довольна выражением лица Октавии. Ей надоел ее покровительственный тон. — Может быть, позднее найдем что–нибудь, что тебе по душе.
Дойдя до Марсова поля, обе почувствовали усталость. Юлии не хотелось сидеть в тени дерева. Она хотела сесть на открытой местности, как можно ближе к воинам, занимающимся строевой подготовкой. Октавия не испытывала особого желания смотреть на легионеров. Ей казалось, что все смотрят только на Юлию и мало обращают внимания на нее. Раздосадованная, Октавия сделала вид, что ей скучно. Ей не нравилось быть в тени Юлии. Она привыкла что, когда они вместе, центром внимания становится она. Наверное, ей следует похудеть, или поменять прическу, или воспользоваться большим количеством косметики. Тогда красота Юлии снова померкнет по сравнению с ее красотой. Но достаточно было взглянуть на Юлию, чтобы понять, что этого не будет. Разница между ними становилась все заметнее.
Жизнь так несправедлива. Юлия была избалована богами. Она родилась в богатой семье, не знала горя, пользовалась всеми благами общества. Потом вышла замуж за старого богача, который вовремя свернул себе шею, не успели они прожить вместе и года, после чего бедной маленькой Юлии досталось в наследство огромное состояние — наверное, слишком огромное для глупых людей, не знающих, как им распорядиться. Уж Октавия нашла бы, куда пустить эти средства.
Глядя на то, как хорошо Юлия проводит время, Октавия умирала от зависти. Горечь так и разъедала ее. Ее отец всегда оправдывался перед своими кредиторами. Он все больше и больше времени проводил со своими покровителями и искал тех, кто мог бы что–то вложить в его истощенные сундуки. Октавия знала, что его поездка в Помпеи была лишь отговоркой, — ему просто хотелось побыть какое–то время одному. Вчера он накричал на нее, обвинив ее в том, что она расходует слишком много денег. Он сказал, что ему и так тяжело «выпрашивать» средства у покровителей. Может ли он представить, что она испытывает каждый раз, когда ей приходится выпрашивать деньги у отца? Если они так бедны, ему, вероятно, придется прекратить делать ставки на зрелищах. Ему еще ни разу не удалось поставить на победителя гонок колесниц.
Почему ей досталась такая доля — быть дочерью какого–то олуха? Разве она не заслужила всего того, что имеет Юлия? Единственное, чем Октавия могла похвастать, так это тем, что у нее есть личная служанка, дочь какого–то африканского вождя. Октавия вспомнила, как впервые привела ее в гости к Юлии и увидела, как Юлия устыдилась своей страшной иудейки. Но теперь и этот небольшой триумф был развеян. Ее африканская «принцесса» стала такой надменной и агрессивной, что, для того чтобы заставить ее подчиняться, приходится как следует бить ее, тогда как смиренная маленькая иудейка Юлии служит так, будто находит в этом наслаждение для души.
Взгляд Октавии упал на изящное аметистовое колье, украшающее красивую шею Юлии. Сережки так и сверкали на солнце. Октавия едва не застонала от нового приступа зависти, и прекрасный день превратился для нее в сплошные муки. Она почти ненавидела Юлию, чьи драгоценности, которые были куплены по баснословной цене всего несколько часов назад, лежали, никому не нужные, на траве.
Какой–то молодой сотник проезжал мимо верхом на гнедом жеребце и лукаво улыбался — не ей — Юлии, которая покраснела, как девственница, от чего стала еще прекраснее. Раздражение Октавии нарастало.
— Ты видела, как он посмотрел на меня? — вздохнула Юлия, сверкая глазами от восторга. — Такой красавец!
— Наверняка тупой, как бык, — заметила Октавия. Уязвленная тем, что никто из мужчин не обращает на нее внимания, она встала. — Мне жарко, я проголодалась, да и скучно здесь, Юлия. Пойду к Калабе.
Встала и Юлия, огорченная тем, что больше не сможет посмотреть на воинов, но в то же время готовая ко всему, что только взбредет в голову Октавии.
— Я пойду с тобой.
— Не знаю, понравится ли она тебе. Слишком уж она непростой человек.
— Но ты ведь говорила…
— О, я знаю, что я говорила, — перебила ее Октавия, махнув рукой. — Но ведь и ты себя не переделаешь, Юлия. — Это было действительно так, хотя Октавия не хотела знакомить Юлию с Калабой не только по этой причине. Конечно, такое знакомство могло бы получиться довольно забавным. Калабу наверняка позабавила бы провинциальность Юлии. Октавии очень хотелось бы посмотреть на это со стороны. Наверняка придет туда и Кай Полоний Урбан. Его темные глаза и прикосновение его рук приводили ее в трепет. О нем ходили самые разнообразные слухи, но это только делало его еще более интригующим и опасным в ее глазах. Без сомнения, он интересовал ее все больше и больше.
Юлия взяла свою сумочку с ожерельями, благовониями, маслами и пудрой. Казалось, сегодня Октавия решила лишить ее всего самого интересного и захватывающего.
— Если ты познакомишь меня с Калабой, я подарю тебе одно из тех ожерелий, которые я купила.
Октавия обернулась, ее щеки горели, а во взгляде была неприкрытая злость.
— Я для тебя кто — подруга или непонятно кто?
— Но ты же хотела что–нибудь из этого, разве не так? — сказала Юлия с такой же злостью, но скрыв свои чувства улыбкой трогательной уязвимости. — Пожалуйста, можешь взять себе то, что тебе нравится. — С этими словами она протянула Октавии кожаную сумочку. — Я и раньше хотела тебе подарить тебе что–нибудь, но ты была такой сердитой, все говорила и говорила о Клавдии, — сказала она.
Октавия помедлила, а потом взяла сумочку.
— Ты действительно собиралась мне что–нибудь подарить?
— Ну конечно. — У Чакра было много других украшений. Чтобы Октавия ни выбрала, Юлия всегда может послать Хадассу, и та купит новое.
— Ну, что ж… — сказала Октавия, открывая сумочку и вынимая ожерелья. — Мне нравится александрит. — Это приобретение было самым дорогим. Она взяла его и надела на себя, выбросив обертку.
Она познакомит Юлию с Калабой. Будет интересно посмотреть, как Калаба посмеется над Юлией. На мгновение Октавия нахмурилась, вспомнив о том, как прекрасна Юлия и как смотрели на нее сотники. Кай любил красивых женщин, и Октавия вовсе не хотела, чтобы кто–то вмешался в то, что, как она была уверена, начинало развиваться между ней и Каем. Затем она пожала плечами… Вряд ли Кай заинтересуется таким избалованным ребенком, как Юлия.
Она повернулась к Юлии и снисходительно улыбнулась.
— Калаба живет недалеко отсюда. Нужно только пройти мимо бань и подняться на холм.
16
Марк вошел в дом и с приятным удивлением обнаружил, что в доме очень тихо. Енох взял его красную накидку.
— Мать и отец отдыхают?
— Нет, мой господин. Они ушли прогуляться в парк.
— А госпожа Юлия?
— Она ушла с госпожой Октавией.
Марк нахмурился.
— А отец разрешил ей?
— Не знаю, мой господин.
Прищурив глаза, Марк посмотрел на него.
— Не знаешь? — сухо переспросил он. — Давай, давай, Енох, рассказывай. Тебе всегда известно все, что происходит в доме. Так спрашивала Юлия разрешения у отца, и если да, то куда она ушла с Октавией?
— Я действительно не знаю, мой господин.
Марк начинал терять терпение.
— Ее служанка ушла вместе с ней?
— Нет, мой господин. Хадасса сидит сейчас в перистиле.
— Ладно, поговорю с ней.
Увидев Хадассу, сидящую на мраморной скамье возле стены, Марк слегка улыбнулся. Интересно, что она делает, — слушает журчание фонтана или пение птиц? Хадасса выглядела несколько встревоженной, а ее руки были сложены на поясе. Марк посмотрел на нее внимательнее и понял, что она снова молится. Он не решался подойти к ней, боясь ей помешать.
Он сжал губы в гневе на самого себя. Что это с ним происходит? Хадасса всего лишь рабыня. Какое ему дело, помешает он ей молиться или делать еще что–нибудь? Ведь это его дом, а не ее. Собравшись с силами, Марк направился к ней. Увидев его, она встала. Когда она посмотрела на него, его неожиданно охватило какое–то странное чувство. Раздраженный, он сердито спросил: — Где моя сестра?
— Она ушла, мой господин.
— Куда? — потребовал он ответа и увидел, как она слегка нахмурилась. Он знал, о чем она думает. Она не хотела выдавать Юлию. Продолжая молчать, Хадасса наклонила голову. Видя ее верность Юлии, Марк потерял всякое желание сердиться на нее. — Я не сержусь на тебя. Просто я беспокоюсь за Юлию. Ей надлежит еще три месяца пребывать в трауре, и я не думаю, что отец разрешил ей оставить виллу вместе с Октавией. Я прав?
Хадасса в нерешительности закусила губу. Она не хотела лгать, но и оказаться непослушной Юлии ей тоже не хотелось. Вздохнув, она ответила:
— Она сказала, что пошла в храм Геры.
Марк рассмеялся.
— Октавию еще никто и никогда не видел в храме Геры. Она поклоняется Диане или другим богам, которые благословляют ее на разврат. — Произнося эти слова, Марк почувствовал, что лицемерит, потому что много раз в своей жизни делал то же самое. Его охватил гнев. Одно дело, когда это касается мужчин, и другое, когда это касается женщин. Тем более, его сестры.
— Так куда они ушли, Хадасса? Я знаю, что ты хочешь защитить ее, но в данном случае ты только потакаешь ее необдуманным, глупым поступкам. Октавия этим уже давно прославилась. Скажи мне, куда они ушли! Клянусь тебе, я найду Юлию и приведу ее домой, — говоря это, Марке вдруг подумал, зачем объясняет все это какой–то рабыне, зачем дает ей какие–то клятвы?
Она посмотрела на него.
— Они собирались за покупками, а потом на Марсово поле.
— Посмотреть на легионеров, — возмутившись, догадался Марк. — Это похоже на Октавию, хотя ей больше нравятся гладиаторы. Больше они ничего не сказали?
— Госпожа Октавия сказала, что собирается навестить кого–то из своих знакомых.
— Ты не помнишь его имя? — спросил Марк, подумав, что это, вероятно, кто–то из мужчин.
— Кажется, Калаба.
— О, боги! — взорвался Марк в гневе. Калаба была гораздо хуже всякого потерявшего уважение в обществе мужчины, с которыми Октавия только могла познакомить Юлию. Марк стал беспокойно ходить взад–вперед, потирая сзади шею. — Юлия даже не понимает, во что ввязывается. — Ее было необходимо вернуть, и чем скорее, тем лучше.
Остановившись перед Хадассой, он схватил ее за плечи.
— Слушай меня внимательно. Когда отец с матерью вернутся, не попадайся им на глаза. Скройся на кухне. Займись какими–нибудь своими делами. Если они все же вызовут тебя и спросят, где Юлия, скажи им, что она пошла поклониться Гере, как она тебе, наверное, и сказала. Все. Про Октавию ни слова. Не говори ничего ни о Марсовом поле, ни о чем–либо другом. Поняла?
— Да, мой господин, но как быть с Енохом? — спросила Хадасса, зная, что Енох единственный, кто обязательно все расскажет Дециму Валериану. Он не испытывал особой привязанности к Юлии, как и ко всем рабам в доме. — Он ведь сочтет своим долгом сказать вашему отцу, что она покинула виллу, — быстро добавила она, не желая, чтобы у Еноха были неприятности.
Марк отпустил ее.
— Ты права, — сказал он и, выругавшись, добавил: — Пошлю его по какому–нибудь поручению, чтобы его как можно дольше не было в доме. Какому–нибудь важному поручению, которое может выполнить только он. — Марк снова посмотрел на Хадассу и увидел, что она успокоилась.
— Мой господин, ты пришел в ответ на мои молитвы.
Он засмеялся.
— Ты что, молилась о том, чтобы я пришел к тебе? — Она покраснела и опустила голову, пробормотав что–то в ответ. — Что ты сказала, Хадасса? Я не расслышал.
— Я молилась о помощи Юлии, мой господин, а не о тебе лично.
Он разочарованно поджал губы.
— Жаль. А то я подумал, что все дело во мне, — сказал он, забавляясь ее смущением. Он приподнял ее голову за подбородок и увидел, что она покраснела еще больше. — Каким же образом я стал ответом на твои молитвы, Хадасса?
— Ты благополучно вернешь мою госпожу домой.
— Приятно знать, что ты так уверена во мне, — Марк слегка потрепал ее по щеке, как это всегда делал с сестрой, после чего насмешливо улыбнулся. — Может быть, совместными усилиями мы и найдем способ уберечь Юлию от больших бед.
Его платонический жест помог ей почувствовать себя свободнее, и она мягко засмеялась.
— Твои слова да Богу в уши, мой господин.
Марк никогда раньше не слышал, как она смеется. Посмотрев на ее маленькое, счастливое лицо, услышав ее красивый смех, он едва удержался, чтобы не обхватить ее лицо ладонями и не поцеловать ее. Та перемена, которая в ней произошла, наполнила его необъяснимым теплом. Это была не похоть, с этим чувством он был хорошо знаком. Сейчас же он испытывал что–то другое. Что–то более глубокое, более таинственное, что касалось самых глубин его души. Она тронула самое его сердце.
Он понял, как мало знает о ней.
— Никогда не слышал раньше твоего смеха, — сказал Марк и тут же пожалел о своих словах, когда увидел, что от ее приподнятого настроения не осталось и следа.
Хадасса опустила голову, снова став рабыней.
— Прости, мой господин. Я…
— Тебе нужно чаще смеяться, — нежно сказал ей Марк. Когда она удивленно подняла голову, он посмотрел ей в глаза. На ум пришли сотни вопросов, а за ними нетерпение. У него не было времени, и ему не стоило лишний раз усложнять себе жизнь! Хадасса — не Вития. Ее было нелегко понять, но с ней можно было легко расстаться.
— Сторонись моих родителей, пока я не вернусь. Если тебя не смогут разыскать, то вопросов у них будет меньше.
Хадасса смотрела ему вслед, когда он уходил. Почему он так смотрел на нее? Закрыв глаза, она опустилась на скамью. Что же она чувствовала каждый раз, когда видела его? Она едва могла дышать. Ладони становились влажными, язык — неповоротливым. Достаточно было Марку взглянуть на нее, и она трепетала. Всего лишь мгновение назад она испытала такое огромное облегчение от его манеры общения, что засмеялась, сама того не ожидая. Что он думал о ней?
Когда он был рядом и не смотрел на нее, она испытывала какое–то смятение. Ей хотелось, чтобы он смотрел на нее, но когда он это делал, она становилась какой–то неуклюжей, смущалась. Иногда ей хотелось, чтобы он был как можно дальше от виллы. Но когда его действительно не было, ей не терпелось увидеть его снова, чтобы только убедиться, что с ним все в порядке.
Ее отец как–то говорил о том, что девушки склонны увлекаться физической красотой. Он предупреждал ее еще тогда, когда она была ребенком, чтобы она смотрела в человеке не на лицо, а на душу. «Красивое лицо может стать маской большого зла», — говорил он.
Марк был красивым, как те статуи, которые стоят возле рыночной площади. Иногда Хадасса смотрела на него и вовсе забывала о его душе. Марк не верил в существование души, как не верил и в жизнь после смерти, в отличие от своих отца и матери. Как–то случайно Хадасса услышала, как он говорил отцу, что когда человек умирает, он умирает. По этой причине, как он сам говорил, ему хочется взять от жизни все то, что она может ему дать.
Единственным богом для Марка был его собственный ум. Он смеялся над верой Хадассы и ее «невидимым Богом». Он был убежден в том, что человек сам творит свою судьбу, используя все имеющиеся у него возможности.
Вития хвасталась тем, что обладает властью над Марком, что своими заклинаниями может заставить его испытывать к ней страстные чувства. Хадасса не верила ей, но видела, как рано по утрам та стояла в саду и жгла ароматические травы. И Марк приходил к ней. Часто.
Хадасса сжала ладонями свои горящие щеки. Она не имели ни малейшего права испытывать какие–либо чувства к Марку Валериану. Она молилась о том, чтобы Бог избавил ее от смятения, которое она испытывала при одной мысли о нем, и открыл ей глаза на то, чтобы она лучше служила в доме. Но Марк все равно оставался в ее сердце, и Хадасса чувствовала, что оно вот–вот выпрыгнет из ее груди.
Вития говорила, что Марк — самый лучший любовник из всех, которые у нее были. Эта египтянка говорила много такого, что Хадасса не хотела слушать. Она не хотела знать, что было между этой рабыней и ее хозяином.
Она молилась о том, чтобы Марк Валериан полюбил такую же хорошую женщину, как его мать, и женился на ней. Хадассе не хотелось видеть, как он попадает под власть темных сил Витии. Вития была подобна Египту в том виде, в каком он предстает в Писании, — соблазнительная, сводящая с ума, толкающая мужчину к гибели. Вития обладала большой житейской мудростью, однако совершенно не понимала, какие беды навлекала на саму себя. Обладание темными силами может дать ей на какое–то мгновение то, что ей хочется, но чего ей это будет стоить в конечном счете?
Феба Валериан верила в то, что Вития обладает целительными силами, и часто вызывала ее к больному мужу. Тем не менее, в течение этих последних недель Дециму Валериану не становилось лучше.
Хозяин дома был сторонником религиозной терпимости, поэтому все в доме могли поклоняться своим богам так, как считали нужным. Многие из его рабов поклонялись в разных святилищах и храмах. Вития могла каждый день ходить к своим святыням, которые находились у Марсова поля, а Енох ходил на утренние молитвы в небольшую синагогу на берегу реки, где жили и трудились многие свободные иудеи. Это негласное правило в доме Валериана способствовало сохранению веротерпимости между рабами, поклоняющимися разным богам. Однако, когда Вития стала использовать свои темные чары против хозяина дома, веротерпимость Еноха испарилась, как капли дождя в пустыне.
— Я молю Бога о том, чтобы он умертвил ее еще до того, как она успеет навредить нашему хозяину своими чарами, — сказал Енох, когда однажды пошел с Хадассой на рынок.
— Енох, но она искренне верит в своем сердце, что все то, что она делает, исцелит хозяина. Она постится и молится, чтобы обрести те силы, которые, как она верит, обещаны ей.
— И этим можно оправдать то, что она с ним делает на самом деле?
— Нет, но…
— Она просто колдунья и обманщица.
— Она сама обманута, Енох. Она верит в лжебогов и в лжеучения, потому что никогда не слышала истины.
— Ты еще очень молода и не понимаешь того зла, которое царит в мире.
— Я видела зло в самом Иерусалиме, задолго до того, как в него вошли римляне.
Енох подозрительно посмотрел на нее.
— О чем это ты говоришь?
— Если бы Вития знала Господа, и ее хозяину, и ей самой было бы намного лучше.
От удивления глаза Еноха стали круглыми.
— Что ты предлагаешь? Чтобы я обратил в истину какую–то там блудницу?
— Писание говорит, что Руфь была моавитянкой, но именно от нее пошла родословная линия царя Давида, а из рода Давида произошел Христос.
— Но сердце Руфи было открыто для Бога!
— А почему мы решили, что у Витии оно закрыто? Как бы Руфь могла узнать о Боге, если бы ее муж и свекровь не рассказали ей о Нем?
— Я не собираюсь останавливаться здесь и спорить о Писании с ничего не понимающим ребенком, Хадасса. Что ты знаешь? Ты уж прости меня за откровенность, но твое нежное сердце ничего в мире не изменит, как не изменит и такую блудницу, как Вития.
Хадасса положила руку на его плечо.
— Я ни с кем не собираюсь спорить, Енох, — Хадасса посмотрела ему в глаза. Она всегда помнила о том, что если бы Бог не послал его в тот день на рынок рабов, чтобы привести ее в этот дом, она бы уже давно погибла на арене. — Но Израиль призван свидетельствовать всему миру о Боге. И как мы сможем свидетельствовать об истинном Боге, если будем эту истину держать в себе? Бог хочет, чтобы истина принадлежала всему миру.
— И ты доверишь этим языческим псам самое святое? — сказал Енох, горестно покачав головой. — Послушай, Хадасса, что я тебе скажу. Берегись Витии. Не слушай ни одного ее слова. Она — само исчадие ада. Не забывай, что именно терпимое отношение ко злу и погубило наш народ. Берегись, чтобы это зло не погубило в тебя.
Хадассе захотелось заплакать. Сколько раз она говорила людям об Иисусе. Сколько раз она рассказывала о том, как Господь воскресил ее отца из мертвых. И теперь она чувствовала, как ее язык тяжелеет, а сердце словно становится каменным и велит ей молчать. Захочет ли Енох ее слушать? Она говорила себе самой, что нет. Но вопрос оставался без ответа. Вития не знала Бога, Енох не знал своего Мессию. И почему? Потому что страх неприятия и преследований запирал истину в сердце Хадассы. То знание, которым она обладала, было скрытым сокровищем, предназначенным не только для нее одной, но и для Еноха тоже; она дорожила этим сокровищем, брала от него силы, но боялась делиться им с другими.
И вот теперь маленькая птичка порхала над перистилем и уселась на статуе, которую Марк назвал «Отвергнутая страсть». Хадасса сжала пальцами виски и потерла их. Открытый двор был полон света, цветов и журчания фонтана, но ей казалось, что ее сдавливает неведомая тьма. Ей так хотелось общаться с теми людьми, которые разделяют ее убеждения. Ей очень хотелось поговорить с кем–нибудь о Боге так, как это делал ее отец.
Ей было так одиноко. Енох верил в свой закон и в свои традиции, Вития молилась своим богам и исполняла свои ритуалы. Юлия стремилась к «активной» жизни, а Марк следовал собственным амбициям. Децим ни во что не верил, а Феба поклонялась своим каменным идолам. В чем–то они все были схожи, каждый из них следовал религии, дающей им то, в чем они, как им казалось, нуждались в первую очередь, — власть, деньги, удовольствия, мир, праведность, опору. Они следовали своим индивидуальным законам, совершали свои жертвоприношения, соблюдали свои ритуалы и при этом надеялись на исполнение своих желаний. Иногда им казалось, что это приносит им успех, но очень скоро Хадасса видела пустоту в их глазах.
Боже, почему я не могу воззвать к истине с верхней крыши? Почему у меня нет такой смелости говорить с людьми, какая была у моего отца? Я люблю этих людей, но у меня нет тех слов, которые могли бы дойти до них. Неужели я только рабыня? Как мне объяснить им, что в действительности я свободный человек, а они рабы?
Хадасса вспомнила о Клавдии и о тех часах, в течение которых они беседовали и Клавдий все время расспрашивал ее о Боге. Однако все то, что она ему говорила, всего лишь ласкало его слух, но ни одно ее слово не изменило его сердца. Почему Слово западает в души одних людей, меняя их, и отскакивает от других? Бог сказал, чтобы мы сеяли семя, но почему Он не удобрил для этого почву?
Господи, что мне сделать, чтобы они услышали меня?
В перистиль вошла Феба. Она выглядела такой уставшей и обеспокоенной, что Хадасса тут же забыла о предупреждении Марка и подошла к ней.
— Вам принести что–нибудь, моя госпожа? Холодного вина или что–нибудь поесть?
— Немного вина, пожалуй, — сказала Феба рассеянно. Она провела пальцами по воде.
Хадасса тут же вошла в дом и вынесла вино. Хозяйка все так же сидела неподвижно. Хадасса поставила рядом с ней поднос и налила вина. Феба взяла кубок и поставила его нетронутым рядом с собой, на скамью.
— Юлия отдыхает?
Хадасса замерла. Она закусила губу, думая, что сказать. Феба взглянула на нее и по глазам все поняла.
— Ладно, можешь не отвечать, Хадасса. Где Вития?
— Она отправилась в свой храм сразу после того, как вы с хозяином ушли.
Феба вздохнула.
— Значит, она еще нескоро вернется, — когда Феба снова взяла кубок, ее рука дрожала. — Моему мужу нужно отвлечься от своих тревог. Его болезнь… — она снова поставила кубок и взяла Хадассу за руку. Ее руки были холодными. — Как–то вечером я слышала, как ты пела Юлии. Что–то на еврейском. Это была прекрасная песня. Твой хозяин устал, но ему никак не заснуть. Может быть, если ты ему споешь, он сможет расслабиться.
Хадасса в этом доме никому, кроме Юлии, еще не пела и поэтому волновалась. Феба повела ее в дом и дала ей маленькую арфу. «Не бойся», — прошептала Феба и прошла к мужу. Децим Валериан лежал на своем диване. Он выглядел теперь гораздо старше своих сорока восьми лет. Даже после утренней прогулки на солнце лицо его оставалось осунувшимся и бледным. Он едва обратил внимание на Хадассу, когда та, повинуясь безмолвному знаку Фебы, вошла в комнату и села рядом с ним.
— Все в порядке? — тихо спросил он.
— Да, все хорошо. Юлия пока не нуждается в помощи Хадассы, и я подумала, что, может быть, тебе будет приятно послушать ее пение, — Феба кивнула Хадассе.
Мать Хадассы когда–то учила свою дочь игре на музыкальных инструментах. Девушка нежно посмотрела на инструмент, который пробудил в ней воспоминания о ее семье, и заиграла одну из тех мелодий, которые она пела для поклонения Богу и Его прославления. Перебирая несколько несложных аккордов, Хадасса нежно запела: «Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться…». Сначала она пела по–еврейски, потом по–гречески, а в конце по–арамейски — на том языке, на котором она говорила всю свою жизнь. Закончив, она склонила голову и молча поблагодарила Бога за тот покой, который даровал ей псалом царя Давида.
Когда же она снова подняла голову, то увидела, что Феба смотрит на нее. «Он уснул», — прошептала Феба. Приложив палец к губам, она жестом попросила Хадассу удалиться. Хадасса осторожно положила инструмент на стул и тихо вышла.
Феба накрыла Децима одеялом. Затем подошла к стулу и взяла в руки арфу, на которой только что играла Хадасса. Прижав ее к себе, она подошла к спящему мужу, села рядом, и по ее щекам потекли слезы.
* * *
Калаба Шива Фонтанен была самой завораживающей женщиной из всех, которых Юлии доводилось видеть.
— Вся наша жизнь — это лишь сцена, на которую должен выходить новый человек, — сказала Калаба своим гостьям. — И мы как женщины имеем полное право считать себя богинями, потому что только от женщины рождается новая жизнь.
Юлия с восхищением слушала вызывающие идеи Калабы. Говорила Калаба красноречиво, представляя при этом новые и заманчивые философии, которые поражали воображение Юлии.
Пока они шли к ней с Марсова поля, Октавия много наговорила о ней Юлии.
— Она богата, у нее несколько любовников, она сама ведет свои финансовые дела, в то числе и доходные дела.
— Какие дела?
— Ну, я не знаю, а спрашивать как–то неудобно. Но все, что она делает, она делает хорошо, потому что живет широко.
Юлия не представляла себе, чего ей ожидать от знакомства с Калабой, но все в этой женщине казалось ей неповторимым. Калаба была стройной и атлетически сложенной. Сложной и вычурной прически, как у большинства римлянок, она не носила — вместо этого ее рыжие волосы были заплетены в обыкновенную косу. Калаба не была красивой. Глаза у нее были бледно–зелеными, кожа загорелой, а челюсть слишком тяжелой, но вся ее привлекательность и все очарование были в ее жизненной энергии и внутренней силе личности.
Октавия сказала, что никто не знает о прошлом Калабы. По слухам, она встретила своего будущего мужа Аврия Ливия Фонтанея на пиру, когда была танцовщицей. Фонтаней был поражен ее гимнастическими способностями, и вот теперь она при деньгах.
Но что бы там про нее ни говорили, уже после пяти минут общения с Калабой Юлия была очарована ею. Это была в точности та женщина, какой хотелось быть и Юлии: богатая, ни перед чем не останавливающаяся, независимая.
— Вся жизнь на земле существует благодаря женщине, — сказала Калаба своим гостьям, и ее слова сопровождались всеобщим одобрением. — Когда человек умирает, он зовет своего отца? Нет! Он зовет свою мать. Перед каждой из нас открыты неограниченные возможности, для того чтобы быть теми, кем мы являемся на самом деле, — богинями, которые сейчас просто забыли свое истинное предназначение. Женщина — это фонтан жизни, и только она обладает семенем божества, которое может вырасти и вознести ее к небесным пажитям. Мы являемся носителями вечной истины.
Юлия представила, что сказал бы Марк в ответ на подобные идеи. Подумав об этом, она слегка улыбнулась. Калаба посмотрела в ее сторону и удивленно приподняла брови.
— Ты со мной не согласна, сестра Юлия?
Под пристальным взглядом Калабы Юлия почувствовала себя неуютно, поэтому она решила ответить вопросом на вопрос, чтобы как–то защититься:
— Я пока еще не решила, но мне хотелось бы тебя еще послушать. Как мы можем стать теми богинями, о которых ты говоришь?
— Не отдавая свою власть мужчинам, — не задумываясь ответила Калаба с улыбкой, которая выражала скорее терпение, чем снисходительность. Она встала и обошла всех собравшихся. — Чтобы стать такими, мы должны использовать все свои возможности во всех сферах жизни. Мы должны тренировать свой ум, упражнять свое тело, общаться с богами посредством медитаций и жертвоприношений. — Остановившись возле Октавии, она положила руку на ее плечо. — Немного больше времени на саморазвитие и немного меньше времени на удовольствия.
Октавия покраснела, а остальные засмеялись. Ее рука, сжимавшая золотой кубок, побелела.
— Ты смеешься надо мной, Калаба? Я не такая игрушка, как некоторые из тех, кого я знаю, — сказала она и выразительно посмотрела на Юлию. — Я живу своей жизнью и вольна делать то, что мне нравится. Никто не может мне указывать, когда мне встать и когда мне сесть.
— Все мы, так или иначе, игрушки в чьих–то руках, дорогая моя Октавия, — слегка улыбнулась Калаба. — Ты хочешь сказать, что властна над своими собственными деньгами?
Октавия подняла голову и посмотрела в глаза этой более опытной женщине. Калаба хорошо знала ее истинное финансовое положение. За несколько дней до нынешнего собрания они говорили об этом в приватной беседе. Но как же теперь Калаба могла задать ей подобный вопрос перед всеми, в том числе и перед Юлией?
— Хороший вопрос, просто наповал бьет, — сказала Октавия, чувствуя себя обманутой.
Калаба ответила снисходительной улыбкой.
— Лучше жить с головой и выйти замуж, чем тратить себя понапрасну на мускулистых мужчин, — сказала она, явно намекая на многочисленные связи Октавии с гладиаторами.
Октавия вспыхнула.
— Я думала, что ты мне подруга.
— Я действительно тебе подруга. Но разве друзья не говорят правду? Или ты предпочитаешь слышать ложь и лесть?
Октавия вновь посмотрела на нее. Она пришла сюда, ожидая, что Калаба будет рада видеть ее и унизит Юлию. Но вместо этого Калаба рада видеть Юлию, а обидными словами осыпает Октавию, которая подобного отношения совершенно не заслуживает. Не на шутку рассерженная такой несправедливостью, Октавия перестала соображать, что говорит:
— Уж лучше сильный и молодой гладиатор, чем слабый старик.
Гости удивились этим резким словам Октавии, но Калаба мягко засмеялась.
— Дорогая Октавия, ты еще слишком восприимчива. Мужчины могут этим воспользоваться как оружием против тебя. Будь осторожна, милая сестра. Если ты и дальше будешь жить своими эмоциями, то в твоей жизни, в конце концов, не останется ничего, кроме воспоминаний об удовольствиях, испытанных тобой в объятиях давно убитого мужчины.
Октавия попивала вино и больше не говорила ни слова, но чувство негодования продолжало жечь ее изнутри. Калабе легко было говорить о необходимости выйти замуж. Для Октавии тут все было не так–то просто. У ее отца не было денег даже на приданое, и вряд ли кто решится посвататься к девушке, когда все, что есть у нее за душой, — это отец, настолько погрязший в долгах, что для спасения собственной чести ему остается только самоубийство.
Октавия взглянула на Юлию, которая смотрела на Калабу с детской восторженностью. Юлия схватывала любую идею, исходившую из уст Калабы, а ее глаза горели не столько от того, что было на самом деле, сколько от того, что, по ее мнению, можно было сделать. Ей казалось, что слова Калабы были обращены непосредственно к ней. Октавия сжала губы.
Жизнь так несправедлива.
— Наши боги и богини пришли на землю, чтобы показать нам, что мы можем достичь их высот исключительно силой ума, — продолжала тем временем Калаба. — Действительно, физически мужчины сильнее женщин, но ими движет страсть. Вовсе не Юпитер властвует над небесами посредством своего ума, а Гера посредством своего.
Юлия слушала, попивая вино. Вино было слишком приторным, и скоро у нее закружилась голова. Кто–то из гостей стал задавать вопросы, и разговор вскоре перешел на политику. Потеряв интерес к беседе, Юлия оглядела комнату и обратила внимание, что стены разрисованы эротическими сюжетами. Юлии сразу бросилось в глаза изображение совокупляющейся парочки. Рядом было изображено крылатое чудовище с какими–то пугающими гротескными чертами и телом, которое можно было назвать мужским и женским одновременно. Юлия не могла отвести глаз от этого изображения, пока в ее адрес не раздался смех. Все наблюдали за ней.
— Бог плодородия? — спросила она, пытаясь преодолеть свою растерянность.
— Так мой муж изобразил Эроса, — сказала Калаба с сардонической улыбкой.
Две женщины встали, собираясь уходить. Одна из них поцеловала Калабу в губы и что–то ей прошептала. Калаба в ответ отрицательно покачала головой и проводила обеих во двор, откуда рабы проводили их до дверей.
— Нам тоже пора идти, — вставая, сказала Октавия. День у нее не заладился с самого начала. В висках стучало. Больше всего ей сейчас хотелось избавиться от Юлии и отправиться домой.
Калаба повернулась к ним, явно разочарованная.
— Уж теперь–то, когда мы остались одни, вам не следовало бы уходить. Я ведь и не познакомилась как следует с твоей подругой, Октавия.
— Уже поздно, а ей вообще не положено выходить из дома, — сказала Октавия.
— Я в трауре, — сказала Юлия и неловко засмеялась. — Или, точнее сказать, мне положено находиться в трауре.
Калаба тоже засмеялась.
— Она мне нравится, Октавия. Как хорошо, что ты привела ее ко мне, — она взяла Юлию за руку и усадила обратно на диван. — Сядь, посиди еще немного и расскажи мне о себе.
— Юлия, — раздраженно произнесла Октавия, — нам надо идти.
Калаба устало вздохнула.
— Иди, Октавия. Я уже устала от твоей раздражительности.
В глазах Октавии отразились обида и горечь.
— У меня голова болит.
— Тогда тем более отправляйся домой и отдохни. За Юлию можешь не беспокоиться. Я позабочусь о том, чтобы она благополучно вернулась домой. Нам с Юлией есть о чем поговорить. А когда надумаешь прийти в следующий раз, то, пожалуйста, Октавия, приходи в хорошем настроении.
Когда Октавия выбежала из комнаты, Калаба извинилась перед Юлией.
— Хочешь еще вина?
— Да, спасибо. Очень хорошее вино.
— Я рада, что тебе нравится. Я добавляю в него некоторые особые травы, которые помогают сохранять ясность ума.
Калаба задавала вопросы, и Юлия на них отвечала, чувствуя по мере беседы, что становится все более раскованной. С Калабой было легко говорить, и Юлия обнаружила, что доверяет этой женщине все то, что в настоящее время не дает ей покоя.
— Ссорясь с отцом, ты не получишь того, чего ты хочешь. Чтобы завоевать его расположение, тебе надо пользоваться логикой и здравым смыслом. Будь с ним добра. Дари ему небольшие подарки, сиди с ним, слушай его жалобы. Проводи с ним какое–то время. Льсти ему. И только после этого проси у него то, что ты хочешь, и он тебе не откажет.
В комнату вошел раб и остался стоять неподвижно, пока Калаба не обратила внимание на его присутствие.
— Марк Люциан Валериан пришел за своей сестрой.
— О боги, — испугавшись, воскликнула Юлия и быстро встала. — О! — сказала она и, не удержавшись, села снова. — Я, кажется, выпила слишком много вина.
Калаба засмеялась и похлопала Юлию по руке.
— Не беспокойся ни о чем, Юлия, — Калаба кивнула рабу. — Пусть ее брат войдет. — Затем она слегка сжала руку Юлии в своей. — Мы с тобой подружимся, Юлия. — Тут она отпустила ее и встала, когда раб проводил Марка в комнату. — Как приятно, что ты пришел навестить меня, Марк, — сказала Калаба тоном, полным насмешки.
— Юлия, немедленно домой.
— Увы, Юлия. Я твоему брату, кажется, не нравлюсь, — сказала Калаба. — Наверное, он просто боится, что я испорчу тебя своими новыми идеями о женской эмансипации и роли женщин в обществе.
Юлия посмотрела сначала на нее, а потом на брата.
— Вы что, знакомы? — произнесла она слегка заплетающимся голосом.
— Только по слухам, — сказала Калаба. Ее улыбка была полна ядовитой злобы. — Я знаю Аррию. Я знаю Фаннию. Я знаю огромное количество женщин, которые хорошо известны твоему брату.
Марк оставил ее колкости без внимания и подошел к сестре. Пытаясь встать, она закачалась.
— Что с тобой? — поинтересовался Марк.
— Просто она выпила лишнего, — небрежно сказала Калаба. Марк взял Юлию за руку.
— Сама сможешь идти, или мне вынести тебя отсюда?
Юлия с гневом отпрянула от него.
— Почему все мной командуют? Мне впервые за несколько месяцев было так хорошо, и вот теперь ты врываешься сюда и все портишь.
Калаба покачала головой, глядя на них обоих, потом подошла к Юлии. Положив руку ей на плечо, она нежно сказала:
— Всегда наступает новый день, дорогая моя сестра. Иди с миром, иначе Марк поддастся тем эмоциям, о которых мы здесь говорили, и унесет тебя на плече, как мешок с зерном. — Она поцеловала Юлию в щеку, после чего взглянула на Марка смеющимися глазами. — Рада видеть тебя у себя в любое время.
Негодуя, Марк взял Юлию за руку и решительно вывел ее из комнаты. К тому времени, когда они дошли до входной двери, Юлия уже почти бежала. Марк усадил ее в крытый паланкин, ожидавший их на улице, и сам сел рядом с ней. Тут же подошел раб Калабы, который передал Юлии ее вещи. Четыре других раба подняли паланкин и направились к дому.
— Ты хуже отца, — обиженно произнесла Юлия, взглянув на Марка и тут же отвернувшись. — Никогда в жизни не оказывалась в такой глупой ситуации!
— Ничего, переживешь, — сухо сказал он. Он хорошо знал Юлию, поэтому понял, что нет смысла запрещать ей снова видеться с Калабой. Запрет будет твердой гарантией того, что Юлия обязательно с ней встретится. — Надеюсь, до нашего возвращения ты успеешь придумать какую–нибудь историю, чтобы рассказать ее матери и отцу, если не хочешь весь остаток траура провести запертой в своей комнате с охраной в дверях.
Юлия снова посмотрела на него уничтожающим взглядом.
— А я‑то думала, что ты мне друг.
— Это действительно так, но все дело, которое мы делали с отцом, ты испортила сегодня своей дурацкой выходкой. Замолчи и подумай лучше о том, что ты им скажешь, когда мы придем домой.
— А как ты узнал, где меня искать? — спросила Юлия, потом блеснула глазами. — Хадасса!
— Она тебя не выдавала, — сурово сказал Марк, явно не желая, чтобы Юлия всю вину за случившееся свалила на эту маленькую иудейку. — Она ничего не сказала мне, пока я не заставил ее это сделать, и то только потому, что она хочет тебя защитить. Хадасса так же, как и я, прекрасно знает, что произойдет, если в доме узнают про тебя всю правду.
Юлия подняла голову.
— Я велела ей сказать отцу и матери, что пошла поклониться в храм Геры.
— Именно это она мне и сказала. Храм Геры! — Марк саркастически засмеялся. — Но только я не вчера родился, а уж отец с матерью тем более. Енох сказал мне, что к тебе приходила Октавия, а весь Рим знает, что твою подругу никто и никогда не увидит поклоняющейся богине домашнего очага, семьи и деторождения!
— Она мне больше не подруга.
— Что еще случилось?
— Ничего, — отрезала Юлия, и ее щеки запылали. — Устала я от ее покровительственного тона и важничанья. Калаба куда интереснее.
На скулах Марка заиграли желваки.
— Тебе, значит, нравится ее идея превосходства женщин над мужчинами. Тебе нравится идея о возможности со временем стать богиней.
— Мне нравится идея быть хозяйкой собственной жизни.
— Это вряд ли произойдет в обозримом будущем, дорогая сестричка. Если только нам не удастся пройти в дом незамеченными.
Сделать им это не удалось. Феба ждала их.
— Я уже была в твоей комнате, Юлия, но тебя там не было. Где ты была, Юлия?
Юлия рассказала ей историю о том, что ходила в храм Геры, затем добавила, что была на рынке, чтобы посмотреть целительный амулет для отца. К удивлению Марка, она достала из своей сумочки подвеску из сердолика.
— Купец заверил меня, что этот камень обладает удивительными целебными свойствами, — она протянула подвеску матери. — Надеюсь, что, если отец будет его носить, ему будет лучше.
Феба взяла украшение в руки и долго его рассматривала. Ей больше не хотелось задавать никаких вопросов; она хотела верить в то, что Юлия ушла из дома из желания поклониться в храме в купить подарок для Децима, но в сердце своем она знала, что это неправда. Подвеска из сердолика лежала в сумке вместе с другими подвесками, которые Юлия купила себе. Следовательно, «подарок» на самом деле был взяткой — или запоздалой мыслью.
Глубоко вздохнув, Феба вернула сердолик дочери.
— Подари его отцу, когда у тебя закончится траур, Юлия. Если ты подаришь его сейчас, он захочет узнать, где и когда ты его купила.
Юлия сжала украшение в руке.
— Ты мне не веришь? Родная мать думает обо мне плохо! — сказала она, испытывая гнев и жалость к самой себе. Она снова стала запихивать украшение в сумку, рассчитывая на то, что мать запротестует. Когда же этого не случилось, на глаза у Юлии навернулись слезы. Она подняла голову и увидела во взгляде Фебы разочарование. Чувствуя себя виноватой, она покраснела, но непослушание заставляло ее упрямиться. — Я хочу пойти к себе. Или мне на это тоже надо спрашивать разрешения?
— Я не сержусь на тебя, Юлия, — спокойно сказала Феба.
Юлия бросилась вон из комнаты. Феба смотрела, как ее красивая юная дочь в гневе убегает. Она устала все время придумывать поступкам Юлии какие–то оправдания. Иногда ей было интересно, знакомо ли вообще ее детям понятие совести. Похоже, что они совершенно не задумываются над тем, как скажутся их действия на других людях, и в первую очередь на Дециме. Она посмотрела на Марка.
— Она действительно ходила в храм? — спросила Феба, но тут же покачала головой и отвернулась. — Можешь ничего не говорить. Еще не хватало, чтобы я заставляла тебя лгать мне, оправдывая ее. — Пройдя в другой конец комнаты, она села в кресло.
Подавленный вид матери обеспокоил Марка.
— Она еще молода, мама. Срок траура, который определил для нее отец, просто неразумен.
Феба ничего не сказала. Ей пришлось бороться со своими чувствами. Она часто соглашалась с сыном, потому что Децим мог быть жестоким, требуя безоговорочного подчинения, и не принимать во внимание юношеский энтузиазм и индивидуальные особенности. И все же ни Марк, ни Юлия не понимали главного. Феба подняла голову и серьезно посмотрела на сына.
— Твой отец — глава семьи и дома.
— Я это тоже прекрасно понимаю, — сказал Марк. Именно по этой причине он старался как можно меньше времени проводить в этом доме и приобрел себе собственный дом.
— Тогда уважайте и слушайтесь его.
— Даже если он не прав?
— Мнения на этот счет могут быть разные, а Юлия — его дочь. Твое вмешательство только ухудшает ситуацию.
Марк сжал руки.
— Ты меня обвиняешь в том, что произошло сегодня? — сердито спросил он. — Я никогда не поощрял ее непослушание отцу.
Феба встала.
— Да, действительно, хотя ты, похоже, не видишь, что делаешь сам. Каждый раз, когда ты открыто споришь с ним и обвиняешь его в неразумности и несправедливости, ты тем самым подстрекаешь Юлию к тому, чтобы не уважать его и предаваться только своим удовольствиям. Так куда она ходила сегодня, Марк? Что доставляет Юлии радость?
— Ты сомневаешься в моральном облике своих детей?
Феба улыбнулась, но ее улыбка получилась горькой.
— О какой морали ты говоришь, Марк? О старой, которая учит, что дети должны слушаться своих родителей, или о новой, призывающей вас делать все то, что вам захочется?
— Я уже взрослый человек, мама. Юлии шестнадцать лет, и она уже вдова. Мы с ней не дети, хотя вам с отцом хочется нас таковыми видеть. Мы личности и имеем право стремиться к счастью по–своему.
— Чего бы то ни стоило другим? И даже вам самим? — Феба стала перед ним, печальная и подавленная. — Ты радостно идешь по тому пути, который ты выбрал для себя, и тянешь за собой Юлию, но не видишь, что тебя ждет впереди. Ты видишь только сиюминутные удовольствия, но не хочешь знать, чего это будет стоить в будущем.
Марк скривил губы в насмешливой улыбке.
— Ты просто забыла, мама, что сама была молодой.
— Я не забыла, Марк. О, нет, я не забыла. Молодости не миновать ни одному поколению. Но мир сегодня гораздо сложнее, и в нем столько разрушительных сил. И Юлию так легко сбить с толку. — Она взяла его руку в свою. — Неужели ты не видишь, что отец не хочет лишать ее радости, он только хочет оградить ее от пагубного влияния?
— Но что пагубного в том, что молодая девушка пошла с подругой купить безделушки и посмотреть на воинов, тренирующихся на Марсовом поле?
У Фебы больше не было слов. Она опустила голову, понимая, что дальнейший спор бесполезен. Марк наклонился и поцеловал ее в щеку.
— Я люблю тебя, мама, и понимаю тебя, но не думаю, что тебе стоит так беспокоиться о Юлии.
— Она слишком упрямая.
— А вы с отцом были бы счастливее, если бы ваша дочь была безвольной? Не думаю. До сегодняшнего дня у Юлии не было никакой свободы. Как же она может ею распоряжаться, если ее никогда у нее не было?
— Чрезмерная свобода может затмить совесть.
— Но вряд ли что–то может навредить разуму.
— А если бы отец согласился сократить ей срок траура и дал ей больше свободы, как ты думаешь, что бы она с ней делала?
Марк вспомнил о Калабе Шиве Фонтанее.
— Можно было бы поставить ей определенные условия, — сказал он. — Чтобы с какими–то людьми она могла общаться, а с какими–то нет.
— Позднее я поговорю об этом с твоим отцом, — сказала Феба. Если дать Юлии свободу, то это, вероятно, окажется единственным способом сохранить мир в семье. Хотя лучше всего было бы снова выдать ее замуж.
17
Лежа на массажном столе, Атрет поднял голову и скептически посмотрел на Бато.
— Этот хозяин хочет заплатить мне двадцать ауреев, чтобы я провел ночь в его гостинице? И что я там должен буду делать?
— Ничего. Только посидеть в одной из его гостиных и поспать на одной из его кроватей, — ответил Бато. — У тебя еще будет много подобных предложений, Атрет. Ты ведь теперь стал одним из немногих избранных — тех, у которых растет число убитых. А на твоем счету уже двадцать один. И чем больше ты убиваешь, тем больше твоя слава. Слава приносит удачу.
Атрет снова опустил голову и закрыл глаза.
— А свободу она мне принесет? — спросил он, в то время как массажист продолжал умело и быстро разминать ему мышцы.
— В конце концов, вполне возможно. Если только боги по–прежнему будут улыбаться тебе.
Атрет выругался.
— Боги лукавы. Как мне самому добиться свободы? Сколько она стоит? Что мне для этого нужно сделать? — он махнул рукой массажисту и сел на край массажного стола. Массажист повернулся к Бато, но тот кивнул в сторону двери, дав ему знак уйти.
— Ты можешь так и не получить свободы, — откровенно сказал Бато. — По мере того как растет твоя слава, растет и цена твоей свободы. Самое большее, на что ты можешь надеяться, — это на то, что ты перестанешь быть гладиатором и станешь ланистой.
— То есть мясником, — добавил Атрет, уточняя истинный смысл этого слова.
Бато не обиделся.
— А в чем разница между тем, что делаю я, и тем, что делал ты у себя на родине? Я готовлю мужчин к тому, чтобы они сражались и с честью умирали. — Бато положил руку Атрету на плечо. — Послушай моего совета и живи так, как можешь жить сейчас. Принимай все, что тебе предлагают. В тот день, когда ты убил Келера, ты стал королем римской арены. Весьма завидное положение, надо сказать… пока оно в твоих руках.
Атрет безрадостно засмеялся.
— Мне понятна твоя горечь, Атрет. Моя горечь едва не погубила меня, пока я не взял себя в руки. Ты можешь постоянно тренироваться и сражаться по пять–шесть раз в году. Не такая уж плохая жизнь. А в перерывах между схватками у тебя останется уйма времени для других утех.
— Например, делать деньги? А зачем они мне, если я все равно не смогу купить на них свободу?
— На деньги можно купить многое другое. Келер не жил в бараках лудуса. У него был собственный дом и слуги.
Атрет удивленно посмотрел на него.
— А я думал, он был рабом.
— Да, рабом, у которого были свои рабы. Келер сражался лучше тебя, — сказал Бато со свойственной ему грубой прямотой. — А погубило его слишком высокое самомнение. Он недооценил твой ум, а ты тогда впервые, сколько я тебя помню, не потерял самообладания.
Атрет задумался. Перспектива жить не в каменной камере начинала казаться ему весьма привлекательной. Он встал со стола, наклонился над чашей с водой и плеснул себе воды в лицо. Возможно, Бато прав. Ему следует в полной мере пользоваться всеми своими возможностями, пока у него есть эти возможности. Две недели назад Келер едва не искромсал его. Атрет хорошо помнил выражение глаз Келера, когда заносил над ним свой меч. Рана, которую он нанес Келеру, была не смертельной, а только лишающей его возможности сражаться. Фактически Келера убила римская толпа. До сих пор в ушах Атрета стоял крик зрителей: «Югула! Югула!».
С кровоточащей раной в боку Келер упал перед ним на одно колено.
— Слышишь, как они жаждут моей крови? А всего час назад они меня славили. — Толпа кричала все громче, и от ее рева начинало закладывать уши. — Так же они поступят когда–нибудь и с тобой. — Келер поднял голову, и Атрет увидел его глаза сквозь щели закрывавшего лицо забрала. — Добивай, — сказал ему Келер.
Атрет схватился рукой за шлем Келера, слегка откинул его голову назад и кинжальным ударом разрезал ему шейную вену. Когда кровь Келера брызнула Атрету на грудь, толпа пришла в неистовство. Келер упал назад и, упершись локтями в песок, стал умирать с выражением растерянности и горечи в глазах, а толпа в это время кричала в экстазе: «Атрет! Атрет!».
Атрет закрыл глаза и снова плеснул себе воды в лицо и на грудь. Что бы он ни делал, но кровь убитых им людей ему уже было не смыть. Двадцать один человек погиб здесь от его рук…
Он взял полотенце и вытерся.
— Я переночую в его гостинице, но передай ему, что это будет стоить тридцать ауреев, иначе я вообще туда не пойду.
— Хорошо, пусть будет тридцать. Себе я возьму двадцать — пять себе за хлопоты, а пятнадцать императору как добровольное пожертвование. — Добровольное пожертвование? — Атрет оглянулся и холодно посмотрел на него. — Тогда передай Веспасиану, что пусть он сам спит в той гостинице, а боги пусть нашлют на его постель побольше вшей!
Бато рассмеялся, но тут же снова стал серьезным.
— Будь хоть один раз благоразумным, Атрет. Хочешь ты того или нет, но ты находишься в полной власти императора. И не тебе менять то, что предопределено богами. В руках императора и твоя жизнь, и твоя смерть, а ты делаешь все для того, чтобы разозлить его. Да стоит ему сказать только слово, и завтра же тебя найдут разорванным на куски львами или дикими собаками. Ты такой смерти хочешь?
Атрет в сердцах швырнул полотенце в сторону.
— Я буду отдавать ему больше, чем получаю сам, и при этом еще славить его!
— Как он того и заслуживает. Он правит империей, покорившей Германию. Неужели я должен напоминать тебе об этом? Не ты его победил, а он тебя.
Атрет поднял голову.
— Я не побежден.
— Ты что, по–прежнему вождь своего племени? Или ты по–прежнему живешь в своих непроходимых лесах? Безумец! А ты никогда не задумывался о том, почему ты сражаешься с такими людьми, как Келер, и больше никого, кроме них, против тебя не выпускают?
Владельцы имели обыкновение выпускать своих лучших гладиаторов против непрофессионалов, чтобы таким образом заранее обеспечить зрелищность и гарантировать себе приток прибыли. Однако Атрету Веспасиан приказывал самому сражаться с лучшими профессионалами, на счету которых было самое большое количество убитых. Намерение было очевидно. Он хотел видеть его мертвым, но только так, чтобы при этом и толпа была не в обиде, что только придавало Веспасиану политическую популярность.
— Я знаю, почему, — сказал Атрет.
— Зайдешь слишком далеко, и император скормит тебя голодным львам.
Атрет сжал губы. Стать добычей диких животных считалось такой же позорной смертью, как и распятие, если не больше.
— Отдай Веспасиану его пятнадцать ауреев, — сказал он, презрительно склонив голову. Отвернувшись, он тихо добавил: — И пусть каждый из них принесет ему несчастье.
Бато пришел к Атрету поздно вечером. Атрет проснулся и поднялся. Бато протянул ему красную тунику с золотистой оторочкой и красивый кожаный пояс, отделанный бронзой. После этого он дал ему огромную накидку.
— Закрой свои волосы. Всем нам будет лучше, если там, на улице, тебя никто не узнает.
В коридоре ждали стражники. Атрет вопросительно посмотрел на Бато.
— Я настолько опасен, что ко мне нужно приставить шесть стражников?
Бато засмеялся.
— Помолись своим богам о том, чтобы мы в них не нуждались.
Когда они выходили на улицу, стражники окружили их со всех сторон. Узкие улицы были заполнены повозками и людьми. Люди группами собирались возле фонтанов, пили вино, разговаривали.
— Старайся не показывать своего лица, — приказал Бато, когда мимо проходило несколько человек, которые остановились и уже уставились на Атрета, — пошли по этой аллее. — Они пошли быстрее. Оказавшись в тени, они снова замедлили шаг. — Идти нам недалеко. К счастью, гостиница Пунакса расположена рядом с Большим Цирком.
Мимо строем прошли воины, и стук их кованой обуви напомнил Атрету о тех легионах, с которыми он сражался в Германии. Бато толкнул его под локоть и указал на каменную стену с какой–то надписью.
— Смотри, что здесь написано.
— Я не умею читать.
— Надо учиться. Тут написано о том, что ты стал жить в мечтах молоденьких римлянок. А вот тут объявление о предстоящих зрелищах. — Проходя мимо стены, Бато зачитывал вслух написанный на стене текст. — «Если позволит погода, двадцать пар гладиаторов, при финансовой поддержке Остория, вместе с запасными, которые выйдут в том случае, если кто–то будет убит слишком быстро, сойдутся в схватках первого, второго и третьего мая в Большом Цирке. Будет сражаться знаменитый Атрет. Слава Атрету! По окончании схваток — увлекательнейшая охота диких зверей. Слава Осторию».
— Я просто польщен, — иронично сказал Атрет. — А кто такой Осторий?
— Сейчас он занимается политикой. Я слышал, что он был купцом. Веспасиан покровительствует ему, потому что он сам вышел из плебеев, а Осторий по–прежнему выступает за народ. Организация зрелищ может сыграть ему на руку.
— Он хороший политик?
— А это никого не волнует, пока он финансирует зрелища и кормит бедняков. Занявшись политикой, Осторий может делать то, что ему нравится.
— Мы уже почти пришли, — сказал один из стражников, — только мне кажется, у нас могут возникнуть проблемы.
В конце улицы находилась гостиница, освященная фонарями. Перед гостиницей собралось большое количество народа, при этом многие требовали, чтобы их впустили в здание. Бато постоял, оценивая ситуацию.
— Похоже, наш друг растрезвонил всем о твоем приходе, — недовольно сказал он. — Попробуем пройти с заднего входа.
Они обошли толпу и двинулись к гостинице по другой улице, к заднему входу. Но там тоже стояла группа мужчин и женщин, требующих, чтобы их впустили. Одна из женщин оглянулась и увидела стражников. Ее глаза округлились, и она указала на германца стоявшему рядом мужчине. «Атрет! Атрет!» — закричала она, и ее крик подхватили еще несколько женщин. «Атрет! Атрет!»
Атрет засмеялся, почувствовав, как в нем от восторга закипела кровь.
Но Бато такая ситуация явно не обрадовала.
— Нам лучше убежать!
— От кого? От женщин? — удивленно сказал Атрет, и только после этого увидел, как толпа, стоявшая у передней двери, побежала на крик и устремилась прямо на него, и каждый хотел добраться до него первым. Стражники заняли исходную позицию, но силы оказались слишком неравными. Какая–то женщина кинулась на Атрета, обхватив его руками и ногами. Запустив пальцы в его волосы, она стала целовать его, а несколько других девиц также стали обнимать его, издавая какие–то нечеловеческие крики. Атрета охватила волна паники, он сбросил целовавшую его женщину и стал работать руками и плечами, чтобы освободиться от остальных. Плащ с него уже давно сорвали, и женские руки обхватили его со всех сторон, причем весьма неразборчиво. Придя в бешенство, Атрет уже не разбирал, кого ударил и насколько сильно.
— Бежим отсюда, они же тебя разорвут! — закричал Бато, схватив какую–то женщину за волосы и оттаскивая ее от Атрета. Его решительные действия дали Атрету достаточно пространства для побега.
Атрет побежал и продолжал бежать до тех пор, пока истерические крики сзади не прекратились. Вскоре его настиг Бато.
— Ныряй сюда, — сказал он Атрету, после чего они прошли в какой–то дверной проем, чтобы перевести дух. Спустя какое–то время Бато выглянул на улицу и огляделся.
— Никого нет. Кажется, мы оторвались от них, — сказал Бато и посмотрел на Атрета. — Ну что, каково быть объектом всеобщей любви? — спросил он и засмеялся.
Атрет недовольно посмотрел на него и откинул голову назад. Сердце продолжало учащенно биться.
— Серьезных травм не нанесли? — ухмыляясь, спросил его Бато.
Атрет потер голову.
— Кажется вырвали немного волос, а вообще действительно казалось, что вот–вот разорвут на части, чтобы унести с собой на память. Но вроде бы я остался цел.
— Ну и хорошо, — сказал Бато. — Будем надеяться, что таким тебя и сохраним. — Затем он снова выглянул на улицу. — Есть тут недалеко одно местечко, куда бы мы сейчас могли пойти. И чем скорее мы туда доберемся, тем лучше. С твоей фигурой и твоими светлыми волосами тебя здесь сразу узнают. А эти девицы наверняка разбежались по всем улицам и ищут тебя.
— Это все твоя идея. Помнишь? Тридцать ауреев! — Атрет смачно выругался. — Ты же не предупредил меня, чем это может кончиться. Римляне все такие ненормальные?
— Когда они могут прикоснуться к своему идолу, им от этого становится радостно на душе. Ладно, не переживай. Я доведу тебя до лудуса. А Пунакс все равно раскошелится. Ты получишь свои десять ауреев, а потом еще больше. Я сам об этом позабочусь.
Они пошли по какой–то узкой аллее, которая вела к огромному двору, окруженному жилыми домами.
— Мне это место хорошо знакомо, — сказал Бато, остановившись у какой–то двери и постучавшись в нее. Когда никто не ответил, он постучал сильнее. По ту сторону двери раздался приглушенный голос — там спросили, кто это. Когда Бато назвал себя, дверь открылась. Атрет вслед за ним вошел в темное помещение. Дверь за ним закрыли, задвинув засов.
В дверях появилась стройная и красивая темнокожая женщина. В руках она держала маленькую терракотовую лампу. «Бато?» — произнесла она, и по ее голосу можно было понять, что этот визит был для нее полной неожиданностью. Бато заговорил с ней на своем родном языке. Она ничего не сказала, и он прошел к ней через всю комнату, взял из ее рук лампу и поставил на стол. Прикоснувшись к ее щеке своей огромной рукой, он снова заговорил с ней нежным и просящим голосом. Она что–то тихо сказала ему в ответ, и Бато обернулся к Атрету.
— Это Чиймадо, — сказал он гладиатору, — мой старый друг. Она согласилась впустить нас переночевать до утра. В задней части дома есть небольшая комната. Можешь спать там. Кто–нибудь из слуг принесет тебе поесть. Утром, пораньше, пока город еще будет спать, вернемся в лудус.
Атрет кивнул и пошел из комнаты вслед за служанкой. Ему принесли поднос. Сидя на соломенном тюфяке, он откинулся спиной к стене и пил вино. Он был голоден, но хлеб так и не взял. Комната была такой же по размерам, как и его камера, и такой же холодной. Ему стало интересно, лучше ли была та гостиница, в которую они направлялись. Он этого не знал, ведь ему так и не пришлось побывать в ней. И чем больше он об этом думал, тем злее становился.
Спустя какое–то время пришел Бато и склонился у низкого дверного косяка.
— Уже почти утро. Нам скоро уходить.
— Прежде чем вернуться в лудус, я хотел бы навестить Пунакса. — Атрет поставил опустевшую бутылку вина на пол и встал. — Все эти римские гарпии уже давно разбежались оттуда.
В этот предрассветный час улицы были пусты, все ночные гуляки разошлись по домам и спали. Бато провел Атрета по лабиринтам аллей и улиц к гостинице. Вокруг нее никого не было. Окна были занавешены, а двери закрыты. На улице валялись какие–то обломки. Бато громко постучал в дверь.
— Убирайтесь отсюда! — раздался изнутри сердитый мужской голос, затем послышалось ругательство. — Я вам уже тысячу раз говорил, что Атрета здесь нет! Проваливайте!
Начав терять терпение, Атрет подошел к двери, полный решимости выломать ее. Бато преградил ему путь и постучал снова.
— Это Бато, идиот! Открывай, или мы сейчас просто спалим твою гостиницу, и тебя заодно!
Услышав звук отодвигающегося засова, Атрет первым ворвался в открытую дверь.
— Ты должен мне тридцать ауреев за то, что пользовался в своей гостинице моим именем!
— Не горячись, — невозмутимо ответил ему Пунакс. — То, что я тебе обещал, ты получишь. — Это был крепкий мужчина примерно такого же сложения, как и Бато, с мощной грудью и сильными руками. Его коротко подстриженные волосы были седыми, а на груди красовался знак из слоновой кости, говорящий о том, что перед Атретом стоит освобожденный гладиатор. Увидев замешательство Атрета, Пунакс усмехнулся, обнажив свой рот, в котором на месте нескольких выбитых зубов зияли черные дыры. — Вам бы следовало взять с собой побольше стражников, — сказал Пунакс, повернувшись к Бато. — Хорошо, что этот парень умеет быстро бегать, а, приятель?
Бато засмеялся.
— Да, таким быстрым я его еще никогда не видел.
— Садитесь, — сказал хозяин, и в его голосе звучало не столько приглашение, сколько приказание. Атрету он указал на середину комнаты.
— Можно было бы сначала и со мной договориться, — недовольно сказал Атрет, усаживаясь поближе к жаровне, чтобы согреться. Взяв в руки порванную тунику, он добавил: — И еще ты должен мне новую одежду.
— Что еще прикажет твоя милость? — сухо и иронично спросил его Пунакс.
— Если ты дашь ему поесть и поспать, это поднимет ему настроение, — сказал Бато. — Да еще женщину, если у тебя есть сейчас кто–нибудь…
— Я их всех отправил по домам, — сказал Пунакс и кивнул в сторону стола, на котором были разложены самые разные яства. — Что касается еды, то все это было приготовлено в его честь. — Он взял со стола персик и протянул его Атрету. — На, подкрепи здоровье. Обещаю, что в следующий раз устрою тебе прием получше.
— А почему ты думаешь, что я захочу еще раз прийти в эту крысиную нору?
— А тебе что, твоя камера еще не надоела? — усмехнулся Пунакс. Затем он повернулся к Бато и со смехом добавил: — Наверное, он теперь боится женщин. — Увидев, как Атрет вскочил и схватился за стул, приняв угрожающую позу, Пунакс засмеялся еще громче.
— Сядь, — приказал Атрету Бато. — Ты еще на свет не родился, когда Пунакс сражался на арене. И сражался лучше тебя.
Пунакс продолжал смеяться.
— Вот смотрю я на него, и вспоминаются мне мои славные деньки. Ты помнишь Аполлинария, Бато? Женщины за ним стадами бегали. — Улыбка постепенно сошла с его лица. — Тогда мое имя произносили на всех углах. — Раскинув руки, он добавил. — И вот, что у меня теперь.
— Свобода и состояние, — сказал Бато.
— Ха! Налоги и долги. Я часто с болью думаю о том, что, когда я был рабом, мне жилось лучше. — Пунакс разлил вино в три кубка, протянул один Бато, другой Атрету, а третий взял сам. — За зрелища, — сказал он и жадно выпил.
Пунакс и Бато вспоминали свою молодость. Говорили о своих подвигах на арене, обсуждали тактические приемы гладиаторов, которых все давно уже забыли. Пунакс рассказал о некоторых своих схватках и показал те шрамы, которые у него остались.
— Император Нерон подарил мне деревянный меч, — сказал он. — Мне тогда казалось, что это самый великий день в моей жизни. И только гораздо позднее я понял, что моя жизнь кончена. Потому что у освобожденного гладиатора ее просто не остается.
— Когда я получу свободу, то вернусь в Германию, — сказал Атрет, — и начну жизнь сначала.
Пунакс посмотрел на него с кривой ухмылкой.
— Ты еще ничего не понимаешь, но со временем поймешь. Твоя жизнь уже никогда не будет такой интересной и насыщенной, как сейчас, Атрет, когда ты каждый день смотришь в глаза смерти.
Бато встал и сказал, что им надо вернуться, до того как рассветет. Пунакс протянул ему мешочек с ауреями. Атрету он дал новую тунику и плащ, похлопал его по спине на прощание и проводил до двери.
— В следующий раз женщины будут вести себя лучше и станут к тебе в очередь, — ухмыляясь, сказал он Атрету, — так что на тебе повиснет не более двух–трех за раз.
Пока городские ворота были закрыты для телег и повозок, на улицах было тихо. Жители города еще спали, но купцы и владельцы лавок уже раскладывали товары, привезенные еще ночью.
— Пунакс глуп, — сказал Атрет. — Он же свободен. Почему он не возвращается к себе на родину?
— Он пытался, но у него в Галлии никого не осталось. Жена умерла, а детей воспитали и вырастили другие люди. Его народ какое–то время был рад его возвращению, а потом стал его избегать. Из Галлии его увезли простым пастухом. А вернулся он воином.
— Я не был пастухом.
— А что тебя ждет в Германии? Молодая жена, с которой осталось твое сердце? Ты хочешь сказать, что она будет ждать тебя десять, а то и двадцать лет, пока ты не вернешься?
— У меня нет жены.
— Ну, хорошо, твое селение? Что от него осталось? Дым и пепел? А твой народ? Может, они мертвы? Взяты в рабство? Рассеялись по земле? Ничего тебя в Германии не ждет.
Атрет ничего не ответил. Когда он вспоминал, что он потерял, в нем закипал гнев. Бато остановился возле хлебной лавки и купил хлеба. Разорвав хлеб на две части, одну он протянул Атрету.
— Ни у кого из нас в прошлом ничего не осталось, Атрет, — хмуро сказал он. — Я был вождем. Теперь я раб. Но иногда раб в Риме живет лучше, чем вождь побежденной страны.
В лудус они вернулись молча.
* * *
Кай Полоний Урбан был самым красивым мужчиной из всех, которых Юлии доводилось видеть. Когда она познакомилась с ним у Калабы, он только улыбнулся ей и взял ее за руку, но этого было достаточно, чтобы она едва не потеряла сознание от нахлынувших на нее чувств.
И вот теперь она смотрела то на него, то на Калабу, о чем–то беседовавшую с женщинами. Именно в таком месте ей хотелось проводить время, именно этого она желала. Да, отец смягчил те ограничения, которые первоначально наложил на нее, но ей этого было мало — тем более, если учесть, что одно из условий смягчения ограничений со стороны отца как раз и состояло в том, чтобы она не ходила к Калабе. Но Юлия не только не согласилась с этим условием, а назло стала ходить к ней еще чаще. Просто она стала лгать о том, куда и с кем она идет, и делать все, чтобы создавать видимость послушания отцу. Так она избегала конфликта — и сопутствующих наставлений, — который непременно бы разразился, если бы отец узнал, что она продолжает дружить с Калабой.
Марк, как и родители, не был в восторге от Калабы. Более того, он презирал ее. К счастью для Юлии, он часто уезжал по делам в северную Италию и пропадал там месяцами. Пока его не было в Риме, отец занимался своими делами, а мать вообще не знала о жизни за пределами дома, поэтому Юлия могла делать все, что ей заблагорассудится. Она считала для себя огромной честью быть подругой Калабы, эта дружба придавала ей ощущение собственной значимости. Всем, кто приходил к Калабе, хозяйка ясно давала понять, что Юлия — ее лучшая подруга. И при этом для Юлии никто в собрании Калабы даже близко не мог сравниться с Каем Полонием Урбаном.
Кай часто бывал в гостях у Калабы, и одно его присутствие приводило Юлию в трепет. Достаточно ему было взглянуть на нее, как ей в голову приходили забытые мысли. Октавия говорила ей, что Кай — любовник Калабы, но такая неприятная информация лишь придавала ему значимости в глазах Юлии. Какой мужчина мог удовлетворить такую женщину, как Калаба? Только такой, с которым не мог бы сравниться ни один мужчина в мире. Но если Кай принадлежал Калабе, почему он так смотрел на Юлию? Кроме того, ей было известно, что и Октавия была от него без ума, — этот факт также только подогревал интерес Юлии к Каю.
Вот и сейчас его темные глаза пристально смотрели на Юлию, и ей, в конце концов, захотелось избавиться от охвативших ее чувств. Она пыталась отвлечься, но ее неумолимо тянуло к самым сокровенным переживаниям. Кай встал со своего места. Когда он подходил к Юлии, ее охватил жгучий трепет. Сердце заколотилось так сильно, что ей казалось, он услышит этот стук.
Усаживаясь рядом с Юлией, Кай слегка улыбнулся. Он видел, как она взволнована и даже напугана; ее невинность забавляла его.
— Ты согласна со всем, что говорит Калаба?
— Она восхитительна.
— Неудивительно, что ты ей нравишься.
— А ты не согласен с тем, что она восхитительна?
— Спору нет, она намного опередила свое время, — сказал он.
По мере того как они говорили о взглядах Калабы, Кай начинал понимать, как мало Юлия в действительности знает о ней. Он увидел, что эта юная подруга Калабы ограничена в своем понимании всего того, что находится за пределами ее мира, и, конечно же, Калаба открывала людям только то, что они хотели видеть. Она была очень ловкой. Кай не сомневался в том, что у Калабы были какие–то планы относительно этой юной особы из семьи Валериана, но не знал, какие именно. Он знал точно, что Калаба ни к кому не тянется просто так, а она принимала Юлию в круг своих близких друзей, относилась к ней с особой теплотой, вызывая тем самым зависть в тех людях, которые знали Калабу уже давно.
— Мне казалось, что тебе больше нравится Октавия, Калаба, — сказал он ей как–то, вспоминая о том, что хотел завязать с Октавией мимолетный роман. — Она такая податливая.
Но Калабу не так–то просто провести. Она лишь загадочно улыбнулась и указала на те практические аспекты, по которым она решила обратить пристальное внимание на Юлию.
— Ее семья располагает деньгами и положением в обществе, Кай. Политических связей у них нет, если не считать Марка, друга Антигона. Ты должен помнить, год назад он получил место в курии. Если завяжешь с ней роман, тебе это может пойти на пользу.
— Если уж Марку Валериану не нравишься ты, то вряд ли ему понравится кто–то из твоих бывших любовников.
Она засмеялась своим сардоническим смехом.
— А разве ты у меня бывший? Я просто дала тебе свободу. Ты прекрасно знаешь, что просто потерял со мной покой. Ты обратил внимание на то, как Юлия смотрит на тебя?
Его губы скривились в хищной улыбке.
— Еще бы я не обратил! Она такая милая, — перенести внимание с Октавии на Юлию Валериан не представляло для него большого труда.
— Семья Юлии могла бы оказаться для тебя весьма полезной.
— Пытаешься избавиться от меня, Калаба? Неужели я напугал тебя в тот вечер своей страстью?
— Меня, Кай, ничто не может напугать… по крайней мере, из того, на что способен мужчина. Но то, что приводит тебя в восторг, не радует меня. Я всегда стараюсь быть великодушной и желаю счастья своему дорогому–дорогому другу. Я не та женщина, которая тебе нужна. Вот Юлия Валериан — другое дело.
Кай знал, что Калаба ничего не делает, не преследуя при этом свои тайные цели, и теперь ему было интересно, почему она так настойчиво рекомендует ему свою любимую последовательницу. Он был просто заинтригован.
— А что ты о ней знаешь?
— Посмотри на нее во время зрелищ. В ней такая страсть, о которой никто и не подозревает. Даже она сама. Для тебя она станет той почвой, которая только и ждет своего возделывателя. Она жаждет жизни. Посади в эту почву те семена, которые ты хочешь, и жди хороших всходов.
Калаба никогда не ошибалась в людях. И теперь Кай смотрел на Юлию с живым интересом. Она молода и красива. Собрания Калабы посещает тайно, следовательно, она непослушна своим родителям и брату. Она ненавидит скучный интеллектуализм, стремится к жизненным наслаждениям — прекрасный плюс, потому что Кай может доставить ей такие наслаждения, которые ей и не снились.
Он чувствовал, что, по мере того как он смотрит на Юлию, в нем пробуждается желание, и видел, что она тоже проявляет внимание к нему. Она посмотрела на него, и он улыбнулся. Она слегка приоткрыла губы, и он почти почувствовал исходящий от нее жар, хотя находился на другом конце зала.
Он казался ей привлекательным, но она не стала ни приставать к нему, как это делала Октавия, ни строить планы на будущее, как это делала Глафира, ни притворяться равнодушной, как Оливия. Юлия Валериан смотрела на него с нескрываемым любопытством.
И когда он снова взглянул на нее, она стала терпеливо ждать его дальнейших действий, а не играть, как это делали другие.
Кай хотел посмотреть, права ли Калаба в своих взглядах относительно Юлии. Ему хотелось узнать, насколько далеко она может зайти.
— Погуляем в саду? — предложил он ей.
— А Калаба разрешит? — спросила Юлия, вспыхнув, хотя выражение ее глаз было многообещающим.
— А разве, для того чтобы делать то, что тебе хочется, нужно спрашивать разрешения у Калабы? Тогда нам тем более нужно проверить, насколько она искренна в своих философских взглядах. Разве не она утверждает, что женщина должна сама принимать решения, строить свое счастье там, где оно ей доступно, и быть хозяйкой своей судьбы?
— Я ее гостья.
— Но не ее рабыня. Калаба восхищается женщинами с таким же складом ума, как у нее. Теми, которые берут от жизни то, что сами хотят. — Он нежно провел своей рукой по руке Юлии. Под тонкой шерстью ее светло–желтой накидки он чувствовал тепло ее кожи. Он слышал ее мягкое дыхание и ощущал нежный трепет ее тела. Глядя в ее темно–карие глаза, он улыбнулся. — О, и ты, милая Юлия, хочешь взять быка за рога, разве не так? Пойдем же в сад и посмотрим, какое волшебство мы сможем сотворить вместе.
Ее щеки мгновенно покраснели.
— Я не могу, — прошептала она.
— Почему? — прошептал он в ответ, и в его тоне послышалась насмешка. Видя, что она не решается ответить, он сам ответил за нее: — Калаба может приревновать, и ты больше никогда не станешь для нее желанной гостьей.
— Да, — сказала она.
— Можешь не беспокоиться. Я — один из тех, кого Калаба давно отвергла. Мы с ней всего лишь друзья.
Юлия слегка нахмурилась.
— Так ты ей не любовник?
— Нет, — как ни в чем не бывало ответил он, после чего наклонился к ней, почти касаясь губами ее уха, и прошептал: — Давай выйдем в сад, уединимся там и поговорим.
В его глазах горела пугающая страсть, но это не отбило у Юлии охоту пойти с ним. Ей показался приятным тот жар, который ее охватил, и кровь у нее в жилах заиграла еще быстрее. Прикосновение Кая заставило Юлию забыть о том, где она находится, хотя здравый смысл подсказывал ей, что в этом человеке таятся какие–то темные силы. Но ей уже было все равно. Чувство опасности только разогрело ее влечение. И все же она беспокоилась о Калабе. Ей не хотелось обижать ее и нажить себе в ее лице такого сильного врага.
Она взглянула на Калабу и увидела, что та заметила их уход. На мгновение Юлия почувствовала какую–то сильную эмоциональную волну, исходящую от Калабы, но в следующую секунду это ощущение исчезло. Калаба улыбалась, как бы поощряя их поступок. Юлия не увидела в ней никакой ревности, ни малейшего признака недовольства. Юлия в ответ посмотрела на Калабу удовлетворенно и в то же время озадаченно.
— Юлии нужно подышать воздухом, Кай. Будь так любезен, проводи ее в сад, — сказала Калаба, и Юлия почувствовала после этих слов огромное облегчение, на смену которому пришла новая волна жара, когда Кай взял ее за руку и сказал, что почтет за честь сделать это.
— Ну вот, ты и получила ее благословение, — сказал он, когда они вышли в сад. — Пойдем сюда, в беседку.
Когда Кай обнял Юлию, она по инерции стала упираться. Затем он поцеловал ее, и охватившее ее наслаждение отбило всякое желание сопротивляться. Его руки были сильными, и ей казалось, что она тает в них. Когда он слегка отстранился, она уже испытывала слабость и трепет.
— Со мной ты почувствуешь то, о чем никогда и не мечтала, — страстно прошептал Кай и стал смелее. В Юлии еще осталось чувство беспокойства за ту свободу, которую он у нее в этот момент забирал.
— Нет, — страстно шептала она. — Не прикасайся ко мне так.
Кай только тихо засмеялся и слегка отодвинул ее от себя. Потом он снова поцеловал ее, не внимая ее протесту и разжигая в ней страсть.
Юлия вцепилась в тонкую материю его тоги и почувствовала под ней сильные мускулы. От его жаркого и страстного дыхания ее шея покрылась мурашками. Она мягко и бессильно стонала, а он все целовал и целовал ее.
Он причинял Юлии боль, но ей уже было все равно.
— Клавдий Флакк заставлял когда–нибудь твое сердце прыгать так, как сейчас? — спросил Кай. Юлии казалось, что от переизбытка чувств она сейчас упадет в обморок. — Если бы он был сейчас жив, я бы обязательно отбил тебя у него, даже если мне пришлось бы ради этого пойти на убийство, — прошептал Кай. Тон его голоса одновременно увлекал и пугал ее.
Глядя в его темные и искрящиеся глаза, и чувствуя жар в крови, Юлия знала, что будет с ним всегда, чего бы то ей ни стоило.
— О, Кай, я люблю тебя. И я сделаю все, что ты захочешь, все…
Так Кай получил ответ на свой вопрос о том, насколько далеко может зайти Юлия. Конечно, сейчас он ее не отвергнет. Теперь она всецело в его власти, и отступать уже некуда.
Он улыбнулся. Калаба не ошиблась в Юлии. Эта девушка просто создана для него.
18
По мере того как приближался день свадьбы Юлии, Хадассу не покидали дурные предчувствия. С тех пор как Децим Валериан дал согласие на брак коемптио, Юлия выглядела более спокойной и счастливой. Хадассе показалось странным то, что хозяин предложил откуп за невесту, а не имеющий обязательную силу конфарратио, а Юлия тем временем стояла перед друзьями и делала традиционное заявление: «Ubi tu gains, ego gaia» — «Там, где ты хозяин, я хозяйка». После того как она это сказала, Кай Полоний Урбан поцеловал ее и объявил о помолвке.
Хадасса понимала, почему Юлия полюбила его. Он был красив, от него исходила какая–то жизненная энергия, он был очарователен. Дециму и Фебе он понравился. И все же, несмотря на то что у Хадассы, казалось бы, не было никаких оснований для подобных чувств, она была убеждена, что за очаровательной внешностью этого молодого человека скрывается что–то темное и зловещее. Всякий раз, когда Кай смотрел на нее, ее бросало в дрожь от этого недоброго немигающего взгляда.
Хадассе не с кем было поделиться своими чувствами. Марк был в отъезде, и в ближайший месяц никто не ждал его возвращения. Если бы он был здесь, она смогла бы набраться смелости, чтобы поговорить с ним. Но когда он вернется, уже будет поздно. Со жрецами все уже было обговорено, и был назначен день свадьбы. Юлия выйдет замуж еще до возвращения ее брата.
— Наверное, тебе хотелось бы, чтобы твой брат был на свадьбе, — сказала Хадасса.
— Конечно, хотелось бы, — ответила Юлия. — Но жрецы сказали, что вторая среда апреля — это наш счастливый день. Если бы мы отложили свадьбу, то тем самым разгневали бы богов и навлекли на себя беду. Да я и не могу ждать еще неделю, а тем более месяц. Марк может задержаться. Или вообще изменить свои планы. — Она погрузилась в теплую воду своей бани и улыбнулась. — К тому же Марк уже был на моей свадьбе. Насколько я помню, ему там было скучно. Не думаю, что на моей второй свадьбе ему будет интереснее.
Приготовлениям к свадьбе были рады все, и Хадасса уже начинала думать, что, может быть, несправедливо судит об Урбане. Он часами беседовал с Децимом о международной торговле и политике. Они были согласны практически во всем. Что касается Фебы, то она была просто очарована своим будущим зятем. Даже рабы в доме посчитали, что боги смилостивились над Юлией, заставив Урбана полюбить ее.
Но в глубине души Хадасса продолжала чувствовать, что за приятными манерами и блестящей внешностью этого человека скрыто что–то недоброе и даже опасное.
Утром в день свадьбы Юлия не находила себе места и хотела выглядеть такой красивой, какой еще никогда не была в жизни. Хадасса провела несколько часов, чтобы сделать ей искусную прическу, вплетая в нее редкие и очень дорогие жемчужины. Свадебный наряд Юлии был сшит из изящной белой фланели, а ее талию опоясывал шерстяной пояс, скрепленный на счастье большим узлом. На маленькие ноги своей хозяйки Хадасса надела оранжевые сандалии.
— Ты так прекрасна, — сказала дочери Феба, и ее глаза наполнились слезами гордости. Она взяла дочь за руку и села рядом с ней. — Тебе не страшно?
— Нет, мама, — ответила Юлия, удивившись тому беспокойству, которое она увидела в глазах матери. Если бы только мама могла понять, что она сейчас чувствует. Ей так хотелось всегда быть с Каем, что она не могла даже описать своих чувств. Она была готова без всех этих церемоний всю жизнь быть в объятиях Кая.
Феба осторожно поправила оранжевую вуаль на голове Юлии так, чтобы оставалась открытой только левая сторона лица. Затем она дала ей три монеты.
— Одна для твоего мужа, а две других — для твоих богов, — сказала она и поцеловала Юлию в щеку. — Пусть боги благословят тебя детьми.
— Ой, мама, пожалуйста, не надо. Пусть боги подождут пока с этим благословением, — беззаботно засмеялась Юлия. — Я еще очень молода, чтобы обременять себя детьми.
Хадасса стояла позади всех, кто присутствовал на церемонии в храме, когда Кай и Юлия соединили руки. Она слышала визг поросенка, которого приносили в жертву богам. Он неистово бился, когда ему перерезали горло, а кровь, в качестве священной жертвы за невесту и жениха, вылили на жертвенник.
Ощутив слабость и тошноту, Хадасса вышла на улицу. Качая головой, она села на высокую ступень возле двери, где могла слышать, как зачитывали брачный контракт, но не видела крови и не чувствовала ее запаха. Положив руки на колени, она слушала, как один из жрецов монотонным голосом зачитывал документы, в которых говорилось не столько о верности и любви супругов, сколько о финансовых и других материальных обязательствах. Хадассе стало грустно. Сцепив руки, она стала молиться за свою хозяйку.
Когда процессия гостей прошла мимо нее, она встала и пошла за ними. Большинство присутствующих пришло на свадьбу исключительно потому, что они чувствовали себя обязанными своему покровителю, Дециму Валериану. Мало кто из тех, кто знал Юлию, испытывал к ней нежные чувства.
Гости проследовали вместе с молодыми к вилле Кая, которая находилась на дальней стороне Палентины, где его рабы приготовили свадебный пир. Юлия натерла маслом косяки двери и повесила на них шерстяную гирлянду. Каю она передала медную монету. Он дал ей сосуды с горящим огнем и водой, символизируя тем самым передачу власти над его домом своей молодой жене.
Хадасса помогала прислуживать за столом, поражаясь тому, как эта свадьба была не похожа на первую свадьбу Юлии. Друзья Кая, не стесняясь, отпускали непристойные шутки, было гораздо больше смеха. Юлия просто сияла, краснея и смеясь каждый раз, когда ее новый муж наклонялся к ней и что–то шептал ей на ухо. Кто знает, может быть, все будет хорошо. Может быть, она не права, плохо думая об Урбане.
Когда Хадассу в очередной раз позвали на кухню, ей передали серебряный поднос с гусиной печенью, выложенной в виде ужасного животного с огромными гениталиями. Потрясенная таким бесстыдством, Хадасса поставила поднос на стол и с отвращением отпрянула от него.
— Что это с тобой? Если ты испортишь мою работу, я с тебя шкуру спущу. Хозяин приказал принести это блюдо. Так бери его и неси своей хозяйке.
— Нет! — не задумываясь сказала Хадасса, ужаснувшись при одной мысли о том, чтобы преподнести Юлии такой «гротеск». Та оплеуха, которую отвесил ей повар, отбросила ее к полкам с посудой.
— Возьми ты, — приказал повар другой служанке, которая живо взялась за дело. Он снова повернулся к Хадассе, и она встала, ни жива ни мертва от страха, а ее лицо еще ныло от боли. — Бери вон тот поднос и нести гостям, живо.
Дрожа, Хадасса подошла к подносу и с облегчением увидела, что это всего лишь дюжина небольших поджаренных куропаток, приправленных медом и специями. Когда она вошла в зал, где пировали гости, в ушах у нее по–прежнему звенело. Гости тем временем смеялись и подначивали Юлию, когда Кай взял блюдо с гусиной печенью и поднес его невесте. Юлия тоже засмеялась и стала эту печень лизать. Не в силах смотреть на такой разврат, Хадасса повернулась к гостям и поставила на стол куропаток.
Некоторые из гостей стали призывать жениха и невесту отойти в опочивальню. Кай взял Юлию на руки и унес из зала.
После того как Кай с Юлией удалились, стали расходиться и гости. Друз помог встать удрученной Октавии, чье лицо было все в слезах. Она изрядно выпила и теперь едва стояла на ногах. Децим встал со своего почетного места и помог подняться Фебе. Она подозвала Хадассу.
— Ты вернешься вместе с нами. Кай сказал, что Юлии здесь будут помогать служанки из его дома, и освободил тебя от твоих обязанностей. — Она прикоснулась к ее руке. — Не стоит расстраиваться, Хадасса. Если ты понадобишься Юлии, ты знаешь, она пошлет за тобой. Ну, а пока я придумала, чем тебе заняться у нас.
Хадасса быстро привыкла к своим новым обязанностям и с радостью прислуживала Фебе. Им было интересно коротать часы в саду, ухаживая за цветами, или у ткацкого станка. Больше всего Хадассе нравилось работать в саду, потому что ей доставляло большое наслаждение смотреть, какими красочными становятся дорожки и клумбы, по мере того как весной распускаются цветы. Ей нравилось стоять на живой земле, ощущать запах растений. Между деревьями летали птицы, которые садились на специальные кормушки, устроенные для них Фебой.
Иногда к ним присоединялся Децим, который сидел на мраморной скамье и устало улыбался, разговаривая с Фебой или наблюдая за ее работой. Казалось, что ему стало лучше, за что он сам благодарил Витию. Однако он по–прежнему был слаб. Феба чувствовала, что лучше ему стало, оттого что теперь ему не надо было беспокоиться о Юлии, у которой так счастливо складывалась семейная жизнь. Но сама болезнь Децима не проходила. Феба уже утратила всякую веру в целительные способности молодой египтянки и больше не звала ее помочь Дециму. Она все чаще звала на помощь Хадассу.
— Спой нам, Хадасса.
Хадасса брала в руки инструмент и пела те псалмы, которым отец научил ее еще в Галилее. Закрыв глаза, она переносилась в свои родные места, где пахло морем, и рыбаки перекликались друг с другом. На какое–то время она забывала весь ужас пережитого ею со времени последней поездки в Иерусалим.
Иногда она пела те колыбельные, которые ее мама пела ей и ее сестренке, Лии. Милая Лия, как Хадассе не хватало ее! Временами, когда наступала темная и тихая ночь, Хадасса вспоминала о том, как Лия закрыла глаза, перестав смотреть на этот жестокий мир, и тихо отошла к Богу. Она вспоминала о том, как они весело бегали по полям, на которых росли лилии, как смеялись, когда Лия, как зайчонок, прыгала меж высокой травы.
Хадассе нравилось служить Валерианам, и особенно Фебе, которая чем–то напоминала ей мать, так же умно ведшую когда–то свое домашнее хозяйство. Феба каждое утро молилась своим богам, и Хадассе это тоже напоминало ее маму, которая каждое утро обращалась с молитвой к Иисусу. Феба ставила на жертвенники свежую воду, новые ароматические травы, потом зажигала их, чтобы возносить курения своим многочисленным каменным богам. Наверное, ее молитвы были такими же искренними, хотя ее вера и не помогала ей познать истину.
* * *
Марк прибыл в Рим с тем приятным чувством, которое знакомо всякому, кто возвращается домой. Он был полностью удовлетворен результатами своего многонедельного путешествия, поскольку сумел заключить договоры с несколькими крупными торговцами, с которыми в прошлом имел дело его отец. Прежде чем направиться домой, он зашел в бани, поскольку ему не терпелось смыть с себя пыль дорог и избавиться от усталости, накопившейся после долгих странствий.
Там он увидел Антигона, наслаждавшегося теплом воды и окруженного целой свитой подхалимов. Марк не обратил на них никакого внимания, а только вошел в воду, с наслаждением вздохнул и откинулся к краю бассейна, закрыв глаза и наслаждаясь приятной влагой.
Антигон отмахнулся от своих друзей и направился к нему.
— Долго же тебя не было, Марк. Надеюсь, поездка оказалась удачной?
Несколько минут они говорили о делах и о том, что Риму требуется все больше товаров.
— Видел я тут как–то Юлию с ее новым мужем, — сказал Антигон.
Марк моментально открыл глаза.
— С кем?!
— О, боги, да ты не знал об этом, — сказал Антигон. — Ну да, тебя же так долго не было. Ну что ж, расскажу тебе, что тут произошло за время твоего отсутствия. Несколько недель назад твоя дорогая сестра вышла замуж за Кая Полония Урбана. Меня на свадьбу не пригласили, поскольку я этого человека не знаю. А ты его знаешь? Нет? Жаль. Всем хочется его узнать, но никто о нем не знает ничего толком, кроме того, что у него, оказывается, много денег. Как он их получил, для всех большая тайна. Большую часть времени он проводит на зрелищах. Ходят слухи, что он был любовником Калабы Шивы Фонтанен.
— Извини, Антигон, — перебил его Марк, быстро выскочив из бассейна.
Он поспешил домой и увидел там мать и отца сидящими в триклинии. Мать, обрадовавшись его появлению, встала навстречу и обняла его. Марк поразился тому, что у отца поседели виски, а сам он заметно похудел.
— По пути сюда я зашел в бани и встретил там Антигона, — сказал Марк, сев с отцом и взяв кубок с вином, который налил ему Енох.
— И он рассказал тебе о том, что Юлия замужем, — сказал Децим, видя блеск гнева в глазах сына. — Жаль, что ты не пришел первым делом домой и не услышал эту новость от нас.
— Когда это произошло?
— Несколько недель назад, — сказала Феба, повернув лежащий на столе поднос так, чтобы куски нарезанного мяса были ближе к Марку, — Поешь что–нибудь, Марк. С тех пор как мы видели тебя последний раз, ты явно похудел.
— Что вы знаете об этом человеке? — спросил Марк, не притрагиваясь к еде.
— Он занимается торговлей и организовывает ее у северных границ, — сказал Децим. Он налил себе немного вина. — Кроме этого о нем практически ничего не известно.
— И вы разрешили Юлии выйти замуж за человека, о котором почти ничего не знаете?
— Мы интересовались Каем и выяснили, что смогли. Несколько раз мы приглашали его к нам, и он произвел впечатление человека интеллигентного, обаятельного, образованного. Твоя сестра без ума от него, и, как мы увидели, он также без ума от нее.
— Или от ее денег.
Децим посмотрел на него в упор.
— Так вот что тебя во всем этом бесит. Не то, что ты не оказался на свадьбе Юлии, а то, что ты рискуешь потерять возможность распоряжаться состоянием Клавдия?
Марк поставил кубок на стол и, едва сдерживаясь, проговорил сквозь зубы:
— Если ты не забыл, я взял на себя все эти дела, потому что ты был в Ефесе. Когда ты вернулся, ты сам сказал, чтобы я продолжал и дальше распоряжаться этим состоянием. Из того, что я сделал для нее, я не взял себе ни динария.
Децим вздохнул.
— Извини. Мы всегда знали о твоем отношении к делу. Я доверил тебе дела, потому что твои решения были разумными. Имущество Юлии в твоих руках было в безопасности. Но теперь нам не придется об этом беспокоиться.
— Не торопись, отец. Пока мне не станет ясно до конца, что муж Юлии не бездельник и мот, ему не видать денег Юлии.
— Но у тебя нет никаких законных прав на ее имущество, — твердо сказал Децим. — Когда Кай Полоний Урбан взял твою сестру в жены, он стал владельцем всего того, что ей принадлежит, в том числе и имущества Клавдия.
Марк подумал о Хадассе, и им овладело какое–то неприятное чувство. Ведь она тоже считалась имуществом Юлии. Кто такой этот Урбан, и какие чувства он будет испытывать к иудейской служанке молодой жены? Смущенный своими чувствами к юной рабыне, Марк скрыл их, снова заговорив о Юлии:
— А если она захочет оставить финансовые дела такими, как они есть?
— Юлия уже не имеет права принимать такие решения.
Феба встала и подошла к Марку.
— Стоит тебе увидеть, как Юлия счастлива с Каем, ты не будешь так сердиться по поводу решения своего отца дать согласие на этот брак.
На следующий день, после полудня, Марк отправился навестить Юлию. Когда он пришел на виллу Урбана, Юлия до сих пор была в постели, но как только ей сообщили о прибытии брата, она тут же поторопилась к нему.
— Марк! — закричала она, бросившись в его объятия. — О, как я рада тебя видеть!
Марк был немало удивлен, увидев сестру такой растрепанной. Неубранные волосы были не причесаны, лицо не умыто. Она выглядела усталой и понурой, как после большой попойки. На шее красовалось большое красное пятно, свидетельствующее о бурной и страстной ночи.
Он поглядел на Юлию весьма обеспокоенным взглядом.
— Можешь представить себе мое удивление, когда я вернулся домой и узнал, что ты уже замужем.
Юлия весело засмеялась.
— Извини, но я не могла тебя ждать. Тебя к тому дню не было уже два месяца, и ты не присылал никаких вестей о том, как скоро ты вернешься. Кай тебе понравится. У вас с ним много общего. Он обожает зрелища.
— Как ты с ним познакомилась?
Ее улыбка стала озорной, вызывающей.
— Нас познакомила Калаба.
Глядя на сестру, Марк в ярости сжал губы.
— Хорошие у тебя советчики, нечего сказать.
Юлия вырвалась из его объятий и отошла в сторону.
— Мне жаль, что ты ее ненавидишь, Марк, но для меня это теперь не имеет ни малейшего значения. — Повернувшись к нему, теперь она выглядела сердитой и готовой к защите. — Я теперь могу делать все, что мне хочется. И при выборе друзей я не нуждаюсь ни в твоих советах, ни в советах отца.
Марк сразу же увидел влияние Калабы.
— Я пришел сюда не для того, чтобы спорить с тобой. Я хочу убедиться в том, что ты счастлива.
Юлия гордо вздернула подбородок.
— Можешь в этом не сомневаться. Я в жизни еще никогда не была так счастлива.
— Ну что ж. Приятно слышать, — сказал Марк с плохо скрываемым раздражением. — Прими мои поздравления с тем, что избавилась от наших уз и вновь обрела свободу.
Маска пренебрежения моментально исчезла с лица Юлии, когда она увидела, что Марк направился к выходу. Она поспешила его остановить.
— О Марк, ну не будь ты таким занудой! Не успел прийти, как уже уходишь. Не уходи. Я этого не переживу. — С этими словами она обняла его так, как делала это, будучи еще маленькой девочкой, преклоняющейся перед старшим братом. На какое–то мгновение Марк смягчился. Юлия отступила на шаг. — Калаба тебе не нравится просто потому, что ты не знаешь ее так, как я. — Она взяла его руки в свои. — Я совершенно не похожа на свою мать. И ты знаешь это. Я не умею нужды других людей ставить выше своих. Мне хочется радоваться жизни так, как это делаешь ты, Марк. Сами боги свели вместе меня и Кая.
Марк внимательно изучал лицо сестры, стараясь найти в нем сияние счастья юной невесты, — и увидел наряду с этим опустошение жизни, проводимой в кутежах и оргиях. Нежно погладив ее по щеке, он спросил:
— Ты действительно счастлива?
— Да, конечно. Кай такой красивый и жизнерадостный. Когда его здесь нет, я ни о чем другом, кроме как о нем, не могу и думать, все время жду, когда он вернется. — Она перевела дух. — Ну не смотри на меня так, — смеясь, добавила она. — Пойдем, посидим в перистиле. Я еще не ела и умираю от голода. — Щелкнув пальцами, она подозвала одну из рабынь и приказала ей принести что–нибудь на обед.
Потом Юлия рассказывала о том, куда они с Каем ходили в гости. Марк подумал, что все эти места посещала и Аррия.
— Недавно видела Аррию, — сказала Юлия, как бы читая его мысли. — Она интересовалась тобой, расспрашивала меня о тебе. Сама привела какого–то гладиатора. Он был весь в шрамах, такой страшный.
Потом Юлия выговаривала рабыне за то, что та принесла совсем другую еду, после чего послала ее назад и приказала принести свежие фрукты и хлеб.
— Мне очень не хватает Хадассы, — недовольно сказала она. — Вот она всегда знала, чего я хочу. А эти такие глупые и еле шевелятся.
— А почему она не здесь? — как можно осторожнее спросил Марк, чувствуя, что его сердце забилось чаще, а на лбу выступил холодный пот.
— Кай не любит иудеев, потому что они слишком жеманные. Кроме того, она ему в частности не понравилась, потому что она такая непривлекательная.
Прежде чем Марк успел сказать что–то еще, к ним присоединился Урбан. Едва завидев его, Юлия вскочила и побежала ему навстречу. Он мимолетно поцеловал ее, посмотрел на нее с кривой усмешкой и что–то прошептал ей на ухо. Юлия слегка отстранилась и повернулась к брату.
— Марк, это Кай. Я вас пока оставлю, пойду приведу себя в порядок.
Она поспешно удалилась, оставив Марка наедине с Каем.
— Тебя, наверное, интересует, какую жизнь мы ведем здесь, если твоя сестра приветствует тебя едва ли не лежа в постели, — сказал Кай, направляясь к Марку.
Марку стало понятно, почему Юлия полюбила Урбана. Это был один из тех мужчин, по которым сходят с ума все женщины, — смуглый, хорошо сложенный, прямо–таки излучающий сексуальность. Его загадочная улыбка выглядела вызывающе. Марк ответил на нее своей улыбкой, подавив в себе стремление потребовать отчета о том, что этот человек сделал с Хадассой.
— Юлия много о тебе рассказывала, — сказал Урбан. — Послушать ее, так ты просто любимец богов, — с этими словами он прислонился плечом к одной из мраморных колонн и продолжал смотреть на Марка холодным взглядом.
— Младшим сестрам свойственно боготворить старших братьев.
— У вас существенная разница в возрасте.
— У нас было еще два брата, которые умерли от лихорадки. — Она не говорила мне о них.
— Она и не знала о них. А у тебя есть родственники, Кай?
Кай выпрямился и не спеша прошелся вдоль пруда. Долгое время тишину нарушало только журчание фонтана.
— Нет, — кратко ответил Урбан. — Их не было, до тех пор пока я не женился на Юлии. — Он улыбнулся, и Марку не очень понравилось выражение лица Кая. — Твои мать и отец приняли меня с распростертыми объятиями. — Продолжил он, все так же пристально глядя на Марка.
— А я с этим повременю, пока не узнаю тебя лучше.
Кай рассмеялся.
— Ты прямой человек, — сказал он. — Это интересно. — Тут в перистиль вошел раб и предложил Урбану вина. Кай кивнул в сторону Марка, и раб предложил вино и гостю. Марк отказался. Урбан попивал вино, внимательно глядя на гостя поверх своего серебряного кубка. — Я так понимаю, что ты распоряжался состоянием Юлии.
— Ты бы хотел знать его точные размеры?
— На твое усмотрение, — Кай отставил свой кубок в сторону. — Из того, что я о тебе слышал, я понял, что тебе бы этого не очень хотелось.
— Ты муж моей сестры. Ответственность за ее состояние теперь лежит на тебе.
— В самом деле. Это большие деньги. — В глазах Кая засверкала искорка азарта.
Марку было интересно, откуда он узнал о размерах состояния Юлии. Этого не знала даже она сама. Возможно, ему что–то рассказал отец, но Марк в этом сомневался. Отец наверняка сказал бы Марку об этом.
— Я думаю, мы могли бы с тобой договориться, — медленно произнес Кай. — Скажем, ты мог бы и дальше распоряжаться этим имуществом и выплачивать каждый месяц оговоренную сумму.
«Очень тонкий ход», — цинично подумал Марк.
— Я привык, чтобы мне платили за мои услуги, — сухо сказал он, не имея ни малейшего желания становиться лакеем Урбана.
— Даже твои родственники? — насмешливо спросил Кай.
— Процент с прибыли, — парировал Марк, — и большой процент.
Кай засмеялся и смягчил тон.
— Мне только было любопытно, что ты на это скажешь. Но я вполне могу распоряжаться нашими делами и сам. Ты знаешь, Марк, между нами много общего.
— Юлия уже кое–что сказала мне об этом. — От Урбана ему хотелось слышать об этом еще меньше.
Марк оставался в гостях ровно столько, сколько требовали правила приличия. Юлия вернулась в перистиль, одетая в дорогой наряд из тонкой шерсти. На ее шее красовались жемчужные украшения.
— Не правда ли, красиво? — сказала она, с гордостью показывая их брату. Это были самые дорогие украшения, которые только могла иметь женщина в те времена. — Кай подарил их мне в нашу брачную ночь.
Темные круги под глазами были искусно скрыты макияжем, а на бледные щеки и губы была наведена розовая краска. Если бы Марк не видел ее часом раньше, то не узнал бы, что она уже устала от тех вечеринок, на которые Урбан возит ее каждый раз поздно вечером. Ее оживленная болтовня начинала раздражать, а шутки Урбана были полны косвенных намеков. Не в силах больше оставаться здесь, Марк под первым же благовидным предлогом удалился.
Возвращаясь домой, он пребывал в депрессии. Войдя в дом, он отдал одежду Еноху. Затем он услышал голос отца в том помещении, где отец каждое утро встречался со своими патронами, и направился туда.
— Хадасса! — сказал Марк, завидев ее стоящей перед отцом и матерью. Но в следующее мгновение он пришел в замешательство. — Что тут происходит?
Децим повернулся к сыну и увидел на его лице такое выражение, которого никогда не видел раньше.
— Вития обвинила Хадассу в краже, — Децим никак не мог понять смысла этого обвинения. Теперь же он с возрастающим интересом наблюдал за тем, что Марк совсем не смотрит на египтянку, а смотрит только на Хадассу.
— В краже? — спросил Марк, отводя взгляд от Хадассы. Он почувствовал страх. Посмотрев на Витию, он увидел темный блеск ее глаз. Марку был очень хорошо известен этот взгляд, потому что он уже столько раз видел его у Аррии. Она просто сгорала от зависти. — А у Витии есть доказательства? — холодно спросил он.
— Мы только сейчас хотели спросить об этом, — сказал Децим. Феба, бледная и растерянная, сидела рядом с ним. Хадасса молча стояла перед ними с опущенной головой. В ней не было видно никакого стремления хоть как–то защитить или оправдать себя. Более того, до сего момента она вообще еще не произнесла ни слова. — Так какие у тебя доказательства против Хадассы? — спросил Децим у Витии.
— Я сама видела ее, — настойчиво сказала Вития и назвала имена еще двух рабынь в доме, которые могли бы подтвердить ее слова. Децим велел позвать их, и те подтвердили, что действительно видели, как Хадасса дала монету какой–то женщине на рынке.
Марк не мог поверить в услышанное. Вития выглядела самодовольной, тогда как другие свидетели соглашались с ней. В нем возникло чувство острой неприязни к ней, и теперь он не мог понять, что он нашел в ней в самом начале.
— Хадасса, — хмуро обратился к девушке Децим. Она подняла голову, очень бледная и напуганная. — Это правда? Ты действительно отдала кому–то монету на рынке?
— Да, мой господин.
Дециму очень хотелось, чтобы она солгала. Он тяжело вздохнул. Теперь ему предстояло ее высечь, и он думал о том, хватит ли ему сил для того, чтобы встать и наказать рабыню. Ему не нравилось выражение лица Витии. Он подозревал, что Вития просто недовольна тем, что сейчас им служит Хадасса, а не она.
— Вития, оставь нас. — Если уж придется сейчас наказать Хадассу, то Децим не хотел делать этого в присутствии злорадствующей рабыни. Других он также отпустил.
— Ты знаешь, что наказанием за это служит порка, — сказал Децим. Было видно, что Хадасса перепугалась, хотя и здесь она ничего не собиралась сказать в свое оправдание. Феба расстроилась еще больше.
— Децим, я не верю в то, что эту монету она украла у нас. Ведь она всегда возвращает нам все и во всем отчитывается…
Он властно поднял голову, и Феба замолчала. Ему самому было не по себе от того, что он должен был вершить сейчас самый настоящий суд, поэтому он сам обратился к Хадассе:
— Каждого раба, приходящего в наш дом, мы предупреждаем о том, какое его ждет наказание за воровство. Что заставило тебя отдать деньги, которые твоя хозяйка тебе доверила?
— Я лишь отдала ту монету, которую ты мне дал, мой господин.
— Монету, которую дал я? — нахмурился он.
— Пекулий, мой господин.
Децим заморгал в удивлении. Он каждое утро сидел на своем возвышении в этом помещении и раздавал монеты своим подопечным. Он раздавал также по кодранту каждому из своих рабов, и чуть больше Еноху и повару. И теперь ему не верилось, что рабыня дарит другим людям свой пекулий.
Феба снова наклонилась к Дециму и положила ему руку на плечо.
— Хадасса всегда отчитывалась мне за все деньги, которые я ей давала.
Нахмурившись, Децим стал пристально всматриваться в лицо Хадассы.
— Отдавала ли ты другим людям те деньги, которые тебе доверяла твоя хозяйка?
— Нет, мой господин. Только те монеты, которые ты мне давал как пекулий.
— Но зачем ты отдавала их?
— Я в них не нуждаюсь, мой господин, а та женщина нуждается.
— Что это была за женщина?
— Какая–то женщина на улице.
Марк, пораженный ее словами, подошел ближе.
— Ты рабыня, и у тебя ничего нет. Пекулий — это все деньги, которые у тебя есть. Почему ты не дорожишь ими?
Хадасса продолжала смотреть вниз, перед собой.
— У меня есть пища, мой господин, теплое место, где я могу спать, одежда. У той женщины ничего этого нет. Ее муж умер несколько месяцев назад, а сын служит легионером на германской границе.
Децим уставился на нее.
— И ты, иудейка, даешь деньги римлянке?
Хадасса подняла голову и посмотрела на него, ее глаза были полны слез. Она дрожала перед ним, но ей хотелось, чтобы он понял ее.
— Она была голодна, мой господин. Тех квадрантов, которые ты мне дал, было достаточно для того, чтобы она могла купить хлеба.
Децим откинулся назад, явно удивленный. Тот факт, что рабыня отдает те несколько монет, которые ей принадлежат, врагу своего народа, просто не укладывался у него в голове.
— Можешь идти, Хадасса. Пекулий принадлежит тебе, и ты вправе делать с ним все, что хочешь. Можешь отдавать его, кому хочешь.
— Благодарю тебя, мой господин.
Децим смотрел, как она уходит, потом повернулся к Фебе и увидел, что ее глаза тоже наполнились слезами. Он взял жену за руку. Она посмотрела на него.
— Если Вития снова обвинит ее в чем–то, я бы хотела попросить у тебя разрешения продать Витию.
— Если хочешь, можешь продать ее прямо сейчас, — сказал Децим и взглянул на Марка, — если только ты не захочешь взять ее на свою виллу, чтобы она грела там тебе постель.
Марк не знал, что отец настолько осведомлен о его личной жизни, и не хотел обсуждать с ним эту тему в присутствии матери.
— Спасибо, но я этого не хочу, — сказал он Фебе. Она встала и вышла.
Отец с сыном переглянулись. Марк сжал губы.
— В первый раз Вития сама пришла в мою комнату.
— Охотно верю, только не думаю, что точно так же поступит Хадасса.
Марк посмотрел на отца в упор и прищурил глаза.
— Что ты имеешь в виду?
— Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду, — ответил Децим. Он вздохнул. — Юлия вернула ее нам…
— Потому что Урбан не любит жеманных иудеев, — ироническим тоном перебил его Марк.
Децим блеснул глазами, но ничего не сказал в ответ на это удивительное откровение. Ему давно было интересно, почему Хадассу отослали обратно в его дом.
— Насколько я помню, точно так же высказывался и ты сам, когда твоя мать оставила ее у нас. Ты еще сказал, что она, наверное, ненавидит всех римлян. Еще ты сказал, что она такая страшная. — Децим видел, что Марку очень не хотелось это вспоминать, и слегка улыбнулся. — Но факт есть факт: Юлия вернула ее нам, и Хадасса теперь под моей защитой.
Марк засмеялся, услышав такое неожиданное заявление.
— И ты хочешь, чтобы я не смел прикасаться к ней, — сказал он, пытаясь придать своим словам форму шутки, но дрожь в голосе выдала его неискренность.
Децим помолчал с минуту, внимательно и хладнокровно глядя на Марка оценивающим взглядом.
— Твои эмоции пагубно влияют на нее, — сказал Децим и увидел, что эти тщательно подобранные слова лишь вогнали Марка в еще больший дискомфорт. — Я не верю в то, что у тебя что–то было с Хадассой. — Он поднял брови, дав понять, что эта фраза была в определенной степени вопросом.
— Нет, — твердо сказал Марк. — У меня ничего не было с Хадассой, отец. — Несмотря на всю твердость, беспокойство в голосе выдавало Марка. — Я никогда не заставлял женщин исполнять мою волю.
— Помимо физических, есть и другие средства принуждения, ты–то об этом прекрасно знаешь. Ты хозяин, она рабыня. Твоя мать никогда не одобряла твои связи с Витией или всеми теми, кто у тебя был до нее. Честно говоря, до сегодняшнего дня я никогда не думал об этом всерьез. Ты молод, Марк, полон жизненной энергии. Женщины всегда привлекали тебя. И всегда казалось естественным, чтобы ты искал удовольствий.
Децим встал со своего места и, спустясь по помосту, подошел к сыну.
— Но эта девушка не такая, — он покачал головой, до сих пор пораженный и озадаченный тем, что недавно произошло в этом помещении. — После всего того, что ей пришлось пережить, она отдает все свои деньги римлянке, матери легионера. — Он снова покачал головой и глубоко вздохнул.
Он посмотрел на Марка.
— Хадасса не похожа ни на кого другого. Она не похожа на всех тех, кто у нас служил или служит. — Она была не похожа ни на кого из тех, кого он вообще знал в своей жизни.
Протянув руку и пожав руку Марку, Децим сказал ему, одновременно и прося, и приказывая:
— Наслаждайся с кем хочешь… но только оставь эту девушку в покое.
После того как отец ушел, Марк сел на край помоста и обхватил голову руками. Он не дал отцу никакого обещания.
Да и как он мог это сделать, если все его мысли были только о Хадассе?
19
Разговаривая с Калабой, Юлия дрожала. Калаба всегда ее понимала. Она всегда была готова выслушать и дать практический совет. Она соглашалась с Юлией и выражала ей свое сострадание. Юлия доверяла ей во всем и рассказывала ей все, что происходит у нее в семейной жизни. Никому другому она не могла рассказать о Кае и о его постоянно нарастающей жестокости и чудовищных требованиях.
— Вчера вечером он снова меня ударил, — с этими словами Юлия осторожно прикоснулась к скуле. Повернувшись этой стороной к Калабе, она показала ей место удара. — Видишь? Вот здесь. За последние несколько месяцев я уже научилась наводить макияж. — Ее губы задрожали. — Калаба, я только спросила его: «Ну как, удачно прошли гонки?» — а он на меня как заорет, как начнет кричать, что это я виновата в том, что он проиграл там все деньги. Он говорит, что я приношу ему удачу, когда хожу с ним туда, и вот теперь он проиграл именно потому, что я осталась дома. Но я просто плохо себя чувствовала. Разве я виновата в этом? Он стал пугать меня, и я попыталась выйти из комнаты, но он схватил меня и ударил. Потом сказал, что никто и никогда еще не поворачивался спиной к Каю Полонию Урбану.
Калаба взяла ее руку в свою и погладила ее.
— Ты, Юлия, вправе знать все, что он делает с деньгами из твоего приданого.
— Только он так не считает. И мой отец полностью с ним согласен. — Глаза Юлии снова наполнились слезами. — В конце концов, я всего лишь женщина, — с горечью в голосе сказала она, — вещь, которой кто–то может пользоваться. — Закусив губу, она повернула голову в сторону и усилием воли постаралась взять себя в руки. — Иногда я трепещу, когда он смотрит на меня, потому что я до сих пор очень его люблю. Когда он прикасается ко мне и целует меня, мне начинает казаться, что я на небесах, Калаба. А в другие минуты я боюсь его, боюсь настолько, что мне хочется бежать от него хоть на край света. — Повернувшись к Калабе, Юлия заговорила дальше, и глаза ее были округленными и напуганными. — После зрелищ он становится просто диким. Он издевается надо мной, но самое страшное в том, что ему, кажется, это доставляет удовольствие. Он заставляет меня делать то, что я не хочу делать. — Она снова опустила голову, не в силах сдерживать рыдания.
Калаба приподняла ее за подбородок.
— Можешь рассказать мне все, — сказала она с улыбкой и как можно участливее. — Меня не так–то просто чем–то поразить, Юлия. В своей жизни я видела и делала столько, что ты вряд ли чем–то меня удивишь. — Оглядев синяк на скуле Юлии, она нахмурилась. — Если он просто кричит на тебя — это одно, но если он так бьет тебя, то он просто мерзавец. — Она встала со своего места. — Налью тебе немного вина.
Юлия слегка расслабилась. Калаба всегда относилась к ней с пониманием. Юлии просто не к кому было больше пойти. Она не могла ничего рассказать Марку, потому что эти два человека не любили друг друга. Марк просто придет в неистовство, если узнает, что Кай бьет ее. А такая конфронтация только усугубит ситуацию. Со своей матерью Юлия также не могла говорить об этом. Она не хотела говорить с матерью. Феба просто в ужас придет, если узнает, в каком направлении движутся аппетиты Кая, если вообще поверит в это. Слишком уж невинной выходила Юлия в этой истории. На помощь отца Юлия тоже не рассчитывала. Что бы ни делал Кай, отец во всем считал виноватой ее. У него всегда была наготове фраза типа: «А что ты сама сделала, чтобы все уладить?».
Слезы опять наполнили ее глаза и скатывались по щекам. Но Калаба не любила, когда Юлия проявляла слабость. Увидев, что Калаба возвращается, Юлия быстро вытерла глаза.
— Не знаю, что бы я делала без тебя, Калаба. Мне ведь больше и не с кем поговорить.
— Тебе вовсе не нужно сторониться меня, и я тебе всегда рада. — Калаба улыбнулась и протянула ей серебряный кубок. — Я добавила в вино успокоительные травы. — В следующее мгновение в ее голосе зазвучал жесткий упрек. — Не нужно быть такой неуверенной. Здесь ничто не причинит тебе зла. Пей. — Она приподняла свой кубок и слегка пригубила его. — Выпей, и тебе станет лучше.
Юлия, которой так хотелось успокоиться, жадно выпила свой кубок. Вино, приправленное травами, быстро возымело действие, Юлия сделала глубокий вдох, и напряжение покинуло ее.
— Ну вот, тебе стало лучше, правда? — сказала Калаба, сев рядом с ней. — А теперь расскажи мне все о том, что с тобой сделал Кай. Все в мельчайших подробностях. Возможно, тогда я смогу дать тебе дельный совет.
Юлия рассказала ей все. Слова лились из нее подобно гною из прорвавшегося нарыва. Она рассказала Калабе обо всех жестоких деяниях супруга и с удовлетворением увидела гнев в глазах своей подруги. Гнев стал закипать и в ней самой. Кай не имел никакого права так с ней обращаться. Юлия быстро поняла, что его показное богатство было не более чем притворством и что все дело было в ее состоянии. Они жили исключительно на те средства, которые ей достались от Клавдия. Кай должен был быть благодарен ей за это. Она заслуживала только уважительного отношения к себе.
— Каждое утро, когда я просыпаюсь, мне становится страшно от одной мысли о том, что он может сделать со мной.
— И ты говоришь, что по–прежнему любишь его? — спросила Калаба.
Юлия закрыла глаза и опустила голову, стыдясь своих чувств.
— Да, — тихо призналась она. — И от этого все становится только ужаснее. Я очень люблю его. Стоит мне его увидеть, и мое сердце… о, мое сердце…
— Даже когда он так обращается с тобой?
— Он не всегда такой жестокий. Иногда я вижу его таким, каким он был, когда мы с ним познакомились. О Калаба, иногда мне так хорошо с ним, что мне кажется, будто я лечу в облаках, — сказала Юлия. Ей хотелось, чтобы ее подруга поняла ее.
Калаба ее прекрасно понимала. Она очень хорошо знала Кая. Юлию она знала еще лучше. И он, и она были страстными людьми и эгоистами. В настоящий момент чувство восторга, которое они испытывали по отношению друг к другу, пока держало их вместе, но очень скоро на смену этому чувству придет разочарование и недовольство, и они начнут искать радость и восторг на стороне.
Впрочем, Кай уже начал вести такую жизнь, хотя Юлия еще и не знала об этом. За шесть месяцев, прошедших после свадьбы, Кай провел несколько часов с одной блудницей из дорогого борделя. Калаба узнала об этом от него самого. Кай во всех подробностях описал ей свои похождения, ожидая, что ей это покажется интересным и увлекательным. На самом же деле это показалось ей омерзительным, хотя она и не подала вида. Кай сказал, что развлекался с блудницей, потому что не хотел обижать свою жену, потому что любит Юлию и не хочет, чтобы его вторая натура вышла из–под контроля. Калаба одобрила его тайные похождения и его разговоры об этом с ней по одной причине: из–за Юлии.
Если бы она рассказала сейчас Юлии о неверности Кая, это могло бы уничтожить в Юлии последние остатки уверенности. Калаба этого не хотела. Лучше пока не вмешиваться в их отношения и предоставить им развиваться естественным путем, дав возможность Каю самому уничтожить в Юлии чувство любви. В конечном счете, Кай станет менее осмотрительным в своих похождениях. Когда–нибудь он сам начнет ими хвастаться.
А может быть, еще раньше Калаба намекнет на такое положение вещей кому–нибудь из подруг, например Октавии. Октавия мелочна и завистлива. Она наверняка обрадуется его неверности и не откажет себе в удовольствии рассказать Юлии о связях Кая с другими женщинами. Юлия ее за это возненавидит, но зато быстрее наберется житейской мудрости.
Но пока Юлия не узнала об истинной натуре Кая, Калаба хотела защитить ее от серьезных потрясений.
— Тебе не нужно враждовать с Каем или выводить его из терпения, Юлия, — сказала она. — Задавать вопросы тоже глупо. Ты ведь уже поняла, что это его только бесит. Никогда не конфликтуй с ним. Найди другие средства узнать о том, как он проводит время и как он расходует твои деньги.
— Что же мне, шпионов за ним посылать?
— Шпионов, — насмешливо повторила Калаба. — Вижу, что тебе это кажется чем–то ужасным. А я предпочитаю видеть в них своих друзей, которые за небольшую плату будут готовы помочь тебе.
— Ну… не знаю, — нахмурившись, нерешительно сказала Юлия.
— Подумай, — сказала Калаба и переменила тему. Семя было брошено, и оно рано или поздно пустит корни. Отвратительное поведение Кая будет выявлено. Недоверие — это благодатная почва, которую нужно возделывать, прежде чем на ней можно будет сажать и взращивать что–то еще. И урожай будет достоин ее терпения. Она по–дружески похлопала Юлию по плечу. — Возьми от меня то, что тебе нужно, Юлия, и забудь обо всем остальном. Я люблю тебя такой, какая ты есть, и не брошу тебя ни за что на свете. Я понимаю, что не все мои предложения приемлемы для твоей ситуации, но мне действительно больно знать, что ты испытываешь такие страдания.
Юлия успокоилась, услышав эти заверения, и допила вино. Она почувствовала себя удовлетворенной, хотя иногда ей было не по себе от пристального немигающего взгляда Калабы.
— Я устала, — сказала она. — В последнее время я постоянно чувствую усталость.
— Бедная моя. Приляг, отдохни.
— Нет, мне надо домой, — сонным голосом произнесла Юлия, — сегодня мы собирались в гости.
Калаба провела кончиками пальцев по бледному лбу Юлии.
— А ты хочешь идти в гости?
— Не знаю, — произнесла Юлия, чувствуя, как ее веки отяжелели, — я хочу спать…
— Так поспи, девочка моя. Делай то, что тебе хочется.
Юлии снилось, будто Хадасса гладит ее по лбу и поет ей песни о своем странном Боге. Никто в жизни не служил ей так хорошо, как эта маленькая иудейка. Сейчас Юлии так не хватало ее тихого присутствия, ее нежной заботы. Юлии не хватало ее историй и песен. Хадасса всегда знала, что ей нужно, а рабам Кая все время приходится приказывать. Даже во сне его рабы смотрели на Юлию немигающими мертвыми глазами, которые казались ей такими знакомыми. Похожими на глаза Калабы.
Калаба разбудила ее, когда было далеко за полдень.
— В моем паланкине тебя отвезут домой, — сказала она, — тебе не следует опаздывать.
Но было уже и так поздно.
Когда Юлия прибыла домой, Кай, разгневанный и подозрительный, давно ждал ее. Он уже давно прокрутил в мыслях все варианты, которые только могут возбудить в мужчине ревность.
— Где ты была? — Его сердце бешено колотилось, и он чувствовал, как гнев закипал в нем все сильнее, хотя он и не мог сказать, на кого больше злился, — на Юлию или на самого себя. И зачем он дал волю своим эмоциям и рукам прошлым вечером? Он никак не мог забыть выражение глаз Юлии, после того как ударил ее. А вдруг она ушла от него? — С кем это ты была весь сегодняшний день?
— Я была у Калабы, — сказала Юлия, отстраняясь от его прикосновения. — Ты делаешь мне больно!
Кай тут же отпустил ее.
— У Калабы, — произнес он, думая о том, что Юлия могла от нее услышать. Он сощурил глаза.
— Мы выпили немного вина, а потом я поспала у нее. — Юлия вздрогнула, когда Кай снова прикоснулся к ней, но на этот раз он был гораздо нежнее.
— Я уже боялся, что ты ушла от меня, — сказал Кай. Он приподнял ее лицо и повернул к себе. Кай знал, что она плакала. Ее глаза были слегка покрасневшими, а макияж был смыт слезами. Но даже в этот момент она была прекрасна. Он посмотрел на синяк на ее скуле и поморщился. Он никогда не хотел причинять ей боль. Просто иногда случалось так, будто какая–то сила вселялась в него и заставляла делать то, чему больше всего удивлялся он сам.
— Прости меня за вчерашний вечер. — На карие глаза Юлии снова навернулись слезы, и он от этого почувствовал себя еще хуже. — Я люблю тебя, Юлия. Клянусь тебе в этом перед всеми богами. Если ты меня не простишь, я сойду с ума…
Он целовал ее и чувствовал, как она сопротивляется. В нем росло чувство отчаяния.
— Я люблю тебя, я так люблю тебя, — шептал он и поцеловал ее так, как ей всегда нравилось. Спустя какое–то время Юлия стала более податливой, а к нему, вместе с волной радости и страсти, возвращались уверенность и сила. Она была в его власти постольку, поскольку он мог возбудить в ней страсть. Эрос всегда правил Юлией, как и Каем. В них было столько общего. Он взял ее на руки, и кровь в нем просто кипела. — Я все готов сделать для тебя.
Юлия любила Кая, когда он был таким, когда его страсть была направлена на то, чтобы доставить ей радость. Когда же любовная энергия в них иссякала, Юлия снова начинала чувствовать какую–то опустошенность, которая толкала ее к депрессии. К сожалению, все ощущения, вызывающие удовольствие, проходят.
Однако сейчас, стоя перед ней, Кай был удовлетворен. Он видел, как она нуждается в нем, по тому, как она смотрела сейчас на него. Он знал, что Юлия любит смотреть на него, — это лишний раз говорило о том, какой властью над ней он обладает.
Его губы скривились в насмешливой улыбке, и он подошел, чтобы еще раз поцеловать ее.
— Мне нравится, когда ты смотришь на меня так, будто я бог, — сказал он, уставившись на нее, как на какую–то ценную вещь.
Юлия с трудом скрыла свое раздражение по поводу его самодовольства.
— Мы сегодня идем куда–нибудь? У Антигона, признаться, очень скучно.
Кай надел тунику.
— Согласен, но он может быть очень полезен.
— Марк считает, что он вообще глуп.
— А я думал, что они друзья.
— Да, они друзья, но это еще не значит, что Марк не знает о его многочисленных глупостях. Этот Антигон только и говорит, что о политике да о нехватке денег.
— Проведи вечер с Аррией. Она же тебе нравится.
— Она все время расспрашивает меня о Марке. Тоже стала скучной и грустной.
— Но она обладает такими способностями… Даже удивительно, как Марк утратил к ней всякий интерес. — Кай повернулся к Юлии и увидел выражение ее глаз. Он засмеялся. — Да не смотри ты на меня так! Я слышал об этом от других, а не узнавал сам.
— А тебе хочется?
Он подошел к ней и наклонился, сказав с усмешкой:
— Нет, пока ты не перестанешь радовать меня, — тут ему снова бросился в глаза синяк на ее скуле. Он выпрямился, слегка поморщившись. Марк сегодня вечером не собирался к Антигону, но если бы сам Антигон увидел на скуле Юлии синяк, он непременно рассказал бы об этом Марку. Марк по этому поводу поднял бы такой шум, что Каю не поздоровилось бы в первую очередь.
— Ты выглядишь совсем уставшей, — сказал он, — останься дома и отдохни.
Юлии было приятно услышать от мужа такие заботливые слова, но его замечания по поводу Аррии по–прежнему были свежи в ее памяти. — Я действительно устала, но я, пожалуй, все же пойду.
Он поцеловал ее, на этот раз слегка.
— Нет. Я пойду к Антигону без тебя, а ему скажу, что ты сегодня отправилась навестить родителей.
Юлия встала и расправила свои волосы по плечам.
— Я не видела родителей уже несколько недель. Пойду к ним, пожалуй, завтра.
— Отдохни денек–другой, а потом иди, — сказал он. — Ты действительно выглядишь неважно. Я бы очень не хотел, чтобы у них сложилось неправильное представление о том, как мы живем. — Конечно, Каю не хотелось, чтобы они увидели синяк, который он ей поставил.
Сейчас Кай находился в таком прекрасном расположении духа, что Юлия решила сделать еще один смелый шаг.
— После того как я навещу их, мне бы хотелось вернуть сюда Хадассу.
— Хадассу? — спросил Кай без всякого интереса. — Кто это?
— Та рабыня, которую дала мне мать.
— А чем тебе не нравятся мои рабы?
Если Юлия скажет, что они плохо служат ей, Кай прикажет привести их сюда и начнет бить их в ее присутствии, а ей этого не хотелось.
— Хадасса всегда знает, что мне нужно. У меня никогда не было такой служанки.
Лицо Кая потемнело.
— Так ты говоришь о той маленькой иудейке? Но ты знаешь, что я не люблю иудеев. Они слишком много мнят о себе. Все время пекутся о чистоте.
— Ее вера никогда еще не мешала ей служить мне. А что касается чистоты, то я всегда отсылала ее к Клавдию.
Кай удивленно поднял брови.
— Он что, хотел ее? Насколько я помню, она такая страшная.
— Да нет, — сказала Юлия, видя, что ее ложь будет неубедительной. — Клавдий интересовался ею не в этом смысле. Он хотел с ней беседовать.
Кай рассмеялся.
— Вот что происходит, когда выходишь замуж за старого импотента.
Его смех раздражал, и Юлия пожалела о том, что упомянула о Клавдии. Ее первый брак забавлял Кая. На одном из пиров, которые они вместе посещали, Кай рассказал своим друзьям в форме анекдота о ее личной жизни — она, Юная Красотка, была вынуждена выйти замуж за Старого Дурака. Он придумал для своих друзей историю о старом импотенте, который искал в сельской местности юную красотку, и занимался этим до тех пор, пока, в конце концов, не свернул себе от усердия шею.
Поначалу история Кая представляла брак Юлии в смешном свете и была похожа на те комедии, которые они видели в театре. Однако, по мере того как эта история повторялась, юмор из нее постепенно исчезал. Теперь каждый раз, когда Кай смеялся над Клавдием, Юлии было стыдно. Клавдий не был таким старым и вовсе не был дураком. Он был достаточно умен, чтобы делать свой дом богаче, тогда как Кай умел только проматывать деньги на скачках.
— Я приведу Хадассу сюда, — сказала Юлия.
— И зачем она тебе так понадобилась?
— Те служанки, которых ты мне дал, свою работу делают бездумно, как животные какие–то. А когда тебя здесь нет, я умираю от скуки, потому что не знаю, чем заняться. Хадасса все время рассказывает мне интересные истории, поет песни. Она всегда знает, чего я хочу, еще до того, как я ее о чем–то попрошу.
Кай поднял брови и задумался.
— Ну, хорошо, — сказал он наконец. — Можешь привести ее сюда.
Как только он ушел, Юлия решила отправиться к родителям немедленно, чтобы повидать мать и отца, а потом привести с собой Хадассу. Она откинула помятое одеяло и приказала приготовить баню.
— Я надену лавандовый наряд, — сказала она одной из служанок, — приготовьте также аметисты и жемчуг.
Вымывшись и одевшись, она тщательно скрыла свой синяк. Будет лучше, если родители подумают, что у нее с мужем все прекрасно. Она надеялась, что Марка не будет дома. Он ее знал слишком хорошо, и его провести будет очень непросто.
Мать была рада видеть Юлию, обняла ее и стала задавать вопросы о ее семейной жизни, когда они пошли к отцу. Юлии было приятно видеть, как отец улыбнулся ей. Он тоже обнял ее и нежно поцеловал в ту щеку, которую она ему подставила. Децим выглядел худым и каким–то высохшим. Юлия задумалась было о том, насколько серьезна его болезнь, но тут же постаралась отбросить от себя эту мысль.
— Я так соскучилась по вас, — сказала Юлия, поняв, что это действительно так. Как странно, что она не понимала этого до того самого момента, пока не увидела их сейчас. Они были ей так дороги. И они, в свою очередь, любили ее.
Счастливая и радостная, Юлия рассказывала о тех пирах, на которых были они с Каем. Она говорила о зрелищах и гладиаторах, которых ей довелось видеть. Рассказала о дорогих подарках, которые Кай ей преподнес, и показала свои новые жемчуга. При этом она не сразу заметила беспокойство родителей или не сразу увидела, как нарастает их смятение, по мере того как она рассказывала им о своей новой жизни и о своем муже.
Она спрашивала родителей о том, что произошло за последнее время у них в доме, но все эти разговоры лишний раз напоминали ей, что ей надо поговорить с отцом и матерью еще кое о чем.
— Енох, принеси мне вина. Очень хочется пить, — сказала Юлия и, как только он принес ей вина, выпила половину кубка. — Х–м–м, это вино не такое хорошее, как то, что покупает Кай, но оно все же освежает, — сказала она и допила оставшееся в кубке вино. Увидев выражение лица матери, она хихикнула: — Мама, я ведь уже не ребенок. От одного кубка вина я не опьянею.
Децим задавал вопросы о Кае.
Феба приказала принести ужин.
— Садись сюда, Юлия, — сказала она, указав на место рядом с собой.
Юлия едва дотронулась до нарезанного мяса, фруктов и хлеба и продолжала рассказывать о тех деликатесах, которые она ест на пирах.
— Иногда я ем до тех пор, пока мне не покажется, что я вот–вот лопну, — засмеялась она. — Енох, еще вина.
— Ты выглядишь такой же стройной, какой и была всегда, — сказала Феба.
— Спасибо, мама, — сказала Юлия со счастливой улыбкой. Она не рассказала матери о том, как Калаба научила ее очищать желудок, чтобы не прибавлять в весе. Поначалу такая процедура казалась ей неприятной, но теперь ей достаточно было оказаться в уединении на несколько минут, чтобы запросто проделать эту процедуру. Сейчас Юлия просто старалась не есть слишком много. Кусок мяса она положила обратно на серебряный поднос и вместо него взяла виноград.
В комнату вошла Хадасса с двумя небольшими сосудами теплой воды и полотенцами. Увидев Юлию, она приветливо улыбнулась, но стала обслуживать Децима и Фебу. Юлия испытала досаду, когда увидела, что точно такой же сосуд для мытья рук ей принесла Вития. Хадасса ее, а не их служанка. Родители только одолжили ее.
Юлия вымыла руки, вытерла их и вернула полотенце Витии.
— Хадасса, собери свои вещи. Ты возвращаешься ко мне. — Почувствовав, какая наступила тишина после этих слов, Юлия с вызовом спросила: — Я что–то не то сказала?
— Хадасса, оставь нас, — мягко обратился к рабыне Децим.
— Делай то, что я тебе сказала, Хадасса, — сказала ей вслед Юлия, потом повернулась к отцу.
— Насколько я понял, у тебя сейчас более чем достаточно служанок, и в ней ты больше не нуждаешься, — сказал он.
— Юлия, — более конкретно обратилась к дочери Феба, — зачем тебе сейчас Хадасса, когда у тебя столько рабынь?
— Они не служат мне так, как я того хочу.
— Так научи их, — кратко и с досадой сказал Децим. Он видел блеск в глазах Хадассы. Хадасса была здесь счастлива. Она была лучше всех тех рабынь, которые были здесь до нее. И у Децима не было ни малейшего желания отсылать ее обратно к эгоистичной и своевольной дочери, тем более что у Юлии теперь было гораздо больше рабынь, чем ей было нужно.
— Я бы научила, если бы они умели хоть немного думать, — сердито произнесла Юлия. — Кая волнует только одно — чтобы они были красивыми. Большинство из них сродни эфиопке Октавии. Совершенно безмозглые. Одну из них я уже дважды отхлестала, а она все равно еле шевелится. А Кай не хочет, чтобы Хадасса мне прислуживала, потому что она иудейка, к тому же страшная.
— Ну и что с того, что она иудейка? — пожал плечами отец.
— И никогда она не была страшной, — вступилась за Хадассу Феба.
Юлия глянула на нее.
— Ты, мама, просто привыкла к ней.
— Не понимаю, что Каю не нравится в иудеях? — спросил Децим, и Юлия поняла, что наговорила лишнего. Она и сама не могла толком объяснить родителям, почему Кай не любит иудеев.
— Несколько его друзей погибли при осаде Иерусалима, — придумала она на ходу.
— Тогда Хадассе лучше всего остаться здесь, — сказала Феба.
Юлия так и вспыхнула от возмущения.
— Как ты можешь так говорить? Она моя. Ты сама мне ее отдала.
— Но ведь ты же ее вернула матери, — парировал Децим.
Юлия встала со своего места.
— Я не возвращала! Я только отдала ее на время. Я никогда тебе не говорила, что ты можешь взять ее насовсем, мама.
— Последние шесть месяцев она служила так хорошо, — тихо сказала Феба. — По–моему, просто непорядочно по отношению к ней передавать ее туда–сюда.
Юлия уставилась на мать, не веря услышанному.
— Непорядочно? Что значит непорядочно?! Она всего лишь рабыня! А как же я? Ты совсем не думаешь обо мне!
В этот момент в комнату вошел Марк, который тут же радостно улыбнулся сестре.
— То–то я гляжу, что разговор такой бурный, как в старые времена. Добро пожаловать домой, Юлия, — он подошел к ней и нежно ее поцеловал. — О чем здесь такой жаркий спор, сестрица?
— Они не отпускают Хадассу, — ответила Юлия, взглянув на отца. — Она принадлежит мне, и мама еще говорит о порядочности! Какая–то рабыня им дороже собственной дочери.
— Юлия! — возмущенно сказала Феба.
— Да, это так! — настаивала на своем Юлия, и ее глаза заблестели от слез. Она нуждалась в Хадассе, эта рабыня была ей нужна во что бы то ни стало. — Отец хоть раз спросил меня, все ли у меня в порядке? Он вообще знает о том, что мне приходится терпеть?
Децим нахмурился, с интересом наблюдая за таким всплеском эмоций.
— И что же тебе приходится терпеть? — спросил он ее сардоническим тоном, и Феба, дотронувшись до его руки, умоляющим взглядом попросила его помолчать.
Марк всмотрелся в лицо Юлии.
— Что с тобой случилось?
— Ничего, — ответила она, вся дрожа. — Ничего! — Потом она повернулась к матери. — Ты отдала ее мне.
— Да, это так, — сказала Феба, вставая и подходя к дочери. — Конечно, ты можешь забрать ее. — Она обняла дочь за талию и почувствовала существенную перемену в ее настроении. Фебе тут же показалось, что она знает истинную причину такого эмоционального состояния Юлии. — О, моя дорогая, мы даже не представляли, почему ты так в ней нуждаешься. Можешь взять ее с собой. — Она почувствовала, как Юлия тут же подобрела. — Хадасса очень хорошо служила нам, но у нас есть другие. — Она поцеловала Юлию в лоб. — Пойду, поговорю с Хадассой.
— Нет, — Юлия схватила ее за руку. Ей очень не хотелось оставаться наедине с отцом, к тому же она уже заметила, как смотрит на нее Марк своим острым, недоумевающим и в то же время подозрительным взглядом. — Пошли к ней Марка. Пусть он прикажет ей собраться. Через несколько минут мне уже надо возвращаться домой, и эти минуты я хочу провести с тобой… и с отцом.
Марк увидел Хадассу сидящей в перистиле. Когда он подходил к ней, его пульс забился чаще. Она встала, и все ее поведение говорило о послушании. Марк вдруг подумал о том, как много раз хотел поговорить с ней. Иногда он просыпался рано утром только для того, чтобы посмотреть, как она молится на восходе солнца своему Богу. В такие минуты искушение подойти к ней становилось почти невыносимым. Но он знал, что отец прав. Она была совершенно не похожа на всех остальных. И если он будет относиться к ней так, как относился ко всем остальным служанкам, это погубит ее. Он сам не мог понять, что с ним происходит, но факт остается фактом — он дал слово оставить ее в покое.
— Мать сказала, чтобы ты собрала свои вещи. Ты идешь с Юлией.
— Да, мой господин, — сказала Хадасса и уже хотела идти собираться.
— Постой, — взволнованным голосом произнес Марк. — Хадасса, посмотри на меня. — Когда она подняла голову и взглянула ему в глаза, он увидел ее печаль, и ему захотелось прикоснуться к этой девушке. Но вместо этого он сказал резким тоном: — Ты ведь не хочешь уходить отсюда, разве не так? — это прозвучало как обвинение, и взгляд Хадассы стал испуганным. Марк уже давно не видел у нее такого взгляда, и, испытывая угрызения совести, он импульсивно обхватил ладонями ее лицо. — Я ни в чем не виню тебя. Ты хорошо служила нам. Не бойся, можешь сказать мне правду. — Ее кожа была такой мягкой, ему так захотелось погладить Хадассу по щекам, по волосам. Его руки стали вдруг жесткими. Когда он теперь сможет ее увидеть? Он не хотел ее отпускать.
Хадасса, смущенная его прикосновением, слегка отстранилась. Если бы у нее был выбор, она, конечно, осталась бы здесь, с Фебой и Децимом. Она была бы рядом с Марком. Ему очень нелегко. Жизнь была для него войной, и каждый его успех был для него битвой, в которой нужно одержать победу. Но, может быть, то, что она уходит, — к лучшему. Она не имела права полюбить его, но чувство росло в ней с каждым днем. Кроме того, она дала Фебе слово, что будет заботиться о Юлии. И, конечно, о Юлии тоже нужно было подумать. Что–то тут было не так. В какой–то момент Хадасса поняла, что жизнь Юлии с Урбаном не столь удивительна и прекрасна, как это описывала Юлия.
— Я нужна госпоже Юлии, мой господин.
Марк почувствовал ее желание уйти к себе и отпустил ее. Отвернувшись, он ощутил разочарование.
— Моему отцу ты нужна не меньше, — «И мне тоже», — подумал он, понимая, как ее присутствие подействовало на него.
Хадасса опустила голову.
— Рядом с ним всегда твоя мать, мой господин.
Он снова взглянул на нее острым взглядом.
— А о Юлии может позаботиться Урбан и добрая дюжина рабов.
— Тогда почему она пришла за мной? — мягко спросила Хадасса.
Марк снова повернулся к ней.
— Ты не доверяешь Урбану точно так же, как и я.
— Я не могу судить, мой господин, — осторожно сказала она.
— Но у тебя ведь есть свое мнение обо всем, разве не так? Ты боишься его?
— Он не обратил на меня никакого внимания.
— Он обратил на тебя внимание, и ты об этом знаешь. Он не захотел, чтобы ты служила Юлии, — сказал Марк. И тут ему стало не по себе. — А что, если Юлия начнет посылать тебя к нему, как когда–то к Клавдию? Урбан явно не будет расположен к мудрым беседам.
Услышав его предположение, Хадасса покраснела.
— Она не любила Клавдия, мой господин. Но этого человека она любит.
Марк глубоко вздохнул. Конечно, Хадасса была права, и он с облегчением вспомнил о том, что его сестра действительно не испытывала к своему первому мужу никаких нежных чувств. Более того, Юлия его просто ненавидела. А вот по Каю она прямо с ума сходит. Поэтому было маловероятно, что она пошлет к нему рабыню вместо себя. И даже если в какие–то минуты ссор или непонимания в Урбане или Юлии могло пробудиться чувство гнева, все равно вряд ли Урбан мог принять вместо своей жены кого–то еще. Марк не думал, что Кай был таким же понимающим, уступчивым или гибким, как Клавдий.
Кроме того, Кай тоже с ума сходил по Юлии, когда она была рядом. Это сразу бросалось в глаза, когда Марк был несколько раз в тех же местах, куда приходили и они и где он мог наблюдать за ними. Более того, от их проявлений страсти Марку становилось даже неловко. Это не имело ничего общего с теми проявлениями любви, которые он видел в отношениях своих отца и матери. Между его сестрой и Урбаном было что–то нехорошее и в то же время сильное. И вот теперь Хадассе предстояло жить в том доме.
Хадасса посмотрела на Марка и увидела его беспокойство. Она знала, насколько Марк любит свою сестру. Он был верным и любящим братом. Она взяла его руку в свои ладони.
— Поверь мне, мой господин. Я тоже ее люблю. И буду заботиться о твоей сестре настолько, насколько у меня хватит сил.
— Но кто позаботится о тебе?
Она удивленно посмотрела на него, и ее щеки покраснели. Она отпустила его руку.
В бессильном гневе Марк отвернулся и пошел обратно в дом. Юлия пила вино и, когда он вошел, повернулась к нему.
— Где Хадасса? — спросила она требовательным и властным тоном, который подействовал на его и без того расшатанные нервы.
— Не смей говорить со мной таким тоном. Я тебе не прислуга. Глаза у Юлии расширились.
— Я вижу, что мне здесь никто не рад, — сказала она и опустила свой кубок на стол с таким стуком, что вино пролилось через край. Несколько капель оказалось на ее одежде, и она издала капризный звук, говорящий о ее глубоком разочаровании. — Ну вот, посмотри, что происходит. — Она попыталась оттереть пятна, но они уже впитались в тонкую шерсть. — Кай подарил мне этот наряд несколько дней назад! Марк не раз видел капризы Юлии и раньше, но этот ее эмоциональный взрыв не был похож на них. От гнева Марка не осталось и следа.
— Но это всего лишь несколько капель вина, Юлия.
— Но наряд пропал. Он пропал!
В этот момент в комнату вошла Хадасса, держа в руке небольшой узелок — одну смену белья. Увидев, в каком состоянии пребывает Юлия, она оставила свои вещи и подошла к ней. Наклонившись, она посмотрела на наряд Юлии.
— Не волнуйся, моя госпожа. Я знаю, как избавиться от этого пятна. Все будет как новое. — Юлия посмотрела на нее, и Хадасса увидела у нее на скуле синяк, который Юлия так тщательно скрывала. Взглянув в глаза своей хозяйке, Хадасса увидела и поняла очень многое. — Я рада, что ты пришла за мной, госпожа Юлия, — мягко сказала она. — Я с большой радостью буду снова служить тебе.
Юлия крепко взяла Хадассу за руки.
— Мне так не хватало тебя, — прошептала она, и ее глаза наполнились слезами. — Ты мне нужна. — Она заморгала, пытаясь стряхнуть слезы, чтобы их не видели ни родители, ни брат. Отпустив руки Хадассы, она решительно встала со своего места, снова всем улыбаясь.
Только после того как Хадасса и Юлия ушли, Марк обратил внимание на узелок, оставленный у двери.
— Хадасса забыла свои вещи. Занесу их завтра.
Децим посмотрел на него.
— Думаешь, это разумно?
— Может быть, и нет, — задумчиво сказал Марк, — но мне хочется узнать, что происходит у них в доме, почему Юлия в таком состоянии. А тебе?
— А ты думаешь, Хадасса за один вечер узнает?
— Нет, но я думаю, что Юлия, возможно, будет откровеннее, если сможет поговорить со мной наедине.
Децим кивнул.
— Пожалуй, ты прав.
— Лучше не торопись говорить с ней, Марк, — сказала Феба. Она опустилась на диван, широко улыбаясь. — Я думаю, вы просто зря беспокоитесь. И думаю, что у Юлии нет ничего такого серьезного, о чем мы бы не узнали в течение ближайших месяцев.
Децима удивила беспечность Фебы.
— Тогда почему она в таком состоянии? Рассорилась с Каем?
— Нет, — глаза у Фебы засияли, когда она взяла мужа за руку, — просто, как мне кажется, наша дочь ждет ребенка.
От неожиданности Децим даже издал короткий смех.
— Но она, наверное, дала бы нам об этом знать.
— Во многом она еще сама ребенок, Децим. Думаю, она сама еще не знает, но это только мои предположения. Я навещу ее завтра. У меня есть к ней вопросы, которые я хотела бы ей задать, чтобы во всем убедиться самой.
Децим снова удивленно посмотрел на свою жену. Она говорила совершенно серьезно.
— Ребенок, — задумчиво произнес он. Готовый поклясться всеми богами, он понял, что ради этого стоит жить.
Марк хотел надеяться на то, что мать ошибается. Глядя на счастливые лица своих родителей, он испытывал серьезные сомнения в том, что его сестра обрадуется такой новости.
Более того, он просто был уверен в том, что для Юлии это станет настоящей трагедией.
20
Юлия горько плакала.
— С тех пор как я сказала Каю о ребенке, он вообще перестал со мной разговаривать. Он не ходит со мной на зрелища или в гости к тем, кто нас приглашает. Как будто я одна виновата в своей беременности, а он вообще к этому не причастен!
Калаба шептала ей утешительные слова.
— Он вообще считает меня уродиной, — сказала Юлия сквозь слезы.
— Он сам тебе это сказал? — спросила Калаба, зная, что Кай способен и не на такое.
— Да ему и не надо ничего говорить, Калаба. Я это и так чувствую каждый раз, когда он на меня смотрит. — Юлия сжала руки. — Я знаю, что он проводит время с другими женщинами, — сказала она и встала. Она отвернулась, потому что не хотела, чтобы Калаба видела ее лицо, и прижала руки к груди, как будто это могло остановить боль. — Вчера ко мне приходила Октавия.
Калаба слегка откинулась назад, и на ее лице появилась сардоническая улыбка.
— Дорогая, миленькая Октавия. Ну, и что она тебе поведала?
— Она с превеликим удовольствием рассказала мне, что видела Кая флиртующим с дочерью сенатора Евсевия. Она сказала мне, что они куда–то удалились, и добавила, что уединились они явно не для политических бесед. — Тон Юлии был полон горечи и сарказма. — Ты можешь себе представить, что она заявляется ко мне и рассказывает подобное? Я ее ненавижу, Калаба. Слышишь, я ненавижу ее. Клянусь всеми богами, мне так хочется, чтобы они наслали на нее самые страшные проклятия! Ты бы только видела, с каким злорадством она все это говорила.
— И это еще не все, — продолжила Юлия гневным тоном. — Она мне похвасталась, что ходит в лудус и видится с Атретом. — Переменив тему, Юлия совсем забыла о Кае. — Но ведь я увидела его первой. Знаешь ты об этом? Я видела его на дороге возле Капуи еще до того, как он стал знаменитым, и вот теперь она видится с ним чуть ли не каждый день, тогда как я заперта на этой проклятой вилле, как пленница. Она сказала…
— «Она сказала, она сказала…» — воскликнула Калаба, стараясь встряхнуть Юлию. Ей был знаком тот гладиатор, о котором говорила Юлия. Горы мускулов, красоты и страсти. Самый настоящий варвар. И что Юлия в нем нашла? Калаба никак не могла этогопонять. Это было просто непостижимо. — Почему тебя так волнует, что тебе говорит Октавия, Юлия? Да кто она такая? Взбалмошная мелочная шлюха, которая до смерти завидует тебе. Неужели ты так этого и не поняла? Она была влюблена в Кая, а он даже в ее сторону не смотрел. Он на минуту показался в этой комнате, а она уже и растаяла.
— Я не могу больше говорить, — только и смогла ответить Юлия, испытывая гнев и жалость к самой себе.
— Никогда не надо отчаиваться, Юлия, и прекрати паниковать, не будь сумасбродкой. Ты меня уже раздражать начинаешь. Иди сюда, сядь, и поговорим обстоятельно. — Юлия послушно подошла, села, и Калаба взяла ее за руку. — Ты хочешь ребенка?
Юлия отдернула руку и снова встала.
— Да ты что? Какой ребенок?! Ведь тогда вся моя жизнь пропала. Я и так по утрам встать не могу. У меня уже давно круги под глазами, потому что я ночами не сплю, думая о том, что там делает Кай, когда его нет дома. К тому же я страшно толстею.
— Ты вовсе не толстая, — сказала Калаба, довольная тем, как Юлия быстро забыла об Атрете. Она разгладила сделанную из тонкой шерсти тогу Юлии и невольно залюбовалась подругой. Юлия была такой красивой, грациозной в своих движениях — настоящее произведение искусства. Калаба могла сидеть и часами без устали смотреть на нее. Мысль о ребенке, который испортит ее фигуру, показалась Калабе отвратительной. — Сколько уже времени?
— Не знаю. Не помню. Никогда не задумывалась над этим, пока не прекратился цикл. Думаю, месяца три, может быть, четыре. Ты действительно считаешь, что я не толстая? — спросила Юлия, поглядев на свои руки, которые она положила себе на живот. — Или говоришь это только для того, чтобы утешить меня?
Калаба посмотрела на нее оценивающим взглядом.
— Ты выглядишь немного усталой, измотанной, но никто не подумает, глядя на тебя, что ты ждешь ребенка. Пока…
— Пока, — мрачно повторила Юлия. — Ну почему это произошло со мной именно тогда, когда я почувствовала себя по–настоящему счастливой? Где справедливость? Мама сказала, что боги улыбаются мне. Как же, улыбаются! Да они смеются надо мной! По–моему, я даже слышу их смех.
— Ну, так покончи с этим, — сказала Калаба своим рассудительным тоном, скривив губы в блаженной улыбке.
— С чем мне покончить? — равнодушно спросила Юлия, снова вытирая слезы. — Со своей жизнью? Неплохая мысль. Я и так уже практически не живу.
— Не говори ерунды. Я советую тебе прервать беременность. Разве тебе нужен ребенок, который сделает тебя несчастной?
Юлия даже подняла руки в знак удивления.
— Но как?
— Какой же ты еще ребенок, Юлия. И зачем только я время на тебя трачу? Неужели ты никогда не слышала об аборте?
Юлия побледнела и уставилась на Калабу тревожным взглядом.
— Ты хочешь сказать, что мне следует убить собственного ребенка?
Вздохнув, Калаба встала, испытывая раздражение.
— Хорошо же ты обо мне думаешь! Я никогда в жизни не толкну тебя на такое. Но сейчас, в настоящий момент, на ранней стадии беременности, то, что в тебе, еще нельзя назвать человеческой жизнью. Оно не обладает никакими человеческими качествами и не будет обладать еще несколько месяцев.
Юлия засомневалась.
— Мать и отец так обрадовались этой новости. И то, что во мне, они считают живым ребенком.
— Разумеется. Это очень тонкий способ заставить тебя делать то, что хочется им. Они хотят, чтобы ты рожала им внуков.
Юлия отвернулась от темных завораживающих глаз Калабы.
— Никто из них не одобрит аборт.
— А им какое до всего этого дело? — сказала Калаба. Она стояла, приняв властную позу, потом подошла к Юлии. — Меня вообще бесит такой образ мыслей. Неужели ты не понимаешь, чего они хотят, Юлия? Неужели не видишь ничего? Лишая тебя возможности выбирать, они лишают тебя права заботиться о своем физическом, умственном и эмоциональном здоровье. Ради какого–то символа они хотят лишить тебя всего человеческого.
Обняв ее одной рукой, Калаба продолжила:
— Юлия, поверь мне, я желаю тебе только добра. И ты знаешь это. Мы говорим сейчас о твоей жизни, а не о жизни твоей матери. И не о жизни твоего отца. Твоя мать делала свой выбор, и он был хорош для нее. — Она отпустила Юлию. — А теперь тебе пришло время сделать свой выбор. Кто ты? Что ты хочешь? Юлия, посмотри мне в глаза. Посмотри мне в глаза, дорогая. Тебя явно пугает эта беременность. Кай не хочет ребенка. Он ясно дал тебе это понять. Если он не хочет ребенка, и если ты его также не хочешь, тогда зачем он тебе?
— Просто я не думала, что с этим можно что–то сделать, — сказала Юлия, вся дрожа под пристальным взглядом Калабы.
— Твое тело принадлежит тебе, Юлия. И только тебе решать, будет у тебя ребенок, или нет. Никто за тебя это не сделает.
— Да, но отец никогда мне этого не простит…
— А зачем твоему отцу вообще что–то знать об этом? Это же не его дело, разве не так? И если тебя начнут расспрашивать и тебе придется что–то им отвечать, можешь им сказать, что у тебя был выкидыш. Юлия устало вздохнула.
— Не знаю, Калаба. Не знаю, что делать. — Она выглянула в сад и стала наблюдать, как Хадасса подстригает там цветы. Как может кто–то оставаться таким спокойным, когда в доме такое происходит? Как бы ей хотелось выйти сейчас на солнышко, посидеть с Хадассой, послушать ее песни и забыть обо всем на свете. Как бы ей хотелось забыть выражение лица Кая, когда она сказала о своей беременности.
«Как ты могла додуматься до такой глупости?!» — до сих пор звенели у нее в ушах его слова, а на смену им пришли слова Октавии, которая с таким весельем передала ей новость: «Не могу сказать, занимались они любовью или нет, но отсутствовали они довольно долго».
Кай гулял на стороне. Юлия была в этом просто уверена. Он уже несколько недель не спал с ней, но его страстная натура при этом никуда не делась и заставляла его искать приключений с кем–то еще. Найти женщин ему не доставляло особого труда. Как и в случае с Марком, женщины гурьбой вились возле мужа Юлии.
Чтобы не заплакать снова, Юлия закусила губу. Она не хотела беременности, не хотела, чтобы в ее жизни наступили радикальные перемены. Она не хотела становиться толстой и некрасивой и потерять Кая. Она только хотела найти выход из сложившейся ситуации, чтобы все проблемы исчезли, и жизнь опять стала такой, как прежде. Юлии невыносима была сама мысль о том, что Кай изменяет ей, хотя, с другой стороны, она вряд ли нашла бы в себе силы удержаться от желания снова оказаться в его объятиях, пусть и не сейчас, когда она еще не отошла от новостей о его измене. В одном Юлия не сомневалась — ей очень хотелось, чтобы Кай снова смотрел на нее так, как раньше, — как если бы она была самой красивой женщиной в мире, а он бы желал ее.
Юлия уставилась на Хадассу. А что бы она сказала обо всем этом? Юлии захотелось поговорить с ней.
Тут подошла Калаба, которая сразу отвлекла внимание Юлии от сада и Хадассы.
— Милый мой ребенок, неужели за несколько недель ты забыла все то, чему я тебя учила? Хозяином своей судьбы можешь быть ты и только ты. И никто другой.
Юлия слегка вздрогнула, будто внезапно подул прохладный ветер. Калаба была права. Это единственный выход. И все же Юлия пребывала в нерешительности. Внутренний голос призывал ее не делать этого.
— При аборте испытываешь сильные боли? — тихо спросила она.
— Не сильнее, чем при родах, — ответила Калаба.
На смену неопределенности пришел страх.
— Ты так говоришь, будто сама это знаешь.
— Чтобы знать о том, что смерти нужно избегать, не обязательно умирать самому, — улыбнулась Калаба. — Я всегда тщательно избегала беременности. Мне никогда не хотелось быть настолько толстой, чтобы не видеть собственных ног и не ожидать от будущего ничего, кроме боли. Мне довелось видеть роды, и скажу тебе, Юлия, что это мучительное, непристойное и кровавое зрелище. Длится оно часами. Некоторые женщины, даря жизнь своим детям, умирают. Ну, а те, которые выживают, всю свою оставшуюся жизнь превращают в каторгу. Знаешь ли ты, какая это ответственность — растить ребенка? Мужчины в этом деле не помогают. Они и не должны этого делать. Кай уж точно тебе не поможет. Так что воспитание и обучение твоего ребенка целиком ляжет на твои плечи.
Юлия опустилась на диван и закрыла глаза, пораженная той ужасной картиной, которую только что нарисовала Калаба. После нестерпимой боли наступит жизнь, полная каторжного труда.
— Но моя мама никогда не говорила мне, что существуют способы избежать беременности.
— Она и не скажет никогда! — сказала Калаба полным жалости тоном. — Для нее это просто немыслимо, Юлия. Твоя мать до сих пор держится за старые традиции, придуманные и навязанные ей теми бездумными поколениями, которые жили еще до нее. В детях она видит весь смысл своего существования. — Калаба села и взяла Юлию за руку. — Разве ты этого до сих пор не понимаешь? Традиции веками порабощали женщин. И вот настало время нашей свободы, Юлия. Разорви свои оковы! Наступает новый век.
Юлия вздохнула.
— Мне так не хватает твоей мудрости, Калаба, и твоей уверенности.
Калаба улыбнулась и поцеловала Юлию в щеку.
— Начнешь ли ты когда–нибудь понимать те великие истины, которым я тебя учила в последние месяцы?
— Скажи мне, что я должна сделать, — умоляла Юлия.
— Ты должна сама принимать решения, родная моя, — Калаба встала и, подойдя к окну, выглянула в сад. Она казалась такой волшебной и красивой, и в то же время настолько таинственной, особенно в солнечном свете, который сейчас ее окружал. — Ты, Юлия, должна планировать свою жизнь, чтобы она была такой, какой ты сама хочешь ее видеть. Представь ее воочию. Держи свою жизнь в сознании, делай все для того, чтобы твои планы исполнились. — Она оглянулась на Юлию. — Твое счастье скрыто в тебе самой и зависит от твоей внутренней силы.
Юлия слушала ее, и уверенный тон Калабы давал ей надежду.
— Я знаю, что ты права. — Юлия вздохнула и посмотрела в сторону, задумчивая и потрясенная. — Единственным выходом является аборт. — Она сцепила руки перед собой. — Трудно найти того, кто сможет это сделать?
— Вовсе нет. К аборту сейчас прибегают многие. Лично я знаю нескольких врачей, которые делают аборты каждый день.
— Но это болезненно?
— Будет неприятно, но несильно и недолго. На все уйдет несколько часов, после чего ты вернешься к той жизни, которой ты хочешь. — Калаба подошла, села рядом с Юлией и положила свои руки на нее. — Когда ты хочешь все сделать?
Юлия посмотрела на нее, побледнев.
— Наверное, через неделю, или две.
— Очень хорошо, — тихо вздохнув, сказала Калаба и убрала руки. — Только учти, Юлия, чем дольше ты будешь тянуть, тем большему риску себя подвергнешь.
Страх снова охватил Юлию.
— Тогда, может быть, сделать это прямо сейчас?
— Это нужно сделать как можно скорее. Если я обо всем смогу договориться, то завтра утром.
— Куда мне надо будет пойти?
— Никуда. Я знаю одного врача, который сам сможет прийти к тебе.
Калаба встала, и Юлия сжала ее руки, глядя на нее широко раскрытыми глазами, полными страха.
— Ты ведь будешь со мной, пока все не будет кончено.
Калаба ласково дотронулась до ее щеки.
— Я сделаю все, что ты хочешь, Юлия.
Калаба наклонилась и нежно поцеловала Юлию.
— В отличие от других, я тебя никогда не предам. Я не твой отец и не Кай. — Она выпрямилась и улыбнулась, посмотрев на Юлию сверху вниз. — Ты приняла мудрое решение. После аборта ты вообще про него забудешь и снова начнешь свою жизнь. Я научу тебя избегать беременности в дальнейшем.
Юлия смотрела, как Калаба уходит. Оставшись в одиночестве, она уткнулась лицом в ладони и заплакала.
* * *
Хадасса знала, что, пока у Юлии гости, она должна оставить хозяйку. Ожидая, когда ее позовут, Хадасса занялась другими делами. Сегодня она работала в саду вместе с Сергием, рабом из Британии. Когда Юлия в конце концов вышла, Сергий постарался заняться делами подальше от дома и от хозяйки, на садовой дорожке, чтобы не страдать от ужасного характера Юлии.
Хадасса расстроилась, снова увидев Юлию в слезах. Всякий раз, когда в гости приходила Октавия, хозяйка становилась взволнованной, эмоциональной, легко впадала в гнев и рыдания. Визит Калабы, очевидно, тоже не улучшил ее состояние. Юлия села в солнечном месте и пожаловалась, что ей холодно. Хадасса накрыла ее своей шалью, но Юлия продолжала дрожать.
— Как ты себя чувствуешь, моя госпожа? Это ребенок?
Юлия вся напряглась. Ребенок. У нее еще не было никакого ребенка. Так сказала Калаба.
— Спой мне, — кратко приказала Юлия, кивнув в сторону маленькой арфы, лежавшей рядом. К инструменту был приделан кожаный ремень, поэтому Хадасса могла всюду носить его с собой, снимая только тогда, когда работала или спала. Юлия смотрела, как Хадасса взяла арфу в руки и стала нежно перебирать пальцами струны. Приятная мелодия успокаивала расшатанные нервы Юлии.
Хадасса пела, но обратила внимание, что Юлия едва слушает ее. Взгляд у хозяйки был какой–то отрешенный, даже безумный. Руками она перебирала свою одежду, а потом сцепила их так, что побелели костяшки пальцев. Отложив в сторону инструмент, Хадасса подошла к Юлии, опустилась на колени и взяла ее руки в свои.
— Что тебе не дает покоя?
— Эта… эта беременность.
— Ты боишься? Прошу тебя, не бойся, моя госпожа, — сказала Хадасса. — Ведь это самое естественное явление в нашей жизни. Господь улыбнулся тебе. Ребенок — самое великое благословение, которое Бог только может дать женщине.
— Благословение? — недоуменно спросила Юлия.
— Ты же носишь в себе новую жизнь…
Юлия отдернула руки.
— Да что ты в этом понимаешь? — Она встала и отошла от Хадассы. Сдавив руками виски, она попыталась совладать со своими эмоциями. Настало время, когда она уже не должна реагировать на происходящее вокруг по–детски. Калаба была права. Она сама должна стать хозяйкой своей жизни.
Юлия оглянулась на Хадассу, которая по–прежнему стояла на коленях возле мраморной скамьи, и чьи карие глаза были полны обеспокоенности и сострадания. Юлия прижала руку к сердцу и почувствовала невыразимую жалость. Хадасса любит ее. Вот почему Юлия так нуждается в этой рабыне. Вот почему она забрала Хадассу у матери и отца. Губы Юлии скривились в горькой ухмылке. Какая–то злая ирония была в том, что такую бескорыстную любовь к ней проявляет рабыня. Не ее родители. И не Кай.
— Ты не понимаешь, что мне приходится испытывать, Хадасса. Ты не знаешь, каково все время чувствовать себя больной и уставшей, видеть, что ты не нужна своему мужу. Что ты знаешь о той любви к мужчине, какой я люблю Кая?
Хадасса медленно встала. Она внимательно всматривалась в лицо своей хозяйки, не понимая отчаяния, которое та испытывала.
— Ты носишь в себе его ребенка.
— Ребенка, которого он не хочет, который разлучает нас. И не говори мне о том, что это благословение богов, — сердито добавила Юлия.
— Время все покажет, моя госпожа. — Неужели у Юлии нет глаз и ушей, чтобы видеть и слышать Господа и понять, что на ней благословение?
— Время ничего не изменит, — сказала Юлия. — Только усугубит положение. — Калаба была права. Она должна сама стать хозяйкой своей судьбы. Но она боялась того решения, которое приняла. Ее одолевали сомнения. Если это стало повсеместной практикой, значит ли это, что Юлия поступает правильно? А если она поступает правильно, тогда почему ее грызут сомнения?
Существуют ли вообще такие понятия, как хорошо или плохо? Разве наши поступки не продиктованы обстоятельствами? Разве счастье не является главной целью нашей жизни?
Юлии хотелось, чтобы Хадасса поняла, что она сейчас испытывает. Ей хотелось, чтобы Хадасса сказала, что все будет хорошо, что решение сделать аборт разумно. Юлии хотелось, чтобы Хадасса сказала: то, что Юлия собирается сделать, остается единственным способом вернуть их прежние отношения с Каем. Но когда Юлия посмотрела в глаза этой маленькой иудейки, она не смогла произнести ни слова. Она так и не смогла ничего сказать. В том, что Калаба считала всего лишь символом, Хадасса видела жизнь.
Но кому интересно мнение какой–то рабыни? Она ничего не знает. У нее ничего нет. Она всего лишь рабыня, одержимая своим невидимым Богом.
— Ты называешь это благословением, потому что кто–то сказал тебе, что это благословение, — сердито сказала Юлия, стараясь как–то оправдать свое решение. — Ты только повторяешь то, что слышала. Все, о чем ты поешь и о чем говоришь, — это только повторение чьих–то слов и мыслей. Разве не это ты говорила Клавдию? Цитировала свое Писание и рассказывала ему истории. Своих мыслей у тебя никогда не было. Так как ты можешь понять, через что мне предстоит пройти, какие решения я должна принять?
Резкий разговор с Хадассой не принес Юлии облегчения. Она даже почувствовала себя еще хуже.
— Я устала. Я хочу пойти в дом и отдохнуть.
— Я принесу тебе немного подогретого вина, моя госпожа.
Благородство Хадассы было для Юлии солью на свежие раны, и она ответила слепой раздражительностью:
— Не приноси мне ничего. Не нужно никому ко мне приходить. Оставьте меня все в покое!
Кай пришел домой далеко за полдень. Он пребывал в ярости, и Юлия поняла, что он снова проиграл на гонках колесниц. Его злоба нарастала до тех пор, пока Юлия не отреагировала на это злой иронией:
— Когда я была рядом с тобой, тебе всегда везло.
Кай повернулся в ее сторону и посмотрел на нее глазами, полными темной ярости.
— Твое счастье, что ты богата, моя дорогая, иначе я никогда и не посмотрел бы в твою сторону.
Его жестокие слова были подобны пощечине. Юлия с трудом смогла перенести боль обиды. Неужели это правда? Нет, это невозможно. Он просто пьян. Вот почему он и говорит так жестоко. Он всегда был жесток, когда напивался. Юлии хотелось нанести ответный удар, заставить его самого задыхаться от бессилия, но она не могла придумать для этого достаточно сильного хода. Глядя на нее, Кай улыбнулся своей холодной и насмешливой улыбкой, которая полностью ее разоружила. Он был неуязвим и прекрасно знал это.
Налив себе полный кубок вина, Кай тут же его осушил. Потеряв всякое самообладание, он швырнул свой кубок в дальний конец комнаты. Кубок с грохотом ударился во фреску с изображением веселящихся женщин и сатиров, заставив Юлию вздрогнуть.
— Надейся лучше на то, чтобы я дальше был удачливее на гонках, — сказал Кай, оставляя ее одну.
Калаба пришла ранним утром. С ней была небольшого роста римлянка в белой тоге, отороченной золотом. Ее сопровождал раб, держащий в руках зловещего вида ящик.
— Не нужно ничего бояться, Юлия, — сказала Калаба, взяв руку Юлии в свою. — Асселина в этом деле большой специалист. Она проделывала это много–много раз. — Через мраморный зал они прошли в покои Юлии. — Ее репутация безупречна, и она пользуется большим уважением среди коллег. Об аборте она написала в прошлом году большой труд, и он сейчас очень популярен. Так что не беспокойся ни о чем.
Асселина приказала одному из рабов Кая приготовить жаровню и следить за тем, чтобы в комнате было достаточно тепло. Ее раб поставил ящик на пол. Открыв его, Асселина достала из него какую–то амфору. Вылив в кубок ее содержимое, Асселина смешала его с вином и протянула Юлии.
— Выпей.
К вкусу сладкого вина примешивалась какая–то горечь.
— Все до конца, — сказала Асселина, настояв на том, чтобы Юлия выпила весь кубок, — все до капли. — Она стояла, наблюдая за Юлией, после чего взяла из ее дрожащих рук пустой кубок и отдала его рабу. — Раздевайся и ложись.
Юлию охватила паника. Калаба подошла и помогла ей.
— Все будет хорошо, — приговаривала она, помогая Юлии раздеться. — Поверь мне. Расслабься. Тебе же будет лучше.
Асселина внимательно осмотрела Юлию, что–то ввела в нее и оставила. Потом выпрямилась, вымыла руки в сосуде с водой, который держал ее раб.
— Срок у нее больше, чем ты говорила.
— Она сама не знает, — тихо сказала ей Калаба.
Асселина взяла полотенце и снова подошла к Юлии. Глядя ей в глаза, она улыбнулась. Передав полотенце рабу, она положила руку на лоб Юлии.
— Скоро, моя дорогая, почувствуешь спазмы. Это неприятное ощущение будет длиться до тех пор, пока твой организм не отторгнет зародыш. Несколько часов, не больше. — Отойдя от Юлии, она взглянула на Калабу. — На минуточку…
Стоя возле двери, они оживленно разговорились. Калаба явно была недовольна.
— Но мы так не договаривались, — донеслись ее слова до Юлии.
— Прости, но меня ждут другие, а ты настаивала, чтобы все прошло быстро. Чтобы прийти сюда, мне пришлось изменить свои планы.
Калаба вернулась к Юлии и наклонилась над ее головой.
— Юлия, извини, но мне надо у тебя спросить. У тебя сейчас есть на руках какие–нибудь деньги?
— Нет. Всеми деньгами распоряжается Кай.
— Плохо, тебе надо с этим бороться, — разочарованно произнесла Калаба. — Но сейчас уже ничего не поделаешь. Пока не раздобудем деньги, придется отдать ей твои жемчужные украшения.
— Жемчужные украшения? — спросила Юлия.
— Только до тех пор, пока я не поговорю с Каем и не выужу у него то, что нужно будет заплатить Асселине за работу. Не смотри на меня так. Не время сейчас беспокоиться о том, вернутся к тебе твои украшения или нет. Получишь их обратно завтра днем. Обещаю тебе. Где они?
Асселина покинула виллу с жемчужными украшениями Юлии.
Спазмы у Юлии начались примерно через час, и были они сильными и частыми. Юлия корчилась от боли, все ее тело быстро покрылось холодным потом.
— Ты же говорила, что это не больно, — застонала она, вцепившись пальцами в покрывало и сжимая его в своих руках.
— Ты слишком напряжена, Юлия. Расслабься, и будет не так больно. Держись спокойнее. Слишком быстро они начались.
Когда спазмы кончились, Юлия задыхалась в слезах. — Как жаль, что мамы нет рядом, — она вертела головой из стороны в сторону и застонала снова, когда спазмы вернулись. — Хадасса. Позовите Хадассу.
Хадасса пришла сразу же, как только ее позвали. Едва войдя в покои Юлии, она сразу почувствовала что–то неладное.
— Твоя служанка здесь, Юлия. Постарайся успокоиться.
— Моя госпожа, — сказала Хадасса, испуганно склонившись над Юлией. — Что–то с ребенком?
— Тише ты, дура, — зашипела на нее Калаба, сверкая своими темными глазами и отталкивая ее. — Принеси теплую воду и полотенце. — Она снова склонилась над Юлией, и ее тон стал мягким и сладким. Положив руку на белый живот Юлии, Калаба улыбнулась. — Уже почти все, Юлия. Осталось совсем немножко.
— О Юнона, смилуйся надо мной… — простонала Юлия, сжав зубы и корчась от приступов невыносимой боли.
— Может, послать за доктором? — спросила Хадасса, наливая теплой воды в большой сосуд.
— Доктор уже был, — ответила Калаба.
С очередным приступом боли Юлия снова застонала:
— Да я никогда не пошла бы на это, если бы знала, что это такое. О Юнона, смилуйся, смилуйся…
— А вынашивать ребенка и рожать его легче? Уж лучше сейчас от него избавиться.
Хадасса побледнела. Она невольно вскрикнула, сосуд водой выпал из ее рук, и осколки рассыпались по полу. Калаба стала сверлить ее своим страшным взглядом, и Хадасса смотрела на нее с ужасом.
Калаба быстро встала, подошла к служанке и дала ей пощечину.
— Не стой, когда твоя госпожа страдает. Делай, что тебе говорят. Принеси другой сосуд и налей в него теплой воды.
Хадасса с готовностью выбежала из комнаты. Прижавшись к холодной мраморной стене, она закрыла лицо руками. За закрытой дверью продолжали раздаваться крики Юлии, и Хадассе было не по себе от этой агонии. Хадасса побежала и наполнила в банях огромный кувшин, затем устремилась обратно.
— Вот и все, Юлия, — говорила Калаба, когда Хадасса снова вошла в покои. — Срок беременности у тебя был больше, чем ты думала. Поэтому все прошло так тяжело. Тише, тише, не надо больше плакать. Все кончено. Больше ты никогда не будешь так страдать, как сегодня.
Тут она заметила Хадассу, стоявшую в дверях.
— Не стой там, милочка. Неси сюда воду. Кувшин поставь здесь, рядом с кроватью. А это подбери с пола и выброси.
Не в силах смотреть на Юлию, Хадасса опустилась на колени и осторожно подняла с пола небольшой кровавый комок. Потом она встала и молча вышла из комнаты. Калаба проводила ее до входа в покои, после чего плотно закрыла за ней дверь.
Пораженная происшедшим, Хадасса стояла в зале. Выбросить это. Она прижала комок к сердцу, и у нее перехватило горло. «О Боже…» — сокрушенно прошептала она. С полными слез глазами она пошла в сад.
Хадассе хорошо были известны все дорожки в саду, и она пошла по одной из них, ведущей к цветущей сливе. Опустившись на землю, она бережно держала перед собой этот комок, раскачивалась из стороны в сторону, и плакала. Потом она руками вырыла в мягкой почве ямку и положила в нее никому не нужного ребенка. Закопав его, она аккуратно заровняла землю. «Да примет тебя Господь на небеса, и ангелы воспоют тебе…»
Обратно в дом она не пошла.
* * *
Марк решил навестить Юлию. Едва войдя в дом, он почувствовал напряженную тишину, и когда его проводили в покои Юлии, он увидел, что она до сих пор в постели. Она улыбнулась ему, но в этой улыбке он не увидел прежнего веселья. Взгляд у нее был глубоко несчастным.
— Что случилось, дорогая сестрица? — спросил Марк и подошел к ней. Наверное, до нее дошли слухи о неверности Кая или о его последних неудачах на гонках колесниц. Юлия выглядела бледной и подавленной. — Ты не заболела? — Рядом с ней стояла служанка, готовая выполнить ее приказания, но это была не Хадасса.
— Сегодня утром я осталась без ребенка, — сказала Юлия, стараясь не встречаться с Марком взглядом и невольно поглаживая свой накрытый покрывалом живот. Боли уже не было, лишь огромная слабость давила на нее. Юлия никак не могла избавиться от ощущения пустоты и утраты, и теперь она чувствовала, что ее лишили не только зародыша. Она остро чувствовала, что у нее отобрали частицу ее самой, и теперь она понимала, что этой частицы у нее больше никогда не будет.
Марк осторожно повернул лицо сестры к себе и пристально посмотрел на нее.
— Ты что же, сделала аборт?
На ее глазах заблестели слезы.
— Кай не хотел ребенка, Марк.
— Это он тебе велел сделать аборт?
— Нет, но что я могла еще сделать?
Марк нежно дотронулся до ее щеки.
— С тобой все в порядке?
Она слабо кивнула и отвернулась.
— Калаба сказала, что через несколько дней мне станет лучше. Она говорит, что депрессия в таких случаях — вполне естественное явление. Это пройдет.
Калаба. Как же он сразу не догадался? Марк осторожно убрал волосы со лба Юлии и нежно ее поцеловал. Затем он отошел от кровати, потирая шею. Если он сейчас скажет что–нибудь против Калабы, Юлия только сильнее сдружится с ней. Во многом Марк и Юлия были схожи. Она не любила, когда ей диктовали.
— Но ведь ничего страшного не произошло, Марк? В том, что я сделала, нет ничего плохого?
Марк знал, что ей хотелось, чтобы он согласился с ней в том, что касается аборта, но он не мог. Он всегда старался избегать таких тем, потому что ему в таких случаях становилось не по себе. Однако Юлия нуждалась в утешении. Марк снова подошел к ней и сел рядом.
— Успокойся, малышка. Ты сделала лишь то, что до тебя делали сотни других женщин.
— Кай снова будет со мной. Я это знаю.
Марк сжал губы. Он пришел, чтобы поговорить с сестрой о Кае, но теперь понял, что сегодня такого разговора не получится, иначе ей станет еще хуже. Не нужно ей было сейчас знать, что финансовые потери в результате проигрышей Кая достигли ужасающих размеров. Но даже если она узнает, что она сможет сделать, чтобы повлиять на него?
— Я скажу матери и отцу, что у тебя не будет ребенка и что тебе нужно время, чтобы отдохнуть и поправиться. — Юлии сейчас совершенно не стоит встречаться с ними. Отцу достаточно будет взглянуть на нее, как он сразу поймет, что она не может избавиться от чувства вины. И тогда начнутся расспросы, которые неминуемо закончатся истерическими исповеданиями. Разлад в семье и без того висел над всеми тяжелым грузом, поэтому не было нужды добавлять к нему то, что произошло сегодня.
Марк взял Юлию за руку и крепко сжал ее.
— Все будет хорошо. — Он считал во всем виноватым Кая, потому что именно Кай заставил Юлию думать, что она своим поступком вернет его любовь к ней. Марк стер со щеки Юлии слезу и в задумчивости растер ее пальцами. Ему хотелось отомстить Каю, но все его действия сейчас обернутся против Юлии. Он почувствовал себя бессильным в возникшей ситуации. — Тебе сейчас лучше поспать, Юлия. — Он поцеловал ее руку. — Завтра я тебя снова навещу.
Когда он вставал, Юлия двумя руками взяла его руку.
— Марк. Пожалуйста… Посмотри, где Хадасса. Калаба выпроводила ее отсюда… — Юлия вдруг замолчала, опустив глаза. — И она так и не вернулась. А мне хотелось бы, чтобы она спела мне что–нибудь.
— Хорошо, я найду ее и пришлю к тебе.
Он вышел в перистиль. Несколько рабов стояли возле фонтана и о чем–то тихо переговаривались. Едва увидев его, все разошлись заниматься своими делами.
— Ты не видел рабыню Хадассу? — спросил Марк того, кто чистил облицовку бассейна.
— Она ушла в сад, мой господин. С тех пор не возвращалась. Марк спустился в сад и начал искать Хадассу. Когда он ее увидел, она сидела на коленях, согнувшись и низко склонив голову, ее лица видно не было.
— Тебя зовет Юлия, — сказал ей Марк. Хадасса не подняла головы. — Ты слышишь? Тебя зовет Юлия.
Тогда она что–то произнесла, но Марк не расслышал. Она подняла руки над головой, и он увидел, что они в земле. Он закрыл глаза.
— Да, я знаю, — сказал он, поняв, куда ее посылали. — Теперь все кончено. Постарайся забыть об этом. Через день–другой Юлия будет в полном порядке, и Кай не будет сердиться на нее. Никто из них не хотел ребенка.
Хадасса повернулась к нему. Стекавшие слезы проделали на ее грязных щеках светлые бороздки. Ее глаза были полны горя и ужаса. Она встала на ноги, и Марк ужаснулся при виде кровавых пятен на ее грязной тунике. Она вытянула руки перед собой, уставившись на них. Все ее тело дрожало.
— Она сказала: «Выбрось это». Крохотного ребенка, завернутого в какую–то тряпку и брошенного на пол, как ненужный мусор. Ребенка…
— Выкинь все это из головы. Не думай об этом больше. Юлия сама больше уже не переживает. Он еще и не был ребенком…
— О, Боже! — Хадасса впилась руками в свою грязную тунику. — Не был ребенком, — повторила она слова Марка, простонав от горя и посмотрев на него в бесконечном отчаянии. — «Ибо Ты устроил внутренности мои, и соткал меня во чреве матери моей… Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было…»
Марку стало не по себе. Она говорила, как оракулы в храме, а ее глаза сейчас просто пугали его.
— Прекрати!
Но ее слезы потекли еще сильнее, и она, отвернувшись от него, заговорила по–арамейски:
— «Иешуа, Иешуа, шалох хем кий мах казу ло яден», — сокрушенно произнесла она. — «Иисус, Иисус, прости им, ибо не знают, что делают».
Марк схватил Хадассу за плечи.
— Прекрати сейчас же! Я тебе приказываю! — Он хотел только вывести ее из транса, но она посмотрела на него совершенно ясными глазами.
— Неужели вы, римляне, настолько глупы, что в вас нет страха? Бог знает, когда воробей садится на ветку. Неужели вы думаете, что Бог не знает, что вы делаете? Неужели вам так дороги мелочные удовольствия, что ради них вы готовы убивать собственных детей?
Марк отпустил Хадассу и отступил назад. Она сделала шаг вперед, схватившись за его белую тунику своими грязными, окровавленными руками.
— Неужели в вас нет страха?
Он схватил ее руки и отстранил от себя.
— Почему я должен чего–то бояться? — Марку не было никакого дела до ее Бога, но ее обвинение оказалось для него болезненным и привело в ярость. — Это тебе надо бояться. Для рабыни ты говоришь слишком дерзко. Или ты забыла об Иерусалиме? Что–то я не слышал, чтобы римлянка убивала своего младенца, чтобы сделать из него жаркое на обед!
Его слова не испугали Хадассу.
— Да, Марк, это мерзость перед Богом! Но разве можно сравнить женщину, обезумевшую от голода, с тем, что творилось здесь? Что заставило Юлию, окруженную всеми удобствами, пойти на это? Она же в здравом уме. Она все это обдумала. Она сделала свой выбор.
— Но что ей оставалось делать? Она не хотела этого ребенка, как и Кай. Их браку грозила опасность.
— А после убийства ребенка все будет хорошо? Неужели вы убеждены в том, что если чего–то не хотите, то имеете полное право уничтожать это? Неужели человеческая жизнь для вас ничего не стоит? Неужели вы думаете, что Юлию никто не осудит?
— И кто же ее осудит? Может, ты?
— Нет, — сказала Хадасса. Ее лицо исказила гримаса горя, и слезы снова потекли по ее щекам. — Нет! — Она покачала головой, закрыв глаза. — Я не вправе никого осуждать, что бы кто ни делал, но я так боюсь за нее. Бог свидетель. — С этими словами она закрыла лицо руками.
«Опять этот ее Бог и Его жуткие законы», — подумал Марк, с жалостью глядя на нее.
— Хадасса, тебе не нужно бояться за Юлию. Здесь не Иудея. Ее не выведут на улицу и не побьют камнями. Римляне — цивилизованный народ. У нас нет законов, карающих женщин, сделавших аборт по своей воле.
Глаза Хадассы сверкнули, раньше Марк никогда не видел ее такой.
— Цивилизованный! А как же Божий закон? Или вы думаете, что Он вас не осудит?
— Ты очень беспокоишься о том, что подумает твой Бог. Думаю, Ему нет до всего этого никакого дела.
— Вы так думаете, потому что не верите в Его существование. Вы поклоняетесь богам, которых сотворили собственными руками и по собственным представлениям, но не верите во Всевышнего Бога, Который сотворил вас из праха и дал вам жизнь. Но в конце концов настанет день, когда не будет иметь никакого значения, верите вы в Него или нет, Марк. Есть закон, который выше человеческого, и никакой император, никакие ваши легионы, никакие ваши знания не смогут устоять…
Марк закрыл ей ладонью рот, чтобы больше никто ее не услышал.
— Замолчи! — Хадасса стала сопротивляться, и он увел ее в сторону, чтобы никто не увидел их со стороны дома. — Ты что, с ума сошла, Хадасса? Не смей больше говорить о твоем проклятом Боге! — Приказал он, чувствуя, как бешено колотится его сердце. Ее слова здесь могли быть расценены как вопиющее богохульство и могли стоить ей жизни.
Он продолжал держать ее, зажимая ей рот, давая этим понять, что она больше не должна произносить ни слова.
— Прислушайся к здравому смыслу! Какая существует в мире сила, кроме Рима, Хадасса? Какая еще сила на земле может с ней сравниться? Или, может быть, этот твой Всемогущий Бог настолько силен? Где же Он был, когда ты в Нем нуждалась? Спокойно смотрел, как война разрывает на части Иудею, как Его город и Его храм превращаются в руины, а Его народ — в рабов. И это Всемогущий Бог? Нет. Это Тот Бог, Который тебя любит? Нет! Это Тот Бог, Которого я должен бояться? Никогда в жизни!
Хадасса молчала, глядя на него с какой–то непонятной жалостью. Марк говорил с ней мягко, желая ее вразумить. Его рука была мокрой от ее слез. Он продолжал говорить с ней, сохраняя такой же мягкий, даже доброжелательный тон:
— Нет на земле другой такой власти и силы, которой обладает римский император. Только на этой империи и держится наш мир. Пакс Романа, Хадасса. Вот что для нас является самым дорогим. И вера во что–то еще — это лишь мечты раба о свободе, путь к смерти. Иерусалима больше нет. От него ничего не осталось. Твой народ рассеян по всей земле. И забудь ты о Боге, Которого нет, или Который, даже если Он и есть, хочет уничтожить Свой избранный народ.
Он медленно убрал руку и увидел на лице Хадассы отпечатки своих пальцев. — Я не хотел причинить тебе боль, — сказал он. Хадасса была такой бледной и неподвижной.
— О Марк, — тихо сказала она, глядя ему прямо в глаза, как бы умоляя его о чем–то.
Ни одна женщина никогда не произносила его имя так сладко.
— Забудь ты о вере в своего невидимого Бога. Нет Его.
— А вы видите тот воздух, которым дышите? Вы видите ту силу, которая движет волны, или меняет времена года, или заставляет птиц прилетать сюда зимой? Неужели Рим со всеми его знаниями так глуп? О Марк, Бога нельзя загнать в каменный памятник. Его нельзя ограничить храмом. Его нельзя заточить на вершине горы. Небеса — это Его престол, а земля — Его подножие. Все, что вы видите, принадлежит Ему. Империи возникают и гибнут. Вечно живет только Бог.
Марк уставился на нее, загипнотизированный ее словами, не в силах сказать ничего в ответ, пораженный тем, с какой верой она это говорила. Ничего из сказанного Марком не доходило до нее. Внезапно, подобно набежавшей волне, его охватил страх за эту иудейку, и вместе с этим чувством он почувствовал яростный гнев, вызванный ее упрямой верой в какого–то невидимого Бога.
— Юлия попросила меня разыскать тебя, — медленно произнес он. — Ты будешь служить ей так, как всегда служила, или мне придется подыскать ей вместо тебя кого–то другого?
Хадасса сразу переменилась. Могло показаться, будто она набросила на себя какую–то завесу. Она склонила голову и сложила перед собой руки. Все свои чувства и убеждения она теперь скрыла в себе. Да, будет лучше, если она оставит их при себе.
— Я пойду к ней, мой господин, — тихо сказала Хадасса.
Мой господин. Он снова был ее хозяином, она снова была рабыней. Марк опять почувствовал разделяющую их пропасть, как будто его охватил порыв ветра. Он выпрямился, посмотрел на Хадассу сверху вниз и холодно сказал:
— Прежде чем идти к ней, умойся и переоденься. Ничто не должно напоминать Юлии о том, что она сделала. — Он повернулся и ушел.
Хадасса проводила его взглядом, и ее глаза горели от слез. Над садом подул легкий ветерок.
— Иешуа, Иешуа, — прошептала Хадасса, закрыв глаза. — Будь милостив к нему. Будь милостив к Юлии. О Господи, будь милостив к ним всем.
21
Атрет провел руками по волосам. Он почти не обращал внимания на стук кованой обуви стражника, проходящего по железной решетке у него над головой. Атрет настолько привык к этому звуку, что эти шаги мешали ему только в том случае, если он спал. Вслед за тяжелыми шагами сверху показалась тень стражника. Не находя себе покоя, Атрет встал в своей темной камере, думая лишь о том, скоро ли рассвет. Уж лучше бы он был сейчас во дворе и изнурял себя безжалостными тренировками. Уж лучше бы он держал меч в руках. Нахлынувшие воспоминания о темных лесах его родины были просто невыносимыми, и ему казалось, что в своей тесной каморке он сойдет с ума.
Он взял в руки стоящую в угловом алькове каменную статуэтку. Держа ее перед собой, он провел пальцами по множеству грудей и животу женской фигурки. Тиваз изменил ему в Германии, и теперь ему необходимо было поклоняться какому–то другому богу. Наверное, он будет поклоняться ей. Артемида возбуждала в нем самые сладострастные чувства. Бато говорил, что за определенную плату жрицы храма помогают приходящим в храм «поклоняться богам». Атрет как–то посетил храм Исис и вышел оттуда пресыщенным плотскими утехами, хотя в глубине души и испытывал какое–то беспокойство от этого визита. Женщины тоже приходили туда поклоняться, и за дополнительную плату им были доступны жрецы. Рим жил своими радостями.
Свет факелов мерцал над головой Атрета, до него доносились голоса разговаривающих стражников. Он поставил идола обратно, в альков, и сел на свою каменную скамью. Откинувшись назад, к холодной стене, он закрыл глаза и снова увидел во сне, как мать пророчествовала ему перед погребальным костром: «Женщина с темными волосами и темными глазами…». Этот сон не снился ему уже несколько месяцев, с ночи накануне того дня, когда он убил Тарака и увидел двух молодых женщин возле дороги на Капую. Но теперь этот сон показался ему таким ярким и реальным, что даже голос матери отдавался эхом. Та женщина, о которой говорила мать, казалось, была рядом.
В Риме полно женщин с темными волосами и темными глазами. Многие из тех женщин, которые посещали пиры накануне зрелищ, были невероятно красивы. Некоторые из них предлагали Атрету себя. Чтобы побольнее обидеть их, он не оказывал им никаких знаков внимания. То, что он испытывал терпение императора, приносило ему удовлетворение. Атрет уже не боялся, что его распнут или бросят в яму к диким зверям: толпа римлян никогда этого допустит. Поскольку на его счету было уже восемьдесят девять убитых гладиаторов, тысячи людей приходили в Большой Цирк, чтобы только посмотреть, как он сражается. Император не так глуп. Он не станет избавляться от такого ценного бойца, который только способствует укреплению его славы.
И все же Атрета совершенно не радовала его судьба. Более того, он понимал, что его слава все сильнее порабощает его. К нему приставляли все больше стражников — не для того, чтобы не дать ему сбежать (это и без того было нереально), а для того, чтобы не дать обезумевший поклонникам разорвать его на части.
Его именем были исписаны все стены Рима. Цветы и монеты бросали на арену перед его схватками и после них, а подарки от поклонников ему приносили практически каждый день. Он не мог выйти за пределы лудуса без сопровождения дюжины крепких стражников. В гостиницу Пунакса его больше не приглашали во избежание повторения тех столкновений с поклонниками, от которых он уже едва не пострадал. От одного его присутствия на каком–нибудь пиру многие женщины теряли рассудок. Когда он выходил на арену, зрители скандировали его имя снова и снова, пока оно не начинало звучать подобно пульсу в груди дикаря.
Только во сне он мог вернуться к своим воспоминаниям и не забывать, что значит быть свободным человеком и жить в лесу, ощущать нежные прикосновения любимой женщины, слышать радостный детский смех. Каждый раз, когда он смотрел в глаза своему сопернику на арене, а потом побеждал его, от него уходила частица чего–то человеческого.
Атрет посмотрел на свои руки. Они были мощными, мозолистыми от бесчисленных часов тренировок с тяжелым мечом… А еще на них была кровь убитых им людей. Он вспомнил лицо Халева, когда тот бесстрашно ждал смертельного удара, а разгоряченная от крови толпа вопила: «Югула!». Лоб Атрета покрылся потом, который стекал ему на глаза. А может быть, это были слезы?
— Отпусти меня на свободу, друг, — произнес тогда Халев, слабея от потери крови. Он положил руки на бедра Атрету и откинул голову назад. Когда Атрет нанес последний удар, толпа взревела в торжествующем крике.
Пытаясь избавиться от этих воспоминаний, Атрет открыл глаза, но воспоминания никуда не уходили и, подобно раковой опухоли, разъедали ему душу.
Когда дверь отперли, он направился во двор, на тренировки. Нагружая себя физическими упражнениями, он сосредоточивался на тренировках и находил в этом какое–то облегчение.
Бато тем временем стоял на балконе, и рядом с ним стояли гости лудуса. В том, что гости приходили в лудус во время тренировок, ничего необычного не было. Кто–то приходил, чтобы кого–нибудь приобрести, а кто–то для того, чтобы просто посмотреть на гладиаторов поближе. Атрет не обращал на них никакого внимания до тех пор, пока рядом с Бато не появились две молодые женщины. Октавию он узнал сразу же, потому что она не пропускала ни одного пира накануне зрелищ и славилась своей страстью ко всем гладиаторам, которые только обращали на нее внимание. Но его внимание привлекла совсем другая женщина. Она была одета в голубую одежду, расшитую желтыми и красными узорами. Была она молодой и безумно красивой, с бледным лицом, темными волосами и темными глазами.
Он пытался сосредоточиться на тренировках, но при этом остро чувствовал, что эта женщина смотрит на него так пристально, что у него по спине забегали мурашки. Женщина с темными волосами и темными глазами… Это ему говорила мать во сне. Атрет снова взглянул на незнакомку. Октавия что–то ей шептала, но она не отрывала от него глаз и, казалось, совсем ее не слушала. Это была римлянка, и пророчество матери настигло Атрета подобно удару молнии.
Зачем такая благопристойная женщина появилась в лудусе? Неужели и она, подобно Октавии, загорелась страстью к мужчинам, которые проливают кровь на арене? Мысленно Атрет всеми силами пытался настроиться против нее, хотя осознавал, что в нем зарождаются по отношению к ней какие–то чувства.
Она стояла над ним, подобно богине, такая непохожая на других, такая недоступная. Атрета охватили в одно и то же время желание и гнев. Он перестал тренироваться. Обернувшись, он смело поднял на нее глаза, и они встретились взглядами. Приподняв бровь, Атрет выдержал ее пристальный взгляд, затем, пытаясь казаться насмешливым, протянул в ее сторону руку. Смысл его жеста был понятен, но вместо того чтобы засмеяться и остудить его смелость, как это всегда делала Октавия, женщина в голубом наряде приложила руку к сердцу и отпрянула в смущении. Бато что–то сказал им обеим, и они, повернувшись, вошли в здание.
К Атрету Бато подошел уже в банях.
— Октавии было приятно, что ты сегодня обратил на нее внимание, — сказал он, прислонившись к каменной колонне. Одно полотенце было у него завязано на поясе, а другое висело на его мощных плечах.
— Я отдал свои почести не ей, — сказал Атрет, выйдя из воды и взяв полотенце с полки.
— Да, госпожа Юлия достаточно красива, чтобы мужчина мог потерять от нее голову и забыть даже о своей ненависти к Риму, — сказал Бато, криво ухмыльнувшись.
Атрет стиснул зубы, но ничего не сказал.
— Она замужем за Каем Полонием Урбаном, человеком, который вращается в высших кругах общества. Я слышал, что у него довольно сомнительная родословная и еще более сомнительная репутация. Ему просто посчастливилось, что он повстречал эту женщину. Ее первый муж был старым и умер через несколько месяцев после свадьбы. Права на ее наследие перешли к ее отцу, который передал их под опеку своего сына, Марка, ловкого финансиста, но теперь, как я слышал, Урбан проматывает ее состояние на гонках колесниц.
Атрет надел новую тунику и посмотрел на Бато, завязывая пояс.
— А зачем ты рассказываешь мне о личной жизни этой госпожи?
— Потому что впервые вижу, как женщина вскружила тебе голову. К тому же римлянка. — Он выпрямился и сардонически улыбнулся. — Не сходи только от этого с ума, Атрет. Ее отец ефесянин, который купил себе гражданство золотом и своими большими связями.
Ночью Атрет снова видел во сне пророчащую мать, но на этот раз, когда она пророчествовала, к нему из темного леса шла госпожа Юлия в голубом наряде.
* * *
Хадасса пошла на рынок, чтобы отыскать тот лоток, у которого она была вчера вместе со своей госпожой. Один римлянин продавал за ним фрукты, и Юлия купила у него виноград, чтобы поесть по пути в храм Геры. Хадасса обратила внимание на небольшой символ, вырезанный на лотке. Разглядев, что это изображение рыбы, она посмотрела на торговца. Он посмотрел ей в глаза и едва заметно кивнул головой, продолжая при этом торговаться с Юлией. Хадасса почувствовала, как ее охватила радостная надежда.
Испытывая огромное желание разыскать лоток, она пробиралась сквозь толпу. Разыскав лоток, она постояла в стороне, подождав, пока этот торговец не продаст одному греку яблоки.
— Завтра, Каллист, я принесу для тебя сливы.
— Надеюсь, по более выгодной цене, чем на прошлой неделе, Трофим.
Трофим распрощался с ним в самом добром настроении, после чего с улыбкой повернулся к Хадассе.
— Ты вернулась, чтобы взять еще винограда для твоей госпожи?
Хадасса ответила не сразу, внимательно глядя ему в глаза. Он тоже смотрел на нее, не торопя с ответом. Она посмотрела на лоток и не нашла на нем изображения рыбы. Но, отодвинув корзину с финиками, тут же его обнаружила. Взглянув на торговца, она указала на этот символ. Ее сердце забилось, когда она зашептала:
— Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель.
Мужчина улыбнулся самой радостной и теплой улыбкой.
— Иисус есть Господь, — сказал он и положил свою руку на ее ладонь. — Вчера я сразу понял, что ты принадлежишь телу Христа.
Хадасса глубоко вздохнула и почувствовала неописуемое облегчение. Глаза ее наполнились слезами.
— Слава Богу. Как долго я…
Трофим огляделся вокруг, потом наклонился к ней. Он назвал ей место и время ежевечернего собрания верующих.
— Постучишь сначала один раз, потом еще три. Тебе откроют. Как тебя зовут?
— Хадасса, рабыня Юлии Валериан, жены Кая Полония Урбана.
— Хадасса. Я скажу братьям и сестрам, чтобы они ждали тебя.
Преисполненная радости и надежды, Хадасса вернулась на виллу. Вечерами Юлия всегда куда–нибудь уходила, предоставляя ей полную свободу молиться в саду, в одиночестве. Но сегодня она будет поклоняться Богу вместе с новыми друзьями.
* * *
Поздно вечером Кай вошел в покои Юлии, когда Хадасса помогала ей нарядиться перед уходом в гости. Начался весьма нелицеприятный разговор.
— Если ты можешь уделять время Октавии, то у тебя наверняка найдется для меня несколько часов твоего драгоценного времени сегодня вечером! — сказал Кай. — Аницет очень обидится, если ты не придешь на празднование его дня рождения.
Юлия сидела перед зеркалом, наблюдая за тем, как Хадасса делала ей прическу, и делала вид, что совершенно равнодушна к гневу своего мужа. Только ее напряженная поза выдавала ее страх.
— Мне нет никакого дела, обидится твой Аницет или нет, — сказала она. — Можешь придумать про меня любую отговорку, какая тебе понравится. А меня Калаба пригласила пойти на зрелища.
— Значит, собираешься в преисподнюю вместе с Калабой! — насмешливо произнес Кай. — Вообще–то в последнее время я и так предоставлял тебе полную свободу действий. Но сегодня вечером ты мне нужна.
Юлия посмотрела на него через отражение в зеркале.
— Я тебе нужна? Как это мило с твоей стороны! — Юлия обладала всей необходимой информацией, которую она получила всего несколько часов назад. Она медленно повернулась к мужу, крепко сцепив руки на коленях. Пусть теперь Кай унижается перед ней. — А почему именно сегодня, Кай? — спросила она, дав ему понять, что он должен сказать ей правду. Она знала, зачем нужна ему на этом пиру. И теперь ей было интересно, скажет ли он сам ей об этом.
— Аницет в восторге от тебя, — сказал Кай, стараясь избегать ее взгляда. — А его дела тесно связаны с моими. Ничего с тобой не случится, если ты улыбнешься ему или позволишь себе с ним безобидный флирт, — явно волнуясь, он налил себе в кубок немного вина.
Юлия слегка улыбнулась, наслаждаясь его страданиями. Не виновата же она в том, что он такой глупец. Ну и пусть сам расплачивается за свою глупость.
— Учти, этот мерзавец не посмеет прикоснуться ко мне даже после того, как ты задолжал ему деньги.
Кай повернулся и уставился на нее.
— Ты шпионишь за мной, — рука, сжимавшая кубок, побелела. — Это Калаба тебе рассказала, моя дорогая? — сухо спросил он.
— У меня и своя голова на плечах есть, Кай. Нетрудно догадаться, что происходит на самом деле, — насмешливо произнесла Юлия. — О том, что тебе патологически не везет на гонках, уже ходят легенды. Весь Рим говорит о твоих проигрышах. Кроме меня, ты хочешь сказать. — Ее голос становился все увереннее и громче. — Менее чем за год ты проиграл двести тысяч моих сестерциев!
Кай медленно поставил кубок на стол.
— Оставь нас, — приказал он Хадассе голосом, полным яростной злобы. Когда же Хадасса направилась к двери, раздался голос Юлии:
— А если я не хочу, чтобы она уходила?
— Хорошо, пусть останется и посмотрит, что я сейчас с тобой сделаю.
Юлия жестом приказала Хадассе выйти:
— Подожди в коридоре. Я позову тебя через несколько минут.
— Да, моя госпожа, — Хадасса тихо закрыла за собой дверь, довольная тем, что Юлия больше не испытывала терпение Урбана. Она сомневалась в том, что ее госпожа в полной мере знала, насколько он жесток. Их гневные голоса были хорошо слышны в коридоре.
— Ну, раз ты так хорошо обо всем информирована, Юлия, то ты, я надеюсь, тем более понимаешь, почему так важно, чтобы ты пошла на это торжество!
— Пусть этот Аницет развлекается там без меня, Кай. Ты это как–нибудь переживешь!
— Сегодня вечером ты пойдешь со мной, хочешь ты того или нет. Собирайся!
— И не подумаю! — взорвалась в ответ Юлия. — Если уж тебе так не терпится привести кого–то Аницету на день рождения, можешь взять одну из своих любовниц. Или любовников, если хочешь. А я с тобой не пойду никуда ни сегодня вечером, ни в любой другой вечер!
Раздался звон бьющегося стекла и гневный крик Юлии:
— Не смей крушить мои вещи!!
Потом ее крик раздался снова, но теперь это был крик боли. Кай заговорил снова, и в его тоне звучало унизительное издевательство. Юлия отвечала ему оскорбительным вызовом. Затем она снова вскрикнула.
Закусив губу, Хадасса сжала руки, ощущая свою беспомощность и желая, чтобы это безумие как можно скорее прекратилось.
Снова раздался голос Урбана, на этот раз тихий и холодный. Потом опять разбилось что–то стеклянное, и в следующее мгновение Урбан сильным толчком распахнул дверь. Его лицо просто пылало гневом. Схватив Хадассу, он подтолкнул ее к двери.
— Чтобы через час твоя хозяйка была готова, иначе я с тебя шкуру спущу.
Хадасса поспешила в комнату, боясь, что он что–нибудь сделал с Юлией.
— Моя госпожа…
Юлия сидела на краешке большой кровати, которую она делила с Каем в первые месяцы после свадьбы. Ее спокойствие было пугающим. С уголка губ стекала тонкая струйка крови.
— Моя госпожа, с тобой все в порядке? У тебя… на губах кровь.
Юлия приложила трясущиеся пальцы к губам. Задумчиво глядя на кровь на пальцах, она сказала со страшной убежденностью:
— Как я его ненавижу! Как я хочу его смерти! — сцепив пальцы рук, она уставилась в пустоту. — Пусть же боги проклянут его грязное сердце.
Хадассе стало жутко от таких слов Юлии, как и от ее взгляда.
— Я принесу воды.
— Не надо мне ничего! — свирепо произнесла Юлия, встав на ноги. — Молчи и не мешай мне думать! — С бледным и застывшим лицом она стала расхаживать по комнате. — Он теперь все время будет ко мне так относиться. — Нетерпеливо замахав рукой, она приказала Хадассе: — Ступай к Калабе и сообщи ей, что сегодня я никуда с ней не пойду. Завтра я приду к ней и все объясню.
Когда Хадасса вернулась, Юлия стояла у своего косметического столика, перебирая разноцветные стеклянные сосуды. Больше половины таких сосудов было разбросано по полу вместе с дорогими амфорами, в которых находились ароматические масла. Юлия молча смотрела на эту картину, и в ее глазах горел яростный гнев.
Она посмотрела на то, что у нее осталось, и задумчиво взяла в руки один из сосудов.
— Аницет влюблен в меня, — сказала она, и ее пальцы, сжимавшие сосуд, побелели. — Кай всегда ревновал меня, если судить по его взгляду. Он всегда говорил, что, если Аницет только возьмет меня за руку, он перережет ему глотку. — Она провела пальцами по сосуду, и ее губы тронула едва заметная ухмылка. — Принеси мне красный наряд с золотыми и жемчужными узорами. Кай говорит, что когда этот наряд на мне, я похожа на богиню. И сегодня вечером я буду богиней. Принеси мне еще ту золотую брошь, которую он подарил мне на свадьбу.
— Что ты намерена делать, моя госпожа? — спросила Хадасса, не на шутку испугавшись за Юлию.
Юлия запустила руку в красный сосуд.
— Кай хочет, чтобы сегодня вечером я была очаровательна и прекрасна, — сказала она, проведя содержимым красного сосуда по нижней губе. Сжав губы, она посмотрела на свое отражение. — Вот я и дам ему то, что он хочет, и даже больше того.
К тому времени, когда Кай вернулся, Юлия была такой ослепительной, какой Хадасса никогда ее не видела. Увидев ее, Кай сразу подобрел. Он смотрел на жену с нескрываемым восторгом.
— Значит, ты все же решила помочь мне, как и подобает всякой порядочной жене, — сказал он, нежно взяв ее за руку.
Юлия кокетливо повернулась перед ним.
— Как ты думаешь, Аницет будет в восторге?
— Да он просто с ума сойдет, — взяв Юлию за плечи, Кай поцеловал ее. — Если бы у нас было время, я бы не выходил из твоих покоев всю ночь…
— Как когда–то, — промурлыкала Юлия и тут же отпрянула от него, когда он захотел ее поцеловать. — Осторожно, ты испортишь мне всю косметику.
— Хорошо, потом. Появимся у Аницета, ты очаруешь его своей красотой, и мы вернемся домой.
Кай слегка поцеловал Юлию в шею. Ее губы напоминали кровавое пятно. Вырвавшись из его объятий, она встала и подошла к Хадассе, чтобы та еще раз расправила складки на ее одежде и как следует закрепила золотую брошь. Хадасса посмотрела ей в глаза, и ей снова стало страшно за свою госпожу. Конечно, Хадасса знала, что если Юлия задумала отомстить Урбану, он неизбежно ответит ей тем же.
Молясь, Хадасса смотрела, как они спускаются по лестнице. Потом она вернулась в покои Юлии. Быстро навела там порядок, убрав разбитые сосуды. Открыв дверь в перистиль, она проветрила помещение и смыла ароматическую смолу с мраморного пола. Сделав всю свою работу, Хадасса накрыла голову шалью и вышла в ночь, чтобы найти тот дом, в котором собирались верующие в Иисуса.
Улицы Рима напоминали лабиринт, который в темноте казался еще более запутанным. Хадасса хорошо знала многие улицы, поскольку ей часто доводилось сопровождать Юлию на рынок. Нужный дом Хадасса нашла без особого труда. Она с интересом отметила, что дом этот находился рядом с храмом Марса, римского бога войны.
Она постучала один раз, потом еще трижды. Дверь приоткрылась.
— Как тебя зовут?
— Хадасса, рабыня Юлии Валериан, жены Кая Полония Урбана.
Женщина улыбнулась и открыла дверь, чтобы впустить гостью.
— Добро пожаловать. Трофим со своей семьей уже здесь. Он сказал, чтобы мы ждали тебя. Входи, — с этими словами она проводила Хадассу в помещение, наполненное людьми самых разных возрастов и самого разного социального положения. Среди них Хадасса увидела и торговца. Улыбнувшись, он подошел к ней, обнял за плечи и в знак приветствия поцеловал в обе щеки.
— Садись рядом со мной и моей женой, дорогая сестра, — сказал он. Он взял ее за руку и повел мимо других любопытствующих собравшихся к своей семье. — Евника, это та девушка, о которой я тебе говорил. — Евника улыбнулась и также поцеловала Хадассу в знак приветствия. — Братья и сестры, — обратился тем временем Трофим к собравшимся, — это Хадасса, о которой я уже говорил.
Остальные поприветствовали ее. Гета, Баземат, Фульвия, Каллист, Асинкрит, Лидия, Флегон, Агикам… имена всех собравшихся с первого раза запомнить было невозможно. Хадасса почувствовала, какая любовь исходит от этих людей.
Собрание проводил Асинкрит.
— Тише, пожалуйста, братья и сестры. Наше время общения, к сожалению, скоротечно. Давайте же начнем его с пения хвалы нашему Господу.
Хадасса закрыла глаза, и слова незнакомого ей гимна стали проникать в ее душу, наполняя ее теплом и обновляя. В гимне пелось о тяготах и вере, о Божьем избавлении от зла. Хадасса ощущала в себе духовное пробуждение, и неспокойная жизнь Децима и Фебы, Марка и Юлии показалась ей чем–то далеким. Оказавшись в трясине своих богов и богинь, в поисках счастья и удовлетворения своих амбиций, эти люди умирали. И вот теперь, в этом маленьком и скромном помещении, среди этих людей, Хадасса в полной мере почувствовала Божий мир.
Хадасса видела свободных людей среди рабов, богатых людей, сидящих рядом с бедными, стариков рядом с маленькими детьми, и все пели в едином порыве. Она улыбнулась, и ей захотелось смеяться от радости. Ее сердце было преисполнено такого счастья, а чувство родного дома было таким сильным, что она не могла испытывать никаких других чувств, кроме радости.
Один из тех гимнов, которые исполняли верующие, был ей знаком — этот псалом Давида она часто пела Дециму и Фебе в тот короткий период, пока служила им. Закрыв глаза и подняв руки ладонями вверх, славя Бога, Хадасса пела от всего сердца, не заметив, что другие остановились и стали слушать ее. Она поняла это только тогда, когда сама перестала петь. Покраснев, она опустила голову, смутившись тем, что привлекла к себе внимание.
— Бог благословил нас сестрой, которая так прекрасно поет, — весело сказал Трофим, и другие засмеялись. Евника взяла Хадассу за руку и слегка сжала ее в своей.
Асинкрит простер руки.
— «Воскликните Господу, вся земля! — произнес он с неподдельной радостью, и остальные подхватили: — Служите Господу с веселием; идите пред лицо Его с восклицанием! Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы — Его, Его народ и овцы паствы Его…»
Хадасса снова подняла голову и произнесла так хорошо знакомые ей слова из псалма Давида:
— «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его — с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его! Ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род».
Кто–то из старейшин церкви развернул старый свиток.
— Сегодня мы продолжим чтение воспоминаний Матфея.
Хадасса раньше никогда не слышала ни о каких воспоминаниях апостолов, за всю свою жизнь она только читала иудейские свитки и слушала воспоминания отца об Иисусе. И теперь, слушая изложенные в свитке слова Матфея, который три года ходил с Господом, Хадасса испытывала самый настоящий трепет. Она вслушивалась в Слово и чувствовала, как оно придает ей силы.
После чтения свиток снова свернули и бережно передали в руки другого старейшины. Среди собравшихся стали раздавать вино и пресный хлеб. Передавая друг другу эти атрибуты хлебопреломления, люди шептали слова Иисуса: «Сие есть Тело Мое… Сия чаша есть новый завет в Моей Крови… сие творите в Мое воспоминание…». Когда служение закончилось, все спели гимн об искупительной любви Христа, Избавителя.
— Есть ли сегодня среди нас новые верующие, которые хотели бы поделиться своим свидетельством?
Хадасса почувствовала, как люди обернулись к ней, и снова покраснела, опустила голову, сердце ее забилось сильно и часто. Трофим наклонился к ней и по–отечески похлопал по плечу.
— Давай, давай, — подбадривал он ее, — никакого ораторского умения здесь не требуется. Скажи просто приветственное слово от лица нового верующего, который теперь среди нас.
— Ладно, Трофим, оставь ее в покое, — сказала Евника в ее защиту. — Мы ведь для нее новые люди. Ты тоже целый год ничего здесь не говорил.
— Я вообще говорить не умею.
— Я хочу сказать несколько слов, — сказала Хадасса и встала. Она смущенно оглядела всех, кто был в помещении. — Простите меня, если я не смогу складно все сказать. Просто я уже давно не выступала среди людей, знающих Бога. — Тут у нее от волнения перехватило дыхание, и она молча помолилась Богу о том, чтобы Он дал ей смелость и нужные слова.
— Я вовсе не новый человек в вере. Мой отец рассказывал мне об Иисусе с самого моего рождения. Он знал Писание и учил мена всему, что сам помнил из Торы и об исполнении пророчеств и Божьих обетований об Иисусе. Когда я была еще совсем маленькой, отец привел меня к реке Иордан и крестил на том самом месте, где Иоанн видел, как голубь сел на плечо Иисусу, и слышал голос Божий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение».
— Слава Господу, — сказал кто–то.
Асинкрит медленно сел.
— Твой отец знал Господа, когда Он жил на земле?
Поверят ли они ей, если она расскажет им все? Хадасса снова оглядела всех присутствующих и увидела, какими открытыми были у всех лица, с каким интересом все ее слушали. Может ли она не рассказать им обо всем, если они так жадно ловят каждое слово воскресшего Господа?
— Мой отец был единственным сыном одной вдовы, жившей в Иерусалиме. Когда он был еще совсем юным, у него была лихорадка, и он умер. И вот Господь услышал рыдания его матери и воскресил его из Шеола.
— Слава Богу, — воскликнуло в восхищении несколько человек. По помещению пронесся трепетный шепот, а один из присутствовавших, сидевший недалеко от Хадассы, встал и удивленно спросил ее:
— А как звали твоего отца?
— Анания Бар — Иона, из колена Вениамина.
— Я слышал о нем! — сказал этот человек остальным, после чего повернулся к Хадассе и добавил: — У него еще была горшечная лавка в Галилее.
Не в силах говорить, Хадасса кивнула.
— Тот человек, который привел меня к Господу, знал его много лет назад, — сказал еще один верующий.
— А где твой отец сейчас? — спросил еще кто–то.
— Он с Господом.
Наступила многозначительная тишина, после чего Хадасса стала рассказывать о себе дальше:
— Мы всегда приходили в Иерусалим на Пасху, встречались там с другими верующими. Каждый год мы собирались в верхней комнате, и отец рассказывал о том, как Иисус исполнил Пасху. Но в последний раз, когда мы там оказались, начался бунт, и в городе творилось что–то страшное. Многие наши друзья ушли из города, потому что оставаться было опасно. Отец уходить не захотел. А когда зилоты заперли городские ворота, тысячи людей оказались в ловушке. И вот однажды отец пошел в город, к людям. Больше его никто не видел.
— А твоя семья, сестра? — спросила Евника, взяв Хадассу за руку. — Что стало с ними?
Когда Хадасса рассказывала о своей семье, ее голос дрожал. Она опустила голову, испытывая невольный стыд, оттого что она единственная из всей своей семьи осталась в живых, хотя считала, что меньше всего этого заслуживала.
— Я даже не знаю, для чего Господь сохранил мне жизнь.
— В свое время Господь все нам откроет, — торжественно сказал ей Асинкрит. — Твои слова стали для меня ободрением в этот период сомнений. — Его глаза были полны слез. — Бог отвечает на наши нужды по–разному.
Хадасса села, а остальные верующие тем временем начали свидетельствовать об ответах Бога на молитвы, об удивительных переменах в жизни многих людей. Потом стали говорить молитвенные просьбы и называть при этом имена братьев и сестер, которые находились в заточении или которым угрожала опасность.
Хадасса снова встала.
— Можно мне попросить помолиться? — Все с готовностью согласились. — Прошу вас, пожалуйста, помолитесь за моих хозяев, Децима Виндация Валериана, его жену, Фебу, и их сына, Марка Люциана. Они подобны потерянным людям в пустыне. Но больше всего я прошу вас помолиться за мою госпожу, Юлию. Она на пути к вечной гибели.
22
Хадасса возвращалась на виллу, испытывая необычайный духовный подъем и не зная еще, что ее ожидает.
Уже входя в перистиль, она услышала крик Юлии. Поспешив в триклиний, она побежала по открытому коридору, ведущему в покои ее госпожи. Одна из служанок кричала в истерике, стоя у двери покоев Юлии.
— Он хочет забить ее до смерти. Что нам делать?
Крики Юлии заставили Хадассу действовать, не задумываясь о последствиях. Когда она схватилась за дверную ручку, другая служанка бросилась к ней.
— Не входи! Он убьет тебя!
Хадасса оттолкнула ее, полная решимости войти к своей госпоже. Войдя в покои, она увидела, что Юлия лежит на полу и пытается подняться, чтобы убежать от Урбана, который бьет ее каким–то кнутом. Юлия кричала от боли, а кнут разрывал ее красный наряд и оставлял на ее коже кровавые полосы.
— Остановись, мой господин! — закричала Хадасса, но Урбан, ослепленный яростью, продолжал бить Юлию. Хадасса попыталась преградить ему путь, но он отшвырнул ее в сторону. Хадасса поднялась, чтобы снова встать у него на пути и дать уйти Юлии. На этот раз Кай нанес Хадассе оглушительный удар, сбив ее с ног.
— Убирайся! — заорал он, пнув ее ногой в бок, после чего снова повернулся к Юлии. — Я убью тебя, грязная ведьма! Клянусь всеми богами.
Он загнал Юлию в угол, она съежилась и закрыла руками голову, в то время как кнут снова со всей силы опустился ей на спину.
Шатаясь, Хадасса встала, едва соображая, что происходит. Воздух в помещении, казалось, был наполнен жестокостью и насилием Урбана; до сознания Хадассы дошли крики ужаса и боли Юлии. С трудом передвигая ноги, Хадасса все же нашла в себе силы броситься к своей хозяйке, чтобы защитить ее. Удар кнута заставил Хадассу вздрогнуть. Всхлипывая в истерике, Юлия сжалась за ее спиной в дрожащий комок.
Теперь всю свою злобу Урбан обрушил на Хадассу. Исхлестав ее кнутом и не удовлетворившись этим, он перевернул стол в покоях, опрокинул какую–то статую и разбил зеркало.
— Я еще с тобой разделаюсь, Юлия, — произнес он и вышел. Спустя какое–то время Юлия успокоилась.
— Он ушел. Помоги мне встать. — Хадасса не шевелилась. — Помоги мне встать, пока он не вернулся! — Юлия толкнула ее, и Хадасса повернулась на бок. Юлия увидела ее лицо, израненное и неподвижное. Испугавшись, Юлия приложила ухо к иссеченным губам Хадассы. Та едва дышала. Обняв свою служанку, Юлия заплакала. — Ты спасла меня от него, — прошептала она, покачивая ее. Убрав волосы с бледного лица Хадассы, она поцеловала ее в лоб. — С тобой все будет хорошо. Непременно. — Она крепко сжимала Хадассу и покачивала в своих объятиях, при этом чувство гнева все еще не покидало ее.
Хватит. С меня хватит, Урбан!
В этот момент медленно открылась дверь и на порог боязливо ступила служанка. Юлия уставилась на нее.
— Где мой муж? — холодно спросила она. Одна служанка стояла в дверях, две остальные — за ее спиной.
— Господин Кай покинул виллу, — ответила первая.
— И только после этого ты пришла ко мне на помощь, — горестным голосом сказала Юлия. — Трусливая тварь. Все вы трусы! — Она увидела страх в глазах служанки. Они правильно делают, что боятся ее. Все рабы в этом доме только и ждут, чтобы оставить ее на съедение Каю. Она теснее прижала к себе Хадассу, убирая ей волосы с бледного лица. Все рабы такие, кроме той, что бросилась ее защищать. Юлия чувствовала, как теплая кровь Хадассы стекала на рукав ее наряда.
Подняв голову, Юлия снова посмотрела на рабов, столпившихся в дверях и ожидавших ее указаний. Трусы! Идиоты! Они заслуживают смерти. Она ненавидела их всех.
— Помогите ей, — приказала она, и две рабыни устремились в комнату и наклонились, чтобы взять Хадассу. — Посолите ей раны, перевяжите и спрячьте ее от моего мужа. — Впившись ногтями в руку одной из них, Юлия добавила: — Если она умрет, шкуру спущу. Поняли?
— Да, моя госпожа, — ответили они в страхе.
— Быстрее! — Юлия знала, что ей надо покинуть виллу еще до того, как вернется Кай. Пока Кай не уймется и не образумится, ее жизнь в опасности. Если он не найдет ее, у него будет время, чтобы подумать и снова взять себя в руки. Не тратя времени на то, чтобы переодеться, Юлия обернулась в просторный плащ и ушла в ночь.
Всю дорогу до Калабы она бежала, и вот теперь стучалась в ее дверь. Прекрасно сложенный раб греческого происхождения узнал ее.
— Доложи Калабе, что я здесь, — сказала Юлия, переступив порог. Он не сделал ни малейшего движения, чтобы выполнить ее приказание, и она оттолкнула его в сторону в вошла в просторное помещение, в котором Калаба проводила свои собрания, — Скажи Калабе, что я здесь, — повторила она, сверкая глазами.
— Госпожа Калаба занята.
Юлия повернулась и уставилась на него.
— Это вопрос жизни и смерти.
— Но она приказала не беспокоить ее.
— Она поймет! — сказала Юлия, чувствуя, что теряет терпение. — Не стой здесь и не смотри на меня, а делай, что я тебе сказала.
Раб вышел, и Юлия стала в волнении шагать по комнате. Она накинула на голову плотный капюшон, но все равно не могла избавиться от холода, который пробирал ее до костей. Раб вернулся через несколько минут.
— Госпожа Калаба через несколько минут ждет тебя в своих покоях, моя госпожа.
— Я хочу видеть ее сейчас! — Юлия в нетерпении проскочила мимо него. Она вошла в открытую дверь и увидела, как служанка держит легкое одеяние, а Калаба стоит неодетая возле кровати. — О! — только и произнесла Юлия, покраснев. Калаба взглянула на нее своим загадочным взглядом. Ее, казалось, подобная ситуация нисколько не смущала, и она стояла, расставив руки слегка в стороны, чтобы служанка могла надеть на нее тогу.
— Опять какое–нибудь происшествие, Юлия? — удрученно спросила Калаба, и в ее голосе промелькнул оттенок досады.
Юлия растерялась от такого холодного приема. Она никогда не думала, что Калаба рассердится на нее за такой неожиданный визит.
— Извини, Калаба, что я не пошла на зрелища. Но Кай заставил меня идти с ним. И я просто не могла ничего…
— Хватит молоть чепуху, — сказала Калаба. — Я уже устала от твоих сцен, Юлия, — добавила она, выходя из себя. — Что такого случилось у тебя на этот раз, что ты врываешься ко мне и считаешь, что имеешь право портить мне вечер?
Юлия вошла в комнату и сбросила с себя тяжелый плащ, повернувшись так, чтобы Калаба могла видеть изорванный наряд и раны на спине. Она с удовлетворением увидела, как у Калабы перехватило дыхание.
— Это Кай так с тобой поступил?
— Да, — ответила Юлия. — Сегодня он просто с ума сошел, Калаба. Он убил бы меня, если бы не Хадасса.
— Твоя служанка?
— Она бросилась ко мне, и все остальные удары обрушились на нее, — Юлия заплакала, — я боюсь, что он убил ее. Она…
— Плюнь ты на свою рабыню. Сядь, посиди и возьми себя в руки. — Калаба подошла к ней и отвела ее к кровати. Положив руки на трясущиеся плечи Юлии, она усадила ее. — Сейчас прикажу принести тебе мазь для спины. — Сделав распоряжения одной из своих рабынь, Калаба закрыла дверь и снова вернулась к Юлии. — Ну, а теперь расскажи, что же случилось, почему Кай настолько озверел?
Юлия в волнении вскочила.
— Нерей вчера сказал мне, сколько тысяч сестерциев Кай задолжал Аницету. Он сказал, что Кай пытался продать часть того состояния, которое Марк оставил на мое имя, но не смог.
— Не смог?
— Очевидно, Марк сделал так, чтобы ему сразу стало известно, что часть имущества оказалось на рынке, — сказала Юлия, принявшись беспокойно расхаживать по комнате. — Кай знал, что Марк сообщит мне о том, что происходит. Значит, ему ничего не оставалось, как попытаться выиграть время, чтобы достать ту сумму, которую надо вернуть Аницету.
Юлия внимательно посмотрела на Калабу.
— Аницет сегодня вечером праздновал день рождения, и Кай заставил меня пойти туда, — она остановилась и передернула плечами. — Мне холодно, Калаба. — Калаба взяла плащ Юлии и накинула ей на плечи. Юлия почувствовала себя совершенно несчастной.
— Я нравлюсь Аницету, — сказала она. — И своих чувств ко мне он уже давно не скрывает. Кай всегда ревновал меня и говорил, чтобы я сидела как можно дальше от Аницета, чтобы не подавать ему никаких поводов. Но сегодня вечером Кай пожелал, чтобы я улыбалась этому жалкому идиоту и флиртовала с ним. Он сказал, что Аницет очень огорчится, если я не приду к нему на день рождения. Конечно, после того как Нерей сказал мне правду, я знала, почему Кай так на этом настаивал. Он хотел, чтобы Аницет был в прекрасном расположении духа, когда Кай будет умолять его об отсрочке долга.
Она села, и ее лицо стало каменным.
— Аницет простил Каю долг.
— Простил… — глухим голосом повторила Калаба и отвернулась. Тяжело вздохнув, она спросила: — И как это тебе удалось?
— Мне удалось договориться с Аницетом.
— Как именно?
— Провела с ним часок в его покоях, — ответила Юлия, стараясь преодолеть чувство стыда, которое нахлынуло на нее при этих словах. Она встала и снова начала прохаживаться по комнате. — Кай мне очень часто изменял! — сказала она в свое оправдание. — Вот и пусть сам теперь поймет, каково мне было в это время.
Калаба выглядела сокрушенной.
— Тебе самой это доставило удовольствие?
— Да, мне доставило удовольствие видеть лицо Кая, когда я улыбалась и флиртовала с Аницетом, как он и просил меня. Да, мне доставило удовольствие видеть лицо Кая, когда я уходила с пира без него. Да, мне доставило удовольствие думать о том, что он испытывает, пока меня нет. Да, я наслаждалась каждой минутой.
— И тебе не приходило тогда в голову, что Кай с тобой сделает потом?
— Мне было все равно! — сказала Юлия и отвернулась, когда ее глаза наполнились слезами. — Но я никогда не видела его таким разъяренным, Калаба. Он просто потерял разум.
— Ты унизила его перед всеми гостями.
Юлия гневно взглянула на нее.
— Ты его защищаешь? После всех тех страданий, которые он мне причинил?
— Я и не думаю его защищать. За все страдания, которые он тебе причинил ради собственного удовольствия, я могу его только презирать. Но подумай сама, Юлия! Ты же знаешь Кая. Ты знаешь, какой он гордый. Ты знаешь, каким он может быть в гневе. Да он убьет тебя после этого.
Юлия побледнела.
— Тогда я не вернусь.
— Тебе придется вернуться, или ты все потеряешь. — Калаба села рядом и взяла Юлию за руку. Глубоко вздохнув, она сжала руку Юлии в своей. — Тебе необходимо защищать себя.
— Но как? — спросила Юлия, и ее глаза снова наполнились слезами страха.
Калаба повернула лицо Юлии к себе за подбородок и внимательно посмотрела ей в глаза.
— Я тебе скажу кое–что. Этого я еще никогда и никому не говорила. Могу я быть уверена в том, что и ты этого никому не расскажешь?
Юлия заморгала, глядя в бездонно–глубокие темные глаза Калабы. Они казались такими мистическими, полными неизведанной тайны.
— Да, — ответила Юлия, слегка вздрогнув.
Калаба наклонилась к ней и поцеловала ее в губы.
— Я в этом и не сомневалась. — Она дотронулась ладонью до щеки Юлии и полюбовалась ее красивыми глазами. — Я с самого начала знала, что мы с тобой будем близкими друзьями. — Она задержала свою ладонь на щеке Юлии, а потом быстро убрала, оставив у Юлии странное ощущение беспокойства.
Калаба встала и грациозно отошла от Юлии.
— Все убеждены, что мой муж, Аурий, умер от апоплексического удара, — она повернулась к Юлии, чтобы изучить ее реакцию. — Но на самом деле я его отравила. — Она всматривалась в округлившиеся от удивления глаза Юлии, в которых, однако, не было видно осуждения. Юлию раздирало любопытство, она ждала подробных объяснений, и Калаба продолжила.
— Брак с ним стал невыносимым. Когда я выходила за него, он был старым и отвратительным, но я оставалась ему верной женой.
Я ведала его финансовыми делами, его хозяйством, его общественными отношениями. Я давала ему мудрые политические советы. Практически, вся его недолгая карьера была плодом моих усилий. Но однажды, после одного неосторожного поступка с моей стороны, Аурий стал угрожать мне разводом.
Калаба цинично улыбнулась.
— Мы живем в мире мужчин, Юлия. Наши мужья могут прелюбодействовать столько, сколько им заблагорассудится, но одна–единственная обида со стороны женщины может стоить ей жизни. Аурий тоже мог бы угрожать мне смертью. Однако он не только ненавидел меня, он меня боялся. Он всегда говорил, что полюбил меня прежде всего за мой ум, а уж потом за мою привлекательную внешность. Позднее и то и другое погубило его. — Калаба тихо и холодно засмеялась. — И он сказал, что снова хочет быть свободным. Но в таком случае он просто уничтожил бы все то, что я создала. Он ничем не вознаградил бы меня за мои усилия, и римский закон даже в этом случае был бы полностью на его стороне.
Калаба посмотрела на Юлию.
— Его смерть была быстрой и легкой. Мне не хотелось, чтобы он страдал от боли. Я задумала веселый пир. И те, кто был у нас в гостях в тот вечер, когда Аурий умер, были убеждены в том, что у него был апоплексический удар. — Ее губы скривились. — С одним врачом я договорилась о том, чтобы он подтвердил это, если, конечно, у кого–то позднее возникнут вопросы. Но вопросов не возникло.
Калаба снова села возле Юлии.
— Конечно, у тебя совсем другая ситуация. Кай молод. И чтобы его смерть выглядела естественной, тебе надо действовать более тонко. Есть малоизвестные средства, которые вызывают сильнейшую лихорадку, похожую на ту, что возникает в Риме, когда наступает половодье. — Калаба взяла Юлию за руку. Рука была холодной и потной. — Тебе страшно. Я тебя понимаю. Но поверь мне, после всего того, что он с тобой сделал, и после всех этих угроз есть ли у тебя какой–нибудь другой выход? Я знаю одну пожилую женщину, которая служила жене кесаря Августа, Ливии. У нее большие познания в этой области, и она могла бы нам помочь.
— Но зачем же убивать его? — растерянно спросила Юлия, вырвавшись из объятий Калабы и вскочив на ноги. Ей хотелось убежать отсюда.
— Разве это убийство, если ты вынуждена защищаться? Разве ты не знаешь, что становится с женщиной, которая остается без семьи и связей? Она становится обездоленной, брошенной на милость этого жестокого мира. Аурий занес меч над моей головой, и мне пришлось нанести ответный удар.
Юлия чувствовала себя бесконечно уставшей.
— Неужели нет другого выхода? — сказала она, уронив голову на руки и качая головой, ощущая, как холодный пот течет с нее градом.
Калаба промолчала, и комната на какое–то время наполнилась гнетущей тишиной. Калаба знала все слабости Юлии, и теперь настало время воспользоваться ими.
— Можешь пойти к матери и отцу и рассказать им, что с тобой случилось.
— Нет, я не могу этого сделать, — тут же сказала в ответ Юлия.
— У твоего отца есть власть и связи. Расскажи ему, как Кай избивал тебя, и пусть Децим Валериан сотрет его в порошок.
— Как ты не понимаешь, Калаба? Ведь отец потребует рассказать, почему Кай избивал меня. Он и так считает меня виноватой в смерти Клавдия. Если он узнает об Аницете, то не станет меня защищать.
Удовлетворенная, Калаба заговорила об еще одном союзнике Юлии:
— А твоя мать?
— Нет, — ответила Юлия, качая головой. — Я не хочу, чтобы она вообще знала об этом. Я не хочу, чтобы она плохо обо мне думала.
Калаба довольно улыбнулась. Гордость у Юлии оказалась такой же, как и у Кая.
— А как насчет Марка? — спросила она, собираясь лишить Юлию последнего союзника.
— Марк дал бы Каю немного своего лекарства, а потом пригрозил бы как следует, — сказала Юлия, находя для себя некоторое утешение в таком решении.
— И все это подвергло бы тебя еще большей опасности, — сказала Калаба холодным рассудительным голосом. — Однако есть и еще один выход. Попроси Марка уничтожить Кая финансово. Поскольку твоих денег уже не осталось, Кай, несомненно, согласится на развод, — спокойно сказала Калаба, отметив, что Юлия реагирует на ее слова так, как она и ожидала.
— И с чем я после этого останусь? Нет, это не решение, Калаба. Я останусь без аурея за душой, снова в доме отца, который будет контролировать каждый мой шаг. А я уже поклялась, что больше этого никогда в моей жизни не будет. Калаба молчала, зная, что Юлия в конце концов согласится с ней относительно того, что должно случиться. С самого начала, наблюдая за тем, какими страстными становились отношения между Юлией и Каем, Калаба знала, что все неизбежно кончится именно этим.
Юлия ходила из стороны в сторону, стараясь успокоиться и найти разумные обоснования. И она находила их, чувствуя одновременно прилив жестокости и каких–то неизвестных ей прежде чувств.
— Как мерзко он пользовался мной. Постоянно мне изменял. Транжирил мои деньги на развлечения и на женщин. После этого он пользуется похотью Аницета в своих интересах. Я спасла его, и где его благодарность за то, что его долг прощен? Ее нет! Он избивает меня и клянется меня убить. — Вся дрожа, Юлия снова села и закрыла лицо руками. — Он заслуживает смерти!
Калаба обняла ее за плечи.
— Успокойся, Юлия. Пусть Кай терзается после всего содеянного, — сказала она, определенно давая понять, что лично Юлия в этом невиновна.
— Но как мне это исполнить? Мне придется снова жить с ним, а я даже подумать не могу о том, чтобы вернуться туда.
— Я еще могу повлиять на Кая. В ближайшие дни я поговорю с ним и заставлю его понять, что его оскорбления обернутся бедой и для него самого. Он ведь не законченный глупец, Юлия. Он будет стараться все проверить, чтобы защититься от твоего брата и твоего отца. Мы обе знаем Кая. Он будет думать о том, как причинить тебе боль, и время покажет, насколько он умеет держать себя в руках. Не пугайся ничего. Доверься мне. Всего несколько доз в течение недели, и его здоровье заметно ослабнет. В течение нескольких последующих недель он уже не будет представлять для тебя никакой угрозы.
Сердце Юлии забилось, как попавшаяся в ловушку птичка.
— А если он что–то заподозрит?
— Юлия, дорогая моя, прости, что я говорю тебе это, но Кай никогда и мысли не допустит, что ты способна на такое. Он никогда не был высокого мнения о твоем интеллекте. Он не ценит тебя столь высоко, как я. Его свела с ума лишь плотская похоть. Так что можешь не волноваться о том, что он что–то заподозрит. Ему и в голову не придет, что ты можешь начать спасаться от него. — В этот момент Калаба слегка сжала руку Юлии в своей. — Но ты должна действовать разумно.
— Что ты хочешь сказать? — осторожно спросила Юлия.
— Будь с ним заботливой. Плачь о нем. Приноси богам жертвы за него. Проконсультируйся с врачами. Могу тебе назвать нескольких из них, которым ты можешь доверять. Но самое главное, Юлия, — что бы ни случилось, какие бы проклятия в твой адрес он ни произносил, не отвечай ему той же монетой. Никогда не теряй головы, иначе все пропало. Поняла? Пусть все вокруг думают, что ты любящая и верная жена. И наконец, Юлия, когда придет время, похорони его со всеми почестями.
Юлия медленно кивала головой, и ее лицо стало серым, как пепел. Когда она подняла голову, ее щеки были изборождены следами слез.
— Не печалься так, моя дорогая и милая подруга. Нет в мире никакого добра и зла, ничего черного или белого. Жизнь полна серых красок. А самый сильный инстинкт — это инстинкт выживания. Очень сильный инстинкт. И для этого не обязательно иметь сильное тело — нужно иметь сильный ум. И ты пройдешь через это.
Пришла служанка, которая принесла бальзам.
— Я сама позабочусь о ней, — сказала Калаба рабыне, закрыв за ней дверь. — Сними наряд, Юлия, и ложись на мою кровать, лицом вниз. Я постараюсь действовать как можно осторожнее.
При первом прикосновении Юлия вздрогнула. Бальзам жег, как огонь. Затем ощущения стали приятнее, она расслабилась и дала Калабе возможность обработать раны.
— Что бы я без тебя делала, Калаба?
— Разве я не говорила об этом с самого начала? Я всегда рядом. Тебе нет нужды до всего доходить самой. — Глаза Калабы сверкнули при этом черным огнем. — Когда все неприятности пройдут, тебе надо будет выбросить их из головы, забыть, что они вообще когда–то с тобой происходили. Только тогда ты сможешь обрести истинное счастье. Я покажу тебе путь к нему. — Калаба медленно водила рукой по спине Юлии. — Тебе еще многому предстоит научиться. Жизнь похожа на спектакль, Юлия, и наша задача в том, чтобы самим его написать. Думай обо всем, как об очередном акте… небольшом акте, за которым последуют и многие другие…
23
Хадасса проснулась от того, что кто–то прикоснулся к ее лбу.
— Она вся в поту, — сказала Юлия.
— У нее жар, моя госпожа. Это не опасно. Мы за ней смотрим, — робко сказала Элишива.
Хадасса открыла глаза и увидела, что лежит лицом вниз на каком–то соломенном тюфяке. Пол был каменным, каким он был в небольших помещениях, прилегающих к извилистым коридорам в подвалах виллы, где хранились домашние продукты. Кто–то приподнял ее одеяло, затем вновь заботливо накрыл ее.
— Раны еще не зажили, — сказала Юлия.
— Мы обработали их солью, чтобы не было заражения, моя госпожа, — сказала Лавиния таким испуганным тоном, по которому Хадасса поняла, что что–то произошло. Она попыталась повернуться и тут же вздрогнула — все ее тело охватила тупая боль, от которой она едва снова не потеряла сознание.
— Постарайся не шевелиться, Хадасса, — прошептала Юлия, положив руку ей на трясущееся плечо. — А то тебе будет только больнее, и раны снова откроются. Я пришла проведать тебя и посмотреть, как здесь о тебе заботятся.
Хадасса услышала голос Юлии и поняла, что та больше говорит не с ней, а с Лавинией, той самой служанкой, которая пыталась остановить Хадассу, когда она собиралась войти в покои Юлии и стать на пути Урбана. Значит, теперь Лавиния заботилась о ней. Элишива стояла в стороне и плакала, и Юлия приказала ей замолчать.
Юлия встала, и Хадасса услышала мягкий шелест ее одежды. Юлия приказала принести еды и вина, и побыстрее. Превозмогая боль, Хадасса привстала и постаралась сесть. Она была очень слаба; ее онемевшая, покрытая ранами спина ныла и, казалось, протестовала против малейшего движения. Лицо Юлии находилось в тени, и его нельзя было разглядеть как следует. Неужели Урбан изуродовал ей лицо? Когда Юлия повернулась, Хадасса увидела, что на лице ее госпожи нет никаких ран, и облегченно вздохнула.
— С тобой все в порядке, — сказала она, обрадовавшись.
Лицо Юлии смягчилось. Она опустилась на колени и взяла Хадассу за руку.
— Несколько ссадин, не более. Если бы не ты, Кай убил бы меня. — Юлия взяла Хадассу за руку и приложила ее к своей щеке, и когда она посмотрела Хадассе в глаза, ее собственные покраснели от слез. — Что я буду делать без тебя?
— Значит, меня отсылают, — грустно сказала Хадасса. Урбан мог приказать убить ее за невыполнение его повелений, даже если эти повеления сулили смерть ее хозяйке.
Юлия отвела взгляд. Ей не хотелось расставаться с Хадассой даже на короткое время. Ей было трудно сделать без своей верной служанки все то, на что ее настраивала Калаба.
— Здесь тебе оставаться опасно, — сказала Юлия, и в этих словах была изрядная доля истины. — Если Кай доберется до тебя, он тебя убьет. Поэтому я отошлю тебя к матери. Когда ситуация изменится, я пришлю за тобой.
Когда ситуация изменится? Хадассу насторожили эти слова, Урбан всегда презирал ее. Странно, но Хадасса с самого начала испытывала к нему отвращение. Возможно, Кай заметил это и в ответ возненавидел ее. Она терялась в догадках.
— А как же ты, моя госпожа? — спросила Хадасса, опасаясь за Юлию. Урбан был жестоким и беспринципным, одержимым темными страстями. — Он же сказал, что убьет тебя. — Хадасса не сомневалась, что он может это сделать, как только в следующий раз разозлится до такой степени.
Ресницы Юлии задрожали, но она оставалась твердой в своем решении.
— Ему меня не достать. Я остаюсь с Калабой. Сейчас она говорит с ним. Она может воздействовать на него и заставить его пожалеть о том, что он со мной сделал. К тому времени, когда она закончит с ним говорить, все уже будет не так опасно, и Кай начнет просить у меня прощения и умолять меня вернуться.
Хадасса внимательно изучала лицо Юлии и не увидела в нем ни капли сострадания или надежды. Но в глазах Юлии сверкало что–то пугающее, страшное. Она жаждала мести.
— Моя госпожа… — произнесла Хадасса, протянув руку к щеке своей хозяйки.
Юлия отпрянула от руки Хадассы и быстро встала. Иногда Хадасса заставляла ее испытывать сильную неловкость. Казалось, что эта юная рабыня глядела прямо в ее душу и знала все ее мысли.
— Все будет хорошо, — сказала Юлия и выдавила из себя улыбку. Ей очень не хотелось, чтобы Хадасса догадалась о ее намерениях, иначе Хадасса сделает все возможное, чтобы отговорить ее, а Юлия не знала, хватит ли ей сил устоять против вразумлений своей служанки. Юлия вспомнила Калабу и почувствовала, что ее решимость возросла. Кай угрожал ее жизни, и он должен умереть. Она ничем не заслужила такого жестокого и бесчеловечного обращения.
Лавиния вошла в помещение, неся перед собой поднос с хлебом, фруктами, нарезанным мясом и кувшином с вином. Опуская поднос перед Хадассой, рабыня сильно дрожала. При этом она смотрели на Хадассу умоляющим взглядом.
— Оставь нас, — презрительно приказала Юлия, и Лавиния вышла.
Когда они остались одни, Юлия стала вести себя по–другому. Она подошла к Хадассе и снова опустилась перед ней на колени.
— Ничего не говори матери, отцу и Марку о том, что здесь произошло. Это лишь еще больше осложнит ситуацию с Каем. Я сама должна решить все проблемы в наших отношениях и вернуться на виллу. Если Марк узнает о том, что Кай сделал со мной, я боюсь, как бы он не натворил бед, пытаясь отомстить.
Об этом даже не хотелось думать.
— Я понимаю, моя госпожа.
Юлия закусила губу, и казалось, что она хотела сказать что–то еще, но когда она заговорила, то ничего нового Хадасса не услышала.
— У меня и без Марка хватает проблем, — сказала Юлия. Хадасса никогда еще не видела ее такой встревоженной. — Мне надо идти. — Глаза Юлии снова повлажнели. — Мне будет тебя не хватать, — прошептала она и наклонилась, чтобы поцеловать Хадассу и щеку. — Ты даже не представляешь, как мне тебя будет не хватать.
Хадасса обхватила ладонями ее руку, испытывая сильные опасения за Юлию и не желая с ней расставаться.
— Пожалуйста, не отсылай меня!
В какое–то мгновение Юлия была готова согласиться на эту просьбу. Но в следующий миг она сощурила глаза в еще большей решимости пойти по уже выбранному пути.
— Если ты не хочешь, чтобы мои дела стали еще хуже, тебе нужно уйти, и чем скорее, тем лучше.
Хадасса покраснела от стыда. Урбан никогда не скрывал своей неприязни к ней. Вероятно, ее присутствие в его доме в последние месяцы только способствовало росту напряженности в отношениях и без того не идеальных.
— Тогда я буду молиться за тебя, моя госпожа. Я буду молиться о том, чтобы Бог защитил тебя.
— Я сама могу себя защитить, — сказала Юлия, вставая и решительно освобождая руку от объятий Хадассы. В дверях она остановилась. — Я приказала им служить тебе и помогать, как только ты того пожелаешь.
Поправляясь, Хадасса узнавала от Лавинии и Элишивы обо всем, что происходит в доме. После разговора с Калабой хозяин пришел домой и приказал принести ему вина. Он выпил весь кувшин вина, уставившись в пустоту, а его лицо было таким мрачным, что слугам стало страшно. На следующее утро пришел Марк, чтобы повидаться с сестрой, и ему сказали, что Юлия ушла в гости к друзьям.
— Тогда он захотел поговорить с тобой, — сказала ей Элишива, — но мы сказали ему, что ты ушла вместе со своей госпожой.
При одном только упоминании о Марке сердце Хадассы почему–то забилось чаще.
— Как он выглядел?
— О, прекрасно, — сказала Лавиния, мечтательно улыбаясь. — Если бы мне посчастливилось быть рабыней такого господина, я бы охотно выполняла все его приказания.
В конце недели Юлия вернулась вместе с Калабой, и у всех троих был обстоятельный разговор. Элишива принесла им вино, после чего ее отпустили. Спустя час женщины ушли. Элишива рассказала об этом визите Хадассе.
— Госпожа Калаба сказала: «Завтра, во второй половине дня, мы вернемся, так что у тебя, Кай, еще будет достаточно времени обо всем как следует подумать. Надеюсь, что теперь ты образумишься».
— Сегодня утром ему было плохо, — сказала Лавиния.
— Неудивительно. Всю неделю он пил.
Элишива принесла Хадассе новую тунику, но даже эта чистая и мягкая шерсть вызывала у нее на спине неприятные и болезненные ощущения.
— Лучше бы тебе побыть здесь еще несколько дней, — сказала Лавиния.
— Госпожа Юлия хотела, чтобы я ушла как можно скорее, — сказала Хадасса. Если Юлия придет завтра, то присутствие в доме Хадассы подвергнет Юлию опасности, как только Урбан узнает, что Хадасса до сих пор здесь. Хадасса медленно обвязала вокруг пояса еврейский кушак, как можно осторожнее завязывая его.
По пути к вилле Валериана ей несколько раз пришлось останавливаться. Вилла Урбана располагалась в богатом районе Рима, а Валерианы жили в старой части, с другой стороны Палентины. Хадасса не торопилась, останавливаясь, чтобы купить что–нибудь по пути. Ослабевшая и уставшая, она присела отдохнуть возле фонтана. Звук плещущей воды действовал на нее успокаивающе, и ей приятно было греться на солнышке. Поев фрукты и хлеб, которые она купила, она почувствовала прилив сил.
Енох весьма удивился, увидев ее.
— Хозяин сейчас на Тибре, а госпожа Феба в саду. Пойдем, провожу тебя к ней, — он не стал спрашивать, почему Юлия отослала Хадассу домой. Он просто обрадовался тому, что она снова здесь. — Моя госпожа, — сказал он, подойдя к Фебе, сидящей на скамье под увитой розами решеткой, — Хадасса снова вернулась к тебе.
Феба повернулась к Хадассе, и ее лицо, спокойное и равнодушное, тут же осветилось улыбкой. Феба встала, и Хадасса увидела, что Феба собирается обнять ее. Но прежде чем Феба успела сделать этот жест, неприемлемый с точки зрения Еноха, Хадасса быстро опустилась на колени и наклонилась вперед, чтобы коснуться ног Фебы в знак смиренного послушания.
— Моя госпожа Юлия вернула меня сюда, чтобы служить вам.
— Встань, детка. — Феба взяла в ладони лицо Хадассы и смотрела на нее с нескрываемой радостью. — Пусть же боги возрадуются. Мне и твоему господину так не хватало в эти месяцы твоих песен и историй, — она взяла Хадассу за руку и пошла с ней по садовой дорожке. — Но расскажи мне о моей дочери! В последнее время мы почти ничего о ней не слышали.
Хадасса отвечала на вопросы, стараясь не вдаваться в подробности и в то же время создавать у Фебы впечатление, что с Юлией все в порядке. Судя по всему, ответы Хадассы устраивали Фебу, поскольку та не стала подробно останавливаться на этой теме, а Хадасса осталась довольна тем, что ей не пришлось лгать.
— Сегодня вечером, Хадасса, ты будешь свободна, — сказала Феба. — Мы с господином Децимом встречаемся с нашими деловыми партнерами.
* * *
Марк пришел на виллу, когда день клонился к вечеру. Он устал и пребывал в невеселом настроении. Енох сказал ему, что родители ушли в гости, и от этого Марку стало еще более одиноко. Когда ему предложили поесть, он отказался. Ему даже не хотелось вина. Сегодня ему сообщили невеселые новости, и он пока не знал, как решать возникшие проблемы.
Марк вышел в сад, чтобы на свежем воздухе постараться собраться с мыслями, но тягостные мысли оказались сильнее того покоя, который он надеялся найти среди деревьев и цветов своей матери. И вдруг его сердце забилось сильнее, когда он увидел, что кто–то сидит на скамье, в дальнем конце садовой дорожки.
— Хадасса?
Она медленно встала, движения ее были какими–то скованными, и повернулась к нему.
— Да, мой господин.
Тот взрыв эмоций, который Марк почувствовал, увидев ее, почему–то заставил его насторожиться.
— Что ты здесь делаешь?
— Госпожа Юлия снова прислала меня сюда.
— Почему?
Хадасса вздрогнула от этого краткого вопроса.
— Ее муж хочет, чтобы ей прислуживала какая–нибудь другая служанка, мой господин.
Марк скрестил руки на груди и прислонился плечом к мраморной колонне. Получив сегодня днем новости, от которых у него голова пошла кругом, а теперь неожиданно встретив Хадассу, он пытался сохранять спокойствие, но чувствовал, как его сердце бьется все сильнее и сильнее.
— И это все, что моей сестре нужно в последнее время? — Марк пытался разглядеть лицо Хадассы в лунном свете, но она держала голову опущенной. — Слухи ходят самые нелепые, — сказал он после долгого молчания. — А сейчас вот говорят, что моя сестра провела час в покоях Аницета и вернулась оттуда с подписанными документами о том, что долги ее мужа прощены.
Хадасса ничего не сказала.
— Я знаю несколько человек, которые должны Аницету. Все они боятся закончить жизнь в Тибре, если не заплатят ему в отведенное время. Ну а теперь расскажи мне все, Хадасса. Каким образом моя сестра уговорила Аницета простить долги Кая?
Хадасса и на этот раз ничего не сказала, но он видел, как она вся напряглась.
Марк выпрямился и подошел к ней.
— Я хочу знать правду, и хочу знать ее немедленно!
— Я не знаю ничего из того, о чем ты сейчас говоришь, мой господин.
— Ты не знаешь? — повторил Марк и схватил Хадассу за руку, когда она попыталась отступить назад. — А может быть, не хочешь говорить? — Марк притянул ее к себе, и тут она посмотрела на него взглядом, исполненным физической боли, и упала. Удивленный, Марк подхватил ее, не дав удариться о землю. — Хадасса! — произнес он, растерявшись от такого поворота. Она обмякла в его руках.
Встревоженный обмороком Хадассы, Марк поспешно принес ее на виллу. Он сердился на самого себя за то, что все свои эмоции выплеснул на нее. Енох смотрел на него с нескрываемым удивлением.
— Принеси мне немного вина, Енох. У нее обморок. — Енох поспешил выполнять приказание, а Марк положил Хадассу на диван. Когда он убрал руку из–под ее спины, она застонала. Марк нахмурился. На белой шерсти ее туники показались пятна крови. Повернув Хадассу на бок, он стал внимательно рассматривать ее одежду. Увидев красный рубец на ее плече, он выругался.
— Вернувшись сегодня днем, она плохо выглядела, — сказал Енох, войдя в комнату с подносом. — Я посмотрю за ней, мой господин.
— Оставь вино и уходи, — сказал Марк, — и закрой дверь.
— Хорошо, мой господин, — удивленно сказал Енох.
Марк разодрал тунику Хадассы на спине от шеи до талии. Увидев ее спину, он почувствовал, как у него затряслись руки. Как можно так избить такую маленькую и хрупкую девочку? И чем она заслужила это? Он неотрывно смотрел на следы кнута, которые разрезали ее плоть. Их насчиталось не менее десятка, и нанесены они были сильной, тяжелой рукой. Юлия даже в самом яростном гневе не была способна на подобную жестокость. Такое мог сделать только Урбан.
Хадасса приподнялась. Еще ничего не соображая, она села, и разорванная туника стала сползать с ее плеч. В ужасе раскрыв глаза, Хадасса прикрыла ею грудь и в страхе уставилась на Марка. Ее бледные щеки моментально покраснели.
— Это Кай так тебя располосовал? — Никогда в жизни Марк еще не испытывал такой ненависти и такого жгучего желания отомстить.
Хадасса снова побледнела и готова была опять потерять сознание.
— Это я была виновата.
— Ты?! — воскликнул Марк, сердясь на нее за то, что она его выгораживает. — Что такого ужасного ты сделала, чтобы он так избил тебя?
Хадасса крепче вцепилась в свою тунику и опустила голову.
— Я не послушалась его.
Марк знал, что многие бьют своих рабов за малейшую провинность, например за медлительность или неуклюжесть. Но непослушание — совсем другое дело. Если бы Хадасса действительно не послушалась Урбана, он бы имел полное право убить ее. И в то же время Марк знал, что Хадасса просто так ничего не делает.
— А какова в этой истории роль Юлии?
Хадасса посмотрела на него взглядом, полным смятения.
— Она остановила бы это избиение, если бы смогла, мой господин. Потом она проследила за тем, чтобы меня там выходили, после чего послала сюда, для моей же безопасности.
Юлия никогда не была такой доброй, если это не отвечало ее собственным интересам. Кроме того, Хадасса ответила на его вопрос столь быстро, что создавалось впечатление, будто она заранее знала, что с этим вопросом ей придется столкнуться, и поэтому к нему подготовилась. Было ясно, что она сказала Марку далеко не все и что в этой ситуации Юлия сыграла отнюдь не последнюю роль. Он не стал устраивать Хадассе допрос, зная, что, храня верность Юлии, она будет молчать.
Отправившись на следующий день к Юлии, Марк был готов к тому, что ему снова скажут, что она ушла к друзьям, но она оказалась дома и выглядела привлекательнее, чем когда–либо.
— Голубой цвет тебе очень идет.
— Да, мне все это говорят, — сказала Юлия, радуясь такому комплименту. — Я люблю цвета, вообще все разноцветное. Этот наряд я сама придумала, — сказала она, повернувшись вокруг, чтобы Марк мог оценить изысканную одежду голубого цвета, с ярко–красной и желтой оторочкой. Роза среди диких цветов. Широкий кожаный пояс, отделанный медью, напоминал о том, что носит Аррия. От этой мысли Марку стало не по себе.
— Каю нездоровится, — сказала Юлия. — Пойдем в сад, не будем ему мешать. — Она взяла брата за руку. — Я так скучала по тебе, Марк. Ну расскажи мне, как у тебя дела. Расскажи мне все. Я ведь не видела тебя несколько недель.
— А я сколько раз хотел навестить тебя, дорогая сестрица. Но каждый раз, когда захожу сюда, ты уходишь к своим друзьям.
Юлия засмеялась, но ее смех прозвучал нарочито весело, что выдавало перемену в ее настроении. Затем она начала рассказывать Марку о зрелищах, на которые она ходит с какой–то подругой, а также о пирах, на которых она побывала. Ни слова об Аницете и почти ничего о Кае. Тогда Марк решил говорить открыто.
— Ходят слухи о твоей связи с Аницетом, — сказал он и тут же увидел, как у сестры покраснели щеки.
— И что это за слухи? — напряженно спросила она, избегая его взгляда.
— О том, что ты позволила ему пользоваться тобой, чтобы долги Кая были прощены, — жестко сказал Марк.
Юлия сверкнула глазами.
— На самом деле все было наоборот. Не он пользовался мной, а я пользовалась им.
— За несколько сестерциев?
— За пятьдесят тысяч сестерциев, — ответила Юлия, вызывающе вздернув подбородок.
— Цена здесь не важна, дорогая сестрица. Аурей или золотой талант — ты торговала собой. Неужели Кай допустит, чтобы ты таким образом решала вопросы и с остальными его долгами?
— А кто ты такой, чтобы указывать мне? Что ты знаешь о моей жизни? Ты же не знаешь, что произошло на самом деле!
— Тогда расскажи мне, как ты докатилась до такого!
Юлия в гневе повернулась к нему спиной.
— Позволь мне самой решать, как обустраивать свою жизнь. Меня давно тошнит от людей, которые навязывают мне свою волю.
Марк схватил ее за плечи и повернул к себе.
— Я хочу знать, что произошло с Хадассой, — сказал он, не в силах больше сдерживать свои эмоции.
Юлия ехидно сощурила глаза.
— Так, значит, ты беспокоишься не обо мне, а о какой–то рабыне.
— То, что произошло с ней, касается и тебя, — сказал Марк, все больше раздражаясь.
— А что она сама тебе рассказала?
— Ничего.
— Тогда откуда тебе известно, что ее избили?
— Я видел ее спину.
Юлия снова улыбнулась своей ехидной усмешкой.
— Она что же, заменила тебе Витию?
Марк отпустил Юлию. Взглянув на нее снова, он вдруг почувствовал необъяснимое отвращение, видя, какой стала его сестра. Какое–то время они смотрели друг другу в глаза; взгляд Юлии был твердым и упрямым, но потом ее лицо расплылось в какой–то боязливой улыбке, и Марк снова увидел свою любимую маленькую сестренку.
— Прости, я не хотела тебя обидеть. Я же знаю, что Хадасса не такая, как Вития, — сказала Юлия, приложив руки к вискам. Она посмотрела на него умоляющим взглядом. — Мне пришлось отправить ее обратно, Марк. Если бы она осталась здесь, Кай убил бы ее. А она мне так дорога, что я это и объяснить не могу. Не знаю, почему…
Марк, кажется, догадывался, почему. Вероятно, Хадасса оказывала на других людей такое же влияние, как и на него. Одно ее присутствие становилось для всех вокруг чем–то важным.
— Что произошло? — спросил он уже гораздо мягче.
Юлия вздохнула.
— Каю, как и тебе, не понравилось, каким образом я решила проблему с его долгами. Он потерял рассудок. Хадасса вмешалась и пострадала от того наказания, которое Кай приготовил для меня.
Марку показалось, что внутри у него все горит, — так у него все закипело от злости.
— А тебя он хоть раз ударил?
— Разве я похожа на побитую? — Когда он повернулся, чтобы уходить, Юлия положила ему руку на плечо. — Только не замышляй никакой мести, Марк. Поклянись мне, что не будешь делать ничего такого. Вообще, не вмешивайся в эту ситуацию. Поверь мне, ты сделаешь только хуже. — Опустив руку и подбоченясь, Юлия добавила: — К тому же, все неприятности уже позади. Когда Кай болен, он не представляет для меня никакой опасности.
— Не думай, что я буду о нем плакать.
Юлия посмотрела на брата взглядом, выражения которого ему было не постичь, — тут были удовлетворение, боль, неопределенность, смирение, — казалось, все это умещалось в глубине ее глаз. Она снова отвернулась.
— Как бы мне хотелось все тебе рассказать, — она пошла по дорожке. Остановились, она наклонилась и сорвала цветок.
— Ты по–прежнему любишь его?
— Я ничего не могу с собой поделать, — сказала Юлия и взглянула на Марка, печально улыбнувшись. — Наверное, я — как Аррия. Она никогда не перестанет тебя любить, ты же знаешь.
Марк сардонически улыбнулся.
— Она так и говорит?
Юлия оторвала с цветка белый лепесток и пустила его парить в воздухе.
— А тебе никогда не приходило в голову, что ее распущенность от одиночества? Или от отчаяния?
О ком она говорила — об Аррии или о самой себе? Она отрывала лепестки до тех пор, пока от цветка ничего не осталось.
— У меня были такие надежды, Марк. Жизнь так несправедлива.
— Жизнь такова, какой ты сама ее делаешь.
Юлия взглянула на брата с едва заметной улыбкой.
— Наверное, ты прав. До сегодняшнего момента я позволяла другим управлять моей жизнью. Отцу, Клавдию, Каю. Но больше никому не позволю. Я буду делать все, чтобы быть счастливой, — она посмотрела на цветочную пыльцу, оставшуюся на ее ладонях, и стряхнула ее на землю. — Мне надо проведать Кая. — Она обеими руками пожала руку Марка и направилась в дом. — Может быть, если я дам ему немного вина, ему станет лучше.
24
С майскими праздниками в Рим пришло всеобщее веселье. Жрецы, которых называли понтификами, или строителями мостов, бросали в Тибр связки тростника, сделанные в виде фигур людей, связанных по рукам и ногам. Весенние праздники, проходившие один за другим, постепенно перерастали в оргии. Во время Луперсалии молодые люди из аристократических семей бегали обнаженными взад–вперед по Виа Сакра, стегая прохожих специальными полосками из козьей кожи, — таков был ритуал, символизирующий плодородие. Либералия, или прославление Либера, бога виноделия, проводилась вместе с праздником Диониса, или Вакха, как он был больше известен в Риме; кульминацией было всеобщее потребление вина. Красивый и женоподобный молодой человек, который выступал в роли Вакха, ехал вместе с развратником Силеном в колеснице, запряженной леопардами, а юноши, достигшие шестнадцатилетнего возраста, теперь могли носить одежду, которая называлась тога вирилис, и признавались мужчинами, свободными от власти родителей.
Проводились в эти дни и зрелища. Луди Мегаленсес, которые проходили в честь Цивилы, фригийской богини природы и супруги Аттиса, бога плодородия, плавно переходили в Луди Цералес, открывавшиеся в честь Цереры, богини земледелия. Во время Луди Флоралес Атрет убил своего сотого противника, и, как всегда, аморате выкрикивали его имя и забрасывали его цветами.
Бато налил вина в серебряный кубок. Атрет большую часть времени пребывал в подавленном настроении, и только шум арены заставлял его пульс биться чаще. Но потом горячая кровь вновь становилась холодной, как лед. В тишине лудуса сознание Атрета избавлялось от жажды крови, он становился мрачным и злым. В отличие от Келера, который упивался своим именем и положением, Атрет становился все более раздражительным. Есть люди, которых рабство тяготит в любом случае, в какой бы золотой клетке они ни сидели. К таким относился и Атрет.
— Серт приехал в Рим, чтобы посмотреть на твое сражение, — сказал Бато, передавая кубок Атрету.
Атрет откинулся назад, пытаясь расслабиться, но напряжение не проходило. Казалось, оно пропитывало все помещение.
— Кто это такой, что я должен о нем знать? — сухо спросил Атрет, попивая вино и сверкая горящими глазами. Фаланги его пальцев побелели.
— Очень богатый и могущественный ефесянин, который работает с гладиаторами. Он приехал специально, чтобы посмотреть на тебя, а терпение императора, кажется, подходит к концу. Если ты выживешь после зрелищ в течение этой недели, он может продать тебя Серту и с наслаждением смотреть, как ты отплываешь развлекать турок.
— А что, рабство в Ефесе лучше, чем в Риме? — саркастически спросил Атрет.
Бато налил себе вина. Он уважал Атрета. Несмотря на то, что теперь Атрет не выглядел таким неотесанным и приобрел лоск профессионального римского гладиатора, в нем по–прежнему билось сердце варвара.
— А это зависит от того, чего ты хочешь, — сказал Бато, — славы или свободы. — Он заметил, что Атрет стал слушать его очень внимательно. — В прошлом году, во время Луди Плебеи, Серт проводил схватки на выживание. Начали с двенадцати пар, а закончилось все схваткой трех гладиаторов друг против друга. — Бато попивал вино, а Атрет не отрывал от него глаз. — И тот единственный, кто выжил, получил свободу.
Атрет наклонился вперед.
— Все зависит от того, как ты поведешь себя на ближайших зрелищах. Веспасиан поручил проводить их Домициану.
Атрет понимал, чем ему грозит такая весть.
— И сколько человек выйдет против меня?
— Один. Пленник.
Удивившись, Атрет нахмурился.
— Пленник? Зачем мне такие поддавки? Я, наверное, и не успею показать никакой зрелищной схватки, и этому Серту будет не интересно?
Бато покачал головой.
— Ты недооцениваешь своего противника, — мрачно сказал он, зная гораздо больше, чем мог сейчас сказать Атрету. Домициан был ловким. И жестоким.
За все то время, что Атрет провел в Риме, он так и не понял остроты и изворотливости римского менталитета.
— Далеко не всегда тренировки, телесная сила и даже оружие дают человеку преимущество. Иногда победу человеку приносит то, как он думает. У каждого есть своя ахиллесова пята, Атрет.
— И какая же у меня?
Бато посмотрел на него поверх своего кубка, но не ответил. Он не мог ответить, не рискуя при этом своей жизнью. Если он подготовит Атрета к схватке в полной мере, Домициан обязательно узнает об этом.
Такая ситуация заставила Атрета начать серьезно думать о том, в чем его уязвимость.
— Ты помнишь того молодого римского аристократа, которого ты едва не искромсал в первые недели пребывания здесь? — сказал наконец Бато. Хотя, даже произнося эти слова, он рисковал. — Так вот, он не забыл того унижения, как не потерял и благосклонности со стороны Домициана. Вот они вдвоем и придумали весьма забавный способ уничтожить тебя.
— Забавный?
Хотя дружбы между гладиатором и ланистой возникнуть не могло, между ними установилось что–то вроде взаимного уважения. Атрет понимал, что Бато рассказал ему о предстоящих зрелищах все, что мог, и пытался теперь понять то, что тот не сказал.
— Не забывай, что самым большим достижением Домициана была его победоносная война с германцами, — сказал Бато.
Атрет сардонически засмеялся.
— Он может думать все, что угодно, но нас не победить. Сопротивление будет продолжаться, пока в живых остается хотя бы один германец.
— Один германец ничего не сделает, а тот союз, который был у вас между племенами, оказался непрочным, — многозначительно сказал Бато.
— Мы всегда были как братья в борьбе против общего врага и скоро снова наберемся сил. Моя мать пророчила, что ветер с севера разрушит Рим.
— Ветер, который в твоей жизни может так и не подуть, — сказал Бато. Он поставил кубок и наклонился к Атрету, упершись руками в стол. — Следующие несколько дней молись какому хочешь богу. И проси его о том, чтобы мудрости в тебе было побольше. Домициан очень хорошо изучил тебя, Атрет. И свобода для тебя может стоить гораздо дороже, чем ты можешь заплатить, — сказав это, Бато вышел.
* * *
Децим лег на диван и взял Фебу за руку. Он слушал, как Хадасса играла на своей маленькой арфе и пела о стадах на тысяче холмов, о пастыре, стерегущем своих овец, о море, небе и шуме ветра. Напряжение постепенно покидало Децима, и ему стало казаться, что он плывет по волнам. Он устал, — устал от жизненных трудностей, устал от боли, устал от своей болезни. Через несколько месяцев они с Фебой навсегда переедут в Ефес, и там, в его имении, проведут остаток своей жизни. Все имущество, которым он владел в Риме, перейдет к Марку. Децима беспокоила судьба Юлии, но тут уж он ничего не мог изменить. У нее есть муж, который позаботится о ней, она теперь сама хозяйка своей судьбы. Она уже давно была не в его власти.
Феба чувствовала настроение мужа и хотела избавить его от депресии. Красивая музыка в этот вечер, судя по всему, только еще глубже погружала его в невеселые мысли.
— Расскажи нам какую–нибудь историю, Хадасса, — сказала Феба.
Хадасса положила арфу себе на колени.
— Какую историю вы хотите услышать, моя госпожа?
Юлии нравились истории о битвах и любви, о Давиде и сильных воинах, о Самсоне и Далиде, Есфири и царе Артаксерксе.
— Расскажи нам о своем Боге, — сказала Феба.
Хадасса опустила голову. Она могла рассказать им о сотворении мира. Она могла рассказать им о Моисее и о том, как Бог трудился в нем, чтобы дать Своему народу закон и вывести их из Египта в обетованную землю.
Она могла рассказать им об Иисусе Навине и Халеве, а также о разрушении Иерихона. Подняв голову, она посмотрела на Децима. Увидев глубокие морщины на его лице, заметив, в каком подавленном настроении он находится, Хадасса почувствовала, как ее охватила волна сострадания.
Слова пришли к ней настолько ясно, что ей казалось, будто ее отец стоит рядом и рассказывает эту историю, как он часто делал в своей небольшой лавке в Галилее, сидя за гончарным кругом. Господи, говори во мне так, чтобы они услышали Твой голос, — молча помолилась Хадасса.
— У одного человека было два сына, — начала она, — и младший из них сказал своему отцу: «Отец, дай мне ту долю наследства, которая мне положена». Отец разделил между ними свое имущество. Вскоре младший сын собрал свои вещи и отправился в далекую страну. Там он промотал свое имущество, живя распутной жизнью.
Феба почувствовала себя неловко, невольно вспомнив о Марке. Она посмотрела на Децима, но тот слушал с интересом.
— И вот, когда он все растратил, в той стране наступил жестокий голод, и младший сын стал жить в нужде. В поисках работы он обратился за помощью к одному из граждан этой страны, и тот отправил его пасти свиней. Юноша был рад есть даже то, что ели свиньи, потому что ему вообще никто ничего не давал. И вот настал момент, когда он задумался и сказал себе: «Рабы в доме отца моего живут в достатке, а я умираю здесь от голода! Встану и пойду к отцу моему и скажу ему: «Отец, я согрешил против небес и против тебя, я теперь недостоин называться твоим сыном. Позволь мне быть одним из твоих рабов!»». И он встал и пошел к отцу.
Сделав паузу, Хадасса сложила руки на коленях и продолжила:
— Когда сын еще только подходил к дому, отец издали завидел его и сжалился над ним. Он побежал сыну навстречу, обнял его и поцеловал его. Сын сказал ему: «Отец, я согрешил против небес и против тебя; теперь я недостоин называться твоим сыном».
Хадасса знала, что существует неписаное правило, согласно которому рабы не должны смотреть в глаза своим хозяевам, но в этот момент она ничего не могла с собой поделать. Она подняла глаза и посмотрела на Децима Виндация Валериана. Она видела его боль и восприняла ее как свою собственную.
— Но отец сказал своим рабам: «Принесите лучшие одежды и оденьте его, наденьте ему на руку перстень, а на ноги сандалии; приведите откормленного теленка, заколите его, будем есть и веселиться; потому что сын мой был мертв, а теперь ожил, пропадал и нашелся…».
В комнате наступила звенящая тишина. Хадасса снова опустила голову.
Феба посмотрела на Децима и пришла в смятение, увидев выражение его лица. На его глаза навернулись слезы. За все годы супружества она никогда не видела мужа плачущим.
— Можешь идти, Хадасса, — сказала Феба, думая о том, что лучше бы она не просила Хадассу рассказывать свои истории. Эта история коснулась ее сердца и заставила испытать ужасную и необъяснимую тоску. Девушка тихо встала.
— Нет, подожди, — медленно произнес Децим и жестом велел ей снова сесть. — Отец в этой истории, как я понял, — твой Бог.
— Да, мой господин.
— Твоя страна разорена, а твой народ порабощен.
Хадасса ощутила прилив теплых чувств к своему хозяину — он был так похож на своего сына. Она вспомнила, как много месяцев назад Марк говорил в саду те же самые слова. Если бы она была мудрее! Если бы она знала Писание так, как знал его ее отец.
— Бедствие тоже может стать благословением, если оно приводит человека к Богу.
В этот момент в помещение вошел Енох, неся перед собой поднос с вином и фруктами. Он поставил его перед Валерианами и стал разливать вино.
— А что в этой истории говорится о старшем сыне, который остался с отцом? — спросила Феба.
Хадасса смущенно покосилась на Еноха.
— Он работал в поле и когда пришел домой, то услышал шум веселья. Подозвав одного из рабов, он спросил его, что случилось. Тот ответил: «Вернулся твой брат, и твой отец приказал заколоть откормленного теленка, потому что брат твой вернулся целым и невредимым». Старший сын рассердился и не захотел идти в дом, поэтому отец вышел к нему и стал его уговаривать. Но старший сын так сказал отцу: «Смотри! Я столько лет служу тебе, никогда тебя не ослушался, а ты мне ни разу не дал даже ягненка, чтобы мне повеселиться с моими друзьями; но вот вернулся твой сын, который промотал свое наследство с блудницами, а ты для него заколол лучшего теленка». И отец сказал ему: «Сын мой, ты всегда был со мной, и все то, что мое — твое тоже. Но сейчас нам надо радоваться, потому что твой брат был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
Енох протянул наполненный кубок Фебе и стал наливать следующий. Децим взглянул на его каменное лицо, беря свой кубок.
— А какой из этих братьев ты, Енох? — спросил он его.
— Я не знаю этой истории, мой господин, — уклончиво ответил Енох. — Принести еще что–нибудь, мой господин?
Децим отпустил его и слегка улыбнулся, наблюдая, как тот уходит.
— Наверное, старший сын — это тот праведный иудей, который исполняет закон.
— А младший сын — это тот иудей, который отвернулся от своей религии, — сказала Феба. Она повернулась к Хадассе, ища у нее подтверждения.
— Все люди сотворены по образу Божьему, моя госпожа. Не только иудеи. — Хадасса посмотрела на Децима. — Мы все Божьи дети. И Он любит всех нас одинаково, иудеев и язычников, рабов и свободных. Мы не можем заслужить Его любовь, мы только можем ее принять как дар, — дар, который Он дает каждому из нас.
Децима удивили слова Хадассы, и еще больше его удивил тот факт, что она открыто высказала свои убеждения. Маска спала, и теперь перед ним было истинное лицо ее религии. Ему стало интересно, понимает ли Хадасса весь практический смысл того, что она говорила, — ту угрозу, которую ее идеология несла самой структуре Римской империи.
— Можешь идти, — сказал он, глядя, как она тихо встает и уходит.
Иудеев все презирали за их нравственность, их сепаратизм, их ярую приверженность своему закону, за их упрямую веру в единого Бога. Даже Енох, будучи рабом, держался несколько высокомерно, поскольку был убежден в том, что он — представитель избранного народа. Но то, что сказала о своей религии Хадасса, было выше всего этого. Ее слова разрушали стены национальной принадлежности и традиций. Каждый человек является чадом Божьим, все перед Ним равны. Ни один праведный иудей не согласится с таким утверждением и ни один римский император не потерпит его, потому что оно не оставляет места для гордости первого и власти второго.
Но не только это не давало Дециму покоя. Раньше он уже слышал эти слова — так говорил человек с сильным голосом, который выступал у Египетского обелиска. Этого человека потом распяли вниз головой. А звали его Петр.
— Судя по всему, наша маленькая Хадасса вовсе не иудейка, Феба, — многозначительно сказал Децим. — Она христианка.
* * *
Атрет чувствовал, как в нем растут отчаяние и гнев, когда он, выйдя на арену, понял, какую месть задумал для него Домициан. Перед ним стоял крепко сложенный молодой человек с бородой и длинными светлыми волосами. Одет он был в медвежью шкуру, а в руках держал фрамею. Тот самый пленник, о котором Бато сказал ему ровно столько, сколько мог сказать. Германский пленник, к тому же, судя по некоторым известным Атрету особенностям, из его же племени, хотя Атрет и не мог узнать его.
— Атрет! Атрет! — скандировала толпа, сидящая на трибунах, и крик этот становился все тише, по мере того как гладиатор стоял, не в силах сделать ни одного шага, чтобы начать атаковать. Были в толпе и те, кто начал отпускать оскорбительные шутки. Как быстро изменилось их настроение. По толпе пошли другие крики. «Подстегните их! Подогрейте их!» — кричали те, кто только что во всеуслышанье признавался ему в любви. Атрет увидел, как на арену вышел один из наставников, который нес раскаленное железо, и понял, что тот собирается подтолкнуть молодого пленника к схватке. За спиной Атрета, возле стены, появился Бато с разъяренной физиономией. Взглядом он показал Атрету на трибуну, где сидел Домициан. Повернув голову, Атрет посмотрел наверх. Домициан и его друг откровенно смеялись!
Когда германский воин застонал от боли, Атрет излил всю свою ярость на римского наставника. Толпа вздрогнула, когда он одним ударом своего меча раскроил этого человека. Наступило напряженное молчание.
Атрет повернулся к воину и принял оборонительную позицию.
— Убей меня, если сможешь! — сказал он на германском языке.
— Так ты из племени хаттов! — удивился его противник.
— Сражайся!
Воин опустил свою фрамею.
— Я не буду сражаться с братом. На потеху римской толпе! — оглядев трибуны, заполненные зрителями, он сплюнул на песок.
Атрет увидел самого себя пятилетней давности. Его пальцы побелели, когда он сжал меч. Ему придется либо заставить его сражаться, либо обоих будет ждать постыдная смерть. И Атрет начал издеваться над молодым воином, как когда–то издевались над ним самим, насмехаться над его гордостью, вспоминая о том поражении, в результате которого он сам стал пленником и оказался на римской арене. Он знал, где сокрыто пламя в сердце германца, поэтому разжигал это пламя до тех пор, пока глаза германца снова не запылали яростью и пока он снова не поднял свою фрамею.
— Ты похож на римлянина, от тебя воняет римлянином… ты и есть римлянин! — сказал воин, не представляя, какие болезненные раны наносил он Атрету этими словами.
Пленник сражался хорошо, но его соперник все же был сильнее. Атрет пытался сделать поединок продолжительнее, но толпу ему обмануть не удалось, и с трибун раздались гневные возгласы. Пойдя в атаку, Атрет нанес германцу смертельную рану, и когда он высвободил свой окровавленный меч, германский воин упал на колени, закрыв рану руками. Кровь хлынула у него между пальцев, когда он с усилием поднял голову.
— Никогда не думал, что умереть мне суждено от руки брата, — произнес он с явным презрением.
— Лучше погибнуть от моей руки, чем быть брошенным в яму с дикими зверями или распятым на римском кресте, — сказал Атрет. Он наклонился, подобрал фрамею, готовясь к тому, что ему предстояло сделать. Фрамею он протянул воину. — Пусть они видят, как умирает германец. — Когда воин посмотрел на Атрета, он воскликнул: — Встань с колен!
Опершись на свое оружие, германец встал. Как только он встал на ноги, Атрет пронзил своим мечом грудь германца, поразив его в сердце.
— Отпускаю тебя домой, к Тивазу, — вынув из него меч, Атрет дал своему противнику возможность упасть на спину, раскинув руки в стороны. Толпа одобрительно взревела.
Тяжело дыша, Атрет не стал подбирать римский меч. Вместо этого он наклонился и поднял фрамею. С влажными от слез глазами он повернулся и уставился на Домициана. Даже победив в этой схватке, Атрет знал, что потерпел поражение. Подбросив фрамею как можно выше, он выругался в адрес Домициана на германском языке. Прежде чем Атрета отправили в камеру, Бато увел его к себе.
— Веспасиан продал тебя Серту. Через два дня тебя увезут в Ефес. Атрет стиснул зубы, играя желваками на скулах, но ничего не сказал.
— Да, дорого тебе далась такая возможность. Не упускай ее, — сказал Бато.
Атрет поднял голову и посмотрел на него. Бато никогда еще не видел у него таких холодных глаз.
— Пусть боги и дальше будут улыбаться тебе и дадут тебе свободу, которую ты по праву заслуживаешь, — сказал Бато, кивнув стражникам, давая знак, чтобы Атрета увели.
В своей темной камере Атрет закрыл лицо руками и заплакал.
25
Хадасса сидела на полу вместе с другими верующими и слушала, как Асинкрит говорил о проблемах, с которыми они все сталкиваются.
— Нам приходится бороться за право жить благочестивой жизнью в плотском мире. Мы должны помнить, что Бог не призывал нас изменить общество, чтобы в нем лучше жилось. Он не призывал нас завладеть политической властью, как не призывал нас хранить римский образ жизни. Бог призвал нас к более высокой миссии — нести всему человечеству Благую Весть о том, что пришел наш Искупитель…
Склонив голову, Хадасса закрыла глаза и помолилась о том, чтобы Господь простил ее. Ей было стыдно. Она ведь еще никому не принесла Благой Вести. Когда ей представлялась такая возможность, она в страхе уходила от людей. Ее хозяин и хозяйка просили ее рассказать им о Боге, и она завуалировала эту истину в притче. Ей нужно было рассказать им об Иисусе, о Его смерти на кресте, о Его воскресении, о Его обетованиях, которые Он дал всем, кто верит в Него.
Асинкрит продолжал говорить, вспоминая о том, что ему говорили Петр и Павел, до того как приняли мученическую смерть. Он еще раз читал из воспоминаний апостолов, и Хадасса едва сдержалась, чтобы не заплакать.
Как она может утаивать в себе истину от тех, кто ее так любит? Хадасса непрестанно молилась о каждом из них. И все же, может быть, еще оставалась молитва, о которой она забыла? Как эти люди могут обратиться к Богу, если она только развлекает их своими рассказами, но не говорит им фактов? Как они могут понять более глубокий смысл этих историй, если они не знают Бога? Хадасса постоянно прикладывала сжатую в кулак руку к груди, стараясь унять боль, которую она чувствовала. Бог привел ее в эту семью для какой–то цели, но она ничего не сделала, чтобы этой цели добиться.
Почему Валерианы так одержимы какими–то второстепенными вещами? Не проходило недели без того, чтобы Марк и Децим не спорили о политике или бизнесе. «Национальный бюджет должен быть сбалансирован, а государственный долг нужно сокращать!» — настаивал Децим; Марк утверждал, что власть берет на себя слишком много функций и их нужно ограничивать. Децим говорил, что беда Рима в неустойчивости внешней торговли, утверждая при этом, что римляне давно разучились работать, стали довольствоваться жизнью за государственный счет.
— Последние тридцать лет ты импортировал товары и разбогател на этом, — незамедлительно указывал отцу Марк. — И теперь, когда ты пользуешься всеми благами римского гражданства, ты хочешь лишить этой возможности всех остальных. — Он засмеялся. — Хотя, отчасти, может, ты и прав. Чем меньше конкуренция, тем выше цены!
Только в одном у отца с сыном не было разногласий: империя катится к банкротству.
После этих бесконечных споров Феба звала Хадассу и просила ее поиграть на своей арфе, чтобы успокоить растревоженные души отца и сына. Но сердце самой Хадассы тоже изнывало от страданий. Неужели так важно, падет Рим или нет? Разве можно сравнивать какую–либо страну с судьбой простой человеческой души в вечности? Но как ей, простой рабыне, юной девушке, открыть глаза этим римлянам, чтобы они задумались над тем, что по–настоящему важно?
Она пыталась найти ответы на свои вопросы в собрании, общаясь с другими верующими. Иногда она находила их. Иногда нет.
О Боже, помоги мне, — вдохновенно молилась Хадасса, прижав руку к сердцу. — Дай мне смелость. Дай мне Твое Слово. Пусть оно всегда живет в моем сознании, в моем сердце. Покажи мне, как я могу достучаться до них!
Как она могла объяснить Валерианам, Кто такой Спаситель, если никто из них вообще ни в ком не нуждался? Как она могла объяснить им, что они принадлежат Богу, Который их сотворил, если они верили в каких–то каменных идолов, а не во Всемогущего Творца? Как она могла рассказать им о том, Кто есть Бог, или убедить их в Его существовании вне ее собственной веры, обычной веры обыкновенной рабыни? И что есть вера, как не уверенность в том, на что ты надеешься, убежденность в том, чего ты не видишь? О Иешуа, Иешуа, я люблю Тебя. Прошу Тебя, помоги им. Хадасса даже не могла найти правильных слов, чтобы высказать то, что ей было нужно. Для чего еще Бог привел ее в дом Валерианов, как не для того, чтобы принести им Благую Весть о Христе? Она видела в них духовный голод и знала, что у нее есть тот хлеб, который мог бы насытить их навеки. И они никогда больше не будут испытывать этого голода… Но как ей сделать так, чтобы они приняли этот хлеб?
То спокойствие, которое Хадасса находила в собрании с другими верующими, сохранялось у нее на всем обратном пути к вилле. На служениях Хадасса могла открыто поделиться своей любовью к Богу и найти понимание со стороны окружающих ее людей. Она могла наслаждаться пением и совместными молитвами. Она могла принимать участие в хлебопреломлении и чувствовать близость Бога. Ей так хотелось научиться сохранять в себе это чувство духовного обновления в течение всего вечера и следующего дня.
Хадасса тихо вошла в сад виллы. Быстро пройдя по садовой дорожке, она вошла в заднюю часть дома. Закрыв за собой дверь, она вздрогнула, когда почувствовала, как кто–то крепко схватил ее за руку и повернул к себе.
— Где ты была? — спросил ее Марк. Он сжал свои пальцы еще сильнее, как бы требуя немедленного ответа, но Хадасса так испугалась, что не могла произнести ни слова. — Нам надо поговорить, — сказал ей Марк и повел ее в какую–то комнату, освещенную факелом. Отпустив Хадассу, он закрыл дверь и повернулся к ней.
— Иудеи не собираются по ночам и не устраивают тайных собраний, — сказал он, гневно сверкнув глазами.
Видя, как настроен Марк, Хадасса в испуге отступила назад.
— Еще раз спрашиваю! Где ты была?
— Поклонялась Богу вместе с другими верующими, — сказала она дрожащим голосом.
— Под другими верующими ты подразумеваешь других христиан, не так ли? — Лицо Хадассы при этом ужасно побледнело. — Ты ведь не будешь этого отрицать? — настойчиво продолжил Марк.
Хадасса опустила голову.
— Нет, мой господин, — очень тихо сказала она.
Он приподнял ей подбородок.
— Да знаешь ли ты, что я мог бы сделать с тобой за то, что ты исповедуешь религию, которая проповедует анархию? Я мог бы тебя убить. — Марк увидел страх в ее глазах. Ей следует этого бояться. Ей следует просто испытывать ужас от этого. Он отпустил ее.
— Мы не проповедуем анархию, мой господин.
— Не проповедуете? А как это, по–твоему, можно назвать, если ваша религия требует подчиняться в первую очередь вашему Богу, а не императору? — Марк был вне себя от ярости. — О боги, христианка в доме моего отца! — Он не мог понять, как он раньше не догадался. Стоило его отцу только предположить такую возможность, как все стало ясно. — Слушай меня внимательно и запоминай. Чтобы это было в последний раз, Хадасса. Пока ты живешь у нас, ты не будешь покидать виллу, если только тебе не скажут это сделать. Ни при каких обстоятельствах ты не будешь встречаться с этими христианами, и не будешь разговаривать с ними, если даже случайно встретишься с ними на улице. Понятно тебе? — Он сощурил глаза, глядя на ее побледневшее, перепуганное лицо. Она опустила голову. — Смотри мне в глаза! Хадасса снова подняла голову и посмотрела на него. Ее глаза наполнились слезами. Видя, как больно он ее обидел, Марк разозлился еще больше.
— Отвечай!
— Понятно, — очень тихо ответила она.
Марк испытывал угрызения совести из–за своей грубости, он невольно стиснул зубы.
— Ты не понимаешь. Ты просто ничего не понимаешь. — Похоже, она действительно не понимала, какому риску подвергала себя. — Этим людям приходится скрываться в темноте. Им приходится тайно проводить свои церемонии. Их Бог совершенно не похож на богов в храмах, которым поклоняются обычные люди. Я не знаю, как ты с ними встретилась, но теперь с этим покончено, ты покончишь с этим немедленно.
— Неужели Рим так боится истины, что готов ее уничтожить?
Марк нанес Хадассе пощечину, и удар оказался для нее настолько неожиданным, что она вскрикнула от боли и удивления. В следующую секунду она приложила ладонь к покрасневшей щеке.
— Ты, кажется, забыла, с кем говоришь! — прикрикнул на нее Марк. Он никогда и ни при каких обстоятельствах еще не бил женщин, и от того, что сейчас он сделал это, его сердце бешено заколотилось. Но если бы пощечина могла заставить Хадассу прислушаться к нему и понять его предостережения и повеления, он, не задумываясь, ударил бы ее еще раз.
Она быстро пришла в себя и покорно опустила голову.
— Прошу простить меня, мой господин.
Его ладонь горела от пощечины, но это было ничто по сравнению с тем, как горела его совесть. Хадасса ведь не сделала никому ничего плохого, а только служила всем членам его семьи, — служила преданно, с любовью. Марк вспомнил следы плети на ее спине — он знал, что она пострадала из–за Юлии. Он вспомнил, как она говорила с ним в саду у Клавдия, убеждая его пощадить рабов, потому что боялась, что ее Бог накажет его.
Причиной тому была ее вера в этого Бога.
И эта вера могла привести ее к смерти!
Марку пришлось заставить ее понять это.
Марк снова приподнял ей подбородок и увидел на ее бледной щеке розовый отпечаток своей ладони. Она не смотрела ему в глаза, но он заметил, что ее взгляд теперь ничего не выражал. У него было такое чувство, будто кто–то ткнул его в живот.
— Хадасса, — прошептал он. — Я не хочу тебя обидеть. Я хочу тебя уберечь. — Он прикоснулся рукой к следу от пощечины, как бы желая скрыть его.
Она подняла глаза, посмотрела на него и увидела в его глазах сострадание. Потом она прикоснулась своей рукой к его ладони, стараясь утешить его. Он взял ее лицо в свои ладони и притянул ее к себе, почувствовав запах ее волос.
— Хадасса… Хадасса… — он наклонился и поцеловал ее. Марк ощутил, как она слегка вздрогнула, его сердце забилось чаще, он запустил пальцы в ее волосы и поцеловал ее еще раз. Она уперлась руками в его грудь, но он уже обнял ее и стал осыпать поцелуями. Поначалу она упиралась, но потом, на какое–то краткое, но пьянящее мгновение, она смягчилась, ее губы перестали быть такими жесткими, и она больше не отстранялась от него. Прошло несколько секунд, и она, как бы осознав, что происходит, снова стала панически сопротивляться.
Марк отпустил ее, и она отпрянула, глядя на него широко раскрытыми темными глазами. Хадасса судорожно задышала, и от этого его сердце забилось еще чаще. Она отступила на шаг назад.
— Я хочу тебя, — мягко сказал Марк. — Уже давно…
Она закачала головой и отступила еще на шаг.
— Не смотри на меня так, Хадасса. Я вовсе не хочу тебя бить. Я хочу любить тебя.
— Я рабыня.
— Можешь мне об этом не напоминать. Я знаю, кто ты и что ты.
Она закрыла глаза. Нет, он не знает. На самом деле он совершенно ничего о ней не знает. Ничего самого важного.
— Мне нужно идти, мой господин. Пожалуйста…
— Куда идти?
— К себе.
— Я пойду с тобой.
Она снова посмотрела на него, вцепившись рукой в свою тунику.
— У меня нет никакого выбора?
Марк знал, что она скажет, если он предоставит ей выбор. Выступая против всех человеческих инстинктов, ее проклятый Бог требует от своих последователей чистоты.
— А если я скажу, что нет?
— Я прошу тебя не насиловать меня.
Марк так и вспыхнул.
— Насиловать тебя? — это слово так и резануло его. — Ты принадлежишь моей семье. Разве это насилие, если от чего–то, что принадлежит мне, я беру то, что хочу? И, по–моему, я оказываю тебе уважение, даже когда…
Тут он осекся, прислушиваясь к себе. Впервые в жизни Марк испытал невыразимое чувство стыда. Он уставился на нее, потому что на какое–то мгновение увидел себя так, как, должно быть, она видит его, и содрогнулся. Он назвал ее чем–то. Чем–то! Неужели он именно так и думал о ней? Как о вещи, которой может пользоваться, не заботясь о ее чувствах?
Марк с тоской смотрел на Хадассу и видел, насколько она беззащитна. Она была бледной и напряженной; можно было увидеть, как сильно и часто пульсирует жилка у нее на шее. Марку захотелось защитить ее, утешить, поддержать.
— У меня и не было таких намерений. — Марк подошел к Хадассе и увидел, что она напряглась еще больше, но осталась стоять на месте, потому что не имела права никуда уходить. Проведя тыльной стороной ладони по ее щеке, Марк думал, как исправить положение. — Я не собираюсь тебя насиловать, — сказал он. — Я хочу тебя любить. И ты этого хочешь, Хадасса. Наверное, ты еще слишком наивна, поэтому сама этого не замечаешь, но я знаю. — Он снова провел пальцами по ее щеке. — Милая маленькая Хадасса, позволь мне показать тебе, что такое любовь. Согласись.
Хадасса трепетала, ее тело живо отзывалось на прикосновения его руки, на его мягкий голос, на его — и ее собственное — желание. От его близости у нее перехватило дыхание…
Но то, о чем он говорил, было злом. То, о чем он просил, было неугодно Богу.
— Согласись, — шептал он. — Одно твое слово, и я буду так счастлив…
Хадасса покачала головой, не в силах произнести ни слова.
— Согласись, — уже более твердым голосом повторил Марк.
Хадасса закрыла глаза. Боже, прошу Тебя, помоги мне! — воскликнула она в своем сердце. Она тоже давно любила Марка. Те чувства, которые он в ней пробудил, теперь сжигали ее изнутри, сжигали ее рассудок, заставляли ее забыть обо всем, кроме ощущения от прикосновений его рук. Марк снова поцеловал ее раскрытыми губами. Она отвернула от него свое лицо. Иешуа, помоги мне противостоять этим чувствам. Рука Марка нежно прикоснулась к ней, и шок от этого прикосновения заставил ее отпрянуть.
Марк закрыл глаза, его охватило необычное ощущение утраты.
— Ну почему ты, единственная из всех женщин, к которым я испытывал сильные чувства, поклоняешься Богу, требующему чистоты? — Он снова протянул к ней руки и обнял ими ее лицо. — Отрекись ты от своего Бога. Он ведь только и делает, что запрещает тебе те немногие радости, которые может дать нам жизнь.
— Нет, — мягко, но решительно сказала она.
— Ты же хочешь меня. Я это вижу по твоим глазам.
Она закрыла глаза, заставив его тем самым замолчать.
Чувствуя, что его надежды рушатся, Марк резко, с усилием засмеялся.
— Посмотрим, сможешь ли ты еще раз сказать «нет». — Он притянул Хадассу к себе и снова стал целовать, дав волю всей той страсти, которая мучила его последние недели. От девушки пахло амброзией, и он упивался ею, пока его собственное желание не оказалось невыносимым для него самого. Затем, в конце концов, он ее отпустил.
Оба дрожали. Ее глаза были полны слез, а лицо было бледным и отрешенным.
Марк смотрел на нее сверху вниз и знал, что дела обстоят так, как он и надеялся. Она хотела его. И все же та незначительная боль в его теле не шла ни в какое сравнение с огромной болью в его сердце. Он пробудил в Хадассе желание к нему, чтобы добиться ее покорности. Но, в конечном счете, он сделал все для того, чтобы между ними выросла еще более высокая стена. Будет ли Хадасса теперь когда–нибудь доверять ему?
— Очень хорошо, — сказал он, насмешливо скривив губы. — Иди спать на свой холодный тюфяк, и пусть тебя согреет твой невидимый Бог. — Жестом он велел ей уходить и отвернулся. Закрыв глаза, он слышал ее тихие торопливые шаги.
Выругавшись, он сделал резкий выдох, испытывая почти физическую боль от своей глупости. Он отошел в другой конец помещения и налил себе вина. Его всего трясло. Он знал, что это нормальная реакция. Уже несколько недель он не был ни с одной женщиной. Он неожиданно вспомнил об Аррии и поморщился. Мысль о ней в минуты, когда в нем зарождалось новое чувство к Хадассе, была для него неприятна.
Хадасса.
Христианка!
Тут он вспомнил о двенадцати мужчинах и женщинах, привязанных к столбам и облитых смолой, вспомнил, как они кричали, когда их подожгли, чтобы они, подобно факелам, освещали Цирк Нерона. Вздрогнув, Марк осушил бокал.
* * *
Шесть крепких стражников благополучно доставили Атрета на корабль, где его уже ждал Серт. Этот круглолицый торговец гладиаторами с интересом рассматривал его.
— Оковы ему будут не нужны, — сказал он, обратившись к охране.
— Но, мой господин, он…
— Снимите оковы.
Атрет стоял неподвижно, пока с его рук снимали кандалы. Толпа зевак следовала за ним от самого лудуса и теперь собралась в порту. Кто–то выкрикивал его имя. Другие плакали, не скрывая своего сожаления по поводу его отъезда.
Атрет увидел, что Серт на борту корабля располагал своей охраной. Заметив его наблюдательность, Серт улыбнулся ему.
— Для твоей безопасности, — сказал он, — в том случае, если решишь броситься за борт и утонуть.
— Я не собираюсь кончать самоубийством.
— Прекрасно, — сказал Серт. — Я вложил в тебя целое состояние. Не хотел бы, чтобы эти деньги пропали даром. — Он протянул руку в сторону. — Иди туда.
Атрет вошел в помещения под палубой, которые были даже еще меньше, чем его камера в лудусе. В его каюте пахло деревом и смолой, а не камнем и соломой. Атрет вошел в нее и снял свою накидку.
— Мы отплываем через несколько часов, — сказал ему Серт. — Отдыхай. Потом пришлю к тебе кого–нибудь из стражников, чтобы ты взглянул в последний раз на Рим и на тех, кто тебя здесь любит.
Атрет холодно посмотрел на него.
— В Риме я уже повидал все, что хотел.
Серт улыбнулся.
— Увидишь теперь, как красив Ефес.
Когда Серт ушел, Атрет сел на узкую скамью. Откинув голову назад, он попытался мысленно представить себе родные места.
Но не смог.
Вместо этого перед его глазами стоял молодой германский воин.
* * *
Феба позвала Хадассу в перистиль.
— Сядь, — сказала ей Феба, освобождая место рядом с собой на мраморной скамье. Когда Хадасса села, Феба показала ей небольшой кусок пергамента. — Кай умер. Умер сегодня, рано утром. Децим уже ушел, чтобы помочь Юлии организовать погребение. — Взглянув на Хадассу грустными глазами, она добавила: — Ты ей скоро понадобишься.
Хадасса тут же подумала о том, что ей теперь придется расстаться с Марком. При этой мысли у нее екнуло сердце. Значит, на то Божья воля. Значит, Божья воля такова, что Хадассе нельзя больше здесь оставаться. Она не могла дать Марку того, чего он хотел, — и это относилось к любому мужчине, кроме того единственного, за которого ей суждено будет когда–нибудь выйти замуж, если замужество вообще будет Божьей волей в ее жизни. Наверное, именно таким образом Господь хочет уберечь ее от самой себя; Хадасса уже не могла отрицать того факта, что Марк прикоснулся к ней, того греха, который теперь был на ней. Она забыла Бога… Она забыла все, кроме тех сумасшедших чувств, которые тогда переполняли ее.
— Я отправлюсь к Юлии, как только ты скажешь, моя госпожа.
Феба кивнула. Однако, вместо того чтобы чувствовать удовлетворение, она испытывала некую тревогу.
— Мне кажется, что Юлию просто преследуют трагедии, не дают ей покоя. Сначала Клавдий, потом она теряет ребенка, а теперь и своего второго мужа.
Хадасса опустила голову, вспомнив о ребенке Юлии, похороненном в саду.
— Наверное, я была недостаточно чуткой по отношению к Юлии, — сказала Феба и встала. Она пошла по дорожке в сад. Хадасса пошла за ней. Феба остановилась возле клумбы и провела пальцами по лепесткам цветов. Обернувшись к Хадассе, она улыбнулась. — Нам было хорошо вместе, Хадасса. Мы обе любим цветы, так ведь?
Когда Феба выпрямилась, улыбка исчезла с ее лица. Она подошла к ближайшей мраморной скамье и села.
— Болезнь твоего хозяина прогрессирует. Он изо всех сил пытается скрыть это от меня, но я это знаю. Иногда в его глазах видна такая боль… — Феба отвернулась, стараясь скрыть слезы. — Он столько лет был одержим своей работой. Я все время ревновала его, поскольку работа отнимала у него большую часть времени и мыслей. Казалось, работа значила для него гораздо больше, чем я и дети.
Феба взглянула на Хадассу и жестом пригласила ее сесть.
— Болезнь сильно изменила его. Он стал таким беспокойным. Как–то он сказал мне, что на самом деле все то, что он делал, не так важно, как ему казалось, и недолговечно. Все его дела, по сути, оказались напрасными. Единственные минуты, когда он обретает покой, — это минуты, когда ты поешь ему.
— Наверное, это не столько от музыки, сколько от истины, моя госпожа.
Феба посмотрела на нее.
— Истины?
— Истины о том, что Бог любит его и хочет, чтобы он обратился к Нему за утешением.
— Зачем иудейскому Богу заботиться о римлянине?
— Бог заботится обо всех. Все люди сотворены Им, но только те, кто верит в Него, становятся Его детьми и сонаследниками Его Сына.
Феба наклонилась вперед и повернулась на голос, раздавшийся в саду. Марк был дома.
— Мама! — Он подошел к Фебе. — Я только что узнал о Кае, — сказал он, мельком взглянув на Хадассу.
Феба положила свою руку на руку Хадассы.
— Можешь идти, — сказала ей Феба. Потом она снова повернулась к Марку и обратила внимание, как он смотрит вслед поспешно удаляющейся девушке. Было видно, как заиграли мышцы его лица. Феба слегка нахмурилась. — Когда мы получили это известие, отец сразу отправился к Юлии.
Марк сел рядом с ней на скамью.
— Не отсылай Хадассу к ней обратно.
Удивившись, Феба внимательно посмотрела сыну в глаза.
— Я и сама не хочу отсылать ее, Марк, но, боюсь, я ничего не могу здесь поделать. — Феба посмотрела на него пристальнее. — Хадасса принадлежит твоей сестре.
Марк заметил, как внимательно мать изучает его, и отвернулся, думая о том, не стоит ли рассказать ей, как Хадасса приняла на себя побои, предназначавшиеся Юлии, и едва не умерла. Если он расскажет, мать наверняка передумает, но Юлия ему этого никогда не простит. Марку совсем не хотелось обижать сестру, но, с другой стороны, он хотел, чтобы Хадасса была здесь, рядом с ним. Он знал круг друзей, который образовался у Юлии, с тех пор как она вышла замуж за Кая. Он знал также, что они думают о христианах.
— У Юлии и без того достаточно личных служанок, мама. Если она просит Хадассу, пошли ей вместо нее Витию.
— Я уже тоже об этом подумала, — призналась Феба. — Но не мне здесь принимать решение, Марк. — Она дотронулась до его плеча. — Попробуй поговорить с отцом.
Децим вернулся на виллу ближе к вечеру. Сделаны были все приготовления к тому, чтобы похоронить Кая в катакомбах, за пределами городских стен. Римский закон запрещал хоронить людей в черте города, даже если для захоронений хватало места на территории частной виллы. Феба отправилась к Юлии, чтобы провести с ней вечер; Марк уже был у нее днем. Дециму показалось, что его дочь на удивление спокойна в такой трагической ситуации. Кай был молодым и полным сил человеком. Лихорадка убила его в считанные недели.
Теперь Децим отдыхал, и Енох принес ему вина. В помещении было прохладно, и Децим приказал ему наполнить жаровню дровами. Вошел Марк.
— Она слишком хорошо держится для молодой вдовы, тебе не кажется? — сказал Марк, откинувшись на диване и без особого интереса глядя на рабов, занятых приготовлением ужина.
— Наверное, она просто в шоке, — сказал Децим, выбирая себе кусок говядины, но чувствуя при этом, что у него совершенно нет аппетита.
Марк сжал губы. Он подумал о том, что его сестра либо в шоке, либо в большой радости, но оставил свои мысли при себе. Мать и отец ничего не знали о взрывах ревности и ярости Кая. Юлия так искусно научилась хранить тайны, что Марк и сам никогда не узнал бы об этом, если бы не увидел раны на спине Хадассы и не заговорил на эту тему с сестрой. Пожалуй, не стоило зря разжигать лишние страсти; по крайней мере, боги оказались милостивы.
Марк был готов поговорить о Хадассе и о том, чтобы она осталась с ними, но отец был настолько погружен в свои мысли, что пока начинать разговор не стоило. Децим позвал Хадассу, и, когда она тихо вошла, неся в руках свою маленькую арфу, Марк почувствовал сильное волнение. Ему хотелось, чтобы Хадасса посмотрела на него, но она не подняла глаз, с тех пор как села с инструментом и приготовилась играть. Ему так хотелось поговорить с ней наедине.
— Спой нам, Хадасса, — сказал Децим.
Марк старался не смотреть на нее, но от этого ему еще мучительнее было осознавать ее присутствие здесь. Как бы случайно роняя на нее взгляд, он украдкой наблюдал за грациозным передвижением ее пальцев по струнам и вслушивался в ее нежный голос. Затем он вспомнил ее мягкие губы и отвернулся. Отвернувшись, он встретился с пристальным взглядом отца.
— Достаточно, — сказал Децим и слегка поднял руку. Когда Хадасса встала, Децим снова заговорил. — Хадасса, тебе известно о том, что госпожа Юлия в трауре?
— Да, мой господин.
— Когда я виделся с ней сегодня, она просила меня прислать тебя к ней. Собери свои вещи и будь готова к заходу солнца. Енох отведет тебя. — Тут Децим почувствовал, как на это реагирует его сын.
— Да, мой господин, — сказала Хадасса, и в ее голосе не было ни малейшего намека на то, какие чувства она при этом испытывает.
— Все эти недели ты хорошо служила нам, — сказал Децим. — Мне будет не хватать твоей музыки и твоих историй. Можешь идти.
Склонив голову, Хадасса прошептала с дрожью в голосе слова благодарности и вышла.
Марк в ужасе уставился на отца.
— Юлия не имеет на нее никаких прав!
— А ты имеешь?
Марк вскочил со своего места.
— Ты ничего не знаешь о том, что там произошло!
— Я знаю достаточно много о том, что происходит здесь! Даже если бы не произошло этой трагедии, я бы в любом случае отправил Хадассу к Юлии завтра утром. Твои чувства к ней уже перешли всякие границы.
— Почему? Потому что она рабыня, или потому что она христианка?
Децима поразило то, что Марк не стал отрицать сам факт его влюбленности.
— Как бы там ни было, речь сейчас не об этом. Важно то, что Хадасса принадлежит твоей сестре. Я не думаю, что Юлия будет в восторге от того обстоятельства, что ты влюблен в ее рабыню. А что будет, если ты соблазнишь Хадассу и она забеременеет? — Глядя на реакцию сына, Децим нахмурился. — Когда мы приобрели Хадассу, твоя мать подарила ее твоей сестре. Юлия — моя дочь, и я люблю ее. И пока я хоть немного могу на нее воздействовать, она будет с той рабыней, которая ей нужна. Скажи, кому еще в жизни Юлия доверяет, кроме тебя? Эта маленькая иудейка служит твоей сестре с такой преданностью, какой не увидишь больше ни у кого. Хадасса любит твою сестру, что бы та ни вытворяла. Такая рабыня просто на вес золота.
— Ее любовь и верность несколько недель назад едва не стоили ей жизни.
— Да, я знаю, что Кай избил ее, — сказал Децим.
— А ты знаешь, что эти побои предназначались Юлии?
— Знаю. Кай своим обаянием ослепил твою сестру и твою мать. Но не меня.
— Тогда почему ты не помешал этому браку?
— Потому что не хотел совсем потерять свою дочь! Я заставил ее вступить в брак против ее воли, и все кончилось катастрофой. И я уже не имел права вмешиваться и запрещать брак с человеком, которого она сама выбрала. — С исказившимся от боли лицом Децим встал с дивана. Прошло еще какое–то время, прежде чем боль прошла и он снова мог говорить. — Иногда, как бы тебе ни хотелось защитить своих детей, приходится позволять им совершать собственные глупости и ошибки. И тебе только остается ждать и надеяться на то, что они обратятся к тебе, когда ты им будешь нужен. — Дециму вспомнилась история о блудном сыне, рассказанная Хадассой.
— Юлия сама виновата во многих своих бедах.
— Я знаю! Так было всегда, Марк. А тебе никогда не приходила в голову простая мысль? Если бы не Хадасса, твоя сестра наверняка была бы мертва.
У Марка все похолодело внутри. Разрываемый между любовью к Хадассе и обеспокоенностью за сестру, он побледнел, как и его отец.
Децим выглядел старым и изможденным, но он заставил сына многое переосмыслить. Некоторые вещи из прошлого лучше было не ворошить. Децим никогда не говорил об этом, но многое из того, что происходило на вилле Урбана, было ему известно. Закрыв глаза, он снова увидел Юлию ребенком — прекрасную, невинную, обаятельную, бегающую по саду и звонко смеющуюся. Потом его взору предстала сегодняшняя Юлия, замкнутая, бледная, страдающая настолько, что смотреть на нее было невыносимо больно.
Она взяла отца за руку и посмотрела на него снизу вверх потускневшим взглядом.
— Перед смертью он посмотрел на меня и попросил меня простить его… — сказала она с дрожью в голосе. — Я любила его, отец. Клянусь тебе, я действительно его любила.
Ее нервы были на пределе. То она тряслась от рыданий, то вдруг становилась совершенно спокойной, и слезы стекали по ее щекам, когда она погружалась в свои мысли. Получив известие о смерти Кая, пришла Калаба Шива Фонтанен, но Юлия не хотела ее видеть.
— Пусть уходит! Пожалуйста! Я не хочу ее видеть! Я никого не хочу видеть! — В этот момент казалось, что Юлия совершенно перестала владеть собой.
Децим надеялся, что Феба сможет дать дочери то утешение, в котором Юлия так нуждалась, но сомнения все равно не покидали его. Было в Юлии что–то глубоко сокрытое, что разъедало ее изнутри. И Децим вовсе не был уверен, нужно ли ему знать, что именно. Он и без того знал много о том, что она сделала. Сделала аборт, оплатила долги мужа, обесчестив себя. И что бы она ни сделала еще, Децим Валериан не хотел знать об этом. Уже то, что ему было известно, мучило его гораздо сильнее, чем его тяжелая болезнь.
— Не вмешивайся в это, Марк. Прошу тебя, не надо. Хадасса остается для Юлии тем, что она еще не потеряла. Хадасса служит ей от всего сердца. Она нужна Юлии, Марк. А то, что тебе нужно от Хадассы, в Риме ты можешь найти на каждом углу. Пожалуйста, хоть один раз в жизни не забирай у других то, что тебе нравится.
Сначала, пока Марк пристально смотрел на отца, его лицо горело, потом на него накатила холодная волна. Опустив глаза, он молча кивнул, чувствуя в глубине души, что тем самым подписывает Хадассе смертный приговор.
Не говоря ни слова, чтобы ничем не выдать отцу охватившей его дрожи, он повернулся и вышел.
26
Уже четвертый раз за неделю Юлия приказала Хадассе приготовить все, для того чтобы посетить захоронение Кая, расположенное за пределами города. Путь туда занимал несколько часов, и Хадассе надо было приготовить достаточно еды, дополнительную одежду на тот случай, если похолодает, и вино, чтобы успокоить нервы госпожи по дороге домой. После смерти Кая Юлию постоянно мучили ночные кошмары. Она приносила дары домашним богам и Гере, но ничего не помогало. Перед ее глазами все время стояло лицо Кая, каким оно было за несколько минут до его смерти. Тогда Кай открыл глаза, посмотрел на Юлию, и она ясно поняла, что он все знал.
Юлия боялась идти к захоронению одна, поэтому сегодня пригласила с собой Октавию. Мать считала, что ходить туда так часто просто нельзя. Марк один раз пошел туда с Юлией, но так был поглощен своими мыслями, что больше она сама не хотела звать его с собой. Ей нужен был такой человек, который мог бы отвлечь ее от ее мыслей. А Октавия всегда могла поделиться с ней сплетнями.
Четыре раба несли на плечах крытые носилки. В то время как Юлию и Октавию проносили по многолюдным городским улицам, Юлия смотрела вокруг отрешенным взглядом, занятая своими мыслями. Хадасса с несколькими рабынями шла впереди, чтобы к приходу Юлии там все было готово. Юлия чувствовала, что Октавия внимательно изучает ее, но ничего не сказала. Ее нервы были на пределе, ладони вспотели. Ей было тошно и холодно.
Октавия оглядела Юлию. Одетая в белую тогу, с мертвенно–бледным лицом, с безжизненными глазами, без всякой замысловатой прически, Юлия выглядела убитой горем и беззащитной. Октавия больше не испытывала к ней чувства ревности. До нее дошли слухи о кутежах и любовных похождениях Кая. Октавия самодовольно улыбнулась. Юлия заслужила все то, что Кай с ней сделал. Если бы Кай отвернулся от Юлии и женился на ней, Октавии, все было бы по–другому. Октавия еще раз посмотрела Юлии в глаза. Очевидно, она все еще его любит. Октавия ощутила прилив жалости к подруге.
— За те несколько недель, что мы с тобой не виделись, ты заметно похудела, — сказала Октавия. — Ты уединилась ото всех. Калаба очень о тебе беспокоится.
Калаба. Юлия сверкнула глазами. Ей так хотелось навсегда забыть эту женщину. Если бы не Калаба, она бы никогда не убила Кая. Юлия тяжело посмотрела на Октавию. Что она знает о болезни Кая? Что ей рассказала Калаба?
— И часто ты с ней видишься?
— Каждый день. Как всегда, хожу на ее собрания. Она о тебе так скучает.
— И что же она говорила тебе обо мне?
— О тебе? А что она может сказать? — Октавия нахмурилась, заинтригованная тоном Юлии. — Калаба не из тех, кто сплетничает, если ты это имеешь в виду. Уж тебе ли этого не знать — ты ей гораздо дороже, чем я.
Юлия уловила в голосе Октавии оттенок зависти и отвернулась.
— Просто в последнее время мы с ней совсем не виделись. Я сейчас ни о ком и ни о чем не могу думать, кроме как о Кае. — Слегка отодвинув завесу, Юлия посмотрела на заросший травой луг, усаженный деревьями, который простирался вдоль Аппиевой дороги. — Не понимаю, чего Калаба хочет от меня. — Следя за тем, как какая–то птица, расправив крылья, парит в ясном небе, Юлия почувствовала острое желание тоже стать птицей. Ей захотелось улететь далеко–далеко… Так далеко, чтобы больше не видеть Калабу и ничего не слышать о ней. Одна только мысль о ней внушала Юлии страх. Калаба знала все. — Наверное, она думает, что я сошла с ума, если так тяжело переживаю смерть Кая. Передай ей, что у меня все в порядке, — глухо произнесла Юлия.
— Лучше тебе самой сказать ей об этом. Ты ведь перед ней в таком долгу.
Юлия посмотрела на Октавию испуганным взглядом.
— Что ты имеешь в виду? В каком это я долгу перед ней?
— Ну… разве в тебе вообще нет чувства благодарности? Ведь это она познакомила тебя с Каем.
Опять эти язвительные намеки, опять эта злоба, проглядывающая сквозь улыбку Октавии. Неужели она по–прежнему ненавидит Юлию за то, что Юлия отбила у нее Кая, хотя Кай никогда особо Октавией и не интересовался? И Октавия сама прекрасно знала об этом. Это было очевидно. Но теперь Юлия не могла вынести еще и эту неприязнь.
— Если бы я не встретила Кая, я бы никогда не испытала всего этого горя, Октавия. Он и при жизни причинил мне столько боли!
— Да, я знаю. До меня дошли слухи…
Юлия посмотрела на нее с грустной улыбкой и, отвернувшись, стала смотреть на природу. Лучше бы она не звала Октавию с собой.
Закрыв глаза, Юлия постаралась думать о чем–нибудь отвлеченном, но из ее памяти все не уходил Кай — каким он был перед самой смертью, как говорил ей о своей любви, о своих чувствах, которые он испытывал с того самого момента, когда впервые увидел ее, о том, как ему стыдно за те обиды, которые он ей наносил, за свои любовные похождения и многочисленные долги. В те минуты Юлия испытала столь сильное чувство вины, что больше не хотела давать ему яд, но к тому моменту Кай уже был настолько болен, что изменить ничего было нельзя. Если бы она продолжала давать ему яд, его страдания закончились бы быстрее.
Кай так напугал ее в тот вечер, когда едва не убил ее. Юлия думала, что его смерть положит конец ее страху. Но теперь получалось, что все только начинается. Теперь она испытывала еще больший страх. Ей казалось, что всюду вокруг нее какой–то мрак, и от этого мрака ей было не избавиться.
Кай был таким жизнерадостным и полным жизненных сил. Люди задавали вопросы о его смерти, а Юлия думала только о том, догадываются они о чем–нибудь или нет. А что будет с ней, если они догадаются? Она помнила одну женщину, которую обвинили в убийстве своего мужа и которую на арене разорвали дикие собаки. Сердце Юлии бешено заколотилось. О ее поступке не знал никто, кроме Калабы. Калаба. Она дала Юлии яд и рассказала ей, как им пользоваться. Она призналась Юлии в убийстве своего мужа, когда он грозился развестись с ней. Конечно, Калаба никому ничего не расскажет. Юлия крепче сжала руки.
Калаба не сказала ей о том, насколько страшно будет наблюдать, как Кай неделю за неделей, день за днем, час за часом теряет силы. Она не сказала Юлии, какую та испытает боль.
Юлия крепко закрыла глаза, стараясь избавиться от образа Кая, бледного и изможденного. Его безжизненные глаза были подобны тусклым стекляшкам. И в них нельзя было прочесть ничего, кроме темноты и смерти. Наверное, если бы Юлия знала, как ужасно будет смотреть на него умирающего, она никогда не решилась бы на такой шаг. Она бы просто оставила его и ушла к себе домой, к матери, отцу и Марку. Она нашла бы какой–нибудь другой путь.
И все же доводы Калабы в пользу того, чтобы убить Кая, не были лишены основания. Он изменял Юлии с другими женщинами. Он мучил ее эмоционально, истязал ее физически. Он прокутил все ее деньги. Какой у нее еще оставался выбор, кроме как убить его?
Здравый смысл и самооправдание постоянно сменяли друг друга в сознании Юлии, но чувство вины непрестанно разъедало ее изнутри.
— Может, ты за что–то сердишься на Калабу? — спросила Октавия, продолжая внимательно изучать Юлию.
Как объяснить Октавии, что одно только появление Калабы напомнит Юлии о том, что она сделала? А ей хотелось как можно скорее забыть об этом.
— Нет, — равнодушно сказала Юлия, — просто мне сейчас не хочется видеть очень многих людей.
— Мне лестно, что ты попросила меня сегодня отправиться с тобой.
— Мы ведь подруги практически с детства… — Глаза Юлии вдруг налились слезами. — Прости меня, если я часто тебя обижала, Октавия. Я знаю, что бываю ужасной. — Юлия знала, что Октавия была влюблена в Кая. То обстоятельство, что Юлия увела Кая у подруги, когда–то доставляло ей удовольствие, но теперь она очень жалела об этом. Теперь она могла бы поклясться перед всеми богами, что была бы рада, если бы Октавия осталась с Каем.
Октавия наклонилась и поцеловала подругу в щеку.
— Забудем о прошлом, — сказала она, смахивая слезы с щек Юлии. — Я уже все забыла.
Юлия выдавила улыбку. Октавия ничего не забыла. Это Юлия почувствовала по холодному прикосновению ее руки. И сегодня она согласилась отправиться с Юлией только для того, чтобы видеть ее страдания и радоваться этому.
— Как ты проводишь время? По–прежнему ходишь в лудус?
— Не так часто, как раньше, — Атрета уже не стало, — ответила Октавия, пожав плечами.
Юлия почувствовала, как у нее подскочило сердце.
— Его убили?
— О, нет. Мне кажется, он вообще неуязвим. Но он ведь был занозой в боку императора, вот его и продали одному ефесянину, который проводит зрелища в Ионии. Я видела его схватку во время Луди Флоралес. Он сражался с другим германцем. Схватка, к сожалению, была неинтересной. Длилась всего несколько минут, и Атрет даже не посмотрел, куда показывает пальцем Домициан, — вверх или вниз. Он просто поставил своего противника на ноги и проткнул его мечом, вот так. — Пальцами она показала, как Атрет вонзил меч в сердце германца.
— Как бы я хотела с ним встретиться, — сказала Юлия, вспомнив о том, какой восторг испытала в тот день, когда Атрет посмотрел на нее. Она вспомнила его жест, и впервые за последние несколько недель испытала какие–то теплые чувства.
— А ты заметила, что некоторые новые статуи Марса и Аполлона как будто вылеплены с него? — заметила Октавия. — Это был самый красивый гладиатор из всех, кого я видела. Стоит только посмотреть, как он сражается, и меня уже в жар бросает. Ты знаешь, там, возле арены, по–прежнему продают маленькие статуэтки, изображающие его, хотя его уже нет в Риме. — Октавия приобрела одну, но скорее умрет, чем подарит ее Юлии.
Вскоре рабы опустили носилки и помогли женщинам сойти на землю. Хадасса и еще одна служанка уже приготовили еду, но Юлии есть совсем не хотелось. Она неотрывно смотрела на захоронение Кая. — Оно не очень большое, правда? — сказала она.
Октавия умирала от голода, но не хотела торопить события; ей не хотелось выглядеть безразличной к чувствам Юлии.
— Да нет, почему? Достаточно большое, — сказала она.
Юлия подумала, станет ли ей лучше, если памятник Каю будет больше. Отец предложил похоронить прах Кая в семейном склепе, где похоронены два ее родных брата, но такая мысль показалась ей ужасной. Когда ей придет время умирать, она не хотела быть похороненной рядом с мужем, которого убила. От этой мысли ее бросило в дрожь.
— Тебе холодно, моя госпожа? — спросила ее Хадасса.
— Нет, — равнодушно ответила Юлия.
— Я хочу есть, — нетерпеливо сказала Октавия, направляясь к приготовленному месту, где уже были разложены нарезанное мясо, фрукты, хлеб и вино. Юлия присоединилась к ней, но ела без особого удовольствия. Октавия, наоборот, поедала все с большим аппетитом. — Чем хороши дороги, так это тем, что во время путешествия у меня пробуждается аппетит, — сказала она, отламывая себе еще хлеба. — И все так вкусно. — Тут она взглянула на Хадассу. — Может, прикажешь своей маленькой иудейке спеть тебе?
— Кай ее ненавидел, — сказала Юлия и встала. Она снова встала у захоронения, обхватив себя руками, как бы защищаясь от холода, хотя день был солнечный и жаркий. Хадасса подошла к ней.
— Поешь чего–нибудь, моя госпожа.
— Как бы я хотела знать, в покое он сейчас или нет, — прошептала Юлия.
Хадасса опустила голову. Урбан был злым человеком, одержимым темными и жестокими страстями. Те, кто отверг Божью благодать и был жесток к своим ближним, вынуждены проводить вечность в месте страданий, где великий плач и скрежет зубов. Хадасса не могла сказать этого своей хозяйке. Что она могла сказать, чтобы утешить Юлию, которая, казалось, все еще продолжала его любить?
— Оставь меня с ним наедине на несколько минут, — сказала Юлия, и Хадасса подчинилась.
Сердце Юлии глухо забилось, когда она посмотрела на мраморное надгробие. Кай Полоний Урбан было выбито на чистом белом камне, и ниже два слова — любимому мужу. Вокруг захоронения вились цветущие виноградные лозы, а верхняя часть была украшена фигурками двух крылатых пухлых херувимов. Юлия медленно опустилась на колени, наклонилась и провела пальцами по выбитым на мраморе буквам.
— Любимому мужу, — произнесла она, и ее губы скривились в мучительной улыбке. — Я не жалею о том, что я сделала. Я не жалею. — Но слезы наполнили ее глаза и потекли по щекам.
— Ты останешься на вилле Кая? — спросила ее Октавия, когда Юлия вернулась и снова села рядом с ней.
Другие невеселые мысли теперь заняли Юлию, повергнув ее в еще большее уныние. Со смертью Кая она опять оказалась во власти отца. Марк снова вступил в права опекунства над ее имуществом. Она не возражала против этого — потому что Марк не станет ей отказывать в том, о чем она его попросит, — но она была против того, чтобы с ней обращались как с ребенком, чтобы ей приходилось, как ребенку, просить денег или разрешения на все, чего ей бы хотелось. Но, с другой стороны, какой еще судьбы она ждала после такого горького опыта семейной жизни? После двух браков, дважды оставшись вдовой, она совершенно не стремилась связывать себя новыми брачными узами.
— Нет, я не могу там оставаться, — сказала она. — Отец настаивает на том, что я должна вернуться домой.
— О, как это ужасно, — сказала Октавия с сочувствием в голосе. Оказавшись снова под крышей дома Децима Валериана, Юлия практически лишится свободы.
Юлия грустно улыбнулась.
— Иногда мне хочется вернуться в те дни, когда я была ребенком, бегающим по маминому саду. Тогда мне все казалось новым, удивительным, передо мной раскрывался целый мир. Теперь же мне все кажется… темным. — Юлия покачала головой, стараясь подавить в себе слезы разочарования.
— Тебе нужно просто отдохнуть, Юлия, — сказала Октавия, — через несколько недель отправимся на зрелища. Они помогут тебе забыть о твоих бедах. — Наклонившись, она прошептала, кивнув в сторону Хадассы и других. — Ты действительно отправила двух своих рабов на арену?
Юлия взглядом дала понять, чтобы Октавия вела себя осторожнее. Хадасса, узнав тогда о ее решении, очень огорчилась. Юлия даже не могла себе представить, что наказание двух рабов принесет такую боль ее маленькой подруге, но это было так. Однако Юлия не стала принимать в расчет чувства Хадассы. Она хотела только мести.
— Непослушания терпеть нельзя, — сказала Юлия нарочито громко, чтобы слышала Хадасса. — Они так были преданы Каю, что после его смерти им нельзя было доверять.
— Ну что ж, я думаю, что твое решение заставит остальных твоих рабов присмиреть, — сказала Октавия, слегка усмехнувшись. Она увидела, как побелело лицо у маленькой иудейки.
— Я буду тебе очень благодарна, если ты больше не будешь говорить на эту тему, — сказала Юлия. Вопреки ее ожиданиям, тот поступок не доставил ей ни малейшего удовольствия. Она встала. — Холодает. — Затем она приказала Хадассе и другим рабам готовиться к обратному пути. Октавия тоже устала от своей бесконечной болтовни и язвительных вопросов. Юлия в последний раз оглянулась на захоронение Кая и почувствовала боль сожаления. Если бы все можно было вернуть назад, она бы ни за что не убила бы Кая.
На обратном пути в Рим Юлия решила больше никогда не приходить к могиле Кая. Никакого покоя там она не находила. Более того, каждый раз, когда она приходила туда, ей становилось только хуже. Кай был мертв, и это означало конец тому несчастью, причиной которого он был.
Теперь Юлии очень хотелось знать, что делать со своей жизнью дальше. Она испытывала одиночество и пустоту. Ей так хотелось, чтобы песни и истории Хадассы доставляли ей радость, как когда–то, но теперь они только раздражали ее, вселяли в ее душу какое–то беспокойство, от которого она не могла избавиться. То же самое можно было сказать и о самой рабыне. Ее чистота и странная вера были для Юлии своего рода вызовом, едва ли не оскорблением. Еще более раздражающим было то чувство удовлетворенности, которое, судя по всему, было у Хадассы — и которого Юлия никогда в своей жизни не испытывала. Как может рабыня, у которой ничего нет, быть счастливой, тогда как Юлия, у которой все есть, несчастна?
Иногда, когда Юлия сидела и слушала сладкий голос Хадассы, ее охватывала волна жестокой ненависти по отношению к этой девушке. И тут же, подобно пробуждению, приходило чувство глубокого стыда и тоска, после чего Юлия чувствовала растерянность и жажду чего–то такого, что она сама не могла определить.
Юлия ощутила боль в висках. Надавив на них пальцами, Юлия закрыла глаза, потерла виски, но боль не проходила. Такие же ощущения были у Кая перед смертью. А эти его последние страшные слова:
— Не думай, что это конец…
Он все знал.
* * *
— Все подписано и готово для доставки моим представителям, — сказал Децим, кивнув в сторону скрученных свитков, лежащих на его столе, в библиотеке.
— Просто не могу поверить, что ты действительно решился на такое, — сказал Марк.
— Я уже давно думаю о том, чтобы переехать отсюда. Все мои финансовые активы будут переданы в Ефес, — догматично произнес Децим. — Ефес — это самый могущественный порт в империи, к тому же он расположен ближе к восточным караванам, которые годами приносили мне хорошие деньги. Живя в Ефесе, я смогу так же успешно снабжать Рим теми заморскими товарами, в которых он нуждается.
— Как ты мог так поступить, отец? Разве ты не испытываешь никакой благодарности к городу, который столько тебе дал?
Децим долго молчал, прежде чем что–то ответить. На самом деле Рим взял у него больше, чем дал ему. Великой и уважаемой всеми республики в Риме уже давно не было. Несмотря на красоту и величие, которые окружали Децима, ему казалось, что он живет на разлагающемся трупе. Он не мог больше терпеть этот смрад или наблюдать за тем, как коррупция и разложение империи портят его сына и дочь. Возможно, переехав, он сможет увезти и их от всей этой атмосферы.
— Меня огорчает то обстоятельство, что мы никогда не смотрим на вещи одинаково, Марк. Наверное, это естественно в отношениях между отцом и сыном. Я тоже во многом не соглашался со своим отцом. Если бы я ему во всем подчинялся, я бы, наверное, так и остался лавочником в ефесском порту.
Марк встал.
— Как мне заставить тебя посмотреть в глаза реальности? Пойми, ведь одних сантиментов мало, для того чтобы перевезти в другое место процветающее дело, или оторвать с насиженного места семью, которая родилась и выросла в Риме. Мы ведь живем в самом сердце цивилизации!
— Да хранят нас боги, если это так, — мрачно произнес Децим. Марк понимал, что отца ему не переубедить. Отец так часто говорил о возвращении в Ефес, что Марк перестал воспринимать его слова всерьез, считая их не более чем мечтаниями разочарованного в жизни старого человека. Когда же мать подняла вопрос о возвращении в Ефес, Марк сказал ей, что покидать Рим — это безрассудство как с деловой, так и с личной точки зрения. Она была невероятно потрясена его горячностью, и теперь он понимал, почему. Решение было принято, и уже ничто не могло его изменить. Марк не смог убедить мать, чтобы она отговорила отца. Она была согласна на все, чтобы только сделать его счастливее, и если отец считал, что возвращение на его родину будет способствовать этому, то мать поедет с ним без всяких разговоров.
— Как насчет Юлии? — сказал Марк, зная, что найдет в ее лице союзника. — Интересно, что она скажет относительно твоих планов? Ты еще с ней не говорил?
— Она поедет с нами.
Марк иронично засмеялся.
— Ты так в этом уверен? Тебе придется силой тащить ее на корабль. Чего стоило только вернуть ее сюда, под твою крышу!
— Я уже говорил с твоей сестрой сегодня утром и изложил ей свои планы. Мне показалось, что она даже с радостью восприняла идею о том, чтобы покинуть Рим. Наверное, это связано с потерей Кая. Она хочет быть подальше от всего, что ей напоминает о нем. — А может быть, это стало результатом ее визита к этой женщине, Фонтанее, после чего Юлия вернулась бледной, скрытной и готовой на что угодно, лишь бы уехать из Рима.
Марк ошеломленно уставился на него.
— Если не веришь мне, поговори со своей сестрой сам, — сказал ему Децим.
Марк нахмурился, задумавшись над согласием Юлии. Что его беспокоило — то, что она была в трауре, или то, что она согласилась с отцом? Но гораздо сильнее проблем Юлии Марка занимали его собственные чувства относительно решения отца.
— А что ты скажешь, если я не испытываю ни малейшего желания оставить Рим? Ты отложишь свое решение, которое принял, не посоветовавшись со мной?
— А разве отец должен о чем–то советоваться с сыном? — спросил Децим, и его лицо стало каменным. — Я буду делать то, что считаю нужным, и не нуждаюсь в твоем одобрении. Ты волен принимать собственные решения. Если тебе нравится, можешь оставаться в Риме.
Марк испытал шок, услышав такие слова. Он пристально посмотрел в глаза отцу и увидел в них решимость и непреклонную волю, которые в свое время помогли Дециму Валериану построить свою деловую империю.
— Пожалуй, я так и сделаю, — сказал Марк. — Я римлянин, отец. С рождения. И я принадлежу Риму.
— Половина той крови, которая течет в твоих жилах, — кровь ефесянина, нравится тебе это или нет.
Может, отец думал, что именно это удержит его?
— Я горжусь тем, что ты мой отец, и никогда не буду стыдиться своего наследия.
Децим был очень огорчен тем, что его отношения с сыном стали настолько натянутыми, что он не мог убедить Марка в правильности своего решения уехать в Ефес.
— Хочется надеяться, что ты решишь поехать с нами, но, еще раз повторяю, выбор остается за тобой. — Децим взял со стола свиток. — Я знаю, это решение тебе принять будет нелегко. — С этими словами он передал свиток сыну.
Марк взял свиток.
— Что это? — спросил он, срывая печать и разворачивая документ.
— Твоя доля наследства, — кратко ответил отец, и на его лице отразилась неизмеримая печаль.
Марк сначала посмотрел на отца, потом перевел взгляд на документ, который был у него в руках. Прочитав несколько строк, он похолодел. Ни один сын никогда не получал такого документа при живом отце… За исключением тех случаев, когда сына изгоняли из семьи. Марк считал, что отец мог дать ему этот документ только по двум причинам: либо он изгонял Марка из семьи, либо уходил из семьи сам. Марк не мог принять ни один из этих вариантов. Он поднял глаза и посмотрел на отца взглядом, в котором были одновременно боль и гнев.
— Зачем?
— Потому что я не знаю, как мне еще сказать, что у меня нет ни малейшего желания заставлять тебя что–то делать против твоей воли. Ты уже давно стал взрослым. — Децим устало вздохнул. — Наверное, если ты отправишься с нами, ты будешь скучать по Риму, как я скучал по Ефесу. Не знаю, Марк. Ты сам для себя должен решить, откуда ты, Марк.
Полный сильных и противоречивых чувств, Марк стоял, сжимая в руках документ, и долго не мог произнести ни слова.
Децим грустно посмотрел на сына.
— Несмотря на мое римское гражданство и на те богатства, которые этот город мне дал, я остаюсь ефесянином. — Опустив руку, он оперся ею о стол. — И я хочу, чтобы меня похоронили на моей родине.
Он умирает. Внезапная догадка поразила Марка, и он невольно издал резкий выдох. Пораженный, он сел, продолжая держать в руках развернутый свиток. Ему стоило бы догадаться об этом раньше. Возможно, он догадывался, но не хотел об этом думать до нынешнего момента, когда уже не оставалось другого выхода. В конце концов, его отец был смертным. Он посмотрел на отца и еще раз убедился, что это так, — серый, старый и такой человечный. Смотреть на него было больно.
— Та болезнь, которая поразила тебя, излечима? — спросил он отца.
— Нет.
— Сколько времени ты уже болен?
— Год, может быть, два.
— А почему ты раньше мне ничего не говорил?
— Ты ведь всегда видел во мне источник сил для своей жизни, что–то, с чем необходимо обязательно бороться. Наверное, из–за своей гордости, — откровенно признался Децим. — Ни одному мужчине не хочется выглядеть слабым в глазах собственного сына. — Он убрал руку со стола. — Но мы все умрем, Марк. Такова наша жизнь. — Он увидел, с каким выражением смотрел на него Марк. — Я это сказал тебе не для того, чтобы ты чувствовал себя в чем–то виноватым или чем–то обязанным передо мной.
— Нет?
— Нет, — твердо сказал Децим. — Но тебе самому придется принимать решение. Прежде чем что–то делать, лучше знать все.
Марк понимал, что если он не поедет с семьей в Ефес, то больше никогда не увидит отца. Он встал, снова свернул свиток и протянул отцу. Отец его не взял.
— Какое бы решение ты ни принял, все, что перечислено в этом документе, принадлежит тебе. Можешь владеть им, а можешь продать по частям. Делай с ним все, что хочешь. Юлия также достаточно обеспечена, чтобы безбедно прожить свою жизнь, и о твоей матери я тоже сделал все необходимые распоряжения.
Марк неотрывно смотрел на него. Неужели его отец готов так просто расстаться с жизнью? Неужели он совсем не собирается за нее бороться? Чтобы Децим Виндаций Валериан уступал смерти, — это было немыслимо. И все же нельзя было не заметить, что, даже сдаваясь смерти и готовясь лечь на смертный одр, его отец продолжал все контролировать.
— Да, отец, ты, как всегда, позаботился обо всех. Имущество Юлии в моих руках, жизнь матери устроена до самой ее смерти, и даже моя жизнь не забыта! — Марк поднял руку со свитком. — На одном дыхании ты говоришь мне о том, что умираешь, после чего лишаешь меня свободы, передавая мне все то, что ты создал и ради чего трудился, практически передавая мне в этом документе свою жизнь. — С этими словами Марк смял свиток в руке. — И после этого ты мне еще говоришь, что у меня есть выбор! — Он бросил смятый свиток на стол, к другим свиткам.
— Какой выбор? — добавил он и вышел.
* * *
Видя, как Хадасса подходит к его лавке, Трофим улыбнулся.
— Мы по тебе скучали, наша маленькая сестра.
— Я теперь снова на вилле Валериана, — сказала Хадасса, опустив глаза. Когда ее отослали к Юлии, она опять стала посещать вечерние собрания. Как только Юлия вернулась к своим родителям, Хадасса подчинилась приказу Марка не покидать виллу, если ей не прикажут.
Трофим отнесся к этому с пониманием. Хадасса поделилась с остальными верующими своей дилеммой, и они пытались ей помочь решить, какова здесь воля Господа. Чтобы поклоняться Богу вместе с другими, ей пришлось бы проявить неуважение к своим хозяевам. Будучи рабыней, Хадасса должна была служить им и слушаться их. Марк не говорил, что ей нельзя поклоняться Богу, — он только запретил ей делать это в собрании. Она решила, что должна послушаться его, как делала это, до того как впервые встретила Трофима.
— У тебя сегодня какое–нибудь поручение? — спросил ее Трофим, интересуясь, не передумала ли Хадасса и не собирается ли снова присоединиться к другим братьям и сестрам по вере.
— Моей госпоже очень захотелось абрикосов.
Трофим заметил, что Хадасса чем–то встревожена, но любопытствовать не стал.
— Боюсь, что ничем не смогу ей помочь. Уже несколько недель их нет ни у одного продавца фруктов. В Армении неурожай.
— О-о, — разочарованно протянула Хадасса.
— Твоя госпожа всегда хочет то, чего нет в продаже? — Хадасса подняла на него глаза, и Трофим нахмурился. Он сжал ей руку. — Какой у тебя беспокойный дух, сестрица. Можешь взять вместо абрикосов инжир — выбирай вкусный африканский инжир. — Он сам выбрал лучшие плоды и положил их в ее корзину. — Еще я только что получил прекрасные вишни. Возьми, попробуй. Отдам недорого.
— У тебя всегда хорошая цена, — сказала Хадасса, стараясь не портить ему настроение. Потом она попробовала несколько вишен. — Госпоже Юлии, думаю, они понравятся. Очень сладкие.
Трофим отобрал ей самые лучшие ягоды. Но больше он не мог сдерживать любопытства:
— Что тебя так тревожит, сестрица?
— Хозяин умирает, — тихо сказала Хадасса. — Он думает, что если вернется на родину, то обретет покой. — Она посмотрела на Трофима своими широко раскрытыми темными глазами. — Он родом из Ефеса.
Трофим смутился. Он хотел выразить ей свою обеспокоенность и предостережение. Но ей были нужны слова ободрения, а не мрачные истории о еще более мрачном городе.
— Я слышал, что Ефес — это самый красивый морской порт во всей империи. Улицы вымощены белым мрамором, а вдоль них выстроены колонны, много храмов.
— Они поклоняются Артемиде, — сказала Хадасса.
— Не все, — сказал Трофим, — в Ефесе есть христиане. И апостол Иоанн.
Хадасса округлила глаза. Апостол Иоанн! Сколько она себя помнит, Иоанн был частью ее жизни. Для других людей он был одним из избранных, одним из благословенных, которого Сам Господь избрал ходить вместе с Ним последние три года Его земного служения, поэтому верующие относились к нему с особым почтением, даже трепетом. Иоанн был среди первых учеников, избранных Господом. Он был на свадьбе в Кане, где Иисус превратил воду в вино. Он видел, как Иисус воскресил дочь Иаира. Он был на горе, когда Иисус преобразился, а Илия и Моисей пришли и говорили с Господом. Иоанн был с Господом в Гефсиманском саду, когда Иисус молился о чаше. Именно Иоанн был ближе всех к Иисусу, когда ученики собрались с Господом на празднование Пасхи в ночь перед распятием. Он слышал допрос Иисуса. Он стоял вместе с Марией перед крестом. Он был возле захоронения и видел пустую гробницу с брошенными пеленами, и он был одним из первых, кто поверил.
И Иоанн стал единственным, кто связывал теперь Хадассу с ее отцом, потому что Иоанн был с Господом в тот день, когда Иисус прикоснулся к ее отцу и воскресил его из мертвых.
Хадасса любила Иоанна практически так же, как своего отца. Она помнила, как сидела на коленях у отца, когда все собрались в Иерусалиме, в верхней комнате, и праздновали хлебопреломление. Она заснула у отца на руках, слушая отца и Иоанна. Тогда все собравшиеся вспоминали о Господе — о том, что Он делал, что говорил. Иоанн был другом ее отца. Если бы она могла хотя бы прикоснуться к нему… Но Ефес был огромным городом. И вероятность найти в нем Иоанна была ничтожно мала. И тот маленький лучик надежды, который поначалу сверкнул у Хадассы, тут же померк и погас.
Трофим тем временем продолжал:
— Я слышал, что однажды Мать Иисуса, Мария, отправилась с Ним в Ефес. О, какое, наверное, благословение было встретиться с Женщиной, Которая родила Господа. — Трофим с улыбкой посмотрел на Хадассу и увидел, как она дрожит. Он озабоченно вгляделся в ее лицо и взял ее за руку. — Чего ты на самом деле боишься, сестрица?
Она судорожно вздохнула.
— Всего. Я боюсь того, чем так дорожит этот мир. Я боюсь страданий. Иногда я боюсь Юлии. Она совершает ужасные вещи и не думает о последствиях. Трофим, каждый раз, когда Господь открывает передо мной какие–то возможности, я теряю всякую смелость. Иногда я даже задумываюсь, действительно ли я верующая. Если да, то разве я боялась бы рисковать жизнью и говорить людям истину? Разве страдания от мучительной смерти могли бы вселить в меня страх? — Глаза девушки наполнились слезами. Больше всего она боялась тех чувств, которые Марк испытывал по отношению к ней. А они становились все сильнее и сильнее.
— А разве Илия был смелым, когда Иезавель угрожала ему? — спросил Трофим. — Вовсе нет. Да, он уничтожил двести служителей Ваала, но потом бежал от этой женщины и прятался в пещере. А был ли смелым Петр, когда нашего Господа держали под стражей? Страх заставил его трижды отречься и сказать, что он не знает Господа. Хадасса, даже Сам Иисус пролил пот с кровью, когда молился о том, чтобы эта чаша миновала Его. — Трофим ласково улыбнулся ей. — Когда будет нужно, Бог даст тебе смелость.
Хадасса поцеловала его руку.
— Что я буду делать без вашей поддержки?
— У тебя есть Господь. Он укрепляет наши души.
— Мне будет так не хватать тебя и других верующих. Даже когда я не могла прийти в собрание, я могла уединяться в саду и молиться одновременно с вами. Но Ефес так далеко отсюда.
— Мы являемся частью одного тела, сестрица. Ничто не может отлучить нас от Господа, и в нем мы все едины.
Она кивнула, ощутив, как его слова придали ей силы, хотя и не избавили от печали.
— Пожалуйста, продолжайте молиться за семью Валерианов, особенно за Юлию.
Трофим кивнул.
— А еще мы будем молиться за тебя. — Он положил руки ей на плечи и по–дружески приобнял. — Увидимся снова, когда будем с Господом.
Потом он смотрел, как Хадасса исчезла в толпе. Ему будет ее не хватать. Ему будет не хватать ее сладкого голоса, удивительного выражения ее лица, когда она пела псалмы. Ее смиренный дух тронул Трофима, его жену и других верующих, — тронул так, как она, наверное, и не предполагала.
Боже, защити ее. Пусть ангелы хранят ее. Она пройдет в этом городе через все силы зла. Храни ее от дьявола. Огради ее и дай ей силу Твоего Духа. Сделай ее светом на вершине холма.
Весь оставшийся день Трофим молился за Хадассу. Он и других верующих призовет молиться за нее.
Ведь если Рим считался греховным и опасным городом, то Ефес был самим престолом сатаны.
27
Хадасса стояла на палубе римской корбиты, вдыхая соленый морской воздух. Высокая дуга носа судна поочередно опускалась и поднималась, вздымая в воздух брызги морской воды. Дул сильный ветер, наполняя квадратные паруса. Матросы работали с канатами. Все это напоминало Хадассе о Галилейском море и о рыбаках, возвращавшихся с уловом к концу дня. Хадасса часто ходила с отцом по берегу возле пристани, и они слышали гул голосов людей, которые там собирались.
Хадасса взглянула на работавших вокруг нее матросов и вспомнила слова отца: «Таким же, как они, был и Петр. И Иаков, и Иоанн. «Сыны Громовы», как назвал их Господь. Иногда они проявляли свой языческий характер, а нередко и излишнюю гордость».
Бог избрал именно этих людей, и Хадасса видела в этом надежду для себя. Иисус не избирал тех, кого избирал этот мир. Он избрал обыкновенных людей, со всеми их слабостями, и сделал их великими силой живущего в них Святого Духа.
Господи, я так слаба. Иногда я чувствую такую близость к Тебе, что мне хочется плакать, а иногда я совсем не чувствую Твоего присутствия. И Марк. Господи… Почему я все время думаю только о нем?
Ветер ласкал лицо девушки, когда она снова повернулась, чтобы посмотреть на отблески света, отражающиеся в темно–синей воде. Все было таким прекрасным — вид вокруг, запах моря, чувство свободы, — когда корабль рассекал волны бесконечного водного пространства. Отгоняя от себя невеселые мысли и предчувствия, Хадасса закрыла глаза и возблагодарила Бога за свою жизнь, за ту красоту, которую Бог сотворил, за то, что Он есть.
Ты здесь, Господь. Ты здесь и вокруг меня. Сделай так, чтобы я всегда чувствовала Твое присутствие. О Господь, сделай так, чтобы однажды я склонилась пред Тобой и могла поклоняться Тебе вечно.
Марк поднялся с нижней палубы и заметил Хадассу в носовой части. Он не видел девушку четыре дня и теперь испытывал волнение. Подходя к ней, он невольно любовался тонкими линиями ее фигуры и тем, как пряди темных волос развеваются на ветру вокруг ее головы. Он стоял рядом с ней, упиваясь красотой ее безмятежного профиля. Хадасса не заметила его, потому что ее глаза были закрыты, а губы шевелились. Марк продолжал восхищенно смотреть на нее. Казалось, она была преисполнена самого чистого наслаждения, как будто жадно вдыхала его.
— Опять молишься? — спросил Марк и увидел, как она вздрогнула. Она не посмотрела на него, но он пожалел о том, что от ее безмятежности не осталось и следа. — Мне кажется, ты вообще никогда не перестаешь молиться.
Хадасса покраснела и опустила голову, по–прежнему ничего не говоря. Да и что она могла сказать, если Марк застал ее за молитвой Богу уже после того, как велел ей не делать этого?
Хотя Марк уже пожалел о том, что заговорил с ней, теперь он стоял рядом и упивался покоем и удовлетворенностью, которые исходили от ее, — тем более, что сам он этого покоя уже давно нигде не находил. Марк вздохнул.
— Я не сержусь на тебя, — сказал он, — молись, как тебе нравится.
Хадасса посмотрела на него, и его поразила та нежность, которую она излучала. Марк вспомнил, какие испытывал чувства, когда целовал ее. Он поднял руку и убрал развевающуюся на ветру прядь ей за ухо. Выражение глаз девушки слегка изменилось, и он опустил руку.
— Мама сказала, что Юлии было очень тяжело, — произнес он, стараясь выглядеть как можно непринужденнее, чтобы так же непринужденно чувствовала с ним себя и Хадасса. — Я так понимаю, что сейчас ей лучше?
— Да, мой господин.
Услышав такой спокойный и послушный ответ, Марк сжал зубы, испытав раздражение. Он отвернулся и стал смотреть на море, как и Хадасса.
— Никогда не обращал внимания на то, как безукоризненное уважительное поведение раба может вызвать отчуждение в человеческих отношениях. — Марк снова посмотрел на нее в упор. — Почему ты возводишь стены между нами? — Ему хотелось разрушить все ее защитные бастионы и завладеть ею. — Неужели я всегда буду от тебя слышать только мой господин, Хадасса?
— Но так и должно быть.
— А если я хочу, чтобы все было иначе?
Растерявшись от его слов, Хадасса потеряла равновесие и ухватилась за фальшборт. Марк схватил ее за руку, и она вздрогнула от жара его прикосновения. Она попыталась освободиться, но Марк крепко сжал ее руку.
— Мой господин… — умоляюще произнесла она.
— Ты оставалась на нижних палубах с Юлией, потому что она нуждалась в тебе или чтобы скрыться от меня? — спросил Марк требовательным тоном.
— Прошу, пожалуйста… — сказала Хадасса, желая, чтобы он отпустил ее, и пугаясь взрыва чувств, охвативших ее, когда он прикоснулся к ней.
— Нет, это я тебя прошу. Называй меня «Марк», как тогда, а саду Клавдия. Помнишь? Ты тогда сказала Марк, как будто я что–то для тебя значил. — Марк не собирался говорить с ней так откровенно, как не хотел раскрывать ей до такой степени свои чувства. Просто он уже был не в силах сдерживать слова, которые столько носил в себе. Хадасса стояла и безмолвно глядела на него своими красивыми темными глазами — и он испытывал к ней самое страстное желание. — Ты как–то еще сказала, что молишься за меня.
— Я всегда молюсь за тебя. — Хадасса тут же покраснела от такого признания и опустила голову. — Еще я молюсь за Юлию, за мать и отца.
Марк почувствовал, что у него есть надежда, его большой палец скользнул по гладкой коже ее руки и остановился на запястье, нащупывая ее пульс.
— Те чувства, которые ты испытываешь ко мне, не сравнить с теми чувствами, которые ты испытываешь к ним. — Он поднял ее руку и прижался к ней губами в том месте, где можно было нащупать пульс. Когда он почувствовал, как напряглись ее мышцы, он отпустил ее. Хадасса сделала шаг назад.
— Зачем ты это делаешь, мой господин? — сказала она, глубоко вздохнув.
— Потому что я хочу тебя, — сказал Марк, и она разочарованно отвернулась. — Но я вовсе не хочу тебя ничем обидеть.
— Ты обидишь меня, даже сам того не ведая.
От ее слов он испытал досаду.
— Но я действительно ничем тебя не обижу. — Марк повернул к себе ее лицо, чтобы она посмотрела на него. — Чего ты боишься больше, Хадасса? Меня или этого твоего несуществующего Бога?
— Я боюсь своей собственной слабости.
Ее ответ удивил его и вызвал в нем волну жара.
— Хадасса… — страстно прошептал он, погладив ее по гладкой коже щеки. Девушка закрыла глаза, и он почувствовал ее желание так же ясно, как свое собственное. Но она подняла руку и отстранила его, потом открыла глаза и снова посмотрела на него умоляющим взглядом.
— Когда мужчина и женщина идут вместе с Божьим благословением — это священный союз, — сказала она, глядя на море. — Но этого у нас как раз и нет, мой господин.
Он сжал губы.
— Почему нет?
— Бог не благословляет разврат.
Потрясенный, Марк почувствовал, как краска залила его лицо. Он не мог вспомнить, когда в последний раз испытывал что–либо подобное, и сердился на то, что такое смешное утверждение какой–то наивной и юной рабыни смутило его. Его уже многие годы ничто не могло привести в замешательство.
— Разве твой Бог против любви?
— Бог есть любовь, — тихо сказала Хадасса.
Марк засмеялся.
— Интересно слушать слова девушки, которая не знает того, о чем говорит. Любовь — это наслаждение, Хадасса, высшее наслаждение. Как же твой Бог может быть любовью, если Он установил столько законов против самых чистых естественных инстинктов в отношениях между мужчинами и женщинами? И что же такое любовь, если не это?
Ветер переменил направление, и матросы забегали по кораблю, давая друг другу указания. Марк сардонически засмеялся и стал смотреть на пробегающую под кораблем воду, не ожидая от Хадассы никакого ответа.
Но Хадасса знала, что ответить, поскольку Асинкрит не раз говорил эти слова в собрании верующих, — слова, написанные Павлом, вдохновленные Богом и обращенные к коринфянам. Копия этого драгоценного послания дошла и до Рима. И теперь Хадасса слышала эти слова так отчетливо, как будто Сам Бог написал их в ее сознании, и теперь настало время сказать эти слова еще одному из тех, кому они адресованы.
— Любовь долготерпит, Марк, — мягко сказала она. — Любовь милосердствует. Любовь не бесчинствует, не ищет своего. Она не раздражается, не мыслит зла. Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает…
Марк насмешливо улыбнулся ей.
— Такой любви не может быть.
— Для Бога нет ничего невозможного, — сказала девушка с такой уверенностью и такой тихой убежденностью, что он нахмурился.
— Марк, — раздался снизу голос Децима, и Марк выпрямился. Повернувшись, он увидел стоявшего в нескольких метрах отца, который поочередно глядел то на Марка, то на Хадассу. Глядя на него, Марк слегка улыбнулся. Было очевидно, что отец интересуется, что это они так оживленно обсуждают.
— Юлии сегодня лучше? — спросил Децим, обращаясь к Хадассе.
— Она хорошо спит, мой господин.
— Она ела что–нибудь?
— Сегодня утром чашку бульона и пресный хлеб. Ей стало намного лучше.
— А она тебя отпускала?
— Она… — заморгала Хадасса.
— За эти три дня Хадасса впервые вышла на воздух из этих вонючих помещений, — вмешался Марк. — По–моему, даже рабы имеют право на глоток свежего воздуха и возможность хоть немного отдохнуть.
— Пока твоя сестра находится там, Хадассе тоже следует оставаться с ней, на случай, если ей вдруг что–нибудь понадобится.
Глаза Хадассы наполнились горячими слезами стыда.
— Я прошу простить меня, мой господин, — сказала она и поспешила обратно. Юлия посылала ее вымыть грязную посуду, и она собиралась выйти на свежий воздух только на пару минут. Ей следовало бы тут же вернуться, а не наслаждаться свежим воздухом.
Но Марк схватил ее за руку и остановил.
— Ты не сделала ничего плохого, — сказал он. Видя ее замешательство и зная, что тоже виноват в возникшей ситуации, он отпустил ее. Он проводил ее взглядом, пока она не скрылась из виду, и только потом заговорил с отцом.
— Она не покидала Юлию с того самого дня, как мы погрузились на корабль неделю назад, — сказал он, пристально глядя на отца. — Неужели нужно ее бранить за то, что она чуть дольше побыла на солнце и подышала свежим воздухом?
Децима удивило то, с какой страстью Марк говорил это. Бранить было слишком сильным словом для того напоминания, которое Децим высказал Хадассе. Но даже это напоминание оказалось для нее болезненным. Он это видел так же хорошо, как и Марк, когда она отвернулась. Ему было интересно, насколько сильны чувства Хадассы к его сыну.
— Я поговорю с ней.
— Зачем? — Марк едва не взорвался от гнева.
— Позволь мне самому решать, зачем, — предупредительным тоном ответил Децим. Сын обогнал его и пошел вперед. — Марк, — окликнул его Децим, но Марк поспешно прошел по палубе ж спустился вниз.
* * *
От шторма, который бросал корабль по волнам, Юлии опять стало хуже. Каждый раз, когда корабль опускался вниз, она стонала, проклиная все на свете, так как тошнота становилась просто невыносимой. Спала Юлия в лучшем случае урывками, но и сны не давали ей покоя своими кошмарами. Бледная и обессиленная, просыпаясь, она непрестанно жаловалась.
В маленькой каюте было холодно и сыро. Хадасса пыталась согреть Юлию, укрыв ее теплыми шерстяными одеялами. Дрожа от холода, она все равно думала только о своей хозяйке.
— Это боги наказывают меня, — сказала Юлия. — Я умру. Я знаю, что уже не выживу.
— Ты не умрешь, моя госпожа, — ответила Хадасса, убирая волосы Юлии со лба. — Шторм пройдет. Постарайся уснуть.
— Как я могу уснуть? Я не хочу спать. Не могу видеть эти сны. Спой мне. Помоги мне отвлечься. — Однако когда Хадасса начала петь, как ей было велено, Юлия закричала: — Нет, только не это! От этих песен мне плохо. Не могу больше слышать об этом твоем дурацком Боге, как Он все видит и все знает! Спой что–нибудь другое. Повесели меня хоть чем–нибудь! О приключениях богов и богинь. Баллады. Ну, что–нибудь…
— Я таких песен не знаю, — сказала Хадасса.
Юлия горько заплакала.
— Тогда убирайся отсюда и оставь меня в покое!
— Моя госпожа…
— Убирайся отсюда, я сказала, — заорала Юлия. — Вон отсюда! Вон!
Хадасса тут же вышла. Она сидела в темном и узком коридоре, и сверху на нее дул холодный ветер. Прижав колени к груди, она постаралась согреться. Затем она стала молиться. Когда уже прошло достаточно много времени, она задремала, убаюканная качкой корабля. И ей снились рабы, сидящие на галерах и гребущие под мерный стук барабана. Вниз, всплеск, вверх, вниз, всплеск, вверх. Бум. Бум. Бум.
Марк, который помогал матросам, едва не оступился об нее, когда спускался вниз. Наклонившись, он прикоснулся к ее лицу. Ее кожа была ледяной. Он тихо выругался и осторожно убрал черные волосы с ее лица. Как долго она сидела в этом коридоре, под таким ветром, который обдувал ее сверху? Когда он взял ее на руки и понес в свою каюту, она не проснулась.
Он осторожно положил ее на свою скамью и накрыл германским меховым одеялом. Затем еще раз нежно убрал волосы с ее бледного лица.
— Так–то твой Бог заботится о Своем народе?
Он сидел на краешке скамьи и смотрел, как она спит, и тут его неожиданно охватила болезненная нежность. Ему захотелось обнять и защитить эту девушку — и это чувство ему не понравилось. Ему больше по душе была огненная страсть, подобная той, которую он испытывал к Аррии, та страсть, которая горела в нем огнем, а потом остывала… Ему казалось, что это лучше, чем те новые и беспокоящие его чувства, которые он сейчас испытывал к Хадассе. Они пришли к нему не сразу. Они росли в нем медленно, постепенно распространяясь, подобно тому как растет виноградная лоза. Хадасса стала частью его самого, она стала занимать практически все его мысли.
И сейчас он вспоминал все то, что она говорила ему о своем Боге. Он не понимал ничего из ее слов. Она сказала, что ее Бог — это Бог любви, но ее народ уничтожен, а ее храм лежит в руинах. Она верила в то, что какой–то Назорей есть Сын ее Бога, Мессия ее народа, и этот самый Бог — Человек, или кто Он там, умер мучительной смертью на кресте.
Ее религия была полна парадоксов. Ее вера не укладывалась в законы человеческой логики. И при этом Хадасса следовала своей вере с таким упорством, что ей мог бы позавидовать любой жрец какого угодно храма.
Марк вырос на историях о богах и богинях. Его мать поклонялась некоторым из них. Сколько он себя помнил, она каждое утро приносила пожертвования своим идолам и раз в неделю ходила в храм.
Но примеры следования вере в семье не ограничивались его матерью. Был еще Енох, иудей, которого отец купил, когда приехал в Рим. Добрый, старый, верный Енох. Сколько раз Марк видел, как он отворачивался, недовольно качая головой, когда мать с пожертвованиями шла в ларарий, к своим идолам. Енох презирал римских богов, хотя ни с кем из Валерианов своей собственной верой не делился. Было ли молчание Еноха признаком уважения и терпимости по отношению к другим верованиям, или же его молчание было признаком ревностного отношения к своей вере в гордости? Марк много раз слышал, будто иудеи — избранный народ. Но кем избранный, для чего избранный?
Он смотрел, как спит Хадасса, и был уверен в том, что, если он попросит, она откроет ему свой духовный мир. Вместо того чтобы оставаться запечатанным сосудом, она стремилась делиться своей верой с другими. Все ее дела отражали ее веру. Создавалось впечатление, что каждый день, каждый час она стремилась радовать своего Бога, служа другим людям. Тот Бог, Которому она поклонялась, поглотил ее. Он не требовал от нее посещений храма, или каких–то пожертвований в виде еды или монеток, или каких–то периодических молитв. Он требовал от нее всю ее жизнь.
И что она получила от Него взамен? Какую награду она получила за свою верность? Она была рабыней. У нее не было ни имущества, ни прав, ни защиты, если не считать той, что могли ей дать ее хозяева. Она даже замуж не могла выйти без разрешения хозяев.
Ее жизнь зависела от доброй воли ее владельцев, ибо ее можно было убить просто так, без всякой причины. Она получала по небольшой монетке в день от отца Марка, но и эти деньги кому–нибудь отдавала.
Марк вспомнил то выражение покоя на ее лице, когда она стояла, подставив лицо ветру. Покоя… и радости. Она была рабыней, и в то же время, казалось, она обладала тем чувством свободы, которого он сам никогда не испытывал. Может быть, именно это притягивало его к ней?
Шторм стихал. Тряхнув головой, Марк подумал, что ему сейчас лучше оставить ее, чтобы наедине еще раз подумать обо всем как следует. Он вышел в коридор.
Стоя в носовой части, где за два дня до этого он разговаривал с Хадассой, Марк всматривался в темноту раскинувшегося перед ним моря. Владение Нептуна. Но сейчас ему нужен вовсе не Нептун. Криво усмехнувшись, Марк вознес молитву Венере, прося ее послать Амура, чтобы он поразил сердце Хадассы стрелой любви к Марку.
— Венера, богиня эроса, пусть она горит так же, как горю я.
Паруса надулись от нового порыва ветра. Любовь милосердствует. Любовь не ищет своего.
Марк поморщился от досады: почему именно сейчас, когда он обратился к Венере, к нему, подобно мягкому шепоту ветра, пришли эти слова Хадассы? Продолжая всматриваться в безбрежное море, он почувствовал мучительное одиночество. Кроме того, его со всех сторон обступала тяжелая, давящая и бесконечная тьма.
— Она будет моей, — сказал он в темноту и, повернувшись, пошел вниз.
Едва спустившись, он увидел Юлию, стоящую в коридоре.
— Я велела Хадассе сидеть здесь и ждать, пока я ее не позову, а она ушла! Наверное, сейчас она с матерью и отцом, поет им.
Марк схватил сестру за руку.
— Она в моей каюте.
Вырвав руку, Юлия посмотрела на брата таким взглядом, будто он ее предал.
— Она моя рабыня, а не твоя.
Марк едва не вышел из себя.
— Да, мне это тоже известно, и сейчас она спит на моей скамье не по той причине, по которой ты думаешь. А тебе, дорогая сестрица, следует получше заботиться о том, что тебе принадлежит. — Марк старался не забыть о том, что Юлия страдает от морской болезни и ее нельзя оставлять одну. — Я увидел Хадассу здесь, возле твоей двери. Она вся промокла до нитки и едва не окоченела. Больная рабыня вряд ли сможет тебе помочь.
— Тогда кто мне будет помогать?
Ее эгоизм становился просто невыносимым.
— Что тебе нужно? — спросил ее Марк.
— Мне нужно почувствовать себя лучше. Мне нужно убраться вон с этого корабля!
— Тебе станет лучше, как только ты ступишь на берег, — сказал Марк, из последних сил сдерживая раздражение и уводя сестру обратно в ее каюту.
— И когда же я ступлю на берег?
— Через два или три дня, — ответил он, помогая ей лечь на измятую постель. Затем он накрыл ее одеялом.
— Лучше бы я не соглашалась на этот отъезд! Лучше бы я осталась в Риме!
— Зачем же ты тогда согласилась?
Глаза Юлии наполнились слезами.
— Потому что я не хотела, чтобы хоть что–то напоминало мне обо всем, что со мной произошло за последние два года. Мне хотелось бежать от всего этого.
Марку вдруг стало жалко ее. Юлия была его единственной сестрой, и он любил ее, несмотря на ее раздражительность и капризы. Сколько раз он баловал ее и потакал ей с того самого времени, как она родилась. И готов был это делать сейчас. Сидя на краю ее скамьи, он взял Юлию за руку. Рука была холодной.
— Со временем все плохое забудется, ты займешься другими делами. Говорят, Ефес удивительный город. Не сомневаюсь, что ты там найдешь что–нибудь интересное для себя.
— В Ефесе Атрет.
Марк удивленно приподнял брови.
— Это та звезда, которая стала для тебя путеводной? Конечно, нет ничего плохого, если ты строишь гладиаторам глазки, Юлия, но только не вздумай строить с ними никаких отношений. Это совсем другие люди.
— Октавия сказала, что они самые лучшие любовники.
Марк скривил губы в циничной усмешке.
— Та самая Октавия, которая вечно дает тебе мудрые советы.
— Я знаю, ты никогда ее не любил.
— Отдохни, — сказал Марк сестре и встал. Юлия удержала его руку.
— Марк, а какая у тебя путеводная звезда?
Марк увидел ее холодное выражение лица, делавшее Юлию непохожей на его сестренку, которую он так нежно любил.
— Ты, — ответил он, — мать, отец.
— И все?
— А кто же еще?
— Хадасса. — Юлия повернулась к брату, слегка нахмурилась и пристально посмотрела на него. — Марк, ты меня любишь?
— Я тебя просто обожаю, — искренне ответил он.
— А ты будешь меня по–прежнему любить, если я сделаю что–нибудь ужасное?
Наклонившись, Марк взял ее за подбородок и легонько поцеловал в губы. Потом он посмотрел ей прямо в глаза.
— Юлия, ты никогда но сможешь сделать что–либо настолько ужасное, чтобы я перестал тебя любить. Клянусь тебе. А теперь отдыхай.
Юлия внимательно посмотрела ему в глаза, а потом откинулась назад, по–прежнему чем–то обеспокоенная.
— Мне нужна Хадасса.
— Когда она проснется, я пришлю ее к тебе.
Лицо Юлии стало суровым.
— Она принадлежит мне. Разбуди ее немедленно.
Марк снова испытал раздражение, вспомнив, как Хадасса спала в холодном и сыром коридоре.
— Я здесь, моя госпожа, — раздался в дверях голос Хадассы, и Марк оглянулся. Хадасса выглядела все такой же бледной и изможденной. Он хотел было сказать, чтобы она вернулась в его каюту, но тут увидел лицо Юлии.
— Я видела очередной ужасный сон, — сказала Юлия, забыв о его присутствии. — Я проснулась, а тебя здесь не было. Я вспомнила, что ты в коридоре, но не могла тебя найти.
Марк никогда не видел у своей сестры такого выражения глаз. За ту минуту, что Хадасса была здесь, казалось, некая волна облегчения смыла всю злость, весь страх и все отчаяние, которые здесь только что царили.
Успокоившись, он с нежностью сказал:
— Ну вот, Юлия, она здесь, с тобой.
Юлия протянула руки к своей рабыне, и Хадасса взяла их, опустилась на колени перед узкой скамьей, прижав руки своей госпожи ко лбу.
— Когда я звала тебя, ты должна была прийти ко мне, — раздраженно сказала Юлия.
— Не отчитывай Хадассу за то, что было не в ее силах или не в ее власти, — сказал Марк.
Юлия посмотрела на него, и в ее глазах был виден вопрос, — вопрос, который буквально жег ее. Криво улыбнувшись, Марк вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Прислонившись к ней спиной, он откинул голову и закрыл глаза.
28
Два стражника вывели Атрета на палубу и повели к носовой части, где его уже ждал Серт. Работорговец приветливо улыбнулся и торжественно повел рукой в сторону берега, показывая Атрету на сияющий храм, возвышающийся над гаванью.
— Храм Артемиды, Атрет. Она родилась в лесах, в устье Каистеры, и ей здесь поклоняются более тысячи лет. Это ведь твоя богиня, Атрет, — ее образ ты хранил в своей камере.
— Тот образ был в моей камере еще в Капуе, когда меня привезли туда. — Считалось плохой приметой выбрасывать каменные статуэтки, независимо от того, поклоняешься ты им, или нет.
— Однако ты все равно оказался под ее защитой. Я знал, когда увидел ее раку в твоей камере в лудусе, что она выбрала тебя, поэтому ты и приехал в Ефес. — Преисполненный гордости, Серт повернулся, продолжая держать руку высоко поднятой.
— То, что ты видишь перед собой, — это величайший храм, который когда–либо строили для богов. В нем хранится священный камень, который упал к нам с небес и послужил знамением того, что Артемида решила сделать этот город своим неокором.
— Неокором? — спросил Атрет, впервые услышав это слово.
— «Подметальщиком храма», — сказал Серт. — Когда–то это название относилось к тому, кто исполнял самую грязную работу и преданно заботился о священном храме. Название, которое выражает смирение и которое стало самым почетным. — Серт достал какую–то монету и показал ее Атрету. — «Неокор», — произнес он, проведя пальцем по надписи. — Так наш город и прославился.
Атрет поднял голову и посмотрел на Серта холодными глазами.
— Этот идол уже был в той камере, в Капуе, когда я там оказался.
Улыбка Серта стала насмешливой.
— И ты думаешь, это было случайно? Ничто не происходит случайно, варвар. Неважно, как ты к ней пришел. Боги твоего отца бросили тебя в германских лесах, а Артемида сохранила тебе жизнь. Продолжай поклоняться ей, и она будет хранить тебя и дальше. Бросишь ее, и она тебя бросит, и только будет смотреть, как ты погибаешь.
Он снова простер руку.
— Артемида — это не невинная охотница Диана, как думают римляне. Артемида — сестра Аполлона, дочь Леты и Зевса. Она мать и богиня земли, которая благословляет человека, животных и нашу почву плодородием. Для нее священны олень, дикий кабан, заяц, волк, медведь. В отличие от Дианы, богини целомудрия, Артемида чувственна, разнузданна, не жеманна и атлетична.
Атрет посмотрел через гавань на огромный храм. Все те животные, которых перечислил Серт, в избытке водились в его родных лесах. Храм — восхитительное строение, гораздо красивее самых лучших храмов в Риме, — сиял в солнечном свете. Атрет чувствовал, что храм манит его.
— Мрамор везли с горы Прион, — рассказывал Серт. — Все греческие города Асии присылали пожертвования, чтобы помочь в строительстве храма во славу нашей богини. В нем 127 колонн, каждая высотой 60 футов и каждая является подарком какого–нибудь царя. — Глаза Серта засияли от гордости. — А украшают его до сих пор самые лучшие художники нашего времени. Какой еще богине на свете воздают такие почести?
Атрет подумал, не имеет ли Артемида какого–нибудь отношения к Тивазу, потому что в ней повторялись некоторые его качества.
— А мне можно будет ей поклоняться? — спросил он, интересуясь, каким образом принято поклоняться этой богине.
Явно довольный, Серт кивнул.
— Конечно. Как принято, — великодушно сказал он. — Пошли вниз. Воду и чистую тунику тебе принесут. Приготовься. Я сам поведу тебя в храм, чтобы ты мог склониться перед священным образом, прежде чем тебя увезут в лудус.
Как только корабль причалил, Серт послал за Атретом стражников. Еще двое ждали на верхней палубе. Колоннада, которая вела к Артемизиону, как называли храм, была облицована мрамором и перемежалась тенистыми портиками. Все люди, встречавшиеся по дороге, останавливались, смотрели на проходящего Атрета и перешептывались. Серта в городе знали хорошо, и его присутствие, как и присутствие четверых стражников, говорило о том, что огромный блондин — великий гладиатор. Атрет не обращал внимания на пристальные взгляды, мечтая только о том, чтобы Серт не провел его по главной улице города в самый многолюдный час. Было ясно, что работорговец затеял это специально, чтобы подогреть интерес к гладиатору со стороны населения.
По мере того как они приближались к Артемизиону, число лавок, в которых продавали деревянные, серебряные и золотые статуэтки, увеличивалось. Везде продавались макеты храма, ведь всякий посетитель города, без сомнения, хотел увезти с собой память об Артемиде, поэтому изображение храма могло служить прекрасным напоминанием о путешествии. Атрет заметил, что небольшие идолы были в руках практически у каждого, кто проходил мимо.
Он уставился на раскинувшееся перед ним здание, пораженный его размерами и грандиозностью. Колонны из зеленой яшмы и белого мрамора вздымались к горизонтальным антаблементам, украшенным самыми разнообразными изображениями. Многие колонны были расписаны яркими красками, некоторые изображения были откровенно эротическими.
Огромные двухстворчатые двери из кипариса были открыты, и когда Атрет прошел через них, чтобы войти в священную раку, он увидел, что крыша, сделанная из кедра, частично открыта и прекрасно видно голубое небо. Гладиатор медленно осматривался, и ничто не ускользало от его натренированного глаза.
— Я вижу, ты заметил здесь стражников, — сказал ему Серт. — В храме хранятся сокровища, львиная доля всех богатств Западной Асии хранится здесь и в прилегающих зданиях.
Внутри храма всюду были жрецы и жрицы, и все жужжали подобно рабочим пчелам возле матки. Серт показал рукой в их сторону.
— Это мегабузои, священники, которые проводят церемонии внутри храма. Они все евнухи и подчиняются главному жрецу.
— А женщины? — спросил Атрет, с восхищением глядя на множество красивых жриц.
— Они все девственницы. Это мелиссаи, жрицы, которые несут служение богине. Они разделены на три класса и подчиняются одной главной жрице. Есть здесь и храмовые проститутки, с которыми ты еще познакомишься… но сначала — Самая Главная Богиня.
Они вошли в окутанное дымом помещение, в котором находилась священная статуя Артемиды. Она стояла, еле видная в дыму, ее руки были простерты в стороны, а сама она представляла собой на удивление грубый, лишенный всякого изящества памятник, сделанный из золота и черного дерева. В верхней части ее фигуры можно было разглядеть обвисшую грудь с широкими сосками, на ее бедрах и ногах виднелись изображения священных животных и пчел. Основанием статуи служил бесформенный черный камень, наверное, тот самый, про который Серт сказал, будто он свалился с неба.
Изучая статую богини, Атрет заметил на ее голове, поясе и основании какие–то изображения и символы. И тут у него перехватило дыхание — символом, украшавшим голову Артемиды, была руна Тиваза! Издав рыкающий крик, Атрет упал перед образом Артемиды и воздал ей хвалу за то, что она защищала его все четыре года кровавых боев.
Заклинания мегабузои и мелодичные напевы мелиссаи окружали Атрета, давили на него. А аромат курений стал настолько сильным, что Атрет ощутил дурноту. Почувствовав головокружение, он поднялся и, спотыкаясь, вышел из помещения. Тяжело прислонившись к одной из колонн, он глубоко вдохнул свежего воздуха, и его сердце билось в унисон с ударами барабанов и кимвалов, звучащими за его спиной.
Спустя какое–то время его голова прояснилась, но осталась тяжесть в душе — темная и удушающая.
— Она звала тебя, — сказал ему Серт явно удовлетворенным тоном.
— На ее голове руна Тиваза, — восхищенно произнес Атрет.
— «Ефесские послания», — сказал Серт. — Если их произнести вслух, они очаруют тебя. Эти послания обладают огромной силой; если их носить как амулет, они защитят тебя от злых духов. Вон то здание, которое видно отсюда, — это хранилище книг, посвященных этим посланиям. Их написали самые блестящие умы империи. Какое послание тебе показалось самым дорогим?
Атрет сказал, какое.
— Когда мы пойдем отсюда, можешь приобрести амулет, — сказал Серт и кивнул в сторону нескольких красивых и богато одетых молодых женщин, которые прохаживались в прохладной тени колоннады. — Выбирай, — сказал Серт. — Эти женщины красивы и опытны, а юноши сильны и энергичны. Самый быстрый и хороший способ установить связь с Артемидой — это наслаждаться теми многочисленными эротическими наслаждениями, которые она дает.
Четыре года зверств и отношения как к вскормленному животному убили в Атрете все благородство, которое могло в нем быть. Он без всякого смущения смотрел на сладострастную особу, одетую в красно–черный с золотом наряд.
— Я возьму ее, — сказал он, и Серт жестом подозвал женщину. Она подошла к ним, и каждый ее шаг был полон соблазнительных намеков. Ее голос был низким и хриплым. Она назвала цену в два динария. Атрет протянул ей монеты, и она повела его вниз по ступеням, через вымощенную белым мрамором площадь, в прохладную тень публичного дома.
Он нашел свою богиню. И все же, еще долго после того, как он снова вышел на солнечный свет, на душе его тяжелым грузом лежала тьма.
* * *
Хадасса решила, что новый дом Валерианов еще более красив, чем их вилла в Риме. Он стоял на склоне, обращенном в сторону улицы Куретес, которая располагалась в самом престижном районе, в центре Ефеса, у подножия горы. Каждый дом служил крышей террасы тому дому, который располагался ниже по склону, и таким образом со стороны город смотрелся очень красиво. Вилла состояла из трех этажей, и каждый выходил в украшенный колоннадой перистиль, в результате чего все помещения освещались днем солнечным светом, а ночью — лунным. В центре перистиля располагался колодец, отделанный белым мрамором и украшенный мозаикой. Полы во внутренних помещениях также были отделаны мозаикой, а стены были расписаны фресками эротического содержания.
Увидев эту живопись, Юлия воспрянула духом. Смеясь, она раскинула руки в стороны и закружилась по своей комнате. «Эрос берет венец в свои руки!» — воскликнула она в восторге. В западном углу комнаты она увидела скульптурное изображение мужчины, обнаженного, если не считать венка из лавровых листьев на голове. В одной руке он держал гроздь винограда, а в другой кубок. Юлия подошла к нему и провела по нему рукой.
— Надеюсь, что боги наконец смилостивятся надо мной, — сказала она, засмеявшись, когда Хадасса смущенно отвернулась. — Иудеи такие жеманные, даже удивительно, откуда у них столько детей. — Юлии явно нравилось поддразнивать свою рабыню.
Вся семья собралась в триклинии. Хадасса прислуживала хозяевам за обедом, стараясь не смотреть на фрески, украшавшие три стены, греческие боги и богини в различных амурных эскападах.
Первые недели пребывания в Ефесе Децим чувствовал себя гораздо лучше. Он даже один раз сходил с Фебой и Юлией на гонки колесниц, которые проводились на западном склоне горы Панаир Даги. Марк проводил время в офисе Валериана, возле гавани, следя за тем, чтобы заранее оговоренный перевод денег проводился в полном соответствии с условиями договоров.
Хадасса оставалась в доме вместе с другими рабами, распаковывая и приводя в порядок вещи Юлии. Закончив с этими делами, она стала выходить вместе с Юлией в город и старалась его лучше изучить; Юлия хотела узнать, где находятся лавки с драгоценностями и одеждой. Идя по вымощенным белым мрамором улицам, Хадасса проходила мимо одного храма за другим, и каждый был посвящен кому–либо из многочисленных богов или богинь. Она видела бани, общественные здания, медицинскую школу и библиотеку. Когда она повернула за угол, перед ней, на улице, вдоль которой стояло бесчисленное множество продавцов идолов, предстал Артемизион. Несмотря на потрясающую красоту храма, Хадасса почувствовала в своей душе отвращение к нему.
И все же, движимая любопытством, она подошла, села в тенистом портике и стала наблюдать за людьми, которые толпились возле храма. Многие из проходящих мимо нее несли в руках статуэтки, приобретенные здесь. Хадасса качала головой, не веря своим глазам. Сотни людей ходили взад–вперед, чтобы поклониться какому–то каменному идолу, в котором не было ни жизни, ни силы. Молодая иудейка чувствовала бесконечную печаль и одиночество. Она посмотрела на красоту и величие Артемизиона, и почувствовала себя маленькой и бессильной по сравнению с ним. Потом она посмотрела на сотни поклоняющихся Артемиде, и ей стало не по себе. Рим был достаточно путающим городом, но Ефес показался ей куда более страшным местом.
Закрыв глаза, Хадасса стала молиться. Боже, здесь ли Ты, когда кругом столько язычников? Мне так нужно чувствовать Твое присутствие, но я его не чувствую. Мне здесь так одиноко. Помоги мне найти таких друзей, как Асинкрит, Трофим и многие другие.
Хадасса снова открыла глаза, глядя на толпу, но не видя ее. Она знала, что ей пора возвращаться на виллу, но тихий внутренний голос попросил ее задержаться на несколько минут. Поэтому она послушалась и ждала. Ее глаза стали выборочно всматриваться в толпу… И тут она нахмурилась. Среди людей мелькнул кто–то очень знакомый, и сердце у нее подпрыгнуло. Она встала и приподнялась на цыпочки, продолжая всматриваться. Нет, она не ошиблась! Обрадовавшись, она побежала сквозь толпу, испытывая при этом такую смелость, какой раньше у нее никогда не было. Догнав, она назвала его имя, он обернулся, и на его лице отразились удивление и радость.
— Хадасса! — воскликнул апостол Иоанн, раскинув руки для объятий.
Из глаз Хадассы брызнули слезы.
— Слава Богу! — сказала она, бросившись к нему в объятия и почувствовав себя дома впервые за все время, которое пропило с того дня, когда пять лет назад она оставила свой дом в Галилее.
* * *
Со встречи с торговцами и юристами Марк вернулся домой рано. Дома было прохладно и тихо. Пребывая в невеселом настроении, Марк вышел из своих помещений на втором этаже и, прислонившись к колонне, стал смотреть вниз, в перистиль. Там какая–то служанка чистила мозаику, изображавшую сатира, бегущего за обнаженной девой. Служанка посмотрел наверх, увидела его и улыбнулась. Она была в доме совсем недавно — отец приобрел ее, как только прибыл в Ефес. Марк догадывался, что отец купил ее в надежде на то, что ее южная красота и пышные формы помогут сыну отвлечься от мыслей о Хадассе.
А может быть, отец таким образом сэкономил деньги.
Марк выпрямился и пошел в свои покои, чтобы налить себе вина. Попивая вино из кубка, он стал смотреть с террасы вниз, на людей, проходящих по городским улицам. И тут среди них он, к немалому своему удивлению, сразу же разглядел Хадассу, идущую но улице Куретес. Ее волосы были скрыты полосатой шалью, которую она всегда носила, а в ее руке была корзина с грушами и виноградом; эта рабыня умела удовлетворять прихоти Юлии, тогда как его нужда оставалась без ответа. Хадасса слегка приподняла голову, но даже если бы она и увидела, что он смотрит на нее, она бы все равно не подала виду.
Марк нахмурился. За последние несколько дней Хадасса изменилась. Стала какой–то окрыленной. Радостной. Несколько дней назад он пришел домой поздно и услышал, как она пела отцу и матери, и ее голос был настолько богатым и чистым, что у Марка даже защемило сердце. И когда он вошел и сел рядом с родителями, Хадасса показалась ему прекраснее, чем была когда–либо раньше.
Прислонившись к стене, Марк смотрел, как Хадасса идет вверх по улице, к дому. Она взглянула наверх и больше не поднимала головы. Войдя во входную дверь, она исчезла из виду.
Чувствуя, как портится настроение, Марк пошел назад, в помещение, и остановился в прохладе коридора второго этажа, прислушиваясь к звуку открываемой двери. Из нижнего зала раздавались тихие голоса, потом одна из кухонных работниц прошла через перистиль с корзиной фруктов. Он ждал.
Хадасса показалась внизу, в лучах солнечного света. Она сняла шаль, которая покрывала ее голову, и оставила ее висеть на плечах. Медленно опустив руки в чашу с водой, она стала ополаскивать лицо. Было странно, что такое обыкновенное действие могло так ярко показать благородство и красоту девушки.
В доме было так тихо, что Марк слышал ее дыхание.
— Хадасса, — позвал Марк, и она сразу замерла. — Я хочу поговорить с тобой, — жестко сказал он. — Поднимись в мои покои. Сейчас же.
Он ждал ее в дверях своих покоев, чувствуя, как ей не хочется идти к нему. Как только она вошла, он плотно закрыл за ней дверь. Она послушно стояла посреди комнаты, спиной к нему, ожидая, когда он заговорит. Несмотря на ее чисто внешнее спокойствие, он чувствовал, как она напряжена, и это, как ножом, резало его душу. Ему действительно было больно осознавать, что он вынужден приказывать ей, чтобы она пришла к нему. Он прошел мимо нее и остановился между колоннами своей террасы. Ему хотелось что–то сказать, но он не находил слов.
Полуобернувшись, он оглянулся на нее. В ее глазах отражалась его собственная тоска, смешанная с растерянностью и страхом.
— Хадасса, — тяжело вздохнул он, и в этом имени для него было все, что он чувствовал, — я ждал…
— Нет — сказала она с мягкой мольбой и повернулась, чтобы уйти.
Прежде чем она могла открыть дверь, Марк удержал ее. Повернув ее к себе, он прижал ее спиной к двери. — Почему ты сопротивляешься своим чувствам? Ведь ты же любишь меня, — с этими словами он обнял ее лицо ладонями.
— Марк, не надо! — сказала она голосом, полным страдания.
— Признайся в этом, — сказал он и нагнулся, чтобы поцеловать ее. Она отвернулась, он прижался губами к ее шее. Задыхаясь, она изо всех сил начала сопротивляться, стараясь освободиться из его объятий.
— Ты любишь меня! — настойчиво повторил Марк, схватил ее лицо за подбородок и повернул к себе. Прижавшись губами к ее губам, он стал целовать ее с той страстью, которая копилась в нем месяцами. Он упивался ею, подобно человеку, умирающему от жажды. Ее тело постепенно обмякло, и он чувствовал, что больше не в силах ждать. Взяв ее на руки, он понес ее к своему дивану.
— Нет! — закричала Хадасса и снова стала сопротивляться.
— Перестань бороться со мной, — хрипло произнес он. Он видел ее темные глаза на раскрасневшемся лице. — Перестань бороться с собой. — Я покинул Рим, для того чтобы быть с тобой. Я ждал тебя больше, чем кого–либо из женщин.
— Марк, не бери на себя грех.
— «Грех», — фыркнул он и снова стал ее целовать. Она вцепилась в его тунику, полуотталкивая, полуудерживая его. Она не переставая умоляла его остановиться, но ее мольбы только убеждали его в том, что ее желание не менее сильно, чем его. Она трепетала в его объятиях, и он ощущал, насколько горяча ее кожа, — но одновременно он чувствовал и соль ее слез.
— Боже, прошу Тебя, помоги мне! — закричала Хадасса.
— Боже, — повторил Марк, внезапно разозлившись. Он ощутил разочарование, от его нежности и страсти больше не осталось и следа. — Да, молись какому–нибудь богу. Молись Венере. Молись Эросу, чтобы вести себя так, как нормальная женщина! — Он почувствовал, как под его рукой вырез на одежде девушки разорвался и услышал ее слабый испуганный крик.
Издав проклятие, Марк резко отпрянул назад. Тяжело дыша, он смотрел на причиненное им повреждение, на порванную тунику, край которой по–прежнему сжимал в своей руке. Тут его прошиб холодный пот, и он отпустил девушку.
— Хадасса, — прохрипел Марк, чувствуя, что противен самому себе. — Я не хотел…
Он молча смотрел на ее неподвижное и бледное лицо. Ее глаза были закрыты, и она не шевелилась. Глядя на ее неподвижную фигуру, Марк почувствовал, как у него перехватило дыхание.
— Хадасса! — Приподняв ее за плечи, он убрал с ее лица волосы и приложил руку к сердцу девушки, испугавшись, как бы ее Бог не наслал на нее смерть, чтобы спасти ее чистоту. Но, ощутив биение ее сердца, он почувствовал облегчение, затем на смену ему пришло болезненное чувство, когда до Марка дошла мысль о том, что он едва не изнасиловал ее.
Хадасса стала приходить в себя, и Марк, будучи не в силах смотреть на нее, положил ее на диван и встал. Подойдя к столу, он налил себе из кувшина вина и жадно выпил. Вино показалось ему горьким, как желчь. Испытывая сильную дрожь, он оглянулся и увидел, как Хадасса встает. На ее лице отражалась боль. Он налил еще вина и протянул ей.
— Выпей, — сказал он, передавая ей кубок. Она взяла его трясущимися руками. — Наверное, твой Бог хочет оставить тебя девственницей, — сказал Марк, содрогнувшись от грубости собственных слов. Во что же он превращается, если едва не изнасиловал любимую женщину? — Выпей, — уныло повторил он и почувствовал дрожь ее пальцев, прикоснувшись к ним. Сгорая от стыда, он взял ее руки в свои и опустился перед ней на колени.
— Не знаю, что на меня нашло… — сказал он, и в его голосе звучала боль, потому что он понимал, что это не может быть оправданием. Хадасса не смотрела на него, но по ее щекам текли слезы тихие ручейки слез — и его сердце едва не остановилось. — Не плачь, Хадасса, не плачь. Прошу тебя. — Он сел рядом с ней и хотел было обнять ее, но побоялся. — Прости меня, — сказал он, дотронувшись до ее волос. — Ничего ведь не случилось. Не нужно плакать. Кубок выпал у нее из рук ударился об пол, разлив по мрамору кроваво–красное вино. Хадасса закрыла лицо руками, ее плечи вздрагивали.
Проклиная себя, Марк встал и отошел от нее.
— Моя любовь никогда не была милосердной или долготерпеливой, — сказал он, осуждая себя. — Я никогда не хотел причинить тебе боль. Клянусь тебе! Я не знаю, что произошло… Я никогда раньше не был таким безрассудным.
— Но ты остановился, — внезапно сказала она.
Он оглянулся на Хадассу, удивленный тем, что она вообще заговорила с ним. Она неотрывно смотрела на него твердым взглядом, несмотря на то что продолжала дрожать всем телом.
— Ты остановился, и Господь благословил тебя…
Ее слова привели Марка в бешенство.
— Не говори мне о своем Боге! Будь Он проклят! — с горечью в голосе воскликнул он.
— Не смей так говорить, — прошептала Хадасса, и ее сердце исполнилось страха за него.
Марк снова подошел к ней и заглянул ей в глаза.
— Неужели ту любовь, которую я к тебе испытываю, ты называешь благословением? — Он заметил, что снова больно схватил ее, и разжал руки. Отойдя на несколько шагов, он подавил свои эмоции. — Где здесь благословение, если я хочу быть с тобой и не могу из–за какого–то смехотворного закона? Разве нормально, если человек должен бороться со своими естественными инстинктами? Твоему Богу доставляет радость причинять боль.
— Бог наносит раны, которые может исцелить.
— Ага, значит, ты этого все–таки не отрицаешь, — сказал он, иронически засмеявшись. — Значит, Он играет с людьми, как и любой другой бог.
— Здесь нет никаких игр, Марк. Нет никакого бога, кроме Всемогущего Бога, и то, что Он делает, Он делает только нам во благо.
Он закрыл глаза. Марк. Она благословила его имя, когда произнесла его, и гнев исчез, — гнев, но не разочарование.
— Какое благо может быть от моей любви к тебе? — спросил он безнадежным голосом, глядя на нее. Ее глаза снова заблестели от слез. Ему показалось, что в ее глазах он уловил какую–то надежду.
— Может быть, Бог таким образом хочет, чтобы твое сердце открылось Ему.
Он усмехнулся.
— Ему? — со смехом повторил он. — Да я лучше умру, чем склонюсь перед твоим Богом! — Марк тут же пожалел о сказанном — он никогда не видел на лице Хадассы такой боли и такого страдания. Он увидел, как сильно разорвал своими руками одежду рабыни, и понял, что так же сильно ранил ей сердце своими злыми словами. А когда он посмотрел ей в глаза, то понял, что ранит своими действиями не только ее, но и себя.
— Я хочу знать, что заставляет тебя быть такой верной этому твоему невидимому Богу. Объясни мне.
Хадасса смотрела на Марка и знала, что любит его так, как не любила никого и никогда. Почему, Боже? Почему именно он, который ничего не понимает? Почему он, осознанно отвергающий Тебя? Неужели Ты и правда так жесток, как это утверждает Марк?
— Не знаю, Марк, — сказала Хадасса, сильно дрожа. Она по–прежнему дрожала, испытывая к Марку странное, непреодолимое влечение и боясь снова поддаться тем чувствам, которые Марк возбуждал в ней. Бог никогда не призывал ее к таким чувствам.
О, Боже, дай мне силы. Собственных сил у меня не осталось. Когда он смотрит на меня, у меня все тает внутри. Я схожу от него с ума.
— Помоги мне понять, — сказал Марк, и она знала, что он не отстанет, пока она не даст ответ.
— Мой отец говорил, что Господь избрал Своих детей еще до основания мира, в соответствии со Своими благими планами.
— Благими планами? Разве это благие планы, если он удерживает тебя от всех естественных радостей? Ты любишь меня, Хадасса. Я видел это по твоим глазам, когда ты смотрела на меня. Я чувствовал это, когда прикасался к тебе. Твоя кожа была такой горячей. Ты трепетала, и я знаю, что это не был трепет страха. Что хорошего в том, что твой Бог заставляет нас страдать?
Когда Марк смотрел на Хадассу, она не могла говорить. Она опустила глаза.
Марк подошел к ней и поднял ей голову за подбородок.
— Ты сама не можешь ответить, ведь так? Ты думаешь, что этот твой Бог — это все. Что Он самодостаточен. Я тебе говорю, что это не так. Он может защитить тебя, Хадасса? Он может прикоснуться к тебе? Он может поцеловать тебя? — Он провел ладонью по ее щеке, и когда он увидел, как она закрыла глаза, его пульс забился чаще. — Твоя кожа горяча, и сердце у тебя бьется так же, как я у меня. — Он посмотрел ей в глаза умоляющим взглядом. — Разве твой Бог может помочь тебе испытать такие чувства, какие могу дать тебе я?
— Не делай этого со мной, — прошептала Хадасса, взяв его руку обеими руками. — Пожалуйста, не надо.
Марк видел, что снова причиняет ей боль, но не понимал, почему. Он вообще ничего не мог понять и от этого испытывал гнев и разочарование. Как такая нежная и хрупкая девушка может быть столь непреклонной?
— Этот Бог не может даже говорить с тобой, — резко произнес он.
— Он говорит со мной, — тихо ответила она.
Марк убрал от нее руку. Внимательно глядя на девушку, он видел, что она говорит правду. Другие люди тоже порой говорили ему подобное: бог сказал то, бог сказал это. Но что бы ни говорили тем людям боги, они почему–то говорили лишь то, что тем людям было нужно. Однако сейчас, когда Марк смотрел Хадассе в глаза, у него не осталось никаких сомнений — и он внезапно, неожиданно почувствовал страх.
— Как? Когда?
— Ты помнишь историю об Илии и о пророках Ваала? Я ее как–то рассказывала.
Марк слегка нахмурился.
— Это о том человеке, который вызвал огонь с небес, поглотивший его жертву, а затем перебил двести жрецов? — Да, Марк помнил эту историю. Он еще удивился, что Хадасса способна рассказывать такие кровавые истории. Выпрямившись, он отошел от нее на несколько шагов. — И что?
— После того как Илия убил жрецов, царица Иезавель пообещала сделать с ним то же самое, и он бежал, потому что испугался.
— Испугался женщины?
— Не просто женщины, Марк. Она была очень злой и могущественной. И вот, Илия бежал в пустыню от Иезавели. Он обратился к Богу и просил у Него смерти, но Бог послал к нему ангела, чтобы служить ему. Та пища, которую Илия получал от ангела Господня, дала ему силы, чтобы сорок дней быть в пути и дойти до горы Хорив, Божьей горы. Там Илия нашел пещеру, в которой жил. И только после этого Господь пришел к нему. Подул сильный ветер, разрушивший камни, но в этой буре Бога не было. Затем наступили землетрясение и пожар, но и в них не было Господа. И вот только тогда, когда Илия оказался в безопасной пещере, он услышал, как Бог говорит с ним.
Хадасса посмотрела на Марка, и ее глаза были нежными и сияющими, а лицо излучало удивительное вдохновение.
— Бог говорил с Илией тихим шепотом, Марк. Это был спокойный и тихий голос. Это было веяние тихого ветра…
Марк вдруг почувствовал какой–то странный трепет внутри. Как бы пытаясь от него избавиться, он криво усмехнулся.
— Ветра?..
— Да, — тихо сказала она.
— Сегодня с берега подует бриз. Если я выйду на террасу, смогу я услышать голос твоего Бога?
Хадасса опустила голову.
— Если только откроешь свое сердце. — Если твое сердце не так жестоко, — подумала при этом она, и ей снова захотелось заплакать.
— Твой Бог может говорить даже с римлянином? — насмешливо спросил Марк. — Думаю, скорее Он захочет, чтобы мое сердце лежало на Его жертвеннике, — сухо сказал он, — особенно после того, что я едва не сделал с одной из самых верных его служительниц. — Он встал в проходе на террасу, спиной к Хадассе. — Значит, я должен твоего Бога винить в тех чувствах, которые испытываю к тебе? Это Его проделки? — Он снова повернулся к ней.
— Прямо как у Аполлона с Дафнией, — горько сказал он. — Знаешь о них, Хадасса? Аполлон полюбил Дафнию, но она была девственницей и не хотела ему уступать. Он упорно преследовал ее, и она убежала от него, прося богов о помощи. — Он хрипло засмеялся. — Они спасли ее. Знаешь, как? Они превратили ее в куст с душистыми цветами. Вот почему на всех изображениях ты видишь Аполлона с венком из дафнии на голове.
Марк снова скривил губы.
— А твой Бог может превратить тебя в куст или в дерево, чтобы защитить тебя от меня и сохранить твою девственность?
— Нет.
Наступило долгое молчание. В ушах Марка стояло только биение его сердца.
— Ты борешься не столько со мной, сколько с собой.
Хадасса покраснела и снова опустила глаза, но не стала ничего отрицать.
— Да, действительно, ты заставил меня испытать такие чувства, каких я раньше никогда не испытывала, — тихо сказала она и снова взглянула на Марка, — но Бог дал мне свободу выбора и предупредил о последствиях безнравственности…
— Безнравственности? — повторил Марк сквозь зубы. Это слово было подобно нанесенной ему пощечине. — Что безнравственного в том, что два человека любят друг друга и наслаждаются любовью?
— Так же, как ты любил Витию?
От этого тихого вопроса Марка будто окатило холодной водой.
— Между Витией и моими чувствами к тебе нет ничего общего! Я никогда не любил Витию.
— Но ты наслаждался с ней любовью, — сказала Хадасса очень тихо, сама пугаясь своей откровенности.
Марк посмотрел ей в глаза, и гнев у него пропал. Ему было стыдно, но он не мог понять, почему. Ведь не было же ничего плохого в том, что он делал с Витией. А может, было? Но она сама приходила к нему. После первых нескольких раз она приходила к нему ночью даже тогда, когда он ее не звал.
— А я ведь мог бы тебе приказать, разве нет? — сказал он, печально улыбнувшись. — И если бы я потребовал от тебя подчиниться, что бы ты стала делать, — может, бросилась бы вниз, с террасы?
— Ты бы не потребовал от меня этого.
— Почему ты так в этом уверена?
— Потому что ты честный человек.
— Честный… — горько усмехнувшись, произнес Марк. — Как легко может единственное слово остудить человеческий пыл. И лишить человека надежды. Что ты, не сомневаюсь, и делаешь. — Он посмотрел на нее. — Я римлянин, Хадасса. Прежде всего, я римлянин. И не уповай слишком на мое самообладание.
Снова над ними повисло тягостное молчание. Марк знал, что ничто не сможет убить в нем любовь к ней, и был в отчаянии. Если бы не эта вера, которой неотступно следовала Хадасса, он мог бы назвать ее своей. Если бы не этот ее Бог…
Хадасса встала.
— Можно мне идти, мой господин? — тихо сказала она, уже как служанка.
— Да, — спокойно ответил он, провожая ее глазами. Когда она уже открыла дверь, он окликнул ее.
— Хадасса, — сказал Марк, чувствуя, как любовь разрывает его изнутри. Единственный способ овладеть ею, на его взгляд, состоял в том, чтобы пошатнуть в ней эту упрямую веру. Но не пошатнет ли он при этом и ее саму? — А что этот твой Бог вообще сделал для тебя?
Девушка довольно долго стояла в дверях к нему спиной и молчала.
— Все, — наконец тихо ответила она и ушла, так же тихо закрыв за собой дверь.
* * *
В тот же вечер Марк сказал отцу о том, что намерен подумать о приобретении собственного жилья.
— Наш неожиданный переезд в Ефес заставил меня подумать о безопасности наших средств, — сказал он. — Если мы вложим золотые таланты в приобретение второй виллы и организацию развлечений для знатных римлян, эта проблема быстро решится.
Децим посмотрел на него, прекрасно зная, что истинная причина такого решения Марка не имела ничего общего с данными «размышлениями».
— Я понимаю тебя, Марк, — сказал он. И он действительно понимал.
29
— Хадасса! — позвала Юлия, едва войдя в дом и устремившись наверх, в свои покои. — Хадасса!
— Да, моя госпожа, — ответила Хадасса, поспешив к ней.
— Иди сюда, быстрее, быстрее! — сказала Юлия и, как только Хадасса вошла в ее покои, закрыла за ней дверь. Она смеялась и кружилась по комнате, потом сняла тонкую шаль, покрывавшую ее голову. — Мы с матерью сегодня утром ходили в Артемизион, и я едва в обморок не упала, когда увидела его там.
— Кого, моя госпожа?
— Атрета! Таким красивым я его еще никогда не видела. Ну просто бог, сошедший с Олимпа. На него смотрели все. Он был всего в нескольких метрах от меня. Пока он поклонялся, с ним было двое стражников. Я думала, что умру, — так у меня сердце заколотилось. — Она прижала руки к сердцу, будто старалась его успокоить, после чего стала рыться в своих вещах. — Мама сказала, что нам нужно оставить его в покое, и не мешать ему поклоняться богам, — угрюмо добавила она.
— Что ты ищешь, моя госпожа? Я помогу тебе найти.
— Красный сердолик. Помнишь? Ну тот, большой, с тяжелым золотым когтем. Поищи его. И побыстрее! Чакр тогда говорил, что сердолик усиливает в человеке воображение, а мне сейчас очень нужно воображение, чтобы придумать, как встретиться с Атретом.
Хадасса нашла это украшение и протянула его Юлии. Сам по себе сердолик был удивительно красив, но устрашающий коготь производил такое впечатление, будто талисман обладает какой–то магической силой.
— Только не стоит всю веру вкладывать в камень, моя госпожа, — сказала Хадасса, послушно передавая его своей хозяйке.
Юлия засмеялась и, взяв украшение, сжала его в ладони.
— Почему нет? Если он помогал другим людям, почему он не поможет мне? — она взяла камень в обе руки, прижала его к груди и закрыла глаза. — А сейчас мне нужно сосредоточиться. Оставь меня, я потом тебя позову.
Сердолик, видимо, подействовал на Юлию. В течение часа она уже точно знала, как встретится с Атретом. Этой своей идеей она не могла поделиться ни с Хадассой, ни с кем–либо еще в доме. Даже Марк не одобрил бы ее методов, но ей было все равно. Ее глаза блестели от восторга. Да, ей все равно, что о ней подумают. Да и никто не должен знать об этом… Этот секрет будет известен только ей одной — и Атрету.
Хадасса сказала, чтобы Юлия не верила в камни, но ведь этот сердолик подействовал! Юлия знала, что без него она бы никогда не смогла додуматься до такой дерзкой и захватывающей идеи. Завтра же она сделает все необходимые приготовления.
И на следующий день она встретилась с Атретом в храме Артемиды.
* * *
Увидев Юлию Валериан среди ароматического дыма в святилище Артемизиона, Атрет вспомнил пророчество матери. Он долго ждал, когда эта женщина войдет в его жизнь, и вот теперь она стояла перед ним, подобно видению, еще более красивая, чем та, какой он ее помнил. Одетая в красный с золотой оторочкой наряд, облегающий ее изящное тело, Юлия шла к нему. Он услышал металлический звон и увидел на ней ножные браслеты.
Наблюдая за ней, Атрет слегка нахмурился. Каким образом эта благородная девушка, которую он видел в римском лудусе, стала храмовой проституткой в Ефесе? Не иначе, это богиня сделала так, чтобы их пути пересеклись. Да и что он знал о Юлии Валериан кроме того, что ему о ней говорили? Он видел ее только однажды, когда она стояла на балконе лудуса. И вот теперь она стояла так близко от него, что он мог видеть, как она слегка покраснела под его пристальным взглядом. И ее глаза, такие темные и жаждущие…
В ней не было холодности притворного желания, характерной для проституток. Ее желание было настоящим, — настолько настоящим, что Атрет почувствовал к ней страсть, какой за всю свою жизнь не испытывал ни к одной женщине. Но что–то заставляло его не торопиться и ничего не говорить.
Стоя под его загадочным взглядом, Юлия сильно разволновалась и растерялась. Она облизывала губы и отчаянно пыталась вспомнить слова, которые заранее приготовила.
Она ждала его в храме уже много часов, отвергнув десятки предложений других мужчин и думая о том, придет ли он вообще. И вот он появился. Тяжело вооруженный, он передал жрецу пожертвования и склонился перед образом Артемиды. Когда же он поднялся, она вышла и встала так, чтобы он мог ее увидеть, чувствуя, как ее охватил жар, когда Атрет повернулся и взглянул на нее.
В этот миг он слегка приподнял голову, его губы скривились, изобразив некоторое удивление. И тут она, преодолевая сильное волнение, заговорила:
— Приди ко мне для празднования, чтобы нам вместе доставить наслаждение самой высокой богине, — она чувствовала, что заикается, поэтому покраснела.
— И за сколько? — спросил он зычным голосом, говоря с сильным акцентом.
— За любую цену, которую ты сможешь заплатить.
Атрет оглядел ее с головы до ног. Она была сказочно красива, но почему–то он испытывал какое–то смутное беспокойство. Та ли это женщина, о которой пророчествовала его мать? Женщина, которая разодета и продает себя как последняя проститутка? Но страсть оказалась сильнее опасений. Он кивнул.
Она повела его, но не в бордель при храме, а в гостиницу, которая была предназначена для богатых иноземцев. Как только они вошли в покои, Юлия тут же бросилась в его объятия.
Когда все закончилось, Атрет испытал какое–то неприятное ощущение от того, что между ними произошло. Он встал и отступил на несколько шагов назад. Встревоженная таким его странным поведением, Юлия вопросительно смотрела на него. Красивые черты божественного лица Атрета сделались холодными и тяжелыми. О чем он думал, когда так смотрел на нее? Юлия пыталась разгадать это по выражению его лица, но не могла.
— Что за игру ты затеяла, Юлия Валериан?
Юлия посмотрела на него круглыми от удивления глазами и покраснела.
— Откуда ты знаешь, как меня зовут?
— Ты как–то была в римском лудусе. С этой римской шлюхой, Октавией. Я спрашивал о тебе. Бато сказал, что ты замужем.
— Мой муж умер, — смущенно сказала она.
Атрет насмешливо приподнял брови.
— И как же дочь одного из самых богатых купцов Римской империи стала храмовой проституткой?
Шатаясь, Юлия встала, решив, что стоя ей легче будет противостоять его насмешливой манере разговора.
— Я не проститутка.
Атрет холодно улыбнулся и протянул руку, чтобы дотронуться до ее волос.
— Нет?
— Нет, — ответила она дрожащим голосом, — просто это был мой единственный шанс встретиться с тобой.
Когда Атрет прикоснулся к ней, его снова охватила страсть.
— И все эти хитрости ради того, чтобы развлечься с гладиатором?
— Нет, — ответила она, задыхаясь и протягивая к нему руки. — Нет. Я хотела быть с тобой. Только с тобой, Атрет. Я хотела быть с тобой с того самого дня, как увидела тебя бегущим по дороге, возле Капуи.
— Я помню. С тобой еще была какая–то маленькая иудейка.
— Неужели ты помнишь? Я не думала, что ты обратил на меня внимание, — сказала она, глядя на него жадными глазами. Это судьба… — С удивительной силой она наклонила его голову к себе.
Атрет насыщал ее голод. Он и сам насыщался, желая, чтобы это насыщение длилось как можно дольше, не прекращаясь. Юлия Валериан не была рабыней, которую послали к нему в камеру лудуса в качестве награды, и не была проституткой, которой можно было заплатить на ступенях храма. Дочь могущественного римского гражданина, пленница собственных страстей, она пришла к нему по своей доброй воле.
И Атрет пользовался ей, как бальзамом, врачуя раны своего сердца. А может быть, это ему только казалось.
В конце концов, пресытившись, он стал одеваться, чтобы уйти, стараясь при этом оставаться к ней спиной. В глубине души ему хотелось поскорее выйти за дверь и забыть обо всем, что было между ними.
— Когда я снова смогу тебя увидеть? — спросила Юлия, и он обернулся, чтобы посмотреть на нее. Она была прекрасна, настолько прекрасна, что у него перехватило дыхание. Физически он ослаб, но ее голодные глаза утоляли его внутренний голод.
Он холодно улыбнулся.
— Когда только придумаешь, как это сделать, — он достал из–за пояса мешочек с деньгами, сунул его ей в руки и ушел, оставив ее сидящей на полу.
* * *
Марк часто устраивал приемы на своей новой вилле, расширяя круг своих новых друзей в Ефесе. Он также поддерживал дружеские связи с проконсулом и другими римскими влиятельными людьми, часть из которых он знал еще в Риме. Когда он предложил отцу, чтобы Юлия была хозяйкой на официальных праздниках и собраниях, тот с готовностью согласился. Таким образом Марк решал две задачи: он предоставлял сестре хотя бы часть той свободы, которой она лишилась после смерти Кая, и получал возможность видеться с Хадассой.
В тот вечер, как и во многие другие, вилла Марка была полна гостей и активной деятельности. Марк взглянул на Юлию, которая удобно разместилась на диване рядом с ним и без особого интереса смотрела на африканских танцовщиц. Они встретились взглядами, и Юлия улыбнулась.
— Дочь проконсула весь вечер только о тебе и расспрашивала, Марк, — сказала сестра, наклонившись к нему. — Наверное, она в тебя влюблена.
— Евника — милый ребенок.
— Этот ребенок, которого ты так не замечаешь, уши своего отца, а ее отец — уши императора.
Марк снисходительно улыбнулся.
— Если я когда–нибудь и женюсь, Юлия, то уж вовсе не из стремления добиться политического влияния.
— А кто говорит о женитьбе? — сказала Юлия с хитрой улыбкой.
— Значит, ты предлагаешь мне совратить дочь римского проконсула, — сказал Марк, стараясь говорить как можно деликатнее, чтобы не попасть в ловушку, которая могла его ожидать.
— Совратить? — удивилась Юлия, слегка приподняв брови. — Интересно слышать такое слово от эпикурейца. Я всегда думала, что ты получаешь удовольствие всюду, где только можно. — Она выбрала сливу. — Евника — это плод, который уже настало время сорвать. — Ее глаза весело засияли, когда надкусила темно–лиловый плод. Потом она встала с дивана. — Разве ты не для того покинул виллу отца, чтобы заняться доходным делом и добиться достойного места среди элиты? Так используй свой шанс. — С этими словами она пошла к гостям.
Марк задумчиво смотрел на Юлию. За тот год, что она прожила с Каем, с ней определенно произошли большие перемены. Она без стеснения держалась в толпе гостей, разговаривала с разными людьми, смеялась, уходила, соблазнительно оглядываясь через плечо. Это беспокоило Марка. Он всегда думал о ней как о своей наивной, милой сестренке, которую баловал и перед которой преклонялся.
Глядя на Юлию, расхаживающую среди гостей, он вспомнил Аррию. Юлия так же охотилась, но никто из присутствующих, судя по всему, не был тем зверем, которого она могла бы назвать своей добычей.
Юлия подозвала Хадассу, и они вышли вдвоем на террасу. Марк слегка нахмурился. Какое бы повеление ни отдала Юлия, у Хадассы находилось что сказать в ответ. Тогда Юлия повторила свои слова раздраженно и более решительно. Сняв с запястья золотой браслет, она отдала его Хадассе, потом вернулась к гостям. Когда она кивком головы дала Хадассе знак уходить, та послушно ушла.
Марк поднялся, чтобы догнать Хадассу и выяснить, что происходит. Тут на его пути грациозно стала Евника, слегка столкнувшись с ним в кокетливой попытке привлечь его внимание.
— Ой, прости, Марк. Я просто не видела, что ты идешь, — сказала она и посмотрела на Марка снизу вверх с таким обожанием, что он даже растерялся.
— Это я виноват, — сказал он, чувствуя, каким разочарованным взглядом она провожает его, когда он проходил мимо. Когда он дошел до коридора, Хадассы уже нигде не было.
* * *
Луна освещала вымощенные белым мрамором улицы, когда Хадасса направлялась к лудусу. Она постучала в тяжелые ворота и стала ждать. Когда стражник открыл ворота, она сказала, что ей нужно поговорить с Сертом. Ее проводили через двор и повели вниз, по полутемному коридору к кабинету Серта. Он уже ждал ее. Он протянул руку, и она передала ему золотой браслет. Он оценивающе рассмотрел браслет, держа перед собой, взвесил его в руке, после чего кивнул и спрятал его в массивный ящик возле своего стола. «Иди за мной», — велел он Хадассе и повел ее куда–то вниз, по каменным ступеням, в холодный, облицованный гранитом коридор, освещенный факелами.
Остановившись возле массивной двери, он нашел нужный ключ. Когда дверь открылась, Хадасса увидела мужчину, сидящего на каменной скамье. Она узнала его, ей хорошо запомнился день, когда увидела его на дороге в Капую, потому что этот человек был мощно сложен и сногсшибательно красив. Когда он встал и повернулся к ним, Хадасса сразу подумала о статуе в покоях своей госпожи. Скульптор передал надменность и физическую красоту гладиатора, но не смог передать тоску в его глазах, скрытую за маской холодной, обузданной силы.
— Твоя женщина прислала за тобой свою служанку, — сказал ему Серт. — Будь на рассвете возле входных ворот. — Сказав это, он ушел.
Атрет сжал губы и сузил глаза, глядя на рабыню, которая стояла перед ним и смотрела на него. Она была одета в изящную тунику кремового цвета, доходившую до лодыжек, препоясанную полосатым поясом, такая же полосатая шаль покрывала ее голову и плечи. Он смотрел ей прямо в глаза, ожидая увидеть в них то, что обычно видел: поклонение и страх. Но вместо этого он увидел в ее глазах невозмутимость и спокойствие.
— Я провожу тебя, — сказала она. У нее был певучий и мягкий голос. Он накинул на плечи плащ и покрыл голову. Он слышал только тихий стук ее сандалий и шел следом. Стражник, ни слова не говоря, открыл перед ней дверь и смотрел ей вслед, едва обратив внимание на Атрета. Когда тяжелые ворота лудуса закрылись за ними, Атрет задышал свободнее.
— Ты иудейка, — сказал он, поравнявшись с Хадассой.
— Я родилась в Иудее.
— И сколько времени ты уже рабыня?
— С тех пор как разрушили Иерусалим.
— Я знал одного иудея. Халев, из колена Иуды. На его счету было тридцать семь убитых. — Она ничего не сказала. — Ты не знала его?
— Нет — ответила она, хотя слышала, как Октавия с Юлией говорили о нем. — Самых сильных и красивых мужчин угнали за Титом, в Александрию, а оттуда увезли в Рим, на зрелища. Я оказалась среди последних пленных, которых гнали на север.
— Он умер достойно.
В лишенном эмоций голосе Атрета было что–то такое, что заставило Хадассу посмотреть на него. Его красивое лицо было жестким, но она чувствовала, что в глубине души, под маской этого холодного и безжалостного лица профессионального убийцы скрывается страдание, которое не дает ему покоя.
Рабыня остановилась. Удивившись самой себе, она обхватила обеими руками его мощную руку.
— Да обратит Господь к тебе Свой лик и даст тебе покой, — сказала она с таким состраданием, что Атрет только растерянно уставился на нее.
Она пошла дальше, и Атрет больше с ней не разговаривал. Он замедлил свой шаг, чтобы поравняться с ней, и шел туда, куда она его вела.
Он знал, что находится в одном из самых богатых районов Ефеса. Наконец, странная служанка Юлии повернула к мраморной лестнице. В конце лестницы была дверь, ведущая в коридор, которым пользовались, вероятно, посыльные. Пройдя до конца коридора, девушка открыла еще одну дверь, ведущую в кладовую. «Пожалуйста, подожди здесь», — сказала она ему и ушла.
Он прислонился к какой–то корзине и с явным неудовольствием огляделся вокруг. Наверняка Юлия украсила руки Серта золотом, чтобы теперь Атрет имел возможность быть здесь, у нее. Чтобы служить в качестве самца, удовлетворяющего непомерные желания этой девицы.
Но как только дверь открылась и Атрет увидел Юлию, от его гордости и гнева не осталось и следа.
— О, я уже думала, что не дождусь тебя, — сказала Юлия, задыхаясь, и он понял, что она бежала к нему. Она бросилась в его объятия и, поднявшись на цыпочки, запустила руки в его густые волосы.
Пока Юлия Валериан была в его руках, он не мог думать ни о чем, — он мог лишь чувствовать, вкушать ее, упиваться ею. Только потом он снова вспомнил о своей гордости — когда у него рассеялось иллюзорное чувство свободы.
* * *
Хадасса отправилась к Иоанну, как только ей представилась такая возможность. На ее стук дверь открыл человек, чьи самые активные годы жизни были уже позади, хотя его взгляд не стал от этого менее сильным и убеждающим. Он радушно встретил Хадассу и представился ей как один из последователей Иоанна. Затем он провел ее в тихую комнату, освещенную лампой, где апостол писал послание к одной из церквей империи. Подняв голову, Иоанн тепло улыбнулся. Отложив в сторону перо, он встал, пожал Хадассе руки и поцеловал ее в щеку. Она не хотела его отпускать.
— О Иоанн, — воскликнула она, крепко держа его за руки, как будто в них была вся ее жизнь.
— Садись, Хадасса, и расскажи мне, какая тяжесть лежит на твоем сердце. — Она все продолжала держать его за руки. Иисус был распят задолго до ее рождения, но она видела Господа в Иоанне, как когда–то в своем отце. В дорогом ее сердцу лице Иоанна она видела огромное сострадание, любовь, от него исходили убежденность и сила истинной веры. Такая же сила, какая была и у отца Хадассы. Сила, которой ей так недоставало.
— Что же тебя гнетет? — спросил Иоанн.
— Все, Иоанн. Все в этой жизни, — сказала она голосом, полным страданий. — Моя вера так слаба. Отец шел на улицы, где зилоты убивали людей, и свидетельствовал им. А я боюсь даже произнести вслух имя Иисуса. — Она заплакала от стыда. — Енох купил меня для своего хозяина, потому что думал, что я из его народа. Иудейка. И они все по–прежнему думают, что я иудейка. Все, кроме Марка. Он узнал, что я встречаюсь с другими христианами в Риме, и запретил мне с ними видеться. Он сказал, что христиане разрушители, которые только и думают о том, как бы разрушить империю. Он сказал, что мне опасно общаться с ними. Иногда он спрашивает меня, почему я верю, но когда я пытаюсь ему ответить, он ничего не понимает. Он только еще больше злится.
Слова лились из нее потоком.
— А Юлия… О Иоанн, как она далека от спасения. Она творит такие ужасные вещи, и я вижу, как она шаг за шагом духовно умирает. Я рассказала ей все истории, которые рассказывал мне отец, — те истории, на которых стоит моя вера. Но она не хочет их слушать. Ей нужны только развлечения и веселье. Она хочет все забыть. Однажды, лишь однажды я подумала, что ее отец что–то начинает понимать… — Хадасса покачала головой. Потом она отпустила руки Иоанна и закрыла лицо.
— Я знаю, что такое страх, Хадасса. Страх — это наш старый враг. Я поддался ему в ту ночь, когда Иисус был в саду, а иудеи пришли туда со священниками и римской стражей.
— Но ты же был на Его допросе.
— Я только был там и все слышал. Среди толпы мне ничто не угрожало. Моя семья была хорошо известна в Иерусалиме. Мой отец знал членов суда. Но скажу тебе так, Хадасса: я никогда не знал настоящего страха, пока не увидел умирающего Иисуса. Я никогда не чувствовал себя столь одиноким, как после этой казни, и чувство это длилось до тех пор, пока я не увидел пелены у пустой гробницы и не понял, что Он воскрес.
Он взял ее за руку.
— Хадасса, Иисус сказал нам все, однако мы по–прежнему не понимали, Кто Он и для чего Он пришел на землю. Мы с Иаковом были ревностными, гордыми, амбициозными, нетерпимыми. Иисус призвал нас, «сынов громовых», потому что мы стремились излить Божий гнев на людей, которые исцеляли Его именем, но не следовали за Ним. Мы хотели, чтобы эта сила была только у нас. Такими вот мы были гордыми и слепыми глупцами. Мы знали, что Иисус есть Мессия, но нам хотелось, чтобы Он был воинственным царем, подобным Давиду, чтобы мы могли править вместе с Ним. Нам никак было не понять, что Тот, Кто является Божьим Сыном, пришел в мир, чтобы быть Пасхальным Агнцем для человечества.
Он грустно улыбнулся и похлопал ее по руке.
— И вовсе не мне, и не Иакову, а Марии Магдалине Иисус дал возможность увидеть Себя после воскресения.
От слез Хадасса какое–то мгновение ничего не видела.
— Как мне обрести такую же силу, как у тебя?
Иоанн нежно улыбнулся ей.
— В тебе есть столько сил, сколько Бог дал тебе, и этих сил хватит для того, чтобы в тебе исполнилась Его воля. Ты только верь в Него.
30
Гостья Юлии произвела на Фебу впечатление сильной и неуязвимой женщины. Она говорила на чистом латинском языке, что свидетельствовало о ее классовой принадлежности, и хотя выглядела она довольно молодо, держалась она достаточно элегантно и уравновешенно, что говорило о ее жизненном опыте, не уступающем опыту Фебы. Гостья была обаятельна, и не из–за чисто внешних данных, которые были весьма далеки от совершенства, а от пленяющей силы ее глаз. Их воздействие было просто обезоруживающим.
Феба знала, что Юлия когда–то считала эту женщину своей близкой подругой. Это казалось странным, потому что они были такими разными. Юлия была такой эмоциональной, а эта женщина выглядела спокойной и уравновешенной.
Феба попросила одну из служанок дать ей знать, когда вернется Юлия. Пока они ее ждали, Феба угощала гостью и поддерживала с ней вежливый разговор. Когда служанка вернулась и едва заметно кивнула Фебе, та, извинившись перед гостьей, отправилась к дочери, сообщить о неожиданном визите. Она решила, что Юлия, скорее всего, не захочет видеть эту женщину.
— Юлия, тебя в перистиле ожидает гостья.
— Кто это? — Юлия сняла с головы шаль, передала ее Хадассе и, махнув рукой, отпустила ее.
— Калаба Фонтанен. Она пришла около часа назад, и мы с ней очень интересно побеседовали. Юлия? — Феба никогда еще не видела у дочери такого выражения лица. Она слегка прикоснулась к ней. — С тобой все в порядке?
Юлия посмотрела на нее настороженно.
— И что она сказала?
— Ничего особенного, Юлия. — Разговор шел о красоте Ефеса, о долгом пути из Рима, об устройстве на новом месте. — Но что с тобой? Ты побледнела.
Юлия покачала головой.
— Просто я никогда не думала, что снова увижусь с ней.
— Ты не хочешь ее видеть?
Юлия ответила не сразу, прикидывая, сможет ли она придумать какую–нибудь отговорку: у нее болит голова от жаркого солнца, она устала от бесконечной ходьбы за покупками, ей нужно подготовиться к сегодняшнему приему у Марка… Она сжала пальцами виски. Голова у нее действительно болела, но она понимала, что сегодня ей не удастся избежать встречи. Она покачала головой. — Я выйду к ней, мама. Просто стоит мне увидеть Калабу, и я не могу не думать о Кае.
— Не знала, что ты так горюешь о нем. Последние несколько месяцев ты так активно занималась своими делами… — Феба поцеловала дочь. — Я знаю, ты его очень любила.
— Я была без ума от него. — Юлия закусила губу и посмотрела в сторону двери, ведущей в коридор, в конце которого находился перистиль. — Если ты не против, я поговорю с ней наедине.
— Конечно, — с облегчением ответила Феба. От Калабы ей было как–то не по себе. Она не могла понять, что может быть общего у ее юной дочери с такой умудренной опытом женщиной.
Калаба сидела в тени алькова и ждала. Казалось, одно ее присутствие наполнило весь перистиль. Даже солнце скрылось за облаками, вырисовывая во дворе мягкие тени. Юлия набралась смелости и степенно двинулась к ней, заставив себя изобразить приветственную улыбку.
— Рада снова видеть тебя, Калаба. Как ты оказалась в Ефесе?
Калаба едва заметно улыбнулась.
— Просто я устала от Рима.
Юлия села рядом с ней.
— Когда ты приехала? — спросила она, изо всех сил стараясь не показывать, что ее всю охватила внутренняя дрожь.
Несколько недель назад. За это время я заново знакомилась с городом.
— Заново? Я не знала, что ты уже была в Ефесе.
— Это один из многих городов, где я побывала еще до своей свадьбы. И здесь я чувствую себя дома больше, чем где бы то ни было.
— Так ты останешься здесь? Это здорово.
Калаба испытующе посмотрела на нее своими темными глазами.
— Я вижу, за то время, что мы не виделись, ты научилась ловко притворяться. Та улыбка, которую ты сейчас наклеила, выглядит искренней.
Потрясенная, Юлия не знала, что сказать.
— Ты уехала, не сказав мне ни слова. Жестоко с твоей стороны.
— Это отец решил вернуться в Ефес.
— А-а, — кивнув, произнесла Калаба, — понимаю. И у тебя, конечно же, не было времени попрощаться с друзьями. — Ее губы скривились в насмешливой улыбке.
Юлия покраснела и отвернулась.
— Хотя с Октавией ты попрощалась, — добавила Калаба, и в ее тоне нельзя было ничего уловить.
Юлия посмотрела на нее умоляющим взглядом.
— Я не могла с тобой видеться после смерти Кая.
— Я так и поняла, — мягким голосом сказала Калаба. Вздрогнув, Юлия призналась:
— Мне было страшно.
— Потому что я знала об этом, — сказала Калаба. — Тебя не покидали эти мысли? Дорогая моя, я знала все. Ты делилась со мной своей болью. Я знала, что Кай делал с тобой, и что это доставляло ему наслаждение. Ты же показывала мне свои раны. И мы обе знали, как Кай поступил с тобой в припадке гнева. Юлия, кто еще, кроме меня, мог понять, какие страдания тебе пришлось пережить и к какому трудному решению вынудил тебя прийти Кай? Тебе следовало бы доверять мне.
Юлия чувствовала, как теряет силы под пристальным взглядом этих темных и бездонных глаз. Калаба положила свою руку на руку Юлии.
— У нас с тобой настоящая дружба, Юлия. Я знаю тебя так, как никто другой. Я знаю, что ты сделала. Я знаю, кто ты. Я знаю, на что ты способна. Ты мне очень дорога. Мы с тобой связаны неразрывно.
Как будто притягиваемая какой–то неведомой силой, гораздо большей, чем ее собственная воля, Юлия склонилась в объятия Калабы.
— Прости меня, что я не повидалась с тобой на прощание в Риме. — Калаба нежно прижала ее к себе и стала нашептывать ей на ухо слова утешения. — Мне казалось, что ты держишь меня в своей власти. Мне от этого было страшно. Теперь я понимаю. Ты единственная моя настоящая подруга. — Юлия слегка подалась назад. — Мне кажется, перед самой смертью Кай понял, что я сделала.
Калаба улыбнулась.
— Все должны отвечать за последствия своих деяний.
Юлию затрясло.
— Я не хочу больше думать об этом. Никогда.
Калаба провела кончиками своих холодных пальцев по лбу Юлии.
— Ну, так не думай, — сказала она Юлии успокаивающим тоном. — Помни, чему я тебя учила, Юлия. Кай был в твоей жизни только эпизодом. А тебе еще предстоит испытать очень многое, прежде чем ты станешь тем человеком, которым, я знаю, тебе предстоит стать. Со временем тебе все откроется.
Юлия забыла обо всех причинах, которые заставляли ее избегать общения с Калабой, и теперь разговаривала с ней так же непринужденно, как когда–то в Риме. Голос у Калабы был таким мелодичным и успокаивающим.
— Как тебе жизнь на новом месте, в Ефесе?
— Она бы нравилась мне еще больше, если бы у меня была свобода. Отец доверил все имущество Марку. И мне теперь приходится выпрашивать у него каждый сестерций.
— Только неудачницы вверяют себя милости мужчин. Особенно когда в этом нет никакой необходимости.
— Но у меня нет выбора.
— Выбор есть всегда. Или тебе нравится быть зависимой?
Почувствовав, как в ней взыграла гордость, Юлия приподняла голову.
— Я делаю то, что хочу.
Калаба посмотрела на нее с интересом и насмешкой одновременно.
— И чего же ты хочешь? Любовных похождений с гладиатором? Ты, я вижу, деградируешь, как Октавия.
От неожиданности Юлия раскрыла рот.
— Откуда ты знаешь об Атрете? Кто тебе сказал? — спросила она хриплым шепотом.
— Серт. Он мой старый друг. — Тут Калаба снова положила свою руку на руку Юлии. — Но должна тебе сказать, что Ефес и без него кишит слухами о том, что дочь одного из самых богатых торговцев империи стала любовницей Атрета. И то, что в городе все будут знать тебя по имени, — лишь вопрос времени.
Придя в ярость, Юлия надменно произнесла:
— Мне нет дела до того, что говорят люди!
— Неужели?
Юлия заговорила откровенно и доверительно:
— Я люблю его. Я люблю его настолько, что готова умереть вместе с ним. Если бы он был свободен, я бы вышла за него замуж.
— Правда? Ты бы действительно пошла за него? В любви ли тут дело, или, может, в его красоте и в его необузданности? Атрет был взят в плен в Германии. Он варвар. Он ненавидит Рим настолько, что ты и представить себе не можешь. А ты, моя дорогая, очень богатая римлянка.
— Но у него нет ненависти ко мне. Он любит меня. Я знаю, что он меня любит.
— Кай тоже тебя любил. Но это не мешало ему пользоваться тобой в своих интересах.
Юлия замолчала.
Удовлетворенная, Калаба встала.
— Мне надо идти. Я очень довольна тем, что мы снова подруги. — Она улыбнулась. Ее визит получился как никогда удачным. — Прим пригласил меня пойти вместе с ним на день рождения проконсула, — сказала она, слегка погладив Юлию по щеке тыльной стороной ладони. — Я не хотела огорчать тебя своим неожиданным визитом.
Но Юлию уже интересовало другое.
— Я немного знаю Прима. Он, кажется, один из советников проконсула?
— Да, и большой специалист по внешним делам и таможне.
— Он такой красивый и забавный.
Калаба мягко засмеялась, и ее глаза стали загадочными.
— У Прима много, много достоинств.
Юлия проводила ее до дверей. Когда она закрыла за Калабой дверь, Феба спросила ее, стоя на лестнице:
— Все в порядке, Юлия?
— Все хорошо, мама, просто прекрасно, — ответила Юлия, стараясь изо всех сил сама в это поверить.
31
Децим проигрывал борьбу со своим недугом. Сразу по возвращении в Ефес он посетил храм Эскулапа, бога врачевания. После бесед со жрецами храма он часами просиживал в украшенном колоннадой бассейне среди змей. Страх и отвращение, которые он испытывал, когда скользкие и шипящие рептилии обвивали его тело, должны были изгнать злых духов, которые порождали его болезнь, но на самом деле этого не происходило.
Когда змеи не помогли, Децим обратился за помощью к врачевателям, которые утверждали, что помочь ему может очищение изнутри. Он прибегнул к рвотным и слабительным средствам, кровопусканию, в результате чего едва не умер от истощения сил. Болезнь по–прежнему прогрессировала. Упав духом, Децим впал в состояние вялости и безнадежности.
Феба страдала вместе с ним. Ей невыносимо было наблюдать, как он мучится от всех этих способов лечения. Она покупала лекарства, чтобы облегчить ему боль, но от мака и мандрагоры Децим впадал в полубессознательное состояние. Иногда он просто отказывался принимать эти средства, потому что хотел знать о том, что происходит вокруг.
По мере того как по городу распространялись слухи о тяжелой болезни Децима, к Фебе стали обращаться самые разные медики и врачеватели, которые предлагали свои теории и способы лечения, и при этом каждый из них гарантировал возвращение к здоровой жизни. Все хотели помочь Дециму выздороветь. У каждого имелся свой совет, своя теория, лучший лекарь, травник или целитель.
Прорицательница Колумбелла убеждала Фебу, что врачам доверять вообще нельзя; она утверждала, что с помощью своих методов излечивала многих больных, которым врачи помочь не смогли. Колумбелла уверяла, что ее нетрадиционные методы помогут Дециму исцелиться, предлагала свои настои и травы, рецепты которых веками передавались из поколения в поколение. Здоровье, по мнению Колумбеллы, зависит от гармонии с природой.
Децим пил ее отвратительные отвары и ел какие–то горькие травы, которые она ему предписывала, но они вовсе не приводили к гармонии и равновесию в организме, как обещала Колумбелла. От них ему не становилось хуже, но и не было лучше.
Марк возил отца в бани, где он сидел в очищающей воде, а также познакомил его с массажистом Оронтом, о котором говорили, что люди выздоравливают от одного его прикосновения. Оронт утверждал, что массаж обладает целительной силой. Когда не помогло и это, Юлия пришла к Дециму и сказала, что, по словам Калабы, он может вылечить сам себя, если только обратится к источнику своего воображения и сознания. Она брала его за руку и уверяла в том, что если он сосредоточится и представит себя здоровым человеком, то он действительно станет таковым. Децим едва не плакал, поскольку она сама не понимала, как жестоко она с ним поступает, — ведь ее слова были косвенным намеком на то, что он сам виноват в своей болезни и в том, что у него нет сил ее преодолеть, потому что он затрачивал на борьбу всю свою волю.
С каждым визитом Юлии Децим видел в ее глазах растущее разочарование и едва уловимый укор и знал, что она была просто убеждена в отсутствии у него «веры», необходимой для исцеления.
— Попробуй это, — сказала она однажды и повесила ему на шею украшение из сердолика. — Оно мне очень дорого. Оно обладает силой богов, и если ты подчинишься этой силе, то обретешь исцеление. — Голос у нее был нарочито бодрым, но в следующую секунду ее глаза наполнились слезами, и она упала ему на грудь. — О папа…
После этого ее визиты к отцу стали более редкими и кратковременными.
Децим совершенно не сердился на нее. У красивой молодой женщины умирающий человек не мог вызывать ничего, кроме чувства угнетенности. А может быть, он просто был для нее суровым напоминанием о том, что она тоже смертна.
Почему он никак не мог умереть и распрощаться со всей этой жизнью? Сколько раз он подумывал о самоубийстве, чтобы избавиться от терзающей его боли. Он знал, что вся семья страдает из–за него, и больше всех Феба. Но когда наступал момент привести свое решение в действие, Децим вдруг начинал чувствовать, что его тянет к жизни. Каждый миг жизни, какой бы болью он ни был наполнен, становился для него по–настоящему драгоценным. Он любил свою жену. Он любил сына и дочь. Желание уйти из жизни было продиктовано эгоистичными мотивами, поскольку в этом желании не было любви, — но сделать этого он не мог. И он знал, почему.
Он боялся.
Давным–давно он утратил веру в богов. Он не видел от них ни помощи, ни угрозы. Но впереди Децим видел только тьму, мрак и вечность в непонятной пустоте, и от этого ему становилось страшно. Он не торопился впадать в забвение, однако оно потихоньку тянуло его к себе. С каждым днем он чувствовал, как жизнь постепенно покидает его.
Феба тоже видела это, и ей тоже было страшно.
Постоянно наблюдая за мужем, Феба чувствовала его внутреннюю борьбу и страдала, как и он. Она обращалась ко всем специалистам и испробовала все средства, и вот теперь ей осталось лишь беспомощно смотреть, как он борется с непрекращающейся болью, борется за свою жизнь. Феба пыталась доставить мужу хоть какое–то облегчение, давая ему сильные дозы мака или мандрагоры. Затем она брала его за руку и сидела рядом, пока он спал. Иногда она уходила и садилась в какой–нибудь альков, чтобы никто ее не видел, и плакала до тех пор, пока не выплакивала все слезы.
Что она сделала плохого? Что она могла сделать, чтобы исправить ситуацию? Она молилась всем богам, которых только знала, давала щедрые пожертвования, постилась, размышляла. В сердце своем она отчаянно искала ответы на свои вопросы, но по–прежнему ей приходилось наблюдать за тем, как человек, которого она любила, с тех пор как впервые увидела его еще совсем юной девочкой, человек, который дал ей детей, любовь и удивительную жизнь, медленно и мучительно умирал.
Иногда, в тишине ночи, когда безмолвие было таким тягостным, что звенело в ушах, Феба ложилась как можно ближе к Дециму и держала его за руку. Потом она начинала отчаянно молиться, но не своим богам, а невидимому Богу юной рабыни.
* * *
Атрет встал со своей каменной скамьи, когда дверь его камеры открылась и на пороге в освещенном факелами коридоре показалась Хадасса. Они вместе вышли за пределы лудуса, оба молчали. Атрет чувствовал, как в нем закипает гнев. Где Юлия устроила ему встречу на этот раз? В гостинице? В хранилище, на вилле брата? На пиру, где они могли уединиться в отдельной комнате? Он сжал губы.
Каждый раз, когда Юлия вызывала Атрета таким образом, он снова и снова чувствовал унижение. И только когда она оказывалась в его объятиях, умоляя его любить ее, гордость вновь возвращалась к нему. Но позднее, когда он оказывался в своей камере, оставаясь наедине со своими мыслями, он опять ненавидел самого себя.
Вчера Серт сказал ему, что зрелища, посвященные Либералиям, состоятся через две недели. Запланированы и смертельные поединки. Начнут сражаться двенадцать пар, победитель получит свободу. Атрет понимал, что пришло его время, и этот шанс может оказаться его последней надеждой.
Атрет решил, что, если он победит в этих поединках и получит свободу, его никто не заставит снова прийти к Юлии. Пусть она сама к нему придет! Он купит виллу на центральной улице и пошлет за Юлией слугу, как она сейчас послала за ним Хадассу.
За последние три года Атрет скопил достаточно денег, для того чтобы безбедно жить в Ефесе или отправиться обратно в Германию и снова стать достойным вождем хаттов. Полгода назад у него на этот счет не возникало никаких сомнений. Он даже и не помышлял тогда о том, чтобы остаться в Ефесе. Но теперь в его жизни появилась Юлия.
Атрет вспомнил те грубые жилища, в которых жили его соплеменники, и сравнил их с роскошными мраморными залами виллы, в которой жила Юлия, и задумался о том, что ему делать. Поскольку Юлия была его женщиной, в его племени ей оказывали бы надлежащие почести, но сможет ли она приспособиться к той жизни, которая была известна ему?
И захочет ли она приспособиться к такой жизни?
Хадасса тем временем повела его вверх, по какой–то незнакомой улице. Она шла медленнее обычного, и по выражению ее лица можно было судить, что она чем–то обеспокоена. У извилистой мраморной лестницы, ведущей к какой–то вилле наверху, она остановилась.
— Она ждет тебя там, — сказала она и, указав наверх, отошла в сторону.
— Это, наверное, еще одна гостиница. Или еще одна вилла ее брата?
— Нет, мой господин. Эта вилла принадлежит Калабе Фонтанее. Моя госпожа называет ее своей лучшей подругой.
В том, как Хадасса говорила, было что–то невысказанное. Атрет с любопытством посмотрел на нее.
— Войдешь в нижнюю дверь, — сказала она, прежде чем он успел о чем–нибудь ее спросить. Испытывая желание скорее увидеть Юлию, Атрет решил забыть о неловкости. Он смело пошел вверх по ступеням.
Дверь была открыта. Он вошел и оказался в коридоре, в который выходили складские помещения; в конце коридора была лестница. Это напомнило ему об одной из предыдущих встреч с Юлией; значит, она ждала его.
На этот раз на лестнице стояла другая женщина. Он направился к ней, с каждым шагом все острее чувствуя, каким критическим взглядом она смотрит на него. Он подошел и остановился перед ней; она стояла на три ступени выше, поэтому глаза у них были на одном уровне. Женщина оглядела его с головы до ног, потом спустилась на ступеньку вниз. Рукой она подняла амулет, который висел у нее на груди. Держа его в открытой ладони, она посмотрела на него, потом на Атрета, и ее губы скривились в насмешливой улыбке. «Ах», — произнесла она, и Атрет увидел перед собой самые холодные глаза из всех, которые ему только доводилось видеть.
Он оттолкнул ее руку.
— Где Юлия?
— Ждет своего счастья, — женщина мягко засмеялась. Звук ее голоса явно нервировал Атрета. — Сюда, — указала она и повернулась к нему спиной.
Сощурив глаза, Атрет шел за ней на второй этаж.
— Подожди здесь, — сказала она и открыла дверь. Атрет стиснут зубы в гневе, когда женщина вошла в помещение и оттуда донесся ее голос: — Юлия, твой гладиатор пришел, — произнесла она с таким презрением, что кровь бросилась ему в лицо. Юлия что–то ответила; слов он не расслышал, но в ее тоне звучало скорее волнение, чем радость и ожидание.
Калаба снова вышла к нему.
— Она сейчас не готова тебя видеть. Жди здесь, и когда она будет готова, она позовет тебя. — Приподняв бровь, Калаба добавила: — Смотри же, обслужи ее как следует. — И пошла по лестнице вниз.
Атрет смотрел ей вслед с черной ненавистью, потом в нем вскипела ярость, и он решил действовать. Распахнув дверь, он увидел, что Юлия сидит у туалетного столика, уставленного различными сосудами с косметикой и парфюмерией. Две служанки делали ей прическу, и обе при его появлении застыли на месте.
— Вон! — закричал он служанкам, кивнув в сторону двери. Они прошмыгнули мимо него, как мышки, убегающие в свою нору.
Юлия сидела, растерянно уставившись на него.
— Я хотела выглядеть как можно лучше, прежде чем…
Атрет схватил ее, силой поставил на ноги и притянул к себе. Она раскрыла рот, но не успела ничего сказать — он прижал свои губы к ее губам. Ее волосы, рассыпавшись, упали ему на руки, и украшенные жемчугом заколки полетели на пол.
Юлия стала сопротивляться.
— Ты испортишь мне прическу, — произнесла она, жадно хватая воздух в ту минуту, когда он дал ей возможность перевести дух.
— А ты думаешь, меня так волнует твоя прическа? — зарычал он в ответ. — Меня волнует только одно. — Он запустил руку в ее волосы, сжал пальцы в кулак и, с силой притянув к себе ее голову, снова стал ее целовать.
Юлия пыталась вырваться.
— Мне больно. Прекрати! — Когда Атрет грубо оттолкнул ее, она в гневе отвернулась, ощупывая свои волосы, потом снова резко повернулась к нему. — Ты хоть представляешь, сколько мне пришлось здесь сидеть, пока они делали мне эту прическу, чтобы я выглядела как можно красивее? И это все для тебя.
— Тогда просто расчеши волосы, — проговорил Атрет сквозь зубы, — как те женщины, которых присылали ко мне в камеру.
Юлия посмотрела на него круглыми от возмущения глазами.
— Ты что, хочешь сказать, что я обыкновенная шлюха?
— А ты что, забыла, как мы с тобой познакомились? — сказал Атрет по–прежнему возмущенный тем, что Юлия велела ему ждать ее в коридоре. Кто он для нее? И что такое он для нее?
Юлия начала терять терпение.
— Я вижу, нам лучше отложить нашу встречу до тех пор, пока у тебя не исправится настроение! — сказала она, отвернувшись. Махнув рукой, она дала понять, что ему лучше удалиться.
Атрет в ярости схватил ее и повернул к себе.
— Ну уж нет, — сказал он, — не получится. — Спустя несколько минут Юлия стала гибкой и податливой и с трепетом прижалась к нему. — Пожалуй, ты права, — согласился Атрет, презрительно усмехаясь, и внезапно отпустил ее так, что она по инерции сделала еще несколько шагов назад. — В другой раз.
— Атрет! Куда ты? — воскликнула Юлия, чувствуя себя обездоленной и покинутой.
— Обратно в лудус.
Юлия бросилась к нему, пока он не открыл дверь.
— Ну что с тобой сегодня? Почему ты так себя ведешь? Почему ты так жесток ко мне? — она схватила его за руку. — Прошу тебя, не уходи. — Она обвила его шею руками и прижалась к нему.
Атрет схватил ее руки и освободился от объятий.
— Ты платишь Серту и вызываешь меня, как шлюха.
Юлия застыла, пораженная услышанным.
— Я никогда не была ею, и ты это прекрасно знаешь! Но это единственное, что я могла придумать, чтобы видеться с тобой. Чтобы быть с тобой, я отдала Серту половину своих драгоценностей. Если бы потребовалось, я бы отдала все. Я люблю тебя, Атрет. — Она наклонила его голову к себе и поцеловала его. — И ты любишь меня. Я знаю, любишь.
Его желание быстро нарастало, как и ее.
— Не заставляй меня снова ждать, — сказал Атрет, чувствуя, что больше не в силах сдерживать свою страсть.
В течение следующего часа Атрет забыл обо всем, кроме тех чувств, которые он мог испытать с Юлией Валериан. Но в наступившей вслед за этим тишине он чувствовал только пустоту.
Он должен был оставить Юлию. Ему необходимо было подумать.
— Куда ты идешь? — спросила Юлия.
— Я иду обратно, в лудус, — кратко ответил он, как бы оправдываясь, потому что она еще никогда не выглядела такой красивой, как в тот момент. Атрет по–прежнему находился в плену ее обаяния, но каким–то образом, возможно даже подсознательно, он понимал, что она лишь насыщала его внутренний голод, но не делала его счастливым.
— Но почему? Ты можешь остаться со мной до рассвета. Обо всем уже договорились.
— Только не со мной, — холодно сказал он. Он оглядел роскошное помещение и вспомнил эту противную и надменную особу, которая являлась хозяйкой этого дома. — Сюда я больше не приду.
Юлия привстала.
— Но почему? Калаба сказала, что я могу пользоваться ее домом когда захочу. Здесь нам лучше всего было бы встречаться! — Она заметила гнев в глазах Атрета и упрямое выражение его лица. Еще немного, и он снова может выйти из себя. — А где, по–твоему, мы могли бы встречаться, Атрет? Уж не думаешь ли ты, что я приду к тебе в твою крохотную каморку?
Он одарил ее насмешливой улыбкой.
— А почему бы и нет? Для тебя это будет чем–то новым, захватывающим…
— И на следующее утро об этом будет знать весь Ефес.
На его скулах заиграли желваки.
— Зато у тебя будет возможность видеться со мной, — он взял пояс и надел его на себя.
Юлия видела, что он оскорблен.
— Нет, это невозможно! И ты это прекрасно знаешь. Моя семья никогда с этим не смирится. Мои отец и брат занимают видное место в обществе. Если кто–нибудь из них узнает, что я люблю гладиатора, они приставят ко мне стражу, чтобы охранять меня от тебя. Неужели ты не понимаешь? Они отдадут меня замуж за какого–нибудь богача из дальнего конца империи. Однажды они это уже сделали!
— А если я стану свободным?
Юлия заморгала глазами от неожиданности. Подобная возможность казалась ей столь далекой, что она старалась об этом даже не думать.
— Не знаю, — заикаясь, произнесла она. — Это, конечно, все меняет. — Она слегка нахмурилась.
Атрет прищурил глаза. Он видел, что Юлия прорабатывает в голове все возможные варианты. Он горько усмехнулся.
— Атрет, — сказала Юлия таким тоном, будто разговаривает с ребенком, — но ведь прежде чем ты получишь свободу, пройдут годы, и ты об этом знаешь. Мы же не можем столько ждать и непонятно на что надеяться. Сейчас нам остается только наслаждаться каждой минутой, проведенной вместе.
Ничего не сказав, Атрет надевал сандалии. В висках у него стучало, и этот стук гремел в ушах, подобно барабану, который он слышал когда–то в лесу.
— Не уходи, — сказала Юлия, чувствуя, что в их отношениях происходит что–то неладное. Когда Атрет встал, она протянула к нему руки. — Останься со мной. Ну почему ты такой упрямый? Ведь ты же хочешь остаться.
— Хочу?!
Юлия уронила руки на колени и сцепила их, уязвленная его бесцеремонностью. Но в следующую минуту, одеваясь, она вызывающе вскинула подбородок. — Мне поговорить с Сертом на этой неделе, или тебе лучше оставаться в своей каморке одному?
Он снова скривил губы в сардонической улыбке, открывая дверь.
— А я воздерживаюсь от женщин, перед тем как сражаться на арене.
Выслушав эти слова, да еще сказанные таким беспечным тоном, Юлия почувствовала, что ей стало страшно.
— На какой арене? — спросила Юлия, придя в ужас от одной мысли о том, что может больше его никогда не увидеть. Он вышел за порог. — Атрет!
Он спускался вниз, по освещенному факелами коридору, перешагивая через три ступеньки.
— Прочь с дороги, — сказал он какому–то дюжему стражнику, ставшему у него на пути, и направился к передней двери. Он слышал, как Юлия звала его. Спустившись по лестнице на прилегающую улицу, он остановился, чтобы вдохнуть полные легкие свежего воздуха. Оглянувшись назад, он заметил, что Юлия не выбежала за ним на улицу, — ведь ее могли увидеть.
Атрет огляделся вокруг и понял, что не знает обратной дороги; тут он отчаянно выругался. По дороге сюда он думал только о Юлии. А следовало бы постараться запомнить путь.
Раздались тихие шаги, которые заставили его насторожиться и приготовиться к обороне. Возле ворот появилась юная рабыня, которая смотрела на него снизу вверх.
— Я покажу тебе дорогу, — сказала она.
— Только сначала я немного прогуляюсь.
Он знал, что она шла за ним, но не сбавлял шагу. На темных улицах попадались прохожие, которые оглядывались, завидев его. Были и такие, которых Серт посылал специально следить за ним, чтобы оберегать от любых случайностей, — ведь столько денег в него вложено! Он мог позвать любого из них и попросить, чтобы ему показали дорогу. Такая мысль резанула ему по сердцу. Уведите меня в тюрьму. Наденьте на меня снова кандалы.
Он увидел храм Артемиды. Но тут как будто некая неведомая сила заставила его отвернуться от этого храма. И он пошел по дороге, ведущей к арене. Дойдя до арены, он долго стоял, глядя на нее, слыша отголоски криков, вспоминая запах крови. Закрыв глаза, он задумался, почему, имея в распоряжении несколько часов свободы, он оказался именно здесь.
Он прохаживался между расположенными под зрительскими трибунами опустевшими лавками. Обнаружив вход, он поднялся по лестнице наверх. Арену освещал лунный свет, и он без труда прошел на те трибуны, где сидели самые уважаемые римские граждане. Над ним покачивалась от легкого ветерка ткань навеса.
Один навес был развернут, другие — свернуты и убраны, и трибуны освещались луной.
Атрет посмотрел вниз, на песчаную арену. Там, где он сейчас стоял, скоро будет сидеть Юлия, глядя, как он будет сражаться за свою жизнь. Как он будет кого–то убивать. И она будет получать от этого удовольствие.
Рядом с ним стояла маленькая иудейка.
— Мы оба служим Юлии, так ведь? — сказал Атрет, но она ему не ответила. Он посмотрел на девушку и увидел, что она осматривает арену, как будто никогда не видела ее раньше. Было видно, как иудейка дрожала, потрясенная тем, что находится в этом смертельном месте.
— Через несколько дней я буду там сражаться, — сказал Атрет. — Серт выставил меня на поединки смерти. Знаешь, что это такое? — Не глядя на него, девушка покачала головой, и он объяснил. — Кто знает, может быть, Артемида решила улыбнуться мне, сухо сказал он и отвернулся. — В это же время, только через неделю, я уже буду либо мертвым, либо свободным.
Атрет снова посмотрел вниз, на песчаную арену. Она сейчас была похожа на белое лунное море. Такая чистая. Но он помнил запах крови каждого из тех, кого ему довелось убить в своей жизни.
— А может быть, единственной настоящей свободой и является смерть.
Хадасса взяла его за руку.
— Нет, — тихо сказала она.
Атрет, не ожидавший ее прикосновения, удивленно посмотрел на нее сверху вниз. Она нежно, как ребенка, держала его за руку.
— Нет, — еще раз сказала она и, повернувшись к нему, твердо взяла его ладонь обеими руками. — Это не единственная свобода, Атрет.
— А какая еще свобода может быть для такого человека, как я?
— Та, которую дает Бог.
Атрет отдернул руку.
— Если твой Бог не смог спасти Халева, то меня Он тем более не спасет. Уж лучше я доверюсь Артемиде.
— Артемида — это лишь кусок мертвого камня.
— На ней символ Тиваза, бога лесов моей родины, — Атрет показал ей амулет, который носил на шее. Свой талисман.
Хадасса грустно посмотрела на амулет.
— Козел ведет овец на бойню.
Атрет сжал свой амулет в кулаке.
— Так что же, мне, по–твоему, нужно стать иудеем? — иронично усмехнулся он.
— Я христианка.
Он уставился на нее, как будто перед ним был голубь, у которого внезапно выросли рога. Христиан выводили на арену, на съедение диким зверям. Зачем это делали, он никогда не понимал; какую угрозу для Рима представляли люди, которые не сражаются? Возможно, в этом все и дело. Римляне ценили смелость, даже в своих врагах. Трусость приводила их в бешенство. Христиан отдавали на съедение львам, потому что это была позорная смерть, уготованная самым опасным преступникам и последним трусам. Единственная смерть, которая считалась еще позорнее, — это висеть на кресте.
Зачем она сказала ему, что она христианка? Зачем она так рискует? Он ведь мог сказать об этом Серту, который всегда искал жертв на потеху голодной публике; он мог сказать об этом Юлии, которая не скрывала своего презрения к христианам.
Атрет нахмурился, понимая, что Юлия могла и не знать, что ее служанка — последовательница этого ненормального культа.
— Лучше тебе помалкивать об этом, — сказал он Хадассе.
— Я и так молчала, — ответила Хадасса, — и молчала слишком долго. Может быть, больше мне никогда не доведется поговорить с тобой, Атрет, и я боюсь за твою душу. Я должна сказать тебе…
— У меня нет души, — сказал он, резко оборвав ее. Он не знал, что такое душа. И не был при этом уверен, хочет ли вообще знать.
— У тебя есть душа. Она есть у всех. Прошу тебя, послушай, — умоляла его Хадасса. — Бог живет, Атрет. Обратись к Нему. Обратись, и Он ответит тебе. Попроси Иисуса войти в твое сердце.
— Кто это такой?
Она открыла рот, чтобы заговорить.
— Замолчи, — резко сказал ей Атрет, и она услышала, как к ним идет охрана. Страх сковал ее, когда она посмотрела наверх и увидела в нескольких рядах от себя римских воинов, глядящих на них, подобно хищным птицам, высматривающим добычу. Она тут же вспомнила крики умирающих людей в Иерусалиме, лес крестов за разрушенными стенами, тех несчастных, которые остались в живых. У нее пересохло во рту.
— Пора возвращаться, Атрет, — сказал один из воинов, — сейчас начнет светать. — Другие стояли наготове, на тот случай, если гладиатор вздумает не подчиниться.
Атрет кивнул. Его глаза блеснули, когда он повернулся к Хадассе, и он слегка нахмурился.
— Глупость ты сделала, что рассказала мне об этом, — сказал он так, чтобы его услышала только она.
Хадасса сделала усилие, чтобы не заплакать.
— Я сделала глупость, что не сказала тебе об этом раньше.
— Не говори ничего больше, — сказал он ей и увидел, что ее глаза блестят от слез.
Она взяла его руку в свою.
— Я буду молиться за тебя, — сказала она, задержав его руку в своей, как бы прося задержаться еще на мгновение. — Я буду молить Бога о том, чтобы Он простил мне мой страх и даровал нам еще одну возможность поговорить.
Атрет никогда не видел раньше таких глаз — они были полны такого сострадания, которое проникло даже через его жесткое сердце.
* * *
— Он сказал, что снова будет сражаться на арене, — сказала Юлия, огорченная тем, что Калаба не дала ей догнать Атрета.
— Разумеется, он будет сражаться на зрелищах. Он же гладиатор.
— Как ты не понимаешь? Он же может умереть! Единственные зрелища, которые будут в ближайшее время, — это Либералии, и Серт собирается выставить его на поединки смерти. Вчера Марк сказал мне об этом. И Атрет будет сражаться не с одним и не с двумя. — Юлия сдавила пальцами виски. — Какой же я была дурой! Я никогда не думала, что это может означать. А если я его потеряю? Я не смогу этого пережить, Калаба, не смогу.
— А если он останется в живых? — спросила Калаба таким тоном, что Юлия невольно повернулась к ней.
— Тогда Серт дарует ему свободу.
— И что дальше? Что ты будешь с ним делать?
— Не знаю. Если он захочет, я выйду за него замуж.
— Неужели ты действительно такая дура? — презрительно спросила Калаба. — Юлия, да он еще хуже Кая.
— Вовсе нет. Он совсем не похож на Кая. Тогда он так разозлился на меня, потому что я заставила его ждать в коридоре.
— А говорю не об этом, хотя и здесь есть повод серьезно задуматься. Я говорю о том, как он властвует над тобой. Стоит тебе едва уязвить его гордость, и он уходит. И что ты делаешь? Ждешь, когда он вернется и сам попросит у тебя прощения? Видела бы ты себя со стороны, Юлия, когда ты бежала за ним. На тебя было просто жалко смотреть — так глупо ты себя вела.
Юлия покраснела.
— Но я хотела, чтобы он остался.
— Весь Ефес мог увидеть, как ты этого хотела, — сказала Калаба. — Неужели ты держишься за него только из–за того, кто он такой?
Юлия отвернулась, вспомнив язвительное замечание Атрета о том, что он воздерживается от женщин перед схватками. Неужели у него были другие женщины, до того как они познакомились? Она надеялась на то, что стала единственной в его жизни, но что, если она была для него лишь одной из многих?
Калаба повернула ее лицо к себе.
— Этот гладиатор еще должен заслужить твое уважение. Кем он себя считает? Проконсулом Ефеса? Почему ты позволяешь ему обращаться с собой как с дешевой любовницей? — Она убрала руку и недовольно покачала головой. — Ты меня огорчаешь, Юлия.
С болью и чувством стыда в душе Юлия стала оправдываться:
— Атрет — самый знаменитый гладиатор в империи. На его счету уже более ста убитых. За одно это он уже достоин уважения.
— И после этого он достоин тебя? Ты римская гражданка, дочь одного из самых богатых людей в империи, уважаемая женщина. А этот Атрет — обыкновенное дикое животное, способное только сражаться на арене, совершенно неотесанный варвар. Да он молиться на тебя должен за то, что ты стала его любовницей, за каждый миг времени, которое ты посвящаешь ему.
Юлия растерянно заморгала, уставившись в темные глаза Калабы.
— Я как–то не подумала об этом.
Калаба положила свою руку на руку Юлии и слегка сжала ее.
— Я знаю. Ты слишком мало думаешь о себе. И позволила себе стать его рабыней.
Юлия отвернулась, почувствовав еще больший стыд. Неужели она стала его рабыней? Она вспомнила, как умоляла Атрета остаться, а потом побежала за ним. Это его не остановило. Она смирилась, а он отвернулся от нее.
— Тебе надо поставить его на место, Юлия. Он раб. Не ты.
— Но он может заслужить свободу.
— Я понимаю, почему ты так думаешь, но подумай и о другом. Ты знаешь, что варвары убивают своих жен, которые имеют любовников? Они топят неверных жен в болоте. И что будет, если этот гладиатор получит свободу? Что будет, если ты выйдешь за него замуж? Возможно, какое–то время ты будешь счастлива, но что, если ты устанешь от него? Да он убьет тебя, если ты осмелишься хотя бы взглянуть на кого–то другого. В Риме муж имеет право убить неверную жену, хотя мало кто настолько лицемерен, чтобы пользоваться этим правом. Этот же, не задумываясь, прибьет тебя собственными руками.
Юлия покачала головой.
— Я не такая, как ты. Я люблю его. И ничего не могу с собой поделать. И я не могу бросить его только из страха перед тем, что может произойти.
— А я и не призываю тебя бросать его, — сказала Калаба, вставая с дивана.
— Что ты имеешь в виду?
Калаба стояла, задумавшись.
— Ты можешь выйти замуж за другого человека, которому ты могла бы полностью доверять. За человека, который мог бы предоставить тебе полную свободу действий. И тогда Атрет сможет быть твоим любовником столько, сколько твоей душе угодно. И если он тебе надоест, ничего страшного не произойдет. Подаришь ему какую–нибудь безделушку на память, и пусть себе катится в свою Германию или еще куда–нибудь.
Юлия снова покачала головой.
— Я уже была замужем и не хочу ничего слышать об этом. Клавдий был хуже моего отца. А Кай… Но ты сама знаешь, что это было за чудовище.
— Так выбирай мужчин повнимательнее.
— Единственный мужчина, которому я доверяю, — это Марк.
— Только вряд ли ты сможешь выйти замуж за собственного брата, — сухо сказала Калаба.
— Я говорю не об этом, — сказала Юлия, возбужденная той идеей, которую подкинула ей Калаба. Она сжала пальцами виски, в которых сильно стучал пульс.
— И ты по–прежнему во всем доверяешь брату?
— Конечно. Почему я не могу делать это?
— Просто странно, почему ты в ситуации с Атретом обращаешься за помощью ко мне, а не к нему. Если ты ему доверяешь, то, следовательно, он знает о твоих любовных связях и одобряет их. — Слегка наклонив голову, Калаба изучала лицо Юлии. — Он не знает об этом? А что он сделает, если узнает? — В ее вопросе звучал оттенок насмешки. — Твой отец сейчас тяжело болен. Твой брат отпустил поводья или еще сильнее их натянул?
Юлия сжала губы. Она не могла отрицать того факта, что Марку сейчас нелегко. Более того, он становился похожим на своего отца. На последнем пиру, на котором она присутствовала, Марк едва ли не силой вывел ее за руку. Уведя ее в отдельное помещение, он заявил ей, что она утратила чувство меры. Когда она потребовала от него объяснений, он сказал, что она ведет себя с гостями, как Аррия. Разумеется, звучало это вовсе не как комплимент.
Воспоминание об этом разозлило ее. Что плохого в том, что она заставляла всех гостей–мужчин желать ее? Кроме того, разве не для этого сам Марк просил ее исполнять роль хозяйки на его пирах?
— Сначала отец, потом Клавдий, потом Кай… — сказала Калаба. — И вот теперь ты позволяешь править тобой своему брату и еще какому–то гладиатору, который в Риме всего лишь раб. Ох, Юлия, — устало произнесла она. — Когда ты, наконец, поймешь, что ты сама имеешь полное право распоряжаться своей жизнью?
Юлия села, сраженная доводами Калабы и своими собственными неукротимыми желаниями.
— Если бы я знала такого мужчину, которому могла бы довериться настолько, чтобы выйти за него замуж, мне пришлось бы спрашивать согласия Марка.
— Вовсе не обязательно. Ты ведь знаешь, что такое брак по расчету, узус?
— Это когда ты просто заключаешь с мужчиной договор?
— Да, между тобой и тем мужчиной, которого ты выберешь, можно заключить договор, но даже это не обязательно. Такой брак очень прост, и ты имеешь полное право распоряжаться им так, как сама хочешь. И можешь распоряжаться своими деньгами.
Юлия повернулась к ней.
— Многие женщины именно так сохраняют за собой право на свое имущество, — продолжала Калаба. — Возьмем конкретный пример. Если бы этот гладиатор был свободен и хотел на тебе жениться, как ты думаешь, он бы позволил тебе распоряжаться теми деньгами, которые принадлежали тебе до брака? Ты думаешь, что могла бы и дальше жить так, как тебе хочется? Я видела его только один раз, но мне этого было достаточно, чтобы понять, как он любит властвовать. И если бы ты вступила в брак по расчету с кем–нибудь другим, он не получил бы такой власти. За тобой остались бы и твои деньги, и твоя свобода, и он никак не мог бы тебя всего этого лишить. Но если ты выйдешь за него, все твое станет принадлежать ему.
— А если тот мужчина, за которого я соглашусь выйти замуж по расчету, захочет завладеть моим имуществом?
— Тогда ты просто уйдешь от него. Все очень просто. Я же сказала, Юлия, такой брак обязывает тебя ровно настолько, насколько ты сама этого хочешь.
Идея понравилась Юлии, однако оставалась одна проблема.
— Но я не знаю никого, с кем могла бы заключить такой брак.
После долгого и тяжелого молчания Калаба тихо сказала:
— Есть Прим.
— Прим? — Юлия вспомнила этого красивого молодого человека, которого Марк часто приглашал на свои пиры. У Прима были большие политические связи. Он был красивым, очаровательным, немного забавным — но что–то было в нем такое, что отталкивало Юлию. — Он непривлекателен.
Калаба мягко засмеялась.
— Было бы странно, если бы он оказался привлекателен для тебя. Он ведь влюбляется в мальчиков, катамитов.
Юлия побледнела.
— И ты предлагаешь мне вступить в брак с гомосексуалистом?
Калаба начинала терять терпение.
— Как всегда, ты рассуждаешь, как ребенок или как какая–то зануда, — настолько стандартно, что не видишь, какую из этого можно извлечь пользу. Прим живет лишь своей альтернативной и вполне приемлемой жизнью. Ты влюблена в своего гладиатора, но знаешь, что стоит тебе выйти за него, как ты станешь менее свободной, чем сейчас. Живя под одной крышей с Примом, ты сможешь делать то, что тебе хочется. Атрет останется твоим любовником, а ты сохранишь за собой свои деньги и свою свободу. Лучшего мужа, чем Прим, тебе не найти. Он прекрасно выглядит, интеллигентен, интересен. Он близкий друг проконсула. Используя связи Прима, ты сможешь войти в высшие круги общества Рима и Ефеса. А самое главное — Примом легко управлять.
Она снова села рядом с Юлией и положила свою руку на ее руки.
— Я предложила тебе Прима, потому что любой другой мужчина будет рассчитывать на определенные отношения с твоей стороны, на которые ты наверняка не согласишься ни с кем, кроме твоего гладиатора. Прим же не будет требовать от тебя ничего.
— Но он ведь наверняка захочет от меня что–то взамен.
— Финансовую поддержку, — сказала Калаба.
Юлия встала.
— Мне не нужен еще один мужчина, который, как Кай, будет высасывать из меня все мои средства.
Калаба наблюдала за ней, чувствуя явное удовлетворение. Юлия шла по тому пути, на какой Калаба наставила ее еще в Риме. Калабе приятно было осознавать, какой она обладает властью, — властью, о которой Юлия даже не догадывается. Пока не догадывается. Но скоро все поймет.
— Об этом можешь не беспокоиться, Юлия, — сказала она успокаивающим тоном, и ее мелодичный голос звучал почти гипнотически. — Прим не любит азартных развлечений и не будет тратить деньги на любовниц. Он предан своему любовнику, который преклоняется перед ним. Прим живет просто, но хотел бы жить хорошо. Он живет на небольшой вилле, недалеко отсюда. Ты могла бы жить у него там, пока не получишь право распоряжаться своими финансами. У него там прекрасная спальня. И как только ты получишь законные права на свое имущество, вы могли бы приобрести виллу побольше, в лучшем районе города. Например, поближе к храму. — Усмехнувшись, она добавила: — Или, если хочешь, поближе к лудусу.
Юлия долго стояла в молчании, и на ее прекрасном лице попеременно отражались различные эмоции.
— Я подумаю, — сказала она наконец.
Калаба улыбнулась, зная, что фактически Юлия уже согласна.
32
Хадасса несла воду из колодца в перистиль, когда одна из рабынь подошла к ней и сказала, что ее ждут в покоях хозяина дома. Феба стояла возле дивана, на котором полулежал Децим, положив руки ему на плечи. Его бледное лицо стало совсем худым, но глаза оставались такими же загадочными и пристальными. Феба посмотрела на маленькую арфу Хадассы.
— Хадасса, мы сейчас позвали тебя не для того, чтобы ты нам сыграла, — сказала она серьезным голосом. — Мы хотим задать тебе несколько вопросов. Сядь. — Жестом она указала ей на стул рядом с диваном.
Садясь рядом с ними, Хадасса почувствовала, как от страха у нее все холодеет внутри. Она села и стала ждать, сцепив руки на коленях.
Децим заговорил первым, и его голос был искажен не покидавшей его болью:
— Ты христианка?
Сердце Хадассы забилось, как попавшаяся в сети птичка. Один утвердительный ответ мог ей сейчас стоить жизни. На мгновение у нее перехватило дыхание.
— Ты можешь не бояться нас, Хадасса, — мягким голосом сказала ей Феба. — То, что ты нам тут скажешь, дальше стен этой комнаты не уйдет. Можешь говорить смело. Мы только хотим больше узнать о твоем Боге.
По–прежнему испытывая страх, Хадасса кивнула.
— Да, я христианка.
— А я все время думала, что ты иудейка, — сказала Феба, удивленная тем, что догадки Децима подтвердились.
— Мои отец и мать были из колена Вениамина, моя госпожа. Христиане поклоняются Богу Израиля, но многие иудеи не приняли Мессию, когда Он пришел.
Децим заметил, как из прилегающего к покоям кабинета появился его сын. Увидев Хадассу, Марк остановился, и на его скулах заиграли желваки.
— Мессия? — спросила Феба, не заметив его. — А что это означает, Мессия?
— Мессия означает «помазанный», моя госпожа. Бог пришел на землю в человеческом облике и жил среди нас. — Хадасса перевела дух и договорила: — Его зовут Иисус.
— Звали, — сказал Марк, входя в комнату. Когда он заговорил, Хадасса вся напряглась. Он увидел, как покраснели ее щеки, но она не пошевелилась и не взглянула в его сторону. Он смотрел на нежный изгиб ее шеи и мягкие пряди ее кудрявых волос, закрывавших ее шею сзади. — За последние несколько недель я кое–что узнал об этой иудейской секте, — резко добавил он.
Он заплатил нескольким людям за то, чтобы они выяснили, что это за культ, и они назвали ему имя одного отставного римского сотника, который жил за пределами Ефеса. Марк отправился к нему. Он мог быть вполне доволен тем, что ему удалось узнать, потому что полученные сведения могли поколебать основы той веры, которой следовала Хадасса. Но вместо этого несколько дней Марк пребывал в депрессии, избегая возможных встреч с Хадассой.
И вот теперь она распространяла эту веру в его собственной семье, разъясняя ее родителям.
— Этот Иисус, Которого христиане называют своим Мессией, был бунтовщиком, распятым в Иудее на кресте. Вера Хадассы основана на эмоциях, а не на фактах, на неспособности найти ответы на те вопросы, на которые вообще нельзя найти ответов, — заговорил Марк, обращаясь к родителям. Потом он посмотрел на Хадассу. Иисус не был Богом, Хадасса. Он был простым человеком, который бросил вызов власти и поплатился за это. Он бросил вызов синедриону и всей Римской империи. Просто Его именем прикрывались, для того чтобы поднять бунт. И до сих пор прикрываются!
— А если это все–таки правда, Марк? — сказала Феба. — Что, если Он все–таки действительно Бог?
— Да не был Он Богом. Епенет, тот человек, которого я встретил и который сам видел, как все это было, рассказал мне, что Он был ловким фокусником, о Котором по той земле пошли слухи и Который творил в Иудее какие–то знамения и чудеса. Иудеи долго ждали Спасителя, и их легко было убедить в том, что Иисус и есть Тот самый долгожданный Мессия. Они думали, что Он изгонит римлян из Иудеи, а когда этого не произошло, Его последователи разочаровались в Нем. Один из Его собственных учеников выдал Его суду. Этого Иисуса отправили к Понтию Пилату. Пилат хотел отпустить Его, но иудеи сами требовали распять Его за то, что Он был, как они утверждают, «богохульником». Он умер на кресте, потом Его сняли и похоронили, и на этом все и закончилось.
— Нет, — тихо сказала Хадасса. — Он воскрес.
Глаза у Фебы широко раскрылись от удивления.
— Он снова ожил?
Марк в сердцах выкрикнул проклятие.
— Да не ожил Он, мама. Хадасса, послушай же меня, наконец! — Марк опустился возле нее на колени и резко повернул ее лицо к себе. — О том, что Он воскрес, стали говорить Его ученики, но все это были только слухи, которые Его последователи хотели раздуть, чтобы распространить этот культ.
Хадасса только закрыла глаза и покачала головой.
Марк слегка потряс ее за плечи.
— Да. Епенет был в Иудее, когда все это произошло. Он уже старый человек и живет недалеко отсюда, за городом. Если ты не веришь мне, я могу отвезти тебя к нему. Можешь выслушать его сама. Он был одним из сотников, охранявших эту могилу. Он сказал, что тело украли, чтобы заставить людей поверить, что Иисус якобы воскрес!
— Он сам видел это? — спросил Децим, интересуясь тем, почему его сын так усердно старается заставить эту юную рабыню отказаться от дорогой ее сердцу веры.
Марк не увидел в глазах Хадассы никаких перемен. Он отпустил ее и встал.
— Епенет сказал, что сам не видел, как тело выносили из гробницы, но только так можно логически объяснить его исчезновение.
— И это произошло прямо под носом у римских стражников?
— Ты что, хочешь поверить в эту смехотворную чушь? — сердито спросил его Марк.
— Я хочу знать правду! — сказал Децим. — Как этот Епенет до сих пор жив, если ему было приказано охранять гробницу? За неисполнение приказа полагается смертная казнь. Почему же тогда его не казнили?
Марк тогда задал Епенету тот же самый вопрос.
— Он сказал, что Пилат устал разбирать иудейские междоусобицы. Его жену мучили сны накануне того дня, когда к нему привели Иисуса, но синедрион и толпа иудеев требовали распять Мессию. Пилат по поводу этого дела умыл руки. Ему больше не хотелось связываться с религиозными фанатиками, и он не желал, чтобы его воины отвечали за исчезновение тела какого–то там иудея!
— Мне кажется, что для всех заинтересованных лиц лучше было бы сделать все, для того чтобы тело оставалось в гробнице, — заметил Децим.
— Он воскрес, — снова повторила Хадасса, совершенно спокойно реагируя на разглагольствования Марка. — Господь предстал потом перед Марией Магдалиной и Своими учениками.
— Которые наверняка солгали, чтобы история об их Мессии продолжала жить, — возразил Марк.
— Господа видели еще более пятисот человек одновременно, — продолжила Хадасса.
Марк видел, как его мать отчаянно верит во все, что только может помочь его отцу. Она верила в богов и богинь, во врачей и жрецов, в магов и целителей, но все, что они ни делали, только лишало его отца сил.
— Мама, не впутывайся в это. Это всего лишь ложь, придуманная корыстными людьми.
Хадасса слегка повернулась на стуле и посмотрела на Марка. Ее отец был корыстным человеком? И Иоанн, и многие другие? Она вспомнила, как ее отец ходил по улицам Иерусалима, чтобы говорить людям истину. Зачем? Она сама обращалась к нему с этим вопросом. Зачем? И вот теперь она смотрела на Децима, Фебу и Марка — и видела страдание, отчаяние и разочарование — и знала, как сильно Марк заблуждается.
— А зачем им было нужно лгать? — тихо спросила она.
— Деньги, власть и уважение людей, — сказал Марк, думая, что наконец–то достучался до нее и открыл ей глаза. — Вот ради чего лгут многие люди.
— Значит, по–твоему, я тоже лгу?
Марк смягчился. Ему хотелось опуститься перед ней на колени, взять ее за руки и попросить прощения за то, что обидел ее. Ему хотелось защитить ее. Ему хотелось любить ее. Он хотел, чтобы она принадлежала ему. Но между ними стояла эта вера в несуществующего Бога.
— Нет, — уныло сказал он, — я не думаю, что ты лжешь мне. Я не думаю, что ты вообще способна кому–то лгать. Я думаю, что ты веришь в эту дикую историю только потому, что ты на ней выросла. Ее вдолбили тебе в голову с самого твоего рождения. Но это неправда.
Хадасса покачала головой.
— О Марк, — грустно сказала она. — Как же ты ошибаешься. Это правда! Иисус воскрес. Он жив! — Она прижала руки к груди. — Он здесь.
— Он мертв! — в отчаянии воскликнул Марк. — Почему ты не хочешь прислушаться к фактам?
— Каким фактам? Словам какого–то стражника, который ничего не видел? Какую выгоду получили те люди, которые последовали за Иисусом? Ни денег, ни власти, ни уважения людей. Их унижали так же, как унижали Иисуса. Иакову отрубили голову по приказу Ирода Агриппы. Андрея побили камнями в Скифии. В Армении с Варфоломея живьем содрали кожу, а потом его обезглавили. Матфея распяли в Александрии, Филиппа в Иераполе, Петра в Риме. Иакову меньшему отрубили голову по приказу Ирода Антипы. Симон Зилот в Персии был разрублен надвое. И никто из них не отрекся от веры. Даже перед лицом смерти они проповедовали Иисуса Мессию. Что же, они умирали ради того, чтобы жила ложь? Отец рассказывал мне, что, когда Иисуса распяли, они все очень испугались. Они разбежались и спрятались. А после того как Иисус воскрес и пришел к ним, они изменились. Они стали совсем другими людьми. Не извне, а изнутри, Марк. Они проповедовали Благую Весть, потому что знали, что это правда.
— Что такое Благая Весть? — вся дрожа, спросила Феба.
— Весть о том, что Господь пришел не обличать этот мир, а спасти его, моя госпожа. Он есть воскресение и жизнь. И всякий, кто поверит в Него, будет жить, даже после того как умрет.
— На горе Олимп, наверное, со всеми другими богами, — едко сказал Марк.
— Марк, — укоризненно произнесла Феба, огорченная его насмешкой.
Марк посмотрел на отца.
— В одном Хадасса права. Разговоры об Этом Мессии несут страдание и смерть. И для нее тоже, если она будет настаивать на своем. Этот Иисус учил, что человек отвечает только перед Богом, но не перед кесарем. И если она будет распространять эту религию, то закончит жизнь на арене.
Хадасса побледнела.
— Иисус учил отдавать кесарю то, что принадлежит кесарю, а Богу то, что Божье.
— И, по твоим словам, все, что ты собой представляешь, и все, что ты делаешь, служит твоему Богу! Разве не так? Ты принадлежишь Ему!
— Марк, — сказала Феба, расстроенная агрессивностью своего сына, — почему ты так нападаешь на нее? Она не по собственной воле пришла говорить нам о своем Боге. Мы сами позвали ее сюда, чтобы расспросить ее.
— Тогда хватит расспросов, мама. Пусть ее Бог так и останется невидимым, чтобы о Нем поскорее забыли, — сказал Марк. — Ее вера зиждется на Боге, Которого нет, и основана на событиях, которых никогда не было.
В комнате повисло молчание. И голос Хадассы раздался в нем подобно эху в каньоне сознания этих людей, или мерцанию света в темноте:
— Иисус воскресил из мертвых моего отца.
— Что ты сказала? — прошептала Феба.
Хадасса подняла глаза.
— Иисус воскресил из мертвых моего отца, — повторила она, и на этот раз в ее голосе не было ни малейшей дрожи.
— Но как?
— Не знаю, моя госпожа.
Децим подался немного вперед.
— Ты сама видела, как это произошло?
— Это было задолго до моего рождения.
— Хадасса, — сказал Марк, пытаясь скрыть свое раздражение, — ведь ты только слышала об этом от других.
Хадасса посмотрела на него, и в ее глазах ясно читалась ее любовь к нему.
— Ничто из того, о чем я говорю, не может тебя убедить, Марк. Это может сделать только Святой Дух. Но я знаю, что Иисус воскрес. И я чувствую, что Он сейчас здесь, со мной. И то, что Его Слово истинно, я вижу каждый день. С самого сотворения весь мир говорит о Божьем плане, явленном через Его Сына. Он подготовил каждого из нас с самого начала. В смене времен года, в том, как цветы расцветают, умирают и бросают семена, чтобы началась новая жизнь; в закате и восходе солнца. И жертва Иисуса также видна нам каждый день, если только у нас есть глаза, чтобы видеть.
— Нет, как это ты не видишь? Это всего лишь естественный ход вещей.
— Нет, Марк. Так Бог говорит с человечеством. И Он вернется.
— Твоя вера слепа!
Хадасса посмотрела на Децима.
— Если ты смотришь на солнце и отворачиваешься, ты видишь солнце, мой господин. А если ты смотришь на смерть, ты видишь смерть. В чем твоя надежда?
Глаза Децима заблестели. Он откинулся назад.
— У меня нет никакой надежды.
Марк отвернулся. Он увидел, как потускнели глаза у отца, какая боль отразилась на его лице. Внезапно Марка охватило чувство стыда. Возможно, он был неправ. Может быть, лучше иметь ложную надежду, чем не иметь ее вообще.
— Можешь идти, Хадасса, — сказала Феба, поглаживая Децима по плечам, пытаясь тем самым как–то утешить его.
И тут Хадасса впервые не сделала того, что ей было велено. Она опустилась на колени возле дивана и, в нарушение всех неписаных правил, взяла в свои руки руку хозяина. Затем она совершила и вовсе непростительную вещь, посмотрев Дециму прямо в глаза и заговорив с ним на равных.
— Мой господин, чтобы принять Божью благодать, необходимо жить с надеждой. Если ты только исповедуешь свои грехи и поверишь, Господь простит тебя. Проси, и Он придет, чтобы жить в твоем сердце, и ты обретешь тот покой, которого тебе не хватает. Нужно только верить.
Децим увидел в глазах Хадассы любовь, ту самую любовь, которую он всегда хотел видеть у своей собственной дочери. Простые черты лица Хадассы и ее карие глаза светились теплом, исходящим изнутри, и в какой–то момент Децим увидел в ней ту красоту, которую видел в ней и которой хотел обладать его сын. Эта девушка верила в невероятное. Она верила в невозможное. Причем верила не с упрямством и гордостью, а с той чистой и детской невинностью, которую этот мир испортить не мог. Не задумываясь о том, какому риску подвергает себя, она делилась со смертельно больным человеком своей надеждой, которую он мог принять.
Наверное, Децим не мог поверить в то, что она говорила, он не мог поверить в ее невидимого Бога, — но он верил в нее.
Грустно улыбнувшись, он прикоснулся другой своей рукой к ее щеке.
— Если бы не Юлия, я дал бы тебе свободу.
Хадасса нежно сжала его руку.
— Я свободна, мой господин, — прошептала она. — И ты тоже можешь стать свободным. — Она медленно встала и вышла из комнаты, тихо закрыв за собой дверь.
* * *
Атрет поднялся на колесницу и приготовился к помпе, или церемонии открытия. Его золотые и серебряные латы и шлем были тяжелыми и нагрелись на солнце, хотя еще стояло раннее утро. Он поправил красный плащ на плечах и огляделся, чтобы посмотреть, как готовятся к зрелищам другие гладиаторы. Всего их было двадцать четыре человека; чтобы завоевать свободу, ему предстояло убить пятерых.
Серт на этот раз выставил самый пестрый состав. В колесницах стояли димахери, гладиаторы, вооруженные кинжалами; самниты с мечами и щитами; велиты, или гладиаторы, которые были вооружены копьями, и сагиттарии, вооруженные луками и стрелами. Было четыре есседария, которые правили своими собственными украшенными колесницами, каждая из которых была запряжена двумя лошадьми, а за ними следовали андабате, сидевшие верхом на сильных боевых конях, лица этих воинов были закрыты забралами — это означало, что они сражались с ограниченным полем зрения. В колеснице, которая стояла сразу за колесницей Атрета, стоял африканский ретарий с трезубцем и сетью. Толпа будет без ума от этого зверинца.
— Жрецы выходят, — сказал возница Атрета, ловко беря в руки поводья. Атрет увидел жрецов, одетых в белые туники, украшенные красными узорами. Жрецы выводили белого быка и двух баранов, чтобы принести их в жертву. Жертву приносили, для того чтобы этот день был удачным для зрелищ. Атрет цинично скривил губы, зная, что для зрелищ хорош любой день. Ни один жрец не осмелится отменить зрелища, какие бы недобрые знамения он ни увидел в обряде жертвоприношения.
Заиграли трубы, и открылись ворота. «Вперед», — произнес возница, пристраиваясь сразу за римлянами, которые организовали эти зрелища и вложили в них деньги. Серт находился прямо перед Атретом.
Толпа взревела. Атрет услышал, как зрители снова и снова выкрикивали его имя, а также имена еще нескольких гладиаторов. В Ефесе он не был известен так, как в Риме, но сейчас ему было все равно. Все его мысли были теперь заняты тем, что его ждало впереди, поэтому, пока процессия следовала вокруг арены, он присматривался к другим гладиаторам и оценивал их сильные и слабые стороны. Только один раз он позволил себе отвлечься. Проезжая мимо трибуны, где сидел проконсул, он поднял глаза и внимательно посмотрел на гостей, которые сидели рядом с этим политиком. Среди них была Юлия. На ней был красный наряд, в котором Атрет увидел ее в храме Артемиды. При виде Юлии сердце Атрета забилось чаще, и он тут же отвернулся. Больше он не будет смотреть на нее, пока не кончатся зрелища.
Колесницы сделали еще несколько кругов вокруг арены, затем выстроились перед проконсулом. Гладиаторы сошли с колесниц я встали в ряд, при этом некоторые сняли свои накидки, а другие, к неистовому восторгу публики, сняли с себя и все остальное. Атрет не сделал ни того, ни другого. Он стоял, слегка расставив ноги и положив руку на меч, и ждал. Когда остальные закончили прихорашиваться перед публикой, Атрет вынул свой меч и поднял его над головой, воскликнув вместе с остальными гладиаторами:
— Славься, кесарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!
Проконсул начал говорить краткую речь. Атрет не смотрел на Юлию, стараясь отыскать глазами странную маленькую рабыню. Она была среди зрителей. Толпа одобрительно взревела, когда проконсул объявил состязания открытыми. Атрет и другие гладиаторы снова поднялись на колесницы, а возницы взялись за плети и объехали вокруг арены в последний раз, после чего направились к воротам, под дикий шум зрителей.
В подтрибунном помещении было прохладно и темно, стоял сильный запах масла для светильников. Высоко в каменной стене виднелось зарешеченное окно. Никто не разговаривал. Атрет снял свои сияющие доспехи и надел простую коричневую тунику. Прежде чем кого–то из них вызовут на арену, пройдет не один час.
Накануне вечером Серт зачитал им либелл, программу предстоящих событий. Помпа должна была проведена проконсулом, который посвящал зрелища императору. Затем должен был состояться большой парад открытия с речами; потом должны были выступить акробаты и искусные наездники; потом шли собачьи бега. Затем планировалось распять двух грабителей, а охотничьи собаки должны были разорвать их на куски. Потом охотники, или бестиарии, должны были охотиться на кенийских медведей, после чего планировалось вывести на арену пленников, которых скормят голодным львам.
Иногда в середине дня объявляли часовой перерыв, во время которого арену очищали и посыпали свежим песком. Зрителям раздавали еду, распродавали лотерейные билеты, проводились альковные фарсы. Однако все эти развлечения не шли ни в какое сравнение с тем, что происходило на арене, на потеху публике, одурманенной наркотиком насилия и крови.
Поединки смерти должны были состояться далеко за полдень.
От страха у Атрета свело в животе. Двенадцать пар гладиаторов… большинство из тех, кого он сейчас видел, в отдельные дни убивали до трех соперников. Сегодня ему предстоит убить пять человек, одного за другим… Если только он сам выживет.
Однако нервозность и волнение у Атрета вызывали вовсе не эти потенциальные соперники, а мучительное и долгое ожидание. Ожидание было самым страшным его врагом, потому что именно в предшествующие схваткам часы надежды и страхи полностью овладевали его сознанием, и ему казалось, что он сойдет с ума.
* * *
Ладони у Юлии вспотели, и она едва воспринимала то, что говорит проконсул. Ее совершенно не интересовали ни политика, ни экономика; все ее мысли сейчас занимал Атрет и то обстоятельство, что сегодня он может погибнуть. С тех пор как они рассорились неделю назад, она его не видела. Ей хотелось послать за ним Хадассу, но она боялась, что он по–прежнему на нее сердится и не придет. Поэтому она ждала, надеясь, что он сам даст о себе знать. Когда же этого не произошло, она смирила свою гордыню и отправилась в храм, надеясь застать его там. Но он не приходил и туда.
Едва Юлия увидела, как Атрет выезжает на арену во время церемонии открытия, ее сердце бешено заколотилось. Когда гладиаторы подъехали к проконсулу и выстроились там, она ждала, что он посмотрит на нее. Несколько часов ушло у нее на подготовку к зрелищам, и она знала, что сейчас выглядит такой красивой, какой, пожалуй, никогда еще не была. Но он даже головы не повернул в ее сторону. Он стоял спокойно, с высоко поднятой головой, тогда как другие гладиаторы изо всех сил старались продемонстрировать толпе все свои прелести и достоинства.
— Смотри, он даже не замечает тебя, — презрительно сказала Калаба. — Если его приветствует такая толпа, то что ему до того, что он разбивает твое сердце?
— Атрет! Атрет! — кричали тем временем со всех сторон зрители, кидая ему на арену цветы и монеты.
Воспоминания жгли Юлии душу, в ней разгоралась ревность, и Юлия сжала губы, почувствовав ядовитый оттенок насмешек Калабы. Рядом сидел Прим, взглядом знатока оценивающий гладиаторов.
— Ставлю на германца, — сказал он, отправляя в рот круглую лиловую виноградину.
— Пятьсот сестерциев на африканца, — произнес другой зритель.
— Ха! Да кто сможет устоять против есседариев. Что может против колесницы даже самый хороший меч? — высказался кто–то еще.
— Вряд ли они выставят есседария против самнита, — с тревогой в голосе произнесла Юлия.
— Поначалу, может быть, и нет, но не забывай, что это смертельные поединки, — сказал Прим. — И в пары будут ставить тех, кто останется. Лакеарий против самнита, андабата против ретария, фракийец против мурмиллона. Ты уже обратила внимание, что сегодня вышли все виды гладиаторов. Лучшие в каждом классе. Это–то и интересно. И те, кто привык сражаться против меча, сегодня, может быть, вместо этого будет сражаться против копья. Поэтому победителя предугадать трудно.
Сердце Юлии екнуло, и она испытала внезапный страх за Атрета. Про себя она стала молиться всем богам о том, чтобы они оставили его в живых. Она хотела расслабиться и отвлечься беседой с кем–нибудь. Прим был достаточно забавным молодым человеком и, казалось, был готов развлечь ее.
Смотреть на висящих на кресте грабителей Юлии было явно неприятно.
— Почему на них не натравят диких собак или просто не отрубят им головы? На них уходит слишком много времени.
— Люди жаждут крови, — так же разочарованно ответил Прим. — Пойдем, Юлия. Отведу тебя вниз, к лавкам, и посмотрим, что там тебя заинтересует.
Не находя покоя и не в силах избавиться от напряжения, Юлия быстро согласилась. Она вышла в проход, и Прим взял ее за руку. Торговцы тут же обступили их, наперебой предлагая свой товар, — фрукты, мясо, хлеб, меха с вином. «Персики из Персии, сочные, спелые!» Их стаккато перемежались с криками толпы, доносившимися с трибун. «Мясо со специями. Три порции всего за сестерций!»
Другие зрители, которым тоже скучно было смотреть на висящих на кресте преступников, слонялись по подтрибунным помещениям, стараясь найти для себя что–то интересное. Юлия прохаживалась с Примом между торговцами и предсказателями будущего. Вскоре они подошли к лавкам, где происходило нечто более развратное и необычное. Среди нарядных зрителей разгуливали маленькие раскрашенные мальчики, одетые в туники, подтянутые выше ягодиц. Прим мрачно посмотрел на них.
— Таким же был и Прометей, пока я не спас его.
Испытывая неловкость при упоминании о любовнике Прима, Юлия ничего не сказала. Она остановилась, чтобы посмотреть на мавританских танцовщиц, плавно передвигавшихся под примитивные удары в барабаны и кимвалы.
— Калаба тебе уже говорила о моем предложении… — сказал Прим, и было непонятно, спрашивает он или говорит утвердительно.
— Да, — без особой радости сказала Юлия. — Я много думала об этом.
— И что ты решила?
— Я скажу тебе, когда закончатся зрелища.
* * *
— Пора, — сказал Серт, и у Атрета сразу закипела кровь, пульс забился чаще. Он надел на правую руку манику, перчатку, сделанную наполовину из кожи, наполовину из металла.
— Я бы предпочел остаться твоим хозяином еще на несколько лет, чем расстаться с тобой вот так… — хмуро произнес Серт.
— Может быть, богиня улыбнется мне и я получу сегодня свободу, — сказал Атрет, натягивая на левую ногу окрею, еще одно защитное покрытие.
— Свобода для гладиатора — это всего лишь еще одно понятие, которое означает неизвестность, — сказал Серт, протягивая ему скутум, или щит.
Атрет надел щит на левую руку и встал, расставив в стороны руки и ноги. Какой–то раб натер ему тело оливковым маслом.
— Неизвестность лучше неволи, — сказал Атрет, холодно глядя в глаза Серту.
— Но не лучше смерти, — сказал Серт, протянув ему меч.
Атрет взял меч и поднял его перед собой, клинком вверх, в знак приветствия и уважения.
— В любом случае, Серт, арену я сегодня покину победителем.
* * *
Лакеария, вооруженного лишь своей веревкой, выставили против есседария, управляющего колесницей. Есседарий несколько раз промчался мимо лакеария. И хотя ему пока не удалось сбить своего противника с ног, он ловко увертывался от его лассо. Однако когда он промчался мимо противника в восьмой раз, лакеарий смог накинуть на есседария свою веревку, потом затянул петлю на его ногах и выдернул его из набирающей скорость колесницы. Есседарий тяжело упал спиной на песок арены, и толпа разочарованно простонала.
Нескольких рабов послали остановить и успокоить разогнавшихся жеребцов, после чего на арену вышел мужчина в плотно облегающей тунике и высоких кожаных сапогах. Он исполнял роль Харона, лодочника, перевозящего души мертвых через Стикс к Гадесу. Подойдя к жертве, Харон стал кружиться и скакать по песку, держа в высоко поднятой руке какой–то деревянный молоток. Маска, сделанная в форме клюва, которая была на нем, символизировала хищную птицу. Другой человек, одетый в костюм Гермеса, еще одного проводника душ мертвых, размахивал огненно–красным кадуцеем, которым он тыкал в тело мертвого есседария. Когда тело забилось в судорогах, Харон подбежал к нему и ударил по голове своим воинственным молотком, распространяя на песке вокруг жертвы алые пятна и призывая Гадеса принять очередную добычу. Либитинарии, или проводники мертвых, быстро вынесли труп через Ворота Смерти.
По трибунам пронесся низкий звук тысяч недовольных голосов. Зрители действительно были недовольны тем, что поединок так быстро закончился. Они считали себя обманутыми. Кто–то выкрикивал оскорбительные выпады в адрес победителя. Другие бросали в него фруктами, когда он поднял руку, приветствуя проконсула. Ему дали знак уйти, но он не торопился уходить, поскольку зрители стали требовать его поединка с высоким африканцем.
— Посмотрим, что теперь сделает этот лакеарий против человека с кинжалом!
Пойдя навстречу визжащей толпе, проконсул слегка поднял руку в сторону распорядителя зрелищ, и, прежде чем лакеарий успел уйти, на арену вышел африканец. Несколько минут они ходили по кругу, внимательно присматриваясь друг к другу, при этом лакеарий несколько раз пытался накинуть на противника петлю, но промахивался. Африканец сделал несколько угрожающих движений кинжалом, но продолжал оставаться на почтительном расстоянии. Толпа начинала выражать недовольство тем, что схватка затянулась. Слыша недовольный крик толпы и воспринимая его как угрозу, лакеарий снова бросил свою веревку и обвил петлей грудь африканца. Африканец быстро схватил веревку, намотал ее на руку, а потом ловким броском вонзил свой кинжал в живот противника. Лакеарий упал на колени и наклонился вперед. Сорвав с себя веревку, африканец направился к нему, чтобы добить, когда увидел, что толпа стала показывать большими пальцами рук вниз.
Проконсул оглядел трибуны и увидел всюду большие пальцы рук, повернутые вниз. Он вытянул руку вперед и тоже указал большим пальцем вниз. Африканец вынул свой кинжал из живота лакеария и вонзил ему в сердце.
— Они не получают того, чего хотят, — сказал Серт Атрету с того места, откуда он наблюдал за схватками. — Слышишь, как они орут? Если так будет и дальше продолжаться, они самого проконсула бросят на съедение собакам!
Африканец потом победил мурмиллона, но пал от стрел сагиттария. Сагиттарий храбро сражался с андабатой, который выехал на коне; сагиттарий смертельно ранил всадника, но не удержался на ногах и погиб под копытами боевого коня. Харон отправил обоих в царство мертвых, и толпа одобрительно взревела.
— Выведи их всех на арену! — закричал кто–то проконсулу, этот крик подхватили другие зрители, и вскоре толпа начала выкрикивать эти слова как лозунг. — Выведи их всех! Выведи их всех!
Пойдя навстречу толпе, организаторы разбили оставшихся восемнадцать гладиаторов на пары и отправили на арену. Они разошлись по всему кругу и подняли вверх оружие в знак приветствия проконсула. Выкрикивая имена своих кумиров, зрители напоминали дикарей.
Атрет стал сражаться против смуглого черноглазого фракийца, вооруженного ятаганом. Издавая грозные крики, фракиец театрально размахивал своим оружием. Меч стремительно вращался вокруг его тела, над головой, затем застыл в руке, а сам фракиец замер в угрожающей позе.
Стоя в обманчиво расслабленной позе, Атрет сплюнул на песок.
Толпа засмеялась. Разозленный, фракиец пошел в атаку. Атрет увернулся от смертельного удара ятагана, пошел на противника щитом, что есть силы ударил рукоятью своего меча фракийцу в висок и тут же вонзил меч ему в грудь. Вынув меч, он отступил от уже падающего замертво противника.
Обернувшись, Атрет увидел, как ретарий пронзает трезубцем упавшего секутора, чей шлем в виде рыбы не смог его защитить, Атрет решительно направился к нему, слыша, как нарастает гул его болельщиков. Ретарий освободил свой трезубец и пытался расправить запутавшуюся сеть, прежде чем Атрет подойдет к нему.
Атрет атаковал его, и ретарий уже приготовился к защите от его первых ударов. Но без своей сети противник Атрета мог сражаться только трезубцем, и Атрет воспользовался своим многолетним опытом владения фрамеей. Обладая недюжинной силой, Атрет орудовал щитом и мечом до тех пор, пока не нашел у противника уязвимое место для смертельного удара. Второй противник был повержен.
Толпа ревела от восторга, и его имя звучало над ареной подобно звуку барабана. Но в мозгу Атрета в таком же ритме звучало совсем другое слово: «Свобода… свобода… свобода!».
Не успел ретарий упасть, как жгучая боль пронзила бок Атрета — кинжал димахера полоснул его по ребрам. Атрет упал на спину, сумев отразить атаку щитом. Встав на ноги, он издал крик боли и гнева. Никакой подлец, бьющий в спину, не сможет лишить его законных прав! Вложив все силы в руку, держащую меч, Атрет нанес удар страшной силы и раскроил щит противника пополам, заставив димахера упасть на колени. Отбросив уже бесполезный щит, противник вскочил на ноги и побежал, зная, что своим кинжалом против меча он ничего не сделает. На потеху публике, Атрет, погнался за ним. Попутно он наклонился и подобрал трезубец убитого им ретария, после чего настиг противника и швырнул в него трезубец, используя при этом свое умение владеть фрамеей.
Когда трезубец попал точно в цель, толпа взорвалась от восторга. Мужчины вставали и неистово хлопали по спинам тех, кто был перед ними, женщины визжали от переполнявших их эмоций. Кто–то падал в обморок от избытка чувств, другие рвали на себе одежду и волосы и скакали от радости. Казалось, что дрожит сама земля.
— Атрет! Атрет! Атрет!
Атрет полностью насытил эту кровожадную толпу. Он сразил мурмиллона и атаковал самнита. Он изливал в бою всю свою ненависть к Риму, и эта ненависть придавала ему силы, в которых так нуждалось его раненое тело. Выбив щит из рук своего противника, он распотрошил его, как рыбу.
Обернувшись, он стал смотреть, кто еще на арене стоит на его пути к свободе. Тысячи зрителей стояли, размахивая белыми платками, и кричали. До него не сразу дошло, что вся эта толпа громко кричала: «Атрет! Атрет! Атрет!».
Кроме него, на арене больше никого не было.
Юлия вся дрожала, глядя, как Атрет направляется к воротам, ведущим наверх, к трибуне, где проконсул уже готовился награждать победителя. Она одновременно испытывала радость и страх. Она любила Атрета и гордилась его победами, но знала, что завоеванная им свобода — это угроза ее собственной свободе.
Направляясь к лестнице, Атрет споткнулся и упал на одно колено. Толпа вздрогнула и на какое–то время притихла, но он оперся на свой меч и снова встал на ноги. Толпа опять восторженно взревела, когда он дошел до ворот, ведущих к трибуне победителя, а один из воинов открыл ворота и в знак уважения отступил назад, после чего Атрет стал подниматься по каменным ступеням. Проконсул ждал его, держа в руках лавровый венок, подвеску из слоновой кости и деревянный меч.
Юлия почти не слышала, что говорил проконсул, надевая лавровый венок на голову Атрету. Потом дочь проконсула надела на шею Атрету подвеску из слоновой кости, свидетельствующую о том, что Атрет стал свободным человеком. Когда эта девушка наклонила к себе голову Атрета, чтобы поцеловать его в губы, Юлию обдала горячая волна ревности. Женщины в экстазе завизжали, и Юлии захотелось заткнуть уши и убежать. Серт вручил Атрету деревянный меч, символизирующий триумфальное прощание с ареной, а два воина поставили к ногам гладиатора сундук с сестерциями.
Повернувшись к трибунам, проконсул поднял руку. Толпа тут же стихла. Всем не терпелось услышать, какую еще награду вручат победителю.
— Остается еще одна награда, которую мне надлежит вручить нашему любимому Атрету за его сегодняшнюю победу! — воскликнул проконсул. Картинно повернувшись, он взял свиток из рук Серта. — Эту честь я оказываю победителю по приказу императора Веспасиана, — снова воскликнул он и протянул свиток Атрету, который машинально взял его. Положив руку на плечо Атрету, проконсул повернул его лицом к зрителям и провозгласил: — Этим документом Атрет объявляется гражданином и защитником Рима!
Атрет мгновенно весь напрягся, его лицо побледнело. Юлия увидела, как он сжал в кулаке свиток.
— Смотри, как он ненавидит Рим, — сказала Калаба, наклонившись к Юлии, когда вся остальная толпа взорвалась возгласами одобрения. — Если бы этот свиток не дал ему всего того, чего он хочет, он, не задумываясь, швырнул бы его в пыль. — Слова Калабы перемешивались с криками толпы, снова и снова выкликающей его имя. — Но теперь он стал вровень с твоим отцом и братом.
Атрет повернул голову, отыскивая глазами Юлию среди гостей проконсула. Он посмотрел ей прямо в глаза, при этом его глаза горели, и ее сердце забилось чаще. На какое–то мгновение ей показалось, что Атрет собирается прямо тут предъявить на нее свои права. Но вместо этого Серт и несколько римских стражников проводили его вниз по ступеням, через всю арену к Воротам Жизни, за которыми будут лечить его раны.
Прим помог Юлии встать на ноги.
— Ты вся дрожишь, — заметил он с понимающей улыбкой. — Наверное, всех женщин на этих трибунах бросает в дрожь при одном его виде. Слов нет, он великолепен.
— Да, это так, — сказала Юлия, вспомнив, как Атрет смотрел на нее. Теперь, когда он стал свободен, что мешало ему попытаться сделать ее своей рабыней? Во рту у нее пересохло.
Прим усадил Юлию в крытый паланкин, который подняли шесть его рабов. Прежде чем закрыть паланкин, он поднял голову и мимолетно, но очаровательно улыбнулся ей.
— Так что ты решила?
Юлии до боли свело живот. Когда она заговорила, голос ее казался безжизненным:
— Сегодня вечером я подпишу соглашение и завтра утром прикажу перевезти мои вещи к тебе на виллу.
— Какое мудрое решение, Юлия, — воскликнула Калаба из–за спины Прима, и ее глаза сияли. Прим поцеловал руку Юлии.
Когда он закрыл паланкин, Юлия откинулась назад и закрыла глаза, не понимая, почему она вдруг почувствовала себя такой одинокой.
33
Заявление Юлии о том, что она оставляет дом и уходит к Приму, вызвало в семье Валерианов нечто подобное извержению вулкана. Марк был вне себя, Феба пришла в ужас.
— Это невозможно, Юлия! — сказала ее мать, изо всех сил стараясь сохранить самообладание. — Что я скажу отцу?
— Если ты боишься, что это огорчит его, можешь вообще ничего не говорить, — ответила Юлия, перестав прислушиваться к доводам матери и руководствуясь только своими собственными эмоциями.
— Огорчит! — иронически рассмеялся Марк. — Почему это он должен огорчиться, узнав о том, что его дочь собирается связать свою жизнь с гомосексуалистом?
Юлия гневно повернулась к нему.
— Это мое дело, и я собираюсь делать то, что сама хочу. Я переезжаю к Приму, и ты не можешь мне этого запретить! Если Прим так отвратителен, почему ты тогда приглашал его на свои пиры?
— Потому что это сулит мне политические выгоды.
— То есть ты презираешь его, но при этом пользуешься его положением, — сказала она.
— Точно так же, как он будет пользоваться тобой, когда ты вступишь в этот смехотворный фарс, который ты называешь браком.
— Этот брак будет взаимовыгодным, можешь не сомневаться, — заносчиво сказала Юлия. — К концу недели я хочу стать хозяйкой того, что принадлежит мне, Марк, и в дальнейшем я сама буду распоряжаться своими финансами. И не смотри на меня так! Мои деньги останутся со мной. Прим не сможет прикоснуться к ним. — Она взглянула на пораженную мать. — Если тебе это не нравится, мама, то мне очень жаль, но я буду делать то, что приносит мне счастье.
Когда Юлия вошла в свою комнату, Марк двинулся за ней.
— Не пройдет и года, как у тебя не останется ничего из того, что тебе принадлежит, — сказал он. — Кто тебя надоумил на такое безрассудство? Калаба?
Юлия уставилась на него.
— Калаба не думает за меня. У меня своя голова на плечах. Я не такая дура, как ты думаешь. — Она приказала одному из слуг подать повозку, а другие выносили для погрузки ее вещи.
— Я никогда не считал тебя дурой, Юлия. До сегодняшнего дня…
Юлия вздернула подбородок и сверкнула своими темными глазами.
— Мою шкатулку с драгоценностями, Хадасса, — сказала она дрожащим от злости голосом, — мы уезжаем немедленно.
— О, нет, — сказал Марк, теряя терпение. — Хадасса не уедет отсюда, пока я не разрешу.
— А кто Хадасса для тебя? — язвительно поинтересовалась Юлия. — Она моя рабыня, хотя, как я понимаю, тебе хотелось бы, чтобы она была с тобой.
— Не говори глупостей, — сказала Феба, стоя в дверях.
— Это я говорю здесь глупости, мама? — темные глаза Юлии загорелись, она перевела взгляд с Марка на Хадассу и обратно. — Возьми шкатулку внизу, Хадасса, сейчас же. И жди меня возле паланкина.
— Да, моя госпожа, — тихо сказала Хадасса и послушно удалилась.
Марк повернул Юлию к себе, чтобы посмотреть ей в глаза.
— Ты стала совсем другой.
— Да, — согласилась Юлия. — Я стала другой. Я выросла и стала самостоятельной. Мои глаза теперь открыты, Марк, широко открыты. Разве не к этому ты сам меня призывал? Разве не ты познакомил меня со всеми теми прекрасными сторонами жизни, которые только может дать этот мир? Разве не ты призывал меня остерегаться тех людей, которые могут меня предать? Так вот, дорогой братец, я хорошо усвоила эти уроки. А теперь отпусти меня!
Нахмурившись, Марк отпустил ее и смотрел, как она выходит из комнаты.
— Юлия, прошу тебя, не делай этого, — сказала Феба, направляясь следом за дочерью. — Подумай сама. Если ты вступишь в такой брак, ты запятнаешь себя несмываемым позором.
— Позором? — произнесла Юлия и засмеялась. — Мама, ты столько времени живешь взаперти, за этими стенами, что ничего уже не знаешь о мире. Обо мне все будут говорить как о независимой женщине, о состоятельной женщине. И знаешь, почему? Потому что мне не придется ходить на поклон к отцу или брату, чтобы выпрашивать свои собственные деньги. И мне больше не придется перед кем–либо отчитываться за свои действия.
— Неужели и я для тебя ничего не стою? — тихо спросила Феба.
— Я никогда этого не говорила, мама. Я просто не хочу быть такой, как ты.
— Но, Юлия, ты же совершенно не любишь этого человека.
— Клавдия я тоже не любила, разве не так? Но это не помешало вам с отцом заставить меня выйти за него замуж, — горько произнесла Юлия. — Ты просто не понимаешь, мама. Ты всю жизнь делала только то, чего от тебя требовали!
— Тогда объясни мне. Помоги мне это понять.
— Это же так просто. Я не буду рабыней ни для какого мужчины, будь то отец, брат или муж. Прим не будет управлять мной так, как отец управлял тобой. Я буду отвечать только перед самой собой. — Юлия поцеловала мать в бледную щеку. — До свидания, мама, — сказав это, она ушла, а Феба еще долго стояла в коридоре одна.
* * *
Прим поприветствовал Юлию холодным поцелуем в щеку.
— Только маленькая рабыня, да шкатулка с драгоценностями? — сказал он. — Прямо скажем, не густо. Вижу, что Марк к некоторым вещам относится явно враждебно. Он никогда не позволял мне приводить с собой на пиры Прометея. Наверное, он пытался удержать тебя от переезда ко мне.
— Я думала, что он поймет меня.
— Дорогая Юлия. Твой брат не такой человек, каким он пытается казаться. За его эпикурейской маской скрывается лицо традиционалиста. — С этими словами Прим нежно взял ее за руку. — Дай своим родителям время, и они смирятся с этим. — Он слегка улыбнулся. — Да и что им останется делать, если они захотят снова увидеть свою прекрасную дочь?
В эту минуту в комнате показался юноша, которому было на вид не больше четырнадцати лет. «А-а», — оглянулся на него Прим и протянул ему руку. Мальчик взял его за руку, подошел к ним ближе и склонил голову перед Юлией.
— Это мой любимый Прометей, — сказал Прим, с гордостью наблюдая за тем, как мальчик уважительно склонился перед Юлией. — Я скоро к тебе приду, — сказал он, улыбнувшись подростку, который еще раз поклонился и ушел.
Юлия почувствовала, как ее охватили какие–то неприятные ощущения.
— Он просто очарователен, — сказала она из вежливости.
— В самом деле? Ты тоже это находишь? — улыбнулся польщенный Прим.
Юлия выдавила из себя улыбку.
— Если ты не возражаешь, я бы хотела осмотреть свои покои. Скоро привезут мои вещи, — сказала она.
— Да, конечно. Пойдем, покажу тебе. — Прим провел ее через аркаду в солнечный перистиль, а потом по мраморным ступенькам на второй этаж. Покои Юлии располагались по соседству с его покоями.
Как только он ушел, Юлия устало опустилась на диван.
— Поставь шкатулку здесь, — сказала она Хадассе, указав на небольшой столик рядом с ней. Хадасса бережно поставила шкатулку на столик. Юлия открыла крышку и запустила пальцы в безделушки и ожерелья. — Первым делом, когда у меня будут собственные деньги, я верну те вещи, которые мне пришлось отдать Серту. — Она со стуком захлопнула крышку.
Затем Юлия встала и прошлась по комнате.
— Прометей так похож на этих женоподобных мальчиков, которые ездили с Вакхом. — Проводя пальцами по шпалерам, Юлия вспоминала то дикое веселье в Риме, когда какой–то пьяный мужчина разъезжал по городским улицам в украшенной цветами колеснице, запряженной леопардами.
— Моя госпожа, ты действительно хочешь здесь жить?
Юлия отняла руку от вавилонской шпалеры и повернулась к Хадассе.
— Ты тоже не одобряешь мое решение… — произнесла она угрожающе–тихим голосом.
Хадасса подошла к ней. Опустившись на колени, она взяла Юлию за руку.
— Моя госпожа, но ведь ты любишь Атрета.
Юлия отдернула руку.
— Да, я люблю Атрета. И мой переезд к Приму здесь ничего не меняет. Прим может жить так, как ему нравится, а я так, как нравится мне.
Хадасса встала и опустила глаза.
— Да, моя госпожа.
Юлия отбросила все сомнения, думая в первую очередь о материальных благах.
— Эта комната красивая, но уж очень маленькая. И мне не нравятся все эти фрески со всякими там мальчиками. Как только Марк передаст мне мои деньги, я куплю еще одну виллу, побольше этой, где будет достаточно места для меня и Атрета. А Прим может и дальше жить здесь.
Она вышла на узкую террасу и посмотрела в сторону центра города. Ей хотелось наполнить легкие чистым воздухом. Вдалеке был виден храм Артемиды, и Юлия подумала, воздает ли Атрет этой богине жертвы за свой триумф на арене. В ее глазах отразилась боль. Если бы только все оставалось так, как есть. Если бы только Серт не выставлял Атрета на смертельные поединки.
Тем временем прибыли рабы с ее вещами, и Хадасса вышла, чтобы позаботиться о разгрузке.
— Оставь это Сибил, — приказала Юлия Хадассе. — Иди сюда, мне нужно поговорить с тобой. — Хадасса вышла к ней на террасу. — Я хочу, чтобы ты отправилась к Атрету и сказала ему, что я позаботилась о постоянном месте жительства, где мы можем быть вместе столько, сколько пожелаем. Не говори ему ничего о Приме. Ты слышишь меня? Он не должен об этом догадаться. Пока… Он по–прежнему такой нецивилизованный. Лучше я сама все ему объясню, когда его увижу. Просто скажи ему, что он должен сейчас прийти ко мне. Он мне нужен.
На сердце у Хадассы было тяжело.
— Он по–прежнему в лудусе, моя госпожа?
— Не знаю, но отправься сначала туда. Если там его не будет, Серт скажет тебе, где его искать. — Они вошли в покои, и Юлия открыла свою шкатулку с драгоценностями. Нахмурившись, она провела пальцами по жемчужным ожерельям. Потом нащупала золотую брошь, усеянную рубинами. Юлия взяла ее в руку, сжав губы. Ей нравилась эта брошь. И зачем Юлии расставаться с ней? Атрет теперь свободен. Ей уже не нужно платить за то, чтобы он пришел сюда. Одного ее слова теперь достаточно, чтобы он оказался здесь по своей воле.
Юлия бросила брошь обратно в шкатулку и решительно закрыла крышку.
— Скажешь Серту, что я послала тебя с сообщением для Атрета. Надеюсь, он скажет тебе, где Атрет. — Она прошла с Хадассой к двери, стараясь говорить как можно тише, чтобы не услышал никто из прислуги. — Передай ему точь–в–точь, как я тебе велела. Ни слова о Приме. Поняла? Я сама позднее о нем скажу.
Отправляясь выполнять поручение своей хозяйки, Хадасса удивлялась тому, что Юлия, которая столько времени провела с Атретом, так и не узнала этого человека.
* * *
Даже когда Атрет лежал на столе и ему зашивали и обрабатывали раны, многие знатные римляне продолжали приглашать его в гости на свои виллы.
— Выгони их отсюда, — прорычал Атрет Серту.
— Как скажешь, — ответил Серт. Вовсе не он решил включить Атрета в поединки смерти. Этого потребовал проконсул, после того как получил сообщение от императора о том, что в эти поединки должен быть включен и варвар. Серт не мог отказать, и хотя проконсул заплатил ему достаточную сумму, чтобы можно было возместить расходы на приобретение и содержание Атрета, Серт понимал, что в будущем он уже не будет иметь таких прибылей. Как бы то ни было, но Атрет, мертвый или живой, уже не в его власти.
Но Серт был не так глуп. Были и другие способы заработать на Атрете, если только богиня ему улыбнется.
Атрет вернулся в лудус, где намеревался пробыть до тех пор, пока не решит, что ему делать со своей свободой. Серт предоставил Атрету просторные апартаменты, связанные с его собственными, и стал относиться к нему как к самому дорогому и почетному гостю.
Как Серт и ожидал, уже на следующее утро у главных ворот лудуса собралась огромная толпа. Большинство людей мечтало только о том, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на Атрета, но было много и таких, которые хотели предложить Атрету выгодные сделки. Серт пропустил таковых в просторное помещение для встреч и собраний, после чего сообщил Атрету, что к нему пришли уважаемые гости. Когда германец вошел в помещение, собравшиеся заметно оживились и наперебой стали подходить к нему со своими предложениями. Серт стоял в стороне и наблюдал.
Один хотел рисовать изображения Атрета на вазах, подносах и камеях. Несколько человек хотели продать ему виллы. Кто–то хотел сделать его совладельцем своей гостиницы. Кто–то предлагал, чтобы Атрет ездил на его колесницах. Серт не вмешивался в создавшуюся ситуацию, стремясь усилить ажиотаж.
— Я дам тебе самую искусную колесницу из всех тех, которые я построил, а также двух превосходных коней из Аравии! — предлагал мастер, делающий колесницы.
Атрет осмотрел всех взглядом затравленного льва. Потом он взглянул на Серта, как бы призывая его сделать что–нибудь. Серт дал себе клятву принести Артемиде большую жертву, после чего пробрался сквозь толпу и встал рядом с Атретом.
— Твое предложение смехотворно, — сказал он изготовляющему колесницы. — Ты прекрасно знаешь, сколько получишь на имени Атрета, и при этом выступаешь с таким ничтожным предложением?
— Добавляю к своему предложению тысячу сестерциев, — быстро отозвался тот.
— Десять тысяч, и тогда Атрет еще подумает об этом, — презрительно сказал Серт. — Тогда твои идеи будут чего–то стоить для нас. — Повернувшись к Атрету, он тихо прошептал ему на ухо: — Если хочешь, я могу провести все эти переговоры без тебя. Тебе нет нужды тут находиться. В этих делах у меня большой опыт, и я знаю, как заставить их повысить ставки. Моя доля — 35 процентов от всей твоей прибыли. Разумеется, ты сможешь ознакомиться со всеми предложениями, и окончательное решение тоже останется за тобой. Я сделаю тебя очень богатым.
Атрет сжал руку Серта в своей.
— Я хочу, чтобы у меня была своя вилла.
Серт кивнул.
— Все, что хочешь, только скажи. Я все устрою. — Он будет заботиться о будущем Атрета столько времени, сколько нужно.
В этот момент в помещение вошел слуга, который пробрался к Серту.
— Здесь эта маленькая иудейка, мой господин. Она говорит, что у нее послание для Атрета.
— Проводи меня к ней, — приказал Атрет, не обращая внимания на недовольство всех тех, кто столько часов ждал встречи с ним.
Серт поднял руки.
— Достаточно! У Атрета сейчас есть более важные дела. Приготовьте ваши предложения и представьте их мне. Мы обсудим их с Атретом, и я сообщу вам о его решении. На сегодня все! — Он кивнул одному из здоровенных стражников. — Проводи их к выходу. Мне пора в лудус.
Атрет увидел, что Хадасса ждет возле закрытых ворот лудуса. «Оставь меня», — сказал он слуге и широким шагом направился к ней.
Когда она увидела его, ее лицо осветилось теплой улыбкой. Она низко поклонилась ему.
— Слава Богу за Его безграничную милость, — сказала она. — Ты жив и в полном порядке!
Он улыбнулся ей в ответ, вспомнив ту ночь на арене, когда Хадасса обещала, что будет молиться за него. От ее доброты он почувствовал на сердце тепло, которого не испытывал уже много лет. Может быть, ее молитвы к ее Богу помогли ему остаться в живых?
— Да, я жив и в полном порядке. Я еще и свободен, — сказал он. — Ты принесла мне вести от Юлии?
Тут поведение Хадассы едва уловимо переменилось. Она опустила глаза, чтобы не смотреть на Атрета, и сказала ему то, что ей велела передать Юлия. Атрет выслушал ее, и каждое услышанное им слово уязвляло его гордость. Он невольно задвигал челюстью.
— Должен? — холодно произнес он. — Так вот, передай своей госпоже, что того, что было раньше, не будет теперь никогда. Я пришлю за ней, когда я буду готов. — Сказав это, он отвернулся и отправился к себе.
— Атрет, — сказала Хадасса, поспешив за ним следом, — пожалуйста, не бросай ее сейчас.
Он посмотрел на нее сверху вниз.
— Напомни своей госпоже, что я больше не раб и она не может вызывать меня по своей прихоти и для своих удовольствий.
Хадасса умоляюще посмотрела на него.
— Она любит тебя, мой господин. Она и не думала обижать тебя.
— Римляне не могут не обижать! А она ведь римлянка, правда? Рождена и вскормлена на гордости и высокомерии.
Хадасса осторожно дотронулась своей рукой до его руки и грустно улыбнулась.
— Но ведь горды и высокомерны не только римляне, Атрет.
Невероятно, но от этих слов Атрет перестал чувствовать ярость и гнев. Его тесно сжатые губы вдруг расплылись в улыбке, и он даже коротко засмеялся.
— Наверное, ты права, — произнес он своим грубым голосом. Он еще раз внимательно посмотрел на эту странную маленькую девушку с бездонными глазами, в которых было столько благородства, что их взгляд напоминал прохладу моря.
— Поговори с Юлией по–человечески, Атрет, и она сделает все, что ты попросишь, — Хадасса знала, что это правда. Одно нежное и любящее слово — и Юлия, может быть, даже свернет с того опасного пути, по которому она сейчас идет.
— Я поклялся себе, что больше никогда не приду на ее зов, — непреклонно заявил Атрет, — и буду верен этой клятве. — Кивнув в сторону высоких стен лудуса, он продолжил: — И никогда не обесчещу ее вызовом сюда. — Он посмотрел на Хадассу. — Скажи своей госпоже, что я пришлю за ней, когда у меня будет свой дом, в который я смогу привести ее как свою жену. — Сказав это, он удалился.
Хадасса грустно посмотрела ему вслед, понимая, что обоих впереди ждет только трагедия.
— Где он? — потребовала Юлия ответа от Хадассы, когда та вернулась на виллу Прима одна. — Ты что, не сказала ему, что я хочу его видеть? Ведь не сказала? Что ты ему сказала?
— Я передала ему в точности все то, что ты мне велела.
Юлия ударила ее.
— Ты маленькая лгунья. Признавайся, ты ведь сказала ему о Приме. — Она ударила Хадассу еще раз, сильнее.
Хадасса в страхе отпрянула от нее. Дрожащей рукой она прикоснулась к покрасневшей щеке.
— Я не говорила, моя госпожа.
— Если бы ты не говорила ему о Приме, он был бы здесь!
— Он сказал мне, что пришлет за тобой, когда у него будет свой дом, в который он сможет привести тебя как свою жену.
Юлия долго стояла молча, ее лицо побледнело. Она уставилась на Хадассу, а потом ноги ее подкосились и она упала на диван. Юлия закрыла глаза. Она догадывалась о том, что ее ожидает, но когда она узнала, что Атрет прямо заявил о своих намерениях, она лишилась сил, почувствовав при этом острую тоску и одиночество. Хадасса опустилась перед ней на колени.
— Послушай, госпожа Юлия. Вернись домой, к отцу и матери, и оставайся там до тех пор, пока Атрет не пришлет за тобой.
На мгновение Юлия почувствовала нерешительность, но тут же вспомнила предостережение Калабы, ясное и логичное. Если она выйдет замуж за Атрета, он уведет ее в свой дом и никогда оттуда не выпустит. Он будет еще хуже, чем Клавдий и Кай, вместе взятые.
— Нет. — Прошу тебя, — тихо умоляла ее Хадасса, — не оставайся здесь. Но Юлия к этому моменту поборола в себе последние остатки нерешительности.
— Если я сейчас вернусь, я буду выглядеть очень глупо. И ничего от этого не изменится. Марк не одобрит мои отношения с Атретом точно так же, как и мои отношения с Примом. — Юлия слабо засмеялась. — Атрета можно провозгласить римским гражданином, но в душе он все равно останется варваром. Марк мне даже видеться с ним не разрешит.
— Марк хочет, чтобы ты была счастлива и была в безопасности.
Юлия приподняла брови, забавляясь тем, с какой фамильярностью Хадасса произнесла имя ее брата. Она посмотрела на свою служанку долгим изучающим взглядом, и в ней начало прорастать семя ревности, которое посадил сам Марк.
— Ты просто хочешь быть поближе к моему брату, не так ли? — холодно сказала она. — Нет, я тебя не послушаюсь. Я остаюсь здесь. Когда я поговорю Атретом, он поймет меня. Я заставлю его понять.
Она напомнит ему о том, как он ненавидел рабство, и заставит честно сказать, хочет ли он сделать ее своей рабыней. Жена является рабыней, ведь она находится на попечении мужа и ее жизнь зависит от его милости. Но пока они оба — свободные люди. Ничего между ними не должно меняться. Они останутся такими же любовниками, какими и были раньше. Так даже будет лучше. Ей не придется платить Серту. Атрет сможет приходить к ней всякий раз, когда она будет посылать за ним. Но даже если никакие уговоры не подействуют, у нее оставалось еще одно средство, которое наверняка заставит его прислушаться.
Она скажет ему о ребенке, которого носит в себе.
* * *
Хадасса пришла к Иоанну и поведала ему о Юлии.
Апостол выслушал ее, потом взял ее руки в свои и сказал:
— Наверное, Бог предал Юлию похотям ее сердца, чтобы она в полной мере получила наказание за все свои прегрешения.
Хадасса посмотрела на него, и по ее щекам потекли слезы.
— Я часами пела ей псалмы, рассказывала истории о Давиде и Гедеоне, Ионе и Илии. Я рассказала ей столько историй, но ни разу не сказала ей самого главного. Когда я с Юлией, я не могу даже губами пошевелить, чтобы произнести имя Иисуса. — Хадасса высвободила руки из объятий Иоанна и закрыла ладонями лицо.
Иоанн смотрел на нее с пониманием.
— Все мы время от времени испытываем страх, Хадасса.
— Но ведь ты больше ничего не боишься. И мой отец никогда ничего не боялся. — Хадасса вспомнила, как Ванея приводил ее отца в верхнюю комнату, и такое дорогое ее памяти лицо отца было разбито настолько, что его едва можно было узнать. Но отец все равно день за днем выходил на городские улицы, и это продолжалось до самого последнего дня его жизни. «Они сбрасывают тела в Вади–эль–Рабади, за священным храмом», — сказал Марк в тот день, когда отец был убит, и Хадасса представила, как ее отец лежит там, в долине Еннома, среди тысяч других мертвецов, сброшенных со стены храма и оставленных гнить под иудейским солнцем.
— Я уже говорил тебе, что мне очень хорошо знаком страх, — сказал Иоанн. — Когда они пришли и увели Господа из Гефсиманского сада, один римский воин схватил меня, но я вырвался и убежал. У него в руках остался кусок полотна, которое составляло мою единственную одежду, а я убежал почти нагой. — Иоанн опустил глаза, и было видно, что ему стыдно даже от таких воспоминаний. — Но страх не от Господа, Хадасса.
— Умом я это понимаю, но мое сердце все равно трепещет.
— Доверь Иисусу свое бремя.
— А если моим бременем является не только страх, но и любовь? Я люблю Юлию как родную сестру.
Взгляд Иоанна выражал сострадание.
— Мы сеем в слезах то, что потом пожинаем в радости. Будь послушна воле Господа. Люби Юлию, что бы она ни делала, потому что только через тебя она может узнать всепобеждающую благодать и милость Христа. Будь верна, чтобы и она, и другие люди имели возможность поверить во Христа.
— Но разве они могут поверить, если они не хотят верить? И что мне делать с Калабой?
— Ничего.
— Но, Иоанн, она все больше и больше влияет на Юлию. И порой мне кажется, что Юлия все больше и больше становится похожей на нее. Надо же что–то с этим делать.
Иоанн покачал головой.
— Нет, Хадасса. Мы боремся не с плотью и кровью, а с силами тьмы.
— Я не могу бороться с сатаной, Иоанн. Моя вера для этого недостаточно сильна.
— А тебе и не нужно с ним бороться. Противостой злу и будь сильна в Господе, Хадасса, и в силе Божьей власти. Он дал тебе оружие для сражения. Истина, Его праведность, Благая Весть миру. Вера является твоим щитом, Слово является твоим мечом. Постоянно молись в Духе Господа. И оставайся верной Господу, чтобы Он мог идти впереди тебя.
— Я буду стараться, — тихо сказала Хадасса.
Иоанн взял девушку за руки и крепко сжал их в своих, и его тепло и сила передались ей.
— Бог верен всем благим намерениям. Доверься Ему, и в свое время Он откроет твои уста и даст тебе слова, которые ты должна будешь сказать. — Иоанн улыбнулся. — Ты не одинока!
* * *
Удобно расположившись на одном из диванов в триклинии, Юлия выбрала себе что–то из деликатесов, которые приготовил ее новый повар. Прим рассказывал ей одну из своих непристойных историй, на этот раз об одном известном римлянине и его неверной жене. Юлия быстро почувствовала неумеренный аппетит к его историям — тот единственный аппетит, который Прим был готов удовлетворить.
— Я знаю, Прим, о ком ты сейчас рассказываешь, — сказала она. — О Вителлии. Верно?
Прим поднял свой кубок, отдавая тем самым должное ее проницательности, и улыбнулся Прометею, который сидел рядом, прислонившись к нему.
— Ты же знаешь, я никогда не разглашаю секреты, — сказал он ей шутливо.
— Можешь называть его как хочешь, но ты так хорошо подражаешь его шепелявой речи, что у меня просто не остается никаких сомнений. Это Вителлий. Толстый, напыщенный и шепелявый Вителлий.
— Он больше не будет мне доверять никаких секретов, — сказал Прим и недовольно поморщился, потому что в триклиний вошла Хадасса с очередным подносом. Прометей слегка напрягся и отодвинулся от Прима, издавшего вздох раздражения. — Поставь поднос вон там и оставь нас, — нервно приказал Прим и взглянул на Юлию. — Скажи ей, Юлия. — Она кивнула Хадассе, и та молча вышла из комнаты. — Не нравится она мне, — сказал Прим, глядя в пустой проем двери.
— Почему? — спросила Юлия, выбирая на столе очередное яство.
— Потому что каждый раз, когда она входит, Прометею становится не по себе. Почему ты не продашь ее?
— Потому что мне с ней хорошо, — ответила Юлия, наливая себе еще вина. — Она поет мне песни и рассказывает разные истории.
— Я слышал некоторые из них, и они мне тоже не нравятся. Если ты не знаешь, то могу тебе сказать, что Калаба от твоей рабыни, естественно, тоже не в восторге.
— Она говорила мне. — Юлия нетерпеливо взглянула на Прима и сделала глоток из кубка. Она понимала, что пьянеет, но это ее не волновало. Это лучше, чем страдать от депрессии. Она уже давно не получала вестей ни от Атрета, ни от Марка, ни от матери. Все ее оставили. Увидев, как Прометей нервно поглядывает в сторону двери, Юлия даже почувствовала злобное удовлетворение.
Вошел слуга.
— Моя госпожа, тебя хочет видеть твой брат.
Юлия привстала, пролив вино из кубка на свой новый зеленый наряд. Торопливо поставив серебряный кубок, она подперла голову руками, — голова уже немного кружилась от выпитого.
— Пусть он войдет, — сказала она и прижала холодные руки к разгоряченному лицу.
— Я хорошо выгляжу? — спросила она Прима.
— Настолько прекрасно, насколько прекрасной может быть Нимфа, восстающая из пены морской.
Когда вошел Марк, показалось, что своим присутствием он заполнил все помещение. Он был так прекрасен, что Юлия невольно гордилась, глядя на него.
— Здравствуй, Марк, — сказала она и протянула к нему руки. Он взял сестру за руки и поцеловал в щеку.
— Здравствуй, дорогая сестрица, — нежно произнес он. Выпрямившись, он повернулся к Приму. — Я хочу поговорить с сестрой наедине.
Прим насмешливо приподнял брови.
— Ты, кажется, забыл, где находишься, Марк. Это моя вилла, а не твоя.
— Оставь нас, Прим, — нетерпеливо сказала Юлия. — Я столько времени не видела Марка.
— И мы знаем, почему, не так ли? — сказал Прим, глядя в глаза Марку и беря Прометея за руку. — Пойдем, Прометей. Оставим эту парочку и не будем им мешать вести разговор о своих разногласиях.
Марк злобно посмотрел ему вслед.
— Не понимаю, Юлия, как ты можешь так спокойно сидеть и смотреть, как он ведет себя с этим юношей.
Пытаясь оправдаться, Юлия ответила:
— Наверное, я более терпимо отношусь ко всему этому. И как ты можешь судить Прима? Я не раз видела тебя с Витией.
— Но это же совсем другое дело.
— Да, действительно. Прим гораздо вернее Прометею, чем ты Аррии, Фаннии или десятку других женщин, которых я могу назвать по именам. Кроме того, — откровенно высказалась Юлия, снова садясь, — я увидела, что Прим чрезвычайно чуткий человек. А груб он был потому, что ты оскорбил его чувства. — Она снова налила вина, чувствуя потребность выпить еще.
— Не сомневаюсь, что он не чинит тебе здесь никаких препятствий. Только вот все расходы оплачиваешь ты, не так ли?
— Ну и что из того? Это мои деньги, и я распоряжаюсь ими так, как мне нравится. Я, кстати, сама выбрала эту виллу. Не правда ли, она прекрасна? И расположена в самом богатом районе города. Обстановку тоже выбрала я. Хоть какое–то дело в своей жизни я сделала, а не занималась пустословием.
Марк понял, что ему следует умерить свой пыл.
— И ты счастлива от такой жизни?
— Да. Я счастлива! Сейчас я счастливее, чем с этим омерзительным стариком, сошедшим с ума от своих исследований, или с тем молодым красавчиком, который был так жесток, что словами не описать. Если бы Кай не умер, он бы промотал все мои деньги на состязаниях. — Тут Юлия осеклась и быстро выпила еще вина. — Прим от меня почти ничего не требует, Марк, — сказала она уже более спокойным голосом. — Он мне не угрожает. Он прислушивается к моим проблемам и не мешает мне делать все то, что доставляет мне радость. Кроме того, мне с ним весело.
— Я всегда осторожен в том, что говорю ему, дорогая сестрица. У Прима весьма острый ум, и он собирает слухи так, как собака собирает блох. Его очень легко спровоцировать на какую–нибудь каверзу, и он начинает говорить о людях все, что ему известно. Его склонность к сплетням принесла ему немалые доходы. Люди платят ему, только чтобы он не болтал.
Юлия снова растянулась на диване.
— Сядь и поешь что–нибудь, Марк, — элегантным жестом она обвела заставленные деликатесами подносы, — может быть, тогда твое настроение станет лучше.
Марк обратил внимание, что Юлия носит несколько новых колец, а блюда с яствами были не из дешевых. Он ничего не сказал по этому поводу. Что толку? Возможно, именно эта богатая пища стала причиной расширившейся талии сестры, но он не был в этом уверен. Он склонялся к мысли о том, что Юлия беременна, и он знал, от кого.
— Прим совершенно не намерен меня обижать, — сказала Юлия с циничной улыбкой. — Но если тебя что–то не устраивает, я попрошу его проследить за твоим поведением.
— Не проси его ни за чем следить!
— Зачем ты пришел? — устало сказала Юлия, и за маской высокомерия и презрения Марк быстро увидел, насколько его сестра уязвима, беззащитна.
Он тяжело вздохнул и подошел к ней.
— Юлия, — сказал он серьезно, взяв у нее из рук кубок с вином и отставив его в сторону, — я пришел не для того, чтобы ссориться с тобой.
— Отец… — сказала она, и в ее глазах появился страх. — Он умер?
— Нет.
Она вздохнула с облегчением.
— Мама сказала ему, почему я ушла из дома?
— Она сказала, что ты уехала к друзьям. Судя по всему, его удовлетворяют те письма, которые она ему читает.
— Что за письма?
Марк удивленно посмотрел на нее, потом понимающе вздохнул. Бедная мама.
— Очевидно, те, которые она сама пишет от твоего имени. Юлия встала и отошла от него, как бы пытаясь избежать своей вины.
— А сегодня утром у нас был гость, — сказал Марк. — Посланник, которому было поручено доставить тебя к Атрету.
Юлия резко повернулась и уставилась на него.
— Атрет прислал за мной? — Она рванулась к нему и взяла его за руки. — О Марк. Где он? Ты ведь не отправил его обратно? Если отправил, я покончу с собой. Клянусь тебе! — На ее глазах заблестели слезы.
Марк почувствовал, как она вся задрожала.
— Я сказал ему, что ты в отъезде, и спросил, где находится его хозяин, чтобы ты могла его отыскать, когда вернешься.
Юлия отошла от него и стала нервно ходить по триклинию.
— Я же не знала, что с ним, куда он уехал. Ты представить себе не можешь, как я здесь несчастна. Я так люблю его, Марк, но когда я посылала за ним, он не захотел прийти ко мне.
— Сколько времени у тебя роман с этим гладиатором?
Она остановилась и заносчиво подняла голову.
— Не называй его гладиатором. Атрет теперь свободный человек и римский гражданин.
— Сколько времени, Юлия?
— Шесть месяцев, — сказала Юлия наконец и заметила, как брат медленно оглядывает ее с головы до ног.
— Значит, это его ребенок…
Юлия вспыхнула и прикрыла руками живот.
— Да.
— Он знает?
Она покачала головой.
— У меня не было возможности поговорить с ним.
— Очевидно, он не знает и о твоем браке с Примом, иначе он не послал бы своего человека за тобой ко мне.
— Я собиралась поговорить с ним обо всем несколько недель назад, но не знала, где он!
— Если бы ты хоть немного постаралась, ты бы все выяснила. Как ты теперь собираешься рассказывать ему о Приме? Юлия, я поговорил с этим посланником. Атрет купил имение в нескольких милях от Ефеса. Он хочет жениться на тебе.
Юлия старалась не смотреть на брата. Марк остановился и решительно подошел к ней. Повернув сестру к себе, он увидел, что она плачет.
— Ты не могла изменить такому человеку, как Атрет, — тихо сказал он.
— Я не изменяла ему! — закричала она, пытаясь вырваться из его объятий. — Ты же не думаешь, что я сплю с Примом. Не сплю я с ним! Я вообще ни с кем не сплю.
— Надеюсь, Атрет сможет выслушать тебя настолько, чтобы ты смогла ему все объяснить. С таким человеком шутить нельзя, Юлия.
— Я переехала к Приму еще до того, как Атрет стал свободным, — сказала Юлия, избегая его взгляда.
— Это неправда, и мы оба хорошо это знаем. Ты переехала к Приму после тех зрелищ.
Только Атрету не нужно этого знать! Вся разница лишь в одном дне.
— В одном дне. — Марк прищурил глаза. — А ты знала о своей беременности в тот день, когда переезжала к Приму? — Судя по тому, как она снова отвернулась, Марк понял, что знала. — Перед всеми богами скажи мне, зачем ты переехала сюда, если любишь Атрета?
Если бы я рассказала тебе о нем, ты бы не разрешил мне больше с ним видеться.
— Возможно, — согласился Марк, — но тогда нам с тобой не пришлось бы вести этот непростой разговор, какой мы ведем сейчас. Послушай, — сказал он, стараясь взять себя в руки, — сейчас я готов забыть об этой нелепейшей ситуации, в которой ты оказалась. Если хочешь, я сам отвезу тебя к Атрету, прямо сейчас.
— Нет. Я переехала к Приму, и на то у меня были свои причины.
— Значит, ты не любишь Атрета.
— Я люблю его, но никогда не смогу выйти за него замуж. Ну, сам посуди, Марк. Ведь он же никогда не станет настоящим римлянином. Более того, он ненавидит Рим, ненавидит всей душой. А что, если мы устанем друг от друга и я полюблю кого–нибудь другого? Разве он позволит мне быть счастливой? Нет. Он же варвар. Они топят неверных жен в болоте. А если он захочет вернуться в Германию? — Юлия усмехнулась. — Ты можешь представить себе чтобы я жила в каком–то грязном бревенчатом доме, или где там живут эти варвары? А он мог бы меня заставить отправиться туда. Только потому, что я его жена!
Марк слушал ее и не мог поверить своим ушам.
— Но неужели ты думаешь, что Атрет будет приходить к тебе и будет твоим любовником, когда ты живешь с другим мужчиной?
— А разве у тебя с Аррией было не так?
Он нахмурился.
— О чем это ты говоришь?
— Ты знал о ее многочисленных любовных похождениях с гладиаторами. Она тебе сама о них рассказывала, помнишь? Я спрашивала тебя, почему ты позволяешь ей быть тебе неверной, и ты говорил, что Аррия вольна делать то, что хочет. И ты был волен делать то же самое.
— Я никогда не хотел, чтобы ты брала пример с Аррии!
— Я этого и не делала. Я брала пример с тебя.
Марк уставился на нее, не в силах произнести ни слова.
Юлия поцеловала его в щеку.
— Не смотри на меня так. Чего еще ты мог ожидать от сестры, которая преклоняется перед тобой? Ну а теперь скажи мне, где Атрет. — Когда Марк назвал ей адрес, она опустилась на диван. — Как я устала, — сказала она, чувствуя слабость от выпитого вина. Откинувшись на подушки, она закрыла глаза. — Если хочешь, можешь рассказать маме о ребенке. — Ее губы изогнулись в насмешливой улыбке. — Может быть, она будет лучшего мнения о Приме.
Марк склонился над ней и поцеловал ее в лоб.
— Сомневаюсь…
Юлия взяла брата за руку.
— Ты еще придешь?
— Да. Может быть, мне еще удастся исправить все то, что я сделал.
Она поцеловала его руку.
— Не думаю. — Она улыбнулась, вспомнив, как Марк любил ее тискать, когда она была еще маленькой, и не говорил с ней таким жестким тоном.
Выйдя из триклиния, Марк увидел Хадассу, сидящую на скамье и сложившую перед собой руки. Она и тут молится? В следующий момент Хадасса подняла голову и увидела его. Она встала и в знак уважения опустила глаза. Марк прошел через комнату и остановился перед ней. Какое–то время он молча смотрел на нее, потом сказал:
— Мать и отец скучают по тебе.
— Я тоже скучаю по ним, мой господин. Как дела у отца?
— Ему хуже.
— Мне жаль, — тихо сказала она.
Марк знал, что она не лукавит, и от ее искренности он почувствовал необъяснимую боль. Протянув руку, он погладил ее по руке.
— Я что–нибудь придумаю, чтобы вернуть тебя домой, — хрипло произнес он.
Хадасса уклонилась от его прикосновения.
— Я нужна госпоже Юлии, мой господин.
Он убрал руку. Хадасса отошла в сторону.
— Ты и мне нужна, — тихо сказал Марк и услышал, как она остановилась за его спиной. Обернувшись, он увидел, как она смотрит на него глазами, полными слез. Потом она снова отвернулась и пошла в триклиний. К Юлии.
Когда наверху послышались тихие шаги сандалий, Марк резко поднял голову.
— Мы ведь скоро увидимся, Марк, не так ли? — сказал Прим, улыбаясь и глядя на него сверху вниз. Он сложил губы, как бы желая поцеловать Марка, после чего снова оскалился в высокомерной улыбке. — О, да, я в этом просто не сомневаюсь.
Когда перистиль наполнился его презрительным смехом, Марк отвернулся и решительным шагом направился к выходу.
* * *
Атрет схватил Юлию за запястья и расцепил ее руки, обвившие его шею. Дрожа от дикой ярости, он отшвырнул ее от себя.
— Если бы у тебя не было ребенка, я бы тебя убил, — произнес он сквозь зубы и вышел из комнаты.
Юлия поспешила за ним.
— Это твой ребенок! Клянусь тебе! Я не изменяла тебе. У меня ничего нет с Примом. Атрет! Не уходи! Послушай меня! Послушай! — кричала она сквозь слезы. — Атрет!
Вскочив на свою колесницу, Атрет натянул поводья. Пара прекрасных белых коней тронулась с места. Он схватил кнут и стал стегать коней, пока они не разогнались во всю прыть. Люди разбегались с дороги во все стороны, осыпая его ругательствами.
Выехав за пределы города, он погнал еще быстрее. Ветер, дувший ему навстречу, не охлаждал его гнева. Вскоре перед ним возникла его вилла, стоявшая на зеленом холме. Стражник, завидев его, открыл перед ним ворота. Атрет на всей скорости въехал во двор и остановил колесницу, осыпав ворота камешками гравия. Бросив поводья, он сошел с колесницы и оставил разгоряченных коней во дворе, поднимаясь к себе в дом по мраморным ступеням.
— Вон с глаз моих! — крикнул он рабам, которые готовили дом для приезда новой хозяйки. Издав дикий крик, он смел с длинного стола приготовленные яства. Серебряные и золотые подносы полетели на пол, кубки ударились о стену, повредив украшающие ее фрески. Ударом ноги он опрокинул стол и смял бронзовые коринфские вазы. Сорвав со стены вавилонские шпалеры, он разорвал их на части. Потом он перевернул диваны и изорвал восточные шелковые подушки.
Пройдя через аркаду, он вошел в покои, приготовленные для Юлии. Пнув изящно украшенные жаровни, он разбросал по большой постели и балдахину горящие уголья. Огонь стал быстро распространяться по комнате. Когда постель загорелась, Атрет сбросил с изящного столика большую шкатулку, из которой по мраморному мозаичному полу рассыпались жемчужины и бриллианты.
Когда он вышел из комнаты, у входа стояли несколько молодых женщин, которых он купил для того, чтобы они прислуживали Юлии, и с ужасом смотрели на происходящее.
— Вы свободны, — сказал он им, и когда они отступили на несколько шагов, глядя на него так, будто он сошел с ума, он заорал: — Убирайтесь! — Они убежали.
Он вышел во внутренний двор и склонился над колодцем. Зачерпнув воды, он плеснул себе в лицо. Тяжело дыша, он наклонился ниже, намереваясь опустить голову в воду, но тут взглянул на водную гладь и увидел свое отражение.
Он был похож на римлянина. Его волосы были коротко острижены, а на шее красовались золотые украшения. Схватившись за свою украшенную золотом тунику, Атрет сорвал ее с себя. Затем он сорвал с шеи медальон с изображением торжествующего гладиатора и швырнул его через двор, потом откинул голову назад и издал дикий крик, который пронесся по всем соседним холмам.
34
Феба послала к Марку и Юлии сообщить, чтобы они немедленно пришли, потому что их отец при смерти. Раба, который направлялся к Юлии, она просила передать:
— Обязательно скажи, чтобы пришла и Хадасса.
Первым к умирающему отцу пришел Марк. Когда прибыла и Юлия, Феба с облегчением увидела, что Хадасса пришла с ней. Юлия вошла в покои отца, но, направившись к постели, тут же остановилась. Прошла не одна неделя, с тех пор как она последний раз виделась с отцом, и видимые признаки тяжелых последствий болезни потрясли ее. Издав сдавленный крик, Юлия устремилась из комнаты. Феба поспешила за ней.
— Юлия!
Юлия остановилась и вернулась обратно.
— Мама, я не хочу видеть его таким. Я хочу запомнить его таким, каким он был раньше.
— Он хотел видеть тебя.
— Зачем? Чтобы сказать мне, как я разочаровала его? Чтобы проклясть меня перед смертью?
— Ты же знаешь, что он не сделает этого. Он всегда любил тебя, Юлия.
Юлия положила руки на свой заметно увеличившийся живот.
— Я чувствую, как он там шевелится. Мне не стоит туда входить. Мне же нельзя волноваться! Я подожду в перистиле. Я останусь там, пока все не кончится…
Марк вышел и увидел, что его сестра на грани истерики. Он положил руку на плечо матери.
— Я поговорю с ней, — сказал он.
Феба отвернулась и, взглянув на Хадассу, протянула к ней руку.
— Пойдем со мной, — тихо сказала Феба, и они направились к Дециму.
Хадасса испытывала огромное сострадание к своему хозяину. Искусно сшитое одеяло из белой шерсти покрывало его истощенное тело. Руки неподвижно лежали вдоль тела, и голубые вены резко выделялись на бледной коже. В комнате стоял запах смерти, а когда хозяин взглянул на Хадассу, она едва удержалась, чтобы не заплакать.
Марк привел Юлию. Она взяла себя в руки, но, едва увидела отца, заплакала. Когда отец посмотрел на нее впавшими глазами, она заплакала сильнее. Децим слабо пошевелил рукой. Юлия не решалась подойти, и Марк взял ее за плечи и помог приблизиться к отцу. Он усадил ее на стул, стоявший рядом с постелью, и тогда Юлия закрыла лицо руками, наклонилась вперед и зарыдала в голос. Децим положил руку ей на голову, но она отклонилась от его прикосновения.
— Юлия, — прохрипел Децим и снова протянул к ней руку.
— Нет, не могу, — закричала Юлия, — я этого не вынесу. — Она вскочила и попыталась проскочить мимо Марка.
— Отпусти ее, — слабо произнес Децим, и его рука снова безжизненно опустилась на одеяло. Когда Юлия вышла из комнаты, он закрыл глаза. Стоявшие в комнате еще долго слышали ее плач, когда она бежала по коридору. — Она молода, — прохрипел отец, — а уже и без того насмотрелась смертей. — Он с трудом дышал. — Хадасса здесь?
— Она вышла, чтобы быть с Юлией.
— Приведите ее ко мне.
Марк нашел Хадассу в алькове перистиля, когда она утешала его сестру.
— Хадасса, отец хочет тебя видеть.
Хадасса перестала обнимать Юлию и встала. Юлия подняла голову.
— А почему это он хочет видеть ее?
— Пойдем, — сказал Хадассе Марк, потом повернулся к Юлии. — Наверное, в первую очередь утешение сейчас нужно ему, а не тебе, и он знает, что Хадасса может его утешить, — сказал он, едва сдерживая себя.
— Меня никто не понимает, — с горечью в голосе воскликнула Юлия, — даже ты. — Она снова заплакала. Марк отвернулся и пошел за Хадассой. — Никто не знает, что мне предстоит пережить! — визгливо закричала Юлия ему вслед.
Хадасса вошла и встала возле постели, чтобы Децим мог ее видеть.
— Я здесь, мой господин.
— Сядь, посиди со мной, — прохрипел Децим. Хадасса обошла вокруг постели и опустилась на колени. Когда он поднял ослабевшую руку, Хадасса взяла ее в свои ладони. Он вздохнул: — Столько вопросов… И так мало времени…
— Для самого важного времени достаточно, — прошептала она. Она нежно сжала его руку. — Ты хочешь принадлежать Господу, мой господин?
— Я должен креститься…
У Хадассы сильно забилось сердце, но она видела столько смертей в Иерусалиме, что понимала: для того чтобы приготовить ему воду, времени действительно уже нет. О Боже, прошу Тебя, дай мне Твоей мудрости и прости меня за то, что у меня нет своей. В следующее мгновение Хадасса почувствовала, как се охватило приятное тепло, и она ощутила ту уверенность, которой ей так не хватало.
— Господь был распят между двумя разбойниками. Один злословил Его. А другой исповедался перед Ним в своих грехах и сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое», — и Господь ответил ему: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю».
— У меня очень много грехов, Хадасса.
— Но если ты только поверишь и примешь Его благодать, ты будешь с Господом в раю.
Из глаз Децима исчезло тревожное выражение. Он взял дрожащей рукой руку Хадассы и прижал ее к своей груди. Она прижала руку к его сердцу.
— Марк… — Децим тяжело задышал. Марк подошел к постели с другой стороны.
— Я здесь, отец, — Марк взял отца за другую руку.
Децим взял своей слабой рукой руку Марка и положил ее на руку Хадассы. Потом он положил на их руки обе свои и посмотрел на сына.
— Я понял, отец.
Когда Марк сжал в своей руке руку Хадассы, она подняла голову.
Децим медленно, тихо вздохнул. Его лицо, искаженное и изможденное болью, теперь стало спокойным. Он умер.
Марк ослабил пальцы, и Хадасса быстро высвободила свою руку, но когда к постели подошла мать, Марк поднял голову и посмотрел в глаза Хадассе. Ее сердце заколотилось, она прижала руку к груди и отошла от постели.
— Он покинул нас, — сказала Феба. Она осторожно закрыла своему мужу глаза. Наклонившись, она поцеловала его в губы. — Теперь твоим страданиям пришел конец, моя любовь, — прошептала она, и на его умиротворенное лицо закапали ее слезы. Она легла рядом с ним и обняла его. Положив голову ему на грудь, она предалась своему горю.
* * *
— Конечно, тебе столько пришлось пережить, — сказал Прим, наливая Юлии еще вина. — И с их стороны просто жестоко было требовать от тебя, чтобы ты сидела и смотрела, как твой отец умирает.
— Я ушла в альков и ждала там.
Калаба взяла Юлию за руку и нежно поцеловала ее.
— Ты все равно ничего не могла бы сделать, Юлия. Испытав какое–то неприятное чувство от поцелуя Калабы, Юлия отдернула руку и встала.
— Наверное, мое присутствие хоть как–то утешило бы его.
— Но разве твое присутствие изменило бы что–нибудь? — тихо сказала Калаба. — Твой отец, наверное, вообще уже ничего не воспринимал в последние минуты жизни.
— Не знаю. Меня там не было, — сказала Юлия, стараясь подавить слезы, потому что Калаба расценит их как слабость.
Калаба вздохнула.
— И вот теперь они заставили тебя испытывать угрызения совести. Разве это справедливо? Когда ты поумнеешь, Юлия? Чувство вины — это чувство поражения. И чтобы его преодолеть, тебе нужно воспитывать в себе силу воли. Сосредоточься на том, что тебя радует.
— А меня ничего не радует, — в отчаянии произнесла Юлия.
Калаба разочарованно поджала губы.
— Ты становишься эмоционально уязвимой из–за своей беременности. Жаль, что ты не сделала аборт.
Юлия сжала пальцы в кулаки.
— Я не буду делать никакого аборта. Я тебе уже об этом говорила, Калаба. Зачем ты настаиваешь? — Она враждебно посмотрела на Калабу и, как бы защищая, прикрыла свой живот руками. — Это ребенок Атрета.
Калаба широко раскрыла глаза, в которых читались удивление и насмешка одновременно:
— Но неужели ты все еще надеешься на то, что он вернется?
— Он любит меня. И когда он одумается, он вернется, вот увидишь.
— Юлия, на то, чтобы одуматься, у него было несколько месяцев, а ты ведь до сих пор не получила от него никаких вестей.
Юлия отвернулась.
— Я послала за ним Хадассу. Она убедит Атрета в том, что это его ребенок.
— И ты думаешь, это что–нибудь изменит?
— Не понимаю, как ты можешь доверять этой лживой маленькой иудейке, — вмешался в разговор Прим, с самого начала возненавидевший Хадассу.
— Хадасса не лжет, — оборвала его Юлия. — Она знает, что, после того как я встретила Атрета, у меня не было больше мужчин. И она сможет объяснить ему это. Он вернется и еще прощения у меня будет просить.
— Она наверняка попытается отбить его у тебя, как уже пытается отбить у меня Прометея.
— Да не нужен Хадассе этот твой педераст! — с омерзением сказала Приму Юлия.
— Ты так уверена? А я вот видел, как она сидела в алькове с Прометеем и держала его за руку! Вот и говори мне после этого, что она невинна!
Калаба слегка улыбнулась, ее темные глаза горели злорадством.
— Наверное, ты надоел этому мальчику, Прим, — сказала она, еще больше разжигая в нем ревность. — Ты ведь подобрал его, когда он был совсем еще юным, то есть еще до того, как он успел вкусить все те прелести, которые может предложить ему этот мир.
Прим побледнел.
— Да это просто смешно, — насмешливо сказала Юлия. — Хадасса невинна и останется таковой до самой смерти.
— Если только твой братец не будет иного мнения, — сказал Прим.
Юлия так и вспыхнула.
— Как ты смеешь!..
Ничуть не испугавшись гнева Юлии, Прим откинулся назад, полностью удовлетворенный тем, как его слова подействовали на нее.
— Юлия, дорогая, да открой ты глаза. Ты думаешь, Марк приезжает сюда, чтобы повидаться с тобой? Он приезжает, чтобы видеться с твоей рабыней.
— Это неправда!
— Да?! А ты помнишь тот первый день, когда он пришел, чтобы сказать тебе, что Атрет присылал за тобой? Хотя вряд ли, ты тогда многовато вина выпила. Но если ты не знаешь, то я видел, как Марк уходил. И твоя иудейка стояла вон там и ждала его под той аркой. Он взял ее за руку и — скажу откровенно — так смотрел ей в глаза…
— Ты, кажется, говорила, что твой отец хотел видеть ее перед смертью? — сказала Калаба, как бы что–то соображая. Юлия посмотрела на нее и раскрыла рот.
Калаба перевела взгляд на Прима и покачала головой.
— И этот ребенок по–прежнему доверяет ей, — сказала Калаба. Потом она снова посмотрела на Юлию, и ее взгляд был полон снисходительного сожаления.
— Ты послала к своему любовнику змею, — злобно сказал Прим. — Ты знаешь, что она сделает? Она сделает с ним то же самое, что с моим Прометеем. Вонзит свое жало в Атрета и отравит его ядовитой ложью.
Юлия задрожала.
Я не хочу тебя слушать. Ты говоришь, как какая–то ехидная баба, — сказала она и отвернулась.
— Калаба, ну, может, ты ей скажешь, — разочарованно произнес Прим. — Тебя–то она послушает.
— Нет, не буду я ей ничего говорить, — спокойно сказала Калаба. — Она и сама все прекрасно знает. Просто ей еще не хватает смелости, чтобы перейти от мыслей к действиям.
* * *
Хадасса стояла среди сгоревших развалин виллы, которую Атрет купил для Юлии.
— Его здесь нет, — сказал ей какой–то человек, оказавшийся неподалеку. — Он где–то там, на холмах, совсем обезумел.
— Как мне его найти?
— Если не хочешь нажить себе неприятностей, лучше не подходи к нему, — сказал человек и ушел, оставив ее посреди пожарища.
Выйдя за пределы виллы, Хадасса обратилась к Богу с молитвой и попросила Его помочь ей отыскать Атрета. Несколько часов она бродила по холмам, пока не увидела Атрета сидящим на вершине какого–то холма и смотрящим на нее. Волосы у него снова отросли, на нем были набедренная повязка и медвежья шкура. В руке он держал грозного вида копье. Когда она шла к нему, он молча следил за ней своими холодными голубыми глазами.
— Уходи, — сказал он ей голосом, от которого любого могло бросить в дрожь.
Хадасса села рядом с ним и ничего не ответила. Атрет долго смотрел на нее тяжелым взглядом, потом отвернулся и стал смотреть через раскинувшуюся внизу долину на видневшийся вдали большой город. Несколько часов он сидел так, ничего не говоря, холодный и непреклонный, как камень. Хадасса сидела рядом и тоже молчала.
Солнце зашло, и долина погрузилась во тьму. Атрет встал, и Хадасса смотрела, как он пошел по протоптанной им тропе, ведущей в какую–то пещеру. Потом она двинулась за ним. Войдя в пещеру, Хадасса увидела, как он раскладывает сучья для костра. Она села у стены.
Схватив фрамею, Атрет направил ее на Хадассу.
— Убирайся отсюда, или я убью тебя! — Он смотрел поверх фрамеи ей прямо в глаза. — Убирайся! Возвращайся к этой шлюхе, которой ты служишь! — Хадасса не пошевелилась, совершенно не испытывая страха. Она просто смотрела на него своими прекрасными карими глазами, полными сострадания.
Атрет медленно опустил фрамею и отложил ее в сторону. Посмотрев на Хадассу, он повернулся к ней спиной и сел перед костром, решив не обращать на нее никакого внимания.
Хадасса опустила голову и молча помолилась о помощи.
— Она думает, что я вернусь, так? Она по–прежнему думает, что имеет власть надо мной.
Хадасса подняла голову. Он все так же сидел к ней спиной, склонившись над костром. Ей было очень жалко его.
— Да, — честно сказала она.
Атрет встал на ноги, и все его тело напряглось от накопившегося в нем гнева.
— Возвращайся и скажи ей, что она для меня умерла! Скажи ей, что я поклялся Тивазу и Артемиде никогда больше не видеть ее лица. — Атрет подошел к входу в пещеру и остановился, вглядываясь в темноту.
Хадасса встала. Она подошла к Атрету и стала смотреть на ночное небо, усеянное звездами. Довольно долго она молчала, после чего сказала очень тихо:
— «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь…».
Атрет снова вошел в пещеру и сел у костра. Он запустил пальцы в свои золотистые волосы и замер, держась руками за голову. Спустя минуту он опустил руки и посмотрел на них.
— Ты знаешь, сколько человек я убил? Сто сорок семь. Это только на арене. — Он засмеялся, и смех его прозвучал страшно. — А до этого я убил, может быть, еще человек пятьдесят римских легионеров, которые вошли в Германию, думая, что имеют право безнаказанно властвовать на нашей земле и превращать нас в рабов. И я убивал их с радостью, потому что защищал свою семью, защищал свое селение.
Повернув руки, он посмотрел на свои ладони.
— Потом я убивал на радость Риму, — сказал он с горечью и сжал кулаки. — Я убивал, чтобы выжить. — Он снова запустил пальцы в волосы. — Я помню лицо каждого из них, Хадасса. Некоторых из них я убивал без малейшего сожаления, но были и другие… — Он крепко закрыл глаза и вспомнил Халева, опустившегося на колени и поднявшего голову, чтобы встретить смертельный удар Атрета. А германец, его соотечественник? Атрет помнил, как он нанес удар в сердце своему молодому соплеменнику.
Он снова открыл глаза, испытывая желание стереть все эти лица из памяти, но зная, что это невозможно.
— Я убивал их, потому что у меня не было другого выхода. Я убивал их, потому что хотел заслужить свободу. — Атрет стиснул зубы, и на его челюсти заиграли желваки.
— Свобода! Теперь она у меня есть, о ней даже в документе записано. Вот он, висит у меня на шее. — Схватив висящий на шее медальон из слоновой кости, Атрет сорвал золотую цепочку и протянул Хадассе доказательство своей свободы. — Я теперь могу идти, куда хочу. Я могу теперь делать то, что хочу. Они бросали к моим ногам сокровища и деньги, как будто я был их богом, меня сделали богатым настолько, что я смог купить виллу по соседству с римским проконсулом! Я свободен!
Снова раздался его страшный невеселый смех, и Атрет швырнул в каменную стену пещеры золотую цепочку и свой медальон из слоновой кости.
— Нет у меня никакой свободы. Их ярмо по–прежнему висит у меня на шее и душит меня. Я никогда не освобожусь от того, что сделал со мной Рим. Она пользовалась мной, получая наслаждения. Она поклонялась мне, потому что я разжигал ее кровь. Я удовлетворял ее похоть. Она всегда приказывала, а я лишь исполнял. — Атрет поднял голову, посмотрел на Хадассу, стоявшую у входа в пещеру, — какое у нее доброе лицо! — и горько улыбнулся. — Рим. Юлия. Это одно и то же.
Хадасса смотрела на тяжелое, но красивое лицо Атрета и видела, какая борьба происходит в его душе.
— «Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи! услышь голос мой. Да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, — Господи! кто устоит? Но у Тебя прощение».
Хадасса увидела, как Атрет нахмурился, и вошла в пещеру. Она села рядом с ним.
— Жизнь — это путь, Атрет, а не конечная цель. Сейчас ты в плену своей горечи, но ты можешь освободиться.
Он безнадежным взглядом смотрел на огонь.
— Как?
Она рассказала ему, как.
Атрет покачал головой.
— Нет, — решительно сказал он и встал. — Прощать тех, кто пригвоздил Сына к кресту, может только слабый Бог. Сильный бог уничтожает своих врагов. Он стирает их всех с лица земли. — Атрет снова направился к выходу из пещеры.
— Рабом тебя делает твоя ненависть, Атрет. Стань на путь прощения и любви.
— Любви, — презрительно повторил он, отвернувшись. — Той любви, которую я испытывал к Юлии? Нет уж. Любовь не делает свободным. Она порабощает и ослабляет тебя. И когда ты становишься уязвимым, когда начинаешь чувствовать надежду, она предает тебя.
— Господь не предаст тебя, Атрет.
Он снова посмотрел на девушку.
— Если хочешь, можешь верить в своего хлипкого Бога. Халеву Он не принес ничего хорошего. Мой бог Тиваз. Это сильный бог!
— В самом деле? — тихо сказала она и встала. Она подошла к выходу из пещеры и посмотрела Атрету в глаза, которые по–прежнему горели ненавистью. — Если он сильный бог, почему же он не дал тебе того покоя, которого тебе сейчас так не хватает? — Осторожно положив руку ему на плечо, Хадасса добавила: — Это твой ребенок, Атрет.
Он дернул плечом, сбрасывая ее руку.
— Даже если Юлия положит его к моим ногам, я уйду и не оглянусь.
Хадасса видела, что Атрет действительно готов так поступить.
На ее глазах заблестели слезы.
— Да будет на тебе милость Божья, — прошептала она и ушла в ночь.
Атрет смотрел, как она спускается по тропе с холма. Смотрел долго, вплоть до того момента, когда она дошла до дороги, ведущей в Ефес.
* * *
Юлия повернулась к Марку и посмотрела на него каким–то особенным взглядом.
— Ты хочешь видеть Хадассу?
— Да. У меня к ней серьезное дело.
— Какое же? — спросила она с насмешливым любопытством.
— Личное, — ответил Марк, поморщившись от такого вопроса. — Я отвечу на все твои вопросы, после того как поговорю с Хадассой. Она здесь, или ты ее послала с поручением?
— Она только что вернулась, — ответила Юлия, и в ее голосе тоже прозвучало нечто непривычное и неприятное. Она хлопнула в ладоши, и звук хлопка раздался в тишине перистиля как–то резко, агрессивно. — Пришли сюда Хадассу, — сказала Юлия пришедшему на зов слуге Прима. Потом она посмотрела на брата и улыбнулась. Спросив о самочувствии матери, Юлия почти не слушала, как брат отвечал, что мать переносит свое горе с удивительным спокойствием.
Услышав приближающиеся тихие шаги, Марк обернулся и увидел Хадассу. Она шла под арками, освещенная солнечным светом, и во всей ее внешности было такое смирение, что у него защемило сердце. На Марка она не посмотрела.
— Ты звала меня, моя госпожа? — спросила она, склонив голову.
— Нет. Тебя хочет мой брат… — холодно ответила Юлия.
Марк посмотрел на сестру уничтожающим взглядом.
— Отправляйся в спальню, на второй этаж, и жди его там…
— Юлия! — прикрикнул Марк, чувствуя, что начинает терять терпение, но та не обращала на него никакого внимания.
— …пока он не придет, после чего будешь делать все, что он тебе скажет. Ты поняла?
Марк увидел, как лицо Хадассы превратилось в маску смятения и страха, и ему захотелось поколотить свою сестру. — Оставь нас, Хадасса.
Хадасса отступила на шаг в нерешительности, глядя на них так, будто перед ней были сумасшедшие.
— Мерзкая шлюха! — вдруг завизжала Юлия и набросилась на Хадассу, занеся руку для удара. Но Марк схватил ее за запястье и повернул лицом к себе.
— Оставь нас немедленно! — резко приказал Марк Хадассе. Когда она ушла, он встряхнул Юлию за плечи. — Что с тобой происходит? Это твоя беременность сводит тебя с ума?
— Прим сказал мне правду! — сказала Юлия, пытаясь вырваться.
— Что сказал тебе Прим? — потребовал ответа Марк, чувствуя, как у него от омерзения все холодеет внутри.
— Он сказал, что ты приходишь сюда, чтобы видеться с Хадассой, а не со мной. Я говорила ему, что это смешно! Чтобы мой брат полюбил какую–то рабыню? Абсурд! Я сказала ему, что ты приходишь сюда, чтобы видеться со мной — со мной! А он ответил, что мне нужно открыть глаза и понять, что происходит вокруг меня.
— Ничего вокруг тебя не происходит. Просто ты пьешь тот яд, которым Прим травит тебя, — сказал Марк. — Зачем ты его слушаешь?
— Если это неправда, тогда зачем ты хочешь говорить с Хадассой?
— По личному делу, которое не касается ни тебя, ни Прима, ни кого–либо другого.
Юлия улыбнулась неприятной улыбкой.
— По личному делу… — сказала она с презрением. — Ты же не скажешь мне, по какому именно. Но все равно ты не будешь отрицать, что о ней ты заботишься больше, чем обо мне!
— Ты совсем уже потеряла голову от своей ревности. Ты же моя сестра!
— Да. Я твоя сестра и заслуживаю того, чтобы ты был мне верен, но где эта твоя верность?
— Ты знаешь, что я верен тебе. Ты знаешь, что я всегда любил тебя, — понимая, насколько она сейчас эмоционально взвинчена, Марк отпустил ее. — Юлия, посмотри мне в глаза, — сказал он и снова схватил ее за плечи. — Я сказал, посмотри мне в глаза. То, что я чувствую по отношению к Хадассе, не имеет ничего общего с моей любовью к тебе. Я люблю тебя и всегда любил тебя как сестру.
— Но ты любишь и ее.
Марк помедлил с ответом, потом вздохнул.
— Да, — тихо сказал он, — я люблю ее.
— Она отбивает у меня всех!
Он отпустил ее.
— Что ты имеешь в виду?
— Она отбила у меня Клавдия.
Марк нахмурился, не понимая, что происходит с сестрой. Что сумели внушить ей Прим и Калаба, играя на ее завистливой натуре?
— Клавдий тебе был не нужен, — напомнил он ей. — И ты сама посылала к нему Хадассу, надеясь, что она отвлечет его от тебя.
— И ей это прекрасно удалось, не так ли? Он ею весьма заинтересовался. Разве ты не помнишь, что, после того как я послала к нему Хадассу, он ни разу больше не интересовался мной? — Юлия никогда не задумывалась об этом, пока ее об этом не спросила Калаба, и тогда Юлия поняла, что дело обстоит именно так. — Он проводил с ней целые часы, те часы, в которые она могла служить мне.
— Она действительно служила тебе. Она делала все, что ты ей только ни приказывала. Ты хотела, чтобы она отвлекла Клавдия, и она сделала это. Он интересовался у Хадассы вопросами ее религии.
Юлия холодно посмотрела на него.
— Откуда тебе это известно, если ты его об этом не спрашивал?
— Разумеется, я спрашивал его об этом! Ты помнишь, как я рассердился на тебя, когда ты послала к нему вместо себя Хадассу.
— Помню, — сказала Юлия, и ее глаза сверкнули ненавистью. — Ты рассердился, потому что я отдала ее ему. Я‑то думала, что ты беспокоишься обо мне, о моем браке. Но ведь это не так, правда? В ее голосе было столько горечи, она покачала головой и отвернулась.
— Как же я была слепа! — продолжала она с тихим смешком. — А вот теперь я оглядываюсь на прошлое, и мне все ясно. Все это время я думала, что ты приезжал, чтобы быть со мной, потому что ты был мне нужен. — Она резко повернулась к нему. — Но все было совсем не так, Марк. В Капую ты приезжал вовсе не ко мне. И на виллу в Риме ты вернулся, и в Ефес ты переехал вовсе не ради меня. Ты это делал ради нее.
Марк снова схватил ее за руки.
— Все это время я приезжал, чтобы быть с тобой. И не смей верить тем, кто утверждает иначе. — Поздно, очень поздно он понял, что Хадасса значит в его жизни гораздо больше, чем любая другая женщина из всех, которых он когда–либо знал. В первую очередь он думал о Юлии. До сего часа.
Юлия отвернулась, не в силах вынести его гневного взгляда.
— Интересно, что она говорила Атрету все то время, пока я посылала ее за ним в лудус? Как она настроила его против меня?
— Хадасса не виновата в том, что случилось с Атретом, — сердито произнес Марк. — И не сваливай на нее вину за свои собственные глупости. Ты сама оттолкнула его от себя, а вовсе не Хадасса.
— Если бы она сказала ему, что это его ребенок, как я ей велела, он бы пришел. А он не пришел! Наверняка она пришла к нему и пела псалмы, да плела свои истории. — Юлия расплакалась. — Если она сделала все так, как я велела, почему он не пришел ко мне? Откуда это ненавистное молчание?
— Потому что ты думала, что он будет жить с тобой так, как этого хочется тебе, — сказал Марк, — а это невозможно. — Испытывая жалость к сестре, Марк вздохнул и обнял ее. — С этим покончено, Юлия. Есть в жизни вещи, которые восстановить уже нельзя.
Юлия припала к нему и дала волю слезам. Успокоившись, она отошла и присела на холодную мраморную скамью в небольшом алькове. Марк сел рядом. Юлия печально посмотрела на него.
— Почему любовь так сжигает тебя, что кажется, будто она поглотила тебя целиком, а потом, когда все проходит, остается только вкус горечи на губах?
— Не знаю, Юлия. Я сам часто об этом думал.
— С Аррией?
— С Аррией и другими, — сказал он.
Юлия слегка нахмурилась.
— Только не с Хадассой. Почему?
— Потому что она не похожа ни на одну из тех женщин, которые были в моей жизни, — тихо сказал Марк и взял сестру за руку. — Сколько рабов готовы отдать жизнь, чтобы защитить своих хозяев? Если бы не Хадасса, Кай убил бы тебя. Она преданно служит тебе, и не по обязанности, как Енох или Вития, или другие рабы, а из чувства любви. Есть в ней что–то редкое и прекрасное.
— Что–то редкое и прекрасное… — машинально повторила Юлия. — Но все–таки она рабыня.
— Если ты освободишь ее, она будет свободной.
Юлия тут же подняла на него свой взгляд.
— Она мне нужна, — поспешно сказала она, чувствуя внезапно нахлынувшее на нее необъяснимое чувство паники. — И сейчас она мне нужна, как никогда.
Марк посмотрел на ее большой живот и закивал головой.
— Тогда я подожду, — тихо сказал он, — пока не родится ребенок.
Юлия не ответила. Она неподвижно смотрела в пол, и Марк почувствовал, как его охватил какой–то странный холод, когда он увидел пустоту в глазах своей сестры.
35
После долгих и тяжелых родов у Юлии родился сын. Акушерка передала кричащего младенца Хадассе. Это был прекрасный, здоровый ребенок, и Хадасса чувствовала удивительную радость, когда она осторожно омывала его и натирала солью. Завернув младенца в теплые простыни, она подошла, чтобы положить его рядом с матерью.
— Твой сын, моя госпожа, — проговорила она и улыбнулась, наклонившись, чтобы передать его Юлии.
Юлия отвернулась.
— Отнеси его к ступеням храма и оставь там, — прохрипела она. — Он мне не нужен.
Хадасса испытала такое чувство, будто Юлия ударила ее.
— Моя госпожа! Прошу тебя, не говори таких слов. Ты же не хочешь этого. Это твой сын.
— Это сын Атрета, — с горечью произнесла Юлия. — Пусть он вырастет храмовой проституткой или рабом, как его отец. — Она повернулась к Хадассе. — А лучше всего оставь его подыхать где–нибудь на скале. Он вообще не должен был родиться.
— Что она сказала? — спросила акушерка, держа в руках окровавленный кусок ткани, который она ополаскивала в холодной воде. Пораженная, Хадасса отступила несколько шагов от Юлии.
— Она сказала бросить его где–нибудь в горах. — Голос Юлии прозвучал как будто из темноты.
Инстинктивно Хадасса прижала ребенка к себе.
Акушерка запротестовала:
— Но у ребенка нет никакого изъяна. Он родился здоровым.
— А кто ты такая, чтобы тут рассуждать? Мать решает, как поступить с ребенком, а не ты. — В комнату вошла Калаба, которая ждала неподалеку, когда закончатся роды. — И если госпожа Юлия не хочет его, так тому и быть. Ее право либо отказываться от него, либо оставить у себя, если она захочет. — Акушерка отступила, не смея ей перечить. Калаба перевела свой холодный и бездушный взгляд на Хадассу.
Хадасса в отчаянии склонилась над Юлией.
— Прошу тебя, моя госпожа, не делай этого! Это же твой сын. Посмотри на него. Пожалуйста. Он так прекрасен.
— Не хочу я на него смотреть! — закричала Юлия, закрыв лицо бледными руками.
— И не смотри, Юлия, — мягко произнесла Калаба, по–прежнему не отрывая своего пристального и жгучего взгляда от Хадассы.
— Моя госпожа, ты потом будешь жалеть об этом…
— Если Атрет не захотел его, то и я не хочу! Зачем он мне нужен, если всякий раз, когда я буду смотреть на него, я буду чувствовать себя несчастной? Я не по своей вине забеременела. Почему я должна страдать за какую–то ошибку? Убери его от меня!
Малыш трогательно закричал, беспомощно двигая крохотными ручонками. Его маленький ротик был открыт и дрожал.
— Убери его отсюда! — завизжала в истерике Юлия.
Хадасса ощутила холодное прикосновение пальцев Калабы и почувствовала, как та толкает ее к двери.
— Делай, что тебе говорят, — сказала Калаба. Испугавшись того, что она увидела в глазах Калабы, Хадасса вышла.
Она стояла по ту сторону двери, ее сердце бешено колотилось, ей было страшно стоять в одиночестве с ребенком, который кричал у нее на руках. Она вспомнила другого ребенка, который был похоронен там, в саду римской виллы, где не осталось даже пометки о его кратковременной жизни.
— Что же мне делать, малыш? — прошептала Хадасса, крепко прижимая ребенка к себе. — Я не могу тебя здесь оставить. К твоему отцу я тебя тоже отнести не могу. О, Боже, что же мне делать?
Она крепко закрыла глаза и изо всех сил пыталась вспомнить те слова, которые могли бы ее наставить. И вспомнила. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы. Христовы, исполняя волю Божию от души…»
Но значит ли это, что она должна быть послушна Юлии? Значит ли это, что она должна бросить сына Атрета умирать в горах?
Исполняя волю Божию от души. В сознании Хадассы четко отпечатался этот лучик света. Божья воля, а не воля Юлии. Не темная воля Калабы Шивы Фонтанен. И даже не ее, Хадассы, собственная воля. Исполнится воля Божья.
Хадасса быстро отнесла младенца в свою комнату и тщательно перепеленала его, чтобы ему стало тепло в ее мягкой шали. Затем она снова взяла его на руки и вышла с ним из дома.
Ночной воздух был прохладным, и ребенок жалобно плакал. Хадасса прижала его к себе и стала нашептывать ему нежные слова, чтобы успокоить его. Идти Хадассе предстояло довольно далеко, но даже в это темное время она не сбилась с пути. Дойдя до нужного дома, она постучала, и ей открыли.
— Клеопа, — сказала она, узнав мужчину из собрания, которое она посещала, — мне нужно увидеться с Иоанном. — Она знала, что если кому–то станет известно о том, что она принесла ребенка сюда, Иоанн подвергнется опасности. Как и всякий другой, кто вольно или невольно поощрит ее непослушание своей хозяйке. Римляне были убеждены в том, что имеют право распоряжаться жизнью своих детей. Но Хадасса была в ответе перед Богом, а не перед Римом.
Клеопа улыбнулся, его глаза сияли радостью, причины которой Хадасса не поняла.
— Иоанн сказал, что ты придешь. Мы молимся об этом с самого утра, и Господь ответил нам. Входи. Иоанн сейчас с Рицпой.
Хадасса знала эту молодую женщину, чьи муж и маленький сын умерли во время одной из многочисленных эпидемий, поражавших империю, и теперь были с Господом. Хадасса пошла по ступенькам вслед за Клеопой, и он привел ее в верхнюю комнату дома. Иоанн сидел с Рицпой, оба склонили головы и соединили руки в молитве. Когда Хадасса вошла, Иоанн что–то тихо сказал Рицпе, отпустил ее руки и встал.
— Прости, что вторгаюсь, мой господин, — почтительно прошептала Хадасса. — Она захотела его бросить на скалах умирать. Я не смогла этого сделать, Иоанн. Не в Божьей воле обрекать его на смерть, но я не знала, куда еще пойти с ним.
— Ты пришла туда, куда привел тебя Бог, — сказал Иоанн, взяв ребенка у нее из рук. Рицпа встала и медленно подошла к нему. Она нежно посмотрела на ребенка. — Мать без ребенка и ребенок без матери, — сказал Иоанн.
Рицпа протянула руки, и Иоанн вложил в них сына Атрета. Рицпа, согнув руку, прижала ребенка к себе и нежно дотронулась до его лица. Младенец вытянул крохотную ручку, как бы изучая, кто это к нему прикоснулся. Женщина погладила его по пальчикам, и он попытался ухватить ее за палец. Плакать он перестал. Рицпа радостно засмеялась.
— Слава Господу! Бог смилостивился надо мной. Величит душа моя Господа, потому что Он дал мне сына, чтобы вырастить его для славы Его!
* * *
Марк получил от Прима известие о том, что Юлия родила. Он подождал несколько дней, чтобы дать ей время отдохнуть, и отправился навестить ее.
— Я не знаю, сообщили тебе или нет, — встретил его Прим, — но ребенок умер.
— Как?! — воскликнул Марк, не веря услышанному.
— На то, вероятно, воля богов. Если только ты ее любишь, пожалуйста, не спрашивай ее ни о чем. Она так подавлена, и сейчас ей меньше всего хочется говорить об этом. Дай ей возможность забыть этот ужас.
Марк подумал о том, не слишком ли он был опрометчив в своих суждениях о Приме. Наверное, его отношение к Юлии не столь уж эгоистично.
— Хорошо, я учту это, — согласился Марк и направился в покои Юлии.
В момент его прихода Хадасса убирала поднос. Взглянув на Марка, она учтиво склонилась перед ним и быстро вышла. Марк весь напрягся, провожая ее взглядом, потом подошел к постели. Юлия была бледна, но улыбнулась ему и протянула ему руки.
— Помоги мне сесть, — сказала она, и Марк поправил подушки, чтобы ей было удобнее. — Мне столько хочется рассказать тебе, — сказала Юлия, и в течение следующего часа пересказывала ему приукрашенные анекдоты Прима об известных деятелях империи. При этом она крепко держала Марка за руку и смеялась.
Ни единого намека на ребенка.
И в то же время, хотя Юлия изо всех сил притворялась, что у нее все нормально, Марк видел, что от нее что–то ушло… Какая–то искра, частица ее жизни… Частица ее самой. Он не знал точно. Он только видел, что в ее глазах не стало той жизни, какая была в ней раньше, а видна была какая–то тяжесть.
— Почему ты так на меня смотришь? — настороженно спросила Юлия. — И не говоришь почти ничего.
Марк нежно прикоснулся рукой к ее щеке.
— Просто я хочу знать, все ли в порядке с моей маленькой сестренкой.
Она внимательно всмотрелась в его лицо, затем расслабилась.
— Да, со мной все в порядке, — устало сказала она и наклонилась к нему, положив свою руку на его. — Что бы я без тебя делала? Ты единственный, кто способен меня понять.
«Но так ли это?» — подумал Марк. Понимал ли он ее когда–нибудь?
Юлия слегка откинулась назад.
— Даже Хадасса меня больше не понимает.
— Почему ты так говоришь?
— Не знаю. Просто от нее мне становится как–то не по себе. — Юлия покачала головой. — Ничего. Все пройдет, и все будет по–прежнему.
Уходя, Марк увидел Хадассу, сидящую на мраморной скамье. Она не подняла головы и не посмотрела на него, и он не рискнул подойти к ней, чтобы не дать Приму лишнего повода для грязных сплетен. Еще одна–две недели, и Юлия будет вполне готова отпустить ее. Тогда он заберет Хадассу отсюда и женится на ней.
Когда Марк пришел во второй раз, Юлия находилась в триклинии вместе с Примом, удобно устроившись на одном из диванов, и смеялась над одной из непристойных шуток.
— Марк, иди к нам, — сказала она, обрадовавшись его появлению. — Поешь что–нибудь, — она обвела рукой стол, уставленный дорогими деликатесами. — Прим, расскажи ему историю, которую ты мне только что рассказал. Она его развеселит. А Марку нужно почаще смеяться. В последнее время он такой серьезный.
— Ну, как, Марк? Тебе ведь всегда нравились мои истории, — сказал Прим и налил себе еще вина, — но сейчас они тебя почему–то не забавляют. Интересно, почему?
— Наверное, потому, что теперь я вижу их такими, какие они есть — откровенно ответил Марк. — Полуправда, превращенная в грязную сплетню.
— Я никогда не лгал о тебе.
Марк не обратил на его слова никакого внимания и переключил все внимание на сестру.
— Как ты себя чувствуешь, Юлия?
— Хорошо, — лениво ответила она. После того как Калаба научила ее есть лотос, ее перестали мучить дурные сны, и им на смену пришли приятные ощущения. Юлия хихикнула, глядя на его хмурое лицо.
— Бедный Марк. Ты же всегда был таким веселым. Что с тобой случилось? Ты беспокоишься обо мне? Не нужно. Так хорошо, как сейчас, я себя еще никогда не чувствовала.
— Эти слова должны радовать и его уши, и мои, — сказал Прим, подняв свой кубок. Потом он скривил губы в усмешке. — Юлия, да отдай ты ему то, что он хочет. Отдай ты ему твою маленькую иудейку.
— Хадассу? — сказала Юлия и вздохнула. — Милая, бедная, маленькая Хадасса. — Юлия понимала, что ее нерешительность раздражает не столько Марка, сколько Прима, который заявил, что присутствие Хадассы портит жизнь в его доме. Прим утверждал, что, куда бы Хадасса ни пошла, вокруг нее, будто бы, создавалась особая атмосфера; кому–то она казалась ароматом, но лично для Прима это был смрад. Прометей заявил, что если она уйдет, он снова станет самим собой.
— Не знаю, смогу ли я расстаться с ней, — сказала Юлия и тут же увидела, как напряглось лицо Прима.
— Юлия! — В голосе Марка явственно прозвучало раздражение. Он не стал напоминать ей о том, что она уже согласилась отпустить Хадассу, а также о том, что у него вовсе нет желания общаться с Примом.
— Прекрасно. Только обещай мне, что пришлешь ее ко мне обратно, когда она тебе надоест.
Марк вышел из комнаты и стал искать Хадассу.
— Как он ее жаждет, а? — насмешливо произнес Прим. — Просто ждет, не дождется, чтобы отпраздновать ее невинность. Интересно, чем все это закончится.
Юлия внезапно встала с дивана и неожиданно заговорила низким, полным злости — и угрозы — голосом.
— Если ты еще скажешь хоть одно слово в адрес моего брата, тебе придется об этом сильно пожалеть. Понял?! Никто не смеет смеяться над Марком. Никто! — Она вышла из помещения.
Послав ей вслед проклятие, Прим осушил свой кубок.
* * *
Хадасса знала, что Марк придет за ней. Она знала это с того самого момента, как Децим соединил ее руку с рукой своего сына, с того самого момента, как Марк взглянул на нее. Каждый раз, когда он был рядом, она трепетала, разрываясь между своей любовью к нему и пониманием того, что при нынешнем положении вещей они никогда не смогут быть вместе. Каждую ночь она опускалась на колени и умоляла Бога смягчить сердце Марка, чтобы он обратился к истине. «А если он не обратится, Господи, обрати его от меня», — молилась она, боясь, что у нее не хватит сил самой отвернуться от него.
Но когда Марк вошел в покои Юлии, Хадасса поняла, через что ей придется пройти. Он взглянул на нее, и в его глазах она прочитала, для чего он пришел туда, потому что и в ней пробудилось страстное желание. Он подошел к ней, обнял ее лицо ладонями, его руки дрожали. Он нежно поцеловал ее, и его прикосновение прокатилось сладкой волной по ее телу.
— Теперь ты моя, — сказал Марк, и его тихий голос выдавал переполнявшие его чувства, — Юлия отпустила тебя. Как только будут оформлены все документы, ты будешь свободной, и я смогу жениться на тебе.
У Хадассы перехватило дыхание, и в душе она обратилась к Богу.
— Я люблю тебя, — шептал Марк, не в силах говорить от волнения. — Я так люблю тебя. — Он погладил ее по волосам и снова поцеловал.
Хадасса таяла в его объятиях. Подобно наводнению, его страсть захлестывала ее и несла в своем жарком и буйном потоке. Хадасса забыла, что Марк не верит в Бога. Она забыла о том, что сама верит в Бога. Все ее чувства в тот момент были связаны только с Марком, она слышала лишь его дыхание, биение его сердца, силу его рук, обнимавших ее. Предавшись чувствам, Хадасса забыла обо всем на свете и прильнула к Марку.
Весь дрожа, он слегка отступил назад, при этом его руки по–прежнему обнимали ее голову.
— Я не могу без тебя, — прошептал он, — я не могу без тебя жить. — Ее глаза приводили его в восторг. — О Хадасса, — сказал он, переводя дыхание, — раньше мне казалось, что я знаю, что такое любовь. Я думал, что все знаю о ней. — Он смотрел на девушку и с трудом сдерживал свои эмоции.
— Я не могу без тебя, — снова повторил он, отстраняя ее от себя. — И мне от этого больно. Но я помню, как в последний раз дал волю своим чувствам по отношению к тебе, и больше никогда этого не сделаю. Никогда.
Выслушав эти слова, Хадасса тяжело вздохнула, но туман страсти не давал ей ясно осознавать то, что происходило с ней в ту минуту. Дрожа, она снова припала к его груди.
Марк неправильно истолковал ее порыв.
— Если мы предадимся любви прямо сейчас, я никогда об этом не пожалею, — сказал он, сжимая Хадассу в объятиях, — но об этом пожалеешь ты. Чистота до брака. Разве не об этом гласит один из законов твоего Бога? Религия никогда меня не интересовала. Не интересует и сейчас. Но она важна для тебя, и ради этого я готов ждать. Для меня важно то, что я люблю тебя. И я не хочу, чтобы в наших отношениях было что–то такое, о чем бы мы пожалели.
Хадасса закрыла глаза. «Твоего Бога», — сказал он — и она поняла, что Бог не ответил на ее молитвы.
— О Марк, — прошептала она, испытывая душевную боль. — О Марк… — Ее глаза наполнились слезами. — Я не могу выйти за тебя замуж.
Марк слегка нахмурился.
— Ты можешь. Я же только что сказал тебе, что Юлия согласилась отдать тебя мне. Отец дал свое благословение. Мать тоже. Мы поженимся, как только все будет для этого готово.
— Ты не понял, — Хадасса отошла от него и закрыла лицо руками. — О Боже, почему я должна делать такой выбор?
Марк видел, как она мучается, но не понимал, почему. Он пожал плечами.
— Юлия отпустила тебя. Ты ей больше не нужна.
— Я не могу выйти за тебя, Марк! Не могу! — Хадасса отвернулась, боясь, что от одного его взгляда она снова забудет о Боге и предастся своим чувствам.
Марк резко повернул ее к себе.
— Что ты хочешь этим сказать? Что тебя удерживает? Кто тебя удерживает? Ты же любишь меня, Хадасса. Я понял это, едва прикоснувшись к тебе. Я увидел это в твоих глазах.
— Да, я люблю тебя, — сказала она. — Наверное, в этом вся беда. Наверное, я слишком сильно тебя люблю.
— Слишком сильно? Как это женщина может любить мужчину слишком сильно? — И тут Марк подумал, что понял ее. — Ты боишься того, что мои друзья и знакомые начнут говорить, что я женился на рабыне. Так? — Ведь она в первую очередь думала о других, и только потом о себе. — Мне плевать на них, Хадасса. Пусть говорят, что хотят.
Марк помнил, что когда–то презирал одного человека, который дал свободу своей рабыне, чтобы жениться на ней, но тогда Марк еще не знал, как любовь способна ломать барьеры между хозяевами и рабами. Он не знал и того, насколько женщина может быть дорога мужчине.
Хадасса покачала головой.
— Нет, Марк. Дело не в этом. Я не могу выйти за тебя, потому что ты не веришь в Господа.
Марк облегченно вздохнул.
— И это все, что тебя беспокоит? — Он провел рукой по ее волосам и слегка улыбнулся. — Но что это меняет? Это ведь не имеет никакого значения. То, верю я или не верю, не изменит нашей любви друг к другу. Я не вижу тут никакой разницы.
— Разница огромная.
— Вовсе нет, — Марк нежно прикоснулся к ее лицу, испытывая огромное наслаждение от прикосновения и от взгляда ее ласковых глаз. — Все дело лишь в терпимости и взаимопонимании, Хадасса. Важно, чтобы мы любили друг друга и были свободны в наших отношениях. Мой отец никогда не запрещал матери поклоняться богам и богиням, в которых сам не верил. Он знал, что она находит в них утешение, как я знаю, что ты находишь утешение в своем Боге. Ну и пусть так будет. Ты поклоняешься невидимому Богу. Я не буду тебе в этом мешать. Тебе в нашем доме будет гарантирована полная свобода делать то, что ты сочтешь нужным.
— А как же ты, Марк? Кому будешь поклоняться ты?
Он поднял ее лицо за подбородок и поцеловал ее.
— Тебе, любимая. Только тебе.
— Нет! — воскликнула Хадасса, вырвавшись из его объятий. Она снова отвернулась от него, и по ее щекам потекли слезы.
Марк положил руки ей на плечи и поцеловал ее в шею. Губами он почувствовал, как сильно бьется у нее пульс.
— Что мне сказать, чтобы убедить тебя в том, что с тобой все будет хорошо? Я люблю тебя настолько, что готов уважать твою религию.
— Уважать. Но не верить. — Хадасса повернулась к нему и посмотрела ему в глаза. — Как мне объяснить, чтобы ты понял? — грустно сказала она. — Когда два вола идут в одной упряжке, они должны идти в одном направлении, Марк. Если один повернет направо, а другой налево, что произойдет?
— Перетянет тот, кто сильнее, — тут же ответил он.
— То же самое будет и с нами. Победишь ты.
— Но мы же не волы, Хадасса. Мы люди.
Она боролась сама с собой. Ей хотелось быть с Марком, засыпать в его объятиях, растить его детей, стареть с ним — но она слышала предостережение от Господа, и ей нужно было помнить о нем.
— Если я буду в одной упряжке семейной жизни с тобой, если я стану плоть от плоти твоей, то самым важным в моей жизни станет то, чтобы я радовала тебя.
— Но разве не на этом строится семейная жизнь? Муж — глава семьи, а жена следует за ним.
— Но ты утянешь меня от Господа, — сказала она.
«Господа», — повторил про себя Марк и почувствовал, как в нем закипает злость к этому невидимому Богу. Господь. Господь.
— Я же сказал, что ты можешь поклоняться тому Богу, Который тебе нравится.
Она увидела в его глазах гнев, который только подтверждал ее опасения.
— Поначалу ты мне это позволишь. Но потом все изменится. Ты даже не заметишь, когда и как. И я этого не замечу. Все начнется с того, что кажется незначительным, неважным, а потом шаг за шагом, день за днем ты будешь тянуть меня на тот путь, по которому я пойду в ногу с тобой, но не с Господом.
— Но что в этом плохого? Разве жена не должна ставить мужа превыше всего?
— Не выше Бога, только не выше Бога. Иначе это будет смерть для нас обоих.
Марк начинал выходить из себя.
— Да нет же. Если ты будешь любить меня, а не своего Бога, это будет жизнь, такая жизнь, которой ты никогда еще не знала. Ты будешь свободной. На тебе не будет никакого ярма. — Когда Хадасса закрыла глаза, он невольно выругался про себя. — Ну почему мы вечно возвращаемся к этому твоему Богу?
— Потому что это единственный истинный Бог, Марк. Он есть Бог!
Марк снова обхватил руками ее лицо.
— Не отворачивайся от меня. Посмотри на меня! — Хадасса взглянула на него, и он почувствовал, как она отдаляется от него, но не знал, как ее удержать. — Ты же любишь меня. Ты сама об этом сказала. Что ты имеешь, оставаясь со своим Богом? Ярмо рабства. Ни мужа. Ни детей. Ни своего дома. И никаких перемен к лучшему в будущем. — Его объятие стало мягче. — А что смогу тебе дать я? Свободу, свою любовь, детей, свою страсть. Ведь ты же хочешь этого, разве нет? Скажи, что хочешь, Хадасса.
Хадасса из последних сил старалась стоять на своем, по ее щекам продолжали течь слезы.
— Я очень хочу всего этого, но только не ценой своей веры, не через отказ от Бога. А именно через веру мне пришлось бы переступить. Неужели ты не понимаешь, Марк? Если я начну такую жизнь и отвернусь от Господа, я буду мудрой на мгновение, но потеряю все в вечности. — Хадасса нежно прикоснулась к его рукам. — И ты тоже.
Марк отпустил ее.
Хадасса видела выражение его лица: крушение надежд, уязвленная гордость, отчаяние и гнев. Ей захотелось как–то утешить его.
— О Марк, — сокрушенно прошептала она, испугавшись за него. А если они все–таки поженятся? Оправдает ли его ее вера? На какое–то мгновение она почувствовала сомнение. — О Марк, — снова сказала она.
— Жаль, Хадасса, — горько усмехнувшись, сказал Марк, страдая от разрывавших его эмоций: любви к ней и ненависти к ее Богу. — Ты никогда не узнаешь, от чего ты отказалась. Оставайся со своим Богом. Ты в Его власти. — Он повернулся и вышел.
Не замечая ничего вокруг, Марк спустился по коридору, перешагивая через две ступени.
Юлия видела, как он уходил, стоя у двери в коридор. Ее руки невольно сжались в кулаки. Она слышала, как Хадасса отвергла его. Какая–то рабыня отказала ее брату! Она почувствовала, как был унижен Марк. Она чувствовала его гнев. Она была потрясена.
Заглянув в комнату, она увидела, как Хадасса, склонившись, сидела на коленях и плакала. Юлия наблюдала эту сцену холодным взглядом. Ни к кому и никогда она еще не испытывала такой лютой ненависти. Ни к отцу, ни к Клавдию, ни к Каю. Ни к кому.
Как же она была слепа, не видя, что представляет собой Хадасса. Калаба понимала: «Она соль на твои раны». Прим понимал: «Она колючка в твоем боку». И только сама Юлия ничего не замечала. Она вернулась в триклиний.
— Марк ушел? — спросил Прим, явно захмелевший.
— Да, но Хадасса еще побудет здесь некоторое время, — сказала Юлия, изо всех сил стараясь, чтобы ее голос звучал спокойнее и не выдавал ее чувств. Прим был на удивление проницателен, и ей не хотелось, чтобы он пошел распространять свои оскорбительные сплетни и опозорил ее брата. — Я сказала Марку, что еще не готова расстаться с Хадассой, — солгала она.
Прим послал проклятия богам.
— А когда ты будешь готова?
— Скоро, — ответила Юлия. — Очень скоро. — Стоя в проходе под аркой, она посмотрела наверх. Хадасса вышла из комнаты, неся в руках сосуд с водой для мытья и выполняя свои обязанности так, будто ничего не случилось. — Разве Вителлий не пригласил нас на празднование дня рождения императора Веспасиана? — спросила она Прима.
— Пригласил, — ответил тот, — но я отказался ради тебя. — Его губы скривились в усмешке. — Я сказал ему, что у нас родился мертвый младенец и ты пребываешь в неутешном горе.
Упоминание о ребенке пронзило Юлию тупой болью. Но она не позволит Приму видеть, как ее ранят его остроты.
— Пошли ему сообщение, что я приду.
— А я думал, что ты ненавидишь Вителлия.
Юлия повернулась к нему и презрительно улыбнулась.
— Да, это так, но я думаю, что он может оказаться полезен для меня.
— Чем же, дорогая Юлия?
— Увидишь, Прим. И мне кажется, когда все раскроется, тебе понравится эта игра.
* * *
Феба услышала, как вернулся Марк. Она поспешно вышла из своих покоев и увидела, как он поднимается наверх по мраморным ступням.
— Хадасса останется с Юлией, — сказал он и прошел в свои покои.
Настороженная его слишком спокойным выражением лица, Феба последовала за ним.
— Что случилось, Марк?
— Ничего неожиданного, — мрачно сказал он и налил себе немного вина. Затем поднял кубок и произнес тост: — За ее невидимого Бога. Пусть Он радуется ее верности!
Феба смотрела, как ее сын осушает кубок, потом грустно уставилась на стол.
— Что случилось? — повторила она, на этот раз совсем тихо.
Марк со стуком поставил кубок на поднос.
— Я оставил свою гордость, а она швырнула мне ее обратно в лицо, сказал он в порыве самоуничижения. — Вот что случилось, мама. — Марк вышел на террасу, и Феба вышла следом. Он вцепился руками в перила. Она нежно положила свою ладонь на его руку.
— Она любит тебя, Марк.
Марк высвободил свою руку.
— Я предложил ей выйти за меня замуж. Хочешь знать, что она мне ответила? Она сказала, что не хочет быть под одним ярмом с неверующим. Никогда я не пойму этой ее веры. Никаких компромиссов. Один Бог! Один Бог надо всем! Ну и пусть. Пусть остается со своим Богом.
Он отвернулся и снова сжал перила, так что пальцы в суставах побелели.
— Все кончено, мама, — сурово произнес Марк, решив забыть Хадассу навсегда. Бани, в которых он проведет сегодняшний вечер, помогут ему в этом. А если нет, то в Римской империи есть множество других прекрасных удовольствий, которые кому угодно помогут отвлечься от своих бед.
36
Эфиопские танцовщицы двигались под усиливающийся бой барабанов, а гости Вителлия поедали фазанов и страусов. Сердце Юлии билось в ритме барабанного боя — все быстрее и быстрее, — пока ей не показалось, что она вот–вот упадет в обморок. Затем, бум, танец закончился, перестали бить в барабаны, и полуобнаженные танцовщицы, украшенные цветными перьями, упорхнули из комнаты, как перепуганные экзотические птицы.
Решающий момент настал. Чувствуя, как по–прежнему сильно бьется сердце, Юлия подозвала Хадассу. Никто не обращал внимания на маленькую иудейку; она была всего лишь одной из нескольких десятков служанок, которые прислуживали своим хозяевам и хозяйкам. Юлия опустила руки в чашу с теплой водой, которую Хадасса держала для нее, и подумала о том, сколько еще пройдет времени, пока Вителлий обратит внимание на кушак на тонкой талии ее служанки.
Хадасса знала, что готовится что–то нехорошее. Она обрадовалась, когда Юлия взяла ее с собой на пир Вителлия. Прим всегда настаивал на том, чтобы Юлию сопровождала не она, а какая–нибудь другая служанка. Однако в этот вечер он не стал перечить решению Юлии… И сейчас Хадасса чувствовала, что Юлия не зря настаивала на том, чтобы с ней пошла именно она, и что этим Юлия преследует какую–то темную, злую цель. Хадасса стояла, держа в руках чашу с водой, и люди стали глядеть на нее и перешептываться. В глубине души она почувствовала какое–то предостережение. Юлия взяла у Хадассы полотенце и деликатно вытерла руки. Прим наклонился к ней.
— Ты знаешь, что делаешь, а, Юлия? — Он выдавил из себя улыбку, прикидываясь беспечным, хотя все было далеко не так. — Вителлий уставился на нас, будто мы принесли в его дом чуму. Отошли Хадассу. Отошли ее сейчас же.
— Нет, — сказала Юлия и, слегка подняв голову, посмотрела в глаза Хадассе. Ее губы скривились в холодной улыбке, — Нет, она останется здесь.
— Тогда приготовься. Вителлий идет к нам, и вид у него явно недовольный. И если ты на меня не обидишься, моя дорогая, — сказал Прим, поднимаясь, — я, пожалуй, пойду, посплетничаю с Камуном, а ты уж сама объяснись с хозяином дома.
Заметив, что Вителлий направляется к Юлии, гости притихли.
— Хадасса, оставь чашу и налей мне немного вина, — сказала Юлия.
Хадасса чувствовала присутствие Вителлия, не поднимая головы, его ненависть была почти осязаемой. У девушки пересохло в горле, ее сердце бешено заколотилось. Она умоляюще посмотрела на Юлию, но ее хозяйка приветливо улыбалась хозяину дома.
— Вителлий, — сказала она, — пир просто великолепен.
Вителлий не обратил внимания на ее лесть и с ненавистью уставился на полосатый кушак Хадассы.
— Какой национальности твоя рабыня?
Юлия округлила глаза.
— Иудейка, мой господин, — сказала она, и все, кто находился рядом, замолчали. Нахмурившись и изобразив на лице удивление, Юлия оглядела Хадассу. — Что–нибудь не так?
— Иудеи убили моего единственного сына. Они осадили башню Антония и изрубили его и его воинов.
— О, мой господин, примите мои искренние соболезнования. Я не знала об этом.
— Жаль, что ты не знала, — сказал он, не спуская пристального взгляда с Хадассы. — Все они грязные псы. Скопище скорпионов. Титу нужно было стереть их с лица земли.
Юлия встала и положила руку Вителлию на плечо.
— Но Хадасса совсем не такая, как те, кто убил твоего сына. Она верна мне и Риму.
— Ты так уверена? Ты просто слишком добра и наивна, поэтому не понимаешь, какой это грязный народ. Ты ее проверяла?
— А как это?
— Твоя служанка ходит в храм Артемиды?
— Нет, — медленно произнесла Юлия, как будто эта догадка заставила ее серьезно задуматься.
— Она приносила жертвы во славу императора?
— По крайней мере, открыто — нет, — сказала Юлия, и при этих словах у Хадассы перехватило дыхание. Как бы почувствовав ее молчаливую мольбу, Юлия взглянула на нее, и в эту секунду Хадасса все поняла. Юлия сама все это ловко подстроила.
— Проверь ее сам, как хочешь, Вителлий, — спокойно сказала Юлия, и в ее глазах сверкнуло злобное торжество.
— А если она не захочет провозгласить Веспасиана богом?
— Тогда поступи с ней так, как сочтешь нужным.
Вителлий щелкнул пальцами, и перед ним тут же появились два стражника, ставшие по обе стороны от Хадассы.
— Отведите ее туда, чтобы все ее видели, — приказал он, и стражники взяли Хадассу под руки. Она пошла с ними без всякого сопротивления. Хадассу вывели на середину мраморного пола, где только что танцевали эфиопские танцовщицы, и повернули лицом к Вителлию.
— Поднесите к ней государственные символы.
Вокруг рабыни собрались гости, которым было интересно посмотреть, что она будет делать. Они перешептывались между собой. Кто–то тихо смеялся. Принесли государственные символы, которые поставили перед ней. Хадасса знала, что ей нужно будет только провозгласить Веспасиана богом, зажечь курение, тем самым прославив его, и тогда ей сохранят жизнь.
— Видишь, как она медлит? — сказал Вителлий, и в его тоне прозвучала такая угроза, что Хадасса задрожала.
Господи, Ты знаешь, что творится в моем сердце. Ты знаешь, что я люблю Тебя. Помоги мне.
— Зажги огонь, Хадасса, — велела ей Юлия.
Хадасса медленно протянула дрожащую руку. Она взяла тонкий стебель тростника и опустила его в огонь.
О, Боже, помоги мне.
И тут к ней пришло Слово. «Я — Господь Бог ваш, и нет другого». Хадасса отпустила тростник и стала смотреть, как он догорает в огне. Гости снова начали перешептываться.
В следующую секунду в ее сознании тихим шепотом пронеслись слова: «Возьми крест свой, и следуй за Мною». Хадасса приложила руку к сердцу и закрыла глаза. «Боже, прости меня, — прошептала она, устыдившись того, что едва не поддалась страху. — Не покидай меня».
«И се, Я с вами во все дни до скончания века».
— Зажги огонь!
Хадасса подняла голову и посмотрела на Юлию.
— Господь есть Бог, и нет иного, — сказала она тихо и в то же время ясно. Пораженные и рассерженные, все сразу возмущенно заговорили.
— Бейте ее, — приказал Вителлий, и один из стражников нанес Хадассе сильный удар по лицу.
— Веспасиан — бог, — сказала Юлия. — Его назови богом!
Хадасса стояла и молчала.
— Ну, что я тебе говорил? — спокойно сказал Вителлий Юлии.
— Она сейчас скажет. Я заставлю ее сказать это, — Юлия подошла к Хадассе и ударила ее. — Говори. Говори, или ты умрешь!
— Верю в то, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого!
— Христианка! — прошептал кто–то.
Юлия ударила ее еще раз.
— Император — бог.
Хадасса посмотрела на Юлию сквозь слезы, ее лицо было искажено болью, но сильнее всего была боль в ее сердце.
— О Юлия, Юлия, — тихо произнесла она, подумав, не так ли чувствовал себя Иисус, когда Его поцеловал Иуда.
Осуществить свой замысел Юлию подтолкнуло желание отомстить за оскорбленную гордость брата, но жестокость, которую она проявила сейчас, была вызвана только чувством зависти. Издав дикий крик, Юлия бросилась на Хадассу. Стражники отступили назад, и она начала бить девушку кулаками.
Хадасса лишь стонала от боли, но при этом совершенно не пыталась хоть как–то защищаться. Юлия остановилась только тогда, когда Хадасса лежала на полу без сознания.
— Можешь взять ее себе, Вителлий, — сказала она и напоследок пнула Хадассу ногой в бок.
— Унесите ее и отдайте Элиму, — приказал Вителлий, и стражники выполнили приказ. — За каждого раба, которого растерзают его львы, он платит по пять сестерциев.
* * *
Атрет проснулся с криком и привстал. Его тело было покрыто потом, сердце бешено колотилось. Тяжело дыша, он провел дрожащими руками по волосам и поднялся. Устремившись к выходу из пещеры, он выглянул и посмотрел в сторону Ефеса. Храм Артемиды стоял на месте, сияющий в лунном свете. Никакого пожара не было.
Атрет вытер пот с лица и вернулся в пещеру. Затем он опустился на колени и обхватил голову руками.
Сон казался ему настолько реальным, что он ощущал на себе его воздействие. Он был готов сделать что угодно, лишь бы избавиться от его власти, но этот сон приходил к нему снова и снова, каждую ночь, и тогда Атрет понял, что не сможет от него избавиться, пока не поймет его смысла.
И он знал, что истолковать эти сны сможет только тот человек, который приходил к нему перед тем, как эти сны начали мучить его.
Хадасса.
* * *
Стражник темницы отодвинул засов.
— Как думаешь, Атрет, какие шансы у Капито выжить в схватке против Секунда? — спросил он, обдумывая, на кого сделать ставку на предстоящих зрелищах. Атрет ничего не ответил. Повернувшись и увидев выражение лица Атрета, стражник больше не задавал вопросов.
Звук шагов кованой обуви римлянина заставил Атрета вспомнить Капую. Пока он следовал за стражником, от запаха холодного камня и человеческого страха его прошиб пот. Из–за запертой двери послышался чей–то крик. Из других камер доносились стоны отчаяния. Потом, пока они шли дальше, Атрет услышал, как издалека до него доносится необычный голос — настолько приятный, что он невольно заслушался. Где–то в темноте пела женщина.
Стражник замедлил ход, слегка наклонив голову.
— Ты когда–нибудь слышал в своей жизни такой голос? — сказал он. Пение прекратилось, и он пошел быстрее. — Жаль, что завтра она вместе с остальными умрет, — добавил он, остановившись перед тяжелой дверью. Затем он отодвинул засов.
Когда дверь открылась, в лицо Атрету ударила ужасная вонь. Камера находилась на втором уровне, и единственной вентиляцией в ней служили помещения, расположенные уровнем выше. Воздух был настолько спертым, что Атрет никак не мог понять, как узники вообще тут могут находиться. От ужасного смрада Атрета едва не стошнило, и он отступил.
— Плохо здесь с этим, не спорю, — подтвердил стражник. — Через пять или шесть дней они тут начинают дохнуть, как мухи. Неудивительно, что некоторые узники сами рвутся на арену. Чтобы глотнуть свежего воздуха перед смертью. — Он дал Атрету факел.
Стараясь дышать как можно реже, Атрет стоял на пороге и вглядывался в каждое лицо. В верхней части боковой стены висел факел, который освещал верх стены и потолок, остальные факелы уже давно догорели. Большинство узников составляли женщины и дети. Среди них было менее десятка старых бородатых мужчин. Атрет не удивился. Более молодых мужчин берегли для сражений, для поединков с такими, как Капит или Секунд… Такими, как он сам.
Кто–то окликнул его по имени, и он увидел, как какая–то исхудавшая женщина встает из массы грязных и оборванных узников.
Хадасса.
— Эта? — спросил его стражник.
— Да.
— А-а, певица, — сказал стражник. — Так вот ты где! Иди сюда!
Атрет смотрел, как она пробирается к ним через камеру. Люди протягивали к ней руки. Кто–то взял ее за руку, и она улыбнулась, прошептала какие–то слова ободрения и пошла дальше. Дойдя до двери, она подняла на Атрета свои яркие глаза.
— Что ты здесь делаешь, Атрет?
Не желая ничего говорить в присутствии римского стражника, Атрет взял ее за руку и вывел в коридор. Стражник закрыл дверь и задвинул засов. Потом он открыл дверь напротив и зажег в том помещении факел.
— Оставь нас, — сказал Атрет, когда стражник стал в дверях.
— Не имею права, Атрет. Ни один узник не может выйти отсюда без письменного разрешения самого проконсула. Атрет презрительно ухмыльнулся.
— Ты думаешь, что сможешь меня остановить?
Хадасса положила свою руку ему на плечо и повернулась к стражнику.
— Обещаю тебе, что я никуда не убегу.
Стражник перевел взгляд с гневного лица Атрета на ее благородные глаза. Затем нахмурился. Едва кивнув головой, он, наконец, удалился.
Слушая удаляющийся грохот его кованой обуви, Атрет сжал кулаки. Он поклялся никогда больше не возвращаться в такое место, но теперь он снова был здесь, причем по собственной воле.
Хадасса увидела, в каком он состоянии.
— Тебя прислала Юлия?
— Я получил от Юлии известие о том, что ты мертва.
— А-а, — спокойно сказала она, — а я‑то надеялась…
— На что? Что меня прислали сюда, чтобы освободить тебя?
— Нет, я надеялась, что сердце Юлии стало мягче. — Хадасса грустно улыбнулась, подняла голову, посмотрела Атрету в глаза и слегка нахмурилась. — Но зачем она сообщила тебе обо мне?
— Потому что я посылал за тобой. После моего первого послания ко мне пришел юноша. Его зовут Прометей, и он сказал, что он твой друг. Он сообщил, что Юлия отдала тебя Элиму. Я обратился к Серту, он стал выяснять, где ты, и вот, я узнал, что ты здесь.
Хадасса подошла к Атрету ближе и обхватила его руки своими ладонями.
— Что же тебя так беспокоит, что ты проделал такой путь ради какой–то рабыни?
— Многое, — тут же ответил он, даже не спрашивая себя, почему ему хочется быть искренним с ней. — В том числе и то, что я не могу тебя вызволить отсюда.
— Не беспокойся об этом, Атрет.
Он отвернулся, его переполняло чувство гнева.
— На твоем месте должна быть Юлия, — резко сказал он, оглядывая холодные каменные стены камеры. — Это она должна страдать. — Сколько сотен, а может быть, тысяч людей ожидало смерти в этих стенах? И ради чего? Ради потехи римской толпы. Подходя к главным воротам, Атрет никак не мог избавиться от мрачных воспоминаний. — Это Юлия должна сидеть здесь и ожидать смерти. Не ты.
Он ненавидел Юлию настолько, что чувствовал во рту горечь этой ненависти, чувствовал жар этой ненависти в своей крови. С какой радостью он убил бы ее собственными руками, если бы это не кончилось тем, что он снова очутился бы в неволе и выходил сражаться на арену. А он скорее умрет, чем допустит такое.
Хадасса прикоснулась к нему, отвлекая его от мучительных размышлений.
— Не надо ненавидеть Юлию за то, что она натворила, Атрет. Она заблудилась на своих путях. Она неистово ищет счастья, а в результате ее засасывает в трясину. Вместо того чтобы стремиться к единственному, что в этом мире может ее спасти, она хватается за жалкие обломки. Я молюсь о том, чтобы Бог смилостивился над ней.
— Смилостивился? — поразился Атрет, глядя на Хадассу удивленными глазами. — Но почему ты молишься о милости для того, кто послал тебя сюда, на смерть?
— То, что сделала Юлия, дало мне удивительную радость. Атрет пристально посмотрел на девушку. Уж не сошла ли она с ума в заточении? Ее лицо всегда было до странности умиротворенным, но сейчас в ее лице было что–то большее. Что–то такое, что удивляло Атрета. В этом мрачном месте, в ожидании неминуемой ужасной смерти, Хадасса выглядела обновленной. Ее глаза были ясными, яркими — и полными радости.
— Я свободна, — сказала она. — Именно через Юлию Господь послал мне свободу.
— Свободу? — с горечью произнес Атрет и отвернулся к стене.
— Да, — сказала Хадасса. — Моим постоянным спутником, сколько я себя помню, был страх. Я боялась всю свою жизнь, Атрет, с той поры, когда была маленьким ребенком в Иерусалиме, и вплоть до события, которое произошло несколько дней назад. Я никогда не хотела покидать того уюта, который окружал меня в моем маленьком доме в Галилее, где я выросла, не хотела терять друзей, которых я знала. Я боялась всего. Я боялась остаться без людей, которых любила. Я боялась преследований и страданий. Я боялась смерти.
Ее глаза заблестели от слез.
— Но больше всего я боялась, что, когда наступит время испытаний, у меня не хватит смелости, чтобы сказать правду. И тогда Господь отвернется от меня.
Она развела руками.
— И вот, произошло как раз то, чего я боялась больше всего… Я стояла перед людьми, которые ненавидели меня, перед людьми, которые не имеют никакого понятия о вере, и я стояла перед выбором: отречься или умереть. И в своей душе я услышала зов, который Господь помог мне услышать по Своей благодати. И я выбрала Бога.
По щекам девушки текли слезы, но ее глаза сияли.
— И в этот момент, Атрет, со мной произошло самое поразительное, самое удивительное. В тот самый миг, когда я провозглашала Иисуса Христом, страх покинул меня. Его тяжесть исчезла, как будто ее никогда и не было.
— Разве ты никогда раньше не говорила об Иисусе?
— Говорила, но это было среди верующих людей, среди тех, кто любит меня. Там я не подвергала себя никакой опасности, говорила от всей души. Но в тот момент, перед Юлией, перед другими, я полностью подчинилась Божьей воле. Он есть Бог, и нет другого. И не сказать им истину я уже не могла.
— И теперь ты умрешь за это, — мрачно произнес Атрет.
— Если в нас нет того, ради чего стоит умереть, Атрет, то в нас нет и того, ради чего стоит жить.
Ему стало мучительно грустно от того, что этой молодой женщине предстоит умереть такой бессмысленной, унизительной смертью.
— Ты совершила глупость, Хадасса. Тебе нужно было сделать все для того, чтобы спасти себе жизнь. — Точно так же поступил сам Атрет и бесчисленное множество других людей до него.
— Ради того, что я никогда не смогу потерять, я расстаюсь с тем, что все равно не смогу сохранить.
Глядя на Хадассу, Атрет начал испытывать огромное желание обрести такую же веру, — веру, которая сможет дать покой и ему. Хадасса увидела его мучения.
— Тебе ненавистно это место, — тихо сказала она. — Что же привело тебя ко мне?
— Я видел сон. И не знаю, что он означает.
Она слегка нахмурилась.
— Я не провидица, Атрет. Я никогда не умела пророчествовать.
— Но сон связан с тобой. Он начал меня мучить в ту ночь, когда ты пришла ко мне в пещеру, и с тех пор не дает мне покоя. Ты наверняка знаешь, что он означает.
Хадасса чувствовала, в каком он отчаянии, и помолилась Богу о том, чтобы Он наделил ее умением дать Атрету нужный ответ.
— Сядь со мной и расскажи мне, — сказала она, чувствуя слабость после нескольких дней, проведенных в ужасных условиях заточения, без еды. — Я, может быть, и не знаю ничего про этот сон, но о нем знает Бог.
— Я иду сквозь темноту, и темно настолько, что я буквально чувствую, как эта темнота давит на меня. Все, что я могу видеть, — это мои руки. Я иду довольно долго, ничего не чувствуя, и вот, спустя какое–то время, вижу вдалеке храм Артемиды. Я приближаюсь к нему, и его красота поражает меня, как в тот день, когда я впервые увидел его, — только на этот раз статуи оживают. Они корчатся, извиваются. Когда я вхожу во внутренний двор, каменные лица смотрят на меня сверху вниз. Я вижу Артемиду, и тот символ, который у нее на голове, начинает светиться огненным светом.
— Что за символ?
— Символ Тиваза, бога лесов. Голова козы. — Атрет наклонился к девушке. — И вдруг статуя Артемиды начинает гореть. Жар настолько нестерпимый, что я убегаю прочь. Стены начинают рушиться, храм падает, и от него остается только несколько камней.
Хадасса коснулась руки Атрета.
— И что дальше?
— Все снова погружается в темноту. Я иду, хочу найти что–то вечное, незыблемое, и вот я вижу перед собой какого–то скульптора. Перед ним стоит сделанная им статуэтка, мое изображение. Она похожа на те, что продаются на рынке возле арены, но только эта настолько реальна, что мне даже кажется, будто она дышит. Скульптор берет молоток, и я знаю, что он собирается сделать. Я кричу ему, чтобы он не делал этого, но он одним ударом разбивает мое изображение на тысячи кусочков.
Весь дрожа, Атрет встал.
— Я чувствую боль, которую раньше никогда не испытывал. Я не могу пошевелиться. Вокруг себя я вижу свои родные места, лес, и я тону в болоте. Все, кто стоит вокруг меня, — отец, мать, жена, друзья — давно умерли или погибли. Я кричу, а они только смотрят, как я погружаюсь все глубже. Болото сдавливает меня, как та темнота. Но вот передо мной появляется какой–то человек, который протягивает мне руки. Его ладони в крови.
Хадасса наблюдала, как Атрет устало присел, откинувшись спиной к противоположной стене.
— Ты взял его за руку? — спросила она.
— Не знаю, — мрачно ответил Атрет. — Не помню.
— Ты проснулся?
— Нет. — Он медленно задышал, пытаясь говорить спокойно. — Еще нет. — Он закрыл глаза и судорожно сглотнул. — Я слышу крик младенца. Он лежит голеньким на берегу моря. Я вижу, что на него идет с моря волна, и знаю, что она его смоет. Я пытаюсь взять его, но его накрывает волной. И вот тут я просыпаюсь.
Хадасса закрыла глаза.
Атрет откинул голову назад.
— Расскажи мне. Что все это значит?
Хадасса молилась о том, чтобы Господь дал ей мудрости. Так она сидела довольно долго, склонив голову. Наконец, она подняла голову.
— Я не пророчица, — снова сказала она. — Толковать сны может только Бог. Но кое–что я, наверное, смогу объяснить точно.
— И что же?
— Артемида — каменный идол, и не более того. В ней нет никакой силы над тобой. Твоя душа понимает это. Наверное, именно поэтому горит ее статуя, а ее храм рушится. — Хадасса слегка нахмурилась. — Может быть, здесь скрыт и более глубокий смысл. Не знаю.
— А человек?
— Здесь как раз все ясно. Это Иисус. Я рассказывала тебе, как Он умер, как был пригвожден к кресту, как Он воскрес. Он протягивает к тебе Свои руки. Возьмись за них и держись. В этих руках твое спасение. — Она замолчала. — А вот ребенок…
— Я знаю о ребенке. — На лице Атрета отразились плохо скрываемые эмоции. — Это мой сын. Я думал о том, что ты сказала мне тогда, когда пришла в пещеру. Я посылал сообщить, что хочу взять ребенка к себе, когда он родится.
Заметив встревоженный взгляд Хадассы, Атрет резко встал и беспокойно зашагал по камере.
— Поначалу я подумал, что, если заберу его, это причинит боль Юлии. Но желание взять его к себе становилось непреодолимым. И я решил забрать его и вернуться в Германию. Я ждал, и вот, мне принесли весть. Ребенок родился мертвым. — Атрет издал смех, в котором было столько горечи. — Но это была ложь. Ребенок родился живым и здоровым. Она приказала бросить его в горах умирать. — Голос Атрета задрожал от слез, и он провел руками по волосам. — Я тогда сказал тебе, что даже если Юлия положит его к моим ногам, я отвернусь и уйду. Но именно это сделала она. Положила его на камни и ушла. Я возненавидел ее. Я возненавидел самого себя. Ты говоришь, что Бог смилостивился надо мной. Да уж, конечно, Бог смилостивился.
Хадасса встала и подошла к нему.
— Твой сын жив.
Атрет застыл на месте, глядя на нее сверху вниз.
Она дотронулась до его руки.
— Я не знала о том, что ты хотел забрать его, Атрет. Иначе я принесла бы его прямо к тебе. Пожалуйста, прости меня за ту боль, которую я тебе причинила, — Хадасса обессиленно опустила руку.
Атрет схватил ее за руку.
— Так ты говоришь, что он жив? Где он?
Хадасса помолилась Богу о том, чтобы все то, что она сделала, в дальнейшем было для людей Божьим благословением.
— Я отнесла твоего сына к апостолу Иоанну, и он передал младенца в руки Рицпы, молодой вдовы, потерявшей своего сына. Она полюбила его с того самого момента, как увидела.
Рука Атрета ослабла, и он отпустил Хадассу.
— Мой сын жив, — удивленно сказал он, и тяжесть боли и вины оставила его. Он закрыл глаза, испытывая невыразимое облегчение. — Мой сын жив. — Прислонившись спиной к стене, Атрет опустился на корточки, не в силах стоять на ногах. — Мой сын жив! — повторил он дрожащим голосом.
— Бог милостив, — тихо сказала Хадасса, нежно прикоснувшись рукой к волосам Атрета.
Это ласковое прикосновение напомнило ему о матери. Он взял руку Хадассы и прижал к своей щеке. Посмотрев на девушку, он снова увидел следы побоев на ее добром лице и исхудавшее тело, одетое в изорванную и грязную тунику. Она спасла его сына. Как же он уйдет отсюда, оставив ее умирать?
Он встал, решив немедленно действовать.
— Я пойду к Серту, — сказал он.
— Нет, — сказала Хадасса.
— Да, — решительно возразил он. Он никогда не сражался со львами и знал, что у него практически не будет шансов выжить, но он приложит к этому все свои силы. — Одно только слово, и завтра я буду биться на арене за твою свободу.
— Но моя свобода уже завоевана, Атрет. Битва уже закончена. Он уже победил. — Она крепко сжала своими руками его ладонь. — Как ты не понимаешь? Если ты выйдешь сейчас на арену, ты умрешь, так и не узнав Господа.
— Но что будет с тобой? — Завтра она окажется на арене, лицом к лицу с голодными львами.
— Все в Божьих руках, Атрет. Он все усмотрит.
— Ты умрешь.
— «Вот, Он убивает меня; но я буду надеяться», — сказала она. И улыбнулась Атрету. — Что ни делается, все — к исполнению Его воли и для Его славы. Мне не страшно.
Атрет долго изучал ее лицо, потом кивнул головой, подавляя в себе эмоции, разрывавшие его изнутри.
— Пусть будет так, как ты говоришь.
— Все будет по воле Господа.
— Я никогда тебя не забуду.
— И я тебя, — сказала она. Она рассказала ему, как разыскать апостола Иоанна, потом положила свою руку на его руки и молча посмотрела на него взглядом, излучавшим мир и покой. — Ну а теперь иди из этой обители смерти и не оглядывайся.
Она вышла в темный коридор и позвала стражника.
Атрет стоял в коридоре с факелом в руке, когда пришел стражник и открыл дверь камеры. В тот момент Хадасса еще раз повернулась к Атрету и посмотрела на него своими добрыми глазами.
— Да благословит и да хранит тебя Господь, и да воссияет Его лик над тобой, и да будет Он милостив к тебе. Пусть Он обратит Свой лик к тебе и даст тебе мир и покой, — сказала она с доброй улыбкой. Отвернувшись, она исчезла во мраке камеры. Оттуда раздался шум приветствия заключенных, потом дверь с глухим и непреклонным звуком захлопнулась.
37
Хадасса осторожно прошла между узниками и снова села рядом с маленькой девочкой и ее матерью. Поджав колени, она положила на них голову. Она думала об Атрете, который был в плену горечи и ненависти, и молилась о нем. Она молилась о том, чтобы Юлия свернула с пути смерти, который она для себя выбрала. Она благодарила Бога за Децима, за то, что он вошел в Божье Царство, и молилась о том, чтобы Феба тоже нашла путь к Господу. Она молилась о том, чтобы Бог открыл Прометею путь к спасению. Она молилась о том, чтобы Бог проявил милость к Приму и Калабе. Всю оставшуюся ночь она молилась.
И, наконец, Хадасса подумала о Марке. Ее сердце сжалось от боли, и на глазах выступили горячие слезы. «О, Господи, Ты знаешь желание моего сердца. Ты знаешь, чего я хочу для него. Умоляю тебя, Господь, открой ему глаза. Открой ему глаза, чтобы он мог увидеть истину. Призови его к Себе, Господи, и пусть его имя будет записано в книге жизни».
Факел догорел, и кто–то заплакал в наступившей тьме.
— Мне страшно, — раздался чей–то женский голос.
— Господь оставил нас, — вторил мужской голос.
— Нет, — сказала Хадасса своим тихим и добрым голосом. — Господь нас не оставил. Даже во тьме не сомневайтесь в том, что Бог дал нам свет. Господь с нами. Он сейчас здесь. Он никогда нас не оставит.
Она тихо запела, и многие подхватили. Спустя минуту Хадасса снова склонила голову, используя то время, что ей осталось, чтобы помолиться за тех, кого она любила. За Марка, Фебу. И за Юлию.
Когда наступило утро, дверь открылась, и в камеру вошел молодой стражник, который накануне приходил с Атретом.
— Слушайте меня внимательно, — сказал он, глядя прямо в глаза Хадассе. — Сегодня вы умрете. И если вы хотите, чтобы все прошло быстро, запомните сейчас, что я вам скажу. Львы, которых морили голодом, не обязательно будут свирепыми. Они ослабели, и их легко напугать, особенно, когда толпа начнет шуметь. Вы для них — непривычная добыча. Дальше делайте так. Старайтесь вести себя как можно спокойнее. Поднимите руки широко вверх. Медленно пошевелите руками и подвигайтесь, чтобы львы поняли, что вы живы и не представляете для них угрозы. Тогда они сразу бросятся на вас. И все для вас кончится быстро. С минуту он помолчал, по–прежнему глядя на Хадассу.
— Все, за вами идут.
Хадасса встала.
— Да благословит тебя Господь за твою доброту.
Он отвернулся. Все узники поднялись и стали петь песнь хвалы Господу, и вся камера наполнилась их пением. Вошли другие стражники. С криками они стали выталкивать узников в темный коридор, потом наверх, по лестнице, к воротам. Хадасса услышала издалека тяжелый шум, напоминающий раскаты грома. Солнечный свет, отражавшийся в рыхлом песке арены, ослепил ее.
Послышался скрежет металла, это открывались ворота.
— Выходите на середину! — снова закричали стражники, выталкивая пленников на арену. — Быстрее! Пошевеливайтесь! — Раздался звук удара, и кто–то из узников закричал от боли и наткнулся на Хадассу.
Она взяла этого человека за руку и помогла ему дойти до ворот. Затем она улыбнулась ему, отпустила его и пошла на арену. За ней последовали остальные.
После нескольких дней пребывания во тьме солнечный свет показался Хадассе нестерпимым. Она подняла руки, чтобы закрыть глаза. В ее адрес, как и в адрес других узников со всех сторон стали раздаваться насмешки и оскорбления. «Позовите своего Бога, может, Он спасет вас!» — закричал кто–то, и эти слова были подхвачены дружным хохотом толпы. «Уж больно они худы, львы будут недовольны!» — закричал другой, и в узников полетели гнилые фрукты, овощи и обглоданные кости. «Выводите львов! Выводите львов!»
Хадасса посмотрела наверх, на эту беснующуюся толпу, опьяненную своей жестокостью и жаждущую крови, ее крови. «Боже, будь милостив к ним», — прошептала она, и ее глаза наполнились слезами.
Когда раздалось львиное рычание, Хадасса почувствовала знакомый холод, от которого все замерло у нее внутри. У нее перехватило дыхание, а во рту пересохло. К Хадассе приближался ее старый враг, но она знала, как с ним бороться. Собрав все силы, она обратилась с молитвой к Господу.
«О, Иисус, будь со мной сейчас. Будь рядом и дай мне силы, чтобы я могла прославить Тебя», — молилась она. К ней снова пришло спокойствие, страх отступил, и она ощутила радость от того, что она пострадает за Господа.
Открылись другие ворота, и толпа дико закричала, когда на арену выпустили около десятка львов. Испугавшись шума толпы, звери прижались к стенам, не обращая никакого внимания на группу изможденных узников, стоявших посередине арены.
— Мама, я боюсь, — захныкала девочка.
— Помни о Господе, — ответила ей мать.
— Да, — улыбаясь, сказала девочке Хадасса, — Помни о Господе. — Она отделилась от остальных узников и спокойно пошла к центру арены, запев песнь хвалы Богу.
Толпа взревела еще громче. Рабы стали тыкать львов тупыми копьями, отгоняя их от стен. Те, огрызаясь, стали недовольно отступать к центру арены. Одна львица повернулась в сторону Хадасса и припала к земле. Продолжая петь, Хадасса медленно раскинула руки и подняла их вверх. Видя, что стоящая перед ней фигура жива и ничем ей не угрожает, львица бросилась на девушку под рев пришедшей в неистовство толпы. Расстояние между ними моментально сократилось, и львица, высунув когти и разинув пасть, прыгнула на выбранную жертву.
* * *
Юлия засмеялась и толкнула Марка в бок.
— Не смеши меня больше так, Марк, — сказала она, удобно откинувшись на скамье, не в силах удержаться от хохота.
— Могу же я повеселить свою любимую сестренку, — отозвался он, также откинувшись на спинку скамьи и удобно поставив ноги на маленькую подставку. — Ты ведь так жаждала пообщаться со мной.
— Кто же еще умеет так рассмешить меня, как не ты? — заметила Юлия и щелкнула пальцами. — Не отвлекайся, девочка, — сказала она, и ее новая служанка снова замахала над ней опахалом. Марк слегка улыбнулся, разглядывая изящный стан служанки.
— Что, новое приобретение?
— Я рада, что ты стал таким, как раньше, — удовлетворенно сказала Юлия. — Она мила, не правда ли? Уж, по крайней мере, гораздо красивее Хадассы, — добавила она, исподтишка взглянув на него.
Марк рассеянно усмехнулся и стал смотреть на выходящих на арену гладиаторов, которые приветствовали зрителей. Сегодня он не хотел думать о Хадассе. Он пришел на зрелища, чтобы забыться.
И кровопролитные схватки должны были послужить прекрасным успокоительным средством и избавить Марка от подавленного состояния.
— Сегодня сражаются Капито и Секунд, — сказал он, зная, что Юлия наблюдает за ним. Она была сегодня какой–то задумчивой, и он не знал, почему.
— Да, я читала. Как думаешь, кто победит?
— Секунд.
— О-о, но он такой скучный. Ковыляет по арене, как старый бык.
— Вот именно благодаря такому ковылянию он все время побеждает, — сказал Марк. — Он только ждет своего момента, а потом безошибочно нападает. — Торжественная часть тем временем закончилась, колесницы с гладиаторами уехали с арены. Снова раздались громкие звуки труб, возвещающие о начале зрелищ. Зрители зашумели, стали переговариваться между собой. Марк встал.
Юлия тоже привстала.
— Ты куда?
— Пойду, куплю немного вина. — Марк посмотрел на безоблачное небо. — Уже жарко. От навесов все равно никакого толку.
— У меня есть вино, высшего качества, нам с тобой хватит на весь день. Не уходи. Зрелища уже начинаются.
— В начале все равно ничего интересного не будет. Скормят львам каких–нибудь преступников. Настоящие поединки начнутся нескоро.
Юлия удержала его.
— Сядь, Марк. Мы и так с тобой редко общаемся. А за всем тем, что нам нужно, сходить может и Прим. Правда, Прим?
— Конечно, дорогая. Все, что только душа твоя пожелает.
— Садись, Марк, — умоляюще сказала Юлия, — ну пожалуйста. Мы давно не ходили с тобой вместе на зрелища. И мне никогда не было так весело, как в те дни, когда я была с тобой. Ты так хорошо разбираешься во всем, что произойдет, чем все кончится. Всегда помогаешь мне заметить то, на что я сама никогда бы не обратила внимания.
Марк сел рядом с ней. Он чувствовал, как она волнуется.
— Что случилось, Юлия?
— Ничего, кроме того, что я хочу, чтобы все между нами было, как прежде. Я хочу вернуться к той жизни, какая была у нас в Риме, еще до того, как я вышла за Клавдия, до того, как кто–то встал между нами. Ты помнишь, Марк, как ты впервые привел меня на зрелища? Мне тогда было так весело. Я была таким ребенком. Ты смеялся надо мной, потому что меня тогда легко было смутить. — Она невольно улыбнулась от воспоминаний.
— Однако ты быстро ко всему привыкла, — грубовато заметил Марк, усмехнувшись.
— Да, и ты мной гордился. Ты еще сказал, что я настоящая римлянка. Помнишь?
— Да, я помню.
— Все будет по–прежнему, Марк. Обещаю тебе. С завтрашнего дня мы забудем все, что было между нами потом. Мы забудем всех, кто нас обидел.
Слегка нахмурившись, Марк прикоснулся к ее щеке. Он вспомнил о Кае и об Атрете. Юлия никогда не упоминала ни об одном из них, но он знал, что оба оставили в ее душе раны, глубокие раны, которые она скрывала даже от него.
— Ты любишь меня, Марк? — спросила Юлия, и в ее глазах отразилась ревность.
— Да, конечно.
Но Юлия видела, что эта любовь была уже не такой, как когда–то. Лицо брата стало каким–то настороженным, в нем отражалась какая–то боль. Но скоро все изменится. Сегодняшний день уничтожит прошлое и исцелит его раны — и ее тоже.
— Ты единственный человек, на которого я могу положиться, Марк, — сказала Юлия и взяла его за руку. — Ты единственный человек, который любит меня, что бы я ни делала. Другие только встают у нас на пути и хотят все изменить. Пусть же они получают свое. Нам с ними не по пути.
— Но я никогда не переставал любить тебя, Юлия.
— Возможно, ты и прав, но между нами многое изменилось. И это произошло по вине других людей. Я видела, как ты иногда смотрел на меня: как будто я стала для тебя совсем чужой. Но ты же знаешь меня, Марк. Ты знаешь меня так же хорошо, как самого себя. Мы с тобой практически одинаковы, две горошины из одного стручка. Ты просто забыл об этом.
Ее рука была холодной и твердой.
— Что случилось, Юлия? — повторил Марк, глядя на нее тревожным взглядом.
— Ничего, — сказала она. — Все хорошо. Или будет хорошо. Я в этом просто уверена.
— В чем?
— У меня для тебя сюрприз, Марк.
— Какой сюрприз?
Она засмеялась.
— Ну уж нет. Сейчас я тебе ничего не скажу. Подожди, и все увидишь. Правда, Калаба?
Калаба слегка улыбнулась своими холодными черными глазами.
— Зрелища уже начались, Юлия.
— О, да, — увлеченно сказала Юлия, еще крепче сжав в своей руке руку Марка. — Да, зрелища начались. Давай смотреть, Марк. Сейчас увидишь, что я тебе приготовила.
Марка охватило ужасное предчувствие.
— Что ты сделала? — спросил он, изо всех сил стараясь, чтобы его голос оставался спокойным и твердым.
— Смотри! — сказала Юлия, указывая правой рукой. — Открывают ворота. Видишь их? Грязные, вонючие твари. Они заслужили смерти. Все до единого. Смотри! Видишь? Христиане!
Чувствуя, как сердце у него подпрыгнуло, Марк смотрел, как на арену выходят отвыкшие от солнечного света узники.
О боги!..
Даже издали он сразу узнал Хадассу. Ему казалось, что сейчас у него остановится сердце.
— Нет! — закричал он, но его крик в реве толпы был подобен шепоту. Марк не хотел верить своим глазам.
— Да! Это Хадасса, — сказала Юлия, увидев, как побледнел ее брат. — И сейчас она получит то, что заслуживает.
Марк смотрел, как Хадасса спокойно шла впереди, а за ней шли остальные узники.
— Что ты натворила, Юлия?!
— Я слышала, что она тебе сказала! Я слышала, как она отвергла твою любовь. Она поставила своего Бога выше тебя, и ты сказал, что пусть она остается со своим Богом. Вот она сейчас и отправится к Нему.
— Неужели это ты? — в голосе Марка были отчаяние и ненависть. Он вырвал свою руку из объятий Юлии, ему хотелось ударить сестру. — Что она тебе сделала?
— Она сама этого хотела. Я взяла ее с собой на пир к Вителлию.
— Ты же знаешь, что Вителлий ненавидит иудеев!
— Да, ненавидит, и правильно делает. Потому что это самый мерзкий народ на земле! Ты бы видел, сколько в них гордости. Они становятся непокорными уже в утробе матери. И она не отреклась. Я видела это. Я сама это видела! Она стояла передо мной и смотрела на меня такими томными, грустными глазками, как будто жалела меня.
— Но она же спасла тебе жизнь! Или ты забыла, как Кай едва не убил тебя? И после этого ты отправляешь ее на смерть?
— Она рабыня, Марк. И когда она меня защищала, она лишь делала то, что должна была делать. Мне что, благодарить ее за это? Да ее жизнь и гроша ломаного не стоит.
Марк почувствовал, как в нем нарастает такое отчаяние, что он едва мог дышать.
— Ее жизнь — для меня все! Я люблю ее! — закричал он.
Тут толпа дико взревела, Марк повернулся и увидел, что на арену вышли львы. Он вскочил на ноги.
— Нет! Она ни в чем не виновата! Она не причинила никому зла!
— Никому? — Юлия встала рядом с ним, схватив его за руку. — Она поставила своего Бога выше тебя. Она поставила своего Бога выше Рима! Она — смрад для моих ноздрей, заноза в моем теле, и я хочу уничтожить ее, чтобы она исчезла с лица земли. Я ненавижу ее! Ты слышишь? — Она повернулась к арене. — Да! Отгоните львов от стены!
— Нет! — Марк отшвырнул Юлию. — Хадасса, назад! Наза–а–ад!
— Отгоните львов от стены! — закричала Юлия с еще большим остервенением.
— Нет! — продолжал кричать Марк, отталкивая вцепившуюся в него сестру. — Хадасса, вернись назад!
Рев толпы стал еще громче, когда Хадасса спокойно пошла к центру арены. Львица пригнулась. Хадасса медленно раскинула руки в стороны и подняла их вверх, как будто приветствуя дикое животное, которое уже мчалось на нее.
— Не–е–ет! — снова закричал Марк, и его лицо исказилось от страха и боли, когда он увидел, как львица сбила девушку с ног. В этот момент он отвернулся — и почувствовал, что в нем как будто что–то умерло.
— Все! — победоносно воскликнула Юлия. — Все кончено!
По трибунам пронесся неудержимый гул восторга. Зарычали другие львы. Раздались крики страха и боли, и кто–то возле Марка засмеялся: «Смотри, как они разбегаются!» — другой вторил ему: «А ты глянь, как эти львы дерутся за первую девчонку!».
И в этот момент Бог ответил на молитву Хадассы.
Марк снова повернулся к арене, и его глаза вдруг открылись, когда он уставился на Хадассу, лежавшую на песке, на ее изорванную и окровавленную тунику. Над ее телом дрались две львицы, раздирая друг друга своими когтями. Одна вцепилась зубами в ногу Хадассы и пыталась оттащить ее в сторону. Другая снова напала на первую.
— Я отплатила ей за все, что она с нами сделала, — сказала Юлия, хлопая Марка по плечу. — Теперь о ней можно забыть.
— Я не забуду ее никогда, — хрипло произнес Марк и крепко схватил Юлию за руки, глядя на нее, как на что–то омерзительное и ненавистное. — Но я забуду тебя.
— Марк, — захныкала Юлия, испугавшись выражения его глаз, — ты делаешь мне больно!
— У меня никогда не было сестры, — продолжал Марк, отталкивая ее от себя. — И будь ты проклята всеми богами за все, что ты сделала!
Юлия вскочила, уставившись на брата, ее лицо побелело, глаза округлились от изумления.
— Как ты можешь так говорить? Я же сделала это ради тебя! Я это сделала ради тебя!
Марк отвернулся, как будто не слышал ее слов, как будто ее вообще не существовало на свете.
— Калаба, она нужна тебе? — спросил он низким, полным ненависти голосом.
— Она всегда была мне нужна, — сказала Калаба, и ее глаза сверкнули черным пламенем.
— Забирай ее. — С этими словами Марк повернулся и пошел прочь, оттолкнув Прима, возвращавшегося с винными мехами: — Прочь с дороги!
— Нет! — закричала Юлия. — Остановите его! Марк, вернись!
Калаба схватила ее за руку крепкой, неослабевающей хваткой.
— Поздно, Юлия. Ты свой выбор уже сделала.
— Пусти меня, — закричала Юлия, истерически рыдая. — Марк! — Изо всех сил она старалась вырваться, чтобы догнать брата. — Отпусти!
— Он ушел, — удовлетворенно сказала Калаба.
Юлия посмотрела на Хадассу, лежавшую на пропитанном кровью песке. Глядя на неподвижное тело, она вдруг почувствовала внутри какую–то пустоту.
— Марк! — отчаянно закричала Юлия. — Марк!
* * *
Не в силах пробраться через толпу, чтобы уйти отсюда, Марк стал расталкивать кричащих зрителей. Рев толпы оглушал его своей дикой страстью, жаждой человеческой крови и страданий, ненасытностью, бешенством. С трудом дойдя до прохода, Марк спустился по ступеням и устремился к воротам. Выбежав через открытые ворота, он ничего не видел от слез. Он не знал, куда идет, ему было все равно. Он побежал, чтобы убраться подальше от этих звуков, этих запахов, от того, что сейчас стояло у него перед глазами. Он бежал, пытаясь избавиться от стоявшей перед глазами картины, — лежащая на песке Хадасса и дерущиеся из–за нее львы, для которых она была лишь еще одним куском мяса.
Марк задышал чаще, и горячий воздух обжигал его легкие. Он бежал до тех пор, пока силы не оставили его и он не споткнулся на вымощенной мрамором улице, заставленной мраморными идолами, которые ничем не могли ему помочь. Городские улицы были почти пустыми, потому что все жители собрались на арене и наслаждались зрелищами. Во избежание воровства на всех углах были расставлены легионеры. Когда Марк пробегал мимо них, они внимательно провожали его глазами.
Прислонившись к какой–то стене, он поднял голову и посмотрел на объявление об этих зрелищах. Уставившись на него, Марк вспомнил, сколько раз он сидел на этих трибунах, смотрел, как на арене проливается невинная кровь, и его это совершенно не трогало. Он вспомнил, как смеялся, когда гладиаторы отдавали все силы, чтобы выжить на арене, как сквернословил, когда поединок смерти затягивался. Он вспомнил, как скучал, когда узников отдавали на съедение диким зверям или прибивали гвоздями к крестам.
Вспоминая это, он думал о том, что сам стал виновником смерти Хадассы.
Издалека донесся такой знакомый рев толпы… Ненасытное отродье! Марк закрыл уши, и тогда откуда–то изнутри до него стал доноситься совсем другой звук — крик боли и отчаяния, крик совести и вины. Этот крик вырывался из его сердца и отдавался эхом по опустевшим улицам.
— Хадасса!
Марк опустился на колени. Согнувшись, он закрыл лицо руками и заплакал.
ЭПИЛОГ
«Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти…»
Псалтирь 32:18–19История не заканчивается!
Не упустите возможность познакомиться с захватывающим и динамичным продолжением истории о Хадассе, Марке и Юлии в романе «Эхо во тьме», второй книге увлекательной новой серии романов Фрэнсин Риверс с общим названием «Под знаком льва».
ЭХО ВО ТЬМЕ
1
Александр Демоцед Амандин стоял у Ворот Смерти и ждал возможности больше узнать о жизни. Никогда не испытывавший большого удовольствия от зрелищ, он пришел к этому месту без всякой охоты. Но теперь его поразило то, чему он оказался свидетелем, потрясло до глубины души.
Бешенство толпы всегда не давало ему покоя. Его отец говорил, что есть люди, которые испытывают наслаждение, наблюдая, как совершаются зверства и насилие над другими, и теперь Александр вспомнил его слова, когда краем глаза видел, с какими радостными лицами смотрели зрители на происходящее на арене. Александр нахмурился. Наверное, те, кто наблюдал весь этот ужас, благодарили богов за то, что это не они стоят сейчас лицом к лицу со львами или с натренированными гладиаторами — со всем тем, что таит в себе смерть. Создавалось впечатление, что тысячи людей одновременно испытывали неимоверное облегчение, улучшение самочувствия, видя, как на арене льется кровь, будто эта запланированная мясорубка могла защитить их от растущего хаоса в насквозь прогнившем и деспотичном мире. Ведь в то же время в империи происходили ужасные вещи, но — в этот непосредственный момент — они не происходили с элитой, с теми, кто верой и правдой служит Риму. Александр грустно улыбнулся при мысли, что вряд ли кто–то из присутствовавших здесь понимал то, что было очевидно для него: запах крови на песке не слабее запаха похоти и страха, который пропитывал всех и вся в этой Империи. Казалось, им был наполнен воздух, которым люди дышали.
Однако сегодня… сегодня происходило что–то особенно тревожное. Что–то такое, что заставило молодого человека испытать такие чувства, какие он редко испытывал раньше. Сейчас он во все глаза смотрел на упавшую девушку и чувствовал необъяснимое возбуждение.
Амандин вцепился руками в прутья железной решетки и во все глаза смотрел на песок арены, на котором теперь лежала эта девушка. Она только что отделилась от остальных жертв — такая спокойная и даже радостная. Потом Александр вспоминал, что она почему–то сразу привлекла его внимание. Будучи талантливым врачом, он умел замечать все необычное, все, что выделяло человека из массы остальных, вот и теперь он видел в ней нечто удивительное… Нечто, не поддающееся никакому описанию.
И тут девушка запела, и на какое–то мгновение ее голос донесся до его ушей.
Рев толпы быстро заглушил ее голос, но она продолжала идти вперёд, безмятежно ступая по песку, по направлению к Александру. С каждым ее шагом у него все сильнее билось сердце. В ее внешности не было ничего особенного, и в то же время от нее исходило какое–то сияние, ее окружал какой–то свет, который можно было не столько увидеть, сколько почувствовать. Было такое впечатление, что ее протянутые вверх руки обнимали его.
В этот момент львица сбила ее с ног, и Александру показалось, будто с ног сбили его самого.
Он закрыл глаза, по всему его телу пробежала дрожь, потом он снова посмотрел на нее. Два льва дрались за ее тело. Александр вздрогнул, когда один из львов вонзил клыки глубоко в бедро девушки и стал ее оттаскивать. Но тут на него прыгнула львица, два зверя сцепились и стали рычать друг на друга.
В следующую секунду какая–то маленькая девочка с пронзительным криком пробежала мимо железных ворот. Александр стиснул зубы, прислонившись лбом к железным прутьям; суставы его пальцев, сжимавших прутья решетки, побелели. Вид страданий и смерти поразил его и вызвал в нем чувство глубокого отвращения.
Сколько он себя помнил, ему много раз приходилось слышать доводы в пользу таких зрелищ. Люди, которых отправляли на арену, — преступники, заслуживающие смерти. А те, которые сейчас гибли на его глазах, являются последователями какой–то религии, которая призывает к свержению Рима.
Но теперь молодому врачу не давала покоя мысль о том, а не заслуживает ли смерти само то общество, которое способно убивать беззащитных детей.
Когда нечеловеческие крики ребенка внезапно прекратились, Александр издал глубокий вздох, едва сдерживая себя. Стражник, стоявший за его спиной, громко рассмеялся.
— Да она ею и не наестся.
Александр ничего не ответил. Ему хотелось закрыть глаза, чтобы не смотреть на всю эту бойню, но теперь за ним наблюдал стражник. Александр буквально чувствовал холодный блеск тяжелых темных глаз, сверкающих сквозь забрало отполированного шлема. Если он хочет стать хорошим врачом, ему придется преодолевать свои эмоции. Флегон много раз говорил ему, что, если он хочет преуспеть в своей работе, ему придется стать черствее. В конце концов, Александр усваивал то, что говорил ему его учитель: смерть является значительной частью жизни врача.
Александр глубоко вздохнул и заставил себя снова взглянуть на арену. Он понимал, что без таких зрелищ у него не будет возможности изучить человеческую анатомию. Флегон сказал, что Александр уже достиг блестящих успехов в изучении теоретических трудов и рисовании. И теперь, если он собирался узнать, что необходимо, для того чтобы уметь спасать человеческие жизни, оставалось освоить вивисекцию. Зная о неприязненном отношении Александра к такой практике, старый медик оставался непреклонен и не желал слышать от ученика никаких отговорок. Как он собирается делать хирургические операции, не изучив анатомию? Никакие схемы и рисунки не сравнятся с живым человеческим организмом. А в Риме анатомию можно было изучать только таким способом.
В душе Александр проклял римский закон, запрещающий вскрытие мертвецов, который вынуждал врачей практиковаться на умирающих. И единственным местом, где этим можно было заниматься, были зрелища, где приходилось выбирать из преступников.
Жертвы гибли одна за другой, их крики ужаса постепенно сменялись относительным спокойствием насыщавшихся львов. И тут раздался еще один звук, дававший Александру сигнал, что его час пробил, — стон разочарования недовольных зрителей. «Представление» закончилось. Пусть львы теперь насыщаются в темных чревах своих клеток, а не раздражают толпу таким скучным пиршеством.
Распорядитель зрелищ тут же приложил все усилия, чтобы успокоить недовольную публику. Раздался скрип открываемых ворот, и вооруженные дрессировщики вышли, чтобы загнать зверей обратно в клетки. Из–за спин дрессировщиков показался человек, одетый Хароном, проводником душ умерших. Глядя, как актер танцует над телами погибших, Александр молился о том, чтобы хоть в одной из жертв еще теплилась искорка жизни. Если этого не произойдет, ему придется остаться здесь до тех пор, пока не подвернется другая возможность.
Врач смотрел на песок, пытаясь найти в ком–нибудь из лежащих хоть какие–то признаки жизни. И тут его взгляд снова остановился на юной девушке. Рядом с ней не было никаких львов, и ему это показалось любопытным, потому что она находилась далеко от людей, отгоняющих львов к воротам. Прищурив глаза, он пристально всматривался в ее неподвижное тело, и в следующую секунду вдруг почувствовал всплеск восторга. Неужели ему только показалось, или она шевельнулась? Наклонившись вперед, он стал смотреть на нее во все глаза. Ее губы шевелились!
— Вон та, — быстро сказал он стражнику, — которая ближе к центру.
— На нее напали в самом начале. Она мертва.
— Я хочу осмотреть ее.
— Ну как хочешь, — стражник вышел вперед, сунул два пальца в рот и два раза быстро и резко свистнул. Александр посмотрел, как Харон в ответ подбежал к девушке, слегка склонился над ней, повернул свою украшенную перьями и клювом голову, как бы прислушиваясь к каким–либо признакам жизни, театрально размахивая в воздухе своей колотушкой, готовясь опустить ее вниз, если бы такие признаки обнаружились. Видимо, решив, что девушка мертва, он схватил ее за руки и бесцеремонно потащил к Воротам Смерти.
В этот момент одна из львиц повернулась к укротителю, который загонял ее в туннель. Толпа встала и в восторге закричала. Укротитель едва справился с львицей, чтобы не стать жертвой ее нападения. Он умело орудовал своей плетью, чтобы отогнать львицу от поедаемой ею девочки и загнать в подтрибунные помещения, в клетку. Стражник воспользовался тем, что толпа отвлеклась, и открыл ворота шире.
— Быстрее! — прошипел он, и Харон вбежал в ворота, положив девушку в тень. Стражник щелкнул пальцами, и два раба быстро взяли ее за руки и за ноги и потащили в тускло освещенный коридор.
— Аккуратнее! — сердито сказал им Александр, когда они подняли ее на грязный и забрызганный кровью стол. Он оттолкнул их от стола, уверенный в том, что, даже если эта девушка была жива, эти увальни своим неосторожным обращением уже, наверное, доконали ее.
Тут тяжелая рука стражника опустилась на руку Александра.
— Шесть сестерциев, прежде чем ты начнешь ее резать, — холодно произнес он.
— Не многовато ли?
Стражник расплылся в улыбке.
— Для ученика Флегона не так уж и много. Чтобы добиться его расположения, нужно иметь сундук, набитый золотом. — С этими словами он убрал руку.
— Только он быстро опустошается, — сухо парировал Александр, открывая висящий на поясе кошель. Он не знал, сколько сможет проработать с этой девушкой, пока она не умрет, поэтому ему не хотелось тратить лишние деньги. Стражник принял взятку и отошел.
Александр стал осматривать девушку. Ее лицо представляло собой месиво из изодранной плоти и песка. Ее туника была вся в крови. Она потеряла столько крови, что он не сомневался, что она мертва. Но, наклонившись над ней и приложив ухо к ее губам, Александр поразился, почувствовав мягкое и теплое дыхание жизни. Времени на работу было очень мало.
Дав знак своим помощникам, врач взял полотенце и вытер руки.
— Унесите ее вон туда, подальше от шума. Быстрее! — Два раба поспешили исполнить его приказание. Раб Флегона, Трой, стоял тут же и наблюдал за происходящим. Александр сжал губы. Он восхищался способностями Троя, но не был в восторге от его бесцеремонных манер.
— Принесите сюда еще огня, — сказал Александр, щелкнув пальцами. Рядом поставили факел, и молодой медик снова склонился над девушкой, лежащей в небольшом алькове тускло освещенного коридора. Именно ради этого он пришел сюда и вынес все ужасы зрелищ: чтобы срезать кожу и мышцы брюшной полости и изучить скрытые под ними органы. Набравшись смелости, Александр расстегнул свою кожаную сумку, в которой хранились его хирургические инструменты, и открыл ее. Потом вынул оттуда тонкий и острый, как бритва, нож.
Руки у него вспотели. Хуже было то, что они тряслись. Пот выступил и на лбу, и Александр чувствовал, как Трой своим критическим взглядом наблюдает за ним. Времени почти не оставалось; нужно было работать быстро и за несколько коротких минут узнать все, что только можно.
Александр вытер пот со лба и молча проклял себя за свою слабость.
— Она ничего не почувствует, — тихо сказал ему Трой.
Стиснув зубы, Александр сделал надрез на одежде девушки и разорвал ее тунику по шву, после чего осторожно откинул ткань в сторону и осмотрел девушку своим профессиональным взглядом. Спустя мгновение он, нахмурившись, отклонился назад. Вся верхняя часть ее тела до пояса была покрыта неглубокими ранами и темнеющими кровоподтеками.
— Поднеси сюда факел, — приказал он, наклонившись над ранами на ее голове и снова оценивая их характер. От края волос и дальше вниз по щеке ее голову покрывали темные борозды. Другая такая борозда проходила по шее, едва не задев пульсирующую артерию. Александр продолжал пристально осматривать девушку, обращая внимание на глубокие точечные раны на правом предплечье. Кости были сломаны. Но самое худшее состояло в том, что на ее бедре были раны, оставленные зубами львицы, когда та пыталась оттащить ее.
Глаза Александра округлились. Девушка непременно умерла бы, если бы песок не закрыл ей раны и тем самым не остановил кровотечение. У врача перехватило дыхание. Одно быстрое и умелое движение ножом — и он может начать свое изучение. Одно быстрое и умелое движение ножом… и она умрет.
Пот катился по его вискам, сердце снова бешено заколотилось. Он видел, как еле заметно вздымается и опускается грудь девушки, видел, как едва пульсирует вена на ее шее, и ему стало не по себе.
— Она ничего не почувствует, мой господин, — снова сказал Трой. — Она ведь без сознания.
— Вижу! — нетерпеливо ответил Александр, одарив слугу мрачным взглядом. Он подошел к ней, держа в руке нож. Днем раньше он работал над каким–то гладиатором, и за несколько минут узнал о человеческой анатомии гораздо больше, чем за многочасовые лекции. К счастью, тот бедняга так и не открыл глаз, но его раны были куда ужаснее, чем у этой девушки.
Александр закрыл глаза и весь напрягся. Он наблюдал за тем, как работает Флегон. У него в ушах до сих пор стояли слова учителя, которые тот произносил, ловко орудуя ножом:
— Работать надо быстро. Вот как я сейчас. Когда берешь их, они уже при смерти, и шок может убить их моментально. Не теряй времени, думая над тем, что они там чувствуют. За то короткое время, которое боги тебе отпускают, ты должен все узнать. Когда сердце остановится, ты должен уходить, иначе почувствуешь на себе всю тяжесть гнева богов и римского закона. — Тот мужчина, над которым тогда работал Флегон, прожил под его ножом всего несколько минут, после чего умер здесь же, на столе, от потери крови… Но его крики по–прежнему стояли в ушах Александра.
Он снова взглянул на Троя.
— Сколько раз такое проделывали на твоих глазах, Трой?
— Столько, что я уже давно сбился со счета, — ответил египтянин, скривив губы в сардонической усмешке. Он прочитал на лице молодого врача удивление. — То, что ты узнаешь сегодня, завтра другим спасет жизнь.
Девушка простонала и зашевелилась на столе. Трой щелкнул пальцами, и к столу подошли еще двое слуг.
— Держите ее за руки и за ноги, чтобы она не дергалась.
Когда один из рабов взял девушку за сломанную руку, она вскрикнула. «Иешуа», — прошептала она, и ее глаза слегка приоткрылись.
Александр неподвижно смотрел на нее, и в его взгляде отразились боль и растерянность. Она была не просто телом, над которым можно было бы проводить опыты. Она была страдающим человеческим существом.
— Мой господин, — сказал Трой уже твердым голосом, — действовать нужно быстро.
Девушка пробормотала что–то на непонятном языке, и ее тело обмякло. Нож выпал из рук Александра и зазвенел, ударившись о каменный пол. Трой обошел вокруг стола и подобрал нож, снова протянув его Александру.
— Она умирает, — сказал он, переводя взгляд с Александра на девушку.
— Дай мне кувшин с водой.
Трой нахмурился.
— Что ты собираешься делать? Снова оживить ее?
Александр взглянул на его насмешливое лицо.
— Ты смеешь задавать мне вопросы?
Трой посмотрел на молодого аристократа. Каким бы опытом или мастерством ни обладал египтянин, ему все же не следовало забывать, что он все равно остается рабом и что ему не следует бросать вызов этому молодому человеку. Сдержав гнев и гордость, Трой отступил назад.
— Прости меня, мой господин, — сказал он ровным голосом, — Я только хотел напомнить, что она приговорена к смерти.
— Значит, боги сохранили ей жизнь.
— Для тебя, мой господин. Боги сохранили ей жизнь, чтобы ты мог обрести навыки, необходимые для врача.
— Но я не стану ее убийцей!
— По повелению проконсула она уже мертва. Это не твое дело. Не по твоей же воле ее отправили на съедение львам.
Александр взял из рук Троя нож и положил его обратно в сумку.
— Я не осмелюсь гневить Того Бога, Который решил сохранить ей жизнь. — Он кивнул в ее сторону. — Ты, наверное, ясно видишь, что ни один жизненно важный орган у нее не задет.
— А разве лучше обречь ее на мучительную смерть от инфекции?
Александр вдруг стал жестким, как никогда.
— Я вообще не дам ей умереть. — Его снова охватило непонятное возбуждение. Он по–прежнему видел, как эта девушка идет по песку арены и поет, медленно поднимая руки вверх, как будто хочет обнять все небо. — Ее нужно вывезти отсюда.
— Да ты в своем уме? — прошептал Трой, оборачиваясь, не слышит ли их стражник.
— У меня все равно нет с собой ничего, чтобы обработать ее раны или заняться ее рукой, — вполголоса пробормотал Александр. Щелкнув пальцами, он стал отдавать поспешные приказания.
Трой, не веря своим глазам, наблюдал за происходящим, а потом схватил Александра за руку.
— Ты не имеешь права этого делать! — сказал он сдавленным голосом, едва сдерживаясь. Едва заметно он кивнул в сторону стражника. — Если ты попытаешься спасти жизнь приговоренному к смерти, нас всех тут же казнят.
— Тогда нам лучше помолиться ее Богу о том, чтобы Он уберег нас и защитил. А теперь хватит спорить, нужно немедленно унести ее отсюда. Отвези ее ко мне домой. Стражника я возьму на себя, а потом сразу догоню вас. Действуй!
Трой понял, что спорить бесполезно, и дал знак остальным. Пока он шепотом отдавал приказы, Александр подкатил к ним кожаную коляску, зная, что стражник уже с любопытством наблюдает за ними. Взяв полотенце, Александр стал стирать кровь со своих рук и как можно спокойнее направился к стражнику.
— Ее отсюда увозить нельзя, — сказал охранник, подозрительно сощурив глаза.
— Она мертва, — солгал Александр. — Они просто уносят тело. — Наклонившись к железной решетке ворот, он еще раз взглянул на освещенный солнцем песок арены. — Не стоила она шести сестерциев. Мало она протянула.
Стражник холодно улыбнулся.
— Ты сам ее выбрал.
Александр так же холодно усмехнулся в ответ и сделал вид, что с интересом наблюдает за происходившим на арене поединком гладиаторов.
— А этот поединок сколько продлится?
Стражник оценивающе взглянул на сражающихся.
— С полчаса, может, чуть больше. Но сегодня никто из них не выживет.
Александр усилием воли подавил в себе нетерпение и отложил в сторону окровавленное полотенце.
— Ну, в таком случае, пойду, куплю себе немного вина.
Проходя по освещенному факелами коридору, он изо всех сил старался не торопиться. С каждым шагом сердце стучало все сильнее. Когда же он вышел на солнечный свет, его освежил легкий морской ветерок.
«Быстрее! Быстрее!» Александр ясно услышал эти слова, как будто кто–то стоял за его спиной и шептал ему на ухо. Но рядом с ним никого не было.
Чувствуя, как бьется сердце, Александр повернул к дому и побежал, подгоняемый этим тихим голосом, похожим на веяние тихого ветра.
СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ
«Ave, Imperator, morituri te salutant!», «Славься, император, идущие на смерть приветствуют тебя». Фраза, которую произносили гладиаторы перед началом римских зрелищ.
Амората (мн. аморате), так называли приверженцев или поклонников какого–либо гладиатора.
Андабата (мн. андабате), гладиатор, сражающийся верхом на коне.
Аполлон, греческий и римский бог солнца, процветания, музыки и поэзии. Самый красивый из всех богов.
Артемида, греческая богиня луны. Ее главный храм находился в Ефесе, на месте падения метеорита, который впоследствии хранился в этом храме и, предположительно, послужил знамением того, чтобы сделать Ефес городом этой богини. Хотя у римлян была аналогичная богиня — Диана, ефесяне поклонялись Артемиде, считавшейся сестрой Аполлона и дочерью Зевса и Лето, а также богиней–матерью земли, благословляющей человека, животный мир и землю плодородием.
Асклепий, греко–римский бог врачевания. Согласно мифологии, был сыном Аполлона и нимфы Корониды, а врачеванию его научил кентавр Хирон.
Атриум, центральный двор римского жилища. Большинство римских домов состояло из нескольких помещений, построенных вокруг внутреннего двора.
Афина, греческая богиня мудрости, художественных ремесел и войны.
Афродита, греческая богиня любви и красоты; соответствующая ей римская богиня — Венера.
Балтеи, построенные в виде круга стены римской арены. Они представляли собой три стены, формировавшие четыре секции.
Батавы, галльские племена, которые вместе с хаттами и бруктерами сражались против Рима.
Бестиарии, охотники на римских зрелищах. На арену выпускали диких животных, и бестиарии охотились на них, что представляло собой часть зрелищ.
Библиотека, библиотечное помещение в римском жилище.
Брассард, защитное приспособление, закрывавшее верхнюю часть руки.
Бруктеры, германские племена, которые вместе с хаттами сражались против римлян. Очевидно, бруктеры воевали совместно с хаттами еще до того, как заключили с ними союз против Рима.
Велес (мн. велиты), гладиатор, вооруженный копьем.
Венера, римская богиня эроса, любви и красоты; аналогична греческой богине Афродите.
Гадес, греческий бог подземного царства.
Гера, греческая царица богов. Согласно мифологии, Гера являлась сестрой и женой Зевса; в Риме была известна как Юнона.
Гермес, согласно греческой мифологии, был проводником душ умерших к Гадесу. Он был также вестником и посланником богов и славился своей хитростью. На римской арене в роли Гермеса выступал один из либитинариев, который выходил на арену с кадуцеем огненно–красного цвета и тыкал им сраженных гладиаторов, чтобы убедиться в том, что они мертвы.
Гестия, греческая богиня домашнего очага; в Риме аналогичная богиня — Веста.
Гладиаторы, пленники мужского пола, которых жестко тренировали, для того чтобы сражаться на римских зрелищах. Их школа, служившая одновременно и местом заключения, называлась лудус, а их наставник — ланиста. Существовало несколько типов гладиаторов, различавшихся по тому оружию, которое им выдавали, и по той роли, которую они играли на арене. За исключением особых случаев, гладиаторы сражались на арене до тех пор, пока один из них не погибал.
Гладий, стандартный римский меч, обычно около шестидесяти сантиметров в длину.
Горжет, часть доспехов, закрывавшая шею.
Густус, те, кто прислуживал в начале праздников.
Диана, римская богиня деторождения и лесов, обычно изображаемая в виде охотницы.
Димахер (мн. димахери), «человек с двумя ножами» — гладиатор, который сражался, держа в каждой руке по короткому мечу.
Дионис, греческий бог вина и пиров, более известный в Риме под именем Вакх.
Есседарий, погонщик колесницы — гладиатор, который сражался на украшенной колеснице, запряженной двумя лошадьми.
Зевс, греческий верховный бог и муж Геры; аналогичен римскому богу Юпитеру.
Иешуа, иудейское произношение имени Иисус.
Инсуле, огромные римские жилища, каждое из которых могло вместить жителей городского квартала.
Кавея, ряд зрительских мест на римской арене.
Кадуцей, геральдический знак, который носил Гермес. Он представлял собой магический жезл, обвитый двумя змеями, с крыльями наверху.
Калидарий, помещение в банях, расположенное ближе всего к кипятильным котлам и поэтому самое жаркое (чем–то напоминающее современную парную или джакузи).
Катамит, мальчик — любовник гомосексуалиста.
Каффия, головной убор, который носили арабы.
Кена, римское название обеда или большого пира.
Кивита, (мн. кивитатес), небольшой город или поселок.
Кисий, быстрая и легкая двухколесная повозка, запряженная, как правило, двумя лошадьми.
Киссе, часть доспехов, закрывавшая бедра.
Кодрант, медная римская монета.
Коемптио, приобретение невесты — римский брак, который можно легко расторгнуть (то есть супружеская пара может легко развестись).
Консул, главный судья в Римской республике. Существовало два поста, которые каждый год переизбирались. Почетный пост при императоре.
Конфарратио, римский брак, который предусматривал прочные узы.
Корбита, тяжелое торговое судно.
Кресло курул, кресло, предназначенное для высших гражданских чиновников Рима; только они имели право сидеть на таком кресле, чем–то напоминающем современное, имеющем тяжелые и богато украшенные ножки.
Лакеарий, «человек с лассо» — гладиатор, вооруженный лассо.
Ланиста, наставник (тренер) гладиаторов. К главному ланисте лудуса относились и с почтением, и с презрением.
Ларарий, часть римского жилища. Так называлось специальное помещение, отведенное для идолов.
Либелл, специальный перечень, в котором перечислялось, что будет происходить на предстоящих римских зрелищах.
Либер, Либер и Либера были римскими богами плодородия и земледелия. Они оба ассоциировались с Церерой (римской богиней земледелия), а Либер еще отождествлялся с греческим богом Дионисом, поэтому почитался и как бог виноделия. На праздновании Либералии мальчики, достигшие шестнадцатилетнего возраста, впервые получали разрешение надевать тогу вирилис — одежду взрослых мужчин.
Либитинарии, два проводника мертвых (Харон и Гермес из греческой мифологии) на римских зрелищах. Их обязанности заключались в том, чтобы уносить с арены тела убитых. На зрелищах тот, кто выходил в роли Харона, надевал маску с птичьим клювом и держал в руках деревянный молоток, а выступающий в роли Гермеса держал в руках огненно–красный кадуцей.
Локарий, на римских зрелищах распорядитель, отвечающий за размещение зрителей.
Луди (мн.), слово относится к римским зрелищам, например Луди Мегаленсес.
Лудус (мн. луди), тюрьма/школа, где воспитывались гладиаторы.
Лузории, гладиаторы, которые сражались на арене деревянными мечами для разогрева толпы, перед тем как начинались смертельные поединки.
Маника, рукав и перчатка одновременно — защитное устройство, изготовленное из кожи и покрытое металлическими чешуйками.
Марс, римский бог войны.
Мегабузои, евнухи, священники в храме Артемиды.
Мелиссаи, девственницы, служительницы богини Артемиды.
Мензор (мн. мензорес), портовый рабочий, который взвешивал груз, а потом записывал вес в учетные документы.
Менианум, места на трибунах, расположенные выше и позади подиума римской арены. Всадники и трибуны сидели в первом и втором мениануме, а патриции — в третьем и четвертом.
Меркурий, в римской мифологии посланник богов; аналогичен греческому богу Гермесу.
Мете, конусовидные поворотные пункты на римской арене, которые во время гонок колесниц защищали спину. Они были высотой примерно семь метров, и на них были высечены сцены из римских битв.
Мурмиллон (мн. мурмиллонес) от мурмилло — название рыбы. Гладиатор, который был одет на галльский манер — в шлеме с гребнем, сделанным в виде рыбы, с мечом и щитом. Мурмиллон обычно сражался в паре с фракийцем.
Нептун, римский бог моря (или воды), которого часто изображали с семью священными дельфинами. Соответствует греческому Посейдону.
Окрея, защитное приспособление, закрывающее верхнюю часть ног.
Пал, вид римской женской одежды, надеваемой поверх столы.
Патриций, представитель римской аристократии.
Пегнарии, потешные бойцы на римских зрелищах. Подобно лузориям, которые выходили вслед за ними, они разогревали толпу в начале зрелищ.
Пекулий, сумма денег, которые хозяева выдавали своим рабам. Рабы могли распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению, но при определенных обстоятельствах хозяин мог забрать эти деньги назад.
Перистиль, часть римского жилища, которая окружала внутренний двор и окаймлялась с внутренней стороны колоннами. Часто в перистиле располагались спальни членов семьи, место для поклонения (ларарий), очаг и кухня, гостиная (триклиний), библиотека. В богатых домах во внутреннем дворе перистиля устраивали сад.
Плебеи, простой люд Рима.
Подиум, зрительские места, расположенные ближе всего к арене и предназначенные для римского императора.
Поллис версо, на римских зрелищах — сигнал, разрешающий убить. Обычно подавался вытянутой вперед правой рукой, повернутой большим пальцем вниз.
Претор, римский чиновник, рангом ниже консула; роль претора, главным образом, сводилась к судебным разбирательствам.
Преторианская гвардия, гвардия римского императора.
Проконсул, правитель или главнокомандующий римской провинции, который был подотчетен сенату.
Пуллаты, самый высокий сектор зрительских мест на римской арене.
Путь, одно из названий раннехристианской общины (Деяния 9:2, «учение», но в буквальном переводе с греческого — «путь»). Христиане, вероятно, называли себя последователями Пути.
Реда, большая тяжелая четырехколесная повозка, в которую обычно запрягали четырех лошадей.
Ретарий, «человек с сетью» — гладиатор, который пытался сбить своего противника с ног при помощи сети, а потом поразить его своим трезубцем. Ретарий был одет только в короткую тунику и обычно сражался против секутора.
Сагиттарий, гладиатор, вооруженный луком и стрелами.
Сагум, короткая защитная одежда, которую германцы надевали перед битвой. На плечах застегивалась с помощью специальной застежки.
Сакрарии, портовые работники, которые носили с кораблей грузы и клали их на весы.
Самнит, гладиатор, который был вооружен национальным оружием — коротким мечом (гладием), большим продолговатым щитом и сражался в шлеме с забралом.
Сбурарии, портовые работники, которые разгружали корабли и несли груз на повозки.
Секутор, гладиатор в полном вооружении, обычно выступал в роли преследователя: он должен был преследовать своего противника и убить его. Как правило, сражался против ретария.
Сестерций, римская монета достоинством в четверть динария.
Скимитар, меч с изогнутым лезвием, заостренным с внешней стороны.
Скутум, железный щит, покрытый кожей. Им пользовались германцы.
Спина, длинная узкая платформа, расположенная посередине римской арены, которая служила одновременно пантеоном римских богов и местом для искусно сделанного фонтана. Размеры этой платформы — примерно 70 х 7 м — были незначительными по сравнению с огибающими ее широкими трассами для колесниц. Спина была защищена от колесниц конусовидными сооружениями, которые назывались мете.
Стола, длинное одеяние римлянок.
Ступпаторы, портовые работники, которые конопатили корабли, когда те стояли в ремонте.
Тепидарий, в банях помещение с теплой водой.
Тиваз, бог войны у германских племен (хаттов, бруктеров, батавов), изображавшийся в виде головы козла.
Тога вирилис, была типичной верхней одеждой римлян. Она представляла собой просторный кусок материн овальной формы, который держался на плечах и руках. Определенные группы людей носили тоги определенного цвета и покроя — политики, люди, пребывающие в трауре, мужчины и мальчики носили разные тоги. Мальчики носили тоги с фиолетовой отделкой, но, достигнув шестнадцатилетнего возраста, они получали право носить тогу вирилис, или мужскую тогу, которая была прямого покроя (см. также Либер).
Трезубец, копье с тремя зубцами.
Триклиний, гостиная в римском жилище. Часто триклиний был богато декорирован, украшен колоннами и статуями.
Узус, самая свободная форма брака у римлян. Вероятно, такой брак можно сравнить с современным сожительством.
Уринатор (мн. уринаторес), портовый работник, ныряющий за грузом, который случайно роняли в воду при разгрузке кораблей.
Фанум (мн. фана), храм, который был больше гробницы, но меньше обычного храма.
Фар, мука, зерно.
Фракиец, гладиатор, вооруженный изогнутым кинжалом (или скимитаром) и небольшим круглым щитом (часто надеваемым на руку). Как правило, сражался против мурмиллона.
Фрамея, копье с длинным и острым наконечником, оружие германских племен. Им пользовались как метательным копьем и как геральдической принадлежностью.
Фригидарий, в банях помещение с холодной водой.
Харон, на римской арене был одним из либитинариев (проводников мертвых), его роль исполнял человек в маске в виде птичьего клюва и с деревянным молотком. Такая символика отражала сочетание греческих и этрусских верований. Для греков Харон был фигурой смерти и лодочником, который переправлял мертвых к Гадесу (но только за определенную плату и если покойного хоронили со всеми полагающимися почестями). У этрусков Харун (Харон) — это тот, кто наносил человеку смертельный удар.
Хатты, группа германских племен.
Церера, римская богиня земледелия.
Цивила, фригийская богиня природы, которой поклонялись в Риме. Согласно мифологии, была супругой Аттиса (бога плодородия).
Эрос, греческий бог физической любви; в Риме известен под именем Купидон.
Юнона, римская богиня, аналогичная греческой богине Гере. Юнона считалась богиней света, рождения, женщин и брака. Будучи женой Юпитера, была почитаема как царица небес.
Юпитер, римский верховный бог и муж Юноны, был еще почитаем как бог света, неба, сил природы и государства (его процветания и законов).

![Веяние тихого ветра [A Voice in the Wind]](https://www.4italka.su/images/articles/522085/primary-large.jpg)

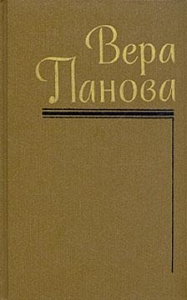





Комментарии к книге «Веяние тихого ветра [A Voice in the Wind]», Франсин Риверс
Всего 0 комментариев