Иван Алексеевич Новиков Пушкин на юге
Посвящается
Ольге Максимилиановне Новиковой
Глава первая СТЕПИ
Была всего лишь середина мая, но стоял такой зной, какого в Петербурге не бывало и в самое жаркое лето.
Город Екатеринослав, задуманный Потемкиным как столица Новороссии, — пятьдесят верст в окружности и с улицами в тридцать сажен ширины, — так и не был постройкою завершен. На горе самою императрицей Екатериной был заложен огромный собор — ныне работы оставлены; пышный дворец, вознесенный над городом, откуда видны все изгибы Днепра на семьдесят и более верст, вот–вот развалится; сад при дворце, сбегающий к самой реке, обширен, тенист, с вековыми дубами, но сильно запущен, зарос буйным кустарником; козы, скрываясь от зноя, любят щипать в заросших аллеях молодые побеги; листву; на редких полянках можно увидеть порою и проскочившего зайца; к дворцу и собору идет несколько чистеньких улиц: немного каменных зданий с садами в цвету; церкви и синагоги. Это был собственно город, на окраинах же и в слободах — еврейские лачуги, раскиданные в причудливом беспорядке.
В одну из таких убогих хат Пушкин и перебрался из единственной грязноватой гостиницы города, где остановился тотчас по приезде.
Генерал Инзов, главный попечитель о поселенцах Южной России, среди своих многих и хлопотливых занятий был озабочен также и подысканием помещения для нового своего чиновника, хотя сам вновь прибывший отнюдь с этим делом не торопился и поджидал приезда семейства Раевских, которые должны были следовать в Крым кружным путем — через Кавказ: с Раевскими у Пушкина связаны были свои особые надежды.
Недаром еще из Петербурга в двадцатых числах апреля писал он в Москву старшему своему приятелю, князю Петру Андреевичу Вяземскому: «Петербург душен для поэта, я жажду краев чужих; авось полуденный воздух оживит мою душу». Он писал черновик этого письма, когда до него как раз дошла радостная весточка о возможной поездке вместе с Раевскими: друг его, младший Раевский, сам это выдумал и брал на себя все устроить. С оживленным надеждою сердцем сел Пушкин за переписку письма и не удержался, чтобы не добавить хотя бы намеком о каких–то благоприятных возможностях в запутанных своих делах, еще недавно грозивших ему то ли Сибирью, то ли Соловками.
Дочь генерала Раевского, Екатерина Николаевна, с которою Пушкин был уже немного знаком, написала своим даже письмо, чтобы изгнанник имел повод заехать к ее отцу непосредственно в Киев. Пушкину очень хотелось осуществить эту доставку письма «с оказией»: древняя столица Руси на Днепре, которую только что воспел он в «Руслане», манила его к себе, и ему казалось порою, что он
Уж видит златоверхий град…
Но пришлось собраться и выехать почти что внезапно: так было приказано свыше.
В Екатеринослав привез он другое письмо — официальное послание к генералу Инзову. Оно было подписано министром иностранных дел Нессельроде и утверждено самим императором Александром. Пушкину не было известно его содержание, но он знал, что писал его граф Капо–дистрия, хороший знакомый Жуковского и Карамзина: уже одно это было для него добрым знаком. Впрочем, этот вельможный грек и к самому молодому поэту был расположен.
Тем не менее, Пушкин внимательно и с большим интересом приглядывался к фигуре будущего своего начальника, о котором был наслышан еще в Петербурге. Про Инзова шла молва, будто бы он был побочным сыном императора Павла. Самую фамилию его толковали как иносказание: Инзов, то есть инако зовут. Многие находили, что он очень и походил на предполагаемого своего отца; по первому впечатлению это можно было принять зa правду.
Генерал принял его стоя. Мундир на нем от жары был распахнут, и из–под официального одеяния выглядывало нечто очень домашнее: рубашка помята, помочи с одной стороны прикреплены ненадежно — единственная пуговица на далеко оттянутой нитке еле держалась. Но вся осанка при этом была хоть и не слишком военная, однако же по–своему крепкая, прочная. Он невелик был ростом, но все же возвышался над Пушкиным крупной своей головою, задуманной для человека гораздо более высокого и как бы случайно попавшей на другого, пониже. Половина лица была освещена падавшим из–за шторы ярким солнечным светом, другая пребывала в тени. И та, что на солнце, была покрыта жарким ранним загаром и бронзовела, возбуждая воспоминания о бюстах старых полководцев. Это было лицо, как бы еще не вполне довершенное скульптором, хранящее следы его пальцев, неровности — впадины и бугорки, и все же, — пожалуй, что да: сын императора и сам генерал.
Другая же половина лица — та, что в тени, — являла собою отнюдь не сановника: это был простой, не молодой уже человек, Иван Никитич по имени — хорошо завершенный добряк, простодушный философ. И самые шероховатости эти уже не наводили на мысли о скульптуре, скорее всего напоминали они сельский пейзаж с долинками, горками, со свежей щетиной покоса: привычный пейзаж, сотворенный самою природой, гармонично и полно отразившийся и воплощенный в рядовом русском лице; и по этому лицу морщины мягко текли, как ручьи; и никакого императора Павла.
Так, может быть, и остался бы весь этот характер скрытым в тени для всякого другого молодого человека, попавшего в положение Пушкина и ослепленного солнцем и генеральским мундиром, но для него, напротив того, он открывался с каждой минутой все с большею полнотой, по мере того как Инзов внимательно и очень неспешно читал про себя деловое это письмо.
Порою губы его шевелились, и он бормотал про себя: «…одно лишь страстное стремление к независимости… сделать из него прекрасного слугу государства…» Тут он метнул коротенький взгляд на стоявшего перед ним молодого человека, и легкая усмешка тронула его губы. «Что ж вы не сядете?» А сам продолжал стоять. «Или, по крайней мере, первоклассного писателя… По крайней мере! Гм… гм… как все это просто!..»
— Садитесь же… Я вас прошу! — повторил он, кончив читать и небрежным движением кинув бумагу на стол.
Но вместо того, чтобы сесть и самому, он приблизился к Пушкину и положил свою небольшую, но довольно широкую руку ему на плечо. Рука была жаркая, добрая.
А город, где недавно совсем проходили войска, направлявшиеся на усмирение крестьянских бунтов — пехотные части, казаки, — крепко–накрепко это забыл или… как бы забыл. Когда бы об этом не знать, то ни за что бы и не догадаться. Улицы были сонны, пустынны. Они оживали только в базарные дни, когда, невзирая на все треволнения, сюда наезжал деревенский люд и площади заливались терпкими запахами навоза и дегтя, овечьей шерсти. Телеги и фуры, волы, просторные помещичьи брички и одинокие всадники, певучая украинская речь, широкополые поповские шляпы, женский пестрый узор — все это столь не похоже на Петербург: Невский, Нева, салоны и ресторации! И Пушкин любил потолкаться между возами, прислушаться к говору, песне…
То место, где он поселился, носило название Цыганский Кут. Несколько еврейских домишек было разбросано по оврагам, поблизости от корчмы, стоявшей на пыльной проезжей дороге. Тут же неподалеку, на вытоптанном людьми и конями поле, раскиданы были палатки цыган. Пушкин заглядывал и в их кочевые шатры. Это бродячее племя еще более говорило его воображению, когда по вечерам зажигались в синеющих сумерках огни их костров и явственно доносилось гортанное пение, музыка — то заунывная, то разудалая, плясовая.
Вечерами не зажигал он огня. Верный Никита, сопровождавший его в путешествии, быстро обрел деревенские свои привычки и ложился спать, едва наступали сумерки. Старик и старуха, евреи–хозяева, подобно цыганам, также питались на воздухе, но у них в землю вкопана была небольшая, обмазанная глиною печка. Речь их была смесью еврейского с украинским и русским. Старуха, недовольная нуждою и нищетой, громко обычно брюзжала, перебирая достатки соседей. Старик был иным: он хранил всю задумчивую важность своих праотцев, которые пасли когда–то стада по палестинским нагорьям, а ночью следили с молчаливою думой движение звезд. Ровно, спокойно и неторопливо он наставлял пожилую голубицу свою, толкуя ей о тщете призрачных благ, о суете всех сует. Каждый из них оставался верен себе, и каждый вечерний их разговор повторял собою вчерашний.
И таких очагов было немало вокруг, и вокруг каждого теплилась жизнь. И таких городов, деревень затеряно было в южных степях великое множество! Покоем и дремной покорностью дышали они, отзываясь в груди молодого изгнанника непокоем, тревогой, вызывая горячую думу.
Но в то же самое время все эти мысли и ощущения по рождали еще никакого определенного вывода, они возникали и отлагались на глубине, оставаясь как бы мыслями впрок. Пушкин был очень молод еще, и личное, свое, в нем бушевало, подобно морскому прибою. Когда же увидит он южное море? Порою охватывало его нетерпение, подымавшее с места, и казалось уже, что Раевские никогда не приедут…
Пушкин лежал на лавке в бреду. Лихорадка трепала его уже вторые сутки. Неосторожно выкупавшись как–то под вечер, он, как говорится, простыл. К ночи особенно стало нехорошо, тревожные видения его беспокоили.
Сначала все было простым повторением действительности, как он недавно ушел гулять на Мандрыковку и увидел, раздвинув кусты: от острога бегут два человека, громыхая общею цепью. Берег недалеко, и он вместе с Никитой, который, заждавшись, здесь его отыскал, — оба услышали звук от падения тел, с высоты бултыхнувшихся в воду, и тотчас увидали, как быстро поплыли, дружно ударяя ногами, прикованные друг к другу беглецы. Но вслед за тем оказалось внезапно, что совсем не разбойники, а это он сам — он сам и Никита, — бежав из острога, сидят, поджав ноги, на песчаной отмели острова. Ноги его ноют от сбитых оков. Он задыхается от напряжения: и страшно и радостно вместе. Погоня близка, но он не допустит их до себя! И — открывает глаза: тюремщики близко, они стоят перед ним…
Нет, не тюремщики: двое военных!
Обеспокоенный, но все еще полусонный Никита зажигает огарок сальной свечи, бегут по стенам торопливые гигантские тени. Кажется: сразу вошло много людей; бред продолжается… Пушкин проводит рукой по глазам: Раевские! И при бледном мерцающем свете видят Раевские: ка голых досках, полуподнявшись, опершись в изголовье на локоть, небритый, худой и изможденный Пушкин глядит на них не шевелясь. На пустом столе перед ним кружка воды, сахар, лимон.
— Он, кажется, болен и бредил, — говорит генерал. — Растереть его спиртом! Наверное, это простуда.
Николай бросается к другу и берет его за плечи.
— Ты узнаешь меня, Саша?
От порывистого движения шинель сползает с плеча и падает на пол. Никита неспешно подходит и поднимает ее.
Пушкин минуту молчит. Ему кажется, что только теперь он все понимает как следует. Раз они вместе… так кто же может их разлучить — раз они вместе… бежали — и он и Николай? И, как бывает только в бреду, когда он еще не вовсе покинул, а сознание все же вернулось, — Пушкин шепчет уже об этой счастливой действительности:
— Ну, что ж, говори! Вышло? Все вышло? Младший Раевский кивает ему утвердительно.
— Так, значит, теперь я на свободе?
И он пытается уже улыбнуться, и голос еще немного дрожит, но в нем уже различима шутливая нотка:
— Кажется, я на сей раз… Действительно, кажется, я убежал! Здравствуйте, Николай Николаевич, как я рад наконец вас увидать!
Генерала Раевского Пушкин привык почитать еще с детских лет, и теперь он был истинно тронут, что тот сам пришел с сыном в эту лачугу: и к кому? — к опальному юноше! — и в столь поздний час!
— Как вы нашли меня? Никита, дай стул!
— Не сразу нашли. Нам все называли какую–то Мандрыковку.
— А! Там я гуляю всегда, и там привыкли видеть меня. А ночую здесь, в Цыганском Куту. Но как же мне вас принимать? Нет стульев!
Стульев действительно не было. Дорожный сундук да табуретка — вот и вся обстановка. Генерал улыбнулся.
— Вы здесь, как видно, совсем по–походному. Я пришлю вам сейчас нашего доктора.
— А я уж здоров! Вы меня вылечили одним своим появлением. Да когда вы приехали? И где же остановились?
— Погоди, Александр, хорошо ль тебе много так говорить? Остановились у губернатора.
Пушкин живо обернулся к Николаю:
— У Карагеоргия? Знаю. У него на щеке бородавка.
— А приехали вечером, час назад.
— И прямо ко мне?
И, сунув ноги в туфли, схватив Николая за рукав, как за ветку в лесу, чтобы быстрей подтянуться и встать, Пушкин вскочил, подбежал к генералу Раевскому и крепко пожал ему руку.
— Рука горяча, — отвечал генерал на приветствие. — Но ничего, будет все хорошо. Вам надо выпить чего–нибудь теплого. Мы поставим вас на ноги, и вы поедете с нами.
А на Кавказе и вовсе поправимся. Я говорил уже с Иваном Никитичем Инзовым, он вас отпускает со мной. Пушкин едва удержался, чтобы его не обнять.
Доктор — высокий, худой, с узким разрезом внимательных глаз — был поутру поражен, увидев ночного своего пациента. Пушкин, побрившись, пришел к Карагеоргию, был весел, даже шумлив; правда, несколько бледен, но шутил и болтал без умолку с младшим Раевским.
— Ах, Николай, — говорил он ему, сидя за завтраком. — Я никогда не забуду этой услуги твоей, вечно, поверь, для меня незабвенной. Ведь когда бы не ты, здесь бы сидеть мне без дела и без людей и глотать эту пыль.
Пушкин немного знал в Петербурге Раевскую–мать и старших ее дочерей — Екатерину и Елену. Екатерина Николаевна была настоящей красавицей, и Пушкин по ней тайно вздыхал. Но очень запомнилась ему и Елена. Однажды ему довелось застать их обеих у Василия Андреевича Жуковского. Елена сидела с матерью на маленьком полукруглом диване. Рядом с нею в небольшой пузатенькой кадке высился молодой кипарис, привезенный кем–то Жуковскому в подарок с Афона. Пушкин очень любил это деревцо и не раз, полушутя, удивлялся, почему это в древней Греции венчали не кипарисом, а лаврами… И он унес с собою это видение: стройная юная девушка и такой же рядом с ней кипарис.
Он и тогда еще понял, с какою–то болью в душе за себя самого, как дружна была эта семья. Но только теперь, глядя здесь на Раевского в окружении младших его дочерей, Пушкин почувствовал с полною силой, что именно от него — от отца — шло все это тепло и к нему возвращалось.
Болтая сейчас с Николаем, радуясь предстоящей поездке, он прислушивался и к разговору Раевского–отца с губернатором, с Инзовым, одновременно кидая взгляд и на девочек, смирно сидевших со строгою своей англичанкой мисс Мяттен. Раевский судил обо всем неторопливо, спокойно и вразумительно.
— Хоть говорят, что великий князь Николай Павлович повторил чьи–то слова, смотря на дворец князя Потемкина: «Этот человек все начинал, ничего не кончал», но сколько же он и довершил! Он заселил обширные степи, он сотворил и сей Екатеринослав, и Николаев, и Херсон…
Тут Пушкин едва его не прервал. Он числил Херсон за двоюродным дедом своим Иваном Абрамовичем. Да и не так это было давно, каких–нибудь сорок лет тому назад! Дед построил Херсон и поссорился с Потемкиным, но государыня его оправдала и надела на него александровскую ленту. Пушкин знал хорошо семейные предания свои и ничего не хотел из них уступать. Но он отложил этот спор о Потемкине до путешествия.
— А кто выстроил флот Черного моря? — продолжал генерал. — Кто уничтожил гнездо неприятельское и приобрел Российской державе Крым и Тавриду? Чего же, спрошу, он не докончил? Не докончил он только круга человеческой жизни, не достигнув границы, ей предназначенной, и скончавшись во всей силе ума и тела.
Карагеоргий был тучен и недалек. Он подавал только короткие реплики:
— Вы истинно правы, ваше высокопревосходительство. Князь Потемкин—Таврический был как светило на фоне…
Тут, как бы на помощь себе, он принимался поглаживать пальцем свою бородавку, но и это мало ему помогало: на фоне чего — так и осталось загадкой.
— Чего ты смеешься? — спросил Николай, заметив, что Пушкин не удержался и фыркнул.
— Смеюсь я на фоне… умных речей, — быстро ответил тот и легонько кивнул на губернатора.
Инзов за завтраком был молчалив, даже задумчив. Вольное замечание Пушкина он все же расслышал и через стол взглянул на него. Александр заметил, как весело блеснули голубые глаза из–под густых, чуть уже седоватых бровей, и по–мальчишески, не удержавшись, кивнул и ему.
Девочки слушали старших, но украдкой поглядывали и на Пушкина. Они о нем многое слышали. Самая младшая, Соня, сидела степенно и чинно. Марии, заметно, это давалось с трудом. Какое–то замешательство вышло у нее за пирогом, она едва из–за стола не убежала; все это не укрылось от Пушкина. После обеда он к ней подошел и начал допытываться.
— Это нельзя сказать, — ответила девочка и покраснела.
Пушкин сел на диван. Снова ему становилось нехорошо: жар, озноб.
Мария заметила это и забеспокоилась. Минуту подумав, она доверительно склонилась к нему и негромко спросила:
— А сами вы тоже… не съели вы муху?
Пушкин весело рассмеялся, горячей рукой поймал ее прохладные пальчики и, вслед за тем приподнявшись к смуглому озабоченному лицу девочки, прошептал тоном заговорщика:
— Ну, вот я и отгадал весь ваш секрет: в пироге была муха?
— Только об этом ни слова, и никому. Ради бога!
Он открыто смеялся теперь ее изумительной выдержке: все–таки съела… вот это характер!
С этой минуты они подружились. Подошедшему доктору Пушкин сказал:
— Да, да… Опять. Пишите рецепт. Но только получше что–нибудь: дряни я в рот не возьму.
И при этом состроил такую смешную и кислую мину и так лукаво–сочувственно взглянул на Марию, что та, забыв о мисс Мяттен, неудержимо наконец расхохоталась.
Весь поезд Раевских состоял из коляски и двух четырехместных карет. В одной ехали девочки, рыжая мисс Мяттен и молоденькая татарочка Зара — компаньонка при девочках и крестница генерала: звали ее по–русски — Анной Ивановной. Сам генерал ехал со своим доктором Рудыковским, Пушкин и Николай Раевский сели сначала в коляску. Обоим им нравилось, что они ехали впереди и можно было держать себя, не стесняясь присутствием старших. Но Пушкину все еще было временами плохо, и в конце концов оба молодых человека перебрались в карету к генералу. Доктор пичкал больного лекарствами.
— Этот славный медик уморит меня, — жаловался Пушкин после каждого приема хины. — Нет, обещайте меня в дороге не уморить!
Но по–настоящему плохо ему становилось лишь к вечеру, да и то в самые Первые дни. Крепкий его молодой организм постепенно одолевал болезнь. Впечатления пути да и самое передвижение вливали в него новые силы.
Огромные ветки белых акаций, которые для них наломали в саду у губернатора, вскоре увяли, и их заменили теперь букеты свежих цветов: ромашки, гвоздики и колокольчики. И Пушкин, и девочки часто выскакивали и ныряли в лугах то за тем поманившим цветком, то за другим. Мария всегда добавляла в букет горсточку злаков, искусно их размещая между цветов.
— Это дает ощущение воздуха, степи… как вы не понимаете? — говорила она с полудетским кокетством.
Пушкин отлично все понимал и любовался ею.
Соня была хоть и важным, пожалуй, несколько даже и тонным, но все еще совершенным ребенком. Мария же воспринимала все очень остро. У нее был серьезный характер, и самой себе она представлялась уже взрослою девушкой. Пушкин живо теперь вспоминал старших ее сестер. Не только она не была так хороша, как они, и просто красивой никак ее не назовешь, но под теплым, ласковым ветром, в степи, среди цветов, она была больше чем хороша — очаровательна.
Мария переживала тот возраст, когда у девочек — подобно тому как у мальчиков ломается голос — также «ломается», только в более раннюю пору, вся внешность и все их манеры. И черты их лица, и черты характера, развиваясь неравномерно, как бы набегают друг на друга, сдвигая один рисунок, а новый, другой, лишь позволяя то угадать, а то ошибиться. Отмечать это изо дня в день, при живом постоянном общении, было весьма завлекательно. Между собою Мария и Пушкин как бы и ссорились, но лишь затем, чтобы со смехом и шуткой тотчас помириться, и говорили, случалось, серьезно. Непрерывное движение это, внутреннее становление жизни, характера с избытком собою красоту заменяло.
Бывали минуты, когда Маша Раевская и подлинно была хороша — той внутренней особою красотой, которая, светясь изнутри, преображает лицо и привычные черты его делает необычайно выразительными, пленительно живыми. Глубокие черные глаза ее смотрели на Пушкина с такой прямотою и честностью, что ими нельзя было просто так любоваться — они говорили о большом и значительном, порою как бы предрекая девочке этой судьбу, исполненную горечи и испытаний. Но, конечно, не все открывала — она своему милому спутнику: в четырнадцать лет бывают такие серьезные тайны! И страшно даже подумать о том, что в них можно признаться кому бы то ни было или что могут их отгадать…
Пушкин, впрочем, и не отгадывал: это вело бы к какой–то неоправданной сложности, а он испытывал в эту поездку прежде всего прямое чувство освобождения, забвения именно сложностей жизни, томивших его не только в последнее время в столице, но и в маленьком мирном Екатеринославе до приезда Раевских.
Редко с кем он себя чувствовал так исключительно просто, легко, как с Раевским–отцом. В этом старом воине, корпусном командире, отвага и богатырство как бы отдыхали в годы покоя. В нем было смешано много по первому взгляду разноречивых и по–своему определительных черт, из которых каждой хватило бы на законченный человеческий характер.
Правда, бывал он порою насмешлив и желчен. Но он же был и добр — широкою и простой добротой сильного человека, который удивился бы искренне, услышав такое о себе суждение. И то, и другое имело в нем корень один: чувство правдивого и справедливого отношения к людям; чем был выше и занозистее, хвастливее какой–либо сановник, тем был Раевский с ним резче, но тем спокойнее видел он и уважал человека — там, где человека видеть не полагалось. И казался, пожалуй, он именно воином прежде всего, но, однако же, и семьянином: крепким и несколько по старинке требовательным и деспотичным. И все же деспотизм его шел от любви, и потому эта властность отца не мешала детям любить его. И он их любил с великой нежностью. Так, пожалуй что, дуб, нерушимо закованный в броню своей крепкой коры, изборожденный морщинами лет, сам не раз поцарапанный ударами молнии, широко кидает в простор свои могучие ветви, из которых каждой хватило бы на отдельное дерево, и трепещет одновременно под солнцем молодою узорной листвой, строго крепя и охраняя общую слитность, единство.
Таким представлялся б он издали, на расстоянии лет — Николай Николаевич Раевский–отец, и так он не полно воспринимался своими современниками, каждым по–разному: чудо–богатырь, семьянин, сельский хозяин.
Пушкин хорошо чувствовал всю эту сложность. Но самое важное, что шло от него и незаметно, но прочно ложилось в душе, — это было живое дыхание истории. Двенадцатый год и легендарный герой, воспетый Жуковским:
Раевский, слава наших дней,
Хвала! Перед рядами —
Он первый, грудь против мечей,
С отважными сынами…
И вот он же сидит в карете напротив: живой и простой человек, от которого, слышно, идет живое человеческое тепло, плечи которого ничуть не окаменели под эполетами славы…
Потемкин, к которому Раевский чувствовал некоторую слабость, был дядею генерала, точнее — Раевский приходился светлейшему внучатным племянником. В свое время Потемкин писал ему наставления. Как–то припомнил Николай Николаевич первые строки: «Во–первых, старайся испытать, не трус ли ты; если нет, то укрепляй врожденную смелость частым обхождением с неприятелем».
Пушкин порою прикидывал и себя на эти слова. Войны и неприятеля не было, но он не был трусом и был готов укреплять врожденную смелость возможно частым «обхождением» с противником на дуэлях. Еще недавно манила его и военная служба, но настоящего увлечения все же не возникало. Когда бы война — дело другое!
Не раз вспоминал Пушкин в дороге и Ивана Никитича Инзова. Он слышал, как, разговаривая с Раевским, начальник его говорил «о расстроенном здоровье поэта» и о необходимости ему полечиться, о том, что по молодости лет он попал «в неприятное положение», а потому ему надо помочь, предоставив возможность «безвредной рассеянности». «Вот почему, ежели бы вы, ваше превосходительство, не обратились ко мне, я сам бы ходатайствовал перед вами о том самом. А в Петербург я напишу, пусть сообщат при случае графу Каподистрии…»
Пушкину стоило большого труда не выдать, что он хорошо разобрал эти слова Инзова, доносившиеся к нему из другой комнаты, как заботливое глуховатое жужжанье шмеля, неторопливо оглядывающего цветок за цветком. Он только особенно крепко пожал на прощание его добрую руку.
Раевского Пушкин уважал серьезно и глубоко и никогда бы себе не позволил над ним подшутить, посмеяться. Инзов же, за время короткого общения с ним Пушкина в Екатеринославе, напротив того, нередко как бы на это сам его вызывал, но он же и трогал по–настоящему. Чего в самом деле стоила хотя бы одна эта забота и доброта, с какою он отпускал на Кавказ своего поднадзорного. Для того чтобы полностью понять и увидеть этого чудесного человека, совсем не было надобности оглядывать его, размышляя, издалека: вот он сейчас и далеко, а будто бы видишь его перед собою, и уж никак не генералом, а, странно сказать, почти что товарищем, с которым можно совсем и не чиниться. И уже теперь чувствовал Пушкин, что если его почтительность и уважение принадлежали Раевскому, то к Инзову может он привязаться по–настоящему, крепко и от души его полюбить.
Южные степи однообразны, но не скучны. Как хороша эта поездка!
Да — вдоль дороги везде молочай и полынь, ромашка, цикорий, но как же красив и простой серебристый ковыль, когда он под ветром стелет свои переливные легкие волны. Сверчки и кузнечики; трепетание бабочек — воздушных цветов; пчелы, шмели; чибисы; суслики. Вот куропатки вспорхнули быстрой тревожною стайкой. Невольно глаза устремляются кверху: распластанный хищник размеряет удар. На заре, пробудившись, Мария увидела раз, как на опушке заяц стоял и умывался. Она улыбнулась ему и подумала: «Пушкину расскажу». Но молодой сон сладок и крепок: забыла.
Да — по дороге деревни и кузницы, кладбища, сады, колодезные журавли, стада и собаки; пожалуй, и верно — все одно и одно, но как хорошо возникновение утром дальнего города с узкими шпилями над колокольнями, с отгадываемым пробуждением улиц, со стаями голубей: сверкнули на солнце, исчезли — и снова сверкнули.
Хлеба и луга. Походная кухня с запахом дыма и сала: глазунья яичница. Лиловые тени и мерная музыка копыт. Роса и прохлада, и ночи под звездами. Давно кончился Днепр, и ветер с востока приносил уже прохладу другой великой реки; там где–то, в таких же степях, катил свои воды разлившийся Дон — тихий Дон Иванович!
Чумаки проезжали оттуда: велико дело хлеб, но без соли его не поешь; соль везли с Маныча.
— Как у вас нынче там, на Дону: русской воды было поболе али казацкой?
— А ноне, братец ты мой, казак с вашим братом, русским, сшибку большую в низовьях имели, вместе сошлись.
И кучер с козел, как если бы Пушкин не понимал, ему поясняет:
— А русская вода, видишь, барчук, она на верховьях, а казак сидит понизу. Коли в низовьях вода запоздает, а в верховьях ускорится, так половодья бывают зараз и воды по весне дюже богато.
«Дон, Дон, Дон…» — эти слова звучали теперь и повторялись все чаще и чаще. И возникало желание поскорее увидеть эту древнюю реку, ту самую, к которой и старая Русь стремилась с такою упорною страстью: «испити шеломом Дону». Жуковский переводил «Слово о полку Игореве», и Пушкин знал об этой его работе; сам он в лицее «Слово» учил по хрестоматии Греча, где помещен был отрывок: «Сражение Россиян с половцами» в переводе Шишкова. Все это живо теперь припоминалось.
Ночь была на исходе, когда Пушкин проснулся. Все спало окрест, быть может, и кучер слегка задремал, кони шли шагом, порою пофыркивая и тем нарушая прохладную тишину предутреннего часа; пахло чебрецом и полынью; призрачно стлался ковыль, убегая, как волны, теряясь в туманах, заколыхавшихся на горизонте. Все это было как ночное дыхание огромной бескрайней древней земли.
Это было уже то самое грозное половецкое поле, где скрипели в ночи телеги кочевников. «Долго ночь меркнет. Заря свет запала, мгла поля покрыла». Такое же туманное утро когда–то представилось и ему самому, когда живописал в «Руслане» стольный град Киев, осаждаемый печенегами… И он, приподнявшись на локте, бесшумно опустил в карете окно и стал глядеть в этот простор — туманный и зыбкий. Сознание, как это бывает после глубокого сна, не прерванного никаким внешним звуком или толчком, было особенно ясным: в такие минуты оно не начинает еще привычной своей беспокойной работы и лишь отражает в себе весь необъятный, также затихнувший мир. Да вовсе и нет противопоставления миру, частицей которого так гармонично и просто себя ощущаешь. Это не бурная дневная жизнь, но и не сон: это зыблется самое время — и убегая, и не уходя. Уходит история или дышит она, пусть утаенно, но не ушедшая начисто, а пребывающая в каждом сегодняшнем дне не умирая? Нет, нет, никогда не умирает она, и радость большая, когда это живо и непререкаемо верно почувствуешь…
Такова была и эта степная «половецкая ночь»; таковы в ту ночь были и мысли… — нет, и не мысли: таким было самое состояние Пушкина.
Он хотел было снова поднять окно, но рука ослабела и тихо упала; так же тихо закрылись глаза, и дыхание сразу сделалось ровным, спокойным. Пушкин непроизвольно выпрямил локоть, уснул.
Утро было в росе и цветах. Ветряные мельницы лениво махали крылами. Младший Раевский потягивался, разминая занемевшие члены. Жизнь просыпалась в обычном порядке: все, как всегда, как стало привычно за эти несколько дней путешествия. И Пушкин забыл совершенно свое пробуждение ночью, похожее на сон наяву.
Но что–то и оставалось. И только значительно позже, в середине дня, когда было переговорено о многом и многом, в памяти встали другие, соответственно дню, уже звонкие и блистательные строки — из того же «Слова о полку Игореве».
Пушкин любил этот образ яр–тур Всеволода, стоящего «на борони», он сделал движение рукой и вслух продекламировал то, что в лицее еще заучил наизусть:
— «Прыщеши на вой стрелами, гремлеши о шеломы мечи харалужными. Камо, Тур, поскочаше, своим златым шелмом посвечивая, тамо лежат поганые головы Половецкие…»
— Какая у тебя великолепная память! Но и я не хочу тебе уступить, я прочту из другого поэта…
— Прочти. Я тебя слушаю.
— Может быть, ты и узнаешь, — рассмеялся Николай, блеснув белизною зубов, и прочитал из «Руслана и Людмилы»:
Где ни просвищет грозный меч, Где конь сердитый ни промчится, Везде главы слетают с плеч И с воплем строй на строй валится…
Тут рассмеялся и Пушкин.
— А это, — произнес он с комической важность, — это опять–таки «Сражения россиян с печенегами». — И он улыбнулся, что Николай его не поправил.
Генерал Раевский приказывал иногда ехать шагом, и тогда оба молодых человека выскакивали из кареты и шли рядом, оживленно болтая о Петербурге, о видах на будущее, о близости снежных гор.
Впрочем, их разговор иногда обращался и на предметы, далекие от житейских интересов. Раевского, невзирая на всю его юность, серьезно уже занимали вопросы истории. Потолковав о «Слове» и повосхищавшись, они переходили на казацкую вольницу.
Чумаки коротали долгий свой путь длинными песнями:
Ой, полети, галко, ой, полети, чорна,
Та на Дон рыбу исти,
Ой, принеси, галко, ой принеси, чорна,
Та од кошевого висти…
Раевский записывал различные эпитеты, что применялись к казакам: верные, храбрые; воровские; понизовая вольница; воры и разбойники; голь кабацкая; честное козацкое воинство…
Тут, ближе к Дону, помнили грозного Стеньку, и Николай подумывал начать собирать материалы по восстанию Разина.
Раевских встречали повсюду с почетом и пышностью. К ним выходили навстречу с хлебом и солью, приветствуя славного защитника отечества. Генерал приподымался с сиденья и кланялся, а Пушкину потом говорил, добродушно и широко улыбаясь:
— Прочти–ка им свою «Оду». Что они в ней поймут? Он разумел оду «Вольность», и Пушкин на сей раз позволил себе также вольность:
— А что ж, генерал, и прочту, как только выдастся случай.
Подходящего случая, конечно, не выдалось, но зато на Дону запомнил он и сам несколько песен — разбойничьих:
…Не голуби промеж себя воркуют, Промеж себя разбойники бушуют… …Не леса шумят, не дубровушка, Разыгралась волюшка атаманская…
Однажды ему довелось услышать одну вольную песню, которую знал еще по чулковскому сборнику. Но тогда особого внимания он на нее не обратил. Теперь же слова и самая мелодия с ее глубокою тоскою, давшей себе полную волю излиться, по–настоящему его тронули.
Был вечер, пылал закат, и в тишине одинокий сильный и сдержанный голос стлался над степью:
Ай, далече, далече, во чистом поле,
Стояло тут деревцо вельми высоко;
Под тем ли под деревцом вырастала трава;
По той ли по травушке расцветали цветы,
Расцветали цветы да лазоревые;
И на тех ли цветах да разостлан ковер,
А на том ли ковре два братца сидят,
Два братца сидят — два родимые.
Меньшой–от братец песню спевал:
«Породила нас матушка да двух сыновей,
Вспоил–вскормил батюшка да двух соколов;
Вспоивши, вскормивши, ничему не научил…
Научила молодцов чужа–дальня сторона,
Чужа–дальня сторона, понизовы города…»
Эта вечерняя песня, освещенная багрецом степного заката, сплеталась теперь в воображении с судьбою бежавших в Екатеринославе разбойников. Он видел тех беглецов только издали, как, громыхая цепями, бежали они по откосу к реке, но как если бы ясно различал и их лица: сколько их там на базаре бродило, выпрашивая себе подаяние.
Травы в степи, уже кое–где и отцветшие, роняли на землю зерно, которому в ней лежать до поры. Так, до поры, пало и это зерно — о братьях–разбойниках — в творческую память Пушкина.
Просилась туда и еще одна тема: об атамане разбойников, о купеческой дочери и о любовнице атамана.
C детства он слышал от няни милую песню:
Как у нас по морю,
Как у нас по морю,
Как по морю, морю синему,
По синему, по Хвалынскому…
Плыла лебедь,
Плыла лебедь,
Плыла лебедь с лебедятами,
Со малыми со детятами…
Плывши, лебедь,
Плывши, лебедь,
Плывши, лебедь встрепенулася,
Под ней вода всколыхнулася…
Няня выговаривала: не «у нас по морю», а «в нас по морю», мягко, и когда пела «плывши лебедь» и дважды повторяла эти слова, лебедь плыла тихо и важно, спокойно, едва поводя белопенным крылом, а когда, «плывши, лебедь встрепенулася», то и в самом мотиве, и в голосе няни — крылья сильно вдруг ударяли, и с такою же силою быстро колыхалась вода. И в Царскосельском лицее, глядя на екатерининских лебедей, Пушкин не раз отдавался этому двойному чарованию слов и слитной с ними, скрытой в них музыки…
Песни о Доне и о славном том синем море Хвалынском слышались теперь почти непрестанно, как если бы шелестели они в тростнике, по берегам. И долетала такая родная сестра — по запевке и по мелодии — детской его, няниной песне:
Как по морю,
Как по морю,
Как по морю, морю синему,
По синему, по Хвалынскому…
Видна в море,
Видна в море,
Видна в море легка лодочка…
Не лебедь уже, а лодка, изукрашенная бусым (опять словечко из «Слова»!) — бусым жемчугом. И на корме той лодки есаул у руля, а на носу той лодки атаман с ружьем, а посередь лодки — золота казна, на златой казне лежит цветно платьице, на цветном платьице сидит красна девица, атаманушке полюбовница.
Травы, цветы, песня, история — давняя и недавняя: все это щедро дышало, благоухало, звучало и веяло в чудесные дни путешествия Пушкина в южных просторных степях.
Но вот они уже и кончались — узкой полоской на горизонте сверкнуло Азовское море. Оно не было издали синим и бурным, казалось, спокойно дремало оно, полеживая у берегов, пригревшись на солнце, сизое, дымное, с перламутровым отсветом отражавшихся в нем облаков. Девочки подняли радостную возню, требуя подъехать поближе. Но дорога и так клонила наискосок к морским берегам. Коней остановили, наконец, по настойчивой просьбе Марии; она, выскочив из кареты, тотчас же и побежала к воде, а через минуту белые ее туфельки замелькали на желтой песчаной отмели. Она резвилась, как дитя, платье ее на бегу развевалось, билась коса с ярко–желтой лентой.
Пушкин любовался ею издали. Волны, мягко шурша, набегали на берег и убегали; девочка гонялась за ними, столь же стремительно и убегая, когда они настигали ее. Это было прелестно, но мисс Мяттен была на сей счет противного мнения. Она призывала Марию вернуться, но то ли волны мешали расслышать ее возмущенные возгласы, то ли была не расположена девочка слушать ее, только на этот раз дисциплина явно было поколеблена.
Однако когда и послушная, малоподвижная, Соня, увлекшись примером сестры, придвинулась к самой воде, мисс Мяттен решилась и тронулась с места сама. Важное ее положение в семье генерала не дозволяло ей побежать, но все же она, торопилась, и то, как чопорно выступала — походкою, выработанной для равномерного шага, — и делала одновременно эти шаги шире и чаще обычного, все это было так забавно–нелепо, что Пушкин не мог не рассмеяться.
И все же внезапная эта веселость и даже насмешливость ничуть не мешали (так он умел и всегда) другому его, ясному и чистому ощущению — глядеть и глядеть, как шалит с набегающими волнами эта милая резвая девушка Мария Раевская, четырнадцати лет, серьезная хохотушка с черными глазами, глядя в которые невольно подумаешь: что–то сулит ей судьба?
Мария промочила ноги, но никому, конечно, не сказала об этом: она обежала мисс Мяттен по полукругу и, почти прыгнув, скользнула в карету. И то, что туфли ее были мокры и что она это скрыла от всех, и особенно от всевидящей англичанки, — все это только еще добавило к ее удовольствию, к одному из тех удовольствий, из которых и слагается ранняя юность.
Пушкин не бегал сам за волнами, но все, что до него доходило извне, становилось тотчас же своим, пережитым: он знал эту радость и щедрого отдавания себя, и богатого восприятия мира.
Мариуполь и Таганрог — приморские города в окружении мачт и парусов. Рядом с кирпичными зданиями — простые дома, крытые прошлогодней соломой: деревня. Но тут же слышны и заморские запахи, иноземная речь. Торгуют по преимуществу хлебом, скотом. Море не глубоко, пристаней нет, и телеги въезжают в самое море. По вечерам харчевни полны матросами, грузчиками, мелкими комиссионерами из местных жителей — греков. То же в Ростове, только там вместо греков армяне из Нахичевани.
Таганрог, впрочем, особенно остался у Пушкина в памяти.
Путешественники обедали и ночевали у градоначальника Папкова, который продал в казну свой собственный дом и остался в нем жить — по должности. Эта сметка всех позабавила. Да и обедал он, угощая гостей, тоже, конечно, за счет казны–матушки…
Самый дом был обширен, тринадцать окон по фасаду, с канцелярией и кабинетом, залом, столовой, буфетной, двумя гостиными и тремя жилыми комнатами. С террасы над изрядным обрывом был вид на Азовское море. Раевский и вид, и дом похвалил.
Хозяин был очень польщен, но тут же и прихвастнул, особенно твердо погрузив подбородок в тугой воротник мундира:
— Я счастлив, ваше высокопревосходительство, напомнить, что и государь император Александр Павлович, обожаемый наш монарх, два года тому назад также соизволил у меня останавливаться и так же, как и вы, ваше высокопревосходительство, соблаговолил видом похвалить, и вид похвалить: «Ты, Папков, занимаешь скромный удел в сей жизни, — так он отнесся ко мне, я бы сказал, с какой–то особою кротостью, — но от этого спокойного моря и мирных деревьев идет, Папков, тишина и сознание тщеты…» И не договорил-с…
Так Александр здесь ночевал! Не кроткие и не скромные, не мирные чувства всколыхнулись у Пушкина. Он о них как бы забыл и сам удивился, с какой остротою их вновь ощутил. Нет, эта рана не зажила, и заживет ли?.. — Ты ляжешь со мной в царских покоях, — сказал ему вечером Николай Николаевич.
И действительно, именно эта обширная комната и была спального комнатой царя. Б ней стояли две совсем одинаковые кровати. «Как знать, — думал Пушкин, — очень возможно, что как раз в этой самой постели покоился и обожаемый Папковьш монарх…» Эта–то ночь, не очень спокойная, и осталась в памяти Пушкина: ночь в Таганроге.
Другое совсем — станица Аксай. Вот наконец–то и Дон! Пушкин не утерпел, выкупался в тихом Дону. Воды его, чуть зарозовевшие от предвечернего неба, казались почти недвижимыми, но только казались. Стоило в них погрузиться, и всем телом Пушкин ощутил, как этот могучий древний Танаис действительно тихо, но и мощно–упруго продвигался вперед как бы единой живою волной. Это было великое наслаждение — так ощущать спокойствие силы.
И рассказы чумаков о половодье оказались верны: воды были едва обозримы.
Пушкин ловил на лету разговоры. Вот на берегу у костра казаки полуднуют, рыбу едят — не с хлебом, а с пшенною кашей.
— Мы раньше тут жили, — обратился к нему старый казак, — ровно собаки сторожевые. Чуть что — и на коня; чуть что — и к ногаям на линию. Пудовка пшена да котелок через седло.
— А сети?
— Ну, еще бредень тащить! Скинешь штаны, перевяжешь осокой — вот тебе и сачок или там верша.
Из станицы Аксай Раевский послал казака–вестового к атаману Денисову с кратким письмом: «Буду назавтра обедать». Все были рады этому перерыву в путешествии.
Станица донских казаков Новый Черкасск, где жил атаман, была за тридцать пять верст по речке Аксаю. Отправились туда всею гурьбой, и вышла поездка на славу. На полпути наблюдали интересное зрелище: в одной из станиц казаки делили между собой сенокос. Все на конях и скачут по знаку казацкого старшины — кто сколько обскачет себе, то и обкашивай. Время считалось поворотами мельницы. Число поворотов для всех одинаково, но у кого конь получше, тому и земли побогаче. Этот старинный обычай всех подивил. Обед закатил атаман — изобильный, но особенно все похвалили цимлянское: пробки летели, до потолка. Денисов рассказывал:
— Еще царь Петр Алексеевич, плывя на новых своих кораблях из Воронежа к Азову, на нижнем Подолье положил быть винограду. Из Франции были доставлены и виноградные лозы, и садоводы. А в благодарность за то, после поездки в Париж, где посетил Дом инвалидов, послал он ветеранам Людовика Четырнадцатого сколько–то бочек донского вина. И, говорят, удивлялись вину ветераны…
Из окон видна была речка Аксай. На много верст по течению соединялась она разливами с Доном и казалась в ту пору могучей рекой, по которой приятно бы было совершить путешествие. И не кому иному, как самому генералу, пришла в голову эта мысль — ехать обратно не на лошадях, а водой. Атаман предоставил гостям большую четырехвесельную шлюпку. Как хорошо было отдохнуть от сухопутья. Лодка шла быстро вниз по течению, и после степных необъятных равнин заманчиво было следить, как по нагорному берегу то наплывет монастырь, скрывавшийся меж тополей, невысокий, скорее приземистый, какой–то домашний, но с горящими, плавящимися на солнце луковицами глав, а то редкой цепочкой возникнут дома — летние дачи, с легкими расписными заборами, цветами и садиком, а дальше пойдут на целые версты рощи и виноград по холмам: точно другая Россия.
В станицу приехали поздно, и всем крепко спалось в эту ночь.
Наутро кареты отправлены были водою на большом хорошем судне на тот берег: ни много, ни мало, как целых восемнадцать верст! Попозже и сами путешественники переехали в шлюпках, догнав в пути экипажи.
Выйдя на берег, Раевский–отец повернулся, тронул Пушкина за плечо и сказал:
— Вот мы и в Азии.
Перевалив за Дон, ехали степями еще более двухсот верст, — ехали, не останавливаясь, спали в экипажах.
Было раннее утро. Пушкин проснулся раньше других и высунул голову из кареты. Он увидел на горизонте: точно огромная в поле копна голубоватого сена. Повел головою — еще и еще… Так долгожданное предстало внезапно: горы! Еще не снежные горы, но уже настоящий Кавказ!
Быстро, но осторожно, чтобы не разбудить своих спутников, выпрыгнул он из экипажа и подбежал к карете, где ехали девочки. Окно у них было открыто, опущено.
— Мария! Мария! — позвал он негромко.
Мария спала, не услышала. Но вдруг он увидел два других человеческих глаза, сверкнувшие, как изумруд. Это была Анна Ивановна — Зара–татарка, учуявшая эту родную, уже настоящую Азию.
— Вы видите? Видите там?
— Вижу, — сказала она и повела рукою по воздуху.
И в самом движении этом, угловато–стремительном, почудился Пушкину древний, далекий Восток. Он поглядел еще раз в зеленые эти глаза, потом отошел и, жадно вдыхая утренний воздух, глядя на горы — далекие, но все приближавшиеся в сиянии утра, понял внезапно, что будет писать о Кавказе!
Глава вторая КАВКАЗ
Предгорья Кавказа встретили путников жестокой внезапной грозой, которая заставила их заночевать за сорок верст от Георгиевска.
Ввечеру середь ясного неба появились тяжелые темные тучи. Возникли они как бы из ничего и тотчас же стремительно понеслись навстречу друг другу, сами на себя громоздясь, погромыхивая. Сразу земля затаилась, притихла, лошади беспокойно прядали ушами. И вдруг прокатился по небу оглушающий рокот; молнии взбороздили одновременно во многих местах; земля под блистанием их лежала обмершая, иссиня–фиолетовая, и сразу же на нее ринулся дождь, смешанный с градом… Ветер завыл, закрутил и забился, и в наступившей вдруг темноте небо, земля стали неразличимы.
Порою становилось почти жутко. Ветер кидался с такою огромною силой, что казалось — вот–вот он все опрокинет и унесет с собою: и избу, где им оказали приют, и экипажи, и людей. Но для Пушкина эта неистовая схватка стихий была каким–то благодатным ударом, встряскою дремлющих сил. Он даже не знал, как это выразить, и, выйдя за двери избы на крыльцо, стал громко кричать, пытаясь перекричать ревы грозы. Это ему не удавалось, он едва слышал сам себя. Град бил ему в лицо, волосы смокли, холодные капли скатывались за шею, но от этого было только еще веселей. Ах, хорошо!
Никита пытался его урезонить, звал войти в избу, но Пушкин без церемонии прогнал его от себя. Тогда вышел в шинели врач Рудыковский и начал не звать, а уже просто браниться.
— Как хорошо! — кричал ему Пушкин. — Вот и вы ко мне вылезли… Молодец!
— Вы с ума сошли! — в свою очередь орал взбешенный медик. — Только–только поправились и хотите опять заболеть! Вот я генералу скажу…
Перед этой угрозою Пушкин не устоял. Мокрый, счастливый, вернулся он в избу.
Эта гроза пронеслась как ураган. Наутро умытое небо блистало такою глубокой, такою девической чистотой, что улыбались уже решительно все.
Такие чистые, ясные дни стояли теперь и на Пятигорье. Тут начиналась для Пушкина новая жизнь — оседлая, но и кочевая: Горячие воды, Железные воды, Кислые воды. Да и когда пребывали на месте, самая обстановка и образ жизни были полупоходными: можно побыть и еще, но в любую минуту можно и сняться с насиженных мест.
И в самой природе, по первому взгляду, был чудный беспорядок могучих порывов, застывших в минуту высокого напряжения. Все, в ней полно было силы и страсти, и все эти изломы, углы каждой отдельной горы были похожи на черновик какой–то горячей и бурной поэмы, волнующей уже одной этой своею незавершенностью. Между старых деревьев кустарники всюду дики и непролазны; буйные травы дышали в лицо пряно и горячо; и горячи были струи целебной воды, с силой бившие здесь и таи из расщелин в бурых и серых скалах. Их мелодический непрерывный звон сливался в одно со стрекотанием кузнечиков, пением редких цикад, а где–нибудь в узком ущелье и сквозной ветерок, казалось, им подпевал; ветерок… а кто знает — быть может, и фавн или сатир, уцелевший от мировых катаклизмов? При мысли об этом Пушкин лукаво посмеивался.
Все здесь волновало его и возбуждало. Горячая кровь, молодая и южная, бежала еще горячей. Жажда передвижения утолялась в полную меру. Физическая усталость рождала глубокий целительный сон.
А надо всем этим стояла великолепная синева неба с причудливою игрою свежих, то и дело сменявшихся облаков. Облака ложились порой и на горы, пышными рукавами одевая отроги Бештау. По утрам они, как барашки, перекатывались через крутизну, медленно сползая книзу и по дороге истаивая — с тем, чтобы опять загустеть в какой–нибудь прохладной долинке и снова подняться ввысь.
Пушкин доселе гор никогда не видал и наслаждался ими без устали. Настоящие снежные горы, древний Кавказ–прародитель, были все еще далеки. Их снежная цепь на горизонте каждое утро и каждый закат розовела за далью и казалась почти нарисованною. Соображая расстояние, можно было представить себе, как они были огромны. Эльбрус царил надо всем, как великолепный шатер рядом с раскинутыми по обе стороны белыми палатками. И удивительнее всего было то, что он–то сам дышал великим покоем и полною завершенностью.
И это было второе, уже более глубокое впечатление, испытанное Пушкиным в этом царстве гор. Не погашая совсем той нервной приподнятости, которая здесь охватила его в первые дни, оно как–то совсем незаметно ставило все на свое место. Бештау, Машук, и Железная, и другие соседние горы никак не оказывались случайной игрою природы, напротив — они были как раз таковы, как и должны были быть, и соотносились между собою в дивной гармонии. Сквозь причудливые письмена возникала глубокая, завершенная простота.
Так же и дни — веселые и подвижные — обретали свой ритм, все привычнее и яснее обозначившийся. Солнце будило, вечер звал спать. И человек, как и все живое вокруг, совершал свой размеренный каждодневный путь, и самая приподнятость, даже и возбуждение уже гармонично вздымались, находя свое место, как холмы между долинами созерцания и покоя; душевные ритмы мысли и чувства находили свое ладное соответствие с окружающим миром. Отсюда рождалось и ощущение того богатого бытия, когда каждый день полон был до краев.
Особенно прочно и как–то убедительно просто слагался день у Николая Николаевича–отца. По нем положительно можно было проверять часы: в пять он вставал, принимал первую ванну, в шесть уже пил утренний кофе, читал и гулял; в первом часу подавался обед, после которого, невзирая на возраст, он не ложился, беседуя некоторое время, и снова гулял — то с какой–нибудь книгой, то просто с дорожною палкой, не забывая при этом принять повторную ванну, а кстати и посидеть в галерее, полюбоваться никогда не наскучивавшей живописною панорамой; в семь пили чай, снова гуляли или садились за карты, но неизменно рано ложились.
У Пушкина день бывал живописнее и раскиданней. Кроме общих прогулок, а то и поездок подальше — верхом с молодежью, он очень любил забираться один куда–либо поглуше. Думы при этом его не оставляли. Именно думы, а не стихи и не рифмы. Он не овладевал еще по–настоящему яркими впечатлениями дня; буйно, пестро ложились они, еще не покорствуя поэтической музыке, не находя ее вольного, но и строгого лада. Порою даже казалось ему, что он уже и не сможет писать, хотя совершенно серьезно и окончательно он все–таки в это не верил.
Небольшая станица Горячеводск была расположена по склону и у самого подножия Машука. Она состояла всего–навсего из двух улиц с домами самого разнохарактерного вида; среди них были и вовсе простецкие, на скорую руку вылепленные турлучные хаты с земляным полом и кое–как вымазанными глиною стенами.
Древние ванны, высеченные прямо в скалах, рядом с сернистыми источниками, говорили о том, что целебная сила кавказских вод известна была исстари. Раевский–отец припомнил по семейным преданиям что еще доктор Шобер, лейб–медик Петра Великого, во время персидского похода, назад тому лет уже сто с небольшим, натолкнулся на горячие воды на Тереке и зело их хвалил, а в середине прошедшего, восемнадцатого века доктор Гевит отобрал десяток солдат с самыми разными болезнями и купал их всех вместе, как в деревенском пруду, в одной большой яме: кому как поможет! Так лечили в Кизляре.
Пушкин мальчишески хвастался и озорничал, что у него одного хватит болезней на десять солдат. Дамы слушали его с изумлением, а доктор Рудыковский при этом серьезно грозил ему пальцем.
Врач этот, бывший семинарист, как видно, по–настоящему любил свое дело, кое–что знал и, со своей стороны, поминал имя Палласа, известного врача во времена Екатерины Второй, занимавшегося научными изысканиями под охраною русских казаков. Все это были ученые вылазки отдельных людей, и только лет сорок тому назад в долине меж гор — Машука и Бештау — заложено было Константиногорское укрепление — одно из звеньев в целой цепи укреплений от Азова до Моздока.
По всему было видно, что русский человек хозяйствует здесь еще вовсе недавно.
И все же кое–что намекало на то, что хозяйство определенно затевается на широкую ногу. В начале столетия чума приостановила было здесь жизнь, но уже в двенадцатом году снова потянулись целые поезда богатых людей, и кареты, коляски зачернели опять по склонам зеленой горы: люди лечились, а кони округляли бока на сочных лугах.
Такой же полупоходный порядок, — хоть двенадцатый год уже давно отшумел, — сохранялся и посейчас: так же между домами там и сям раскинуты были, поближе к источникам, калмыцкие кибитки и простые солдатские палатки; приезжий народ так же располагался табором, кому где полюбится. Но уже была выбита основательная каменная лестница и проложена горная дорога для экипажей. Строили новые ванны, расчищали дорогу на нижнем уступе горы. А в прошлом году Горячеводск посетил сам Алексей Петрович Ермолов, командующий всеми войсками на Кавказе, в недалеком прошлом так же, как и Раевский, герой Бородина. Он все оглядел и обо всем по–хозяйски распорядился, утвердив план работ вперед на семь лет.
Как это все будет выглядеть в будущем? Пушкин сейчас об этом не думал. Скорее, напротив, манила его именно дикость нового края, его романтичность. Он вспоминал приподнятые строфы Державина и летучие наброски Жуковского. Иногда возникали и свои отдельные строки; он им пока не придавал никакого значения.
Александр, так же как и Раевский, купался в горячей сернистой воде, с трудом сохраняя то спокойное положение тела, которое строго–настрого предписывал Рудыковский. Ему больше нравилось, как на уступе горы каких–нибудь смельчаков опускали на блоке в корзинах в глубокий, сильно пахнувший серой провал, точно закидывали туда огромную вершу. Очень его подмывало и самому совершить воздушное это путешествие и покупаться в подземной «болотине». Николай не без труда от этого отговорил его.
Первобытность здешнего быта пленяла собою все еще юного Пушкина. Он мог вести с пожилыми людьми дельную беседу о войне и политике, горячо и самозабвенно спорить о литературе, и в то же время в нем был жив еще мальчик, с наслаждением пивший воду источника из берестового ковша или разбитой бутылки; и то, как при этом свежо пахла кора или блестело на солнце стекло, — все эти милые пустяки радовали его и веселили.
Да, хорошо было и на людях, к которым привык, которых и уважал, но вольное полное наслаждение было, когда в сотоварищи брал он себе только простор — горы и лес, уединенный источник. Слишком многое в ту пору томило его, а разрешение не давалось. И, вопреки самому себе, всему своему складу, характеру, живому, общительному, часто искал он уединения.
Птицы в лесах ни о чем его не вопрошали; кустарник шумел сам по себе; воды лились непрестанно журчащей мелодией, не заботясь о слушателе.
Еще раз отсюда, издалека, обозревал он свою недавнюю петербургскую жизнь, работу над первой большой поэмой, так высоко оцененной Жуковским; удачи и увлечения; сплетни и клевету; грозившую ему кару и помощь друзей. Все это он помянул, наконец, в небольшом лирическом эпилоге к своему «Руслану»: был такой час на его новом Парнасе, — как он прозвал любимую свою гору Бештау, — когда это все отстоялось и запросилось в стихи, а вскоре затем непроизвольно легло и на бумагу.
«Увидим, какой эпилог напишет он к своей поэме», — писал Карамзин князю Вяземскому вскоре после отъезда Пушкина из Петербурга. Этого эпилога, который он обещал, ждал не один Карамзин… Старшим друзьям поэта, вероятно, казалось, что если не покаяние, то хотя бы слова благодарности за оказанную ему свыше снисходительность должны бы там быть. Так Пушкин об этом догадывался, и он действительно в теплых словах вспомнил друзей, но… одних только их.
Больше того, как бы определенно намекая на свое обещание не писать некоторое время противу правительства, он не скрывал, а даже скорее подчеркивал, что
Душа, как прежде, каждый час
Полна томительною думой —
Но огнь поэзии угас.
…Так–то, друзья мои, не думайте, что я изменился, нет, я по–прежнему верен себе, и все осталось, как прежде, дума все та же — одна… Но я верен и данному слову — молчу, не пишу: об этом нельзя, так о чем же писать?
Так эти два главных вопроса: о чем же писать, а ежели не писать, так что, собственно, делать? — не покидали его и на Кавказе, здесь они даже, можно сказать, обострились. Кавказ его покорял своею дикою прелестью, но… так он сам написал:
Питаюсь чувствами немыми…
Генерала Раевского ждал в Горячеводске старший сын его, Александр, полковник в отставке. Николай был чуть помоложе Пушкина, Александр — постарше.
Но не одна только разница в возрасте разнила их. С виду они были похожи — оба высоки и статны. Пушкин меж них казался мальчиком–подростком. Оба хранили черты одной и той же породы; оба носили очки; оба были умны и образованы, и, наконец, оба — военные люди. Но столь были разны они, что между собою почти что им не о чем было и разговаривать, и надо было быть Пушкиным, чтобы в качестве третьего собеседника хватало его на них на обоих…
Странно, девочки на Горячих водах как–то от Пушкина, да и от Николая, отдалились заметно, точно присутствие старшего брата откинуло их снова в детскую. Мария, должно быть, про себя ощущала это не без некоторой горечи, вспоминая милые дни путешествия по южным степям. Но она была очень горда и ни единым движением обиды своей не обнаруживала.
Мисс Мяттен скова вошла в полную силу, хотя и дивилась про себя дикости русских, живших здесь, на водах, с той простотой, которая недоступна была ее пониманию. Что же касается до Анны Ивановны, которую Пушкин предпочитал называть родным ее именем — Зара, то она держала себя немного загадочно, и он не раз ловил на себе пристальный взгляд ее темно–зеленых выразительных глаз. Но этому он не придавал никакого особого значения.
Весь его ум, когда он не бродил в одиночестве по диким кустарникам, был целиком прикован к Раевскому Александру. И тот, в свою очередь, уделял ему много внимания. Это внимание не было бескорыстным. Александр Николаевич, томившийся собою, любил ощущать и проверять свою силу влияния на других; он и был ею действительно одарен. Молодого поэта сразу он оценил, как оценил бы опытный дрессировщик живого и своенравного, попавшего в его руки зверька. Подобное сравнение могло бы прийти в голову и самому Александру Раевскому — таков был характер и таковы были взгляды на вещи у этого жестокого человека.
Он импонировал Пушкину и завоевывал его очень простыми поначалу приемами. Суховатый, надменный и резкий, скупой на слова, между знакомыми и незнакомыми ходивший как человек особой породы, который лишь изредка позволяет себе снизойти к другим, — с Пушкиным он стал сразу на короткую ногу. И он вел с ним беседы — серьезные, почти доверительные, одновременно желчно и колко подсмеиваясь над всеми другими.
Пушкин никак не подозревал здесь игры. Он и сам был не прочь посмеяться над тем, что действительно было смешно (а такового было немало среди разношерстной и пестрой толпы, съехавшейся на воды), и не мог не ценить тонкого и умного разговора своего собеседника. Но когда, почуяв свою зарождавшуюся и все укреплявшуюся власть, Раевский пробовал анатомировать чувства и мысли своего младшего друга, все разлагая и все отрицая, Пушкин настораживался и частенько убегал от него к Николаю.
У Александра Раевского было изжелта–темное, в ранних морщинах лицо и широко разрезанный рот, губы часто слагались в привычную язвительную усмешку, казавшуюся столь же неотступной, как и пристальный гипнотизирующий взгляд его ореховых, широко расставленных глаз, по–кошачьи ласково–хищных; и у него был огромный выпуклый лоб, над которым торчали коротко остриженные волосы. Все это производило столь сильное впечатление на собеседника, что у того даже стеснялось порою дыхание, и оттого с таким почти физическим наслаждением Пушкин после глядел на ровный здоровый загар на щеках Николая, на его полные, как бы несколько припухлые губы, хранившие в своих очертаниях, вопреки его огромному росту и силе, что–то еще совершенно ребяческое; и так милы были ему эти глаза, где непрестанно светилась задумчивость, отражение ищущей мысли.
Вот с кем он мог и болтать обо всем, что приходило на ум, и делиться мечтами и мыслями! Да, и мечтами… Эта открытость и это доверие — обоюдные — были такими же ясными, как самое небо над головою, и такими же свежими, как ветер в долине. Никогда не случалось, чтобы разговор с Николаем его утомлял. Бывало, конечно, что и они вступали в горячий спор между собою, но никакого насилия, давления, порабощения.
Пушкин особенно любил, уединившись куда–нибудь под вечер, а то и ночью, лежа с Николаем бок о бок, слушать, как он простодушно рассказывал про семью, про сестер.
— Я написал нынче маме. Очень боюсь я за Катеньку. У нас ведь Елена грудью слаба, а тут и Катерину врачи направляли в Италию. Но отец — патриот и говорит, что и Крым не хуже Италии. Вообще он у нас великий медик и всех любит лечить сам.
— Да он и за мною приглядывает. Рудыковского не раз поправлял.
— А ты знаешь, как он лечил своего двоюродного брата Григория Самойлова? Это было во время турецкой кампании, так в перерывах между сражениями он заставлял его пить стаканами ослиное молоко; это будто бы очень грудь укрепляет!
— И что же, тот выздоровел?
— Да нет, он довольно скоро после того скончался… правда, от ран. Но отец очень сердится и говорит: «А не убили б, так был бы здоров!»
Пушкин, шутя, размышлял:
— Может быть, это и от лихорадки поможет? Не начать ли мне пить?
— А что же, попробуй! Он и Катеньку, кажется, собирается этой прелестью пельзовать. Но только она ведь упрямая: офицеру еще, говорит, может быть, можно, да и то удивительно, как он согласился, а фрейлине при дворе государыни это совсем неприлично!
Так они часто смеялись и балагурили; и Пушкин так отдыхал от Александра.
Но тот каждый раз замечал это бегство к младшему брату, хотя никогда и не показывал виду, как это его раздражает. Он становился лишь несколько сдержанней с тем и с другим, думая, что довольно и этого. Но когда это не помогало, он прибегал к своему испытанному приему. Как бы ничего вовсе и не было, он брал Пушкина под руку и куда–нибудь уводил, чаще всего на берег Подкумка, и как он умел говорить в эти часы, обычно передвечерние, и позже, под звездами!
Каждый раз неизменно он начинал с какого–либо интимного признания, — которое, конечно, можно сделать только самому близкому другу, — как если бы ходил с этими мыслями уже несколько дней… Доверить их некому, кроме как только и единственно Пушкину: кто еще может это понять и оценить самую откровенность!
Они быстро сошлись на «ты».
— Ты знаешь Орлова?
Пушкин знал его еще по Петербургу.
— А знаешь ли, что он собирался организовать тайный союз — общество Русских рыцарей? Это должны были быть самые честные люди, которые искоренили бы лихоимство и незаконные притеснения.
— Я знаю, что в «Арзамасе» он предлагал с теми же целями завести журнал свободных идей.
Раевский подозревал много больше, но Пушкина он интриговал, делая вид, что доверяет ему последние тайны. — У Михаила Федоровича, — говорил он, — язык очень острый и точный. Он называет государство наше «устроенным неустройством», а сам был бы рад «жизни бурливой за родную страну». Вот государь его к моему отцу под крылышко в Киев и отослал — начальником штаба.
— И как же они уживаются?
— А преотлично. Отец ведь в общем очень уживчив — со всеми, кроме меня. Меня он не любит.
— Но ведь и сам ты держишься от него далеко.
— Так что ж? Он сам по себе, я сам по себе. А впрочем, я про Орлова. Ты знаешь, я с ним в переписке, кое–что помню и наизусть. Да и ты запомнишь: веяние времени! Вот письмецо от прошлого года…
И Раевский тотчас процитировал, несколько приподнято декламируя: «Золотые дни моей молодости уходят, и я с сожалением вижу, как пыл моей души часто истощается в напрасных усилиях. Однако не заключайте отсюда, что мужество покидает меня. Одно событие — и все изменится вокруг меня. Дунет ветер, и ладья вновь поплывет. Кому из нас ведомо, что может случиться. На все готовый, я понесу в уединение или на арену деятельности чистый характер — преимущество, которым немногие могут гордиться в нынешний век».
— А вот и недавно совсем… Письмо это со мною, и кому бы другому я мог о нем сообщить? Он пишет, что в Риме открыт будто бы заговор, и тридцать пять тысяч австрийцев идут на усмирение восстания, которое вот–вот может вспыхнуть… «Везде огонь живет под пеплом, и я очень думаю (это он пишет)… я очень думаю, что девятнадцатый век не пробежит до четверти без развития каких–нибудь странных происшествий…»
Девятнадцатый век! Пушкину живо вспомнилась одна из любимых семейных легенд, как в Новый год — 1801‑й — собрались у Сергея Львовича гости и вели оживленные беседы на тему, каков–то будет новый, девятнадцатый век, только что наступивший, и что он с собой принесет — какие изобретения и государственные перемены; вспоминали знаменитых людей века, странно было сказать — века минувшего… И вот будто бы в самки разгар этой беседы маленький Саша, разбуженный доносившимся шумом — звоном бокалов и возгласами, — никем не замеченный, в одной рубашонке, не так давно и ходить–то начавший, переступил через порог и остановился, ослепленный непривычным светом многих свечей. Кто–то увидел его, все обернулись, а Надежда Осиповна, тогда еще молодая красавица, была и сконфужена, и восхищена, и в душе рассердилась на няню, как это та не углядела… Она вскочила с кресла и подбежала к отважному путешественнику, но вместо того, чтобы схватить его на руки, она внезапно присела сама и взяла его за крохотную ручку.
— Вот кто переступил через порог нового столетия! Вот кто в нем будет жить! — воскликнула она со внезапным порывом.
«И как она была хороша в эту минуту!» — каждый раз, вспоминая об этом памятном происшествии, добавлял от себя Сергей Львович, отводя взрослого уже теперь Александра из центра рассказа. Но Пушкин сам так хорошо помнил этот рассказ — о себе. Помнил и часто задумывался…
Так и сейчас он повторил за Раевским, или верней, за Орловым:
— Да, девятнадцатый век не пробежит без происшествий. Сколько осталось до четверти? Всего–то пять лет… — И тут были думы опять о себе…
Но Александр Николаевич, овладев и вниманием, и открытостью Пушкина, тут–то и начинал уже от себя и свое. Он ставил вопросы с такой жестокою ясностью и так беспощадно и горько тут же их разрешал, что возражать ему, спорить было почти невозможно. Однако ему и этого было мало, он вызывал Пушкина на спор, чтобы в самом молчании собеседника не затаилось чего–либо противного и независимого.
И постепенно, под завораживающие звуки мутной воды, бежавшей у их ног, Пушкин опять поддавался этим коварным речам, бледнел, и холодная горечь шевелилась у сердца. Любовь, свободолюбие, народ — все это одно за другим тускнело в душе, подобно тому, как сгущались вокруг дымные сумерки, погашая все краски цветного, яркого дня. Для этого демона в образе человека, казалось, ничего уже не было святого, ничего заветного, и он полностью наслаждался сознанием своей власти, могущества над другою душой, богатой кипучею, буйною молодостью, живою в глубине творческого ее бытия. Здесь надрезать, там хрустнет — и вот разломил, слагая отдельные полумертвые части по собственному образу и подобию.
И нервы у Пушкина, с его обостренной чувствительностью, то напрягались, то спадали, и для него состояние это порой походило на длящийся болезненный полуобморок. Александр Николаевич чувствовал это и почти не скрывал, что, кроме сознания власти, есть для него и еще одно наслаждение — тою видимой болью, которую он причинял. Это было подлинно мефистофельское отношение… Где–то Пушкина в глубине оно еще и обогащало новым познанием человеческого сердца. Но этот свой жизненный опыт пока он еще не полностью осознавал, и оттого глухое томление рождалось в душе.
Наутро Николай, заметив осунувшееся лицо друга, спрашивал, недоумевая:
— Что это с тобой? За ночь ты похудел.
— Поздно сидел у Подкумка.
— Так что ж?
— Там испарения, знаешь ли, нехороши… С Александром сидели.
Так позволял он себе отвести душу и подерзить по отношению к своему тезке, уж чересчур на него наседавшему.
Александр Николаевич любил поговорить и о поэзии. Он был чужд ее духа, но тонко и едко умел посмеяться над какою–нибудь одною строкой, выхваченной из общего текста. Пушкин это ценил и умел соглашаться, хотя бы то была и его собственная строка. Но Раевский на этом не останавливался. Разрушая, быть может, действительно хрупкую форму, он попутно мельчил и высмеивал и самую мысль, искавшую своего утверждения.
Ломался ли Пушкин под напором Раевского? Подпадал ли под чужую власть? Изменял ли себе? Александр Николаевич был в жизни его едва ль не единственным человеком, из борьбы с которым он выходил порою хромым. Но эта же самая борьба и крепила его. Он, как молодое деревцо под бурею, то пригибался, то выпрямлялся, а каждая рана покрывалась рубцом, оставляя для времени, чтобы оно и этот рубец в конце концов рассосало. И действительно, Пушкин заметно мужал, но не по типу Раевского, а на свой собственный лад. И, как это в жизни постоянно бывает, что–то происходило не только с одним человеком, но и с другим. Порою бывало даже и так, что Раевский готов был вот–вот отдаться всецело обаянию молодого поэта, и в душе его пробуждались живые движения истинной дружбы. Пусть очень редко, но все же случалось, что внезапно он брал своею большой похолодевшей рукой небольшую горячую руку Пушкина и сжимал ее в искреннем минутном порыве. И до Пушкина это немое признание доходило без слов.
Можно даже сказать, что когда по истечении месяца Пушкин перебрался вместе с Раевскими на Железные воды и один только Александр Николаевич задержался на Горячих водах, заканчивая свое лечение, то как раз и тосковал по–настоящему в этой разлуке Раевский, и не хватало ему не только жестокого своего развлечения, но и чего–то другого, гораздо более человеческого. У Пушкина было все — целый мир, в себе и вовне, Александр же Раевский, оставшись один, был предоставлен единственно самому себе, а это, как он с горечью сам про себя сознавал, было очень похоже на пустынную долину, выжженную солнцем.
Такова была эта борьба двух людей: так рождалась и их странная — не на один год — крепкая и сложная дружба.
Пушкин, конечно, не тосковал. Ему недоставало Александра Николаевича, но в то же самое время овладевала им и какая–то легкость, чувство освобождения. С новою силой природа, здесь еще более дикая, опьяняла его в далеких прогулках. Здоровье теперь сильно окрепло, и потребность в движении возросла.
На Железную гору еще вовсе недавно не отправлялись иначе, как под охраною казачьего отряда. В густом, непроходимом лесу еще и теперь можно было встретить затаившихся горцев. По крайней мере, такие ходили рассказы. Но Пушкина это, пожалуй, только еще больше взманивало.
— Смотрите, вас схватят, перевяжут веревкой и увезут в далекие горы, — говорила Мария, посмеиваясь, а немного и взаправду тревожась; здесь, на Железной горе, они заново стали дружить.
— Ну и что же! Во–первых, без боя я не намерен сдаваться, а ежели и возьмут, я напишу там поэму.
— О чем?
— Как я там по вас тосковал!
Смуглое лицо Марии краснело, но, преодолевая смущение, все ж рисковала она и подразнить:
— Воображаю! Тотчас же, наверное, увлечетесь какой–нибудь хорошенькой черкешенкой!
И она убегала, оставив «насмешника» в минутной задумчивости… О чем?
Лес на Железной горе — дубы и ольха, вязы и клены, конский каштан, — каждое дерево красавец по–своему, — полон был птичьими голосами: треньканьем, щелканьем, свистом; друг перед другом старались дрозды и щеглы, розовые скворцы и красногрудые снегири; пестрые дятлы по–хозяйски долбили носами, и в особицу по–разбойничьи каркали красивые галки с красными клювами.
А пониже, в траве–мураве и во мху, скакали, пилили на скрипочках нарядные, блестящие кузнечики, похожие на солистов во фраке.
Пушкину доводилось встречать и лисиц с огненно–рыжим хвостом, мелькавшим, как факел язычника, между деревьев в овраге; белки скакали по веткам, и зайцы шныряли в кустах совсем по–домашнему; удивленный хомяк с белыми лапами и черной полосою на лбу — поглядит, остановится, и вдруг кинет вбок и как–то назад свое внезапно взъерошившееся тело… Пушкин дивился особенно обилию диких котов с круглою, как бы обритою мордой и огромными мохнатыми лапами: они пригибались к земле, готовые вот–вот скакнуть, и желтые злые глаза их, казалось, рассчитывали математически точный прыжок. Он минуту выдерживал этот их взгляд и вдруг, длинно выбросив руки, хлопал перед собою в ладоши и устремлялся, согнувшись, на хищника, и нельзя было понять, как и куда мгновенно тот исчезал.
Он как–то в лицах показывал это девочкам Раевским — и за дикую кошку, и за себя. Соня чуть не заплакала, но и Мария, отчасти смеясь, все же сильно встревожилась. Только у Зары, стоявшей в сторонке, живым огоньком блеснули глаза, точно в этом почудилось ей что–то родное…
Мария потребовала: диких котов не дразнить!
— Я уважаю отвагу, — сказала она, — но только тогда, когда это серьезно.
Ночи здесь, на высоте, часто бывали холодные. Звезды казались крупнее и ярче, как бы клонились к земле. Дали под месяцем странно сужались, зыбкая дымка их одевала. Все вокруг становилось иным, чем было днем. Горы сдвигались ближе друг к другу, и вся земля становилась меньше, короче. Человеческий голос в этом изменившемся мире казался особенно близким, волнующим.
На Железной горе домов для приезжающих не было вовсе, и все ютились в калмыцких кибитках; в этом была особая прелесть. Николаю Раевскому и Пушкину не было здесь никакой помехи, и, лежа в особой палатке, на пахнущих козьею шерстью валеных кошмах, они болтали порою до позднего часа. Николай любил перед сном перебирать впечатления минувшего дня, вспоминать Петербург. Случалось, они принимались смеяться, и дружный их хохот будил кого–либо из остального семейства, расположившегося в соседних кибитках.
— Неуемные вы! — говорил поутру генерал, благодушно над ними подсмеиваясь. — Говорят, здесь бывают землетрясения, и, признаюсь, я было подумал…
Землетрясения бывали действительно, но их никто не слыхал, не видал, не наблюдал: Пушкин носил их в себе. Это бывали короткие промежутки сгущенного времени, когда с молодою, неудержимой отвагой сталкивались в душе воспоминания и мечты, обида и гнев, ощущение горечи плена и скованности и сквозь него могучий порыв к освобождению; это было смятение чувств — тоска поражения и восторг воображаемых побед. Пушкину часто казалось, что он совсем погибал в этом хаосе, где горы рубились между собою и из их каменных рассеченных ран били источники горячею кровью. Это не был застывший Кавказ и размеренно себя повторявшее время, — в кипении творческих и жизненных сил Кавказ как бы снова рождался и находил сам себя, и самое время сгущалось и тоже как бы вскипало во встречных потоках прошедшего и того нетерпеливого будущего, которое стремительно требовало стать настоящим.
Пушкин, смятенный, приподнятый, внешне взъерошенный, все это выносил один, сам с собою и лишь иногда, в такую вот прохладную, затаившуюся под звездами ночь, горячо, как поверяют сердечные тайны, говорил с Николаем о муках любви, о творческих муках, о жажде свободы. И он находил понимание в глубоком молчании, в ответном взволнованном слове. Оба любили друг друга, и Пушкин вновь обретал в этих беседах спокойствие сердца.
Кавказ глубоко ложился в сознание, в воображение Пушкина. Наряду с новым для него бытом, в который он внимательно вглядывался, с отдельными живописными фигурами горцев, силуэтом всадника на горизонте, что–то ему говорили также и — взгляды в себе затаившейся Зары. Правда, она не была девушкой гор, она не черкешенка, а просто татарка, но первобытный зеленый огонь ее глаз будоражил его.
Зара была молчалива, но, казалось так Пушкину, это лишь до поры…
Однажды, в степях еще, во время короткой одной остановки, вызванной поломкою колеса, пока в каретах все почивали, Пушкин тихонько вышел в спящую степь. Стояла луна, и царило молчание. Он отошел далеко. Лунный свет, заливавший пространства, туманился в далях и крохотными звездочками блистал в бисерных озерцах росы, осевших на узорчатых листьях уснувшей манжетки. Все было иначе, чем днем, завороженное, несколько призрачное. Иною лежала земля, и облака, в соседстве с лукою серебрясь по краям, также как бы дышали ночной улегченною жизнью.
На обратном пути, не доходя еще до экипажей, услышал он странный негромкий напев, в котором не мог разобрать и понять ни единого слова. Он постоял, помолчал и, ничего не сказав, тихонько прошел и поднялся в карету. Но голос татарки и самая мелодия, сдержанно страстная, и эта степь, и ночь, и луна глубоко запали ему в душу и в память.
Такою теперь вспомнилась эта ночь! Странная девушка… Сдерживаемая горячность ее существа сказывалась и в самой ее походке, несколько настороженной и даже как бы крадущейся. Так, незаметно, под чадрой темной ночи, могла бы она внезапно возникнуть и у входа в кибитку…
Что было тут правдой и что воображением? Впрочем, воображение нередко угадывает именно ту поэтическую скрытую правду, которая не уступит и самому–непреложному факту. Так и этот пригрезившийся и никак не воплотившийся в жизни роман стал подлинным фактом в творческой жизни самого Пушкина.
Но ничто — ни холодная, мрачная тень, которую, как одинокий утес, кидал на него разочарованный в жизни полковник Раевский, ни собственные «землетрясения», ни сознание предстоящей ему и все приближавшейся жизни на положении ссыльного, никакая тоска, порой налетавшая, как быстролетная темная туча, — ничто не гасило для Пушкина солнца.
Когда переехали и на Кислые воды — последний этап их лечения, кавказское солнце светило особо блистательно. Как четки, низались за сутками сутки: сияющий день и черная ночь. Это было классически строго и стройно.
Но собственное солнце внутри было гораздо более молодым и не столь классически строгим. Оно светилось в глазах и в улыбке, открывавшей блестящие ровные зубы, даже в самых движениях — порывистых и грациозных, действительно напоминавших движения молодого зверька, радующегося жизни.
К тому времени Пушкин получил через Инзова посланную ему Жуковским тысячу рублей — первый свой гонорар — за «Руслана и Людмилу». Но деньги — как если бы с гор набегал ветерок: так непрестанно они шевелились и так легко улетали… Пушкин присаживался и к карточному столу, беззаботно радуясь случайному выигрышу и ничуть не печалясь о проигрышах, гораздо более частых.
Он неизменно был весел и смеялся порою сущим пустякам.
Сам же особенно любил он подшучивать над доктором Рудыковским. Еще в самый день приезда на Горячие воды, сидя на бревнах, смеясь, он вписал его в книгу посетителей вод под важным наименованием «лейб–медика» из свиты генерала Раевского, а себя записал просто «недорослем». Рудыковскому было с этою записью немало хлопот, но кличка «лейб–медика» прочно к нему привилась.
Оба они часто пикировались. Рудыковский, кое–что понимавший в искусстве пиитики, пытался писать стихи и всерьез любил их декламировать вслух. Стихи были плохи и длинны, но как дружно зато все посмеялись над коротким советом, который преподан был Пушкиным почтенному медику–стихотворцу:
Аптеку позабудь ты для венков лавровых
И не мори больных, но усыпляй здоровых!
Тут, у кипевшей в яме воды, Пушкин однажды задумал повторить «научное наблюдение» доктора Рейнеггса, о котором слыхал от того же Рудыковского: «Один больной, прибывши к источнику, выпил два стакана нарзана и; почувствовав внезапное опьянение, впал в глубокий сон, продолжавшийся два часа семнадцать минут». В бассейн на веревочке заранее опущена была бутылка шампанского, и когда вся их флотилия прибыла со стаканами «на водопой», как шутил генерал, Пушкин еще раз захотел послушать рассказ об историческом опыте, а затем, вытянув бутылку, торжественно провозгласил:
— Да здравствует ваша наука: подставляйте стакан. Ручаюсь, что с вами произойдет то же самое!
Всем хорошо было известно, как Рудыковский быстро хмелел.
Последние дни были коротки. Скоро с Кавказом и расставаться. Пушкин и здесь поднимался на все окрестные горы — на Синие горы, на Бугурустан — по ту сторону Подкумка, на крутой, суровый Кабан. Манило его и на Большое седло, но Раевский–отец очень остерегал. Уже на Пикетной горе, совсем недалеко от источника, непрестанно пребывало сторожевое охранение. Гора же Большое седло скрыта была еще Малым седлом, выступавшим ближе к долине; там было уже небезопасно.
Однако же Пушкину очень хотелось проделать какую–нибудь именно небезопасную вылазку, и вместе с Николаем подговорили они одного старика–казака сопровождать их в ночной экспедиции. Можно было предполагать, что замыслы их не остались полною тайной для генерала, но, к удивлению, он им ничего не сказал.
Еще до полуночи со всей осторожностью выступили они в поход. На попечение проводника сдана была также корзина со съестными припасами и вином: решено было на высоте заночевать и дождаться восхода солнца.
Небо было закрыто облаками, набежавшими еще на закате, и ночь полна была бледного, рассеянного света; скалы, отроги и выступы возникали внезапно и незаметно скрывались. Путь лежал в объезд Синих гор, стоявших над самой долиной нарзана. Подъем шел постепенно, но ехали шагом и молча. В этом была своя прелесть.
Дорога, как оказалось, была совсем не длинна, в полумгле, чуть посветлевшей, скоро уже и замаячил коренастый очерк седла. Каменистое ложе окончилось, и кони вступили в высокую сочную траву. Вдруг на горе или, может быть, непосредственно за горой явственно раздалось фырканье лошади. И Раевский, и Пушкин насторожились. Один старик–проводник сохранял невозмутимое спокойствие. Он неторопливо и остерегающе поднял вверх руку.
— Только что, ваши благородия, не вздумайте выстрелить, а то как бы нас не приняли за горцев!
— Что ты говоришь! — громким шепотом вырвалось у Пушкина. — Как — нас за горцев?
— А так, — спокойно ответил казак, — меня самого предупредили: дескать, не вздумай шалить, а то, часом, и не узнают.
— Зато я узнаю отца! — воскликнул Раевский. — Он послал на Большое седло казачий разъезд?
— Так точно. Их высокопревосходительство с вечера об этом распорядились.
Так Раевский–отец их перехитрил… Это было, конечно, с его стороны очень заботливо, но Пушкин то хохотал, вспоминая эту удавшуюся генеральскую хитрость, то опять хмурился. Он рассердился бы и совсем, когда бы не убедился, что казачьему пикету ничего не известно об истинной цели ночной их командировки на Большое седло.
— Я не останусь тут ночевать, — негромко сказал Пушкин Раевскому. — Только спустимся давай где–нибудь по крутизне.
И уже по самому тону этих слов, заговорщицкому, тот догадался, что Пушкин что–то задумал.
Так оно и оказалось. Как только спустились — спуск был крутой и опасный, а стало быть, и восхитительный, — Пушкин с казаком–проводником быстро договорился. Он и раньше осведомлен был о знаменитой вершине Джинал. Это было порядочно к югу, а стало быть, ближе к Эльбрусу и уж, конечно, много опасней, чем Большое седло. Теперь ему загорелось: на хитрость ответить хитростью, на осторожность — риском.
И проводника особенно уламывать не пришлось. Похоже, что и его заразил молодой этот задор. Одно только было условлено: полная тайна! На этом особенно настаивал Николай. Никому не говорить и даже не писать. Не хвастаться! Ему не хотелось, чтобы как–нибудь это дошло до отца.
Теперь экспедиция протекала иначе — со скрытым упорством и с подлинной осторожностью. Что–то от лицейских проказ сливалось в одно с совершенно другим ощущением: как если бы это было настоящей военной разведкой.
Подъем поначалу шел постепенно, но ехали шагом. Молчали. По дороге сменялись не раз запахи трав и цветов: чем выше, тем далее всадники наши уходили от лета и приближались к весне; становилось свежо. Подъемы вдруг сделались круты, направление едва различимой тропы резко и часто менялось.
— Далеко ль еще? — негромко спросил Николай.
— А как раз и добрались, — ответил старик. — В самый раз и Джинал. — И, еще не снимая корзины, соскочив с коня, огляделся и осторожно положил на землю ружье.
Облака наверху поредели, но и звезды поблекли. Все предвещало скорое утро. Молочный туман полнил бескрайнюю долину, открывшуюся глазам. Он был зыбок и легок и пребывал в непрестанном движении. А где же Эльбрус? Он где–то и был, холод веял в его сильном дыхании, но сам он невидим. Легкое чувство разочарования охватило молодых путников. Было совсем–таки холодно, зябкая дрожь пробегала по телу.
Раевский непроизвольно зевнул и, мешая в одно зевок и улыбку, сказал неразборчиво:
— Жалко, не прихватили и одеял… Хорошо бы прилечь. — Он был порядочный соня.
— Да и другим чем недурно б погреться! — отвечал Пушкин, смеясь.
Настороженность покинула их, как только соскочили с коней. Изумительная тишина стояла окрест, как бы пролитая с неба на землю и затопившая собою все на десятки верст. Не то чтобы не было только видно и слышно людей, но больше того: было само по себе, как особая какая–то реальность, — безлюдье.
Молодой аппетит пробудился. Намолчавшись, хотелось и поговорить, и оба они, развеселившись, присели на корточки и стали выпотрашивать корзину. Старый казак, не спеша перекрестившись, присоединился к их трапезе. От молодых господ он и тут никак не отставал. На короткое время, выпивая, закусывая, оба молодых человека почти вовсе забыли о цели своего рискованного путешествия. Но, нечаянно обернувшись, Пушкин стремительно вдруг поднялся и почти закричал:
— Николай! Посмотри же… Он к нам идет!
— Кто? Где? — И Раевский вскочил по–боевому.
В свете бледного раннего утра, едва выделяясь из молочных туманов, как из зыбких ночных своих риз, белоснежный старик, красавец и великан, проясняясь, очерчиваясь с каждой секундой все полней и мощней, действительно как бы летел им навстречу. Он был необычен. Обе вершины его, к которым глаза, любуясь, привыкли давно уже, — «вот это и есть сам Эльбрус!» — были теперь только как главы, венчавшие его исполинское тело, одетое едва до половины в грандиозный снежный кафтан. Был он огромен и вместе с тем легок необычайно — воздушными своими пропорциями; и как же тонки и нежны линии скатов, как хрупка и светла вся его снежная масса! И хотя поразительно было это ощущение стремительного его приближения, почти гармонически музыкального, но тотчас же оно стало казаться и единственно верным, естественным.
Одновременно во всей своей сказочной ширине развертывалось и открывалось безмерное пространство, казавшееся одною долиною бледной дымящейся мглы, постепенно также светлевшей.
Чем Эльбрус становился видней, тем казался он ближе, но чем шире, полнее открывалась долина, тем ясней становилось, как он был далеко! Но вот движение кончилось, и глаза, удивляясь обману, которому они поддались, созерцали теперь эту чудную глыбу на огромном отдалении. И как спокойно и величаво стояла она над морем тумана или облаков, казавшихся сверху туманом!
— А влево… гляди! у Пушкин невольно сказал это шепотом.
Влево глядела причудливо вырезанная гряда снежных вершин. Как взмах сабли, замыкал ее врезавшийся в небо Казбек.
И вот — началось; и вот — продолжалось. Пала заря на снега, и зарозовели снега все возраставшим румянцем и засинели сине–сине на западных склонах. А потом пало первое солнце на вершину Эльбруса, и она засияла под солнцем, как сама радость. И запестрели и расцветились другие вершины, а от Эльбруса легла синяя долгая тень:
Так все играло и переливалось на юге, но как хорошо было и к северу! Уже привычные, ставшие почти что родными, как огромные стога (вспомнилось первое впечатление), стояли там перед Пушкиным домашние вершины Пятигорья и другие их родичи. Солнце их еще не коснулось, они казались совсем близкими, и почти ощутимо веяло от них дыханием утренней прохладной росы. На западе, вдоль Бугурустанской гряды, серебром заблистала изогнутая лента Подкумка: было похоже, что истоки его начинались от самого неба. Глядеть бы, глядеть не отрываясь…
Через какое–то время усталость и сон взяли, однако, свое, и молодые путешественники, забыв осторожность, решили часок подремать. Так, поеживаясь от холода, близко прижавшись друг к другу, они быстро и сладко уснули.
Завтра уже уезжать! Это их тайное путешествие и было последним впечатлением двухмесячного пребывания на Кавказе: что–то огромное и прекрасное в нем были слиты в одно.
Пушкин в тот день не хотел ни минуты грустить. Так никому ничего оба они и не сказали. Пушкину легко было хранить эту тайну о незабываемом утре в горах; как зародилась она в безлюдье и тишине, так и пребывала нетронутая. Но отличное его расположение духа было видимо всем. Эту свою чистую радость, скрытую в ее первоисточнике, он хранил про себя, но тем подвижнее был он на людях и тем больше шутил, тем громче смеялся.
На прощанье Мария пила у источника, слушая Пушкина, глядя то на него, то на кипящий нарзан, как десятками тысяч выкидывал он свои пузырьки, неугомонный, живой, неиссякаемый.
Александр поймал ее взгляд и к ней подошел.
— Вы мне что–то хотите сказать? — спросил он ее доверительно. (Отец стоял в стороне.)
— Вы угадали, — отвечала Мария так же негромко. — Я хотела сказать, что вы похожи… Ну да… что вы сами — как этот нарзан!
И она покраснела, сконфузилась, но не убежала, как делала это почти что всегда. Напротив того, она посмотрела ему прямо в глаза. И в глазах ее не было смеха, улыбки. Они глядели открыто и прямо и были серьезны.
Глава третья НОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Предстоящее путешествие к морю и дальше — берегом моря весьма занимало Пушкина. Путь вдоль Кубани не был похож на спокойное передвижение в мирных южных степях. На Кавказе не прекращались столкновения с горцами, и настороженная военная обстановка входила в быт, ставший уже привычным. Самые приготовления к этой поездке напоминали настоящие сборы в поход. Целый отряд из шестидесяти казаков, на отличных, не рослых, но как бы отлитых сильных конях, должен был охранять генерала и весь его поезд. Мало того, медленно громыхала за ними заряженная небольшая пушка с зажженным фитилем. Все было изготовлено к немедленному бою, если понадобится.
Пушкин был даже немного разочарован, что боя так–таки и не вышло. Время от времени в большом отдалении возникали на фоне зари привычные уже очертания одинокого всадника с широко раздвинутыми буркой плечами: конь вздыбил голову, узда коротка, косо торчит островерхая шапка — все это слито в одно, и хвост позади стелется по ветру… Бери карандаш и рисуй! Но возникшее это видение постоит так минуту, застыв, потом повернется вокруг воображаемой оси и станет едва различимою черной горошиной, и горошина эта скатится за горизонт…
Внезапно раздастся и гулко прокатится одинокий выстрел. Это кто–нибудь из казаков разрядил не столько ружье, сколько накопившуюся тоску ожидания. Впрочем, было это отчасти и простою забавой, и скоро Раевский распорядился ее прекратить.
И все же ночью, на бивуаке, когда зажигались костры и ружья ставились в козлы, когда к дыму от хвороста примешивался запах солдатского отдохновенного рациона — сала на сковородке и терпкой махорки, когда голоса многих людей, не теряясь каждый в отдельности, сливались меж тем в общее чуть приглушенное, но все же свежее по холодку рокотание — вот тогда–то и наступало то особое внутреннее состояние, в котором ожидание, настороженность, готовность, приподнятость были сжаты в одно; быть может, точнее всего здесь было бы слово упругость — в применении не только к физическому состоянию, но и ко всему строю души.
Пушкин ехал уже не в экипаже; небольшою, но статной фигурой его на коне и Зара, и девочки могли любоваться теперь сколько угодно. Чувство выздоровления не покидало его. Ему так не пристало хворать, и вот — засыпал и просыпался с радостной мыслью: здоров!
Он иногда отставал от общего поезда и, пришпорив коня, горяча его также уздою и голосом, делал довольно далекие отлучки по сторонам на свой собственный риск и страх. В эти минуты, как бы лихо ни скакал боевой его бравый конек, мечты седока, как у мальчика, удравшего из дому, уносили его много дальше… Как ветерок, летели они, беззаботные, полные сами собой, и, как сказки, что слушал ребенком, о Бове и Еруслане, были исполнены приключений диковинных.
Далеко стороной обогнав весь отряд, он давал отдых коню, наезжая лишь на отары овец, огибая лениво–неутомимых горбатых верблюдов, и медленно, важно, как воин, выполнивший ответственное задание, ехал навстречу своим.
Поравнявшись с каретою девочек, розовый и оживленный, он делал серьезное и почтительное лицо и деловито склонялся к опущенному окну:
— Честь имею доложить: дорога очищена от неприятеля!
Раевский–отец не одобрял этих пушкинских вылазок, но ничем этого не выражал; девочки же были от них в полном восторге, и даже серьезная Мария не думала их запрещать.
Ехали основательно, не торопясь. На остановках часто беседовали. Генерал, хорошо отдохнувший и подлечившийся, доволен был тем, как протекла поездка; путешествие это и, в особенности, полувоенная обстановка его молодили: годик за годиком не без удовольствия скидывал он по дороге. В нем просыпался старый кавалерист, и как–то под вечер он поманил к себе одного из казаков, лошадь которого давно уже ему приглянулась.
— А ну–ка…
Казак понял тотчас — с полуслова, с полудвижения и, как яблоко с дерева, мягко скатился на землю.
— Прикажете вашего вороного седлать, ваше высокопревосходительство? — спросил он, себя самого проверяя.
Раевский повторил едва уловимое движение пальцем к серому мерину.
— А это есть лучший конь между казачьих коней, — заговорил казак, сильно обрадованный тем, что так точно с самого начала понял распоряжение генерала; своим конем он гордился. — Изволите сесть, ваше высокопревосходительство?
— Поедешь со мной, — ответил Раевский и занес ногу в стремя.
Казаку тем временем подвели в поводу другого коня.
Степенно, пробуя лошадь, Николай Николаевич выехал — в голову своего небольшого отряда. Так он и следовал некоторое, недолгое, время, потихоньку горяча коня, но не давая ему воли, держа повод накоротке.
Дорога была пыльна и пряма; низкое солнце тепло золотило по обочинам жесткие, уже слегка уставшие за лето травы; мягко дышали, чуть розовея, облака на закате; ветер навстречу плыл легкий и ровный, зовущий. И вдруг, угадав свою молодую минуту, Раевский дал шпоры и вихрем понесся вперед…
Дамы невольно легонечко ахнули: так это было красиво и, хоть ожидали, — совсем неожиданно. Пушкин слегка побледнел и закусил крепко губу, чтобы сдержать себя, не поскакать следом за ординарцем, на какую–то долю секунды все ж запоздавшим. Через немного мгновений кровь с новою силой ударила в запылавшее его лицо. Медленно он подъехал к карете и, поймав восхищенный взгляд Марии, сказал ей:
— Мария, вашего отца я люблю.
Мария в ответ ничего не сказала, но у нее дрогнули губы.
Раевский не думал ни об эффекте, который мог произвести, ни о том, достаточно ли окреп после болезни и не даст ли себя знать старая рана в руке; он просто слушал, как в нем нарастает горячее молодое желание, и отдавался ему… Но когда наконец он помчался вовсю, вздымая за собою длинное розовое облако пыли, к нему, уже совершенно без дум, просто вернулась настоящая молодость. Он понимал теперь Пушкина; в этом порыве он был сейчас ему равен. И когда, насытив движением себя и коня, он возвращался назад уже ровным, размеренным шагом, а волосы, выбившись из–под фуражки, слегка щекотали его у виска, он — позабыв и чин, и года, и то, что на Пушкина про себя, случалось, подварчивал, — не то чтобы разрешил себе эту шалость или вольность, а просто она родилась у него непроизвольно. Генерал направил коня прямо к нему.
— Честь имею доложить, — сказал он, сдерживая улыбку, — дорога очищена от неприятеля.
И у Пушкина засветились глаза, когда он услышал этот самим им придуманный рапорт. Он ничего даже не нашелся сказать.
Зато Мария, сидевшая в карете у самого окна, выпрямилась, как насторожившаяся птичка. Ее полудетское сердце дрогнуло как–то по–новому. Она любовалась отцом, и, через него, по–особому мил показался и Пушкин: может быть, больше, чем мил… Но она не хотела даже и немых этих слов. Руки ее поднялись, кисти легли одна на другую и так, помедлив мгновение, упали опять на колени.
А разговоры на остановках… О чем?
Опустелые аулы по дороге, покинутые отдельные сакли, рассказы казаков, побывавших в боях, — весь быт этих сторожевых станиц, где половину дня проводят верхом на коне в ожидании очередного набега в постоянной готовности драться — и защищаться, и нападать, — живые легенды об офицерах, пойманных на аркан и увезенных в дальние горы в ожидании выкупа, — все это дышало сегодняшним днем, было живою историей. Имя Ермолова было у всех на устах; вспоминали Бакунина и Цицианова, погибших в боях, грозного Котляревского…. Куда ни взглянешь — гробницы, курганы, и чем ближе к Тамани, тем чаще они. Эти скопления их и вереницы напоминали собою своеобразные летописные строки. Большинство надмогильных сооружений являлись, конечно, просто–напросто памятью о людях, умерших обычною смертью… Но были средь них и другие, говорившие явственно, какие и в древности здесь кипели бои.
Раевский и Пушкин, как два государственных мужа — седой и юнец, — нередко вели между собою беседу о задачах России на Востоке, о возможности безопасной торговли с Персией и о других важных предметах.
Еще на Горячих водах вместе с Николаем Раевским, Пушкин побывал как–то у чиновника английской миссии в Тегеране Виллока. Первые приветствия, затверженные еще по дороге, были сделаны гостями по–английски. С любезной улыбкой Виллок им отвечал таким же приветствием на ломаном русском языке. Это было верхом любезности со стороны представителя нации, не признающей никаких других языков, кроме своего собственного. Но тотчас же все три собеседника с одинаково понимающею улыбкой перешли на французский, так как дальнейшие возможности свободного разговора были почти исчерпаны. Пушкин потом, смеясь, говорил, что у него, правда, было кое–что еще про запас: он мог недурно мычать по–английски, а то неразборчиво что–нибудь и пролаять, — «как это отлично умеет делать мисс Мяттен…»
Беседа была занимательна. За сдержанностью англичанина молодые русские гости уловили, однако, какие огромные интересы у Англии на Востоке. Видимо, что–то хотелось ему разузнать и о русских намерениях. Но на осторожные любопытствующие вопросы английского дипломатического чиновника они отвечали тоже как дипломаты, — со светскою, ничего не говорящею вежливостью. Наконец англичанин, видимо, обманутый в ожиданиях, довольно–таки откровенно зевнул, широко раздвинув при этом мощные челюсти, и показал без стыда желтые зубы. Гости взглянули на это симпатичное зрелище, покосились один на другого и поспешили откланяться. Дорогой друзья громко над ним хохотали.
Как бы, однако, Александр был удивлен и взбешен, когда бы узнал, что через несколько дней местный служака–майор уже доносил об этом их посещении главному начальнику края. Но Пушкин об этом так никогда и не узнал.
В беседах с генералом Раевским этой же темы: Россия — Восток, касались они неоднократно, и разговор их, не угасая, затягивался порою настолько, что приходилось напоминать генералу о завтраке.
Бывало и так, что посредине разговора Раевский вдруг останавливался, замечая, что этот столь молодой человек не только светски поддерживает беседу, касающуюся первостепенных интересов отечества, но истинно в ней заинтересован и высказывает разумные, а подчас и оригинальные суждения.
Генерал хорошо знал и оду «Вольность», и дерзостные эпиграммы Пушкина: сам он далек был от этого «либералистического» образа мыслей, но чрезвычайно ценил отважную открытость Пушкина и то, что от себя самого он не отрекся. Теперь же, сверх того, приятно ему было видеть в этом свободолюбивом юноше искреннего и пылкого патриота. Случалось, что Пушкин заносился в воинственном угаре даже, может быть, чересчур далеко, но тут же и остепенялся. И наряду с упоением боя, как представлялось это в мечтах, он опять и опять искал смысла войны и государственной ее необходимости, с которой нельзя не считаться.
Уже не во время беседы, а позже, перед отходом ко сну, лежа на своем походном ложе, Раевский порою все еще думал о своем собеседнике. Вот, он сказал: «Тут, где мы едем, война затихает, и, в сущности, генерал, наш конвой, может быть, чересчур многочислен. А пройдут годы, и на всем Кавказе настанет пора мирного труда». Да, в этих словах несоединимое — соединялось; свободолюбие Пушкина и патриотизм каким–то особенным образом в нем сочетались. Война есть война. Но сами народы могут жить в мире.
Для генерала тут не все было ясно и уводило к тем мыслям, которых он не любил в себе допускать. Он всегда уважал солдата–противника, но не позволял себе думать об ужасе всякой войны самой по себе: на войне эти мысли равносильны военной измене. Он не стал бы терпеть этих мыслей и у других. Но у Пушкина было иначе. Никчемные и расслабляющие мысли были чужды ему. Но вот, очевидно, он думал и говорил: народ и народам желал он не вражды между собою, а дружбы…
И Раевский начал припоминать строчку за строчкой недавнее пушкинское стихотворение, слышанное им не от него самого, а от Николая, знавшего его наизусть:
Во цвете лет, свободы верный воин…
Вот эта строка его беспокоила. Сначала война, но без всякой свободы, и как хорошо, коротко, сжато:
Мне бой знаком — люблю я звук мечей;
От первых лет поклонник бранной славы,
Люблю войны кровавые забавы,
И смерти мысль мила душе моей.
И откуда он знает все это? Как если б действительно знаком ему бой! Вот они — отзвуки двенадцатого года, великой оборонительной войны… Но почему ж тогда дальше эта стоока:
Во цвете лет, свободы верный воин, Перед собой кто смерти не видал, Тот полного веселья не вкушал И милых жен лобзаний не достоин.
А ведь и здесь патриотический пыл слит воедино с готовностью встретить самую смерть в бою за свободу… Но как хорошо все это в целом! «И милых жен лобзаний не достоин…»
Тут, наконец–то переведя мысли на другое, Раевский вдруг улыбнулся, припомнив что–то забавное: и до него дошло это шутливое прозвище Пушкина, данное, когда покидали Кислые воды, Марией — умненькой черненькой дочкой (генерал был глуховат, но что ему надо — все слышал). «Странный нарзан, — подумал он, поудобнее укладываясь на правый бок, — странный нарзан этот Пушкин, никак от него не уснешь».
И уже совсем в преддверии сна перед закрытыми глазами его возникли они оба: Пушкин весело что–то ей говорил, и улыбка блестела на влажных его зубах, а Мария слушала, не смеясь и слегка наклонив голову. Но вот и она подняла глаза, черные, строгие, и губы ее уже шевельнулись… Каков же будет ответ?
— Не надо! Не надо… Я это вам запрещаю! — громко воскликнул Раевский, заволновавшись, и на минуту проснулся.
«Что это? О чем я? Или была тревога?.. Нет, тихо». Он начисто все позабыл. Голова упала на подушку, и тотчас же он крепко уснул простым, честным сном.
Море опять. Городишко Тамань. Немного лачуг, мазанных глиной, а когда–то — столица удельного Тмутороканского княжества. Пушкин припомнил удалого Мстислава, княжившего некогда здесь. Об этом сыне святого Владимира писал Карамзин, и его битва с касогами поминается и певцом «Слова». И где–то здесь, уже позже — при половцах, стоял тот самый «Тмутороканский болван», который занимал его воображение уже одним этим своим забавным прозванием еще на лицейской скамье. «Поискати града Тмутороканя»… — то ли предъявить права на него, вчинить «иск», — был–де русской землею и перестал ею быть… то ли в самом простом значении слова: поискать его, как ищут потерянную вещь? И действительно, не был ли этот таинственный город расположен на острове, потом опустившемся в море, как ходят об этом и посейчас темные слухи? Быть может, оттуда и командовали русские удальцы над прибрежною местностью — не Запорожская, а Приазовская Сечь… Кто это знает доподлинно?
Доподлинно знать вообще очень трудно. Самый берег Азовского моря, как говорят, в непрестанном движении, он словно поеживается: тут окунется на дно, как бы от южного зноя устав, а здесь вот поднимается кверху — мокрою спинкой пошевелиться под солнцем. Горбатые голые сопки вокруг, грязевые вулканы, камышовые заросли в плавнях, а над крутыми обрывами побережья молчаливо колышутся, качая головками, дикие мальвы.
Если б не дождик, застлавший весь кругозор реденькой своей пеленой, как бы все засияло под солнцем, как бездонно легла бы небесная глубь в изрезавших сушу лиманах. И как же все это кипело в далекие времена — и берега были усеяны тесно народом в движении, и самое море как бы тонуло в колебаемых парусах, что могли бы поспорить с самими белогрудыми чайками…
Но зато какая пустыня сейчас! И как странно подумать, сидя здесь в ожидании переправы, о той отошедшей, по–своему бурной, кипучей эпохе… Берег уныл и безлюден, а самое море? — узкий рукав, побледневший и выцветший: кажется, можно его просто перебрести… И невольно туманом ложилась на душу унылость.
И такие минуты у Пушкина тоже бывали. Он никогда не видал океана, но знал по себе, что такое отлив, когда чувства внезапно мелеют и воображение меркнет; или безветрие на море и пустые, опавшие паруса. Может быть, впрочем, это лишь опять посетившая его скрытая лихорадка? Нет, верно, проще: все напряжение, блеск и игра этих двух месяцев, зной кавказского солнца, снежные горы, славшие холодок, необозримые дали, где облака ходят внизу так же свободно, как и на небе, эти поездки верхом — раздолье мыслей и чувств, фантазии — и… нет ничего: серенький дождик одинаково скучно кропит и землю, и море, и они, в свою очередь, равнодушно покорны и серы, как если бы… странно, но, право, похоже, — как если бы самую жизнь заставили ждать лошадей на какой–нибудь захудалой почтовой станции.
У Марии разболелась голова; Зара сидела в карете, словно в кибитке, и не показывалась; Пушкин слонялся у берега, и ноги его тонули в глинистом, вязком грунте…
Хоть бы зубы, что ль, заболели, было бы больно, да можно бы хоть посердиться!
Немного развлек его разве только рассказ старика–рыбака о некоем генерале Вандервейде, солдаты которого разрыли курган неподалеку отсюда и нашли там несметные клады.
— А самому генералу, уж вы не осудите, ваше превосходительство, преподнесли толстую — вроде цепочку на руку… Хоть она, видишь ты, и золотая, а все как–то неловко: вроде наручников. И красные камни — вроде как кровь проступила…
Раевский не мог не улыбнуться.
Он кое–что понимал в археологии и с интересом спросил:
— А не было ль ваз?
— А эти самые вазы побили. Нет им числа! Вот теперь там дюже много копают…
И он махнул рукой за пролив.
На том берегу ждала наших путников — всего–то верстах в пятнадцати — древняя Пантикапея, город, посвященный богу Пану, столица Боспорского царства, или, как запомнилось прочно выражение Карамзина, — «матерь всех милетских городов на Боспоре»: Карамзин кого–то цитировал… Все семейство Раевских мечтало посмотреть развалины Митридатовой знаменитой гробницы.
Но вот переправа на Крымский берег наконец совершилась, и Пушкин, оставив пределы Азии, вступил на долгожданную землю Тавриды. Однако ж досадная душевная вялость, столь ему мало свойственная, и тут не сразу его покинула. Правда, к вечеру дождь прекратился, ночью хорошо вызвездило, но наступивший денек был снова серенький. Солнце ходило по небу за легкою сеткою облаков, и лишь изредка падал неяркий его, напоминавший об осени луч на груду тяжелых камней, на ступени в скале — «дело рук человеческих»…
Все веяло прошлым. От древнего великого города остался лишь ров, заросший травою, следы проходивших здесь некогда улиц, старые кирпичи. Но как бы то ни было, именно тут великий воин древности, завоеватель Греции, гроза римских колоний, разбитый в последней битве Пом—Пеем, — Митридат Эвпатор — вот на этой горе грудью упал на подставленный меч, и эту самую землю оросила его буйная кровь. У развалин гробницы знаменитого полководца, наклонившись, Пушкин сорвал красный цветок дикого мака; бледное солнце озарило его, как бы донося свой ослабленный свет из глуби веков. На память он заложил этот цветок в книжечку, бывшую с ним.
Генерала Раевского вызвался сопровождать по древнему городу некий француз–эмигрант — Павел Дебрюкс, состоявший теперь на русской службе. Заведовал он здесь соляными промыслами, но все его звали — «открыватель гробов». Он очень обрадовался просвещенным путешественникам и болтал без умолку.
— Я тут живу уже десять лет, но что значат десять жалких лет? Я хотел бы жить сто! И то разве лишь малую долю отнял бы у этой ревнивой земли. О, земля — она очень ревнива и очень скупа. Требует денег и денег! Я все свои сбережения вложил в эту землю. Потом помогали мне немного граф Ланжерон, государственный канцлер Румянцев… Великий князь Николай Павлович соизволил пожертвовать сто рублей лично. Но я хочу открыть здесь музей, как открыт уже в Кафе.
На нем была куртка охотничьего образца, со множеством карманов, из которых каждый застегивался на роговую пуговицу.
— Да вот, — говорил он, отстегнув один из них, и, запустив туда руку, брякнул монетами. — Вот, поглядите! Разве не любопытно?
На боспорских монетах — изображены были головы барана, быка, длинноперая рыба…
— А эта, извольте взглянуть, интереснейшая! Видите, гриф держит дротик в зубах и сторожит хлебный колос: это он охраняет богатства Боспора. И сам этот холм на границе морей — не правда ли, — какой это могучий сторожевой пост! Я покажу вам потом свои карты, я хотя в прошлом кавалерист, но и топограф отчасти…
Монета действительно была любопытна, холм был хорош, рыжеватая бородка француза пылала энтузиазмом, но Пушкину, в критическом его настроении, показалось, что этот энтузиаст — да не хлопочет ли он перед влиятельным человеком о какой–нибудь новой субсидии?..
Карты и планы, которые позже показывал Павел Дебрюкс, были сделаны тщательно, с какою–то даже суховатою артистичностью, но когда завели было с ним разговор о горных породах, то оказалось, что он ничего не знал, кроме своей соли. А между тем Пушкин, гуляя, сам обратил внимание на ржавого цвета ноздреватые камни, торчавшие там и тут: было похоже, что это руда. Да и во многих других вопросах словоохотливый их собеседник оказался круглым невеждой, а из истории знал одни анекдоты… Пушкина это не повеселило.
И уже гораздо больше понравился ему пожилой человек в Феодосии, у которого они остановились, — Семен Михайлович Броневский. Он был шесть лет градоначальником, а до того служил в Грузии у Цицианова, дружил со Сперанским. Теперь уже года четыре он жил на покое в собственном маленьком доме, в полутора верстах от города. Участок он засадил виноградом и миндальными деревьями. Этот сад и был для него средством к существованию. Бывший начальник города — он состоял теперь под судом, у него было много врагов, как это часто бывает у людей очень хороших и добрых, но независимых. Достоинство и спокойствие духа его не покидали. Пушкину вспомнился старик из «Георгию» Виргилия, живший в саду и питавшийся фруктами с дерев, им самим взращенных.
Броневскому было тогда уже сильно за пятьдесят, да и Раевскому вот–вот минет полвека, но, глядя на этих двух почтенных людей, так мирно и ладно друг с другом беседующих, юноша Пушкин вдруг и сам ощутил тихую прелесть покоя и ровного течения дней. Даже самые годы их показались ему вовсе не старостью, как уже будто пора их назвать, а гораздо вернее: порою спокойного мужества, зрелости, и им обоим он был благодарен за это свое ощущение.
Сад был хорош, море плескалось у берега, обломки колонн из паросского мрамора, разъеденные ветрами и размытые течением времени, белели там и сям через плотный блеск зелени миндальных деревьев. Пушкину в новом своем, как бы улегченном, состоянии захотелось побыть одному, и он вышел сюда, прихватив с собой книгу, данную ему хозяином. Это был труд самого Броневского — «О южном береге Крыма»; там было много живых наблюдений и интереснейших сведений. Нечто подобное готовил он и о Кавказе. Пушкин достал было свою путевую тетрадку, намереваясь кое–что в нее занести… На странице, где был заложен сорванный им цветок мака, оставался только слабый след от стебля. Цветок он потерял. Жаль было? Нет, он сожаления не ощутил.
Книжка закрыта, но перед глазами стоял вдавленный след от стебля. Не таковы ли и воспоминания? Того, что когда–то сияло, или грело, иль мучило, нет уже в жизни, но след от былого хранится в душе, и этот незримый цветок воспоминании благоухает неумирающей жизнью — живы и боль, и восторг! И — как если бы ветер повеял и зашумела листва, или источник вырвался к солнцу и запрядал, смеясь, по камням, — так и Пушкин, забыв и о записях, и о книге Броневского, и о цветке, и о собственных мыслях, внезапно, стремительно быстро сорвался со скамьи, как иногда это с ним бывало, и почти побежал — к морю, к морю, на волю!
Море вздымалось и опускалось неровно, бугристо; волны, сшибаясь, вскипали и рушились «дна на другую, бил ветерок, свежий и крепкий. Холодноватые брызги росою осыпали лицо, и почти физически было ощутимо, как и на сердце, томимое в эти дни каким–то полуобмороком чувств, катились огромные свежие волны: океан возвращался. Шуми, океан!
И паруса были крепки и полны упругого ветра. Военный бриг, предоставленный в распоряжение генерала Раевского, уверенно шел вдоль берегов Тавриды. Это радостно волновало: не вдоль моря в надоевших уже экипажах, а именно вдоль берегов на красавце военном судне.
Бриг отправился в плавание уже перед вечером. Солнце клонилось к закату и расстилало по морю, навстречу движению, потоки нежарких алых лучей — золотую дорогу; чуть поколыхиваясь, резал и резал ее острый нос корабля. Рядом шли берега, не закрываемые парусами…
Эта линия берега, и прихотливая, и закономерная вместе, и размеренное движение волн, бегущих одна за другой, дополняли друг друга: были они как ритм и мелодия. Короткие всплески, как и строчки стихов, сменялись широкой и длинной волной — более длинными строчками с таким же широким и полным дыханием, а извечная единая мелодия жизни, движения, омывая покоящийся береговой арабеск, всегда оставалась и самою собой и прихотливо разнообразилась, покорствуя каждый раз заново возникавшей форме. Так и мелодика слов, очень душевная, очень народная, русская свободно текла из рождавшихся чувств, но пребывал за словами извилистый берег пережитого. И каждый раз в душе на него набегали волна за волной и, омывая изломы воспоминаний, рождали свободный и необходимый свой ритм.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Да, уже море стало синё, и вечерний туман пал на него, и заблистали на небе звезды. Шумело под ветром полотно парусов, и вздымались внизу огромные черные воды.
Луна не всходила, и близкие берега призрачною чередой проплывали в дымке тумана. Пушкин не спал всю эту ночь. Воспоминания теснились в душе. Казалось ему, что он отплывал от берегов своей юности, и он не хотел возвращаться в эту страну уже отжитого.
Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отечески края…
И все же воспоминания ранней любви, о которой и с Николаем молчал, любви отошедшей, минувшей, охватили его с небывалою силой. Возможно ли, чтобы в той новой, волшебной стране, куда он стремился теперь с тоской и волнением, ждала его радость?
И чувствую: в очах родились слезы вновь;
Душа кипит и замирает;
Мечта знакомая вокруг меня летает;
Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман…
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Так изливалось волнение, и так подавала голос тоска: цветистая, беспорядочная юность оставлена и забыта, —
…Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви, ничто не излечило…
Однако же и самая эта тоска была музыкальна. Она не лежала мертвым камнем на сердце, не преграждала пути. Больше того: пронизанная светом и строгостью чувства, она увлекала вперед, в чудесную страну ожидания…
— Вот Чатырдаг, — сказал, подойдя к нему, капитан.
Пушкин взглянул, но за туманом очертания знаменитой горы были неясны, да и не был он «любознательным путешественником», которому непременно надо увидеть все то, что полагается видеть. И без того он открыл всего себя и впустил в душу эту туманную безлунную ночь и это скольжение корабля по волнам в виду горного берега, покрытого тополями, виноградом, лаврами и кипарисами… И на это он отвечал всем своим существом, звучавшим, как музыка, в согласии с музыкой моря — отвечал ночною своею Элегией.
К утру Пушкин уснул и проспал на коротенькой матросской койке всего, может быть, два–три часа; впрочем, и этого оказалось довольно.
Раннее утро было свежо, как умывание в горном ключе. Корабль чуть поколыхивался, и все семейство Раевских уже было на палубе. Между собою они переговаривались с большим оживлением, но вовсе не громко, как это бывает всегда, когда природа и мир в ранний час утра исполнены тишины.
Корабль остановился на виду у Юрзуфа — цели их путешествия. Просторная бухта, окаймленная горами, мирно покоилась меж охвативших ее берегов. Пушкин, поднявшийся позже всех, вышел наверх незамеченный и ничем о себе не дал знать. Он молча стоял и глядел перед собою, невольно запоминая глазом и сердцем, как разноцветные горы сияли вдали, как плоские кровли маленьких хижин лепились к горам, издали напоминая собою ульи, а стройные тополя, как зеленые колонны, возвышались меж ними. Справа был Аюдаг, далеко вышедший в море.
Эта картина запомнилась ему на всю жизнь.
Глава четвертая ЮРЗУФ
Пушкин проснулся и не мог сразу понять, где он находится. Он все не привык еще к новым местам.
Ему только что снилось: сначала опять военный бриг под парусами, и вот началась сильная качка, и он едва с палубы не оступился. Но потом оказалось, что он совсем не на палубе и не оступился, а благополучно стоит у воды в лицейском саду, а это потешный Вильгельм Кюхельбекер бросился топиться в пруду, где и цыпленок, пожалуй, не утонул бы. Невольно представилась ему сейчас и вся давняя эта история: как шалун Малиновский опрокинул над головою задумавшегося Кюхли полную тарелку супа, а тот от потрясения свалился в горячке, а потом, убежав из больницы, кинулся в грязную лужу и как оттуда его извлекли…
— «Приснится же этакое! — подумалось Пушкину. — Но где я однако?» — И тут же радостно вспомнил, что он уже несколько дней пребывает в Юрзуфе. На другой кровати лежал, закинув руки за голову, Николай Раевский. Вот он застонал… Сколько ни лазали вместе по Кавказским горам, все проходило благополучно, а на горе Митридата в Керчи он оступился и сильно повредил себе ногу. Пушкин подумал, что, вероятно, стон Николая и разбудил его и оттого, верно, привиделось, что и сам чуть не ступил прямо в море…
— Ты что, Николай? — спросил он негромко.
Но Раевский, быстро убрав руки из–под головы и свернув свое огромное тело в клубок, видимо, нашел наконец удобное положение и сонно пробормотал:
— Нет, ничего, все хорошо!
В комнате окна открыты и не занавешены. Августовская ночь на исходе, но звезды, еще ныряя, выскакивая, как бы плещутся в зыбкой листве колеблемых ветром дерев. Колыхание это беззвучно и мягко, и тишина нарушается лишь отдаленным гулом волны, бьющейся о берег неподалеку. Пушкин любил этот неумолчный и ровный голос моря и готов был его слушать часами. Так хорошо под эти размеренные всплески лежать, и думать, и твердить про себя возникающие как бы сами собою легкие поэтические строки; рифмы и ночью его не оставляли. Зажегши свечу, а то и в темноте, нередко набрасывал он короткие полуслова, чтобы их днем восстановить, отгадать. Муза опять к нему возвращалась.
Лежа, раздумывая, он начинал понимать, что своим путешествием по южным степям и по Кавказу он как бы был приготовлен теперь для этой новой страны. Душа открыта была покою и тишине Тавриды.
И сейчас, в ночной тишине, он опять и опять вспоминал утро прибытия и как в доме, когда сошли они на берег, поднялась веселая беготня. Старшие дочери Раевского выбежали навстречу отцу прямо со сна, наскоро накинув легкие платьица… Говорили все сразу — вопросы и восклицания, поцелуи. «Отчего же мне так хорошо в этом доме?» — снова и снова думалось Пушкину, но вместо ответа он сам себе улыбнулся и, покосившись на Николая, свернулся и сам таким же уютным комочком и тотчас уснул.
Дом Ришелье, не так давно построенный и гостеприимно предоставленный хозяином генералу Раевскому и всей семье его, стоял недалеко от моря. Главный фасад выходит в сторону гор; там же был расположен и сад. Весь дом состоял из одного этажа да еще одной большой комнаты–кабинета вверху, под чердаком; там Пушкин и поместился вместе с младшим Раевским. Тут, собственно, расположиться бы самому генералу: комната эта была значительно больше тех, что внизу, но лестница, ведшая туда, была очень узка, и пролезать туда надобно было с трудом. Сын Николай, невзирая на поврежденную свою ногу, не позволил отцу туда подниматься. Правду сказать, Николаю Николаевичу старшему трудно было чего–нибудь не позволить: был он мягок и обходителен, но держал весь дом и домашних крепкой рукой. Однако же он оценил доброе чувство сына и уступил ему, оставшись внизу, в маленькой угловой.
Была такая же угловая и по другую сторону дома, там поместилась теперь Раевская–мать. У девочек было просторней, — целых две комнаты, да и были они побольше. И все же им ночью было бы душно, когда бы не молодость да не настежь распахнутые окна, а почти вся стена была из окон! С ними спала также и мисс, считавшая неприличным уподобляться няне и компаньонке Анне Ивановне, которые расположились попросту в вестибюле — прямо на соломе.
С трех сторон дом был окружен галереей, на которую вели частые ступенчатые крылечки — над высоким подвальным помещением, лишенным окон. И с моря был дом очень красив, блистая стеклами и белизной своих стен и узких четырехугольных колонн вдоль галереи, радуя взор узором крылец и переходов, бельведером над крышею. Да и все здание это рассчитано было, конечно, не на удобство, а на красоту. В доме не было даже печей, и зимой в нем нельзя было жить: недаром сам владелец его, дюк Ришелье, кажется, только раз в нем и побывал.
Но что до того? Какие еще удобства надобны, когда день протекает на воздухе, да и дом весь открыт!
Снов больше не было. Утро. Голова свежа и ясна. Босой, прямо с постели, быстро, неслышно, чтобы не разбудить Николая, Пушкин подошел к окну. Горы, амфитеатром, еще дышали далекой ночною росой. Как не похожи они на Кавказ! Казалось, и самые скалы жили здесь как–то особенно, по–домашнему — простые, негордые, пропитанные насквозь теплотой желтого солнца. Вот оно только что глянуло справа, из–за гряды высоких холмов, и оттуда пролило свет — легчайшую влагу, затопив и заискрив долину внизу. В доме все еще спали, но легкий дымок вился уже из трубы маленькой кухни. Дворник нес воду в ведре для умывания господ… А Пушкин любил после сна — сразу же в море!
Так и сейчас он потянулся было уже за одеждой, но взор его упал на тетрадь, которую с вечера так и забыл на столе. Там было написано посредине страницы:
КАВКАЗ
Поэма
1820
И помета внизу:
Юрзуф — Августа
Перевернув страницу, он еще раз задумался над эпиграфом из «Фауста»:
Gieb meine Jugend mir zurflck…
Отдай мне молодость мою назад…
Да, кавказская эта поэма должна быть о тех именно думах и чувствах, которыми исполнена была его юность и которые покинули его теперь навсегда… Навсегда ли? Вот и сейчас он чувствовал себя таким молодым, быть может, даже моложе, чем когда–либо доселе! И, улыбнувшись невольно над собою самим, он стал пробегать глазами начало поэмы:
Один в глуши Кавказских гор Покрытый буркой боевою Черкес над шумною рекою В кустах таился. Жадный взор Он устремлял на путь далекой, Булатной шашкою сверкал И грозно в тишине глубокой Своей добычи ожидал.
Она не очень давалась еще — эта поэма о русском юноше, попавшем в плен к горцам, и о любви к нему прелестной черкешенки. Да и сами стихи… Ему не понравилось: в одном ряду такие разнородные глаголы, — жадно вглядывался и ждал добычи — это одно, это скорей состояние человека, чем его действие, и тут же — шашкою сверкал! Что же он — размахивал ею? Зачем? Эта строка действительно как взмах шашки, рассекает всю картину… Плохо!
Пушкин наморщил лоб и уже тронул было огрызок пера, но Раевский проснулся и окликнул его:
— Ты уже встал, Александр? Рано еще!
— Рано, так спи.
— Ох–хо–хо! — и Николай так сильно потянулся всем своим могучим телом, что хрустнули косточки, и жалкая кровать под ним застонала. — Нет, уж, видно, вставать так вставать! Купаться пойдем?
— Да, я только собрался.
— Когда б не нога эта проклятая, хорошо бы верхом!
— А я просто так обсиделся, как, впрочем, и подобает настоящему недорослю: недоросль сиднем сидит!
Оба принялись одеваться и оживленно болтать, как болтали между собою каждое утро.
— Ну, наши птицы проснулись! — говорил внизу, заслышав их голоса, Раевский–отец.
Захватив полотенца, они вышли на воздух. Дворовые псы, уже привыкшие к ним, терлись об их колени. Гравий скрипел под ногами. Под окнами девушек Пушкин заметил клочки изорванной бумаги. Невольно он наклонился и подобрал.
— Это Елена, — сказал, взглянув на почерк, Раевский; писано было по–французски. — Дай–ка я посмотрю…
— Зачем? — с живостью возразил Пушкин и, покраснев, зажал листки в ладонь. — Я их выброшу в море. Может быть, это письмо.
— Когда бы письмо, не стала б кидать. Дай же сюда! Так и есть: это из Байрона, а то из Вальтера Скотта… Ну, а как твой «Кавказ»?
— Так она переводит?
— Ты ей не вздумай сказать! Это она потихоньку. Пушкин бережно спрятал листки: переводит из Байрона! И как раз ту самую вещь, что читает и он.
В «кабинете», где они оба помещались, он в первый же день основательно перерыл остатки небольшой библиотеки. Там, среди груды книг, сваленных прямо в углу, попались ему разрозненные томики давнего его любимца Вольтера, был там и Вальтер Скотт. Байрона же привезла с собою Екатерина Раевская, и оба они с Николаем увлекались теперь «Корсаром». Пушкин кое–что помнил по–английски с раннего детства, но, что и знал, забыл почти начисто. И все же, сам весьма спотыкаясь, при помощи Николая, понимавшего немного больше, — оди одолевали страницу–другую, в трудных случаях обращаясь к Екатерине, знавшей язык совсем хорошо. С высоты своего возраста — старшая дочь! двадцать три года! — она снисходила к ним, но, пояснив «мальчикам» трудное выражение, тотчас и отходила. Пушкин не смел рассердиться на эту гордость ее, впрочем, немного как будто и напускную: так она была хороша и недоступна… А вот оказалось, что и Елена — голубоглазая семнадцатилетняя Елена, о которой он думал, не решаясь даже назвать свое чувство каким бы то ни было словом, и она увлекалась «Корсаром». Это его взволновало.
Но вот — утро и море!
Утренняя вода была в море прохладна, и с великим наслаждением Пушкин кинулся прямо вплавь. Больная нога мешала Раевскому, и он окунался только у берега.
Пушкин отплыл далеко, хоть и не был сильным пловцом. Обернувшись назад, он видел теперь привычную уже, но каждый раз по–новому свежую панораму гор и долины с пышною зеленью, едва лишь затронутой дыханием позднего августа. Маленькие редкие домики почти совершенно сливались с землей, и, соседствуя с ними, дом Ришелье казался настоящим дворцом.
— Прощай, Николай! — крикнул он, сложив ладони у губ, и затем, размахнувшись, высоко вскинув руки, нырнул.
Пушкин редко это себе дозволял и не очень умел. Крикнув еще раз, уже над самой водой: «Прощай, Николай!» — он сразу же едва не захлебнулся. Мутные опаловые пузыри поднимались у него перед глазами. Не было неба, не видно и дна, в правой ноге дрогнула какая–то жилка; это мешало ему сделать усилие, чтобы вынырнуть…
Николай глядел, стоя у берега, и уже начал тревожиться. Он попробовал плыть. Но едва сделал несколько взмахов руками, как увидал броском вылетевшего над водою товарища.
— Что за шутки! — крикнул он полусердито, но в голосе прозвучала нескрытая радость.
— Здравствуй, Раевский, — как ни в чем не бывало ответил ему издали Пушкин, но голос его был таким слабым, что у берега и не слыхать.
Наконец он откашлялся и лег на спину — передохнуть. Он глубоко запрокинул голову в воду, и море легко держало его. Блаженное состояние охватило Пушкина. Глубокое синее небо без единого облачка сияло над ним своей чистотой. Море то чуть поднимало, то опускало улегченное тело, колыхая его, как щепку, отданную на волю волнам. Он едва шевелил пальцами, и ничтожного движения этого было довольно, чтобы держаться на поверхности. Дыхание его успокоилось, но кровь звенела певуче и сильно. У Пушкина в эту минуту не было дум, их заменяло общее одно ощущение, широкое, мощное: жить — хорошо.
Вдруг он почувствовал прибывающую силу, потребность движения, перевернулся и направился к берегу.
— В море отлично, но на земле все–таки как–то прочней… — пошутил он, одеваясь на берегу.
Молодая, вскипевшая в нем сила продолжала требовать себе выхода и на обратном пути.
— Я что–то в пучинах морских захолодал…
И он принялся бегать, делая по сторонам круги и зигзаги, дабы не покинуть медленно шагавшего Раевского. Тот следил за ним с легкой улыбкой.
— Ты точно щенок после купания.
А Пушкин в ответ, смеясь, притворился, что и впрямь отряхивает шерсть.
На пути к дому, чуть в стороне, рос молодой кипарис, Пушкин его навещал каждое утро, обычно еще до купания. Он любил это делать один. Сегодня же Николай и эта находка перевода из Байрона ему помешали. Зато сейчас, едва завидев его, он оставил Раевского. Налетев, словно ветер, и на бегу изготовив ладонь, он с размаху, как бы приветствуя, пробежал рукою снизу вверх по темно–зеленому плотному его одеянию, и холодноватые лапчатые ветки упруго, вслед за ладонью, тотчас выпрямлялись.
Став спиною к Раевскому, Пушкин, не нажимая, легко коснулся ствола и пальцем изобразил две какие–то буквы, как если бы шепотом доверял некую тайну молоденькому этому деревцу, так живо ему напоминавшему петербургский, тот кипарис.
Если б отставший Раевский вдруг догадался, чем занят там Александр, то в букве фамилии мог бы не сомневаться: это, конечно, была буква Р, но кто из сестер, которая? Пушкин со всеми был мил одинаково, однако же тайн своих никому не доверял.
— Что это нынче с тобой? — спросил, подойдя, Николай.
— А то, что сегодня я обуян. Нынче должен быть день происшествий.
— Это так почему ж?
— Кюхельбекера видел во сне. Как он топился. И чуть сам не утонул.
— Тогда берегись. А ты еще хочешь ехать верхом…
Раевских все еще не было слышно. Но на дворе черноглазый мальчишка, с надвинутой на затылок пестрою тюбетейкой, трудился уже у пузатого, плохо начищенного самовара. Он целыми пригоршнями сыпал в трубу сосновые шишки, и густой смолистый дым валил из нее пахучим столбом, щекоча нос и затмевая долины и горы. Голоса доносились из кухни, и домашняя птица неспешно прогуливалась, порою поднимая головы и важно озирая окрестность.
Пушкину подали коня. Он принял в руки коротенький хлыст и ловко вскочил в седло. Лошадь затанцевала.
— В горах, Александр, держи повода покороче, — послышался свежий внушительный голос.
Он сразу узнал его и, обернувшись, увидел в окне генерала Раевского, — в халате еще, по–домашнему.
Пушкин ближе подъехал к окну и, шутливо отдавая честь, отрапортовал:
— Рад стараться, ваше высокопревосходительство. Честь имею доложить: еду на поиски приключений.
Все эти дни Раевский–отец был в отличном расположении духа. «Александра Сергеевича» он давно уже заменил дружески простым «Александром», тем более, что старший сын его все еще не приезжал и привычное имя это не вносило никакой путаницы. «Слава богу, — подумывал он иногда про себя, — кажется, с Марией теперь у них поровней, а то девочке долго ли и увлечься». Он на сей счет зорко поглядывал за молодым человеком и однажды, смеясь, так передал жене свои наблюдения:
— Знаешь, Софи, а, кажется, наш–то поэт между трех сосен… да заблудился.
Черноокая внучка Ломоносова серьезно взглянула на мужа. Она была заботливою матерью и преданною женой, но шутки понимала плохо; по–настоящему заботило ее только одно — благополучие мужа. Она не улыбнулась, не отгадала, что Николай Николаевич только шутил и что за этим просто скрывалось отличное его настроение.
— Бог даст, ничего, — ответила она суховато и озабоченно.
Он ничего тогда ей не пояснил и весело потянулся за трубочкой.
Пушкин хотел было повернуть коня, как увидел за плечами генерала головку Екатерины. Она уже была причесана, и роза блестела в ее волосах утреннею росой. Это было так просто и вместе с тем дышало такой красотой, что он невольно залюбовался.
— Как самовар на стол, так Пушкина надо искать: Пушкин в бегах! — сказала она с улыбкой.
Он робел перед нею и, быстрый всегда на ответ, тут пробормотал совершенные пустяки, тотчас же и рассердившись сам на себя:
— Да самовар еще не готов…
«Так отвечают действительно только мальчишки!» А Екатерина Николаевна почему–то именно этим осталась довольна.
— Не пропадайте!
Он пустил лошадь шагом. Невольная задумчивость им овладела. «Я думал сейчас совсем не о ней, но, боже мой, до чего она хороша!»
Вдали, у небольшого фонтана, простенького, старого, он различил девочку в восточной одежде. Вода падала горбиком двумя струйками, и девочка, шаля, поставляла кувшин то под одну из них, то под другую. Но вот она обернулась, и удивленный Пушкин узнал… Марию.
Он иногда позволял себе звать ее только по имени:
— Мария, что это вы?
Она глядела на него и молчала.
— Это, наверное, Зара так вас обрядила?
— Я девушка гор, — наконец отвечала Мария, и нельзя было лонять, хочет ли она сказать этим что–либо серьезное или просто смеется над ним.
— Вот как!
— Да, вот как! А Пушкин поехал искать приключений. Я это успела узнать.
Тут глаза ее, а постепенно и все лицо, заискрились самым ребяческим смехом, и она сделала вид, что сейчас его обольет из кувшина…
Только Елены Пушкин не встретил, но и без того в это утро она была с ним, и между этих «трех сосен» он выбрался наконец на пустынную, уже согретую солнцем дорогу.
Никакими приключениями эта поездка не ознаменовалась, но прокатился отлично.
Сначала он взял прямо в горы. Тропинка была довольно крута, и дикий кустарник цеплялся за стремя. Но конь и седок одинаково были в хорошем расположении духа и были согласны в каждом движении; и первое наслаждение их было — дышать. Воздух был чист и тепло пахуч. Солнце топило смолу. Трав и цветов было немного, но мощная хвоя, листва лились, казалось, каскадами с гор, все окрест затопляя. Там, где зелени было поменьше, на высоте, отдельные пинии открывали свои плоские зонтики. Ветер веял с востока и на полном ходу трепал сюртучок Александра. Светлые брюки его, натянутые штрипками, хранили следы цепких кустарников. На них же пристроились два или три предприимчивых сухоньких сверчка — любители верховой езды. Он совершенно забыл о чае и завтраке. Неудержимо тянуло вперед и вперед!
За восточною грядкой холмов, вздымавшихся к берегу высокою остроконечной скалой, открылось опять, переливаясь живыми оттенками, синее море, синее самого неба. Стлалось оно перед глазами бесконечно далеко, и не так–то легко было различить дальнюю линию горизонта. Медведь–гора, грузно налегши мохнатою грудью и низко уткнувшись косматой своей головой, пила зеленую влагу и не могла напиться. На море несколько маленьких парусных лодок, как бы чего–то ища, белели вдали. Одинокое дерево на берегу простирало к ним свои неподвижные ветви.
Пушкин невольно вздохнул. Остановив коня, глядел он отсюда в далекую запредельную даль. В раздумье он тронул коня, направив его к Аюдагу.
Постепенно не стало и хижин. Реже деревья. То ясень, то дуб; зеленые желуди, как крохотные птички, глядели из своих аккуратно слепленных гнездышек. Под копытами коня хрустели морские ракушки.
Перескочив через небольшую речонку, Пушкин очутился совсем в виду Аюдага. Местность была совершенно пустынная. Казалось, так навсегда ей и оставаться. За всю дорогу встретились лишь два пожилых дровосека, блеснувших в улыбке зубами. Впрочем, у одного из них было и ружье за плечами.
— Охотитесь?
— Да.
— А разрешают?
Тот только махнул рукой.
— А как называется эта земля?
— Артек. — И, блеснув зубами, улыбаясь, добавил: — А по–русски выходит будто как: перепелка.
Пушкину очень понравилось простодушное это прозвище: видно, что тут, у этих людей, все было свое, все домашнее…
Вскоре охватили его совсем другие настроения — приподнятые и романтические. Поднявшись невысоко на самую гору, он дал наконец коню отдохнуть и привязал его к дереву. И воображение Пушкина, как это часто бывало с ним, не только что живо представило далекий пейзаж, воображаемый, но и его унесло в давние–давние времена. Так будто бы рыцарь, стреножив коня, снял свои латы и шлем и присел на мураве у источника. Но где же «она»?
Была тишина и густая, спокойная тень. Деревья молчали, как бы в полусне, и шум морского прибоя сюда едва досягал. Но меж зеленой листвы ярко светилось тоже зеленое море. Это было чудесно, как в сказке. Так он стоял и, не замечая того, шевелил безмолвно губами…
Там на берегу, где дремлет лес священный,
Твое я имя повторял,
Там часто я бродил уединенный
И вдаль глядел… и милой встречи ждал.
Нет нужды, что он попал сюда лишь впервые. Он будет еще приезжать, а ежели и не приедет, место сие все же останется памятно памятью сердца.
Назад он скакал: опоздал! А навстречу неслись сады, виноградники и повыше — табак и одинокие тополя; чалмы из камней — деревенское кладбище; кустик, увешанный в память покойного выцветшими лоскутками пестрых полуистлевших материй; маленькие хижины и ребятишки в длинных рубахах… И неизменны были — небо и горы, горы и море. И вот наконец милый дом и ворота. И галерея, откуда машут платком и кричат:
— Опоздал! Опоздал!
Он узнает голос Марии и улыбается. Она уже не в татарском одеянии, — на ней светлое летнее платье и голубая лента в черной косе. Но где же Елена?
И уже на дворе, когда соскочил с коня и, передав поводья подбежавшему конюху, направился к дому, — он увидел Елену. Да, действительно, как это милое деревцо, кипарис, была она высока и стройна. Темно–голубые глаза ее глядели прямо и ласково. С тихой улыбкой, как и всегда, она его встретила у самого входа и даже чуть повела рукой в его сторону.
— Вы опоздали. Как я беспокоилась!
Пушкин смешался и покраснел: он на минуту действительно почувствовал себя виноватым и еще до обеда засел за переводы Елены.
Она переводила (прозой, конечно), и не на русский, а на французский, что для нее было более привычно. Перевод был исчеркан: видимо, она искала более точных слов и выражений. Это его умилило, и он к работе ее отнесся «с пристрастием». Для него это не просто какой–то был перевод, а как окошечко, через которое он заглянул в ее внутренний мир.
Байрон! О нем он услышал впервые от Жуковского и Александра Ивановича Тургенева. Князь Вяземский из Варшавы осенью прошлого года писал Тургеневу восторженные письма об английском поэте, и Пушкин читал их. «Я все это время купаюсь в пучине поэзии: читаю и перечитываю лорда Байрона, разумеется, в бледных выписках французских. Что за скала, из коей бьет море поэзии!» — «Без сомнения, если решусь когда–нибудь чему учиться, то примусь за английский язык единственно для Байрона».
И Вяземский посылал отдельные строфы из четвертой песни «Чайльд Гарольда», переведенные им в прозе, и писал следом за переводом: «Что за туман поэтический! Ныряй в него и освежай чувства, опаленные знойною пылью земли. Что ваши торжественные оды, ваши холодные поэмы? Что весь этот язык условный, симметрии слов, выражений, понятий? Капля, которую поглощает океан лазурный, но иногда и мрачный, как лицо небес, в нем отражающееся».
Пушкин помнил, какое у него тогда было впечатление от писем этих и от перевода. Как все это подымало! Сам Петр Андреевич заговорил в своих письмах языком байроническим…
Но теперь у южного моря, под полуденным солнцем, чувствуя новую для себя красоту, он уверенно начинал сознавать, как изо дня в день крепли в нем собственные новые замыслы. Их зарождала самая жизнь, и прежде всего путешествие!
О чем же писать? «Противу правительства» запрещено… И он совсем было хотел замолчать. Но кто запретит — он не давал на то слова! — писать о человеческом духе, восстающем против оков? Кто укротит этот внутренний бунт, который не в нем же одном: он хорошо это знал…
Впечатления Кавказа были так сильны, что они отодвинули даже задуманную им разбойничью степную поэму. Горный пейзаж, нравы и быт диких горцев — все это так гармонировало с внутренним миром героя. Этот герой родился в нем самом, и он никем не навеян.
А это был все–таки почерк Елены — косые, немного еще неуверенные строки; склоняясь, она размышляла над ними, и это почему–то его волновало.
Он вспоминал ее негромкий грудной голос и ее простые участливые слова: «Вы опоздали. Как я беспокоилась!» Это она говорила ему…
— Николай, посмотри. Какой чудесный перевод, и почему она его разорвала?..
После обеда решили пройтись в горы — подальше. Правда, что небо нахмурилось и генерал на него поглядывал не без тревоги, но он и не отговаривал: что из того, ежели и помочит, в походах то ли бывало. Искоса он поглядел на старшую дочь, но в Крыму она решительно поправлялась. Пушкину было грустно, что Елена не шла вместе с ними. Вот кому действительно надобно было беречься. Он глядел на нее, и настоящая печаль пронизала его сердце. Ему казалось, что ей долго не жить и что без нее вся эта семья, с которой и сам сроднился душою, осиротеет.
Смотрю на все ее движенья,
Внимаю каждый звук речей,
И миг единый разлученья
Ужасен для души моей.
Он не читал ей этих стихов, слишком они были невеселы.
И как раз услышал ее голос:
— Ну что ж, веселитесь.
Это было последним напутствием, когда вся компания — она была невелика, да женские сборы долгоньки — решительно наконец отбывала.
Пушкин не склонен был надолго заражаться печалью. Не помышляя о том, он выполнил пожеланье Елены. Ему была вовсе чужда рассудочная и как бы принудительная верность одному душевному настроению. Это делало каждый день его полней и богаче. Он не изменял ничему в себе и никого не обманывал, он был всегда честен перед собой. И это совсем не означало, что он был лишен глубоких и прочных привязанностей. Но жизнь так горела пред ним, так ярко и молодо он ее воспринимал, что все живое первее всего рождало в нем отклик. Единственно, чего он был чужд — это духа уныния. На кратковременные налеты усталости, очень редко его посещавшие, он смотрел, как на болезнь, и с досадою ждал, когда она покинет его.
Кроме Елены, осталась дома и Зара. Она объяснила, что не хочет покинуть Елену одну. Но и вообще… Странное дело: там, между гор, в кибитке и переездах, огонь ее глаз, чем–то похожий на дальний костер, мелькнувший в ночи, сильно порою тревожил воображение Пушкина, — здесь же она как бы погасла и стала одним угольком. Что же, может быть, это нужно назвать безнадежностью? Да полно, и было ли с ее стороны какое–нибудь увлечение? Как бы то ни было, но у Пушкина к ней была благодарность — за то, что она почти целиком ушла в образ его черкешенки. Даже и безнадежность эта, и обреченность неразделенного чувства — пусть все это только фантазия! — они так гармонично завершали чудесную — страстную и меланхолическую — «деву гор».
Дома оставался также и Николай; больная нога не дозволяла ему дальних прогулок. Зато потихоньку смеялись, что в экспедиции примут участие целых две гувернантки: мисс Мяттен и образ ее и подобие — щепетильная Сонечка! Она все замечала и всех оговаривала. Трудно было видеть без смеха, как, поджав губки, — кубастенькая и кудрявая, — глазами она указывала своей воспитательнице, что Екатерина при переходе через ручей показала чулки, что было, конечно, в высшей степени «шокинг»! Но и мисс Мяттен была тут бессильна: Екатерина Николаевна держала ее в строгости и на почтительном отдалении.
Пушкин шел сейчас с нею, да и с кем же ему было идти? Так не часто они оставались вдвоем. Шла она гордая, стройная, повыше его. Разговор между ними завязался о Байроне. Это Пушкина полностью развязало, и он говорил, как говорил бы и с Николаем — запальчиво и горячо, ни в чем ей не уступая.
Екатерина Николаевна из–под зонтика, обрамленного кружевом и кидавшего ровную теплую тень на лицо и на открытую загорелую шею, поглядывала на своего собеседника с интересом. Ей доставляло истинное удовольствие подразнить этого увлекавшегося юношу.
— Вы говорите: высшее благо для человека свобода; но если вы так будете следовать Байрону, вы потеряете свою свободу.
Он поглядел на нее снизу вверх: не голос ли это ее старшего брата?
Но ежели у Александра Раевского были глаза демонические и в них было трудно глядеть, то спорить с Екатериною Николаевной было еще, пожалуй, труднее. Да и можно ли спорить, надо ли спорить с морем, иль с солнцем, или просто хотя бы с пальмой на берегу? Больше всего сродни она именно пальме, спокойная и завершенная в своей красоте. И Пушкин ответил совсем не о Байроне, ему вдруг захотелось увидеть простую улыбку ее, и, помолчав, словно обдумывая, он ей возразил с некоторою витиеватостью:
— Защищать Байрона — значит потерять свою свободу и идти за ним; согласиться с вами — значит идти за вами и… также потерять свою свободу… Я в затруднении: какую же свободу мне потерять? Посоветуйте!
Екатерина Николаевна действительно рассмеялась и сделалась сразу не только красива, но и мила по–настоящему.
— Сохраните свободу выбора, — нашлась и она.
И они принялись оживленно болтать, мешая и серьезное, и всяческий вздор: но ведь и самый вздор бывает удивительно мял, когда собеседники интересны друг другу и когда непритязательная эта болтовня искрится, как капли дождя на солнце.
«И нисколько не пальма!» — поправлял сам себя Пушкин; из–под соломенной шляпы Екатерины Николаевны — как не заметил он сразу! — глядела свежая роза, но не красная, яркая, как было утром, а нежная, палевая; сквозь красоту и совершенство линий дышало сейчас еще и тепло. Как это… вспомнить… восточная песня о соловье в оковах у розы…
Но Марии давно уже надоело идти позади «с двумя гувернантками», и ее немного сердил этот «взрослый» их разговор. Они как бы вовсе забыли о ней или, еще того хуже, как бы безмолвно ей говорили: «Ну, что ты там, маленькая… что ты тут можешь понять?» Она забежала вперед, остановилась и сделала реверанс перед старшей сестрою и Пушкиным.
— А не пора ли вам, лорды, — сказала она с веселою вежливостью, — не пора ль вам кончать этот ваш университет? Пушкин, а ну — кто скорей?
И немедля она, подхватив под коленями платье и как бы тем самым подбросив себя, побежала вперед.
— Вон к тому дереву! Вон к тому!
Она кричала, запыхавшись, и уже махала руками, как крыльями птица. И Пушкин, забыв об умной красавице, погнался за девочкой. У самого дерева он бы ее и настиг, но она очень ловко отпрянула вбок, и с разбегу едва он не стукнулся о ствол.
— И не жалко ничуть! И не жалко!
Но тотчас подбежала, горячая, черненькая, как уголек, и сложила ладошки.
— Потому что сердита на вас. Вы не ушиблись?
— Я не ушибся, но за что же вы сердитесь?
— За свободу и Байрона, — отвечала она; и была очень рада, что ответила так замечательно.
Что было Пушкину делать? Сейчас она была милей всех.
Далеко в горах на воздухе был приготовлен для них шоколад. Лакей и горничная давно уже их там ожидали.
Под небольшим таганком разводили огонь; белая скатерть разостлана была на траве. Пушкин немного отстал.
Так иногда с ним бывало: среди самого веселого оживления вдруг возникает повелительное желание минуты одиночества! В Петербурге, случалось, он выходил на балкон — даже зимою в одном сюртуке. Он выходил и видел небо над городом; звезды мигали ему, и порхающий снег, падавший мягкими хлопьями на плечи и на лицо, был ему близок и мил необычайно. Горячность и возбуждение быстро утихали, и все чувства становились на место.
Теперь ему не было надобности себя успокаивать, но все же побыть в тишине было отрадно. Так глубже он ощутил в себе этот нечасто его посещавший полный душевный покой. Это не было просто молчанием: голоса в нем звучали; и это не было отсутствием жизни, движения: жизнь никуда не уходила, но она ритмически полно, как пульс, вздымалась и опадала, и снова вздымалась. Чего бы сейчас он хотел? Да ничего: он дышал.
Здесь наверху, природа не лилась через край. Все было скромно в ней: тишина и прозрачность. Самое солнце точно паслось меж облаков.
Маленькие раковины улиток лепились на стеблях засохшей травы. Целые стайки белых крохотных маргариток цвели на полянках. Над ними летала шафранно–желтая бабочка. Садясь, она складывала парусом крылья и показывала их блекло–зеленоватую изнанку с желтым глазком. Редкие пчелы совершали последний облет. Дубовые кусты, низкорослые, там и сям клоками окаймляли дорогу, порою довольно круто взбегавшую вверх. Она была камениста, изъедена дождевыми потоками с гор; это ложе ручьев обнажало породу, слоистую, исщербленную, напоминающую кору неведомого дерева или кожу гигантского крокодила. И это уже говорило о времени — о многих и долгих веках, создававших Тавриду, и день становился не просто сегодняшним днем, а днем, из которых слагается вечность.
Пушкин не философствовал. Все это тихо и мерно проплывало в душе. И что же за тишина! Молчала земля, застыли деревья, не шелохнется, молчит и само огромное море, уходящее вдаль и, кажется, ввысь.
И вдруг вдалеке, по скату горы, на боковой, невидной отсюда тропе он различил маленького ослика, груженного корзинами с виноградом; за ним шел человек, запевший какую–то передвечернюю песню. На этот чистый и непонятный, но такой душевный человеческий звук Пушкин и обернулся. Ослик шагал, чуть поколыхивая свою ношу, человек пел о чем–то своем, в нем колыхнувшемся, и сразу день вечности заменился сегодняшним днем — милым и полным, домашним: та самая жизнь, что ежеминутно, как ручеек, пробегает меж пальцами, — зыбкая, но единственно реальная — не воспоминания и не мечты… Какая радость ее ощутить. Мария стояла, также слегка отделившись от прочей компании. Она глядела прямо перед собою на рыжую каменистую дорогу и о чем–то очень задумалась.
— Что вы одна, Мария Николаевна? — мягко спросил он, приблизившись к ней; взял бы ее и за руку, но Мария иногда этого не любила.
Она подняла на него свои чудесные глубокие глаза и как бы сама себя спрашивала: сказать ему или не говорить? По этому взгляду можно бы было подумать, что хочет она что–то сказать о своем к нему отношении. Но Пушкин прочел в нем иную, более глубокую мысль: в одинокую эту минуту, выпавшую также и ей, видимо, думала она о чем–то своем…
— О чем вы? — спросил он ее еще раз и совсем уже тихо.
Тон его голоса тронул ее.
— Я думала… Эта дорога, доглядите, какая она каменистая… эта дорога — моя…
Почему? Что это, собственно, значило? Вряд ли она и сама отдавала в этом себе ясный отчет…
Он было сделал движение к ней, но она отступила на шаг, как бы тем самым отодвигая и свою внезапную открытость. Казалось, что и она ощутила эту невозвратную, бегущую между пальцев быструю жизнь… И безраздумно сжала, как бы стремясь ее задержать, маленькие свои загорелые пальцы, не спуская глаз с Пушкина. Он стоял перед ней в двух шагах, серьезный и легкий, и лицо его было освещено двойным светом — солнца и мысли. По–детски еще не понимала Мария, как физически хороша и обаятельна светлая мысль человека. И, однако же, если ей так и не удалось спрятать свое, она захотела сама от него отмахнуться и, разжав ладонь, внезапно кинула обе руки Пушкину.
— Ну, давайте же мне и свои! — крикнула она звонко (а ей хотелось, чтобы и беззаботно). — Да не так! Ладонью книзу. Я буду бить. Вы никогда ничего не понимаете сразу…
О, он все понимал, что касалось ее; и понимал даже то, что в эту минуту, играя, стремилась она убежать от себя. Но он был послушен, и игра началась. Подложив свои руки снизу и чуть, очень мирно, пошевеливая теплыми пальчиками, Мария, как всегда неожиданно, выхватила одну из них и звонко ударила Пушкина по руке.
В этой детской игре «в капустку», по общему признанию, была она настоящей мастерицей, и Пушкин всегда бывал бит. Ему очень нравилась радость Марии, и он даже притворно сердился, что никак не может ее одолеть.
Но сейчас игра не клеилась, и Мария, тряхнув своей черной головкой, убежала, оставив его одного.
Наверху пировали недолго: стал погромыхивать гром, собиралась гроза.
Горные грозы коротки, но сильны. Первую молнию увидали в воде. Она полыхнула оттуда, как бы со дна. Не синева и не зелень, а вот уже поистине — настоящее черное море! Все, что вверху, тотчас и внизу отражалось. Темные тучи клубились и пенились в море, их разрывали зигзагами золотые огни. Казалось, и гром отражался где–то на глубине.
Все всполошились и сначала бежали, чтобы уйти от дождя. Потом примирились и шагали уже прямо по грязи, — подлинно, как солдаты в походе. Пушкин немного побаивался за Екатерину, но она шла молодцом, не поднимая зонта.
Англичанка была — от веснушек — с рыжинкой, как ей и подобает, но сейчас она потемнела с лица. «Что за страна и что за люди!» Правда, что и ее соотечественники также еще не научились владеть стихиями, но зачем же эти смеялись так звонко и так весело! Ее раздражало и то, что ее питомица Сонечка мокрым цыпленком жалась не к кому иному, как к Пушкину. А тот глядел на Марию и радовался, видя опять к ней вернувшуюся простодушную молодую веселость!
Речушка Авунда, которую здесь называли, как и все, впрочем, ручьи, — Салгиром, превратилась внезапно в бурную горную речку. Дождь уже перестал, но в море далеко рукавом уходили ее мутно–желтые воды.
Переправа через этот разбушевавшийся ручей была нелегка, и руководить ею пришлось единственному кавалеру — Пушкину. Он выполнил это с, честью, стоя сам по колена в воде: видно утренний сон оказался в руку, и приключение все–таки было.
Раздражение англичанки, все возраставшее, получило наконец и своеобразное завершение. Мисс Мяттен, переправлявшаяся последней, изогнув свой девичий стан так, что скрипнул корсет, оперлась уже было на плечо «мосье Александра», но в решительный момент, перед тем как сделать прыжок, ей вдруг показалось, что, пожалуй, она неприлично близко придвинулась к молодому человеку, рука ее скользнула, и… кавалер не удержал свою даму. Англичанка по пояс рухнула в воду, Пушкин за ней…
Облака быстро бежали по небу, как нашалившие дети, и когда все добрались наконец до дому, солнце сияло так весело, как будто смеялось на какую–то очень забавную, только что происшедшую шутку. На нарядные светлые брюки Пушкина, ставшие шоколадными, невозможно было без смеха смотреть; мисс Мяттен шагала, не роняя достоинства и переваливаясь, как утка, только что вылезшая из трясины. Да и все были мокры до нитки… Легкое облачко пара зыбко, чуть видимо окутывало каждого из шагавших людей. Но что может быть веселее: быть молодым, вымокнуть на дожде и сохнуть на солнце! Так делают все: птицы и звери, травы, деревья…
Сухая и теплая, стройная, легонькая — с улыбкой встретила их при входе Елена. В руках ее была тяжелая кисть винограда. Поодаль стоял тот самый ослик, которого Пушкин видел в горах. Молодой певец заботливо укрывал початую корзину.
Солнечный свет падал на девушку со спины, золотя отдельные выбившиеся волоски и всю фигуру ее очерчивая легкою линией света. Рука с виноградом, отведенная в сторону, чуть розовела меж пальцами, и сам виноград, продолговатый, прозрачный, был как эти, пронизанные солнцем, пальцы девушки…
Дома все мылись, переодевались. Внизу Николай играл на рояле, и звуки полнили дом. Порою отчетливо сквозь музыку слышен был нецеремонный голос отца; он весело покрикивал слова домашней команды:
— Олена! Ты, брат, сухая, помоги отыскать Катеринины туфли. Девушка их куда–то засунула…
— А англичанке горчицы в чулки: это нация нежная…
— Марию и Соню в постель: поколь не согреются. Пушкин отдался во власть своей няньки — Никиты.
Тот быстро стянул с него сапоги, одежду, белье, растер Александра Сергеевича грубою простыней и подал свежее белье, от которого пахнуло ставшим привычным за последнее время ароматом фиалок: у Раевских сухие фиалки клали в белье.
Переодевание не много заняло времени, но Пушкин, отослав Никиту, сам медлил сойти вниз. Николай играл что–то грустное, даже мечтательное, такое, казалось бы, неподходящее этому здоровяку и богатырю. Когда–то из всех Раевских он знал его одного, и вот теперь — сколько уже! — живет вместе с ними со всеми. Сейчас он отсюда, с этого чердака, как бы глядел на весь этот дом и на себя между другими. Было ему здесь хорошо, как никогда еще в жизни, как не бывало и в родной семье своей. Но отчего ж это так?
Он уже много думал об этом: «Не семья, а друзья!» И уже свыкся с мыслью — так жить. И вот он теперь в чужой, но какой дружной семье! И на свободу его здесь не посягали, и был он меж нами как свой, хоть и не родной: в этом было своеобразие, какая–то новая свежесть очарования, неповторимая прелесть.
Пушкин так и не вышел до вечера. Он то писал, то, бросая перо, подпирал обеими руками голову и глядел в открытое окно. Между чистой и гладкой листвой уже глянули первые редкие звезды, спокойные, ясные, также как бы омытые влагой. В этот час он обычно любил побродить по берегу моря или постоять у фонтана, куда в мирные синие сумерки доносятся отдельные голоса из низеньких хижин, а неспящее море шумит и шумит, и далекие горы как бы придвинулись ближе, и листва на деревьях вот–вот заколышет свой ночной разговор… — это ль забыть?
Ничего не забыть! И зовут уже снизу: ужин и самовар. И слышится смех. Вот Николай заиграл что–то веселое. Свечи зажгли. Молодость. Юг. Сердце Тавриды.
Нет, ничего и никогда не забыть!
Глава пятая ПРОЩАНИЕ С ТАВРИДОЙ
Новости: пора уезжать! Новости: Инзов переведен из Екатеринослава в Кишинев — новая страна, Бессарабия, ждала Пушкина.
Эти три недели в Юрзуфе, сердце Тавриды, были и длительны в милом своем однообразии, и пролетели, как краткий миг счастья. Жизнь опять меняла русло. Все последнее время существование Пушкина было в движении, подобном течению реки, пересекшей огромную империю из конца в конец. И наконец–то, казалось, река достигла своего устья при впадении в море; тут–то как раз и наступал светлый покой… Но это только казалось: опять на коня, опять путешествие!
Раевский–отец выехал первым и взял с собой Пушкина: вместе им предстояло перевалить через горы. Экипажи, прислуга — все предоставлено дамам. Николай также остался с матерью и сестрами. Что делать? Великая благодарность судьбе за это блаженное время, но уезжать все–таки надо. Пушкин даже и пошутил. Няня всегда, бывало, говаривала, когда перед отъездом в молчании все должны были присесть: «Не садитесь у печки!» — это была дурная примета. Так Пушкин и тут заботливо предостерег:
— Не садитесь у печки!
Все знали отлично, что во всем палаццо дюка Ришелье не было ни единой печки; все вспомнили это, но никто сейчас даже не улыбнулся. Раевский перекрестил жену и детей, подставил всем щеку для поцелуя, но у жены, наклонившись, поцеловал, кроме того, ее верную руку; она, в свою очередь, ответила тем же.
Путешествие предстояло нелегкое, но Раевский–отец чувствовал себя после кавказских вод и отдыха у моря совершенно здоровым, окрепшим. Дочери нежно–почтительно еще раз с ним распрощались на воздухе. Пушкин молча пожал им руки; волнение стеснило его грудь. Девушки все стали в сторонке, и с высоты гнедой своей лошади в последний раз окинул он взглядом всю эту юную стайку.
Летние платья придавали легким фигурам их что–то воздушное. Как милы они были все вместе и как каждая из них мила по–особому! И с каждой он встретился взглядом… Как бы по уговору, они дружно молчали в последнюю эту минуту перед расставанием. Молчали — о чем? Как это знать?.. Пушкин вздохнул. Он никак не мог и подумать, что все они вместе и каждая в отдельности молчали — о нем.
С морем прощание было более длительным. Дорога лежала по берегу, по чудесным местам. Копыта лошадей цокали и цокали по каменистой земле, и стук их копыт был как отличный кованый ямб, а море размеренно пело и пело широкой волною гекзаметра. Эта спокойная торжественность древней Тавриды и еще более древней священной Эллады, материнская тень которой лежала на всем побережье, и звонкий ритм непрерываемой жизни текущего дня, — ничто не мешало друг другу, располагаясь в душе, широко воспринимающей мир, так же просторно и гармонично, как и в самой природе, у которой место есть для всего, кроме скученности и тесноты.
Трудно словами было бы выразить мысли отъезжавшего Пушкина. Есть очень плодотворные душевные состояния, когда мысли и чувства, рождаемые одним и тем же внутренним волнением, еще не полностью нашли раздельное свое существование и когда форма словесного осознания еще не родилась из этого бытия, подвижного, колеблемого, — а это и значит — трижды живого.
Недавний сегодняшний день уже отходил в область воспоминаний, а в эту страну только вступить, как вдруг зазвучат и самые заветные струны… Вся юность с тревогами ее, порывами, и чудачествами, и минутами высокого волнения опять и опять оживает перед внутренним взором. В сущности, можно сказать, что Пушкина друзья не покидают, ибо он сам помнит о них. Казалось бы, — думать теперь о Марии, или Елене, или Екатерине, но думать о них мешает, быть может, это молчание их, что как замочком повисло в минуту разлуки… Зато ничто не мешало думать о Николае, и особенно о том, как они распрощались.
Наедине они обнялись, и все то ровное в их отношениях, пусть неизменно теплое, дружеское, но все же с каким–то уже налетом привычки, обыденности, что проявлялось изо дня в день, — всколыхнулось в эту минуту на глубине с силою и остротой, и на мгновение как–то почти пронзительно они ощутили близость свою, чистую и молодую: дружбу и верность. Для Пушкина ощущение это — сознание и утверждение дружбы — было одним из самых заветных. Не многое с ним стало бы в ряд. И Николай, и Александр поняли оба, что они теряют друг в друге в предстоящей долгой разлуке, конец которой не ясен, не видим. Но таково удивительное свойство настоящих ценностей, что их невозможно потерять в разлуке, ибо они — часть нас самих. Так, и покидая друзей, Пушкин их не терял.
По этому пути и потекли его воспоминания и размышления. Самая природа, порою дикая и величественная, как–то теперь не поражала его. Да и то надо сказать, что после Кавказа Крымские горы уже не тревожили его с тою же силой, как могучие видения снеговых исполинских вершин…
И все же, конечно, он не совершал путешествия каким–то отшельником, погрузившимся в думы и отрекшимся от мира. Его весьма забавляло, как по горной лестнице взбирались они пешком, держась за хвосты своих лошадей; те, впрочем, не проявляли при этом никаких признаков беспокойства.
— Будто проделываем мы какой–то таинственный восточный обряд, — смеясь, говорил Александр.
И важно с ним соглашался Раевский, чуть улыбаясь знакомою спокойной улыбкой. И сквозь эту улыбку веяло опять и опять очарованием незабываемых дней, проведенных в Юрзуфе, недавнего еще и уже такого далекого расставания, когда эти девушки, вдруг отделившись, как облачка, отплыли к сторонке.
Переехали горы. Пушкин все еще видел и тополя, и виноградные лозы, но то, что запомнилось особенно крепко, и поразило его, и заставило сердце сжаться тоской, — это была береза — северная береза!
Раевский решил по пути завернуть в Георгиевский монастырь, и там еще раз Таврида дохнула на путешественников всем своим очарованием: почти отвесные горы к самому морю и могучий лес — многовековые дубы, каштаны, маслины, смоковницы. Огромный заросший монах, с единственным глазом, как у Полифема, когда–то, видимо, проживший бурную жизнь, показывал им монастырь, стукая по камням крепкой маслинной дубиной. Невзирая на этот свой вид дикаря, он все время блистал своеобразной ученостью.
Раевского просил пожаловать в свои покои отец–настоятель, но Пушкину не захотелось ему сопутствовать, и он отпросился остаться на воле.
— Я уж заметил, как вы поглядывали, — говорил ему на дворе этот мохнатый гигант, — то на личность мою, то на дубинку, а известно ли вам, что и у Полифема действительного узловатая дубинка его именно что была из маслины, а такожде и у самого Геркулеса, о чем Феокрит нам свидетельствует? Древние греки, позвольте вам доложить, чтили весьма ее вечную зелень и ствол негниющий. Секиры героев Гомеровых насаживались на молодые маслины…
Монах сощурил единственный глаз, огляделся вокруг и продолжал, понизивши голос:
— Вы — молодой человек, вам это можно сказать. Припомните сами, такая несокрушимость в маслине, что сам Одиссей свое брачное ложе — да и что же зазорного в том? — где он устроил то ложе? А опять же на пне старой маслины.
Пушкин не мог не рассмеяться. Этот человек так забавно в себе сочетал самый вид и воспоминания мифологические с крепким укладом древлего православия.
Но ученый циклоп Полифем не был лишен и поэтической жилки.
— Не пью уже скоро дванадесять лет!
И он шумно вздохнул от сознания тяжести подвига, а затем доверительно начал рассказывать, как ему было трудно отвыкнуть от этого дьявольского зелья и как и теперь еще бес манит порою его. И вот он выходит тогда «на широкую хвою»; именно так он и выразился — как говорят: «на широкую дорогу» или «на вольную волю»… Выходит — и дышит смолой.
— Возьму молодую кору, бальзамическую, отковырну ее ногтем и обоняю. Но как обоняю? Во–об–ра-жа-я! А ведь одни мечтания эти суть уже грех-с… И так, с перерывчиками — как чарку за чаркой; и когда как случится: то «выпью» под ветер, а то под росу, что этак блестит и маслянится наподобие лучшей икры. А в темную ночь, что особенно сладостно — божественно сладостно! — пью и под звезды… Да, и божественно, но оттого–то, конечно, и сугубо греховно, ибо все это являет собою обман. Но послушайте вы, молодой человек!..
И, быстро перехватив дубинку свою, он двинул ею перед собою с сокрушительной силой, как бы внезапный какой–то неотразимый аргумент, в конце концов все–таки его защищавший от беса:
— И все же я мыслю: простительно! Простительно — ради невинности сего обмана и простодушной, как установлено, сладости чувств, игре сей сопутствующих…
Время от времени на монастырском дворе раздавался сухой, но мелодический треск, и зеленый, с иглами, плод падал на землю. Падал и трескался. И было забавно, подняв, легким движением пальцев, отколупнуть его колючую шкуру. Немного неправильной формы чуть угловатые, эти каштаны были очень приятны для осязания — холодноватые, блестящие, гладкие, но матовые и потеплей на шершавой, четко очерченной лысинке. Пушкин помнил такие каштаны еще и в Юрзуфе. Он наклонился и поднял два или три; подержав их в ладони, согрев, машинально сунул в карман. Насколько все это было приятнее монастырских покоев с запахом ароматических «монашек» и застоявшегося благочестия!
— А масло масличное, от которого и самое древо носит название? — И неутомимый циклоп опять продолжал об Элладе. — Ведь еще сама верховная богиня тогдашнего мира — супруга Зевеса, для соблазна его и чтобы посиживал дома, не рыская по земле за красавицами, — их же бысть изобилие, — умащалась владычица сия, Герою именуемая, все тем же оливковым маслом, сладостный запах коего — заметьте, опять–таки запах! — проникает собою небо и землю.
Где и когда, только гораздо скромнее, подобный же был разговор об Элладе и об этих священных деревьях — маслине и лавре, и кипарисе?
И на минуту снова пред Пушкиным встало: квартира Жуковского и лощеный паркет, отсветы свечей на клавесине, дыхание многочисленных книг и эта пузатая кадочка, а в ней молоденький кипарис и рядом Елена, такая же строгая юною чистою строгостью, такая же легкая и немного печальная.
Пушкин тихонько спросил:
— Вы все о маслине. А что о кипарисе вы скажете?
Монах поглядел исподлобья.
— А кипарис есть дерево смерти.
Пушкин невольно сжал брови, точно что укололо в самое сердце.
Он не прочь уже был и расстаться с этим любителем классической древности. Но и сам Полифем не склонен был распространяться на мрачные темы. Пушкин узнал от него, что поблизости от монастыря расположены баснословные развалины храма Дианы, и монах провел его через лес, указал и тропу, но далее сам проводить не решился.
— Не подобает мне, грешному, следовать в это древлеблагочестивое место… то есть, — поправился он с лукавой улыбкой, — то есть, хотел я сказать, — в этот вертеп языческой мерзости.
И, приложив левую руку к груди, он смиренно и низко склонил свою кудлатую голову, а чуть погодя, освободив от дубинки правую руку, коснулся ею до самой земли, отдавая «большой поклон».
Пушкин подумал: дать ему или же неудобно? Бумажка лежала в жилетном кармане. Да и на что здесь ему деньги?
— Благодарю вас за труд, — сказал он вежливо и, немного стесняясь, все ж таки протянул ему ассигнацию.
Тот принял, однако, ее с большой простотой.
— Что же, — промолвил он. — Ежели так рассудить, всякий труд должен быть благодарен.
Неожиданное речение это снова заставило Пушкина улыбнуться, и, уже оставшись один, шагая к развалинам, видимым издали, он все еще про себя повторял: «Всякий труд должен быть благодарен».
От гордого некогда храма остались одни руины, по которым едва ли что можно было себе представить. И люди, и время потрудились здесь над разрушением довольно. Но вот… минуло много веков, как потух последний огонь на алтаре храма Дианы, и все же как живы охватывающие здесь воспоминания! Как если бы зола на алтаре погасла, но не вовсе остыла, и невидимый жар еще овевает лицо путника. И совсем уж не умирают те чувства, которые связаны с самим преданием об Ифигении, о той силе дружбы Пилада и Ореста, двух молодых и благородных греков, — дружбы, когда один готов был умереть за другого, и оба они спорили между собою, кому из них погибнуть…
Пушкин долго стоял и глядел на синее море невдалеке, на такое же синее небо над головою, на мощную спокойную зелень вокруг, на каменистую древнюю землю. Он тут был совершенно один — наедине разве только с глубокою той тишиной, в которой тонет и самое время. А эти мирно дремавшие камни немым своим языком повествовали о том баснословном прошлом, о котором болтал и этот причудливый человек в монастыре. Прошлое это было далеким по времени, но не так же ли тогда бились сердца и дышали в груди благородные чувства? Пушкин глядел и не думал о том, где же белели когда–то колонны и где расположен был жертвенник. Для него это был памятник дружбы, и постепенно мифологические предания эти, шедшие из глуби веков, начали оплетать, подобно лианам, имя того человека, которого так часто он вспоминал за это свое путешествие по крымским горам. Ветер дружбы повеял опять в открытую грудь…
Чаадаев! — вот это имя. Он думал о нем не менее, чем о Николае Раевском, с которым у него же и познакомился. У Пушкина было много друзей, но эта — дружба особая, не освященная полудетскими лицейскими годами, но та золотая дружба зреющей юности, когда и плавятся, и куются новые взгляды, с которыми — жить!
Спешно покидая Петербург, Пушкин забегал к Чаадаеву проститься перед отъездом. Тот спал, и он не велел его будить. Так они и не повидались. Но вот перед отбытием из Юрзуфа генералу Раевскому были доставлены важные бумаги из Киева, а среди них оказалось, между прочим, и письмо Чаадаева к Пушкину, пришедшее в Киев на адрес Раевских. Чаадаев в нем выговаривал другу и обронил несколько горьких слов о непрочности дружбы. Неужели же из–за того что он, покидая Петербург, не простился с Чаадаевым, тот усомнился в его чувствах?
Пушкин присел на одинокий камень, сильно за день прогретый горячим и пристальным солнцем. Он задумался и ушел весь в себя.
Любви, надежды, тихой славы
Не долго тешил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем в томленье упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она —
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластья
Напишет наши имена.
Пушкин припомнил сейчас эти стихи, написанные им Чаадаеву два тому года назад, и перед ним, живые, воскресли восторженные их ночные беседы, чтения, споры.
К чему ж тогда холодные эти сомнения в дружбе? Разве она менее крепка, чем дружба Ореста и Пилада? Нет, она была даже больше, чем просто дружба, хотя бы и самая крепкая, ибо их связывали между собою не только личные чувства друг к другу: это было горячее время мечтаний, готовности на подвиг за счастье отечества…
Солнце склонялось к закату. Миром и тишиной дышало окрест. Как бы сами собою слагались в душе легкие строки, перебивая друг друга. То это было дыхание древности, то жаркие воспоминания юности. Вот она, давняя эта жизнь — грозный храм, лежащий в развалинах! А память о дружбе, о подвиге нетленно жива. И как это вяжется с его молодою верой, что и их имена уцелеют на обломках самовластия… Но минута была тиха, он глядел и на свое прошлое уже издали, и оно также было подернуто сизоватою дымкою времени.
Ни карандаша, ни бумаги с ним не было, чтобы записать теснившиеся в голове строки, и, когда возвращался к монастырю, как легкое облачко, плыли с ним вместе и те, где он вспоминал греческих юношей, дружба которых пережила столетия, и другие, тесно к ним примыкавшие, но сильнее их, ярче. Он не твердил их вслух, но они колыхались в нем в такт неспешной походке — строки о собственном друге и о себе самом.
Чаадаев, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном.
Теперь и лень и тишина,
И в умиленье вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.
И действительно, уходя, на все еще теплом, отшлифованном временем камне пальцем он вывел инициалы — свои и Чаадаева. Эти стихи были тесно и неотрывно связаны с ранним его горячим посланием и как бы сливались с ним. Они прочно врезались в память и без карандаша.
В монастыре ночевали. Пушкину плохо спалось. Кажется, возвращалось к нему знакомое недомогание, во рту было сухо, и легкий озноб раза два пробегал по спине. Утренний звон застал его уже пробудившимся, и он не мог больше заснуть. Была тишина, и чего, казалось бы, волноваться? Но и на море бывает: гладкая даль будто бы безмятежна, однако же едва уловимый трепет возникает то там, то здесь; воздух недвижен, небо спокойно, но воды уже отзываются на где–то возникшую, еще невидимую, но уже приближающуюся бурю…
Может быть, это действительно и лихорадка бегло пробовала клавиши, перед тем как разыграть свою очередную фантазию, но было и что–то другое, шедшее изнутри. Отдав полную, щедрую дань священному для него чувству дружбы, Пушкин, казалось бы, должен был исчерпать хоть на время волнение сердца, на самом же деле он лишь как бы освободил у себя место для нового чувства, горячими ключами забившего из иных родников.
Проснувшись, спросил он себя: «Где я?» — и тотчас же ответил: «Нет, это еще не Бахчисарай!» И только что мысленно он произнес это слово, как вспомнил, что, расставаясь с сестрами Раевскими, он им сказал: «Буду в Бахчисарае, вспомню о вас!» Это не было особенно вежливо, как будто до Бахчисарая он и не думал о них вспоминать или даже совсем собирался забыть. Но, однако же, это почти точно так и случилось… А для этой фразы его были свои, особенные основания.
Еще в Петербурге, давно, когда из Раевских он знал лишь одного Николая, тот как–то ему рассказал, что сестры, вернувшись из Крыма, привезли оттуда интересное старое предание — о любви хана Гирея к Марии Потоцкой. Польская княжна была его пленницей в роскошном бахчисарайском дворце, но и хан сам был в плену ее красоты, ее нерушимой твердости и душевной чистоты. Красавица христианка погибла от ревности любимой жены хана, которую он забыл ради новой пленницы, так не похожей ни на одну из его красавиц рабынь. Он жестоко расправился с преступной женой, а над могилой Марии воздвиг мраморный памятник–фонтан, который сестры Раевские окрестили «фонтаном слез».
Уже и тогда рассказ этот взволновал творческое воображение Пушкина, но потом он забыл о нем, и только вечером накануне отъезда, у маленького юрзуфского фонтана, когда вся молодежь возвращалась с прощальной прогулки по берегу моря, Мария невольно напомнила ему это предание.
— А вот и наш «фонтан слез», — сказала она, по обыкновению смешивая улыбку с какою–то затаенною серьезною мыслью; впрочем, взгляд ее тут же договорил и остальное: «Да, да, — фонтан слез: ведь вы от нас уезжаете!»
— Да, я уезжаю, — так и ответил Пушкин и невольно остановился у скромно журчавшей воды. — Как хотел бы я, Николай, чтобы ты еще раз рассказал…
— Что ж там рассказывать, — возразил Николай, — ведь ты уж одну пленницу изобразил между фонтанов…
— Какую?
— А Людмилу в саду Черномора, и самый сад даже сравнил с садами «князя Тавриды»…
— Как ты все это помнишь!
— Не хуже, чем ты… Но почему ж, собственно, я должен рассказывать? — улыбнулся Николай и пояснил шутливо: — Почему я, когда здесь журчат, можно сказать, первоисточники?
Сестры засмеялись. Но Пушкин их попросил серьезно и, вопреки всякому этикету, опустился на камень низкой ограды: никуда не уйду! Минута тишины преодолела неловкость, кому же начать. И начала Мария.
— Мне так всегда жалко эту княжну, — промолвила она раздумчиво и как если бы сама ее знала. — Она жила дома у старика отца, и он ею гордился. Нас много, а она была одна и была очень красива. И это верно — была очень тихая, но и веселая, и вот не знала своей судьбы…
Мария в рассказе порою немного сбивалась, но сестры тотчас ее поправляли и добавляли подробности. Сами слова ее как бы сливались с тихим, неумолкающим лепетом выгибающих спинку и ниспадающих струй маленького юрзуфского фонтана.
Но когда Мария живописала ревность ханской жены — Заремы, голосок ее начинал звенеть настоящею страстью, и даже в наступающих сумерках было видно, как поблескивали черные ее, подернутые влагой глаза.
— Оставь мне его! Сделай так, чтобы он тебя разлюбил.
Екатерина Николаевна, слушая, чуть усмехалась: ей хорошо было известно, какая в маленькой сестренке ее — большая ревнивица!
— Но вообще, — сказала она, будучи умницей и не желая прятать свой ум, — вообще, это не только любовная история, это столкновение магометанского мира с христианством: и на полях войны, и на поприще чувств. Там вы увидите крест рядом с магометанской луной — на самом фонтане.
— А как же иначе? — возразила Мария. — Только так хан и мог соединить себя с ней.
Тут и Екатерина Николаевна слышно вздохнула: словами она выражала спокойную, верную мысль, а в тоне, когда говорила, проступало горячее чувство взволнованности. От Пушкина не укрылось и это.
Впрочем, и сам он полностью отдался поэтическому очарованию этой давней истории… скорее легенды… Но что до того, — не легендою был этот неспешный, и все же так стремительно промчавшийся вечер — невозвратимый!
Елена почти не вступала в рассказ. У самого дома Пушкин спросил ее:
— А вы что примолкли? Что же вы скажете об этом предании?
— Я ничего не скажу. Мало ли что, и помимо религии, становится между людьми глухою стеной! — И она подняла на него свои печальные и ясные глаза; или она намекала на свое нездоровье?
Пушкин короткого этого разговора не продолжал. Вечер спускался, быстро темнея, и фигура Елены казалась колеблемой легкою тенью, еще земною, но уже отлетающей…
Все это сейчас вспомнилось Пушкину, как если бы было вчера. И сегодня же он будет в Бахчисарае и увидит фонтан! Так вот набегало откуда это волнение чувств… Он быстро вскочил и оделся.
Чудесное утро сияло над миром. Ранние птички, невидимые в кустах полифемовых смоковниц, робко пробовали свои голоса, чуть охрипшие от сырости ночи. Роса блистала, переливаясь на листьях и на траве. Как гнезда ласточек, лепились в скале кельи монахов. До моря, казалось, рукою подать. Огромная лестница, вырубленная прямо в камнях, вела к тихой, просторной, по–утреннему молочно голубеющей дали. Как он успел полюбить этот полуденный край! И вот он отходит в прошлое… И суждено ли когда–нибудь возвратиться сюда?
Сердце Пушкина сжалось. Море, прощай! Таврида, прощай!
Но настоящее прощание с Тавридой было в Бахчисарае.
Туда они прибыли, когда солнце уже заметно клонилось к закату. Большую часть пути тропа пролегала в тесном ущелье, по обеим сторонам которого высились крутые утесы. Порою они пересекались поперечными расщелинами или переходили в пустынные плоскогорья; кое–где темнели пещеры — дело рук человеческих, пещерные города.
Неподалеку от одного такого древнего становища всадники наши наблюдали любопытное зрелище; бой двух горных баранов. Оба они отчетливо рисовались на фоне синего неба, и это придавало поединку их какую–то особую романтичность. Они сшибались так крепко, что казалось, будто их черепа, вдавившись один в другой, уже не могут разъединиться, но, покачав этой слитною головой, они наконец все же расцеплялись и расходились на некоторое, всегда одно и то же, как на настоящей дуэли, расстояние, а чуть помедлив, снова и снова сближались — неспешно, наклонив головы и не спуская друг с друга внимательного и напряженного взгляда, и… опять — сильный и точный удар, от которого, верно, сыпались искры из глаз. Ни один другому не хотел уступать… Да оно и понятно: на соседней долине мирно и грациозно паслась молодая шелковистая красавица, делавшая, впрочем, Вид, что она здесь совсем ни при чем.
— А крепкие бойцы! — сказал Николай Николаевич; даже и он на них загляделся.
— При первой же дуэли их вспомню, — отозвался и Пушкин.
Но вообще в эту дорогу он не был словоохотлив, а Раевский обычно не возражал, когда на молодого спутника его находила подобная молчаливость. Однако же самый Бахчисарай встретил их звонко и весело.
Тотчас за каменными большими воротами, выстроенными Потемкиным к приезду Екатерины, шла длинная улица, по которой оживленно скользили, как тени, женщины, покрытые белыми праздничными чадрами. У правоверных суннитов шел второй день веселого праздника — курбан–байрам. После танцев и музыки, сопровождавших древние воинственные состязания, мужчины сейчас предавались отдохновению, веселой толпой заливая шумный базар. Но и женам, и девушкам не сиделось после жирного барашка дома, и они обегали соседок, чтобы еще раз (полакомиться миндалем иль виноградом и всласть посудачить о событиях прошедшего дня. Домишки, сложенные из неотесанного местного камня, были малы и темны, но у каждого высились тополя и маслины, старые ореховые деревья.
По мере приближения к базару дома становились выше, легко нависали балконы; гуще стояли деревья, внятнее были звуки зурны, звончей восклицания. Самая площадь полна была народу, никто никуда не шел, но все пребывали в движении. Лавки еще были открыты, кофейные переполнены; в шашлычных и чебуречных также была теснота.
Пушкин был бы не прочь соскочить с коня и смешаться с этой пестрой толпой, но он был не один, да и усталость его одолевала.
Миновав базар и несколько мечетей со стройными белыми минаретами, они спустились несколько вниз и переехали по мосту грязную, тинистую речушку, застроенную по обоим берегам беспорядочно раскиданными домишками. А вот и ханский дворец!
Лучи закатного солнца, неяркие, желтые, заливали и двор, и постройки, неровные — то выше, то ниже, то старые, то поновей: время оставило здесь много следов. Строения эти теснились друг к другу, а то и вовсе сливались одно с другим, создавая впечатление сказочного розового городка.
Раевский дорогою Пушкину кое–что рассказал о Бахчисарае. Дворец много раз подвергался полному разорению — и Минихом, и фельдмаршалом Ласси, и войсками князя Долгорукова—Крымского. Тридцать семь лет тому назад последний хан Шагин—Гирей покинул столицу и увез из дворца почти все, что было в нем ценного, но через четыре года Потемкин отделал его к приезду Екатерины. Два года тому назад был здесь и Александр: опять Александр! Но Пушкин, отдав ему дань в Таганроге, сейчас уже вовсе не думал о нем. Дыхание мусульманского мира охватывало его.
Почти ничего не осталось от старого… И все же, странное дело, веяло ото всего настоящею стариной, точно бы она никуда и не уходила, а множество обветшавших, а то и вовсе разрушенных гаремных комнат говорило о былом больше, вернее и таинственнее, чем если бы они оставались в сохранности. Розы рдели под солнцем особенно ярко, виноград вился на свободе, высились огромные тополя, соперничая своей высотой с минаретами, кидая длинные бегущие тени! И это живое и мерное дыхание жизни при полном безлюдье и тишине также особенно оттеняло, что некогда пышные пирования, здесь протекавшие, отошли безвозвратно…
О приезде Раевского уже знали, как оказалось, и ему отведены были комнаты в самом дворце. Местные власти прибыли тотчас — приветствовать, разместить и устроить. Пушкин же, этикетом не связанный, забыв об усталости, о недомогании, тотчас побежал — увидеть фонтан!
Фонтан был, однако, лишь небольшою деталью в этом огромном скопище многих строений, дворов, ворот и дверей. Сколько на все это положено было труда каменотесов и землекопов, плотников и столяров, ваятелей и резчиков, кладчиков, художников и маляров! Но основными строителями–зодчими были, конечно, мастера из солнечных италийских земель.
И сколько событий тут протекало, сколько жизней дышало в этих стенах: слезы мешались с улыбкой, огорчения с буйною страстью, молитвы с мечтами… сколько воспоминаний, раздумья и… преступлений!
Но вот для Пушкина — как раз именно эта деталь, в сущности скромный мраморный памятник, также немного напоминавший своими очертаниями небольшую простую часовню, этот фонтан со скупым падением капель, подобных неспешным и кротким словам повествования о живой старине, — он–то и оказался тем истинным центром, куда все сходилось, где и давнее, и вовсе недавнее сливались воедино; тут–то, как сказочным ключиком, открывались все двери и все сердца, в том числе и собственное. Воспоминания свои как бы становились рядом и перемешивались с воспоминаниями, слышанными из милых уст. И видел он все — и свое, и былое; и девы гарема, и сестры Раевские живыми тенями возникали в воображении с волнующей прелестью их и загадочной той немотой, что разрешалась за них и звучала в мерном падении, в музыке водяных этих слез.
Он сердцем был с теми, кого обещал вспомнить здесь, в ханском дворце. А они — вспоминают ли?.. И вдруг, как бы в ответ, до него донесся голос, который заставил его встрепенуться. Голос позвал его…
Николай Николаевич, отказавшись от любезных услуг хозяев Бахчисарая, непременно желавших его проводить, также вышел один осмотреть ханский дворец. Он шел, неслышно ступая по мягким коврам и плетеным настилкам. Пушкина нигде не было. Неужели же, неугомонный, он убежал на базар? Но вот наконец, вглядевшись, в глубине одного перехода, он различил силуэт молодого человека, стоявшего в глубокой задумчивости; рука на груди, точно старался умерить биение сердца. — Александр! — негромко позвал Николай Николаевич, и слабое эхо ему отвечало.
Пушкин тотчас обернулся и с такою порывистой живостью, как будто бы только и ждал этого зова. «Это они, — подумал он суеверно, — они уже не молчат, как при расставании, они вспоминают меня». В этой отцовской тональности было что–то общее им всем, что–то «в высшей степени раевское». Это не было голосом каждой в отдельности, но и каждую напоминало.
— Что с вами, Александр?
— Со мной? Ничего… Это меня трясет лихорадка.
— Полно, на вас нет лица. А вы не видали еще развалин гарема? Мы завтра рано уедем, пойдемте. Я хочу побывать и на ханском кладбище.
И Раевский спокойно и властно взял его за руку.
Пушкин провел беспокойную ночь. Он рано улегся, снова сославшись на лихорадку; лихорадка была и в крови, и в душе. Слов еще не было, но звенел уже лихорадочный ритм, плыли краски, видения; Он то кутался в простыни, пытаясь уснуть, то вытягивался во весь рост и закидывал руки за голову.
Тогда до него доносились голоса из соседней комнаты. У Раевского возобновился поток посетителей. Важные старики–горожане один за другим приходили к нему — выразить свою преданность и уважение. Благосклонный и любознательный генерал расспрашивал их и о дельном, и о любопытных ему пустяках: как нынче на состязаниях гоняли и убивали баранов, предназначенных для раздачи беднякам; и почему сунниты делают омовение рук снизу вверх, начиная от кисти и до локтя, а шииты наоборот — от локтя к кисти; и верно ли, что в пост рамазан нельзя даже купаться, нюхать цветы и проглатывать слюну. А уж потом он переходил и к более существенному: о возделывании почвы под виноград, о навозе и о поливке, о способах сушки винных ягод.
И Пушкину все, что касалось обычаев, также было весьма интересно. Даже ночью он вспоминал кое–что из услышанного: не забыть записать! — все на тех же листках, где уже столько накоплено было замечаний о быте и нравах донских и кавказских казаков, черкесов и осетин… Но сейчас эти речи, что доносились к нему, как–то скользили, не привлекая внимания и не вызывая, как то бывало обычно, живого и непосредственного отклика, разве что только одна острая память сохраняла все это — на случай. И стоило только закрыть глаза, как тотчас возникало видение роз, солнца на тополях, и как ломались их тени, перекидываясь с крыши на крышу, а вода упадала медленно, капля за каплей, словно ведя все то же неспешное повествование, которое слушал бы и слушал без конца.
Ночь была беспокойна, но короткий утренний сон крепок, целителен. Пушкин проснулся здоровым, снова открытым для всех впечатлений бытия. Все в нем утихло, нашло свое место, и пробудится снова, и опять запоет, только уже в поэзии, в творчестве, когда на то придет срок.
Что ж впереди? Симферополь и расставание с Раевским, путь в Кишинев. За Перекопом ждали его безлюдные приморские степи. Он уже и теперь предчувствовал, как это будет. Веселого нет, но как зато все это дышит историей!
Он заранее видел эту ровную, однообразную гладь: кое–где одинокое дерево старой акации с лохмотьями рыжих стручков, сухие, ободранные стебли кукурузы, обезглавь ленный подсолнечник, заросли серой полыни и подпалины выгоревшей от знойного лета травы; такова ж и земля, седая и желтая: лицо старого монгола. И все же ветер, ветер каков?! О, эти степи, по которым столетия звенели копыта коней и свистели по воздуху арканы кочевников. И эти реки, устья Днепра и Днестра, которые должен был пересечь, когда–то белели от парусных стругов варягов, славян. Дикая вольная песня лилась, заполняя собою всю неоглядную водную ширь… И он там будет один.
Пушкин невольно двинул плечами: да, немного еще, и вот снова он остается один. Но три эти недели в Юрзуфе, солнце и море Тавриды, они сохранятся навсегда в его памяти, а жизнь — она вся впереди.
Небо было туманно и серо, но с запада тянул ветерок, очень легкий и ласковый, всегда молодой. Что–то еще надо было припомнить — что–то, что было уже, но что еще ждет и впереди…
И вспомнил хорошее: да, в Кишиневе ждет его Инзов.
Глава шестая КИШИНЕВ
Инзов перебрался в Кишинев еще летом. Ему предоставлен был одиноко стоявший двухэтажный дом на холме. Иван Никитич сам этот выбор одобрил. Он не любил шума и излишней суеты, здесь же был воздух отличный, сад, виноградник и тишина. Сам он занял верхний этаж, внизу поселились двое–трое чиновников из несемейных. Сверху был вид и на город, и на лощину, где протекала неспешная речка, образуя неглубокое озеро. Восход и закат были открыты.
Генерал по–стариковски рано вставал. Он распорядился не завешивать окон, чтобы солнце будило его.
За последнее время он стал замечать, что понемногу тучнеет, и принимал свои меры. В его кабинете, скупо обставленном, на стене над диваном были развешаны ружья и другие охотничьи принадлежности, а в углу стоял небольшой набор инструментов: простая коса и ведерко с бруском, железная лопата, деревянная лопата и трехгранная тяпка с длинною ручкой. Он сам обкашивал траву в саду и по горе, окапывал яблони и пропалывал сорняк на огороде и между цветов; деревянная лопата дожидалась зимы. Так он собирался, по собственному его выражению, «догонять свою молодость».
С приближением осени солнце, впрочем, уже его не будило, само оно с каждым днем просыпалось позже обычного. Так и сегодня он поднялся на заре и, покрякивая перед тем, как начать умываться холодной водою, про себя, по обычаю, приговаривал:
— Ничего, видно, брат, не поделаешь, теперь тебе самому приходится солнце будить!
И он будил его в молочной предутренней мгле достаточно громко.
Голос его, с хрипотцой, однако ж без всякой натуги, раздавался не только по комнатам. Челядь в людской, козы в закуте, куры и гуси на птичьем дворе, певчие птицы и говорящие птицы — попугай и сорока — из густо навешенных клеток на просторной террасе, — все живое отзывалось ему.
Заспанный слуга подавал суровую прохладную простыню, но растирался он сам и при этом напевал потихоньку, следуя за движением рук:
— Для моциона! Для рациона! Для грациона!
Он бывал очень доволен этим обычным своим «молодецким» припевом и, покончив с растиранием, брал из шкафа заранее припасенное большое краснощекое яблоко — «собственных садов». Как всегда, он сперва нюхал его, потом внимательно оглядывал все оттенки цветов — от красного и до желтого с приятною свежею зеленцой и, уже только понюхав и оглядев, разламывал его крепкими пальцами, слушая привычный еще с детства вкусный хруст. Иван Никитич терпеть не мог, когда фрукты кто–нибудь резал ножом; он считал это истинным варварством и деянием противоестественным. Потом он заказывал самовар и сходил вниз. Поздоровавшись с птицами и получив ответное приветствие, выходил в сад.
Вторая половина сентября. Листья еще держатся крепко, но ночные холода уже покоробили и выгнули их по–осеннему, тронули яркими красками. Георгины разных цветов, настурции, астры окаймляли террасу. Дорожки усыпаны с вечера свежим песком. Всюду был виден хозяйский глаз.
В самом саду Инзов остановился. Он давно уже выбирал место, где будет строить оранжерею. Сейчас он вынул из кармана рабочей своей куртки складной аршинчик и еще раз прикинул, где надо будет копать под углы. Ему уже были обещаны апельсиновые и померанцевые саженцы. Он обожал южные растения, и стены его дома внутри были разрисованы тропической флорой. А небольшой виноградник по южному склону горы он наметил увеличить с будущей же весны не меньше, как вдвое.
Иван Никитич терпеть не мог докторов и лечился по–своему — работою и воздухом по утрам. У него был на это верный инстинкт: он себя не утомлял, дышал через нос, ровно, ритмично, ни о чем в это время стараясь не думать, и это последнее, как, посмеиваясь, он сам говорил, особенно хорошо ему удавалось. А результаты?
У него была своя философия здоровья. «Чтобы быть здоровым, — говаривал он, — нужно всего–навсего только две вещи: быть добрым и быть веселым». Работу и воздух он почитал лишь подсобными средствами для доброты: поработав и подышав на свободе, лучше понимаешь людей.
Обычно бывало у него на рассмотрении изрядное количество дел, не только служебных, но и судебных, уже разобранных ранее в уездном суде или даже в таврической судебной палате, рассмотренных также и членами попечительного комитета и теперь поступивших к нему на утверждение. В хороший денек он себе спрашивал квасу полный Графин:
— Квас я себе заработал, покуда вы все еще спали! И слушал только в пол–уха доклад секретаря, не подавая никаких определений.
— Дальше!
Я говорю: следующее!
А резолюция бывала сразу по всем делам одинаковая: — Снизить наказание на одну ступень!
Иногда секретарь позволял себе возразить: — Вы уж слишком, ваше превосходительство, добры-с, по делу такого–то…
— Ты ничего не понимаешь, — разъяснял ему Инзов. — В наказании главное, что человек наказан, а капелька доброты, к человеку проявленная, только поможет ему дальше не оступаться, — это росток, понимаешь, чего? Не исправления только, а и будущих добрых поступков, это «прививка глазком». И уж ежели растение чувствует и воспринимает, то человеку как не уразуметь?
Тут Иван Никитич уставал говорить и замолкал. Он взглядывал на лицо секретаря, видел окончательно отупевшее его выражение, ухмылялся и махал ему рукой, чтоб уходил.
Секретарь удалялся и размышлял про себя, совсем сбитый с толку: что ж генерал… морочит его, или впрямь он такой невозможный философ? «Человека — и вдруг с растением вздумал сравнить… Право, даже обидно!» А сам Иван Никитич думал: «Ну, кажется, я действительно поправляюсь…»
Но сегодня день был нехорош. Опалывая георгины, он повредил два редких клубня, подвязывая виноградные лозы, нечаянно обломал хорошую ветку и, наконец, вернувшись опять на цветник, крепко ударил себя самого по ноге проклятою тяпкой…
Обыкновенно он сам кормил утром и птиц, и собак, сегодня же лишь распорядился об этом и, сидя за самоваром, недовольно поводил носом к окну, за которым слышался собачий визг. «Так и есть, наверное Дюлинка останется голодна, а этот дурак не сумеет от нее отогнать… У нее же больная нога, а то бы она и сама…» Дюлинка была небольшая рыжая сука неизвестной породы, убежавшая от цыган и приютившаяся у него на дворе. «У нее ни отца, ни матери, — рассказывал он про нее почти с полной серьезностью, — доверилась мне». Боль от ушиба в ноге еще больше в нем обостряла понимающую жалость к бедной собаке. Он встал наконец и подошел к окну, но кормление собак уже было закончено, он опоздал. И это тоже не повеселило.
Так всю первую половину дня были у него неудачи. Он стал подозрителен, не велел давать себе квасу и с опаскою думал: «Наверное, и квас вовсе мне не полезен… Нельзя столько пить квасу!» А без любимого квасу посасывала тоска. Доклады сегодня проходили с прямыми придирками с его стороны. Секретарю он заметил, что тот не довольно по форме одет, и не умеет стоять, и бумаги… Бумаги были, впрочем, в полном порядке, и Иван Никитич почти обрадовался, увидав один загнутый уголок. Он долго и тщательно сам его выправлял и разглаживал ногтем, продолжая все время при этом хранить гробовое молчание. Секретарь потихоньку вынимал платок и уже второй раз, незаметно для Инзова, вытирал предательскую влагу на лбу. Генерал наконец и сам себе начал надоедать…
Но в это время, необыкновенно кстати, вошел казачок и доложил, что там спрашивают какой–то молодой человек — видать, путешествующий… бритый, в ермолке…
— Еще чего выдумаешь… Откуда бы?
Но Пушкин не стал больше дожидаться за дверью.
— А из Крыма, — сказал он, входя и смеясь. Секретарь осторожно посторонился — выждать, как развернутся события.
Инзов вскочил из–за стола, забыв про больную ногу.
— Александр Сергеевич! — воскликнул он радостно. — Наконец–то! Откуда же вы? Что Раевские? И что ты, в самом деле обрился, что ль, или магометанской вере предался?
Пушкин к нему подошел. Они обнялись.
— Ну что ж ты стоишь? — обратился внезапно Инзов к секретарю. — Кажется, все ведь в порядке, и со всем будто покончили? А что и осталось, доложишь мне завтра. Да, погоди! — крикнул он ему вдогонку. — Скажи там, чтобы дали нам квасу… Всё забывают! Да целый графин.
Пушкин глядел на него и улыбался. Он действительно был в тюбетейке, загорел и обветрен. Ему приятно было опять видеть из–под густых, как будто еще больше отросших бровей добрые голубые глаза Ивана Никитича.
— Да где же вы остановились? Да отчего не прямо ко мне? И почему в самом деле обрился? И где?
— А в Симферополе. Лихорадка замучила, и я обрился.
— Ну–ну, покажись!
Пушкин снял тюбетейку. Вся голова была в сильных царапинах.
— Так брили, — воскликнул он, проводя рукой по голове, — так брили, что и не дай–то бог! — И начал показывать. — Так вот стоит скамеечка низенькая, а на ней пиала, круглая чашка без ручки…
— Знаю, знаю… Сам из таких люблю пить.
— Это для мыла. А кисть — как хорошая малярная кисть! И потом такой вот скребок, две ручки загнуты вперед, а посередине отточено… барана можно зарезать! И голову — раз! — к себе между колен и мылит с затылка… а потом скребком на себя… Раз! Раз! Так только свеклу бы чистить!
Пушкин все это показывал с такою мальчишеской живостью, что Инзов принялся весело хохотать: видно, здоровье его опять и внезапно поправилось.
— А от лихорадки… — вдруг озаботился он. — Пойдемте, я вам покажу. Видите этот брусок? Так брусковую воду пьют косари, и — как рукою снимает!
— А вот мы сейчас и попробуем… с квасом, если позволите!
Так они встретились, старый и малый, весело и по–хорошему.
Инзов оставил его у себя отобедать. За столом было много народа — служащие из комитета, кое–кто из горожан без различия чинов и положения. Все мужская компания. Было вино, фрукты. Хозяину отдельно подана была цветная капуста — «собственных огородов».
Дорогого гостя генерал посадил рядом с собой и усердно расспрашивал про Кавказ и про Крым, про Раевских. Но особенно подробный допрос он учинил о крымской растительности: о лаврах, чинарах, о лавровишеннике, о колючей гледичии и о самшите, твердом, как кость.
Пушкин, слушая эти вопросы, про себя должен был сознаться, что кое–чего, пожалуй, он и не приметил. Зато о маслине, да и о самом одноглазом монахе из Георгиевского монастыря он имел возможность сильно распространиться. Общий успех имели также рассказы его о котах на Железной горе.
— И медведя раз видел, — похвастался он.
— Ну, мы медведей видим здесь разве лишь у цыган.
— А этот был у себя, можно сказать, дома.
Уже подали кофе, в низких маленьких чашечках, крепчайший. Инзов после обеда обычно удалялся к себе подремать, но сейчас уходить ему не хотелось: рядом сидела такая живая и резвая молодость! Он попросил Пушкина рассказать и про медведя.
— Да что же рассказывать? Если было бы страшно, а то вовсе не страшно.
— Тем лучше. Послушаем сказку о добром медведе.
«И верно, — она почти про тебя», — подумалось Пушкину; он невольно, как бы продолжая эту тайную мысль, так и начал:
— Но он был совсем молодой! Так дело было. На обратном пути из Юрзуфа я раз поотстал от генерала Раевского. Тропка шла над обрывом. Небольшой аул в стороне и поля кукурузы. Утро, туман. Вдруг лошадь моя захрапела, чуть не шарахнулась прочь. Я ее придержал. Глянул, — внизу медведь, небольшой, пониже меня. Я лошадь остановил и — что бы вы думали? — залюбовался! Он на свободе ел кукурузу, да с каким аппетитом!
Тут Пушкин невольно повел глазами на Инзова. Тот добродушно и с большой аккуратностью подбирал оставшиеся на тарелке небольшие головки любимой своей цветной капусты.
— Он делал так. Присаживался на корточки и обхватывал несколько стеблей сразу передними лапами, выпрямлялся и сошмурыгивал их. А уж потом лакомился всласть… Очень хороший медведь!
Пушкин не смеялся над Инзовым, он любовался им, хотя и насторожился, боясь, что кто–нибудь позволит себе неуместное сближение. Он немедленно был готов дать отпор. Но, по счастию, ласковой шуткой своей насладился только он сам. Кто–то лишь осторожно позволил себе усомниться в подлинности самого случая. Пушкин, конечно, мог бы и тут достойно ответить, однако ж ему не захотелось нарушать той простоты и добродушия, которыми все дышало вокруг Инзова, и он ограничился только коротким замечанием:
— Если я что когда и совру, то разве лишь про приятелей!
Когда все разошлись, Инзов его еще задержал на минуту. Он оставался все так же, как был и с утра: ушибленная нога в мягкой туфле, другая в казенном простом сапоге. Подойдя к Александру, он негромко спросил:
— А вы знаете Михаила Орлова, начальника штаба у генерала Раевского? Он теперь здесь, командиром дивизии.
У Пушкина быстро мелькнул в голове Петербург, Подкумок и речи Александра Раевского… Через него Михаил Федорович прислал однажды поклон и юному Пушкину. Сейчас этой новости он очень обрадовался и весь встрепенулся.
Инзов зорко на него поглядел и чуть погрозил пальцем.
— Перемещение это… Оно хотя отчасти и добровольно, а все же вроде как бы и почетная ссылка.
Пушкину подумалось: «Ссылка… А я?.. Ну и что же!» И ему стало как бы еще веселей: кажется, жить можно недурно и в Кишиневе!
Итак, начиналась новая жизнь. Пушкин приглядывался к городу, заводил знакомства. На другой же день вечером был он в клубе, куда, по поручению Инзова, его провожал адъютант генерала. Он несколько уже отвык от посторонних людей, привязавшись единственно к милым Раевским, да и от всякого шума, кроме шума морского прибоя. Но клубные гости искренне его повеселили. Это было совсем не похоже не только что на Петербург, но и на смешанное русское общество на Кавказских водах; странным образом все это скопище походило скорее всего… на бахчисарайский базар!
Так же, как там, люди никуда не шли, не торопились, но все пребывало в непрестанном движении, только тут было еще пестрее и разнороднее. Молдаванские бояры смешили его своею пузатого важностью, огромными бородами, у иных даже надушенными. Чисто они говорили только на своем языке, ему непонятном, а то на двух ломаных сразу: по–русски и по–французски. Тут же были армяне и греки — торговцы. Играли и в карты, и на бильярде, блестели перстнями, густо курили, застилая свет от свечей; живая смесь языков, костюмов, обличий, повадок.
Город, недавно еще молдаванский, но под турецкой державой, турецким быть перестал, но и русским не стал еще. Русских людей в городе было, пожалуй, уже не так мало, но они пока еще прочно не осели, это все был служилый народ: чиновничий мундир, военный мундир. Все было смешано, взболтано и еще не осело по местам, но замечательно: не было ощущения, что есть завоеватели и побежденные; ни трусливых, запуганных взглядов, ни затаенного недоверия или вражды, а, с другой стороны, также была скорее спокойная хозяйская деловитость и притом с явным оттенком какой–то почти домашности. Не раз уже за последнее столетие русские войска занимали, этот город.
Война на Кавказе совершенно иная, острое ее дыхание опаляло даже издали. Там была страсть и азарт — с той и с другой стороны: там горы вздымались и резали небо. Здесь же Пушкин видел одно — городское купечество, которому, казалось, не все ли равно, где и с кем торговать, народ же был нищ и не подавал своего голоса, но и не стремился назад. Большое имело значение, что нового владыку здесь представлял такой чисто русский характер, каким был Иван Никитич Инзов. Огромная опека была у Ивана Никитича по управлению и заселению нового края славянами–беженцами и украинцами, тянувшимися на вольные земли, и даже заметными группами немцев–колонистов. И хотя славился он своим добродушием, — а кое–кем за него был даже и осуждаем, — однако оно ничуть ему не мешало разбираться в обширном человеческом хозяйстве очень тонко порою и всегда умно.
Пушкин не сразу во всем разобрался. Пестрота и экзотика поначалу сильно его захватили, мешали сосредоточиться… Он стосковался и по прямым мальчишеским выходкам, и неудержимо порою влекло его потянуть какую–нибудь пышную боярскую бороду и поглядеть, что из этого выйдет.
Он быстро в Кишиневе освоился и обзавелся знакомыми и приятелями, играл (и проигрывал) в карты, пристрастился к бильярду, волочился за дамами, ходил на балы, острил, задевал, ронял на ходу эпиграммы, ссорился и мирился. Он был как изюминка в кишиневском квасу Ивана Никитича, и пробку порой вышибало до потолка.
Про него говорили и сплетничали, много выдумывали. Он это знал и не всегда полностью отрицал: мало ли что и про кого говорят, пусть их болтают, что от того станется! Как–то, по–молодечески, это даже его будто и украшало.
У Инзова были чиновники, вместе с ним перекочевавшие из Екатеринослава. В качестве старых знакомцев они позволяли себе позлоязычить про Пушкина и касательно его пребывания на Днепре. Особенно в этом деле отличался один из секретарей комитета Антоньев, выгнанный ранее из многих мест и долго шатавшийся по Екатеринославу без должности. Выгоняли его отовсюду за два его качества: за пьянство и за длинный язык. Но он был многосемеен, и Инзов его «подобрал», как и покинутую цыганскую собачку Дюлинку. Инзова, которому был предан душою, к Пушкину он по–настоящему ревновал и не прочь бывал о нем посплетничать в доброй компании за стаканом вина. Из этого ручейка текли потом обильные воды.
Порою кто–нибудь из клубных приятелей Пушкина спросит, не без коварной надежды смутить человека, который и сам не прочь другого смутить:
— А правда ли, Александр Сергеевич, говорят, что в Екатеринославе однажды вы к губернатору пришли на обед в кисейных, извините, одних панталонах, надетых прямо на голые ноги…
Пушкин слушал с большим интересом и, смеясь, говорил:
— Да, такая жара была летом… Ну, а что, однако же, дальше, как развивался спектакль?
— Будто не помните? А так, что жена губернатора была близорука и долго не замечала, как вы в райском костюме своем по гостиной расхаживали, а потом разглядела в лорнет и выслала дочек из комнаты.
— А меня не прогнали?
— Да вам, Александр Сергеевич, это лучше подобает знать. Или скажете, может, не правда?
Пушкин делал вид, что припоминает.
— Да как вам сказать, — отзывался он наконец как будто совершенно серьезно. — Источник–то, из которого вы почерпнули, уж очень солидный. Это, конечно, Антоньев; Верно, в ту пору на кухне он сковородку лизал, все видел, все слышал… как не поверить! Я, пожалуй, и сам теперь буду рассказывать. А еще ничего не слыхали?
— Как не слыхать! — не унимался болтун. — Будто профессор один из семинарии, вместе с приятелем, богатым помещиком тамошним, вас посетили… в качестве ваших поклонников, а вы их встретили так…
Пушкин стоял со стаканом вина и слушал внимательно.
— Вот именно так, со стаканом в руках, и кушали булку с икрою.
— А булка в зубах вместо кинжала?
— Именно. И будто спросили: «Что вам угодно?» А те изъявляют почтение и восхищение вашим талантом…
— А я пригласил их присесть и отведать вина?
— Да нет, будто бы вы изволили им отчеканить: «Ну, теперь видели? До свиданья!»
Александр на сей раз рассердился: чтобы он так невежливо принял людей, пришедших к нему поговорить о поэзии! Позвольте же, милостивый государь…
Он не спеша сделал большой глоток вина и, закусив зубами большой бутерброд, придвинулся к собеседнику столь близко, что тот невольно сделал шаг назад.
— Так вот, — заговорил Пушкин, жуя, — чтобы походило на правду, это я вам говорю: «Видели Пушкина? Поговорили? Ну, и довольно с вас. До свиданья!»
И повернулся к нему спиной.
«Кажется, все–таки он свое получил», — думал меж тем его собеседник, оставшись один, но на всякий случай поглядывая, не видал ли кто происшедшего. Насколько ему раньше хотелось свидетелей, настолько же он теперь был истинно рад, что их не оказалось. Самого себя легче уверить, что не ему дали по носу, а «сей виршеплет свое получил».
Город, при скромных размерах, был многолюден. Домишки его, большею частью глинобитные, с тонкими стенами, выведенные как–то «на скорую руку», были, однако, густо населены. В немногих больших домах жило начальство, которого также, впрочем, было достаточно. Все остальные — торговцы, кроме самых богатых, средние и мелкие чиновники, да и офицеры — ютились в маленьких хатах.
Сам Пушкин остановился, впрочем, не плохо — у местного «генерал–квартирмейстера», как его величали, члена комиссии по устройству приезжих Наумова: этот не всякого к себе и допустил бы. У человека этого была чудесная каштановая борода, правильно вьющаяся, и лицо спокойное, строгое: если не на икону, то за стойку соборного ктитора! Но глаза у Ивана Николаевича (все его звали по имени–отчеству) были столь озорные и дерзкие, и так он ничуть их не скрывал, что даже Никита Козлов, весьма осторожный в суждениях, однажды его определил, как «не иначе разбойником был в Муромских заповедных лесах». И, кажется, это было недалеко от правды.
Домик Наумова был чист и опрятен, коридор разделял его на две половины: налево две комнатушки и справа — комната и кухня; чем–то напоминало флигелек няни в Михайловском.
Добираясь домой, большею частию поздно, Пушкин ложился в постель, перебирая впечатления дня. За ночь они как бы отстаивались, и утро всецело ему принадлежало. Пушкин, невзирая на свою молодость, по опыту знал хорошо: чтобы вокруг себя разобраться, надо прежде всего! чтобы в самом себе было ясно. Эту ясность и свежесть давала ему первая половина дня.
Уже на четвертый день своего пребывания в Кишиневе, так же вот утром, он написал брату Льву сжатый отчет о своем путешествии, мысленно его для себя повторив. Впрочем, о ночном походе своем на Джинал, верный слову, данному Николаю Раевскому, он умолчал. Еще и еще раз как бы он побыл с семьею Раевских, но все это было уже далеко. «Теперь я один в пустынной для меня Молдавии». Так и Орлов, у которого обедал вчера и где был встречен с радушием и приветливостью, — ни он, ни те интересные люди, с которыми у него познакомился, еще не заполняли пустыни. «Когда–нибудь прочту тебе мои замечания на черноморских и донских казаков — теперь тебе не скажу о них ни слова».
Все эти записи он очень ценил и берег, намереваясь привести их в порядок. Это тоже был отчет о поездке, но для одного лишь себя. Тут были и песни, речения… Казак говорит: «Своя воля царя боле!» А другой отвечает: «Дай уму волю, а он и две возьмет». А еще раз, на привале, за огоньком, услышал такое: «Ты балакаешь про разуменье, тоды будто все можно взять, а народ говорит: разум сягает, да воля не берет». Пушкин это последнее понимал особенно хорошо…
Были записки пестры и отрывочны. Иногда попадался и легкий набросок стихотворной строки: мысль, интонация, абрис мелькнувшего образа. Но чаще это были скупые записи фактов, порою отмеченных так (из осторожности), что только он сам мог разобрать и припомнить, в чем собственно было дело. Вот перед ним таганрогская запись: не о кровати, на которой спал Александр, император, а о крестьянском восстании на Дону, которое удалось подавить только картечью. Именно так генерал Чернышев у слободы Мартыновки—Голодаевки (название–то какое!) рассеял двадцатитысячную толпу мужиков, вооруженных «кольём и дубьём…» Так и записано было: «20 000 кольём и дубьём — слободы Голодаевка — картечью». И вот под несколькими словами бьется, шумит все та же, не находящая выхода «воля»! Разве можно об этом в письме? Но когда–то еще они увидятся? И он в свою очередь остерегал младшего брата, пребывавшего еще в университетском Благородном пансионе.
Левушка писал ему уже в Кишинев, но не на Инзова, а на Орлова. Пушкин вчера, получив и распечатав, не удержался и вслух продекламировал стихи пятнадцатилетнего брата, пародию на «Народный гимн» Жуковского — «Боже, царя храни».
Самое письмо Левушки было еще полудетское, коротенькое, а стихи длинны и слабы, но конец, прочитанный вслух, всем очень понравился. Точно в стиле верноподданнического гимна Левушка восклицал:
Деву прелестную,
Русским безвестную,
Волю чудесную
Нам ниспошли!
Михаил Федорович Орлов ходил по комнате и все повторял:
— Русским безвестную… Точно русским безвестную?
«Не довольно ли, что меня одного заслали в пустыню? — думал про себя Александр. — И этому хочется, кажется, того же!» Мальчик один. Правда, его любят в семье, но это слепая любовь, могут избаловать. Да и кто его мог бы направить — отец? или дядюшка Василий Львович? Странное дело, но и сами они подчас казались Александру большими детьми, жизнь их несет, а сами они лишь поколыхиваются с боку на бок, как им поудобнее…
И он писал брату — осторожно, но достаточно внятно: «Благодарю тебя за стихи; более благодарил бы тебя за прозу. Ради бога, почитай поэзию доброй, умной старушкою, к которой можно иногда зайти, чтоб забыть на минуту сплетни, газеты и хлопоты жизни, повеселиться ее милым болтаньем и сказками; но влюбиться в нее — безрассудно. Михайло Орлов с восторгом повторяет… Русским безвестную… я так же. Прости, мой друг! Обнимаю тебя!»
Пушкин даже легонько вздохнул, но был и доволен, как непринужденно–шутливо легла под перо характеристика поэта, которого Лев пародировал, а он рекомендовал почитать его доброю умной старушкой. «От Льва может все статься: покажет Жуковскому… То–то будет забавно!»
Так наставлял он младшего брата Левушку, а сам про себя хорошо не знал: долго ли выдержит? Сквозь пестроту и суету кишиневского его бытия все яснее проступали резкие черты совсем иного рода.
Русских в городе было не много, и не они создавали физиономию города и колорит уличной жизни. Но они здесь были хозяева, и они отдавали себе во многом отчет.
У Орлова в первый же день Пушкин познакомился с очень интересным человеком, Иваном Петровичем Липранди, подполковником егерского полка в дивизии Орлова.
Слегка поблескивая светлыми выпуклыми глазами, знакомя их между собою, Михаил Федорович так отозвался о Липранди:
— А вот и еще один парижанин. Вместе, можно сказать, занимали столицу Европы. Прошу, господа, быть знакомыми и жаловать друг друга.
Еще молодой человек, лет тридцати, с хмурыми, но одновременно живыми глазами, поднялся с дивана и обменялся с Пушкиным рукопожатием. Рука его была суха и горяча.
— Вот если б мой брат Алексей Федорович не отговорил вас пойти в гусары, — продолжал Орлов, все относясь к Пушкину, — так, может быть, вы вместе с Иваном Петровичем вступили бы в свое время в Царьград!
Липранди, не улыбаясь, показал два ряда ровных зубов, чуть желтоватых от табака.
Он, этот отважный вояка и дуэлянт, о чем Пушкина так же оповестили, был в этот вечер весьма молчалив и более сам приглядывался к Пушкину. Но когда, покинув гостеприимного хозяина, Александр вместе с ним очутился на улице, тот пригласил его на минуту к себе.
— Вы поминали Овидия и ссылку его в наши края и пожалели, что здесь у вас нет его «Писем с Понта». Извольте зайти, я вам вручу все, что хотите. Овидий мною высоко ценим, и он у меня есть весь.
На стене у Липранди висела золотая шпага, полученная им за храбрость в бою, и несколько пистолетов. Но в остальном это был кабинет не военного, а ученого. На стенах были развешаны карты, и особливо бросалась в глаза карта Балкан, изученная, видимо, с большою и пристальною внимательностью. Не только города, но и многие небольшие селения были отмечены разноцветными карандашами. На столе в большом порядке высились груды папок, лежали чертежи, свернутые в трубки.
— Все это по должности, но и по вдохновению, да-с, — немного загадочно пояснил хозяин. — Пройдемте, однако ж, и в библиотеку.
Это была самая большая комната в доме, вся уставленная шкафами с книгами. Тут были изящные парижские издания классиков, и ученые фолианты по истории и географии; археология и путешествия. На особом столике лежал массивный, самим хозяином составленный, каталог его книжных богатств.
— А вот тут у меня особые редкости, — сказал Липранди и отомкнул небольшим ключиком огромный глухой шкаф, откуда прямо даже пахнуло Востоком. Это было порядочное собрание старых рукописей — арабских, турецких.
Великий книжник среди своих владений был сейчас весьма колоритен. Не будучи от природы высок, он казался выше собственного роста, и как бы затем, чтобы хоть немного уравнять себя с другими смертными, он слегка сутулился, что странным образом шло ко всей фигуре его, сухой и прекрасно очерченной. Лицо его было смугло и выразительно. Потомок испанского древнего рода, носящий в себе, вероятно, и мавританскую кровь, он хранил прирожденное, немного суровое достоинство. Хмурость в глазах, быть может, и оставалась, но ее топил блеск разгоревшегося взгляда, когда заговорил о книгах своих и о Востоке, и — внезапно — о близости неизбежной войны.
Минута выросла до доброго часа. Пушкин ушел от него с томом Овидия и с ощущением, что напал на значительного и интересного человека.
После того они виделись часто, и у них установились тесные взаимоотношения: не дружба совсем, но взаимный неостывающий интерес друг к другу. Липранди отнюдь не был любвеобилен, и вообще в нем добрых качеств было не много. Казалось, потому он Пушкина и любил, что тот давал возможность ему быть лучше самого себя. Они платили друг другу полным доверием, и Липранди это высоко ценил: подобным к себе отношением никак не был он избалован.
Через него Пушкин узнал много людей. Балканы — турки, румыны, славяне — переставали быть для него отвлеченностями. В доме у Липранди он встретился с сербскими воеводами, бежавшими с родины и мечтавшими о ее освобождении. Это были смуглые страстные люди. Человеческий облик едва сдерживал в них бушующий пламенем костер, который и составлял подлинную их сущность. С Липранди у них, по видимости, отношения были исключительно деловые, они помогали ему в научной работе своими многообразными сведениями по географии Балканского полуострова. Пушкин не спрашивал, но, конечно, наука была здесь не отделима от жизни и от политики, от планов текущего дня.
Пушкин, приглядываясь теперь к разноплеменной кишиневской толпе, научился читать на сумрачно–усатых лицах балканцев — сербов, болгар. Эти не думали только о сегодняшнем дне, об удачной торговой афере, о партии на бильярде. Над всеми их думами была дума одна, и даже когда они пили в какой–нибудь дешевенькой ресторации местное кислое вино, каждый их глоток из стакана — со стороны поглядеть — был подобен поступку.
Впрочем, по некоторым скупым, но определенным высказываниям Липранди, Пушкин скоро уразумел, что готовилось в первую очередь что–то другое. Положение Греции было еще более тяжким, чем положение балканских славян. И хотя кишиневские греки были богаче и торговали недурно, жили спокойней, — они все же между собой что–то обдумывали, к чему–то готовились. Греки были хитрее и замкнутее, но хитрости их не хватало на то, чтобы сообразить, что самая нарочитая сдержанность их была куда как красноречива!
Сестра Горчакова, лицейского товарища Пушкина, была замужем за князем Кантакузеном и жила в Кишиневе. Она просила привести к ним Пушкина. Отсюда возникло знакомство и с братьями Ипсиланти, пламенными греческими патриотами. Молодые князья Ипсиланти с обожанием глядели на старшего своего брата Александра, безрукого флигель–адъютанта русского императора. Отец их, бывший молдавский и валахский господарь, бежал в Россию еще за несколько лет до присоединения Бессарабии и умер года четыре тому назад. Пушкину, было известно еще с Петербурга, что в министерствах и при дворе очень сочувствуют замыслам Греции освободиться из–под владычества турок. Но теперь он видел воочию зарождение этих идей в самой его окружающей жизни.
Александр Ипсиланти не произвел на него впечатления большого государственного деятеля, но он весьма подходил для роли вождя восставших своих соплеменников. Даже в гостиной он так держал голову, как если бы говорил пламенную речь войскам перед тем, как кинуть их в бой. И действительно, им можно было залюбоваться и за ним можно последовать. Кинуться в бой, опрокинуть врага или погибнуть, но только бы не сидеть у себя в канцелярии, не сопутствовать его величеству красиво разряженной пешкой к не проводить парадных учений! Самая фигура этого человека просила коня, багрового фона пожаров и порохового, клубами, дыма.
Ложась спать, исполненный таких приподнятых впечатлений, Пушкин остро чувствовал близость границы, которая вот–вот могла загореться на картах Липранди изогнутой огневою линией. «Что же, война?» — спрашивал он себя, просыпаясь. И эта мысль заставляла его внимательно приглядываться к русскому воинству, которого в Кишиневе было достаточно.
Русское воинство… Молодой девятнадцатый век щедро его закалял почти непрерывными войнами, следовавшими одна за другой. Как хороший борец, постоянно себя тренирующий, спокойно взирало оно на возможность и новой (в который уж раз!) встречи со старым врагом. Молодые генералы и молодые полковники, с которыми здесь Пушкин общался, все бывали в боях и имели знаки отличия не на одних парадных мундирах, а и под ними: «Эти памятки, — шутили они, — нам заменяют барометр». Эта ломота от ран была многим известна, как памятен был и знаменитый огромный барометр в Париже с поднимающейся и опускающейся в нем водой.
Но и здесь, в этих мундирных рядах, не все было так просто и прочно, незыблемо, как это бывало в доброе старое время и как могло б и теперь показаться по одному только внешнему виду.
Пушкин помнил, как незадолго до его высылки из Петербурга шумели в столице, читая и обсуждая, переписывая друг у друга киевскую речь Михаила Федоровича Орлова, сказанную им на торжественном собрании Библейского общества, где он с такою силой и страстью обрушился на охранителей старого.
— Подумайте, — говорили в салонах старики–звездоносцы, — до чего же все это в конце концов может дойти? Как он говорит о людях достойнейших?
Говорили и вспоминали, почти точно цитируя рукопись, лежавшую у изголовья их кроватей и развратившую уж, конечно, не одного каллиграфа из полковых писарей.
«…Эти люди везде и всегда одинаковы. Любители не добродетелей, а только обычаев отцов наших, хулители всего нового, враги света и стражи тьмы, — они настоящие исчадия средневекового варварства. Во Франции они гонят свободомыслие, в Германии защищают остатки феодализма, в Испании раздувают костры инквизиции… Они и у нас были личными врагами нашего великого преобразователя и бунтовали против него московских стрельцов, и сейчас они же употребляют все свои старания, чтобы вернуть наш народ к прежнему невежеству и оградить от вторжения наук и искусств. Эти политические староверы убеждены, что они — избранники, которым все остальные люди обречены в рабство… И они присваивают себе все дары небесные и земные, всякое превосходство, а народу предоставляют одни труды и терпение; отсюда родились все тиранические системы правления, начало которых следует искать не столько в честолюбии самих властелинов, сколько в изобретательности льстящих им».
Даже такие люди, как Александр Иванович Тургенев, этою речью Орлова были несколько смущены. Вяземский, находивший, что от пера, очинённого шпагою, больше и требовать нельзя, умно замечал: «Наше правительство не выбирать, а удалять умеет с мастерской прозорливостью». На это Тургенев ему возражал: «Я держал бы его близ государя, но держал бы на привязи».
Адъютант Орлова, Константин Алексеевич Охотников, большая умница и скупой на слова, показал Пушкину один из самых первых приказов, выданных Орловым при принятии им дивизии в Кишиневе.
Был туманный осенний денек, и, Пушкин отошел к окну, откинул портьеру и сел на подоконник с сероватым листом плотной бумаги, исписанным старательным писарским почерком.
«Вступив в командование первою пехотною дивизиею, я обратил внимание на пограничное расположение оной и на состояние нижних чинов. Рассматривая прежний ход дел, я удивился великому числу беглых и дезертиров». Далее Пушкин читал о причинах побегов и, в первую очередь, о злоупотреблениях с солдатским питанием: «…ежели сверх чаяния моего таковые злоупотребления существуют где–либо в полках вверенной мне дивизии, то виновные недолго от меня скроются, и я обязуюсь перед всеми честным моим словом, что предам их военному суду, какого бы звания и чина они ни были, все прежние их заслуги падут пред сею непростительною виною, ибо нет заслуг, которые могли бы в таком случае отвратить от преступного начальника тяжкого наказания». — «Я прошу господ офицеров крепко заняться своим делом, быть часто с солдатами, говорить с ними, внушать им все солдатские добродетели, пещись о всех их нуждах, давать им пример деятельности и возбуждать любовь к отечеству, поручившему им свое хранение и свою безопасность… Я сам почитаю себе честного солдата и другом и братом». — «Строгость и жестокость суть две вещи разные, одна прилична тем людям, кои сотворены для начальства, другая свойственна тем только, коим никакого начальства поручать не должно. Сим правилом я буду руководствоваться, и господа офицеры могут быть уверены, что тот из них, который обличится в жестокости, лишится в то же время навсегда команды своей».
Резкий окрик, раздавшийся с улицы, заставил Пушкина выглянуть в окно.
Неизвестно, в чем состояла провинность солдата. Он стоял, вытянувшись в струнку, офицер же выхватил саблю и грубо ругался, орал. Сквозь ругань, однако, Пушкин смог разобрать:
— Когда бы ты был не из этой дивизии, я из тебя такой винегрет бы устроил! Убирайся к чертовой матери, пока цел!
Руки у Пушкина дрогнули. Ой толкнул раму окна, но она не подалась, и пока он возился с защелками и наконец распахнул окно, офицера уже не было. Он скрылся за углом соседнего здания. Пушкин хотел выбежать на улицу, но Охотников, сам потемневший с лица, его остановил.
— Этот мерзавец… этот господин офицер, — сказал он с заметною дрожью в голосе, — адъютант Сабанеева — Радич. Он мне знаком. Да, несомненно, он у себя дома мог бы если не искрошить, то…
Он не докончил. Волнение помешало ему говорить. Пушкин схватил его за руку.
— Я понимаю вас, — воскликнул он с Живостью, — вы с ними ведете войну!
— Вы угадали, — ответил Охотников, — и очень точно определили. Но настоящая война еще впереди. Я свободен сейчас, хотите пойти посмотреть нашу школу?
Пушкин уже имел понятие о Сабанееве, командире корпуса, штаб которого находился в Тирасполе. Но он его еще не видал. Это нечаянно вырвавшееся словечко «война» верно было порождено словами Охотникова: «Ом у себя дома». Да, и в армии также были свои обособленные территории и резко враждебные лагери…
Серенький день был прохладен. Туман поднимался, и на небе уже оформлялись контуры облаков. Из–за заборов на улицу падали, плавно кружась, желтые листья.
— В мягкую зиму случается, что даже дрозды, теплолюбивые птицы, остаются у нас зимовать.
Пушкин взглянул на Охотникова не без изумления. Но фраза эта о птицах, такая простая и столь неожиданная, окончательно привлекла его к этому суровому человеку.
— Насколько я знаю, — говорил между тем Константин Алексеевич, — первую школу у нас по ланкастерской системе завел у себя в Киеве Николай Николаевич Раевский. Там ею заведовал наш генерал и довел число кантонистое с сорока до шестисот. Он вложил в это дело и силы, и личные средства. Вы ведь с этим совсем незнакомы? Дети у нас обучают друг друга: успевающие руководят отстающими, а главный учитель имеет лишь общее наблюдение за всем ходом дела.
— Ну, в лицее у нас было немного иначе, — улыбнулся Пушкин, — там часто как раз отстающие вели на поводу успевающих!
Школа была расположена в большой деревянной постройке. Одно из окон было открыто, но оттуда не доносилось ни единого звука. «Верно, там и нет никого», — подумалось Пушкину, привыкшему к лицейской свободе.
Но классы были полны. Подростки–мальчики, коротко остриженные, с живыми глазенками, в одинаковых куртках, дружно, по–военному, встали навстречу вошедшим. Особый их интерес возбудил, конечно, не капитан, которого знали они уже хорошо, но тот рослый мальчик, как с первого взгляда им показалось, который вошел с капитаном. Мальчик одет был, однако, по–взрослому и никак не походил на кантониста… Пушкин, в свою очередь, с не меньшим интересом оглядывал этот кишиневский лицей.
Ученики распределены были соответственно их успеваемости: каждое отделение состояло из восьми человек. У каждого такого стола был свой старший, а главный смотритель класса стоял у доски, на которой были вывешены слова, разбитые на отдельные слоги.
— Продолжайте занятия! — приказал Охотников, и все стриженые головы наклонились над покатыми пальпетами, в которых насыпан был ровным слоем тонкий песок.
Точно на морском берегу — кто пальцем, кто тонко очиненной, как перо, палочкой, выводили они на песке заданные им слова. Потом было чтение вслух: каждый отдельно, потом по отделениям и, наконец, хором весь класс. Все это было очень занимательно: в этом было что–то и от игры, но в целом требовало пристального к себе внимания.
Пушкин задумался и крепко сжал губы, как это делывал, когда, бывало, решал не дававшуюся ему математическую задачу. Он недоуменно взглянул на Охотникова, а тот точно бы отгадал его мысли.
— Вам хочется, может быть, — сказал он с улыбкой, — чтобы летний гром прогремел в осенний денек? Прочтите им что–нибудь из «Руслана»… Ну, как бился с живой головой!
Пушкин смутился.
— «Черная шаль» выбила у меня все стихи из головы… Только ее я читаю… — И стал вспоминать потихоньку Руслана:
Найду ли краски и слова?
Пред ним живая голова.
Огромны очи сном объяты;
Храпит, качая шлем пернатый…
Десятки блестящих юных глаз, как пчелы в цветок, впивались в него. Царило то самое безмолвие степи, в котором витязю предстояло вступить в бой с огромною головою богатыря. Пушкин чувствовал эту живую и напряженную, пристальную тишину. Странно, он перед ребятами волновался, голос его звенел. Как это было похоже и непохоже на памятное чтение перед Державиным! Там он читал для него одного, и этот старик — великолепный восемнадцатый век, его судия, возвышался перед ним, как огромный холм. Здесь же… Он почти их не видел, но смутно и в то же время отчетливо сознавал, будто бы слышал действительно живое эхо, как их молодые сердца бьются под куртками вместе с его собственным сердцем — удар в удар.
Когда он уходил, ребята его обступили. Они были в восторге, и голоса их плескались, как воды ручья.
На улице Охотников ему объяснял:
— Мы с ними ведем и кое–какие беседы. Но больше со старшими: у нас есть еще школы для солдат и для юнкеров. Туда собирается Михаил Федорович пригласить замечательного человека из егерского полка в Аккермане — Раевского.
— Как Раевского? — воскликнул Пушкин. — Не родственник ли он генерала?
Охотников, прощаясь, с улыбкой ответил:
— Нет, этот Раевский совершенно особенный, он сам по себе.
Но Пушкину уже самая эта фамилия была мила. Оставшись один, он направился за город.
День между тем прояснился. Облака в вышине, всласть подымив и покурчавившись, великолепно теперь громоздились одно на другое, меж ними синело горными озерами холодноватое небо. В такую погоду и шаг звонок, а мысли бегут, обгоняя шаги.
Полтора всего месяца, а чего только не было за эти быстро мелькнувшие пестрые дни! Сколько знакомств, раздумий и разговоров. Чтение. «Пленник», о котором пока великий молчок, но который вчерне вот–вот будет готов. «Черная шаль», которую все твердят наизусть, — молдаванская песня, услышанная им в «Зеленом трактире». И только вспомнил про «Черную шаль», увидел, как армянин Худобашев, как бы переломленный набок и загребающий правой ногой, принял ее на свой счет и не прочь был себя выставлять соперником Пушкина… И Пушкин почти хохотал, вспоминая, как кидал его на диван и, садясь на него верхом, приговаривал:
— Что, длинный нос, гречанок задумал у меня отбивать?
И вспоминал великую глупость, как в бильярдной, подвыпив, за жженкой поссорился с кишиневским почтмейстером Алексеевым и с уланским полковником Федором Федоровичем, братом генерала Орлова, — поссорился, будучи, кажется, сам виноват. Но помирили. Липранди их помирил. И хорошо. А Федор Федорыч этот — забавнейший в сущности человек. Как он, двадцатилетним офицером, проигравшись в карты, стрелялся перед зеркалом, а пистолет разорвало, и пуля прошла через подбородок, а через год потерял ногу в бою и теперь ходил на деревянные…
Пушкин ждал возвращения Михаила Орлова, уехавшего, по служебным делам.
Давыдовы, два брата по матери генерала Раевского, Приехавшие погостить к Михаилу Федоровичу в Кишинев, звали его на именины родительницы в имение Каменку, где они все проживали большою семьей. Орлов дал согласие. Они звали и Пушкина, уверяя, что дамы ждут его не дождутся. Пушкин отчасти догадывался, что дело было не в одних именинах, но его ни во что не посвящали. И он обижался немного, что ему как бы предназначалась роль простого увеселителя дам. Но, пораздумав, он махнул на это рукой: главное — снова увидит Раевских. Александр и отец должны быть, наверное, там, а ежели сестры и Николай останутся в Киеве, то кто ему запретит махнуть и в Киев: спрашиваться там будет не у кого! Только б отсюда Инзов его отпустил.
Пушкин и не заметил, как взобрался на один из холмов, раскинувших свои шатры над Кишиневом. Пестрый городок лежал у его ног. Белели дома, коричневато темнели сады, редкая листва поблескивала под лучами неяркого солнца, на минуту проглядывавшего меж облаков. Река Бык извивалась по лугу, как нарисованная на карте. Здесь ему жить, и ежели даже отправится в Каменку, все равно ведь сюда возвращаться… А надолго ли, и вообще как же дальше все будет?
Он присел на прохладную осеннюю землю и обнял колени руками. Ветерок пробегал, чуть щекоча, по коротким его волосам. Эта прохлада очень приятна, в ней свежесть и бодрость; нельзя унывать.
Полтора эти месяца лежали пред ним, и он их обозревал тоже как бы с холма. Так разнообразны, пестры, но порой и значительны были кишиневские впечатления Пушкина. Под легким узором людского «базара» как ощутимы были ему на глубине движения другой, большой жизни, искавшей выхода на поверхность. Нет, нет! Не надо унывать.
Пушкин прилег на землю и закрыл глаза. Солнце слабым лучом бередило опущенные ресницы, и от этого легкого касания в сердце возникала неясная музыка. Снова пред ним ожил Кавказ и Юрзуф, южное море, и, как на заре, он видел в волнах Нереиду… Музыка еще не рождала слова, но когда–нибудь придут и они! Слабая улыбка тронула губы, потом они дрогнули, полуоткрылись и пропустили легкое дыхание. Пушкин для себя незаметно уснул.
Когда он пробудился, — руки под головой, — не сразу он мог сообразить, где он и как сюда попал. Он стал глядеть в небо и увидел там нечто, как бы продолжавшее его молодой легкий сон.
Солнце было покрыто причудливо темневшим косматым облаком, но лучи били из–за огненной его оторочки — голубые лучи, каких не видал никогда. Как если бы солнце было в темнице, но пело, побеждая темницу. Это было чудесно!
Пушкин вскочил и протянул вперед обе руки, как бы стремясь охватить в едином объятии небо и землю. Так секунду помедлив, сжал он ладони и, опять разомкнув, медленно положил их на грудь. Он не сознавал этих движений, но слышал, как сильно, порывисто билось в груди его сердце.
Это ощущение биения собственной жизни и голубых неукротимых лучей как–то сливалось в окно, точно бы в нем самом загоралась такая же огневая оторочка, как у того облака на вышине: это и бой, и победа, и песня. Жить — хорошо!
С холма он сбежал, как любил это делать, когда сердце бывало полно: так, верно, воды неудержимо бегут с высоты.
Уже внизу, немного запыхавшись и умеряя размеренным шагом биение сердца, он снова обрел потребность и пошутить. Он вспомнил: дрозды… теплолюбивая птица… «Ну что же, и я, вольнолюбивая птица, попробую тут зазимовать… А все–таки, раньше того, — в Каменку! В Каменку!»
Глава седьмая НА БЕРЕГАХ ТЯСМИНА
Все так и случилось. Орлов поговорил с Инзовым, и добрый Иван Никитич эту новую отлучку Пушкину разрешил.
— С генералом Раевским я тебя отпустил из Екатеринослава, — сказал он ему на прощание, — и к генералу Раевскому опять отпускаю. Только тогда был ты больной и вылечился, а теперь остерегайся — не захворай. В Каменке климат опасный!
При этом Инзов сощурил левый свой глаз, стремясь подчеркнуть этим движением всю тонкость сделанного им намека. Пушкин, впрочем, и так отлично догадывался, что именно тот имеет в виду, но притворился, будто подумал что–то другое. Он коснулся рукою сердца и, смеясь, возразил:
— За это ручаюсь. Будьте покойны.
— Что, брат, за это… Вот за что поручись!
И старик постучал желтоватыми пальцами по лбу.
За этой шутливой беседой скрывалось, конечно, и серьезное. Во всяком случае Пушкин надеялся застать и увидеть в именины у Давыдовых множество новых и интересных людей. За самые последние дни до Кишинева дошли слухи о военном бунте Семеновского полка в Петербурге. Что–то готовилось и назревало. «Настоящая война еще впереди», — вспомнились ему слова Охотникова, также теперь собиравшегося в Каменку. Пушкин часто спрашивал себя: «А где же мое, собственно, места? И какова цель моей жизни?»
Выехать решено было рано, и Орлов накануне отъезда пригласил Пушкина к себе переночевать.
Пушкин у него и обедал, после обеда пили вино, но гости не засиделись и разошлись необычно рано. Забравшись с ногами на диван, он слушал доносившиеся до него звуки из кабинета Орлова, где хозяин сам приводил в порядок какие–то, видимо, особенно важные для себя бумаги. Может быть, он намеревался взять их с собой.
Просторная комната, еще недавно освещенная десятками свечей и полная шумного говора и восклицании, сейчас была слабо освещена и совершенно пустынна. Свет падал косым нешироким половичком только из полуоткрытых дверей кабинета. «Он занят теперь, но что он там думает? Думы не то же, что мысли. Мысли приходят и уступают место другим, думы же человека не покидают, они сопутствуют ему во всем».
Пушкин знал одну тайну про Михаила Федоровича, о ней шепотом говорили друг другу. Да и вообще в Кишиневе не было тайн: там знали подчас один про другого даже такое, чего вовсе и не было. Орлов еще не жених, но едет жениться. Он вообще очень уверен в себе, но в этом уверен ли? И можно ли быть вообще в этом уверенным? Наверное, он будет просить Александра Раевского переговорить и с отцом, и с сестрой. Недаром такая и переписка меж ними…
И Пушкин, закрывая глаза, видел каменистую дорогу, идущую в гору, и почему–то сначала узкую длинную тень, немного изогнутую неровностями почвы, а потом уже и саму Екатерину Николаевну под кружевом зонтика и с палевою розою в волосах… Орлов никогда про нее не говорил, и Пушкин — ни слова. И, конечно, там, за стеной, каковы бы ни были даже и самые важные мысли, думы его, несомненно, о ней.
Сколько так прошло времени, трудно сказать.
— Александр Сергеевич, вы задремали? — услышал он голос Орлова.
Он и не думал дремать и тотчас открыл глаза.
— Скоро и в самом деле надо ложиться, — сказал Орлов и принялся неспешно ходить вдоль столовой.
Пушкину показалось, что он что–то скажет сейчас, и непременно об этом. Но Орлов заговорил, по видимости, совсем о другом. Пушкин не раз слышал его суждения в общих беседах за стаканом вина. Но непосредственно между ними двумя серьезного разговора никогда еще не бывало. Орлов говорил в раздумье и даже отчасти как бы с самим собой. И Пушкин безмолвно подавал ему реплики.
— Я оттого, собственно, из Киева и ушел… («Я понимаю отлично, почему ты ушел… Я и сам от смущения и от страха — не ушел бы, а убежал!») Здесь я могу делать все, как хочу, как почитаю необходимым, здесь я начальник и сам за все отвечаю, не правда ли? («А там ты не начальник даже и над собою самим, и там ты не отвечаешь даже за самого себя!»)
Пушкин подавал немые эти реплики горячо и тотчас, но вслух ничего не произносил.
— Откровенность не есть добродетель нашего века, — продолжал Орлов, — но к вам я имею открытость. Еще недавно писал я сестре, что живу совершенно спокойно, а чтобы быть счастливым, мне давно уже не нужно ничего другого, как не быть несчастным. Но так ли это?
«Вот они — его думы!» — Пушкину казалось, что он теперь хорошо его понимал.
— Она мне прислала попону, отличную, даже особенную. Вы не видали? Я вам покажу. Как был бы я рад расстелить ее, сняв с коня, на зеленом лугу после какого–нибудь нового боя и глядеть на облака в вышине и вспоминать…
У Пушкина горячо стало на сердце. С чуть заметною горькой усмешкой, в наступившей вдруг тишине, докончил он за Орлова:
— Вспоминать… о сестре?
Но Орлов как бы ничего не заметил.
— Да, о сестре, и о всех любимых и близких. Пушкин теперь себя внутренне укорял. Перед ним был человек, которого он искренно и глубоко уважал. Все, что он говорил, шло от души, и поминание боя никак уже не было в нем ни декорацией, ни похвальбой. Вот человек, для которого отчизна — дыхание и воздух. Еще на Кавказе от Александра Раевского он слышал рассказ, как шестнадцати от роду лет, получив золотую шпагу за храбрость в бою под Аустерлицем, Орлов, принимая ее, заплакал, узнав, что сражение было проиграно. Не личный успех и не слава ему были дороги. Так что же, ему ли завидовать, его ль ревновать? И Пушкину так захотелось спрыгнуть с дивана и схватить за обе руки этого большого красивого человека и пожелать ему счастья…
Но Орлов в самую эту минуту, вдруг по–военному ловко повернувшись на каблуках, улыбнулся светской улыбкой.
— Не правда ли, из меня не дурная вышла бы нянюшка? Я вас совсем усыпил.
И они пожелали друг другу доброго сна.
Осень в том году на Украине выдалась ясная, теплая. Ноябрь уже перевалил за половину, а еще леса кое–где не были вовсе черны. Порой пролетала отбившаяся и запоздалая цапля, и аист, напоминая Михайловское, стоял где–нибудь на одной ноге у затона, не боясь простудиться. На лугах по мочажинам еще зеленела трава, радуя глаз, и, низко склонившись, прилежно щипали ее грустные овцы; облака на синеве все завивались по–летнему. По утрам, однако ж, ложился по перелескам сизый туман, и солнце вставало — недужное.
Худенький Пушкин зарею поеживался, а Михаила Орлов, не жадный до сна, плечистый и плотный, пышущий здоровьем и утренним добродушием, закуривал походную трубку. Александр глядел на него, не полностию размыкая ресницы.
— Что ты на меня щуришься! Я ведь не солнце.
— Верно, но на вас лежит солнечный отблеск, — ответил Пушкин не без намека.
Когда бы вчера Орлов и не помешал невольному порыву его, все же вряд ли б и сам он решился открыто заговорить. Сейчас было совсем иное — день, путешествие, простота.
— На какую рекрутскую службу ты поступил, я не знаю, — продолжал шутить Михаил Федорович, обращаясь к Пушкину на «ты», как всегда это делывал, будучи в расположении веселом. — Не знаю я этого. Но ты голову выбрил: оттого, знать, и зябко.
— Подождите, генерал, скоро забреют и вас, — живо ответил ему Пушкин и, видя недоумение на розовом лице своего собеседника, пояснил: — Я разумею, на службе у Гименея.
Волна крови прилила к щекам Михаила Федоровича. Он выпустил целое облако дыма и, скрывая смущение, расхохотался, — быть может, несколько более громко, чем бы хотел.
— Откуда ты знаешь?
— Сердце сказало.
— Ну–ну! — немного смущенно погрозил ему пальцем Орлов. — Я знаю тебя и твою «Черную шаль», — не вздумай приревновать!
Тут покраснеть пришлось в свою очередь Пушкину, и он принялся расспрашивать о гостях, ожидавшихся в Каменке. Но на эту тему Михаил Федорович распространялся не слишком с большою охотой. И Пушкин умолк, дабы не возбудить в собеседнике излишней настороженности. Да оно и любопытнее было — все видеть и все разгадать самому.
Само по себе путешествие было очень приятно. Снова ложилась земля под колеса, кружились поля и плавно бежали деревья на горизонте.
Когда после тракта дорога пошла меж холмов, лесистым проселком, все ниже спускаясь к долине Тясмина, — реки, про которую доселе он только слыхал, — в воздухе повеяло сладковатым, несколько пряным запахом прелой опавшей листвы. Пушкин вытянул ноги, снял шляпу, под нею ермолку. Касание холодного воздуха к коже напоминало немного купание.
Он про себя улыбнулся. Теперь, чтобы осень, с детства любимая, дохнула во всей полноте, недоставало, пожалуй, еще только по ветру горьковатого дыма из кухонных труб, а в самой усадьбе, наверное, встретит особо приятный для путников аромат пирогов — в честь именинницы, престарелой вдовы Екатерины Николаевны, — родоначальницы сначала Раевских, позже Давыдовых.
Лошади прибавили рыси, когда на взгорье, господствуя над рекой и местечком, открылся глазам двухэтажный обширный помещичий дом, и по обе стороны от него многочисленные службы. Флигель стоял прямо в саду, ближе к реке. Ниже еще, у плотины, стояла старая мельница; красивая башня при входе напоминала собой мавзолей. Две церкви местечка поблескивали небольшими крестами. Одна из них, новенькая, деревянная, как подъехали ближе, казалось, пахла еще свежими бревнами. Избы белели по–украински — равно и у крестьян, и у евреев, занимавших, целый порядок вверх по реке.
Сад, начинавшийся от господского дома, был гол и прозрачен. В высоких сапогах, с ружьем за плечами, с двумя собаками по саду шел молодой человек. Завидев экипаж, он остановился, снял шляпу и чуть декоративно задержал ее так в отведенной руке, приветствуя этим жестом гостей. Пушкин только взглянул на него и сразу узнал.
— Александр! — закричал он, соскакивая на ходу с экипажа.
— Куда вы? Он к нам подойдет!
Но Пушкин не слышал, что ему говорил Орлов. Перепрыгивая через канаву, отделявшую сад от дороги, он едва не споткнулся и, лишь ухватившись за голую гибкую ветку орешника, быстро, легко выскочил на довольно крутую, заросшую кустарником насыпь. Александр Раевский, степенно и не торопясь, придерживая покороче собак, шел ему навстречу. Они обнялись.
— Ну, Александр, я очень рад, что ты выбрался к нам, — говорил Раевский с искренней радостью и, однако же, чуть покровительственно поглядывая на друга сверху вниз.
Пушкин взглянул на него сияющими, загоревшимися глазами.
— Орлов тебя дожидается…
Но Орлов как раз махнул кучеру, и тот резво погнал лошадей.
— Ну, что, подружились?
— Я уважаю Орлова, — ответил Пушкин серьезно и несколько сдвинув брови.
«Он непременно будет с ним говорить о сестре», — подумал он в то же самое время и, чуть запинаясь, спросил:
— А кто же из ваших… здесь? Кто приехал?
— Ах, вот ты с кем подружился! — смеясь, возразил Раевский. — Я знаю уже, я все теперь знаю…
И, любуясь смущением Пушкина, рассказал ему, что сестры будто и собирались, да из–за нездоровья Елены остались в Киеве («Ну, язык и до Киева доведет… Буду там непременно!» — пронеслось у Пушкина в голове)… что и брат Николай не захотел их покидать…
— А впрочем, я поглядел бы, как он вздумал бы их покинуть.
— Но почему ж?
— Отец не пустил.
— А, понимаю, — весело рассмеялся Пушкин. — В Каменке климат, говорят, опасный! Но меня вот пустили…
— Вот именно климат, — улыбнулся в ответ и Раевский.
— А что, — спросил его Пушкин, не удержавшись. — Кто тут? Говори. Есть интересные люди?
— Люди как люди, — с обычной насмешливостью ответил Александр Николаевич. — А вот жаль, что ты не охотник.
— Нет, до людей я охотник, — быстро ответил Пушкин, снова смеясь.
И оба они пошли по направлению к дому.
— Будет охота скорей на тебя. Дамы ждут не дождутся. Все Пушкин да Пушкин: «Когда ж будет Пушкин?»
— Я это слыхал уже.
До именин оставалось три дня, и пирогами еще не пахло, но двор уже весь переполнен был экипажами. Оглобли, поднятые кверху, напоминали осенний бурьян на заброшенном поле. Между людей шныряли собаки, и кучера громко бранились.
Пушкин все это время был крайне стеснен в деньгах. К тому же совсем незадолго до отъезда прибыло в Кишинев отношение в Бессарабское областное управление о взыскании с него старого петербургского долга — на кругленькую сумму в две тысячи рублей. Бумага переслана была Екатеринославским губернским правлением. Пушкин Инзову жаловался:
— А отчего не послали ее на Кавказ, а после в Юрзуф, в Бахчисарай? Непорядок! Она мне, как лодке, нос перерезала…
— Посмотрим… Поедешь, — отвечал ему Инзов, — а мы уж тут что–нибудь выдумаем… — и обещал, кроме того, написать в Петербург чтобы жалованье–то хотя б высылали.
Про Пушкина нельзя было все же просто сказать, что он жил небогато. Это определение совсем не подходило. Он не тратил совсем ничего: нечего тратить! Порой занимал; случалось, хоть редко, немножко выигрывал в карты; постанывал к брату в письме: «Мне деньги нужны, нужны!» Питаясь у Инзова или в гостях, редко за свой счет в трактире, особенно остро он ощущал недостаток в одежде и обуви. В сущности, только одна и оставалась приличная пара… И оттого он ни за что не позволил выбежавшему навстречу лакею взять свой чемодан: не слишком–то был он тяжел! А когда подоспел где–то замешкавшийся Никита Козлов, Пушкин, от смеха давясь, громко его предупредил:
— Поосторожней неси. Не надорвись.
Денег из дому не слали. И невольно сейчас, моясь и переодеваясь, он представил себе петербургскую: квартиру отца, как сидит он в халате у письменного стола, опершись о подлокотни кресел и вертя в руках разрезальный нож из слоновой кости, а Ольга стоит перед ним, держа очередное письмо брата. «Но чего же он хочет? — говорит отец, переходя на самые высокие ноты: это всегда у него и оборона, и наступление. — И чего вообще все вы от меня требуете? Что мне — халат свой продать, обстановку? Я делаю все, что могу. Кто может меня упрекнуть? Я пишу ему любезные письма… (Писем он не писал.) И, наконец, я же ведь не отрекаюсь от блудного сына…»
Тут Александр, моясь и фыркая, живо представив себе и фигуру, и интонации в очередной декламации отца, расхохотался так весело, как давно не случалось. «В Киев — да, непременно — поеду! Но, кажется, и здесь хорошо!»
Издали, с лестницы, слышался шум голосов, женские возгласы, и им овладело забытое ощущение петербургской его молодой и беззаботной жизни.
Еще когда проходил через залу, чтобы подняться сюда, произошла у него забавная встреча. Нарядная девочка с милым и нежным лицом, бежавшая на носках через комнату, внезапно остановилась, заметив его, и, тронув слегка концы белого платья, уже готова была присесть в реверансе, но так и застыла в изумлении. Он издали, по невольному движению ее губ, разгадал безмолвное восклицание: «Пушкин? так вот он какой!» И, повинуясь охватившему его шаловливому настроению, он сделал ей смешную гримасу. Девочка от неожиданности выпустила платье из пальцев, сомкнула ладони и опустилась на пол от затомившего ее беззвучного смеха. Тогда он и сам заскользил по вощеному паркету, как если б бежал на коньках.
— Адель! Адель! Иди скорее сюда! — услышал он, как по–французски кто–то ее позвал из–за дверей.
Произношение выдавало природную француженку, и, обернувшись, Пушкин успел различить в распахнувшейся двери легкую чью–то фигурку, взбитые локоны и изящную ручку, отягощенную кольцами; быстрый женский взгляд сверкнул на него с любопытством. Кажется, это была жена Александра Львовича, старшего из братьев Давыдовых.:
Когда наконец кончил он свой туалет, сейчас же его охватила вернувшаяся к нему привычная светская легкость, как на балах в Петербурге; глаза заблистали, и по скрипучим ступенькам он стал сходить с лестницы.
Александр Львович, огромный толстяк с большим животом, не покорным жилету, снисходительно, с высоты своего величия, представил его своей жене Аглае Антоновне. В глазах у нее мелькнул веселый огонек.
— А я вас уже видел, — минуту спустя болтал с нею Пушкин, едва толстяк отошел. — И сразу узнал. Вы точно такая, как я вас себе представлял. Я о вас много дорогою думал.
Впрочем, все это он говорил, ни минуты не думая, что она может поверить. Это была обычная легкая болтовня, а эта тридцатилетняя хорошенькая женщина, миниатюрная и грациозная, как фарфоровая куколка, с задорно вздернутым носиком и кокетливою улыбкой, конечно, привыкла к подобным невинным шуткам. Впрочем, Пушкин свой комплимент произнес отчасти и в пику ревнивому супругу, покровительственное отношение которого его раздражало. И все же пустяки эти создавали сразу между молодою хозяйкою и гостем какую–то условную легкую близость, и за обедом они несколько раз взглядывали друг на друга, как будто меж ними уже была некая маленькая тайна.
Адель заняла место рядом с матерью, и на нее Пушкин глядел совершенно иначе, чем на ее мать. Впрочем, и девочку было не узнать. Она сидела за столом, как большая, держась несколько преувеличенно прямо. И лицо у нее — не просто детское личико. Чистая линия лба и чуть косой разрез глаз создавали незабываемое своеобразие; узкие плечи и тонкая шея едва формирующегося подростка дышали тихой и ясной ранней весной. С разбегу ей сделал гримасу, а сейчас глядел на нее почти с робостью, как если бы даже и взглядом можно было что–то спугнуть невозвратимое, неповторимое, как самое детство.
Так нередко возникали у Пушкина своеобычные отношения с людьми, с которыми за четверть часа до того он даже не был знаком; порою это случалось и с первого взгляда.
Перед тем как садиться за стол, он все поглядывал, где же Раевский — Николай Николаевич. Генерал вышел из внутренних комнат с престарелой матерью, когда почти уже все были в сборе. Орлов тотчас к нему подошел, и они на глазах у всех обнялись. Пушкин не смел этого сделать, хотя чувство его толкало к тому. Николай Николаевич приветливо ему улыбнулся, добро пожал ему руку и представил матери. Орлов был давно уже с нею знаком.
Сидя теперь за столом, Пушкин, конечно, был занят не одними лишь дамами, он озирал и все общество, живо, легко схватывая общую картину. Здесь не было ни чинности званого петербургского обеда, ни некоторой безалаберности кишиневских пиршеств, — тут господствовали непринужденность, свобода и тот особый тон простодушия, какой–то домашности, который Пушкин ценил и любил и которым так наслаждался, едва ли не впервые в жизни, в Юрзуфе у Раевских.
За столом, вперемежку с помещиками и забавными дамами их, блистало немало военных мундиров. Александр жадно глядел и на этих еще совсем молодых офицеров, стараясь прочесть в их манерах, во взгляде скрытые думы. И вправду, казались они какой–то иною породой людей. Раевский был всех много старше. Пушкин невольно сравнивал эти два поколения.
С теплым чувством почтения, столь для него редким, взглядывал он на генерала Раевского, сидевшего рядом со старухою матерью. Лицо у Николая Николаевича показалось ему немного уставшим, летний здоровый загар отошел, ясней выделялись морщины у поседевших висков.
И Пушкину вспомнилось, как впервые увидел Раевского на лубочной картинке, где изображался подвиг его в Отечественную войну двенадцатого года: генерал, взяв за руку своих сыновей Александра и Николая, бывших совсем еще мальчиками, вышел с ними под обстрел неприятеля и крикнул солдатам: «Вперед, ребята, за царя и за отечество! Я и дети мои, коих приношу в жертву, откроем вам путь!» Пушкин отчетливо помнил, как еще мальчиком глядел он на эти лубки и как по спине его пробегал ощутимый холодок восторга.
Правда, героическая брань эта давно отшумела; правда и то, что отношение к царю и у Пушкина, и у всей молодежи резко теперь переменилось, — но геройство Раевского от того не поблекло. И разве в нем не остались все те же храбрость, честь, прямота? И то, что недавно узнал про него от Орлова: царь хотел возвести его в графское достоинство. Раевский ответил ему тем девизом, который во Франции провозгласил один из Роганов: «Царем быть не могу, герцогом быть пренебрегаю, я — Роган!»
И эти, молодые знали войну… Но настоящая, их война еще впереди. Будут и там свои испытания… Как они выдержат их? Пушкин взглянул на Орлова. Спокойный и ровно оживленный, он любезно беседовал с соседями. Но в ясных выпуклых глазах его Пушкин читал и задумчивость, которую не трудно было разгадать. И все же Александра сейчас занимало другое. В первый раз с такою отчетливостью почувствовал он, какое своеобразное место занимает Михаил Федорович Орлов между другими его знакомыми и приятелями–военными… Он был самый старший среди молодых, но одновременно и самый младший из старшего поколения. Куда же он ближе и что для него больше характерно?
По отношению к старшим и младшим в этом кругу Пушкину все было ясно. Раевского, Инзова он почитал, как чудесных и истинно ему милых людей; Раевский к тому ж был и настоящий народный герой. С Охотниковым и другими молодыми офицерами, с которыми сблизился в Кишиневе, роднило его общее восприятие жизни. С ними было легко и все с полуслова понятно. Как же с Орловым? Часто тот говорит ему «ты», а Пушкин его величает на «вы»… Какая–то грань отделяет его от прочих. Раевский и Инзов — там явное старшинство, здесь — что–то другое. И Михаила Орлов — истинный воин; и Михаила Орлов по взглядам своим не отделим от молодежи; но у Михаилы Орлова есть нечто свое, что его отделяет от тех и других и, пожалуй что, — так и надо это сказать, — выделяет его между другими… возвышает над ними. Орлов — государственный ум и прирожденный государственный человек, если бы дали ему настоящую власть. «Я чувствую в себе больше способностей, чем могу применить в моей обстановке», — это его собственные слова. И при этом никак не думал он ни о карьере, ни о почестях. Как бриллианты бывают чистой воды, так и Орлов был чистой воды человеком. В этом Пушкин отдавал ему должное.
Но не было в нем ни озорства, ни молодого задора, цветения не было… («Какой же тогда он жених!» — именно что с озорством подумалось Пушкину.) Но даже не это, а вот чего у него нет, так это взгляда на жизнь не сверху, а снизу, что есть и у Охотникова, и у других. Он молод, но он генерал уже с двадцати шести лет, и как давно уже он распоряжается, Вот Пушкину не только нечем распоряжаться, но он и вообще не у дел… («Так, с другой стороны, какой же и я‑то жених!» — И стремительно выпил рюмку вина.)
Все эти мысли сжато и быстро проносились у него в голове, перебиваемые еще более быстрыми «интимными» мыслями, скорее похожими на мгновенный укол, чем на полет, «бановник! Вельможа!» — Пушкин способен был и на минутную несправедливость.
Как–то спросил он Орлова, слегка раздраженный его достойным спокойствием:
— Вот вы говорите: «Жить с пользою для своего отечества и умереть, оплакиваемым друзьями, — вот что, достойно истинного гражданина». Ну, а умереть за отечество?
— Жизнь моя к тому бывала готова не раз, — с большой простотою ответил Орлов.
Пушкин смолчал: ответа не было убедительней. Но он думал, спрашивая, о другом, к чему готовы были, он это чувствовал, многие из молодых; или это чуждо Орлову?
«Не буду я больше думать о нем», — прервал сам себя Пушкин и тотчас обменялся улыбкой с Аглаей Антоновной. «Однако действительно, кажется, занят он мною, — подумала та. — И какой он живой и смешной!»
Обед между тем, как костер, разгорался не сразу, но уже потрескивали в разных местах, подобно загорающимся сучьям, отдельные восклицания, смех. Еще немного, и все сольется в единое шумное пламя.
Стол возглавляла хозяйка, семидесятилетняя барыня, в темной наколке из кружев. По левую сторону от нее сидел генерал Раевский, ее первенец и единственный сын от первого брака. Садились за стол не по чинам, и Пушкин расположился, — впрочем, по указанию, — неподалеку от них. В этом тоже было нечто приятное, ибо тем самым он здесь пребывал отчасти как свой. Время от времени до него доносились отдельные фразы из их разговора. Однажды прислушался он и повнимательней.
— А правда ли, маменька, — говорил Николай Николаевич, склоняясь к старушке и поднося к губам длинные ее пальцы, как бы тем самым предваряя ее, что последует нечто интимное; при этом лицо его, открытое, но немного суровое, теплело в улыбке. — Правда ли, что вы уже готовились стать матерью, а еще игрывали в куклы?
— Ах, мой дружок, — возражала она, отводя в сторону вилку, чтобы случайно его не задеть, и отвечая поцелуем в голову на поцелуй руки, — а вся жизнь не есть ли игра, и люди — не куклы ль в умелых руках, привыкших к игре?
Сын почтительно–весело ей возразил:
— Что до меня, я, как и в детстве, всю жизнь играю в солдатики!
— Ты шутишь, а я говорю вовсе не в шутку. Великое дело — уметь в эту игру, о которой я говорю. Мы это знали, умели, а вы забываете, у вас теперь в голове, видишь, u–de–ui Ты хотя бы Василия Львовича, взял труд, пожурил. Да и все эти приятели ходят возле греха.
И она повела еще быстрым насмешливым взглядом по молодым офицерам.
— Не печальтесь, мамаша! — весело крикнул ей, расслышав последние слова, младший из Давыдовых, Василий Львович. — Вы уповайте на Александра Львовича. Старший мой братец верен отцам: он только и ходит, что возле стола. Да и сейчас: поглядите, как вдохновился, как вник.
Все слышавшие этот возглас весело рассмеялись и невольно перевели взгляд на Александра Давыдова, который столь усердно трудился над залитою жиром индейкой, что не только ничего не слыхал, но вряд ли и вообще в эту минуту что–либо другое способен был воспринимать. Жирные плечи его, как эполеты, свисали над белой большою салфеткой, закрывавшей лишь верх его груди, ворот и галстук; ниже валами вставал огромный живот, который ему не мешал лишь по многолетней привычке. Птиц иногда ели руками, беря деликатно ножку иль крылышко, но Александр Львович позволял себе много больше: шумно он грыз сладкие кости, жевал их, высасывал мозг, а остатки выплевывал к себе на тарелку; губы и пальцы его блестели от жира, он их, не стесняясь, облизывал и только потом уже комкал салфетку у подбородка. Тут до идей действительно было далековато.
Заметив наконец, что по какому–то поводу стал центром внимания, толстый Давыдов шумно откинулся, двигая кресло, в котором сидел, еще раз покрепче обтер себе рот в уголках и возгласил:
— Нет лучше домашней индейки! Те дураки, кто живет в Петербурге. Не правда ль?
И, посмеявшись своему остроумию, поманил доверительно старика дворецкого:
— А нет ли на кухне еще? Погляди.
Когда в комнате засинели ранние сумерки, лакеи зажгли высокие свечи — и на столе, в канделябрах, и по стенам, в бронзовых бра. Хрусталь засиял, и тени, пересекаясь, легли на скатерти и на тарелках. Лица при свете огня изменились: женские стали таинственнее, мужские — значительней. В группах молодежи звенели бокалы, и Пушкин различал негромкие, но одушевленные тосты за свободу и за карбонариев, восставших в Неаполе. Офицеры в неверном свете свечей казались ему заговорщиками. Пили иносказательно за тех и за ту, но сидевший с ним рядом молодой человек, немного постарше его самого, это иносказание пояснил.
— Чтобы хозяйку нашу не раздразнить, а так — все понимают, — добавил он сдержанно–тихо.
«Понимаю и я, — подумалось Пушкину, — конечно за ту — «Русским безвестную…»
— Неаполь далеко, — невольно промолвил он вслух. — Не худо б и нам.
Он вспомнил Липранди, у которого было намерение идти волонтером в итальянскую народную армию, и хотел тотчас рассказать об этом соседу, но, встретив ясные глаза его, как бы запрещавшие много болтать, он почел это за особый доверительный знак, и у него стало в груди горячо. Ему казалось, что еще немного — и его пригласят на заседание, где для него откроется заговор, планы, и его привлекут в число заговорщиков… В Петербурге не то. В Петербурге отмалчивались или отрицали все начисто. Здесь люди иные: дальше от трона, открытее мысли и действия!
Пушкин редко пьянел от вина, но весь этот вечер, длившийся свободно, легко и после обеда, многолюдное общество, нарядные женщины, милые лица Раевских, шутки и тосты, счастливое сознание, что он не в Кишиневе, и особенно ощущение близости чего–то необычайного, что отныне войдет в его жизнь, — все это пьянило сильнее вина.
Он вел разговор и с соседом своим по столу, старым знакомцем — Иваном Дмитриевичем Якушкиным, с которым встречался еще у Чаадаева в Петербурге.
Первая эта их встреча едва не началась со столкновения. Знакомясь, Якушкин назвал свою фамилию. Вчерашний лицеист сделал вид, что расслышал так: «Я — Кушкин», и с бойкостью возразил, вдобавок еще, как бы ослышавшись:
— Позвольте, однако ж… Но ведь это я — Пушкин!
— Я имею удовольствие знать, что вы Пушкин, — последовал ответ, хоть и безукоризненно вежливый, но дающий понять, что шутка не была принята.
Шутка была не принята, но все же обиделся больше не новый знакомец, а сам Пушкин: доселе он был так избалован, что каждое его слово принималось с восторгом. Он поглядел снизу вверх на своего собеседника, готовый на самый резкий ответ; кровь уже кинулась в голову. Но к ним подошел Чаадаев, Пушкин взглянул в спокойные его, твердые глаза, столь далекие от всяких житейских страстей, что при нем погасала всякая возможность личной ссоры, и ограничился тем, что сердито спросил, отходя с Петром Яковлевичем: кто же, собственно, этот дерзкий молодой человек в штатском?
Чаадаев, по обычаю спокойно и рассудительно, в ответ рассказал недавнюю новость про вышедшего в отставку юного штабс–капитана Якушкина; как он вызывался в Москве покончить с императором Александром… Молодежь толковала тогда о бедственном положении, в котором находится Россия. Читали письмо Трубецкого, что царь ненавидит и презирает Россию, хочет несколько русских губерний присоединить к Польше и самую столицу перенести в Варшаву. Все были возмущены и крайне возбуждены. Когда же волнение достигло высшего предела, Александр Муравьев заявил, что царя надо убить, и предложил бросить жребий. Тут–то Якушкин и выступил. «Вы опоздали!» — воскликнул он. — Я решился без всякого жребия принести себя в жертву и никому не уступлю этой чести».
— Вот молодец! — воскликнул, загоревшись, Пушкин. — Я тотчас побегу пожать ему руку.
— Породите, — все так же спокойно остановил его Чаадаев. — Ему не следует об этом напоминать. Его и тогда едва успокоили и отговорили. Вы ведь играете в шахматы? Так он, между прочим, сказал, когда пытались его охладить и уверяли, что он назавтра одумается и сам: «Вы говорите — одумаюсь, но я и сейчас совершенно спокоен. Хотите, сыграем в шахматы, и я вас обыграю!»
Так Чаадаев и самого Пушкина успокоил. Тот засмеялся:
— После всего вами рассказанного я и сам готов получить от него мат и обещаю, что не буду сердиться!
Встретившись здесь, тотчас они оба вспомнили это первое их знакомство и как забавно оно состоялось.
— Аи действительно, кто ж вас не знал? Да и здесь — кто же не знает здесь Пушкина и его горячих стихов?
Якушкин с тех пор изменился. После обеда он рассказал, как поселился в деревне, в Смоленской губернии, и сел на хозяйство. Деревенская жизнь на него наложила свой отпечаток. Он и сам теперь говорил куда как спокойнее и деловитей, лишь изредка вскидывая на соседа прямые глаза, об уединенной жизни своей в сельской глуши и о планах освобождения крепостных.
— Поляки теперь, кажется, нам не угрожают, жизнь стала прочней. И вот я им, крепостным, предлагаю, что отпущу их на волю. Толкую им это, а они мне в ответ всё одно да одно: мы ваши, а земля наша.
— А вы хотели бы, чтобы земля была ваша, а они… свои? — живо возразил Пушкин, быстро схватывая суть положения.
— Я хотел, чтобы они стали свободными, а не крепостными. Состояние крепостных есть состояние, позорящее и их и меня; главное благо — свобода.
— Вы правы, конечно. Свобода есть первое благо. Но чем же им жить?
Якушкин немного помедлил, как бы решая про себя, рассказывать ли: не вышло бы чего–нибудь похожего на то, что он рисуется своим благородством. Но, поглядев на Пушкина, все же открылся:
— Я начал с того, что уменьшил им барщину наполовину. Я учу их детей, да и взрослых отучил кланяться в ноги и стоять передо мною без шапки.
Пушкин слушал с живым интересом; уважение к собеседнику светилось в глазах его.
— Ну, а землю… Я им хотел предоставить безо всякого выкупа в их полную собственность и усадьбы их, и скот, и имущество. Что же до пахотной…
Тут Якушин раздумчиво качнул головой, как бы сам себя спрашивая: «Ну, а совсем без земли… и помещику как же и чем существовать без земли?» Пушкин, казалось безмолвно его понимал, и собеседник закончил:
— Что же до пахотной, то я хотел так: половину обрабатывать вольнонаемным трудом, а половину сдавать им в аренду…
— И на чем порешили?
— Я стал хлопотать в Петербурге, а там об условиях не стали и слушать и во всем отказали. Да и странно, пожалуй, было б чего–нибудь ждать…
И Якушкин, закончив эту невеселую тему, вдруг усмехнулся и вымолвил пониженным тоном:
— А знаете ль вы, что я видел вас в Кишиневе?
— Когда? Каким образом?
— А вовсе недавно.
— Вы приезжали к Орлову?
— Я приезжал в Кишинев.
Так это для Пушкина и осталось загадкой.
В зале, полной гостей, вечером все танцевали. Пушкин произносил эпиграммы: все знали их здесь, и все их хвалили.
Вина в столовой не убирали, и она не пустовала.
— Мы с вами не выпили, — сказал Пушкин, несколько захмелев и взяв под руку генерала Орлова, чего обычно не делал. — Там пили все за нее. Выпьем и мы…
— За будущую киевскую именинницу? — спокойно и просто произнес Орлов, принимая намек. — Пойдемте.
Пушкин был этим доверием и прямотою совершенно обезоружен. Они дружески чокнулись, и ему не захотелось более возвращаться в бальный зал. Он поднялся к себе, накинул плащ и, незаметно спустившись, вышел из дому.
Ночь была крепкая, звездная. Схваченная легким морозцем, земля ложилась под ногою упруго, как бы с охотой сама давая наступить на себя. В саду было строго, прозрачно. Деревья не жались друг к другу, и им для раздумья было довольно простора. Незаметно сошел он к реке, и в звездном ночном полусумраке Тясмин показался ему немалой рекой. Движение ее скорей ощущалось, чем было видимо глазу, и лишь у берегов тонкою певучею оторочкой плескалась ночная вода.
Пушкин присел на берегу прямо на землю. Голова его была обнажена. За отвороты рубашки холодок проникал и на грудь. Множество впечатлений сегодняшнего дня находили теперь в тишине свое настоящее место. Как нынче в столовой. Все на ногах. Беспорядок и шум голосов. Минута — и сели все в стройном порядке, и тишина. Пушкин знал хорошо, как у него это бывает, и очень это любил.
И вот — изо всей пестроты забавного и серьезного, внешнего и душевного, громогласного и лишь отгадываемого, выделилась одна будто бы совершенная мелочь: Якушкин был в Кишиневе, и он этого не знал… В Кишиневе! — где через полчаса все новости знают во всех кофейных города.
И не кто–нибудь, а не знал даже он сам! Что это значит? Якушкин, разговорившись, явно сказал ему лишнее. Что же от него скрывают и почему?
Да, острая память ему не изменила, она все сохраняла на случай и тотчас подала.
У него лихорадка. Бахчисарай. Николай Николаевич ведет беседу с татарами.
— Мы не скрываемся, ваше высокопревосходительство, паша–генерал, а у шиитов не так, это — скрывание от страха. При встрече с суннитом всякий из них должен себя выдавать за суннита. А если бы даже между десятью шиитами замешался один только суннит, и в таком случае все девять должны выдавать себя за суннитов…
Пушкина это тогда же поразило: как, однако же, сохраняется тайна! Но ежели там мусульмане ее охраняют из страха, то здесь — ради чего? Между своими? Неужели же могут подумать? Может кто–нибудь допустить?..
Пушкин почувствовал, как щеки его загорелись от гнева и возмущения. Он быстро поднялся на ноги и зашагал вдоль темной реки, посыпанной звездами.
Ходьба его быстро успокоила и утомила. Он прошел, вероятно, немногим более версты. Берег был крут, каменист. Там, где река загибала налево, на том берегу затемнела скала. Стало похоже на теснину, ущелье. Он спустился ближе к воде. Несколько сжатая на повороте, глухо она рокотала… Так, вот именно так! Там, у плотины, ничего не заметишь, как бы нет вовсе движения, похоже на пруд, а здесь как рычит! Но неужели же этот могучий поток — мимо и мимо? И ему, неужели ему так вот стоять и — наблюдать?
Нет, не из страха. Это пустое! Да они, в сущности, и не скрывают, что думают. Но что они намерены делать? Ведь это похоже на настоящий съезд! И если хотели б скрывать от него, Орлов его никогда не взял бы с собою…
— Где ты пропадал? — спросил Александр Раевский, когда Пушкин вернулся.
— Гулял у реки, — ответил тот. — И смотрел, как вода мимо бежит.
— А тут народы опять пошумели и опять поднимали бокал…
— Ты напрасно смеешься. Ты хорошо понимаешь, что подымали бокал за свободу.
— Потому и смеюсь. От вина она не воскреснет.
— При чем тут вино! А карбонарии?
— А ты никогда не видал, как зайцы бегут? Подожди, подойдет австрияк, отсюда увидим!
— Ты, Александр, всегда и все отрицаешь, а утверждаешь только ужасное. И я хочу спать.
Уже почти в полусне Пушкин завел разговор о Раевском–отце. Ему не хотелось уснуть, не помирившись с приятелем, на которого он рассердился.
Но Раевский и тут отрицал подвиг отца, что был изображен на лубках.
— Неправда! — возмутился Пушкин, на минуту возвращаясь к сознанию. — Все в этом уверены и не стали бы на картинках печатать.
— Ну, тебе лучше знать, — спокойно ответил Александр Николаевич.
— Ты надо мной просто смеешься.
— Да я сам там был, оттого и смеюсь. Спроси у отца, если хочешь. Он не солжет. Или у Батюшкова — он же поэт, и он был у него адъютантом. Отцу моему сказок не надо. Он храбр и без них.
Это уже понравилось Пушкину. Вот наконец и Александр с настоящею гордостью сказал об отце. А сам Николай Николаевич! Храбрых людей немало на свете, а вот — прославят, и вознесут, и гимн пропоют, а человек вдруг возьмет да и скажет: а это непра–вда! — я обойдусь и без этого! Это не храбрость уже, это — величие.
Тут Пушкин стал засыпать, и внезапно все, что томило его и волновало, вмиг отошло, а на место того возникло другое — то, что стояло, как бы дожидаясь, у изголовья: он увидел тотчас же Юрзуф.
С моря плывет ветерок соленый и свежий, тени черны, солнце ослепительное. И на террасе стоит Николай Николаевич и дразнит детей. В руке у него кисть винограда, но только что девочки, Мария и Соня, потянутся к кисти, как отец поднимает ее, и им не достать. Пушкин смеется на эту забавную сцену. Но вдруг отворяются двери и вбегает… Адель. Она скользит по доскам, как на коньках, и, добежав, так высоко прыгает вверх, что кисть винограда ей достается. Тогда она повертывается и медленно, важно направляется к выходу в сад. Тут она замечает и Пушкина, но не всплескивает руками и в смехе не опускается на пол, как было днем, а все так же спокойно, почти величаво проходит мимо него. У нее чуть косые глаза и линия лба необычайно чиста. И Пушкин не смеет к ней подойти.
И вот: тревожное, важное, чему проясняться при свете полного дня, оставило Пушкина до пробуждения; и то большое, как начинало казаться ему, сложное и горячее чувство, которое заставляло его предпринимать мысленный поединок с Орловым, и оно отошло: о нем уже было думано и передумано; а вместо того виноград, детвора и морской ветерок… и из Раевских — самые младшие, и рядом Адель. Что это и почему?
Но так это было.
Так из множества впечатлений первого отошедшего дня живее всего пало на глубину не что–либо другое, как милая эта двенадцатилетняя девочка: Пушкин был молод, и Пушкин все время мечтал, часто того и сам не сознавая, — о чистоте.
Глава восьмая ПАМЯТНЫЙ ВЕЧЕР
Давыдовы были безмерно богаты. «Те дураки, кто живет в Петербурге». И действительно, здесь было все или почти все, чем изобиловала Северная Пальмира, но не было никаких придворных стеснений: тут был как бы собственный двор, не имевший ни тягостного этикета, ни нарочитой парадной пышности. Жизнь протекала широко, с размахом: деревенский простор пашен, лесов, рек и степей был почти необъятен; охота, поездки к соседям и в города — Киев, Одессу, Кишинев; ярмарки, выборы, балы и молебствия; свадьбы, крестины, похороны… Лошади на конюшнях не стояли без дела.
И у себя принимали Давыдовы ближних и дальних соседей с охотою и гостеприимством. А впрочем, и без гостей дом был переполнен племянниками и племянницами, дальними родственниками, приживалками и приживальщиками. Не хватало лишь арапчат да карлы и карлицы, но уж, конечно, не потому, что было трудно ими обзавестись или хлопотно с ними обходиться, а просто не было к этому делу любопытства. Зато с черного хода обильно ходили многоразличные бродячие люди: паломники по святым местам, монахи, монашки, просто юродивые. Их принимала, до того как повести избранных к старой барыне, дочка старика–дворецкого, воспитывавшаяся на положении приемной дочери. Пушкин обратил внимание за столом на эту бледнолицую девушку с горящими глазами, у которой поверх платья висел на цепочке деревянный кипарисовый крестик. Когда отец приближался к ней с блюдом, она поднималась и целовала ему руку. Таков был обычай.
И все это множество народу — воспитанников и тунеядцев — пило и ело, обувалось и одевалось, получало подарки.
Хватало на всех: богатство старухи Давыдовой было столь велико, что однажды в игре, забавляясь, второй ее муж, Лев Денисович Давыдов, из одних начальных букв тех поместий, кои ей принадлежали, составил целую фразу: «Лев любит Екатерину».
И эта Екатерина умела еще и теперь поддерживать славу державной тезки своей «матушки Екатерины», и на именинах ее пахнуло тем веком, что отошел, как самой ей казалось, лишь в недавнее прошлое, но о котором младшее поколение знало лишь понаслышке.
Служили молебен двенадцать священников, гостей было свыше ста человек, столы ломились от яств и питий, гремели приветственные салюты, а вечером при иллюминации, отраженной тяжелыми водами Тясмина, выкатили для челяди несколько бочек вина. И сама именинница, забыв о «домашности», в тот день выступала, как некогда на придворных балах, со всею той пышностью, какая и подобала любимой племяннице блистательного князя Григория Александровича Потемкина.
И большой дом, и флигели шумели, как ульи перед роением. Весь этот день полон был звука и блеска. Споры и смех; прозрачные звоны бокалов и приглушенные стуки бильярдных шаров; щелкание шпор и шмыгание по полу быстрых девичьих ног; духи и табак; запахи кухни и ладана после молебствия в зале; тосты в столовой на обеденном пиршестве и вечером танцы с домашним оркестром и дирижером, отдававшимся этому важному делу со всей беззаветностью; карты для старших и веселые игры для молодых; свечи в обширных, жарко натопленных комнатах и свет месяца в захолодавшем пустынном саду, примыкающем к дому; таковы были эти именины и торжество в день святой мученицы Екатерины.
Пушкин, кружившийся вместе со всеми и едва успевавший отводить своих дам на места, однако ж совсем не терял головы. Эти три первые дня то обещали ему, то обманывали. Он не сразу еще видел и узнавал тех людей, которые его интересовали.
С наибольшею живостью и даже азартом вели разговоры самые молодые из офицеров; иные из них еще хранили угловатость подростков и, преодолевая ее, заливаясь почти девическим румянцем, старались казаться особенно вольными в манерах и особенно дерзкими в высказываемых ими мнениях, когда речь заходила о царской фамилии. Но если тогда, в Петербурге, рассказ Чаадаева о Якушкине живо зажег воображение юного Пушкина, то сейчас с наибольшим интересом прислушивался он к более зрелым суждениям, в которых трактовались всего основательнее вопросы государственного устройства у нас и в Европе и главный домашний вопрос — об освобождении крестьян от крепостной зависимости.
Всякий день на обед собирались у старой хозяйки — Екатерины Николаевны, а потом переходили в гостиную, где царила уже молодая Давыдова, урожденная герцогиня де Граммон. Отношения с нею у Пушкина оставались все теми же, как определились они с первого их разговора: явно она была польщена, что юный поэт не отставал от других ее поклонников в любезностях и комплиментах и даже читал по ее просьбе стихи.
Но каждый раз, когда в девять часов голубоглазая Адель заходила «к большим» — проститься на сон грядущий с матерью и отцом — и делала, удаляясь из комнаты, прощальный реверанс таинственному для нее гостю–поэту, — самому Пушкину, правда лишь на очень короткое время, после ухода ее все как бы чего–то недоставало. И летучее чувство этой утраты снова в нем связывалось с тем самым детством, которого он почти был лишен. А впрочем, с тем большею страстностью опять он вступал в веселый и шумный круг гостей.
Подремав с полчаса, а иногда и похрапев, почерпнув во сне свежие силы, и Александр Львович Давыдов вдруг оживлялся и обретал былую свою подвижность любезного европейца. Считалось, что у него были манеры настоящего герцога, но говорившие так отчасти подсмеивались над толстяком: в этой супружеской паре верх, конечно, держала хозяйка, герцогиня действительная, а уже «по жене» и он попадал в титулованную знать… Скорее всего в нем остывала некогда буйная кровь рода Потемкиных: недаром он ростом, и светло–русыми волосами, и величавостью живо напоминал ставшего уже легендарным «светлейшего».
Но вот вечер уже нечувствительно переходил в ночь, и младший Давыдов, Василий Львович, на брата ничуть не похожий, скорей под стать Пушкину, — курчавый и темноволосый — поглядывал уже то на одного, то на другого из избранных и спрашивал взглядом: «А не пора ль?»
Мигал он при этом и Пушкину, с которым, хоть и был изрядно постарше, в первый же день выпил на брудершафт.
Александр особенно любил это время, когда, попрощавшись с дамами, переходили в апартаменты Василия Львовича. В самом переселении этом с одной половины дома на другую была своя доля таинственности, ибо приглашаемы были далеко не все, а самые сборища, типично «мужские», то есть серьезные и веселые вместе, достойно завершали долгий день, придавая ему значительность, вес.
Огромная комната, устланная цельным ковром, с диванами вдоль стен, украшенная картинами, портретами предков и фамильным оружием, с горками фарфора, книгами в шкафах, длиннейшими чубуками в углу, с огромным камином, щедро излучавшим тепло и, наконец, с заранее уже припасенной и дышавшей прохладою льда вазой с шампанским — комната эта заполнялась не вдруг. Люди сначала бывали немногословны и голоса их негромки: большое пространство и мало людей. Но постепенно там и сям вспыхивал огонек разжигаемой трубки и громко звучал несдержанный чей–нибудь возглас. Народ прибывал, дым застилал лица, хлопнули пробки, произнесены тосты, и загорается спор. Хозяин облекся в халат, мундиры расстегнуты, льется вино, и время забыто, боя часов не слыхать, никто и не помышляет о сне.
Пушкин со всеми «допущенными». Он курит, и пьет, и даже шумит; остроты его и политические выпады хором подхватываются. Можно услышать то здесь, то там, как вспоминают его эпиграммы: на Фотия, на Аракчеева. Он в общем потоке, ему легко и свободно: осуществляется жизнь.
Но вот он подходит к окну. Холод идет из–за шторы. Глазу не видно, но знает: месяц над садом, белеют стволы, и одиноко дышит земля. И он представляет себе густую бегущую воду в реке и молчаливые крутые ее берега. И ему самому становится зябко. Красноречие его замыкается. Лучше слушать других.
И, отойдя от окна, он садится поодаль, забираясь с ногами на широкий диван.
Бывали такие минуты одиночества между людей и в Петербурге, но после лицея, когда окунулся в светскую жизнь, ему никогда не казалось, что не такой же он взрослый, как и другие. Порою томила его и тогда неизвестность, и он часто пытал у друзей, чтобы признались ему… Но вот даже Пущин, ближайший и задушевнейший друг, лишь улыбался в ответ своею чудесной, открытой улыбкой и крепко, тепло жал его руку. Да, именно так: улыбка открытая, но закрыты уста! А перед самою высылкой Пушкина Пущин ездил к сестре в Бессарабию, — только ль к сестре?..
Бывало все это и в Петербурге, но все же там не было этого ощущения, что будто бы подошел вплотную к запертой двери, и вот — только толкнуть, и выйдешь… Да и сам он теперь вырос и изменился.
Уже более полугода, как он видит не одну лишь Мойку да Невскую перспективу с адмиралтейскою иглою вдали: перед ним открылась Россия. Там, в Петербурге, империю заслонял император, теперь перед ним открылась страна. Огромная, разноязычная, пленившая сердце и разбудившая думы — и о себе, и о ней. И это не были две раздельные думы: на глубине они сливались в одну.
Россия, это огромное слово переставало быть для него отвлеченным понятием, оно включало в себя и топи болот, и чащи лесов, долгие степи с пылью дорог, цветами, полынью и оводами, дикие горы и просторное море, бескрайность полей. И включало оно сонмы людей разного звания и состояния; он видел их, слышал их говор и песни, то дико–гортанные, то полногласные — со сменою жалобы и тоски на дикую удаль… И слова о земле, о крепостных, о народной свободе вызывали теперь реальные образы, одетые плотью и кровью.
Но ожидание чего–то большого, решающего, которое затомило его еще по дороге сюда, здесь изо дня в день все возрастало, и вот он спрашивал себя, как не спрашивал в Петербурге: достаточно ли он готов ко всему, перестал ли он быть веселым мальчишкой или светским молодым человеком? Казалось бы, странный вопрос, он хорошо понимал свое положение в обществе и знал, как ценили его, но ведь здесь речь совсем о другом… О чем именно? А вот переступит порог и узнает. Нечто уже существовало, что ведомо многим, но не открыто ему. И лишь постепенно, приглядываясь, он узнавал для себя понемногу настоящих людей. Так дошла до него и история с музыкантами: то, что Якушкин сам от него утаил.
— А как же, отличное дело! Да ты и не знал? — спрашивал Василий Львович, присаживаясь к нему на диван. — Якушкин… ты знаешь: ведь он не богат, а у него от отца — из крепостных два музыканта, и замечательные оба таланты. И их приторговывал богатый сосед, граф Каменский, и надавал за каждого по две тысячи, а Иван Дмитриевич ему отвечал: «Я людьми не торгую!» — и тут же, при нем, выдал обоим им вольную. Не благородно ль? Александр снова был тронут поступком Якушкина. Больше того, этот рассказ вызвал в нем самое горячее чувство. Но невзирая на все возраставшее свое уважение к Ивану Дмитриевичу и на то, что он уже кое–что слышал и о несчастной любви его, из–за которой тот и ушел в деревенское свое уединение, все же больше всего теперь занимала Пушкина мысль: смоленский помещик, отшельник почти, отнюдь не охотник до общества и далеких поездок «на именины», — зачем же он здесь, за тысячу верст, и что значил его тайный наезд в Кишинев? И в сотый раз повторял себе: «Нет, нет! Я тут чего–то не знаю!»
В самый день именин из Кишинева приехал Охотников. Пушкин ему очень обрадовался. Но и Константин Алексеевич показался ему на деревенском отдыхе куда более деловым, чем на службе, и еще скупей на слова. И по тому, как его встретил Орлов и как тот же Якушкин, казалось, его только и поджидавший, тотчас же уединился с ним на диване в бильярдной, где между ними сразу возникли горячие, но негромкие прения, Пушкин не мог не догадаться, что адъютант значит никак не менее своего генерала. Даже, напротив, Орлов — и старший летами, и прямое начальство Охотникова — порой так внимательно слушал и при этом так для себя непривычно серьезно глядел на своего подчиненного, что угадывалась в этом безошибочно иная какая–то иерархия, тайно существовавшая между этими собравшимися здесь людьми.
Новоприбывший, то ли с дороги, то ли от давней серьезной болезни, часто покашливал и говорил резко и глуховато. Но что же именно он говорил? Случалось не раз, что кто–нибудь к ним приближался, и офицер тогда замолкал на полуслове, а взгляд его серых остановившихся глаз из–под густых, почти сросшихся над переносицею бровей откровенно, казалось, говорил: «Ну что ж, тогда подождем!»
Однажды так точно случилось и с ним, но Пушкин тотчас погасил в себе мгновенно возникшую вспышку! «Я не в Кишиневе, и офицер этот не молдаванский боярин».
Тайных раздумий своих все же он не поверял никому, даже и Александру Раевскому. Порою казалось, что тот обо всем отлично осведомлен, но инстинктивно Пушкин бежал его скептицизма, все разлагавшего и охлаждавшего всякий горячий порыв.
Зато иногда возникало желание уединиться, бежать от людей. Большой серый грот около дома, летнее прибежище для освежительных пиршеств Александра Львовича, манил его. Вспоминался подобный же, только что маленький, грот в милом далеком Юрзуфе: там хорошо слагались стихи. Здесь же пока не писалось. Он лишь бегло набрасывал неполные строки, — фрагменты, — как бы опорные пункты для памяти о недавнем своем путешествии по еще более дальним кавказским краям. В памяти теснились и требовали своего места и конские табуны черкесов, и снеговые вершины на горизонте, обвитые летучим венцом облаков, и кипящие ручьи меж утесов в горах…
Шутливо и звучно, под впечатлением чрезмерного изобилия богатств в феодальной усадьбе Давыдовых, он пародировал десятую заповедь, не находя в себе зависти к земным этим благам и делая исключение лишь для хорошенькой маленькой герцогини — Аглаи Антоновны…
Обидеть, друга не желаю
И не хочу его села,
Не нужно мне его вола,
На все спокойно я взираю…
Но ежели не составляет труда «добра чужого не желать», то преодолеть «зависть ко блаженству друга», обладающего «ангелом во плоти», — дело куда более трудное. И Пушкин с улыбкою спрашивал: «Мне ль нежным чувством управлять?»
А впрочем, стихов этих он пока не доверял и бумаге: были они мимолетной забавою и развлечением, но их можно шепнуть по секрету разве только самой Аглае Антоновне: думы же все о другом и о другом. И отдыхал он по–настоящему только в саду.
Каменский сад этот, круто сбегавший от дома к реке, очень ему полюбился. Деревья стояли рядами, но на свободе, как бы отдаваясь заслуженному ими покою и тишине. Здесь и дышалось, и думалось хорошо и легко. Он, гуляя, любил, когда на глаза попадалось доселе укрытое в остатках листвы, вдруг обнаженное яблоко. Оно легко отпадало от ветки и мягко ложилось в ладонь. Пушкин его, чуть отогрев, тут же съедал: это напоминало ему раннее детство в Захарове.
Скоро, однако ж, и в доме, когда праздничная сумятица улеглась наконец и, отпировав именины, схлынули гости–помещики и остались на несколько дней только свои да самые близкие, — скоро и в доме стало просторней: видней и слышнее, а слово иль мысль неожиданно так же порою блистали, как и в саду тяжелое зрелое яблоко, утаенное до поры между ветвей.
«Нет, я чего–то не знаю…» Пушкин, конечно, не знал, что Михаила Орлов недавно лишь — в Тульчине, куда по пути в Кишинев заехал из Киева, — вступил наконец в тайное общество, о самом существовании которого Пушкин только подозревал. Он ire мог отгадать и причины приезда Якушкина, а между тем именно через него Михаил Федорович и получил приглашение на предстоящий съезд, но, колеблясь, соглашаться ли ему, ехать или не ехать в Москву, просил Якушкина погостить с ним в Каменке. Так же, чувствуя и воспринимая всю особенность отношений между Орловым и его адъютантом, Пушкин не знал, что Охотников был давним и ревностным членом Союза Благоденствия и тоже направлялся в Москву, убеждая поехать туда и своего генерала.
Деловые и политические эти переговоры шли втайне и разрешились благоприятно: Михаил Орлов ехал на съезд.
Но, залучив в свою организацию такую крупную величину, Якушкин, Охотников и Василий Львович Давыдов, бывший председателем каменской управы «Тульчинской думы», мечтали о большем: они с надеждой и сомнением поглядывали на самого Николая Николаевича, который, в свою очередь, с видимым интересом приглядывался к окружавшей его молодежи. Членам тайного общества безмерно ценна была бы такая фигура, если бы ею возглавить движение. Но ни Орлов, ни брат Раевского по матери, Давыдов, не решались прямо о том заговорить. Более того, надежды их в этом отношении были невелики. Николай Николаевич был достаточно широк в своих взглядах и в частных беседах не проявлял никакой особой осторожности. Даже напротив, открыто он порицал Аракчеева и был во всех отношениях фигурою независимой. Но именно эти–то его качества, прямота и независимость собственных взглядов, несклонность его поддаваться чьему бы то ни было влиянию, — они–то и ощущались как великое препятствие. Что Николай Николаевич в любую минуту готов был отдать жизнь за отечество, в этом не могло быть ни малейшего сомнения, но был ли он и «свободы верный воин»?..
И друзья решили испытать его, заведя при нем разговор о целях возможного тайного общества и о той пользе, которую могло бы принести его существование России. Но при этом решено было не открывать, что общество уже существует и что они состоят его членами. При этой беседе ведь будет присутствовать и кое–кто из гостей, кого привлекать вовсе не собирались: тут имелись в виду и Пушкин, и Александр Раевский, который совсем не скрывал своего скептицизма. Про Пушкина же ни у кого не возникало сомнений, что он охотно вступил бы в тайное общество. Они могли сами видеть и оценить всю ту горячую искренность, с которою он высказывал свои убеждения, а ежели чем и грешил, то разве лишь крайнею резкостью, и прямотой, и совершенной открытостью этих речей. Но это–то как раз и было опасно: Пушкин был в Кишиневе на положении полуссыльного и поднадзорного; следственно, слишком он был на виду у полицейских агентов.
А между тем, этот вечер остался надолго в памяти Пушкина, и если Адели во сне больше он никогда не видал, то как часто потом ему снилось, как, покинув друзей, выбежал в сад на мороз неодетый — под звезды…
И верно, в тот день бесснежный мороз грянул с утра, и ветви дерев, трава и земля засеребрились своею собственной влагой, стали сухими и строгими. Хотелось бы и на душе подобной же строгости, ясности, и Александр направился на прощальный тот вечер с особою, звонкою заостренностью чувств. Завтра отбывают Раевские в Киев и Орлов с товарищами в Москву. Пушкин оставался один: Василий Львович пригласил его еще погостить в Каменке.
Не походило сегодня ничуть на предыдущие оживленные сборища, когда еще было много гостей. Лица у всех собравшихся были невольно серьезны, даже немного торжественны.
— Вы отбываете завтра, друзья, — сказал Василий Львович, усаживаясь в кресло и даже не облекаясь в обычный домашний халат. — Когда–то увидимся? И что между тем произойдет за тот срок в любезном отечестве нашем?
— А чему же и произойти, — произнес Орлов, раскуривая трубку, — в том государстве, которое есть вотчина Аракчеева?
Беседа не выходила поначалу за пределы обычного разговора о положении вещей в «любезном отечестве», но Пушкин сразу насторожился, когда тот же Орлов с задумчивым видом, пустив новое облако дыма, задал вопрос:
— А не полезно ли было б в России учреждение тайного общества?
«Вот… начинается…» — подумал с волнением Пушкин и подобрал под себя ноги; это было его давнею детской привычкой: слушая сказки, в самом страшном или в самом таинственном месте, он как бы сжимался в клубок — на случай опасности готовый к прыжку.
— Обсудим… Обсудим! — одновременно отозвались и Якушкин, и Василий Львович.
— Обсудим, но я предложил бы тогда избрать для порядка и президента. — И Михаил Федорович обратился к Раевскому.
Предложение это поддержали и остальные.
— Ну что же, — сказал полушутя–полусерьезно Николай Николаевич, оставаясь по–прежнему в стороне, на своем излюбленном кресле, — будем иметь суждение за и будем иметь суждение против. Не угодно ли вам и открыть наши прения?
Александр Николаевич зорко взглянул на отца, и короткая усмешка пробежала по его губам. Александр Львович Давыдов недовольно сморщил брови у носа и проворчал довольно–таки громко:
— Что за комедия, не люблю!
Но на него не обратили внимания.
— Так кому же угодно взять первое слово?
— Если прикажете, — промолвил Орлов, двинув плечами, — я, пожалуй, начну…
Пушкин заметил, что все же Михаил Федорович несколько волновался. И действительно, для него все то, что происходило, имело, кроме общего значения, еще и свое личное. Он уже твердо решил искать руки Екатерины Николаевны и, как верно угадал Пушкин, просил Александра Николаевича быть посредником в этом его волнующем деле… И потому он заранее оговорил свою роль: выскажется объективно — и за, и против. И все же он, непривычно для себя, вынужден был несколько помолчать, как бы не уверенный в том, что ему не изменит обычное его спокойствие. Это короткое молчание придало, впрочем, его речи особую значительность.
— Вы знаете сами, да я этого никогда и не скрывал, что по возвращении из чужих краев после войны я сам составил всеподданнейший адрес государю об уничтожении крепостного права в России. Его подписали и многие высокие сановники. А какова судьба этого адреса? А каково направление нашей политики за последние годы?
— Свобода дарована эстонцам и латышам, — заметил Василий Львович, — а коренная Россия меж тем…
— А также полякам! — воскликнул Якушкин, не удержавшись: польский вопрос его всегда волновал.
— Полякам? — подхватил Михаил Федорович, и общее настроение сразу поднялось. — Так я вам скажу: с течением времени я составил еще и вторую записку с протестом о Польше. Ведь когда русский солдат, русский мужик… когда наш крепостной проливал на войне свою кровь…
Орлов всегда говорил хорошо, может быть, несколько длинно, но плавно и выразительно. Однако ж сегодняшняя речь его была не такова. Начав говорить сдержанно и как бы несколько отвлеченно, он постепенно, забыв о всяких сторонних соображениях, отдался настоящим своим думам и колебаниям, и, как всегда в таких случаях, когда под словами движется истинное чувство, заволновали они также и слушателей, вызывая в них ответные мысли.
Так он говорил о крушении надежды на открытые выступления, о невозможности договориться с правительством. Но он также остановился и на своих тайных сомнениях: достаточно ль русское общество созрело для восприятия коренных изменений?
Василий Львович Давыдов, памятуя о цели собрания, тоже старался в своем выступлении проявить скептицизм; и так же держался Якушкин, весьма удивив и искренно огорчив настороженного Пушкина. И только прямой, неуступчивый Константин Алексеевич Охотников, больно опять восприняв колебания Орлова, сердито и грубовато, все с тем привычным покашливанием, обрушился на всяческие оговорки оратора.
Говоря, он поднялся и стал возле окна, на котором по случайности оказалась не спущенной штора. Двойной свет от свечей и морозного полного месяца придавал фигуре его, высокой, сухой и угловатой, особое своеобразие. Как если б, поднявшись, шагнул он сюда прямо от далеких земель — бескрайных, могучих и нищих. Как если б и впрямь за плечами его стояла Россия.
Слушая эти слова, отрывистую, короткую речь, Пушкин чувствовал, как не только в нем без следа растопилось непроизвольно возникшее за последние дни несколько неприязненное отношение к Охотникову, шедшее от угрюмой его замкнутости, но как опять, и еще больше, чем в Кишиневе, он полюбил этого особенного человека, и что в то же самое время внутри его самого все становится на свое настоящее место, и закипает в крови одушевление, жажда борьбы.
— Верно, верно… все верно! — громко шептал он, не замечая того, и радовался горячею радостью, что и сам — наконец–то! — готов к прыжку.
— Ты хочешь что–то сказать? — обратился к нему Александр Николаевич, когда Охотников кончил.
— Да, я хочу сказать, господа! — воскликнул Пушкин, не дожидаясь разрешения председателя и обуреваемый жаром подлинного волнения.
Он быстро поднялся с дивана и выступил на середину комнаты, как бы готовясь держать ответ за свои слова. Николай Николаевич, не останавливая, внимательно и немного задумчиво глядел на него.
— Я хочу сказать, что все спасение наше в том–то и есть, чтобы все… чтобы все честные люди объединились в борьбе против правительства. Тайное общество необходимо! Что же мы можем сделать открыто? Тут говорилось, что все свободные общества вскоре будут у нас запрещены, — так тем более! — не значит ли это, что надо спешить и не откладывать нашего дела?
— Председатель спросил:
— Какого же именно дела?
— Какого? А все, что мы постановим ко благу России. И первое дело — освобожденье крестьян! Николай Николаевич! Полгода тому назад мы с вами вместе были в Екатеринославе, восстание там было ведь поголовное, и землепашцы жаждут свободы. Якушкин дал волю своим музыкантам. Что ж, хорошо: музыканту не надо земли. Но что делать пахарю?
Раевский по–прежнему его не останавливал, и, по мере того как Пушкин, все более разгораясь, стал развивать свои взгляды, выказывая не только горячность, но и сопоставляя состояние умов на Западе и у нас, противопоставляя народ и правителей, — слушатели начинали смотреть на него другими глазами и как раньше почти что забыли совсем про молодого поэта, так теперь думали только о нем. Не слишком ли легко они относились к нему, полагая, что он настоящий знаток только в поэзии?
— И если на Западе народы воюют с царями, то разве не тайные общества подготовили это движение? Разве не боевой клич карбонариев — «Мщение волку за угнетение агнца»?
— Ну, о царях и волках можно бы и потише, — лениво промолвил доселе дремавший на отдалении старший Давыдов.
— Вы угадали, Александр Львович, когда озаботились и о волках, — быстро отвечал ему Пушкин. — Но помните только, что ежели со свободою для землепашцев замедлится, то и волкам не сдобровать! Да я бы и сам…
Неизвестно, что еще в запальчивости добавил бы Пушкин, но тут и председательствующий поднял ладонь.
— Да я бы и сам, — повторил он за Пушкиным слово в слово и, чуть покачав головой, улыбнулся ему. — Да я бы и сам хотел сказать несколько слов. Не отрицаю: тайное общество было б полезно.
Все насторожились, услышав эти слова, а Раевский спокойно перечислил, обращаясь преимущественно к Якушкину, все те случаи, в которых тайное общество могло бы принести пользу, но, конечно, все это было не то, о чем мечталось заговорщикам. И, кроме того, за словами, произносимыми вслух, угадывалось и нечто еще другое. Якушкин понимал и это и оттого чувствовал себя не особенно ловко, словно бы Николай Николаевич ему говорил: «Вы испытываете меня. К чему это?» И Якушкин не выдержал.
— Но это вы с нами шутите, — воскликнул он, обращаясь к президенту собрания: столь ощутим ему был укор этого проницательного человека.
Наступила минута неловкого замешательства. Раевский глядел на Якушкина, предоставляя ему говорить дальше.
— Вы шутите, — повторил тот, несколько волнуясь, — и это легко доказать. Я предложу вам вопрос: если бы тайное общество существовало уже, вы–то, наверное, к нему не присоединились бы?
— А почему? — несколько сухо возразил Николай Николаевич. — Напротив.
— Ну, тогда дайте мне руку! — В ту же минуту, однако, почувствовал он, что зашел много дальше сравнительно с тем, как все это было задумано.
— Шутить, так шутить, вот вам моя рука, — ответил Раевский.
Тут сразу и все уже поняли, что надо кончать и лучше всего обернуть дело на шутку. Весь красный от смущения, под общие восклицания, Якушкин так и заявил:
— Вы правы… Ну, разумеется, все это было одной только шуткой.
— Что ты скажешь, — негромко обратился к Пушкину Александр Николаевич, сидевший рядом с ним на диване. — А ведь отец–то оказался умнее их всех.
Но Пушкин едва ли и слышал что–либо. Ему в эту минуту мало было дела до того, кто умнее кого. А вокруг все уже снова было мирно. Было серьезное, была также и шутка: все, как бывает на свете. Может быть, шутка сия и вышла немного неловко, но все же она кое–что прояснила. Якушкину очень хотелось, чтобы всем было смешно и смех этот покрыл бы собою его не слишком удавшуюся затею, он был еще очень молод, а молодость больше всего на свете боится попасть в неловкое положение, и он не заметил ни недовольно сведенных бровей Михаилы Орлова, ни закаменевшего взгляда Охотникова. Впрочем, и смеявшихся было довольно…
Так все и разошлись бы, и закончился б вечер веселым шампанским. Но и еще раз выступил Пушкин на середину большой этой комнаты.
Он был возбужден: и собственной речью, — когда волновался, казалось ему, он не умел говорить, — и особенно тем, что в последнем вопросе Якушкина уже было открылась ему — нет, не надежда, а полная вера: тайное общество есть! Все молодое и чистое, все, чем горяча готовая к подвигу юность, залило его существо. Наконец, наконец–то!..
Эта минута была для него совершенно особой минутою радости, близкой к восторгу. Вот открывается та долгожданная цель его жизни, которая и осветит все и все оправдает и которую ждал, чтоб открылась, — именно здесь. Так он наконец не один! И этот Якушкин… Он их подвергал испытанию и вот открывает всю правду! И вслед за тем непосредственно — вдруг — потрясение: нет! Ужели же — нет?
У него потемнело в глазах. Невольно он тронул пальцы: были они холодны.
Обида и горечь, смятение, гнев обуревали его. Он не хотел бы все еще верить, но и не верить нельзя. Какая же злая, жестокая шутка!
На голос его все обернулись. Стоял перед ними, — всем им отлично знакомый, веселый всегда, задорный и буйный, и острослов, и милый товарищ, и настоящий умница, как он себя сейчас показал, — стройный и маленький ростом Пушкин. Да он ли? Его не узнать: какой же трепещущий, бледный, испепеленный почти… и слезы блистают между ресниц.
Он вышел на середину комнаты и совсем негромко произнес несколько слов. Но прозвучали они в такой тишине, что доходили до самого сердца:
— Я никогда так не был несчастен, как несчастен сейчас. Я уже видел, как жизнь моя… какою могла она стать благородной. Я видел высокую цель перед собою. И все это… все это… Но какая же злая была ваша шутка!
И он выбежал вон, оставив своих старших друзей в смущенном молчании.
Глава девятая «ЗЛАТОВЕРХИЙ ГРАД»
Всякая буря находит свой покой и сменяется временною тишиной. Но жизнь не останавливается ни на одно мгновение, и тишина эта также исполнена своего движения, не видимого со стороны, а часто не полностью осознанного и изнутри. В такой тишине идет как бы «перегруппировка сил», возникают иные направления их, новые возможности.
Пушкин испытал большое внутреннее потрясение. Он обманулся, как обманывается река, находя в стремительном движении своем не беспредельный простор и не пригрезившийся за поворотом блестящий и шумный водопад, а глухую плотину, снежный обвал, о которых он слыхал на Кавказе. Но пусть волны отпрянули прочь, разбились на струи и струйки, завихрились водоворотами, — движение от этого стало сложней, а новые воды продолжают все прибывать, и напор свежих сил ищет путей и выхода.
Так и у Пушкина с отъездом Орлова, Раевских и других интересных гостей жизнь на поверхности стала очень тиха, напоминая тясминский пруд перед мельницей. Это была обыкновенная деревенская жизнь, строго размеренная и протекавшая от принятия пищи до следующего принятия пищи. Но за воротами барской усадьбы шла и другая деревенская жизнь — рабочая, трудовая. Пушкин был горожанином, но, может быть, как раз оттого особенно весело было ему слушать удары цепов, глядеть, как на ветру провеивается и падает полновесным зерном отлично уродившаяся пшеница, внимать скрипению колес и наблюдать медлительную поступь вола.
С народом не очень ему давали общаться. Одно дело выпить бокал за свободу за веселым пиршественным столом, и вовсе другое — следить за хозяйством и за доходами. Главным мастером на это был сам «герцог», Александр Львович. Тут и тучность ему не мешала, и сонливость не одолевала не вовремя. Он даже и брата, Василия Львовича, доброго и слабохарактерного по натуре, не очень–то допускал к кормилу правления.
И все же каждый день Пушкин наслаждался чудесно певучим народным говором, слушал песни и сказки: кое–что и записывал: «Глядите, брат брата на вилы поднял!» — говорили девчата, глядя на месяц. И они же ему объясняли, почему, например, зайца надо бояться: бог, видишь ли, создал всякую тварь, а про зайца забыл, а черт, не будь дурак, сам его вылепил, а из шерсти да из ветра хвост ему сплел; заяц обрадовался, что и про него вспомнили, с тех пор он у черта на службе «передовым», а уж черт за ним сам поспешает: «на девять локтей позади».
Насмешил однажды Пушкин даже самого «герцога». Войдя в столовую к чаю, он громко спросил его:
— Как это, Александр Львович, я слышал, вы говорите: «Прости мене, моя мила, що ты мене била»? Разве с вами это случается? — И он весело поглядел в сторону Аглаи Антоновны.
Пушкин это услышал только что, проходя мимо скотного, и приговорка эта показалась ему достойной Фонвизина. Александр Львович никогда так не выражался, но это очень хорошо отражало его супружеское положение. Все рассмеялись, а сам Давыдов поднял кверху жирный свой палец и погрозил им молодому человеку.
— О шалун!
И хоть и ревновал свою жену к Пушкину, но изречение это столь ему понравилось, что он ввел его в свой обиход.
Вообще в доме маленьких чувств было — хоть отбавляй: и Аглая Антоновна, в свою очередь, ревновала Пушкина к своей хорошенькой дочке. Но Пушкин Аделью искренно любовался. У них создались своеобразные отношения, и Александр обращался с нею не вовсе как с маленькой, что девочка очень ценила. У них происходили размолвки и примирения. Со стороны это могло показаться настоящим романом, в который однажды даже вмешался Якушкин.
Человек деревенский, в отношениях с женщинами скромный, неловкий, он пожалел бедную девочку, на которую поэт смотрел «так ужасно». Пушкина это весьма позабавило, и он ни в чем своего нового друга не стал разуверять.
Но, конечно, Адель была для него не просто ребенком, и разговоры они вели порой совершенно серьезные, хотя иногда и откровенно дурачились.
В Каменке было множество книг, и держались они без призора. Вот он идет по гостиной. Адель на диване. Возле нее лежит маленькая узкая книга, по переплету похожая на молитвенник, а на коленях покоится толстенное, фунтов в пятнадцать весом, французское издание «Девственницы» Вольтера. Пушкин уже знал эту книгу, отлично изданную в самый год французской революции.
— Что вы тут разглядываете, Адель! — воскликнул он не без ужаса.
— А вот посмотрите, что это у нее на груди? — сказала она, показывая на одну из гравюр, отлично исполненную, но едва ли не самую неприличную в книге. — По–моему, это маленькие домики. Как странно!
Пушкин взглянул на нее. Она была чиста, как подснежник.
Он вспомнил тотчас, что это мальчишка, погонщик мулов, и старый монах мечут кости на груди у Жанны, кому из них обладать ею, и вспомнил свои нехорошие мысли, которые неизвестно, как возникают, но, по счастью, только скользят и исчезают столь же мгновенно; он как–то подумал: вот и я предложу генералу Орлову метать со мной кости… И сейчас он покраснел перед этой девочкой — не от стыда, что она смотрит нечто совсем неподходящее, а оттого, что устыдился самого себя.
— Нет, это вовсе не домики, — сказал он, запинаясь, — это игральные кости.
— А зачем же они играют на ней?
— Потому что оба они грязные ослы и скверные люди! — И он взял у нее книгу и сам отнес ее в шкаф. — А это что за молитвенник?
— Вот уж совсем не молитвенник! Когда молитвенник читают, так не смеются. — И она тут же фыркнула. — Тут все смешно. Вы посмотрите: его угощают и накрыли стол. «Скоро явилась на нем, — стала она водить пальчиком по странице, — и треска с черным хлебом, который был старее и тверже лат нашего героя». Вы подумайте только: старее, чем латы! — тверже, чем латы! Да как он только себе зубов не сломал… А ему нипочем, все нипочем!
И она залилась звонким детским смехом, заражая и Пушкина.
— А посмотрите, как он лошадку свою окрестил. А лошадка была… Погодите… — И отыскала: — «Бедная кляча была не иное что, как живой скелет, но показалась герою нашему лучше Александрова Буцефала и Сидова Бабиесы. (Я этих не знаю!) Четыре дня думали, как бы назвать ее получше, и, правду сказать, не шутка выдумать имя, которому надлежало некогда греметь в мире и прославляться потомством! Наконец, думав, думав, наш рыцарь окрестил коня Рыжаком — имя, по его мнению, приятное, звонкое и многозначащее». «Думав, думав!» — передразнила она и, уронив «молитвенник» на колени, закрыла ладонями лицо и закачалась от смеха.
Пушкин уже отгадал, но все же взял в руки книгу. Конечно. «Дон Кишот ла Манхский. Сочинение Серванта. Переведено с Флорианова Французского Перевода В. Жуковским». И те же портреты — и самого Сервантеса, и Флориана, памятные с раннего детства и про которые он как–то спросил у дядюшки Василия Львовича: «Дядюшка, а почему Сервант Флориану усы сбрил?» Как не ценить такие минуты? Они, как окошечко, в которое заглянул и увидел большое чудо — самого себя маленьким…
И тут же думалось и о Жуковском. Как мило он Россинанта окрестил Рыжаком, чисто по–русски! И в предисловии — Пушкин уже и сам полистал узенький томик: «Остается желать мне, чтобы всё это нашли в моем переводе. Флориан». А дальше Жуковский добавил уже от себя: «Я мне тоже. Переводчик Флорианов». «О милый Василий Андреевич, о дорогой дон Базиль, как ты шалишь и как ты мил. Тебя хвалить, тебя порочить… (Я уже стал думать стихами…) — можно тебя и бранить, но не любить тебя нельзя». Пушкин был благодарен Адели за эти минуты. (А стихотворные эти строчки даже потом записал, но так и остались они легким наброском.)
Толстяк Александр Львович (для порядка и для важности написал именно он, как старший) обратился с письмом к Инзову, объясняющим, почему Пушкин так задержался в Каменке; Инзову на всякий случай пригодится эта «оправдательная бумажка»: «По позволению Вашего превосходительства А. С. Пушкин доселе гостит у нас, а с генералом Орловым намерен был возвратиться в Кишинев; но, простудившись очень сильно («Ничего, перо вывело, — громогласно провозгласил Александр Львович. — Гусиные перья, слава богу, все терпят!»), он до сих пор не в состоянии предпринять обратный путь. О чем долгом поставляю уведомить Ваше превосходительство и при том уверить, что, коль скоро Александр Сергеевич получит облегчение в своей болезни, не замедлит отправиться в Кишинев».
Письма ходили не быстро, и Пушкин шутил, что Инзов, верно, все еще не устроил его дела с предъявленным иском о взыскании старого и забытого долга, вот он и медлит. Но ответ все же пришел.
«До сего времени я был в опасении о г. Пушкине, — писал Инзов, — боясь, чтобы он, невзирая на жестокость бывших морозов с ветром и метелью, не отправился в путь и где–нибудь при неудобствах степных дорог не получил несчастия. Но, получив почтеннейшее письмо Ваше от 15 сего месяца, я спокоен и надеюсь, что Ваше превосходительство не позволит ему предпринять путь, поколе не получит укрепления в силах».
Пушкин готов был милого Ивана Никитича расцеловать.
Время здесь шло, а не летело. У Пушкина был полный досуг, и он не проводил его зря. В великолепной библиотеке Давыдовых он рылся часами, тут же порой и читая, не отходя и не присаживаясь, увлеченный какой–нибудь книгой, которую вынул лишь поглядеть.
О прошлом сих мест хранились еще и живые предания. Это при устье Тясмина, на потоке Желтые Воды, шедший из Запорожья Хмельницкий со своим восьмитысячным войском разбил поляков — впервые — в трехдневном кровопролитном бою. А затем загудело весенним потоком и все крестьянство Украины… В Каменке было много и книг по истории. На нижних полках шкафов, как правило, никогда не запиравшихся, свалены были различные документы, пахнувшие не только давнею пылью, но и живою историей. Все это вместе будило интерес к изучению украинского прошлого, тем привлекавшего особенно, что очень часто народ здесь сам выступал на арену, пытаясь взять судьбу свою в собственные хозяйские руки.
О знаменитом Игоревом походе он вспоминал на Дону, и вот перед ним четыре полновесные тома Татищева! «История Российская с самых древнейших времен, неусыпными трудами через тридцать лет собранная и описанная покойным тайным советником и астраханским губернатором. В. Н.Т.». Этот великолепный свод летописей, иные из которых теперь были уже утрачены, показался ему настоящим кладом и рядом с Карамзиным. Самое заглавие этого незаконченного труда, несколько громоздкое и причудливое, сочетание чина и должности со скромными инициалами — все привлекало внимание и к личной судьбе этого даровитого сподвижника Петра, попавшего потом в крутые переделки. Это Василий Львович порекомендовал ему поглядеть: там поминается и о Тясмине.
Но Пушкин напал и на неизвестные ему до того подробности о плене Игоря у половцев и о бегстве из плена. А ведь и самое «Слово» написано кем–то из соратников Игоря, и написано непременно в плену! — как это ясно! И непроизвольно мысли переходили к себе самому: и собственная ссылка его, также подобие плена, не может и не должна мешать ему быть тем, что он есть: поэтом! И если из плена шел голос, призывавший к борьбе, победе и единению, то разве не в этом и собственное его предназначение? Не в этом ли есть и обход мертвой его, глухой плотины, преградившей свободное течение вод?
И он уже веселее читал о том, как через пять лет после Игорева похода, утишив Русскую землю, Святослав вместе со сватом своим Рюриком и дружинами в лодках поехали вниз по Днепру — сюда вот, поблизости — к устью Тясмина, какое множество зверья наловили и весело как пировали.
Пушкин был молод еще для истории, но он ничего не забывал, и ежели семенам этим суждено было туго всходить, то тем крепче позже они обещали произрасти. История историей, но главные думы его сейчас о другом — о современном, история же только их подкрепляет, она дает ощущение жизни в движении, и она — бодрость очень крепит! Заминки, и неудачи, и поражения — мало ли их она знает, но она же гласит и о том, как эти обвалы, плотины рушатся под напором все прибывающих, живых, неиссякаемых вод…
Пушкин видел уже конец своего «Пленника», а мысли тянулись все с большею силой и к сюжету «Разбойников»: там, казалось ему, больше, вольнее можно сказать!
Книги были и в главном доме, и в маленьком сером домике с колоннами, стоявшем прямо в саду; там был и свой бильярд. Пушкин любил там работать в полном уединении. Иногда, прерывая писанье, он принимался ходить то стремительно быстро, крепко сжимая кисти рук и выкидывая их далеко перед собою, то очень медленно, ставя ступню раздельно — с каблука на носок — и сам весь как бы напружинившись. В одном из углов половицы скрипели, и тогда начинала звенеть маленькая люстра, как бы отзываясь на этот несколько жалобный звук. Пушкина это не раздражало, но он останавливался и, помедлив еще несколько мгновений, уже что–то безмолвно шепча, шел к бильярду, на котором ждал его прерванный черновик. Он растягивался во всю длину и начинал быстро набрасывать новые строки. И оторваться ему было уже очень трудно.
Василий Львович к нему был очень внимателен и порой запирал за ним двери, чтобы листки его, в беспорядке разбросанные, оставались в полной сохранности.
Не покидали Пушкина и воспоминания о Раевских.
Николай Николаевич, отбывая к себе, сказал ему очень ласково:
— Какой вы горячий! Ну да поэту, пожалуй, того и надобно. Приезжайте к нам в Киев, помянем былое. Николай будет очень вам рад.
Пушкин заволновался. Редко когда с ним так Раевский–отец говорил. И что значит — былое? Те ли рассказы его о войне и о мире, которые Александр так любил слушать, или «былое» — это уже их совместная жизнь и путешествия? И почему же ни слова все–таки о дочерях, а только о Николае?
О том памятном вечере ни с кем, а тем паче с самим Николаем Николаевичем, он не заговаривал. Орлов уезжал очень задумчивым, а Охотников был зато ясен, как морозное утро, и особенно крепко пожал руку Пушкину, как бы говоря: «Слова и прочее — это пустое, не обращайте внимания, главная сила в другом». Но он ничего этого не сказал, только обронил как бы мимоходом:
— А об этом адъютанте — помните? — я генералу докладывал, и он отношением запросил Сабанеева, как тот намерен с ним распорядиться за дискредитацию офицерского мундира. Будет буря!
Пушкин внял безмолвному совету Охотникова. Он и сам уже позже сообразил, что произошло нечто сложное, не вовсе понятное, но вернее всего, что тайное общество все–таки есть! Об адъютанте же… Вспомнив свой гнев и как тот от него ускользнул, порадовался за Орлова, что не махнул просто рукой, как сделал бы всякий другой генерал, хотя бы и из самых просвещенных. И вообще Орлов — молодец, молодец! И при этом для себя самого неприметно вздыхал.
О Екатерине Николаевне Александр старался не думать. Это порою и удавалось, но лишь потому, что между Раевскими — она была не одна… По вечерам любил он гулять вверх по Тясмину до того самого мыса, который ему напоминал небольшие приморские скалы Юрзуфа. Звезды всходили на потемневшем небе, и мечта рисовала ему полуденный берег и мирные вечера позднего лета. Вечер и море — это всегда было связано для него с Марией. Если солнце и день, и яркие краски, красная роза — вся эта царственная и недоступная красота, захватывающая дух и порождающая глубокое беспокойство, — если все это носило имя Екатерины, то вечерняя звезда, мир и покой — это Мария. И странно, он знал, что покоя–то именно и не было в беспокойной душе этой дорогой ему девочки, но для него был в ней покой.
Однажды Василий Львович, войдя с мороза розовый и оживленный, сказал, обращаясь к Пушкину:
— Уже передовых мы отправили. Целый обоз — овес и прочее. А мы что? Мы не девушки–вековушки, чтобы весь век коротать, слушая вьюгу да греясь в сугробах. Едем в стольный град Киев, мать городов русских — в твой «златоверхий град», а?
Он любил иногда выразиться так витиевато. И еще больше любил удивить какой–нибудь неожиданностью. Он и не подозревал, что Пушкин давно уже видит домашние приготовления, да только не хочет лишить его удовольствия преподнести «внезапный сюрприз», как он сам называл подобные вещи. Да мудрено было и не заметить — особливо на половине Аглаи Антоновны. Можно было подумать, что ни один полководец, пожалуй, так не готовится в дальний и трудный поход. Как облака, вздымались воланы и рюши гонимые ветром девичьей беготни через гостиную в спальню; доносилось глухое рычание замков в отпираемых и запираемых сундуках, бряцание ключей, щипцов для завивки, лязганье ножниц. Что–то непрестанно передвигалось, шилось, кроилось; возгласы, вздохи и смех. Адель оставалась на гувернанток и мамушек, и мысленно с нею Пушкин уже распрощался. Также не ехала в Киев и жена Василия Львовича — Александра Ивановна: она оставалась дома с крошечным первенцем Мишей.
— Видишь ли, Пушкин, — говорил между тем Василий Львович, — твой генерал наказал, чтобы тебе не позволено было предпринять дальний путь, но он разумел — в Кишинев, путь же в Киев, мы так полагаем, лишь укрепит твои силы.
Он был очень доволен своей маленькой речью, заранее заготовленной, и Пушкин не возражал против этой слабости старшего друга. Он заранее радовался новой поездке, свиданию с Раевскими и тому, что вот наконец–то увидит воспетый им город.
Женские сборы закончены, мужские недолги, возки стоят у крыльца, вьется поземка, зимний санный путь — самое русское, что только есть в нашей природе. Пушкину захотелось хоть немного проехать на козлах. Кучер с ним рядом подтянул рукавицы, крепко расправил плечи, тронул шапку и выхватил кнут на отлет, тройки рванули, бубенчики прянули в лад и залились, не умолкая, ветер и снег певуче к молодо забили в лицо, сугробы ложились направо, ложились налево, вешки мелькали по сторонам, приветствуя путников; мороз и тепло одновременно, а на сердце совсем горячо — путешествие в Киев!
Станционные домики были похожи один на другой, как полосатые дорожные версты. Только были они не полосаты, а ровно окрашены казенною желтою охрой. Дворы также все по одному образцу. В глубине вместительные конюшни, по сторонам — ямщицкая, склады, колодец посередь двора. Похоже на маленькую крепостцу: дом стоит крепко, как бы упершись поудобнее в землю; голые стебли подсолнечника торчат в свете факелов (вечер), как оружие, воткнутое в снег; и двор огорожен неплохо: столбы, а между столбами пролеты плотно забраны толстыми досками. Над крылечком с крепкой двустворчатой дверью и еще, совсем уже крошечные, глинобитные крепостцы — покинутые на зиму ласточкины гнезда — утешение дочек станционных смотрителей: нет смотрителя, не бывает такого, чтобы бог ему не послал скромную дочку с убранной лентой русой косой.
Так время от времени на почтовых станциях и подкреплялись, не ленясь в этом привычном занятии, в меру шумели, встречали знакомых, а с незнакомыми сводили знакомство; случалось, убаюканные ровною снежной дорогой, немного и подремывали, сидя откинувшись на спинку дивана.
Можно на волю и не выходить, на станции все предусмотрено, но Пушкин был любопытен, и двор интересовал его не менее чистых комнат. Он забегал и в ямщицкую, где прямо с порога шибало его густым жарким запахом свежего хлеба, овчины, ямщицкого пота. Круглая румяная стряпуха единым махом широченного фартука смахивала с дубового стола хлебные крошки, ногой поддавала под лавку чью–то раскиданную обувь: сапоги громыхали, а валенки прятались в тень, скользя и шурша. С полатей, увешанных полушубками и армяками, свешивались сивые бороды, зубы блестели в приветствии, и только глаза, сами себе хозяева, глядели порой то плутовато, а то и озорно. Две–три фигуры поднимались и с лавки. Тепло разморило, но любопытство не подвержено дреме: милости просим, но чего–де пожаловали?
А молодуха меж тем, то ли поворожив, то ли само по себе такое у них деется, уже отвела куда–то пальчиком зиму и цветет, словно маков цвет. А за окном воет метель, свищет в трубе, завывает на все голоса; а за столом, — минуло четверть часа, — забывши, что только что были себе на уме, тоже горячие лица, и бороды, не такие уж сивые, и разговор о том и о сем, но о «касающем»… разговор не плохой и горячительный. Молодой человек ничего не выспрашивал, а вот на поди — язык сам развязывался. Но и гостя послушать охота, и про свое, и про чужие края — будто сам там бывал. И краев таких не слыхивали, и городов. Что за город Неаполь, а вот поворочаешься теперь на полатях, как это там здорово будто бы принялись…
Пушкин как полный бокал вина выпивал. Ему эти вылазки (он сделал их две или три) давали дышать полною грудью.
— Где пропадали? — спросит его, зевая, старший Давыдов.
— А на звезды глядел на дворе.
— Какие же звезды? Метель!
— А это и есть те самые звезды, что на землю спускаются.
Из этой поездки, кроме таких вот станционных дворов, глубоко запала на память еще одна песня, которую пел молодой грустный ямщик.
Это была не разбойничья и не любовная песня, но было в ней что–то, что глубоко брало за душу. В коротких ее двустишиях (в пении вторая строка повторялась) была дана целая жизнь, оборванная в самом цветении молодости. И как это было дано лирически проникновенно и эпически строго! Строки были короткими, как коротка была самая жизнь, но напеву хотелось прощанием как бы продлить ее, погодить отлетать от родимой земли, помедлить, помедлить…
Iз–за гори снiжок летить,
А в долинi козак лежить.
Накрив oчi китайкою
I нiженьки нагайкою,
Що в головах ворон кряче,
А в нiженьках коник скаче.
И самая первая строчка мотивом своим, неспешным, реющим, как снежинка, над молчаливою снежною степью, уже давала тональность не горького горя, не спазмы, а тихого и музыкального разрешения. Вот глянула смерть в молодые очи, но сердце тепло еще бьется в груди, и песня его не покинула, а песня есть самая жизнь — до последней минуты… И ворон каркает уже в головах, но верный конь еще не допускает его. Беги, конь, по степи к батьке и к мати, донеси им последнюю вестку от сына…
Не стій, коню, надi мною,
Не бий менеш під собою,
Бо ти землi не добʼєшься,
З моря води не напʼєшься.
Бiжи, коню, дорогою
Степовою, широкою!
Як пiдбiжиш пiд батькiв двiр,
То вдаришся об частокiл…
Вийде батько, розсідлає,
Вийде мати розпитає:
— Ой, коню мiй вороненький,
А де ж мiй син молоденький?
— Не плач, мати, не журися,
Бо вже син твiй оженився,
Узяв coбi паняночку,
В чистiм полi земляночку.
Вiзьми, мати, пiску в жменю
Та й посієш на каменю,
Як той пiсок рясно зiйде,
Тодi син твiй з вiйська прийде…
Нема пicкy, нема сходу,
Нема сина iз походу,
Нема сина iз походу.
Мороз был несильный, но не зря говорят, что мороз выжимает слезинки. Песня была завершена, но мелодия долго еще реяла в воздухе, а кружения крупных неспешных снежинок, плавные и задумчивые, ее продолжали…
Пушкин невольно вздохнул и о себе: был молод и он, и был на чужой стороне, и хоть редко он вспоминал о родителях, но все ж и они как–никак были его батько и мати.
А между тем и самые образы песни: ворон, жаждущий крови богатыря, и верный друг воина — конь, как это все западало на сердце! А художник–поэт, никогда его не покидавший, следил между тем, как неразрывны слова и мелодия, как возникало, играя и переливаясь, это подлинное волшебство интонации. Да, бывает — стихи маршируют и бывает — живут своею особою, музыкальною жизнью. И никакого нажима, насилия в изгибах и поворотах не терпит живая стихотворная строчка: в ней чувство покорствует разуму доброю своею волей, а разум точно угадывает, что несет ему чувство и чем подарит его; подарки же многообразны, и в каждом из них чистое дыхание жизни.
Так и песня сама, и мысли, ею порожденные, не слишком отчетливые, но музыкально понятные, сливались в одно. Возок за возком плавно скользил по гладкой дороге, мягко полозья поскрипывали, чуть убаюкивая, и точно бы самое время стлалось одною бесконечной дорогой, а горизонт все убегал и убегал…
Но как зато ярко и бурно все взметнулось в душе, когда на ближайшей же станции, заглянув в неплотно притворенную дверь просторной ямщицкой, Пушкин увидел, как меланхолический его паренек, кинув под ноги грусть и задумчивость, лихо выделывал задорные коленца огненного трепака. Он носился по комнате рьяно, легко, весь отдаваясь порыву движения. Это было совсем неожиданно!
Горячей рукой Александр схватился за дверь, но не распахнул ее, не вошел. Что–то его удержало. Вероятно, боялся спугнуть, помешать этому празднику жизни, подобному ливню, грозе и блистающему через тучи богу живых. Здесь время не стлалось, — кипело. Да, для одной подобной минуты, пожалуй что, стоило затевать такую громоздкую вещь, как мироздание!
Не то чтобы думал так Пушкин, но ощущал именно так: смерть неизбежна, и лицемерием было бы замалчивать грусть, порою на нас набегающую, — но как надо всем этим победно–блистательно сияние жизни, ее торжество!
Веселый и легкий, приподнятый и сам, Пушкин ворвался на станцию и, как ветерок, веселыми восклицаниями разметал дремливые речи Давыдовых, располагавшихся не покой.
Киев открылся путникам на заре. Еще издали золотые купола церквей затеплились крупными талыми каплями над горизонтом. Морозная дымка лежала над городом, и долгое время ее прорезали лишь очертания, гористого берега и силуэты церквей, подобранных, легких, как бы подошедших к самому краю крутизны — навстречу молодому «поэту. Да и он сам не раз приподымался с сиденья, чтобы лучше схватить эту чудесную морозную панораму. Скоро, впрочем, ее закрыли леса. Со стороны васильковской дороги, где ехали путники, они стояли сплошным многоверстным заслоном.
Дорога в лесу была легче, чем в открытой степи, где непрерывно ветры ворошили сугробную летопись, и какая же была здесь краса! Могучие, устоявшиеся за долгую жизнь великаны дубы, с их дремучим узором ветвей, как бы серебряной чешуйчатой бронею, были одеты с головы до пят блистающим инеем. В лесу ехали тихо, и в тишине то здесь, то там возникал хрустальный прерывистый звон от падающих и рассыпающихся при падении комьев промерзлого хрупкого снега. Точно в разных местах поочередно, устав держать, разжимались древесные ладони и выпускали добычу на волю. Снег чудесно синел в глубине меж деревьев, испещренный тысячами крохотных птичьих лапок. Редкое чирикание совсем затихало при приближении троек, но птички ничуть не пугались, не улетали. Застыв на какой–нибудь веточке, узловатой, удобной, они живо посверкивали любопытствующими глазенками, слушая, как настоящие ценители, в тишине этот редкий в столь ранний час концерт бубенцов.
И городские строения стали мелькать меж стволов. Город и лес незаметно смешались в одно. Потом лес стал отставать, дорога поползла в гору. Множество церквей пришло в движение, с каждым поворотом дороги они как бы меняли места; ранний базар просыпался; как птицы, перелетали редкие человеческие голоса; хлопотливые хозяйки заботливо пустили над трубами дымы — как бы для красоты: каждому весело глядеть на картинке, как из трубы вьется дымок! Так простодушно, приветливо, легко и красиво расступался, к себе принимая желанного гостя, стольный град Киев.
Пушкина Раевские взяли к себе: так было условлено. С биением сердца переступил он порог милого дома, и встреча была хороша: пожатие теплой руки, ясные взгляды. Дом обширен, обжит, и у дома дыхание ровное, как у живого существа, здорового и спокойно–неторопливого.
Но дни побежали один вслед за другим, скорей, чем того бы хотелось. Было много людей, много движения. Однако же выпадали и тихие вечера, полные семейного тепла и уюта. Орлов вернулся уже из своей московской поездки. Можно было почувствовать, что все идет гладко, предложение, видимо, было принято. Он приходил каждый вечер, держался со всеми ровно и мягко. Но как блистали глаза его счастьем неудержимым, когда Пушкину довелось однажды увидеть его: в город поездка на маленьких санках вдвоем с Екатериною Николаевной.
День был ясный, морозный. Клубами пар вырывался из лошадиных ноздрей. Кони били копытами снег и прядали ушами. Орлов посадил свою спутницу, сам укутал ее, опустил и у ног подоткнул медвежью тяжелую полость, сел с другой стороны и ловким движением принял у казачка шелком расшитые вожжи. Лошади только и ждали этого, как струны первого касания смычка… Пушкин стоял у окна и видел все это, и видел мгновение, как взметнулись их гривы, а рука Екатерины в узкой перчатке непроизвольно схватилась за выгнутый локоть соседа: так сильно с места рванулась застоявшаяся пара вороных, окинутая голубою облачной сеткой. Так небожители, верно, низвергались с крутого Олимпа, но так по–раевски, так по–екатеринораевски был лукав и доверчив этот понятный — женский и человеческий — жест.
Пушкин видел и дальше, даже не видя глазами: дальше дорога бежала под липами, большими, по–зимнему строгими и лишь кое–где убранными маленькими коричневыми растопырками легких крылаток. Липы были стары и голы, но что из того? Старые липы сейчас — над быстрыми санками — цвели молодым, одуряющим цветом, дышали медовым теплом; так это и было, наверное, а чтобы в том убедиться совсем, достаточно было взглянуть на лица обоих, когда они возвратились. Нет, на земле ничего нет красивее счастливого человеческого лица! И Пушкин в эти особенные дни никак Орлова не трогал, не шутил над ним и не подсмеивался, лишь короткая боль порою пронизывала его сердце. Но почему же теперь именно его чувство так обострилось? Казалось, что все три сестры равно ему были милы, и вот он тоскует и не находит себе места, ревнуя не только за себя, но как бы и за всю семью, из которой так своевольно упархивает самая красивая птица.
Он сознавал, что могло бы показаться со стороны достаточно глупым: при чем тут семья, и притом чужая семья? Но именно эти понятия — своя и чужая — они–то и были неверные, лживые, а значит, не были они и умны: своя или чужая, но для него эта была семья настоящая, и это было дороже всего.
Пушкин следил за собой, и никто его треволнений не замечал, кроме только, быть может… самой Екатерины Николаевны. Невзирая на то особенное состояние, в котором пребывала она в эти дни, у нее хватало внимательности и на это. Большое того: казалось, ей нравилось, что своенравный поэт страдает из–за нее, и, может быть, рада была бы она прочесть те стихи, где он открывал для себя свое Опустошенное сердце:
Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты;
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.
Так, поздним хладом пораженный,
Как бури слышен зимний свист,
Один на ветке обнаженной
Трепещет запоздалый лист.
Да, тотчас после того, как они возвратились с этой прогулки, он вышел один и гулял по той самой дороге, где Михаил Федорович, как бы умыкая, катал Екатерину. Февраль. Как много раз и в разных местах видел он на деревах такой уцелевший, игралище ветра, осенний листок, глянувший в самую зиму. И вот сейчас, уже на исходе зимы, увидел опять этот одинокий лист осени, и это было то самое, что жаждало сказать о себе его собственное сердце.
Однако же стихов этих Екатерине Николаевне он не показал. Он даже решил не включать их в «Кавказского пленника», куда они должны были войти: ему еще больно было б увидеть их напечатанными, а гордость его возмущалась при мысли, что она непременно обо всем догадалась бы.
Но поэт есть поэт, и сердце его пустым быть не может, ибо пустота нема и мертва. И с особою теплотою он слушал более тихую музыку сердца. Всех тише и трогательнее в укладистом, прочном доме Раевских Дышала Елена. Как солнечный луч, неяркий, но ясный, возникала она в тишине, и на душе становилось светлей.
Крым не слишком пошел ей на пользу. Девушка часто покашливала, а после танцев, которые очень любила, клала руку на сердце и на минуту бледнела. Пушкин старался не думать теперь о кипарисе — «дереве смерти», но, глядя на нее, невольно думалось, как ненадолго дано ей — Беспечной, милой остротою Беседы наши оживлять И тихой, ясною душою Страдальца душу услаждать.
Ему казалось действительно, что, может быть, она одна из своей тишины видит и понимает его страдания: так была она с ним ровна и внимательно–ласкова… А Мария? О, Мария — это не было просто. У нее в душе свой, обособленный мир. Она никому и ничего не уступит. Разве что наоборот: всю себя отдаст целиком. G Мариею Пушкин общался неровно, урывками, но бывали минуты, когда и себя также готов был отдать ей целиком.
«Чего же я хочу? — иногда сам себя спрашивал Пушкин. И перед ним вставали образы моря и образ земли.
Когда по синеве морей
Зефир скользит и тихо веет
В ветрила гордых кораблей
И челны на волнах лелеет, —
Забот и дум слагая груз,
Тогда ленюсь я веселее —
И забываю песни муз:
Мне моря сладкий шум милее.
Когда же волны по брегам
Ревут, кипят и пеной плещут,
И гром гремит по небесам,
И молнии во мраке блещут,
Я удаляюсь от морей
В гостеприимные дубравы:
Земля мне кажется верней…
Так было, конечно, в Юрзуфе: мирное море души — гармония чувств и стихий, полнота бытия, не расколотого никакою тревогой. Как она щедро дается ребенку, и как скупо судьба дарит это взрослому! Но вот буря на море и гром, и человек убегает — на землю.
Здесь не было моря, море далеко, но разве не волны вскипают в душе, когда пробегают по жилам тревога и страсть? И также порою хотелось покоя, только покоя…
Казалось тогда, что не надо жалеть и о мимо идущих бурях и грозах. Тут невольно сливались и прошедшая мимо несостоявшаяся буря в Каменке, и состоявшаяся эта проходившая перед ним, но также мимо него, буря повышенных чувств. И, вероятно, не думал бы он об опасности, если бы сам был на челне и паруса были бы напружены восторгом и страстью! Но вот он глядит поневоле со стороны, а здесь на берегу, вокруг него, дышит семья мерным, спокойным дыханием, — то, чего он не знал ни в детстве своем, ни в беспорядочной юности: великая сила — земля, великая твердость — покой.
Время и чувства как бы обращались на самих себя, и он мучился, думал, писал — непризнанный член тайного общества, юнец, обойденный любовью красавицы. Так что же, уныние, слабость? О нет, это он презирал и на этом не стал бы мириться. Может быть, смутно чувствовал он, что метания внутри самого себя ничуть не похожи на силу и никак не равны отважным поступкам, а вот покой и раздумье, напротив того, — в свой час охраняют они именно силу души и ясность оценки и берегут, готовят для действия. Но все это было — не столько верная, взрослая мысль, сколько простой здоровый инстинкт.
Вечером часто сидели за круглым столом. Самовар отшумел. Лампа под абажуром очерчивает магический круг мира и тишины. Раевский–отец раскладывает долгий пасьянс. Вспоминают Юрзуф. Крестница генерала, Анна Ивановна, обратилась в настоящую Зару: осталась в Крыму. Смотрят на Александра, но он совершенно спокоен. «Вот и молодец! — думает он. — Стало быть, что–то в ней пробудилось от родного народа!» Что ж вспоминают еще? Тысячу разных вещей: как нашли кусочек закаменевшей смолы, а в нем крохотное насекомое, покоившееся как в саркофаге; как зелено–прозрачный, «русалочьего» цвета, большой богомол целый час сидел без движения, как бы подвесив свои узловатые страшные лапы и неустанно глазами следя за пробегавшими «мушками и таракашками»; и как рядом, невинно, прямо из камня, протекал ручеек; и как по утрам на гравии отступала роса в тень кипарисов…
Пушкин порылся в кармане и вынул… каштан!
— Как? Вы его сохранили? — воскликнула невольно Мария и зарозовела.
Как–то, шаля, они кидались каштанами, и Мария неловко попала ему около глаза. Она испугалась и подбежала спросить: не в самый ли глаз? Он немного помучил ее, а потом рассмеялся, что вовсе не в глаз. Эта значительность отрицания должна была явно сказать, что рана ему нанесена много глубже — в самое сердце… Все это было, конечно, детскою шуткой. Но вот… шутка запомнилась!
Пушкин смутился. Ему было приятно, что она помнит, но… каштан был не тот! Тот и не подумал он спрятать, и о нем вовсе забыл, и не вспомнил даже теперь, когда вынимал случайно им сохраненный «Полифемов» каштан. Как теперь быть? Но, по счастью, Мария, спросив, ответа не требовала и убежала на женскую половину, а через минуту вернулась, держа у груди какой–то, кажется кипарисовый, ящичек.
— А что я вам покажу, — сказала она с той особою интонацией, которая всегда трогала Пушкина. — Папа, можно?
Папа задумчиво кивнул головой, размышляя над стратегическим расположением королей и валетов.
Придвинулась ближе и Елена. Свет заиграл на отдельных выбившихся волосках склоненной ее головы. Мария была взволнована. Черные ее волосы, у пробора гладко расчесанные и плотно прилегавшие к коже, блестели. Она открыла ящичек, Пушкин увидел ряд небольших медальонов, покоившихся в вате, и тотчас догадался — он уже знал о их существовании: Николай Николаевич младший недавно подробно ему рассказал всю эту историю.
— Ты, может быть, слышал уже это от Батюшкова. Он был очевидцем. Они вместе бились под Лейпцигом. Направо, налево все было опрокинуто. Одни гренадеры стояли грудью. Отец, говорят, был мрачен, безмолвен, только горели глаза. И он вдруг побледнел и сказал: «Батюшков, посмотри, что у меня», взял его за руку и положил себе под плащ, а потом под мундир. Батюшков не сразу мог догадаться, чего он хочет. Тогда отец, оставив поводья, сам положил руку за пазуху, вынул ее и поглядел: рука была в крови. Он был ранен жестоко, а когда рану перевязывали, сказал с необыкновенною живостью:
Je n'ai plus rien du sang qui m'a donne la vie,
II a dans les combats coule pour la patrie.
Вся кровь, что жизнью мне дана была, — она
За родину в боях до капли отдана.
Ну вот. И конечно, не лег, а еще целую неделю не сходил с лошади и не покидал своих гренадеров. А потом сделали операцию и вынули из груди семь маленьких косточек. Дамы наши из них сделали себе медальоны на память. Только они их не надевают, да и редко кому показывают, — ты понимаешь это.
Пушкин все это помнил и очень хорошо понимал. Тем более был он тронут, что ему принесли показать семейную эту реликвию. И кто же? Мария, из всех самая внутренне гордая и умевшая, когда захочет того, держать от себя на расстоянии.
Косточки эти были частью живого человека, сидевшего здесь же, и когда–то были они его же кровью омыты, — кровью, пролитою в боях за родную страну, как об этом французскими стихами сам хорошо он сказал своему соратнику, русскому поэту.
И точно бы отгадал Николай Николаевич, что проносилось в эту минуту в голове у Пушкина. В наступившем молчании, которое, видимо, и привлекло его внимание, негромко он произнес, с едва заметной улыбкою глядя поверх разложенных карт:
— Что за судьба: все–то поэты на мои кости любуются! Ты чего это вздумала? Ведь сама–то ты тоже кость от кости моей…
Если б мог кто позволить себе сейчас пошутить, то, конечно, только он сам.
Утром в тот день Пушкин имел с Марией еще одну встречу — один на один в библиотеке, где нечаянно вместе сошлись.
— Хотите ли слушать стихи? — спросил он ее.
Она кивнула ему головой и полуприсела на подоконник.
— О Крыме?
— Вы угадали.
Пушкин обычно читал стихи только, когда просили его об этом, да и то не всегда. И то, что он сам захотел ей прочесть, было великою редкостью. Это значило, что он решил ей что–то сказать, в чем–то открыться, чего простыми, прямыми словами сделать бы он не решился. А это что ж… это были просто стихи!
И начал читать:
Редеет облаков летучая гряда,
Звезда печальная, вечерняя звезда!
Твой луч осеребрил увядшие равнины
И дремлющий залив, и черных скал вершины.
Люблю твой слабый свет в небесной вышине;
Он думы разбудил, уснувшие во мне,
Я помню твой восход, знакомое светило,
Над мирною страной, где все для сердца мило,
Где стройны тополи в долинах вознеслись,
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,
И сладостно шумят полуденные волны.
Там некогда в горах, сердечной думы полный,
Над морем я влачил задумчивую лень,
Когда на хижины сходила ночи тень —
И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.
При первой же строчке она высоко подняла голову и немного прищурила глаза, как если бы всматривалась в морскую и небесную даль. По лицу ее пробегали все оттенки чувств — от улыбки до строгой серьезности. Он кончил и ждал, что она скажет. Наконец она сделала непроизвольное движение рукой — по направлению к нему, — но и тотчас отвела руку назад.
— Нельзя это печатать… последние строчки… — чуть глуховато сказала она. — Нельзя… я не хочу…
Да, обоим им в эту минуту было что вспомнить, если воспоминанию подвластно что–то столь мимолетное, как касание ветерка, про что не знаешь, как и промолвить: было иль не было…
Пушкин почувствовал, как она взволновалась, и сделал было к ней неуверенный шаг. Но, подняв глаза, он увидел, что она уже полностью овладела собой.
— Дайте мне, я сама хочу посмотреть.
Мария взяла листок и внимательно, очень неспешно прочитала сама.
— Стихи хороши, — сказала она. — Спасибо вам за стихи! — И закончила совсем неожиданно: — Но какие они спокойные! Это значит, что в них или очень много, или со» всем ничего.
Тут пришлось и ему помолчать. Тогда Мария, как бы оставляя ему время подумать, отозвалась еще и по–иному:
— А самая лучшая строчка — первая строчка! — И она ее произнесла — раздельно, немного замедленно, как бы задерживая каждое отдельное слово и вкладывая в них какое–то особое, свое ощущение жизни, собственной жизни: — Редеет — облаков — летучая — гряда…
Больше он от нее ничего не услышал, она почти тотчас и ушла, оставив его и немного смущенного, и отчасти задетого, и очарованного. А надо всем стояли эти ее слова: «Или очень много, или совсем ничего». Так, пожалуй что, с ним никто еще не говорил.
И в этот день он даже немного ее избегал. Ни с чем и она к нему не обращалась. Но вот вечером, за лампою, у стола, после как будто незначащих, но милых обоим воспоминаний… ах, да, впрочем, еще этот каштан! Нет, нет, это неважно, это пустое! Разве и там, в Георгиевском монастыре, он не вспомнил о ней, когда в руке его затеплел этот гладкий холодноватый плод?.. Важно другое. Она ему принесла… Как это вышло: «Кость от кости…» Как если бы и сама себя принесла… Глупости!
Мысли его на минуту действительно, кажется, смешались.
Но ночью зато они были ясны, отчетливы. Пушкин ложился в тот день, думая не о Екатерине.
Не спится. Где–то на колокольне пробили мерно часы. Петух прокричал в городской ночной тишине. «Чего ж я хочу?» И какая Мария особенная. Она разная? Нет. Каким бы различным человек ни казался, на глубине он — один. А ежели трудно свести к одному, значит… глубина, значит, большая. Да, или — «очень много», или… «совсем ничего».
Мысли его теперь были очень ясны. Но ясность была только в вопросах. Ответ еще не рождался. Был только ответ о стихах. Это он чувствовал: как в них много вложил… не мыслей своих, а именно дум, самого себя. Об этом же, верно, и Мария сказала… Или она говорила о чем–то другом… о его чувстве к ней? И надо ли было читать?
Так не заснешь. Надо ли думать об этом? Быть может, все это только фантазия? Но, как ручеек, бегущий прямо из камня, в нем звонко, прозрачно и ясно шевельнулась нежданная, чистая радость.
И еще раз — как будто все основное, неизвестно как, само собою, светло стало на место, — еще раз подумал он, и по–серьезному очень, и немного по–детски: «А может быть, в ней, беспокойной, я и нашел бы покой!» А покой — это сила и крепость, и она не мешала бы, а помогала.
Он мог бы подумать еще и о ней, быть может, вот так: в нем, беспокойном, нашла бы покой и она! Но эта вторая мысль к Пушкину в эту его раздумчивую ночь так и не пришла… Он потянулся — мгновение одно — и тотчас же уснул.
И только в самые последние секунды перед сном услышал внизу шум, падение вещей и громкий чей–то, знакомый, только не вспомнить, несколько хриплый, как бы простуженный голос, которому через немного часов было суждено его и разбудить.
Глава десятая КОНТРАКТЫ
Итак, Пушкин проснулся все от того же странного шума. Он хорошо различал осторожный, остерегающий шепот Никиты, но все не мог отгадать ночного внезапного гостя. Тот также, видимо, сдерживался, чтобы не поднять на ноги весь дом, и все же порою голос его взвизгивал, как шашка, выхватываемая из ножен, и сразу возникало ощущение: не город уже и не дом, стены исчезли, распались во тьму… поле, метелица… свищет нагайка. Да что же, однако… да как не узнать? Это, конечно, Давыдов — Денис!
Александр быстро зажег свечу и потянул с кресла халат.
— Вот неожиданность! Да что ж ты, Никита? Впускай!
Дверь в комнату на ночь не была заперта, и под энергическим ударом тупого носка сапога она распахнулась настежь. Так распахнуть мог бы только рывок грозового ветра или какой–нибудь возникший из ночи гигант.
Этот гигант и возник на пороге. Он остановился, слегка колыхаясь в неверном свете далекой свечи. Вся его мощь как бы ушла в этот толчок, и он заметно искал равновесия. И гигант этот ростом был едва ли поболее Пушкина. Заросший и бравый, в ментике, откинутом за спину, кивер набекрень, лихой и пьяный смертельно. Волосы на висках ниспадали, крутясь, на бакенбарды; бакенбарды пушились, струились и прядали, подобно горным ручьям, в клокастую бороду, кипевшую из–под шеи бурным прибоем; и как рыбацкий челнок, потрепанный бурею, но, однако ж, совсем потонуть не желавший, выглядывал из этого хаоса маленький, с пережабинкой нос, а по сторонам его двумя пикообразными утесами угрожающе вздымались усы…. Это — Давыдов!
Денис Васильевич издали протянул Пушкину руку.
— То–то, что ноги не слушаются… Где у тебя тут диван?
Кончиками пальцев побарабанил он голову и продекламировал, к удивлению твердо и трезво, поблескивая с хитрецой своими живыми зеленоватыми глазками:
Коль право ты имеешь управляться,
То мы имеем право спотыкаться!
И, принагнувшись, он крепко потер занемевшую ляжку.
— Денис Васильевич! Да откуда ты взялся? Ты точно с поля сражения.
— А так оно отчасти и есть… Но ты помнишь ли, чьи это стихи? Ежели помнишь, так поди же меня поцелуй!
Но Александр, несколько неловко, от изумления, замешкавшийся с халатом, едва успел сделать к нему движение, как тот сам, преодолев наконец накатившую на него мороку, легко, почти подскочив, побежал через комнату, Пушкину навстречу, и с размаху они, обнялись.
— И ты мог поверить, что я… Всего–то ведь две–три бутылки! А я часа уже два, как прибыл сюда. Я должен был бы к Давыдовым, я там всегда… Да они, видишь ли, дом переменили. Не стал искать и — сюда! Вещи свалил — и в ресторацию. Чего же мне дом будить? А проголодался.
— Так это тоже был ты! Я как раз засыпал и слышал, как брякнули вещи.
Давыдов глядел на него, словно бы что припоминая.
— Ага! Ты говоришь, как после сражения?
Он сел на диван и по–солдатски, работая одними ногами, стянул сапоги.
— Трубочку дашь?
И, скинув верхнее платье, прилег на диван, высоко вздыбив подушки.
— Эх, хорошо! Точно хороший стог сена… Так слушай. Там капиташка один… встрелся. Ну, попросил позволения присесть. Вижу — усы уже мокрые, хочет еще покупать. Что же, купай! Пожалуйста! Выпили. То да се, разговор. И что–то он помянул Багратиона. А ты знаешь, я князя Петра Ивановича… вот где ношу — под сердцем. Он у меня тут живой! И как он произнес это драгоценное имя, я встал. А он что же? Сидит и таращится на меня, не понимает. Я командую: «Встать!» Так, знаешь, рявкнул, что стекло на столе зазвенело. А он, будто каменный идол, совсем ошалел. Сидит и таращится. Ну, тогда я его поднял!
И Давыдов показал у затылка, как именно поднял, а затем, уже вовсе без слов, одними лишь жестами, столь живописно изобразил, как отшвырнул капиташку он в угол, что Пушкин не мог удержаться от веселого хохота; даже мурашки у него по спине пробежали.
Было похоже на правду. Верилось.
— Что же — дуэль? Ты пришел меня звать секундантом?
— Прежде всего я пришел тебя, видишь ли, поцеловать. А дуэль? Какая ж дуэль? Он извинился. И мотивы его… не лишены были веса. Еще до того, как подсел, у него уже было, как оказалось, довольно… — И Денис Васильевич легонько щелкнул себя пальцем по шее. — Было уже, как оказалось, полдюжины. Я точно проверил. Ему было просто трудно подняться. Плюнул. Простил.
И, вспомнив опять (а может быть, и не забывал), спросил еще раз:
— Так чьи ж те стихи?
Александр улыбнулся его авторской слабости и, вместо ответа, повторил и продолжил:
Коль право ты имеешь управляться,
То мы имеем право спотыкаться,
И можем иногда, споткнувшись, — как же быть, —
Твое величество об камень расшибить!
Денис Васильевич был очень доволен. Отложив трубку в сторону, он с задумчивостью покрутил ус.
— Да… Но одно слово ты все ж таки запамятовал. У меня нет «величества», у меня только «могущество».
— А думал ты разве не о величестве? — смеясь, спросил Александр, и по смеху его было ясно, что словечко–то переменил он нарочно.
— Мне и за «могущество» мылили голову предовольно.
— И один клок выстирали, говорят, добела, да что–то не видно.
— Смотри, другому бы я не спустил, — отозвался Давыдов, двинув бровями, и, вытянув губы в тоненькую трубочку, подул в них: так он делал всегда, «выдувая» из себя зародившееся в нем недовольство.
Давыдова за басни его перевели из гвардии в армию, а прядь волос на его голове была седа с самой юности, но он старательно ее красил. Такова была слабость у этого отважного крепыша. И, вспоминая что–либо, он не отказывал себе в удовольствии скинуть с плеч годика два–три.
— Я потому так сказал, что она очень бы к тебе шла, — примирительно произнес Пушкин. — «Анакреон под доломаном», и притом с белой прядью — красиво!
— А ты помнишь и это! — опять оживился Денис.
— Я помню все, и как ты отмечен в парнасском Адрес–каландаре у Воейкова: «Действительный поэт, генерал–адъютант Аполлона при переписке Вакха с Венерой».
— О, покоритель Индии — Бахус, иль Вакх, или, иначе, тёзка мой Дионис, это действительно, но вот по части Венеры… Ты знаешь, я ведь недавно женился.
— А все же крутишь свои стихи, как усы, или усы, как стихи.
— Ты угадал. Я поэт не по рифмам и стопам, я по чувству поэт. И за рюмкой стихи мои, и, бывало, налеты в чернильную непроглядную темь с горстью моих удальцов — все это одно. И ты понимаешь. А я люблю, когда понимают. А, впрочем, пока еще не забелело в окне… Это девиз мой: «Во многоглаголании несть спасения!» Спать!
Но еще часа два говорили, да и девиз повторялся несколько раз. Говорили они обо многом. Давыдов хвалил «Руслана», а Пушкин признался, что он многим обязан ему.
— Ты стихами своими дал мне почувствовать, что можно быть оригинальным!
— А я, когда тебе было, верно, годика три, твою судьбу предсказал. Знаешь ты это?
— Какую судьбу?
— А сегодняшнюю. Не помнишь такого: царь осудил вельможу на казнь — «за правду колкую, за истину святую». А тот отвечал ему басней…
— О реке и о зеркале. Помню. Зеркало можно разбить, а в реке уродства своего не избудешь! Монарха речь сия так сильно убедила, Что он велел ему и жизнь, и волю дать… Постойте, виноват! — велел… сослать, А то бы эта быль на басню походила.
— Так вот, Пушкин. Это и есть твоя быль… А Аглая Антоновна как? Цветет, как чайная роза? По–прежнему?
Пушкин знал об этом давнем увлечении Давыдова женою двоюродного брата — толстяка Александра Львовича. Тут бы, пожалуй, он мог кое о чем и распространиться, но он боялся каким–нибудь колким замечанием обидеть Дениса Васильевича, всегда сохранявшего по отношению к дамам из общества рыцарскую деликатность.
Так они перескакивали с темы на тему, пока, как бы завершая некий круг, Денис не напал опять на своего «капиташку». Видимо, тот, как кость, оцарапал его горло, им как–то першило и хотелось поскорей его из себя «выговорить».
— Да, ты знаешь, этот сосун–то… Разговорились потом: я хорошо его протрезвил! Был он, оказывается, под Рущуком, в чине прапорщика, когда этот наш «ай да» Каменский, сменивший Багратиона, вздумал кинуть пыль в глаза. И, представь, он Каменского чтит. А? Дурак! Ну, я и напомнил ему, как сей полководец послал Башнягу–аге сказать, что–де я пришел с армиею и даю три часа на решение — сдаваться или держаться, а тот отвечал, что поздравляет его с приездом, может даже и ворота открыть и встретить его достойным родом в самой крепости Рущуке, но только молит всевышнего, да приосенит он покровом своим всесильное российское воинство! И положили мы восемь тысяч под Рущуком, а Рущука Каменский не взял… Таких–то не чтят! Да коли бы стоя шел разговор, я бы этому вислоухому скомандовал: «Сесть!»
Это и было последнею вспышкой и подлинной страсти, и многоглаголания. Молодецкий заезд был закончен. Давыдова, как иногда, бывало, в седле, покачивал не хмель, а батюшка–сон.
— А то еще было… — заговорил он, зевая. — В тех же краях, как мы с Николаем Николаевичем.» Речка и горы… то есть не горы, а лес… и надо мне… Что это надо мае…
И покачнулся, завел глаза и уронил руки, чуть шевельнул усом (должно быть, улыбка), сделал маленький ротик и прошептал:
— Знаю, что: мне надо… спать. — И «спать» говорил уже, кажется, спящий.
Так сразу гигант превратился в ребенка; лихого рубаку можно было взять на руки и отнести на какое–нибудь более удобное ложе. Члены его так и остались раскинуты, точно каждый из них заснул сам по себе, ничто их не связывало. Сон был мгновенный и оглушительный. И только немного спустя возникло как будто некое ощущение единства спящего «я». Ноги одна к другой подтянулись, корпус тоже лег набок, рука потянулась к щеке и под щеку, ноздри пошевелились, ротик открылся свистулькой, и вдруг могучий храп сотряс воздух, как если бы не человек захрапел, а боевой казацкий конь. А лицо у Дениса Васильевича стало доброе–доброе, детское.
Пушкин больше уже не ложился. Скоро и свет снеговою бледной полоской глянул в окно. Спать не хотелось ничуть. Словно он в полные горсти набрал именно снега из сугроба и растер им лицо. Думы остались. Но свежий и молодой веял воздух в душе. Давно забытая хорошая беззаботность подувала в груди. И впереди был день, солнце, люди, мороз. И хорошо, что много и солнца, и человеческих глаз.
В комнате было накурено, вещи разбросаны в беспорядке, посвист и храп, но хорошо было в комнате, было свежо, и пахло в ней молодым, крепким снегом.
Киевом Пушкин очень интересовался, и Киев его пленял. Пленял и своей красотой, могучим Днепром, закованным в латы зимы, крутыми горами, вековыми дубами и липами, и красавицей тополью, как тут называли нежно — по–женски; вольным размахом простора, широкими улицами, убегавшими прямо в леса или в степь, опрятными домиками, причудливо щедро рассыпавшимися по откосам, множеством кузниц, заводов — кирпичных, кожевенных, разнообразием лавок, собранных как бы в могучую горсть гостиных дворов — два на Подоле и один на Печерске; своею веселой и подвижною толпой, переливавшейся с горки на горку с одинаковой легкостью — вверх или вниз; и он так привык: «Не знаю, как теперь буду ходить по ровному месту, совсем разучился!»
И был еще Киев другой, среди оживления, говора, шума хранивший в своей многовековой тишине внятную музыку прошлого. В этих соборах и колокольнях как бы отлито самое время: древняя Русь, истоки истоков.
Пушкин как будто везде побывал; постоянным его чичероне в этих прогулках был Николай Раевский, отлично знавший всю старину.
Уже весенний просторный ветер плыл с далекого горизонта над могилой убитого князя Аскольда, который бог весть и был ли когда, но при котором, по преданию народному, впервые Русь нажила себе славное имя в истории.
Это–то было, что двести парусных лодок оказались внезапно у стен Царьграда, на воротах которого попозже Олег прибил свой щит победителя. И этот обрыв с крутыми уступами, и самая даль, и Черторой, неустанно роющий Днепр и уже сейчас поломавший свою ледяную броню, — все это было уже и тогда. И на исходе зимы так же звенел в кустарнике ветер, качая и руша сосульки на тоненьких ветках шиповника.
Там еще до приезда Давыдова Пушкину вспомнился раз поэт–партизан, как он однажды, по обычаю и для начала назвав дураками целый ряд видных сановников, которые равнодушно молчат о двенадцатом годе, внезапно родил такое словечко о них: «Они как беззаботные аисты на развалинах Трои». Пушкин весело усмехнулся и, положив на плечо. Николаю руку в перчатке, шутливо позвал:
— Ну, небеззаботный мой аист, куда пойдем дальше? И направились в лавру. Дорогою Пушкин фантазировал:
— Аскольд был, наверно, не Аскольд, а норвежский скальд, и сам про себя все сочинил. Так сказал он: «Да будет!» И стало по слову его.
— Ты заговорил слогом библии.
— У библии слог крепкий, прямой. Подожди, я еще напишу на библейскую тему!
На лаврском дворе были тучи народа: богомольцы и богомолки, послушники, продававшие разные чудотворные вещицы, убогие, открывавшие свои уродства и язвы и собиравшие в деревянные чашки тяжелые пятаки, размером и тяжестью не уступавшие «государственной российской монете» — рублю, предмету всех вожделений; гнусавыми голосами пели псалмы и стихиры, а тут же рядом бойко покрикивали молодицы в платочках: «Подсолнуш–ка–а-ав! Подсолнушка–а–ав!» Были и сбитенщики, но этих на двор не пускали, и стояли они у ворот: розовые, ладные, в поддевках, волосы в кружок, а шеи докрасна выскоблены острым ножом: прямо–таки ярославские, а не то костромские посадские. Тут торговали и городским красным товаром, и исконными тканями коренной Украины: петухи так орали на добротном полотне полотенец, что говорить хотелось невольно погромче, а то тебя и не расслышат.
В пещерах зато была духота, тишина, шарканье ног, шепот молитвы, мироточивые главы, нагар на свечах. Тут долго нельзя было оставаться. На кладбище постояли они над могилок» Искры и Кочубея. Пушкин списал и старинные стихи, высеченные над их гробом, и прозаическую надпись: «Року 1708 июля 15 дня, посечены средь обозу войскового за Белою Церковию на Борщаговце и Ковшевом благородный Василий Кочубей, судья генеральный; Иоанн Искра, полковник полтавский. Привезены же тела кх июля 17 в Киев и того же дня в обители святой Печерской на сем месте погребены».
Историю украинского народа? Может быть. А может быть, и поэму, поэму об Украине. И не сказку уже, а живую — страшную и прекрасную — жизнь…
— Пойдем, я еще тебе покажу… Это мало кто знает, мало кто смотрит.
И Николай, у кого–то добыв разрешение, повел его по ступенькам в маленькую изящную церковь, расположившуюся над входными воротами лавры.
За дверями еще, загибаясь, шла лестница. И это действительно было чудесно — то, что на стенах.
— Псалом сто пятидесятый, — сказал Николай. — «Всякое дыхание да хвалит господа!»
По стенам, несколько затуманенные и смазанные временем, между гор, деревьев, потоков с мостками, шествовали в рай отдельные группы: святые жены, преподобные, девственники. На земле и в воде — звери и птицы: одногорбый верблюд, крохотный слон с ушами, вырезанными фестончиками, ростом с павлина, и рядом павлин, равный ростом слону, с цветистым хвостом и коронкой на голове, собака на тоненьких ножках, с острыми ушами и крысиною мордочкой, обезьяны и раки, страусы, лебеди, голуби, гусь, и тут же в волнах — сирены, русалки и все шествуют в рай: всякое дыхание да хвалит господа! А краски? Одежды горят цветными узорами, а святые жены не уступят и дородностью и пышным румянцем тем самым киевлянкам на улицах, с прабабушек которых их рисовали когда–то молодые и простодушные лаврские послушники–ученики.
Пушкин был очарован. Он очень смеялся, смехом своим отдавая должную дань наивно–языческому вдохновению на христианский сюжет. «И мне б написать нечто библейское!»
Так и теперь… Раннее утро, Давыдов уснул, в доме никто еще не просыпался, а уже с улицы слышно: нет–нет да и проскрипит под чьею–то легкою, спешной ногою снежок, — так и теперь захотелось ему выйти на волю. Редкий, негромкий, как бы только для посвященных, утренний звон призывал прихожан к ранней обедне. Пушкин не был еще у Софии. Надо пойти!
— Да ты с ума, кажется, друг мой, сошел, — говорил, протирая глаза, сонный Раевский; Пушкин безжалостно его разбудил.
— Ну, Николай, голубчик, пойдем! Как же мне без тебя?
— Да у тебя там свидание, что ли?
— Вроде того! — Пушкин смеялся. — Хочу очиститься от скверны и подышать горным воздухом.
На улице было зябко, легко, хорошо. Встать и пойти к ранней обедне — необычайно!
— Скоро мне уезжать. А я еще не видал. А святую Софию нельзя обижать…
В обширном и несколько мрачном храме народу было не много. Но иконостас был залит огнями, а в самом верху темнел суровый Христос со смоляной бородою. Тяжелая масса воздуха полнила храм, и песнопения были сумрачны, важны. Каждый шаг по каменным плитам давал глухой и замирающий отзвук в углах.
Николай провел Пушкина поглядеть саркофаг Ярослава. От кого–то он слышал, что и теперь в Карпатах гуцулы ставят такие же с двускатного крышею скрыни. Саркофаг был изукрашен высеченными на нем изображениями: кресты с греческими буквами, звезды в кругах, символические рыбы, растения, птицы у гнезд. Все это мраморное сооружение походило немного на дом, украшенный и приспособленный для житья покойника. Небольшие углубления напоминали даже оконца, откуда он мог бы полусощуренным оком поглядывать в мир, да и на него самого можно было б взглянуть…
Но и весь храм, когда–то исполненный жизни, горячий участник событий, отчасти и сам теперь походил на гробницу. Стоило ли и идти? Николай прав: в этакую рань можно было бежать разве что на свидание…
Но неожиданно «свидание» все ж состоялось. Озирая иконостас и колонны, Пушкин вдруг увидал чудесную мозаику — дева Мария. Она была не с младенцем, не приснодева, а подлинная земная девушка. Она занималась работою, пряла: в одной руке кудель, в другой нить, на нити веретено. Она приостановилась, глядит… А на другой стороне арки — архангел Гавриил шагает в сандалиях, шаг размашист, широк.
— В руках его посох, — поясняет Николай. — Это символ всех путников, всех посланцев во имя божие.
Пушкин, не отрываясь, глядит на Гавриила.
— Я тоже путник, — говорит он с усмешкой, — и я поэт, следственно тоже посланец богов. Только это не посох, — ты приглядись.
Действительно, посох кажется больше похожим на огромный стебель лилии, только почему же он красный? А над пальцами правой руки, средним и указательным, поднятыми вверх, действительно не столько крест, венчающий жезл, сколько венчик цветка. Однако же стебель вверху пламенеет гранатовыми цветными пятнами между белых звездочек–лепестков. Посланец небес только ступил на милую грешную землю, как уже горячий огонь обжег его внезапною страстью. И тот же огонь уже зажег пряжу Марии: кудель, нить, веретено.
Они еще не близки, но видят друг друга. Пространство их разделяет, и это пространство полно пламенеющим морем свечей, и каждая свеча — как открытое горящее сердце. И внезапно в хоре стал различим раньше терявшийся между других молодой женский голос, и в нем была вся полнота цветущей, ликующей жизни. Это было чудесно, как если бы солнце раздвинуло своды и засияло на вышине.
И библия, и Парни, и Вольтер вдруг отступили куда–то в сознании, а взамен того — эта мозаика в храме, сквозь бледные краски которой пурпуром глянуло солнце язычества, да и не язычества… а солнце земли, на ней творящее жизнь, и это потрескивание горящих свечей, и мреющий воздух над ними, — все это заколыхалось в Пушкине в каком–то внезапном, поэтически ясном, озорном и чистом одновременно — в замысле? Нет еще… Но в предчувствии — да. И воспринималось все это не как христианский миф, над которым отчего бы и не посмеяться, — нет, это был как бы кусочек земной, по–южному страстной действительной жизни. А если и миф, то уже вовсе не христианский, — дышал он, конечно, Элладой: схождением на землю богов, увлеченных земной красотой.
В этом свете огней, усиленном еще и отсветом, идущим от пышных царских врат, позолоченных богато, украшенных выпуклою растительной орнаментикой, и лицо самого Пушкина, со сжатыми губами и немигающим взором, как бы мерцало — в ладу и соответствии с возникавшим в душе скрытым волнением, то затихавшим, то вновь разгоравшимся. От Николая, стоявшего рядом, ничто не укрылось: дружба внимательна, а таким Александра в минуту его вдохновения он еще никогда не видал.
— Да что ты? — спросил он тихонько. — А ведь и вер» но: ты сам… ты и сам ведь сейчас походишь на Гавриила.
Пушкин даже не усмехнулся и отвечал очень коротко:
— Пожалуй, пойдем.
Так и случилось, что в это утро в нем проросло новое детище — «Гавриилиада», — зачатое в Киеве, осуществленное потом в Кишиневе.
Денис все еще спал, когда Пушкин вернулся. О нем уже приходили справляться, но велено было не тревожить.
Проходя к себе, Александр встретил Аглаю Антоновну. Она никогда так рано у Раевских не появлялась. Молодая женщина, в утреннем туалете, была душиста, свежа, как всегда. «Вот бессмертная Ева, — подумалось ему, — которая со змием никак не раздружилась». И ведь рада, конечно, что Денис без жены…
— А какой это поэт, — спросил он весело вслух, — и о ком, не припомните ли, вздохнул, кажется, так:
Сколько пленников скитается,
Сколько презренных терзается
Вкруг обители красавицы!
Аглая Антоновна отвечала довольной улыбкой и, невзирая на утренний час, потянулась к столику за пахитоской.
— Скитались когда–то, — с притворною скромностью возразила она и даже опустила ресницы. — А теперь, кажется, спят и не могут проснуться, А вот вы, говорят, рано встали и уходили. Куда?
Тут она подняла на него серые с точками желтоватых огоньков, «пестрые», как однажды Пушкин их окрестил, странные, но очень красивые глаза.
— Я был на свидании.
— А! Ну, конечно… А когда же молодой поэт мне напишет пиесу? Про–щаль–ную, — протянула она.
— Он ее обдумывает, — ответствовал Пушкин и ухмыльнулся при этом довольно выразительно.
«Так напишу, что тебе, матушка, не поздоровится», — подумал он про себя с минутною злостью. Впрочем, по правде сказать, это его раздражение было направлено не только на нее, но и на себя. Чем эта женщина так чаровала? А чаровала действительно всех.
Он знал оба стихотворения Дениса Давыдова, посвященные им бывшей герцогине, а ныне действительной русской помещице, и второе из них очень ему нравилось. Вернувшись к себе и будучи в настроении приподнятом, он наклонился над спящим поэтом и не очень даже громко над ним произнес:
Не пробуждай, не пробуждай
Моих безумств и исступлений,
И мимолетных сновидений
Не возвращай, не возвращай!
Негромко, но все же прочел с невольною страстью, которая почти что рыдала в этих коротких строках.
Весьма вероятно, что сон Дениса Васильевича не был бы прерван даже и пушечным выстрелом, но эти короткие строки заставили его быстро вскочить.
— А где она? — спросил он, моргая глазами и ошалев от внезапного пробуждения. — Или это ты за нее?
— Это я — за тебя.
Не воскрешай, не воскрешай
Меня забывшие напасти!
Дай отдохнуть тревогам страсти
И ран живых не раздражай!
Через четверть часа, по–военному быстро, Денис Васильевич был совершенно готов, чтобы сойти к столу.
По дороге он брал Пушкина за локоть и, щекоча усом, говорил ему на ухо, все так же, хоть и тихо, то похрипывая, то подвизгивая:
— Это, брат, минуло. Этого не воротить. Не поминай! А стихи, говоришь, хороши? Сердце писало.
День был чудесный; из–под застрех падала солнечная сияющая капель. В открытые форточки доносился веселый шум города.
Дениса Васильевича приветили ласково. После короткого завтрака решено было выехать всем на Подол — на Контракты. А уж потом пусть переселяется к Василию Львовичу.
Контракты давно уже шумели и пенились в городе, заливая Подол не хуже Днепра. На знаменитую ярмарку съезжались помещики на недельку, на две — потрясти здесь мошной, поторговать, покутить, поухаживать за актрисами. Приезжали издалека за сотни и тысячи верст, и сотни, а то и тысячи, платили за одно помещение. Город лился через край, по Московской, Никольской было трудно проехать из–за пешеходов, стремившихся все туда же — по улице Мостова (единственная мощеная улица) — на Подол — на Контрактовую площадь! И где только все размещались!
Денис Васильевич, не найдя ночью братьев Давыдовых, попробовал было приютиться в «Зеленой гостинице», где привык останавливаться, но там и в коридорах лежали. Предложили ему с извинениями матрасик возле конторки, он попросил указать точное место, где именно будет постелен матрасик, и очень точно плюнул на это самое место.
Аглая Антоновна в последние дни каждый вечер выезжала на концерты в контрактовый дом, а то и в театр. Там была русская и украинская труппы. Театр был порядочный: два яруса лож, десятка четыре кресел, обитых красным сукном, партер для мужчин, амфитеатр и галерея.
Осенью этого года только что отпущенный на волю молодой актер Щепкин возьмет этот театр в аренду, а пока играл, будучи еще крепостным. Он про Пушкина слышал уже, но и подумать не мог, что тот в Киеве. Молодому поэту, опальному, приехавшему в Киев без разрешения, дружески посоветовал Николай Николаевич особенно широко не показываться.
— Вы знаете, кто здесь комендантом? Андрей Андреевич Аракчеев, брат Алексея Андреевича, столь горячо любимого вами. Это хотя и не такая взбесившаяся собака, но из той же породы.
Пушкин остался доволен этим определением Аракчеева и внял совету.
Театр, на фоне густого «Государева сада», был довольно красив. Четыре портика с вынесенными колоннами делали его похожим на помещичий дом. Несколько чугунных фонарей ждали сумерек, чтобы освещать цилиндры и дамские шляпки. Сейчас, когда мимо «его ехали шагом, Пушкину особенно понравились стоявшие слева два молодых тополька. В них была юность и стройность, задумчивость. Он обернулся к Марии, сидевшей в тех же санях. Сегодня она серьезность оставила дома, оживление блистало в ее темных глазах. Нечасто она выезжала, и блеск предвесеннего солнца, движение доставляли ей еще детскую радость. И она взглянула на Пушкина; оба они ничего не сказали. Достаточно взгляда.
Но и эти несказанные слова, — слова, не только что себя не нашедшие, но и не искавшие, — и как памятны они остаются.
На минуту Мария оказалась для глаза рядом с теми двумя топольками, и прозвенела, как бы сама собою, строка, и еще кусочек строки:
Как тополь киевских высот,
Она стройна…
Прозвенело, эхо внутри повторило — раз и другой, замирая, как бы укладывая в какие–то потайные складочки памяти до нужного часа; не надо и записи. Сейчас же — забыл. Это «сейчас» полно настоящим. Оно никогда не повторимо и всегда кратко. Минута — и уже легкая легла синева прошедшего времени. Но и об этом не думал. За него «думали»: дыхание, бег крови и чистая радость созерцаемой дали.
Даль, но и народ — справа и слева, впереди, позади. И вот наконец самый берег Днепра, синеватая ширь, волнение людское.
Великое торжище, или «торговище» по–старинному, раскинулось на огромной площади. Крупные здания ее окружали. Между ними был и мазепинский корпус Духовной академии. Пушкин кивнул ему, как знакомцу: там обучался в свое время и доктор Рудыковский, «презревший рясу для клизмы», как шутил над ним Пушкин.
Слева от входа в гостиный двор, украшенного четырьмя толстыми колоннами, располагались многочисленные шинки. Оттуда неслись звуки цимбал и гитары, пьяное пение и общий многоголосый рокот, не уступавший рокоту моря во время прибоя. Иногда на крылечке, под вывеской, изображающей, совсем по–средневековому, лебедя, или наседку, или медведя, показывался какой–нибудь разгулявшийся щеголь, спустивший в пьяном угаре за картами сюртук, и жилет, и часы, и цепочку от часов, и на цепочке брелоки; качало его — как ветром тростник, а провожали и вовсе не ласково: так разве что выкидывают в мусор пустую бутылку из–под пива.
Но что всего замечательней — жертва судьбы отдавался неизбежности, его ожидавшей, с полной покорностью, с какой–то почти философской улыбкой, в которой сквозило раздумье о несовершенном устройстве мироздания, где подобные неприятные происшествия повторяются с замечательным постоянством.
Слышалась речь украинская, русская, еврейская, польская; армяне и турки торговали восточными сладостями; в балаганах показывали ученых зверей, мартышек и попугаев; польские и итальянские купцы продавали бархат и шелк, и перед палатками их останавливались не только, паны, но и плечистые парни с извилистым чубом: ежели и не купит, то будет что порассказать! Площадь — это не в стенах, тут вольная воля: тут толкались бок о бок паны и евреи, шляхта, купцы и помещики, чиновники, цыгане, ксендзы и барышники.
Колонны контрактового дома, стены шинков и харчевен, заборы и рундуки пестрели афишами и объявлениями — о душистых мылах и чудодейственных красках, о концертах и операх, о водевилях.
Покидать веселую ярмарку положительно не хотелось. Подъезжали все новые сани, возки — с бумажными цветами на дугах, на сбруе; гривы коней были заплетены в крепкие косы и разукрашены лентами всевозможных цветов. Иногда это был целый поезд, сопровождаемый звуками фиглярских труб и литавр. Вот из кучи мальчишек запустили снежком в одного такого трубача, разодетого в пестрое платье с разводами. Подарок угодил прямо в разверстое горло трубы, она жалобно пискнула и замолчала. Тогда горло раскрыл сам арлекин, и завязалась веселая перебранка.
Раевские взирали на все это, не покидая саней. Но Пушкину усидеть было трудно, и его отпустили потолкаться в толпе. Он заглянул и в главное здание; там была не меньшая толкотня. В огромном зале внизу и по бокам от него одних торговых витрин и прилавков шло свыше двухсот. По стенам — галантерея, серебряные, бронзовые и стальные изделия. Блестели кинжалы, сервизы и зеркала. В два ряда посередине расположились шкафы и столы с книгами, русскими и иностранными, картинами и эстампами, фарфором и янтарем, статуэтками… Пушкин живо тут ощутил все неудобства, связанные с отсутствием денег. Ему оставалось одно — полюбоваться хотя бы на других.
Продав бураки или пшеницу, черноземный помещик открывал внутри у себя все отдушины. Два казачка следовали за ним по пятам. Один был с сумой, набитой деньгами, другой держал в каждой руке по корзине. За товары платили — сколько запрашивают. Один казачок доставал деньги и передавал их его степенству — купцу, а другой принимал драгоценный товар: часы, пестрые шали, тонкие выделки из кожи, фарфоровая пастушка, — какой–нибудь раритет, куний мех или гравюру.
Хорошенькие многоярусные сережки — миниатюрное подобие люстры — или золотой браслет в виде змеи с глазками из изумруда непосредственно передавались супруге, которая принимала их двумя пальцами, как если б брала из вазы печенье, а мизинчик, как хвост у птички–мухоловки, всегда при этом бывал отогнут несколько вверх. Точно так же прямо в жилет переходила к супругу изящная музыкальная табакерка с видом швейцарского домика над лесистым обрывом.
И все это вместе называлось «поправлением дел». Приехали поправлять дела!
С трудом оторвавшись от этого, зрелища, Пушкин поднялся наверх. Тут было уже подлинное «головокружение», то самое, которое именуется еще коротким словечком — «встряхнуться!» Эх, Дениса б сюда… Вся ресторация, как в облаках, утопала в винных парах, в клубах табачного дыма; ревела медь, пели скрипки. Певицы–итальянки дивили и нежили своею колоратурой, и не одному толстяку, верно, казалось, что горло его также ответно вибрировало и что, по правде сказать, он и сам себе соловей.
Но особый успех имели балетные номера, исполнявшиеся «испанскими танцовщицами из Мадрида,», и хотя те испанки и родились, и возросли, как это многим доподлинно было известно, не в стране апельсина и веера, а в тесных предместьях Варшавы, но они с таким огнем щелкали кастаньетами и вздымали радугу юбок, что не шалело лишь редкое сердце, а глаза застилало у всех.
Пушкин все это подбирал, как рассыпанный бисер, а на обратном пути рассыпал его снова, перемежая смехом и шутками.
Весело было и за обедом, к которому были приглашены и каменские Давыдовы. Денис Васильевич сам себя превзошел. Он вспоминал, как видел Наполеона в Тильзите, куда его, в качестве адъютанта, часто посылал князь Багратион.
— Станом таков, как на портретах. Стан его очень схватили. Но лицо не схватили никак. Наполеон — человек лица чистого, чуть смугловатого, с чертами весьма регулярными. Нос небольшой и прямой, горбинка еле приметна. Черные брови, ресницы, а глаза голубые. Это взору его придавало очарование. А ростом был мал: два аршина шесть вершков; я по себе точно размерил.
Все улыбнулись.
— А что же, необязательно быть великаном. Вот и мы с Пушкиным не велики, а между тем… между тем…
— Здоровье поэтов! — с улыбкою провозгласила Аглая Антоновна, и все дружно ее поддержали.
— А что вы скажете! — продолжал Денис, окончательно развеселившись. — Ежели дух несоразмерно велик с бренной его оболочкой, то ведь от одной тесноты — так и пышет, так вот и прыщет!
Посреди всеобщего оживления Пушкин поймал на себе пристальный взгляд Александра Раевского. Что он хочет сказать?
Пушкин не знал, что Михаил Федорович оставил за собою на съезде в Москве полную свободу действий, но знал уже, что Николай Николаевич склонялся принять формальное его предложение и почему–то лишь медлил с окончательным ответом. Теперь Пушкин, отвечая на взгляд Александра Раевского, глазами спросил: «Что ж, или уже предложение принято?» — и тот утвердительно кивнул головой.
Тем временем Николай Николаевич дал знак дворецкому. Появилось шампанское. Его разлили в бокалы, и тогда он поднялся с бокалом в руке. Он помолчал несколько мгновений, верно, не хотел, чтобы голос выдал его волнение, и лишь затем произнес решающий тост, спокойно и ровно, только несколько тихо, а это еще усилило значительность минуты.
— Я предлагаю, выпить за здоровье жениха и невесты! — И повел бокалом в сторону дочери и Михаила Федоровича, сидевших невдалеке от него.
Все встали. Денис Васильевич звонко провозгласил: «Ура!» Другие мужчины его поддержали. Жених поцеловал руку невесты. Родители Раевские поцеловали их обоих. Все встали и один за другим подходили к помолвленным с поздравлениями.
Пушкин знал. Пушкин ждал. И все–таки у него закружилась голова. Но он полностью овладел собою. Впрочем, Екатерине Николаевне было не до него. Обычная наблюдательность в эту минуту оставила и ее. У Орлова сияли глаза. Он крепко жал руки, и было видно, как душа его сейчас полна и открыта.
— Так–то когда–нибудь, брат, и ты… — тихо промолвил Денис — Это большая минута.
Пушкин хотел что–то сказать, но запнулся. Он почувствовал, как у него защекотало в глазах, потянул носом воздух и отвернулся.
Мария глядела на него издали, и рука ее, все еще державшая бокал, дрогнув, заколебалась. Она поспешно его поставила, чтобы не уронить. Пушкин ничего этого не видал.
Это было в первый день масленицы, а через два дня после того каменские Давыдовы собрались домой. На торжестве семейном они побывали, дома ждала их мать, Адель и жена Василия Львовича, оставшаяся с крохотным своим первенцем. Да и Киевом — шумом, вином, увеселениями — все были достаточно сыты. Все, кроме разве одной Аглаи Антоновны — ненасытимой.
Итак, Пушкин запомнит Контракты — этот день и этот обед. На следующий день у Раевских был вечер, а на другой он уезжал вместе с Давыдовыми в Каменку. Или вернее — через Каменку — в Кишинев. Странно, ему уже хотелось «домой». Другого–то дома и не было.
В день отъезда с утра — один, без Николая — он вышел проститься с городом.
Он стоял и глядел с высоты. Вот Хрещатицкая долина, вот Перунов горб, Чертово беремище. Говорят, существует предание, что Перун, как его низвергали, заплакал, и вода поднялась в Днепре. Да, можно поверить, что ему было невесело… Пушкин жалел, что не мог увидать знаменитых Золотых ворот: их закидали землею, дабы сохранить. А в народе рассказывали, будто некий хан Боняк увез их с собою в степь, а не то какой–то богатырь Михайлик взял их под мышку и перешагнул через море прямо в Царьград. В этих преданиях, слышанных здесь и сейчас непроизвольно припоминавшихся, было что–то широкое и успокоительное, уводившее от сосредоточенности мыслей о самом себе. Народная жизнь — неумирающая: море иль степь; и не покой, а движение.
Внизу расстилался простой деревенской дорогою Боричев взвоз, по которому Игорь возвращался из плена «к святей богородици Пирогощей». Где–то в пещерах лежал прах Нестора–летописца. Дом Мазепы припомнился: стоят тополя, мощеные плиты, дорожка; говорят, что от дома подземный ход был к Днепру… И где–то внизу, на Подоле, несколько косо, между домов, по Магдебургскому праву имевших количество окон соответственно достатку хозяина, скромно выглядывал домик, где останавливался Великий Петр — большой хозяин земли Русской.
По давней своей привычке, когда что–нибудь затомит, чему не сразу дашь и название, Пушкин переплел пальцы и крепко их сжал. Он забыл дома перчатки и оттого сразу же ощутил, что чего–то недостает. Да, не хватало кольца, к которому он привык и обычно не ощущал его. Но вот его нет, и оно ощутимо. Однако же он не жалел. Ему даже стало легче и проще. Вчера на вечере, или на балу, как это громко именовала челядь Раевских, среди других развлечений устроена была лотерея. Он дал кольцо, и кольцо его досталось Марии.
На обратном пути он покружил. Внимание его привлекла небольшая церковка. Вход был открыт. От Николая он слышал, что там находится гробница князя Ипсиланти работы знаменитого Кановы, но как–то они не удосужились туда заглянуть. А вчера передавали свежие новости из Кишинева, что восстание греческое — уже совершившийся факт и что будто бы Александр Ипсиланти, «безрукий», сын того господаря и патриота, прах которого покоится в этой церкви, — что будто бы он уже переступил границу и к нему со всех сторон притекает вооруженный народ. Было ли это точною правдой, трудно сказать, но слухи нередко предвосхищают события. Так как же сейчас мимо пройти?
В церкви было безлюдно. Свершалась какая–то маленькая полудомашняя треба. Памятник слабо был освещен, но мягко выделялись очертания фигур: ангел с крестом и изображение покойного князя. Пушкин немного постоял в тишине, потом наклонился поближе: в тени, на могильной плите, что–то лежало. Пригляделся: свежая алая роза!
Смерть не есть смерть, если память живет средь живых. Кто–то здесь был, восстание не выдумка! Чьи–то сердца бьются и здесь вместе с теми, кто, может быть, бьется уже за свободу родного народа… Как хорошо!
«В Каменке не задержусь! — решил он мгновенно. — Скорее туда! Сегодня история — там!»
Глава одиннадцатая ГРЕЧЕСКОЕ ВОССТАНИЕ
Как Пушкин ни торопился выехать поскорее из Каменки, все же ему пришлось несколько там задержаться.
Деревенская жизнь протекала по–прежнему: неторопливая, несколько сонная. Братья Давыдовы после киевской встряски с удовольствием предавались покою. Происшествия случались простые, домашние: пала корова, вспыхнул пожар, прососало плотину. Но из Кишинева доходили в Каменку разные будоражившие слухи. Восстание еще не началось, но Александр Ипсиланти действительно уже перешел с братьями за пределы русской границы, и тотчас там возникло народное движение. Бояре поднялись с насиженных поместий и двинулись в Бессарабию. Все это не могло не волновать Пушкина, подмывало и его с места.
В самые первые дни по возвращении снова его охватила было тоска и ощущение одиночества. Памятный вечер — здесь протекавший, вот здесь! — вспоминался ему как острое, потрясшее его несчастие. Он снова твердил и еще заострял эти стихи о себе: «Один на ветке обнаженной — Трепещет запоздалый лист»… И особенно глубоко он почувствовал здесь, что это не об одной Екатерине Николаевне… Ведь это почти точная картина того, как он выбежал после заседания в сад в таком одиночестве и охватившем его внутреннем холоде, как никогда еще в жизни…
Так с ним бывало не раз. Разум и мысль никогда не оставляли его и в самом высоком подъеме душевного чувства. Но, случалось, оно подымалось из такой глубины, что и сам он лишь по прошествии некоторого времени, перечитав собственные стихи, вдруг по–иному охватывал конечный их смысл. Тут же он окончательно утвердился в мысли не включать их в поэму.
Но и Раевских не мог он забыть. Он еще весь был овеян киевским воздухом, и весь этот дом, все семейство неотразимо его к себе привлекали. Он перебирал воспоминания, сетовал на судьбу, упрекал и себя за действительно бывшие мелкие неловкости и за воображаемые большие.
Все это так было на него не похоже!
Но как только он оставался один на один со своею перемаранной рукописью, он становился снова собою самим. Незамечаемая улыбка бродила порой по губам. Он делал движение рукой, рука застывала как бы в задумчивости; потом приходили в движение пальцы, и снова писал. Губы теперь сомкнуты крепко и строго. Чувство и мысль, воля и страсть — все было одно: великолепное напряжение труда. Тут был он весь. Полностью сам собою: могучий и легкий, ищущий и уверенный, что найдет, и находивший. И, находя то, что искал выразить на бумаге, находил вместе с тем и себя.
За последние дни пребывания в Каменке почти не покидал он рабочей своей уединенной бильярдной, заканчивая и отделывая «Кавказского пленника». Работа была напряженная, однако она не только не изнуряла его, но давала, напротив, новые силы. И вместо тоски рождалась чудесная, свежая радость. И какой может быть мрак, когда на душе — свет? И какое «несчастье» может сломить, когда сам в своем ежедневном труде непрерывно ломаешь препятствия — ломаешь и строишь!
Но вот рукопись кончена. Пушкин здоров, душевных недомоганий как не бывало. Пора ехать, пора! Про Кишинев говорили, что город стал неузнаваем.
Пушкин простился с хозяевами, которые принимали его
столь радушно, но изо всех людей, оставленных в Каменке, пожалуй, одна только Адель легким облачком сопутствовала ему в дороге.
— Вы приедете и на будущий год на именины бабушки? — спросила она при расставанье.
— И напишу вам стихи. Непременно, — быстро он ей отвечал и сделал движение к ровному пробору на ее милой головке.
Но и это воздушное облачко скоро развеялось. Все устремление было — вперед!
Может быть, Кишинев стал неузнаваем, но неузнаваема стала и самая дорога туда. Всюду на станциях и по дороге видел он экипажи не нашедших в городе пристанища беглецов из Молдавии и Валахии, покинувших дома и поместья и трепетавших за свою драгоценную вельможную жизнь.
Александр глядел на них с большим интересом. Казалось бы, война национальная, но, видимо, война прежде всего есть огонь, которому точных границ не укажешь. И в этом что–то его веселило. И сам с огоньком в глазах он поглядывал на тяжелые бороды, пышные шубы, руки в перчатках, крепко державшиеся за обочины саней, чтобы судьба не выкинула их, вместе со всем привычным, дородным укладом жирного их бытия, в любой придорожный сугроб.
Впрочем, сугробов, все меньше и меньше. Победно весна реяла в воздухе. Снег стал хрящеват, а на низинах копыта коней проваливались, чмокали и выкидывали желтоватую воду, настоявшуюся на прошлогоднем навозе. Весенние птички чирикали, резвились, купались в резковатом млеющем воздухе, исполненном света и испарений. Присев на дрогнувшей под их легкою тяжестью веточке, они принимались весело прихорашиваться, распушив на шее и на затылке очень гордый и очень победный веерок крохотных перышек.
По дороге речонки с разрыхленным треснувшим льдом ворошили его, и сами шершавились, пухли, набирая полную силу. Весело и озорно поколыхивали они оттаявшие у берегов плоты, как бы приглашая и их в путешествие — подалее от насиженных мест. И над полями, речонками, над снегом и над проталинами, в свежей сквозной синеве громоздились и падали, снова вздымались и неслись облака. В мире гуляло движение, бродила весна!
Кишинев действительно был совершенно другой. Улицы переполнены народом и экипажами. Ехали еще и на санях, свистя полозьями по жидкой грязи, и ухали колесами многолошадной каруцы, запряженной цугом. Лошаденки в диковинных этих плетеных тележках были столь нищи, слабы, худы, что, казалось, с превеликим трудом тащат только себя и ту, что за ней, ближайшую, а повозка плетется, пожалуй что, как–нибудь сама по себе. Было похоже на то, что все жители города и все новоприбывшие только и делали, что передвигались с места на место; возникали людские запруды, водовороты.
Стоило кому–нибудь со знакомым остановиться и начать говорить, как тотчас возле него возникала толпа, и каждого отошедшего от нее вновь останавливали, спрашивая, в чем дело, какие новости. Домов и кофеен стало, кажется, мало, в них тесно: просторней, когда над головой потолок синего неба. Да и вообще сидеть невозможно, противоестественно, когда мысли в движении, кровь в жилах в движении, и так же ломает она какие–то льдины, и ворошит их, и куда–то уносит…
Пушкин снял шляпу. Волосы его на голове давно уже отросли, ветер их шевелил и вздымал. Ему не сиделось. Хотелось бы встать и так стоя ехать среди толпы. Но он только порою приподымался и поглядывал по сторонам, точно надеясь выглядеть самый исток, откуда бил этот неукротимый поток людей. Он улыбнулся этому своему, несколько детскому, желанию и направил возницу прямо к дому главного начальника всей Бессарабии.
Иван Никитич был дома и встретил его на террасе.
— Ну что, бегунок? — сказал он, ласково и хитро улыбаясь. — Надеюсь, что прибыли в добром здоровье. Вас тут искали по городу ровно иголку. Градская полиция, слыхал, донесла, что вы отбыли в Москву; туда же и денежный иск к вам на изрядную, однако же, сумму вдогонку последовал.
Александр конфузливо, но и открыто глядел в его голубые глаза.
— Ну, а чтобы впредь за вашим здоровьем самому мне поближе следить, я распорядился, чтобы вещи ваши переправили ко мне. В вашем распоряжении отличные две комнаты… Да вы знаете их, направо внизу, окнами в сад.
И в самом деле, все небольшое имущество Александра Сергеевича ждало его здесь. Не думая, не гадая, попал на собственное новоселье.
За обедом обменивались новостями. Инзов знал уже от Орлова о пребывании Пушкина в Киеве. Он знал и о помолвке молодого генерала. Свадьба была назначена на май. И свадьба будет в Киеве, а потом молодые приедут сюда. Орлов готовит уже себе второй дом.
Сам Инзов очень интересовался хозяйством: хорош ли в Каменке был урожай, да сладкие ли бураки уродились и не прихватило ли их морозом, да велики ли были зимою сугробы: сугроб высок — и рожь высока!
Пушкин на все отвечал: в деревне живя, невольно про все это знаешь, и Инзов поглядывал на него с одобрением и даже какою–то смутной надеждой: а не возрастет ли из молодого поэта когда–нибудь и добрый хозяин.
— Да что же у нас? — отвечал он на встречные нетерпеливые вопросы. — Сам видишь, какая сумятица. На моем птичьем дворе, разумею, потише. Я чаю, самому графу Каподистрии в Санкт—Петербурге не сидится. Дело его собственных рук. Давно замышлял. Только не знаю… Игрок–то он не из важных: сколько раз я его за шахматной доскою бивал.
После обеда наедине, перед тем как пойти подремать, он доверительно сообщил Пушкину, что Александр Ипсиланти к нему присылал вестового с письмом. И к государю писал. Выходит, что надо теперь ждать событий. — А что же именно он вам писал?
Инзов немного откинулся на спинку дивана и чуть сощурил глаза.
— Да так… кое–что. Я, по правде, запамятовал. Ну, кланяться всем наказал.
Александр сообразил, что спросил он довольно неловко, но все же немного обиделся. Только обижаться на Инзова было почти невозможно. Он тотчас протянул руку и подвинул Пушкина по дивану поближе к себе.
— Неосновательный князь, — сказал Иван Никитич, зачем–то понизивший голос — И так собрался внезапно. Сел себе на Рыжака и ускакал!
Пушкин уже улыбался.
— Это вы из Жуковского?
— Ну да, дон Кишот настоящий. Я его уважаю, люблю, но только в звезду его я не верю. А событий все–таки надобно ждать. Вы знаете, что еще в январе скончался валахский господарь Александр Суццо, тезка твой, а гетеристы этим воспользовались — тайное общество.
— Тайное общество?
Так странно звучали эти слова в устах Ивана Никитича.
— А что ж, вы не знаете? И чему удивляетесь? Ежели может быть тайная дипломатия, то почему не быть тайным обществам, от коих может проистечь польза народная?
Как было понять генерала? Или он даже не подозревал о существовании того, настоящего, тайного общества или смотрел столь широко, что признавал разумность его как некоего противовеса аракчеевскому гнету в стране, как признавал необходимость отдушника, форточки?
Глаза Инзова глядели так ясно, открыто, что никакого ответа на эти вопросы в них прочитать было нельзя. Но самый тон голоса был так доверительно простодушен, что мимо всяких вопросов, на них не задерживаясь, Пушкин внезапно почувствовал, что, вернувшись в Кишинев и обосновавшись под этой кровлей, он находится все же отчасти как бы и дома.
Инзов его поселил у себя: за молодым человеком надо приглядывать! Комнаты выходят прямо в сад, вид из окон просторный, широкий — на реку, на город, на горы вдали… Но самые окна (или вы не заметили этого, дорогой генерал?) — окна с решетками: может быть, от воров? И все–таки Пушкин не был в претензии. «Это затем, чтобы я сам ночью не лазил, летом травы не топтал, цветка не сломал. Буду ходить просто в дверь — когда и куда захочу. А не то, — внезапно в нем загорелось, — хоть и еще раз в Киев иль в Каменку, захочу, — убегу!».
— И не греки одни, — продолжал Инзов, — молдаване и валахи. Все поднимаются. Только эти с дубьем и топорами. Видели, сколько бояр сюда понаехало? Валахский солдат Теодор Владимиреско собрал, говорят, целое войско таких головорезов. Трудно будет князю Александру с ними поладить… К Орлову пойдешь? Напомни ему о заседании Библейского общества. Тут одна неприятность могла произойти. Сабанеев хотел поднять дело…
— Ах, из–за этого адъютанта мерзавца!
— А вы это знаете?
— Я помню. Это было при мне. Я очень жалею, что сам его упустил. Что ж, была буря?
— Буря не буря, но из–за мерзавца, как вы говорите, я не хотел допустить неприятностей человеку, которого я уважаю. А Орлов написал не как младший старшему, а сам потребовал объяснений, а за это… за это вот неприятности и бывают. Но я Сабанеева попридержал.
Инзов поднялся и закончил очень серьезно:
— Не такое время теперь. Надо силы беречь, и людей надо беречь. Потому что, как знать, может быть, мы накануне войны. Но это решит государь.
Март и апрель двадцать первого года были для Пушкина месяцами большого подъема. Все свои силы, всю страстность порывов, молодую, кипучую, — все он пустил на полную волю.
Инзов его заставил говеть. Для чиновников это было обязательно. А Пушкину хоть жалованья и не высылали, все же он продолжал «числиться». Пушкин говел… и писал свою «Гавриилиаду». Так он отводил себе душу, сражаясь с лицемерным христианством императора Александра и его друга, сластолюбца, ханжи и изувера архимандрита Фотия. Это не было нарушением данного им обещания, это не «противу правительства», это всего только вольный пересказ вольного апокрифического сказания, который так удачно совпал с собственными его поэтическими ощущениями в соборе святой Софии…
Инзов однажды застал Пушкина за чтением библии. Тот только что прочитал и отчеркнул для себя: «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны божий увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал»; и еще: «…сыны божий стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им…» Как это было кстати!
У Пушкина было лицо оживленное, и на губах бродила улыбка. Иван Никитич немного тому даже и подивился. Но он был доволен, что застал своего подопечного за чтением священного писания, и стал говорить о великом просветительном значении библии. Он знал, как это надо сказать.
— Вы же архимандрита Фотия сами высмеиваете. И справедливо, а ведь он Библейского нашего общества очень боится и боится широкого распространения библии, считая ее для народа очень опасной.
Пушкин ответил с наивностью и озорством:
— Я и сам думаю написать что–нибудь библейское.
— Ну вот и отлично, и очень отлично. И в общество надо вступить.
— Там надо деньги вносить, а вы сами знаете, сколько я вам задолжал…
— Ну, задолжал! Разбогатеешь — отдашь.
— Нет, я уж, надеюсь, скоро и сам внесу свою лепту, хотя бы и не деньгами.
Пушкин смеялся, и Инзов ушел от него в легком недоумении: что–то он был слишком скромен и тих. Да и то сказать, только не выкинул бы чего–либо против властей. А так что же — молодости кто запретит и пошалить! Даже в саду у себя Иван Никитич терпеть не мог подстриженных деревцов, живое себя само должно отыскать… Ну, а поэты — пути их неисповедимы… У Ивана Никитича была своя философия.
Так же поддразнивал Александр и своего друга Николая Степановича Алексеева, коллежского секретаря, что, дескать, пишет поэму о прекрасной еврейке. Тот очень боялся, как бы Пушкин не отбил у него его возлюбленной, хорошенькой Марьи Егоровны, которую, хоть и была она чистокровною молдаванкой, по типу лица прозвали «еврейкой».
А великий пост долог, и церковные службы у Благовещения, куда он ездил с Инзовым говеть, были весьма утомительны. И Пушкин жаловался в шутливых стихах Василию Львовичу Давыдову:
Я стал умен, я лицемерю —
Пощусь, молюсь и твердо верю,
Что бог простит мои грехи,
Как государь мои стихи.
Говеет Инзов, и намедни
Я променял парнасски бредни,
И лиру, грешный дар судьбы,
На часослов, и на обедни,
Да на сушеные грибы.
Давыдову он не очень приоткрывал, что Вольтера отнюдь не забыл и ни на что не променял. Напротив, приятелям в Кишиневе он намекал, что, воспев «землю и море», теперь поглядывает на небо.
— А потом, чего доброго, и адом займусь!
Но был ли то ад или рай, «Кавказский пленник» или «Гавриилиада», — прежде всего и во всем этом было отраженье живой сегодняшней жизни, которая мучила, радовала и волновала его на множество разных ладов. И опять–таки было это и неустанным единоборством с собою самим — в поисках точного слова, верного образа, а через это — и нахождением, утверждением самого себя.
У Пушкина времени, сил и внимания на все доставало. Он и друзьям писал письма, стихи, где рядом с шуткой были раздумье, спокойная мысль, и он же нетерпеливо и страстно спорили возмущался, мечтал, строил планы — и вслух, у Орлова, Липранди, и про себя: о, и про себя!
Стихотворные послания были им адресованы Давыдову в Каменку, Дельвигу, Гнедичу, Чаадаеву — в Петербург.
Порою, устав от серьезных волнующих споров, болтал он и всяческие пустяки, мешая были и небылицы, рассказывая и про пляшущего на станции ямщика, который на фоне общего возбуждения вспоминался ему не раз, и про то, как будто бы за время своего пребывания в Киеве довелось ему побывать и на Лысой горе, и что там с ним приключилось (из дам кишиневских кое–кто ему отчасти и верил), и — за стаканом вина — про Дениса Давыдова, как в дверях ночью возник, как привидение.
Дениса Васильевича он вспоминал с особою нежностью:
Певец–гусар, ты пел биваки,
Раздолье ухарских пиров,
И грозную потеху драки,
И завитки своих усов;
С веселых струн во дни покоя
Походную сдувая пыль,
Ты славил, лиру перестроя,
Любовь и мирную бутыль.
Порою все же охватывало его и острое ощущение, что он в подлинной ссылке, и ему все чаще вспоминался другой поэт–изгнанник — Овидий, сосланный Августом на берега Черного моря, в те же примерно края. И он поминал римского певца в своих стихотворных посланиях и к Гнедичу, и к Чаадаеву.
И вот, стоило ему вспомнить Чаадаева — не мимолетно, а вечером, у себя, в тишине, как волнения дня уходили и уступали место раздумью, спокойной беседе.
В стране, где я забыл тревоги прежних лет,
Где прах Овидиев пустынный мой сосед,
Где слава для меня предмет заботы малой,
Тебя недостает душе моей усталой.
И, сети разорвав, где бился я в плену,
Для сердца новую вкушаю тишину.
В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд, и жажду размышлений.
Владею днем моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгих дум;
Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И в просвещении стать с веком наравне.
Пушкин опять много брал книг у Липранди. Он их не только читал, поглощая страницу за страницей, и не только продумывал то, что читал, — новые знания, новые мысли он связывал с прежними знаниями и с привычными старыми мыслями. Ничто не ложилось в него само по себе — пусть и ученым, но несколько мертвенным грузом. Нет, одно проникало другое, и то, что уже знал и о чем думал и прежде, заживало новою жизнью.
Нередко случалось, что в спорах с Охотниковым или с Раевским Владимиром Федосеевичем, — тем самым Раевским особенным, о котором слыхал от Охотникова еще до поездки своей в Каменку, — вдруг обнаруживалось, что он обо многом не имеет никакого понятия. Он не показывал виду, что это так, лишь немного краснел и в этот же вечер заходил вместе с Липранди к нему. А у Липранди, этого удивительного книжника и загадочного человека, все находилось.
Не слишком–то расположенный к людям, замкнутый и малообщительный, Иван Петрович Липранди скупую любовь свою, кажется, всю отдавал Пушкину. Тяжелый и смутный взгляд его, постепенно проясняясь, становился открытым, простым, самые жесты его, обычно размеренно связанные, становились естественней, мягче. За изумительную открытость и экспансивность юного своего знакомца–поэта платил он серьезною дружбою, которой ничто бы, кажется, не заставило его изменить. Книги свои вообще давал он не слишком охотно, но отыскать нужную Пушкину книгу было для него настоящею радостью, одною из тех немногих радостей, которые он способен был еще ощущать.
«Опять подкинул ему немного дровишек, — так, несколько своеобразно, думал он про себя, — и как затрещат, и какой это настоящий огонь!»
Так с разных концов и по–разному полнилась жизнь Александра Сергеевича. Так становился он — «с веком наравне», с тем самым веком, который «не пробежит до четверти без развития каких–нибудь странных происшествий».
Больших «происшествий», о которых думал и писал Орлов, еще не было, но, конечно, предчувствием их уже веяло в воздухе. А пока вспоминалось и речение Инзова: «Событий все–таки надобно ждать».
Конгресс Священного Союза, основанный императором Александром «во имя святой нераздельной троицы», перебравшийся из Троппау в Лайбах, поближе к Неаполю, решил навести порядок в Италии. Александр распорядился двинуть вместе с австрийцами четыре корпуса русских войск под общим начальством Ермолова.
Известие об этом всех всполошило.
У Орлова было много народу, и разговор шел в самых различных направлениях. Все единодушно считали решение государя — двинуть войска, дабы усмирить революцию, в чужую страну — не только ошибкой, но и деянием, порочащим честь русского оружия.
— Мы привыкли народам нести освобождение, а не порабощение! — Освобождение от чужеземного завоевателя, а не от своих притеснителей, — отозвался глуховатым голосом из угла Константин Алексеевич Охотников.
— Я и не говорю, — возразил Орлов, — чтобы русские войска шли помогать карбонариям. Хотя б не мешали, и того было б довольно.
Но тут перевел разговор на войну на Кавказе Павел Сергеевич Пущин, командир одной из бригад в чине генерал–майора. Пушкин его недолюбливал и в искренность его убеждений не верил. Орлов эту войну не одобрял, и Пущин сейчас как бы забегал вперед перед начальством. А вопрос о Кавказе для Пушкина продолжал оставаться вопросом тревожным. В его путешествии к нему долетало дыхание войны, и он невольно поддавался ее романтике. Только что, в эпилоге к «Кавказскому пленнику», воспел он славу русского оружия. Он знал, что Орлову это было не по сердцу, и тем упрямее стоял на своем.
«Чего–то они тут не понимают, — настойчиво повторял он про себя. — Нельзя вечно жить вооруженными, в постоянной тревоге набегов, этому должно положить конец. Но придет время, и мы заживем мирно и дружно». Он вспомнил: об этом он говорил в путешествии и с генералом Раевским…
— Нет, — как бы отвечал его мыслям Орлов, — горцев и вообще, думаю я, преклонить столь же трудно, как сгладить самые горы Кавказа. Кавказский вопрос разрешается не штыками, а временем и просвещением… (Тут Пушкин кивал головою: «Да… просвещением… верно!»)… временем и просвещением, которого и у нас не избыточно.
Но тут Михаил Федорович сам себя остановил и, сделав какое–то непроизвольное молодое движение, воскликнул почти:
— И со всем тем, друзья, в этой непрерывной войне есть что–то величественное, и храм Януса для России, как для древнего Рима, не затворяется. Кто, кроме нас, может похвастаться, что видел вечную войну?
— Матушка Россия тем хороша, что все–таки в каком–нибудь углу ее да дерутся!
Пушкин так верно схватил интонацию Дениса Давыдова, которого знали почти все присутствующие, что это вызвало общий смех.
— Денис это любит! Это друг его Кульнев так любил приговаривать.
— Но, господа, если Кавказ это один угол, то ведь и у нас, в другом углу, тоже ведь… Так чего же войну еще и в чужих краях затевать?
И общая беседа потекла по новому руслу: будет война на Балканах или не будет?
Русские войска на всякий случай уже стягивались к границе. Известно было и воззвание Ипсиланти, где он, на свой риск и страх, говорил, между прочим, что Великая держава одобряет сей подвиг. Все понимали, что этой державой могла быть только Россия. Но так ли это было и на самом деле? Ипсиланти писал императору, тот на это в ответ освободил его от звания офицера русской службы. Силы же самого Ипсиланти были невелики. Он переправился по льду через Прут всего с двумя сотнями всадников. В Яссах теперь составляет он гвардию «бессмертного полка», над которым как–то Вельтман трунил, что это «только алчущие хлеба, но не жаждущие славы». Пушкин тогда сердился в ответ и жалел, что его не было в Кишиневе, когда Ипсиланти и два его брата покидали Россию. Он непременно уехал бы с ними.
И вот — общий итог разговоров: положение было неясно.
— Держим пока карантин, а там будет видно. Слышно, из штаба армии кого–то пошлют ознакомиться с положением дел. Может быть, Пестеля.
На этом и разошлись.
О Пестеле Пушкин слышал не раз в Кишиневе и в Каменке. У него была репутация умницы, но точного представления о нем Александр не имел. А интересно… Доклад Пестеля пойдет к Киселеву, начальнику штаба, а тот переправит его государю, и на него это может иметь большое влияние.
Вечером Пушкин был в обществе греков и всех их превзошел в страстных своих высказываниях. Он говорил о древних великих народах Рима и Греции, которые опять берут судьбу в свои руки. Он, кажется, видел себя в Яссах на площади под знаменами Ипсиланти. Про них уже точно знали все в Кишиневе; их было три: одно трехцветное, на другом развевался крест, обвитый лаврами, с надписью: «Сим знаменем победиши», на третьем изображен возрождающийся феникс. Он был твердо уверен, что Греция восторжествует.
Его собеседники, греки, им любовались, но сами в речах были куда осторожнее. Они, как и Вельтман, были весьма невысокого мнения о войске «безумного и прекрасного» князя. Даже самые эти названия — арнауты, пандуры, гайдуки, талгары — они произносили с оттенком недоверия.
— Народ боевой, да они думают совсем не о нас, а о себе. И никто из них и не собирается надевать боевую кушму «бессмертных» с адамовой головой. Молдаване и валахи пойдут к Владимиреско, а тот будет грабить бояр.
Пушкин был огорчен. Неспешно шел он домой. Весенняя ночь дышала над городом, — звезды мягко и низко клонились к земле. Кое–где в окнах светились небольшие восковые свечи, принесенные из церквей: вербная суббота. Вчера были пышные похороны умершего митрополита, сколько было цветов! И какая сейчас вокруг тишина. Только пролает собака да, невидимый, кто–нибудь выругается, попав в темноте в грязную канаву. Тишина эта, полусонный этот покой томили его. Хотелось распахнуть грудь. Хотелось отдать себя миру. Как это сделать?
Война! Подъяты наконец,
Шумят знамена бранной чести!
Быть может, там, на юге, за этою тьмой горят уже боевые огни и барабан сзывает на битву… Вот Давыдов, поэт и воин, венчанный двойным венком славы… Как хорошо!
И раздумье рождало более долгое и медлительное колыхание ритма:
Венок ли мне двойной достанется на честь,
Кончину ль темную судил мне жребий…
И, вспомнив Дениса Давыдова, вспомнил Киев опять, и снова весна и молодая тоска тронули сердце.
И ты, и ты, любовь?
Ужель ни бранный шум,
Ни ратные труды, ни ропот гордой славы,
Ничто не заглушит моих привычных дум?
Он шел, не глядя под ноги, не разбирая, где сухо, где лужи. Стихи возникали и затихали, точно слушаешь музыку издалека. Нет, надо на что–то решаться… И вспомнилась вдруг эта фамилия: Пестель!
Девятое апреля. Великая суббота. Говение, пост и зима — позади. Пушкин с визитом у Пестеля.
Павел Иванович Пестель уже представлялся генералу Инзову и с ним совещался так же, как и с губернатором Катакази. Пушкин до сей поры видел его только мельком, произошло простое знакомство. Но Пестель сам просил его навестить, и Александр теперь с интересом приглядывался к этому новому человеку, о котором был много наслышан и который, будучи в чине всего подполковника, с генералами разговаривал так, как будто лишь уважение к их летам диктовало ему необходимую официальную почтительность. На самом же деле, — и это было видно по тому, как они сами с ним обходились, — он чувствовал себя не только «сам по себе», но как бы и старше, мудрее, опытней их. Уже по тому, как он ставил вопросы, было очевидно, что он очень ясно и сам представляет себе положение дел и, главное, уже имеет обо всем какое–то определенное мнение.
— Утомил он меня, сей молодец, — добродушно признался Пушкину Иван Никитич. — Ты замечал, летом бывает: и небо, кажется, ясно, на горизонте ни тучки, а в воздухе тяжело, пахнет грозой, электричеством. Вот так–то и тут. Ежели он сам от себя не устает, так он подлинный богатырь.
Пушкину было несколько странно, что свидание с Орловым было коротким, и по–деловому Пестель предпочел говорить не с ним, а с пустейшим Павлом Сергеевичем Пущиным, командиром одной из бригад, генерал–майором, который вышел от него, чуть не пошатываясь.
— Только о деле, только о корпусе, только о дисциплине между офицерами. Точно приехал генерал–ревизор.
И Пущин, как истомленный конь, который по воздуху чует источник, не медля направился к крепким напиткам, чтобы, как он говорил, «пополнить усышку».
Правда, что Пестель у Орлова обедал, но все попытки присутствующих поднять разговор на какую–либо острую тему гасли сами собою. Приезжий не только их не поддерживал, но замолкал как–то особенно демонстративно. И Михаил Федорович, как хозяин, нисколько тем не обижался, как если бы он понимал, что так и надо. Гость иногда пристально взглядывал то на Охотникова, то на Владимира Раевского, но и с ними никак не общался.
«Попробовали бы при нем выпить за тех или за ту, как пили в Каменке! — подумалось Пушкину. — Что это — холодность, сдержанность или боевая осторожность?»
И вот Пушкин с визитом у Пестеля. Павел Иванович сидел перед ним — ровный, спокойный, ничуть не надменный и менее всего официальный.
Если бы не несколько крупные губы, однако же хорошо подобранные, его лицо можно было бы признать и красивым. Крупный нос с ясно проявленной, упрямой горбинкой, очень высокий лоб с зализами; черные волосы, прямо и крепко зачесанные назад, не скрывающие отличных очертаний головы, и такие же черные, даже до блеска, Коротенькие бачки, спускающиеся лишь до мочки уха и причесанные не книзу, а поперек, в одном направлении с волосами на голове, и очень правильного разреза глаза, красивые, черные и — блестящие; эти глаза не пламя, а именно — блеск, собранность, ум, воля, характер. Верно, именно этот–то взгляд и производил впечатление власти, почти что приказания.
Но у него в гостях был поэт, и сразу же Пестель заговорил не о возможной или близкой войне, не о восстании и даже не о духе времени, а о тех подосновах, на которых зиждется все.
Ему было тридцать лет, но он участвовал уже в Бородинском сражении, был ранен и отличился. Вскоре затем граф Витгенштейн назначил его своим адъютантом. Теперь Витгенштейн — главнокомандующий второй армией, и при нем в Тульчине состоит подполковник Пестель. Как–то Орлову так Витгенштейн о нем отозвался:
— Пестель на все годится. Дай ему командовать армией или сделай его каким хочешь министром, он везде будет на месте.
И вот сейчас он не командующий и не министр, он — собеседник поэта. И он говорит с ним, как с близким товарищем, как с самим собой молодым. Только у него все уже решено, все стало на место. Он не ждет никаких откровений, но он и не поучает. Он высказывается.
Солнечный свет падает в комнату большою прямою струей. В комнате нет лишних предметов. Просторно и чисто, прохладно. Пестель распорядился, чтобы не топили, он не любит, чтобы было излишнее тепло. Но на ногах теплые сапоги на меху: видимо, бородинская рана чем–то дает еще себя знать.
Они говорят о материализме, о разуме. Пушкин припомнил даже свое лицейское: «Ум ищет божества, а сердце не находит!» Он чувствует: восемнадцатый век соседствует с девятнадцатым. Он готов был бы сказать, по себе это зная, что чувства и разум в одном человеке не должны бы друг другу противоречить: вместе они ищут и ошибаются, вместе находят, а если и разойдутся, то разве лишь с тем, чтобы, друг друга обогащая, поратоборствовав, все же найти некую новую полноту и гармонию. Но все это трудно еще охватить и сказать молодыми словами. Подобные мысли только растут еще, их больше угадываешь в живом течении дня, чем осознаешь, оглядываясь, как некий итог. Да, кроме того, с Пестелем и не влечет вступать в спор, как не придет в голову резвиться и бегать между размеренных гряд и точно расчисленных клумб.
Пушкин внимательно слушает и по–своему, сжато, воспринимает.
Предметы отбрасывают тени. Это закон. И ежели разум велит, чувству надо стерпеть. На дисциплине держится строй, и, ежели хотите, на дисциплине держится мир. Разум затем, чтобы повелевать. Нет таких сил и нет таких обстоятельств, которые помешали бы разуму осуществить свои веления в жизни.
Надо видеть пути, оценить обстановку, и надо деяние — организовать.
И, может быть, именно это последнее слово «организовать» и было тем коренным пестелевским словом, через которое можно было увидеть, как сам глядит он на мир и как понимает свое назначение в мире.
— Вы что–то задумали, и вы устремлены к тому, чтобы победить. Жизнь предоставляет много путей. Надо найти один. И надо его твердо держаться, и все должно быть обдумано, расчислено и сосредоточено так, чтобы именно этот путь оказался путем победы. У вас, — и, улыбаясь, он сделал к Пушкину дружеский жест, — у вас это совсем по–иному. Вы можете на деле, в работе искать! А у нас черновиков и вариантов нет, не бывает. Нам не дано.
Это было умно, и это было верно, и улыбка всегда хороша, ибо она приоткрывает простой внутренний мир человека. Но эта улыбка была единственная за все время беседы.
— И у вас иначе нельзя, — продолжал Пестель, — Но горе горькое, ежели такому вверено важное дело.
— Благодарю покорно! — не удержался Пушкин. Но Пестель даже и тут не улыбнулся.
— Я, конечно, говорю не о вас, — заметил он деловым ровным тоном и разве лишь с чуть заметною ноткою недовольства, что разговор отошел несколько в сторону. — То, что вы делаете, — это огромное дело, которое мы не можем в полную меру и оценить.
Пушкину большого удовольствия это признание не доставило. Он видел не раз в ответ на свои стихи живые, сияющие глаза слушателей, а у Пестеля это было достаточно холодным я деловым признанием. В первый раз в жизни встречал он такое. Но он преодолел в себе это невольное чувство неудовлетворенности. Быстрая и острая мысль промелькнула в его голове: «Я для него на учете в каких–то его, и даже догадываюсь, в каких именно, планах, и хорошо! Но разве также и я…»
Тут мысль прервалась, в словах больше надобности не было. Пушкину ясно представилось и без слов, что ведь, в свою очередь, и он глядит на своего хозяина, облитого солнцем и ясного в мыслях, как этот свет, — глядит как на любопытнейшую фигуру, которою по–своему и он может распорядиться. Не правда ли?
Руки у Пестеля были небольшие, изящные. На безымянном пальце левой руки блеснуло на солнце кольцо, когда он на секунду приподнял ее в знак, быть может, того, что возвращается к прерванной мысли. Чье это было кольцо — матери или возлюбленной? Пушкин знал уже, что его собеседник не был женат.
— Подобных людей надо держать в стороне, — с жесткостью продолжал Пестель. — Всякое колебание, всякая неуверенность совершенно погибельны. Это путь к поражению, а не к победе. Смелости здесь не достаточно. Смелость — это какое–то «вообще», — добавил он почти с презрительностью. — Нам же нужно не «вообще», а определенность. Характер и ум. Точный характер и математический ум.
Пушкин вспомнил и про себя подивился определению Инзова: «Ежели он сам от себя не устает, так он подлинный богатырь». Но что это значит, однако: «мы», «нам»? Он говорит как власть имеющий, как полководец, где же его войско? Или Александр Раевский ошибался, передавая, что в Москве, куда ездил Орлов, все как–то распалось?
Он не знал, что на съезде в Москве Пестеля не было и постановление о закрытии Союза Благоденствия принято было без него. Еще менее известно, даже и в Кишиневе, о том, что Пестель этому постановлению отказался подчиниться и стал во главе Южного общества. Охотников и Владимир Раевский как–то стояли сейчас от Орлова несколько дальше, чем ранее. Пушкин это заметил, но не мог отгадать, почему. Он приписывал это тому, что Михаил Федорович был сейчас — и это было естественно и понятно — очень занят другим, личным, своим…
Пестель говорил еще и о планах справедливого устройства на земле, как того требовала высшая мораль и интересы самого трудового народа, находящегося ныне в крепостной зависимости от помещиков. Но и здесь не было ни малейшей чувствительности и никаких приподнятых восклицаний. Все именно было строго обдумано, исчислено, взвешено.
— Сословия подлежат уничтожению: равно сословие крепостных, как и сословие царей, — с сарказмом произнес Пестель, и вместо улыбки впервые огонь пробежал в его черных глазах.
— Все равны перед законом, и всем обеспечивается личная неприкосновенность…
— И свобода печати, — добавил он, глядя на Пушкина. — И тогда не только до нас доходить будут ваши стихи, а и до всех: всеобщая грамотность!
Тут Пушкин встал. В первый раз за все утро, исполненное прохлады и света, почувствовал он, как что–то жарко отозвалось в груди. Такая простая мысль! Но вот она прозвучала из уст этого сурового, собранного человека как некая реальная возможность, и она подняла с места.
А Пестель уже говорил о справедливом распределении земли и о такой организации хозяйства, чтобы продукты земли были в изобилии. Он употребил именно это слово, похожее само по себе на горсть зрелых плодов.
И говорил о фабриках:
— И все же, когда земледелие утверждает самое точное основание для собственности и неравенства и покровительствует рабству, фабрики открывают существенно новый источник богатств, который делает человека гражданином всех стран и распространяет дух независимости и свободы.
Не совсем понятно было это Пушкину, но почему–то он соглашался, когда Пестель настойчиво утверждал, что развитие фабрик создает процветание искусств и наук.
Это была одна из самых оригинальных мыслей, высказанных собеседником Пушкина.
Да, он говорил как полководец, видящий в победе своей благородную цель — счастие человечества. Он думал о людях и мысленно строил свое государство. Но, строя свое государство, он окидывал оком весь мир, как некий завоеватель.
Пушкин невольно спросил, как думает он о Наполеоне, и Пестель ответил тотчас:
— Полководец Наполеон был истинно великим человеком, но… Но если бы России довелось повторить его опыт, его пришлось бы повторить по–иному. И Наполеон отличал не знатность, а дарование, но надо бы было уважить и дарование целых народов. А кто составляет народ? Ужели верхи и дворянство?
Прощаясь, он говорил, как люди всегда говорят, о самом существенном — о личном, своем. Пестель не говорил о своем назначении, он разумел нечто большее, он говорил о призвании.
— Но, — добавлял, — надобно помнить, что ни твердая воля, ни железный характер, ни умение, ни звание не решают еще исхода битвы: нужно решение принять в точно рассчитанную минуту, не опаздывая и не упреждая событий.
Пушкин вышел на улицу, не пошатываясь и не ошалев, как на его месте ошалел бы от такого разговора всякий другой… Ему доставила громадное наслаждение беседа с Пестелем. «Это один из самых оригинальных умов, какие я знаю, — думал он про себя. — Вот свести бы его с Чаадаевым!»
Пушкин в беседах с Орловым и Инзовым часто поминал словечко «Лайбах», но, оказывается, и в Лайбахе среди важных государственных дел не забывали про Пушкина. Оттуда поступил запрос о его поведении, составленный графом Каподистрия и утвержденный царем, которому шпионы доносили, что ссыльный поэт публично поносит, и даже в кофейных, военное начальство и правительство, — а до этого императору всегда было дело.
Пушкин действительно в этом отношении себя не стеснял, но Иван Никитич, хорошо обо всем этом зная, на запросы писал в духе истинного благодушия. «Пушкин, живя в одном со мною доме, ведет себя хорошо и при настоящих смутных обстоятельствах не оказывает никакого участия в сих делах». А кстати ходатайствовал, чтобы положенное ему жалованье в Петербурге, в размере семисот рублей в год, высылали сюда, ибо Пушкин «теперь, не получая сего содержания и не имея пособий от родителя, при всем возможном от меня вспомоществовании, терпит, однако ж, иногда некоторый недостаток в приличном одеянии».
И в конце концов Инзов добился и жалованья, и отвел–таки грозивший Пушкину иск на две тысячи рублей, вторично предъявленный ему в Кишиневе. Было решено, что Пушкин даст письменный отзыв о своем несовершеннолетии при подписании заемного листа, выданного барону Шиллингу в погашение проигрыша, и о том, что, не имея никакого имущества, ни движимого, ни недвижимого, не может его оплатить. Так с этим тягостным делом было покончено наконец навсегда, и дворовый человек барона, которому тот подарил свои права, остался ни с чем.
Пушкин томился. Он то мечтал, что ему разрешат приехать хотя бы на короткий срок в Петербург, то серьезно раздумывал, не отбыть ли ему тайком к Ипсиланти. Он написал ему письмо и отправил с одним молодым французом, который направлялся к нему, чтобы вступить в греческую армию. Видя его томления, Инзов отпустил его ненадолго в Одессу.
Пушкина эта поездка весьма развлекла. Снова увидел он море и волны, и его охватило весеннее оживление приморского шумного города, где все также было полно новостями, событиями. Он очень жалел, что не был здесь в самые первые дни, и жадно ловил все рассказы о том возбуждении, которое царило еще так недавно.
«Восторг умев дошел до высочайшей степени, — писал он одному из своих близких приятелей: — все мысли греков устремлены к одному предмету, на независимость древнего Отечества. В Одессах я уже не застал любопытного зрелища: в лавках, на улицах, в трактирах везде собирались толпы греков, все продавали за ничто свое имущество, покупали сабли, ружья, пистолеты, все говорили об Леониде, об Фемистокле, все шли в войско щастливца Ипсиланти. Жизнь, имения греков в его распоряжении!»
«Странная картина! Два великие народа, давно падших в презрительное ничтожество, в одно время восстают из праха и, возобновленные, являются на политическом поприще мира. Первый шаг Ипсиланти прекрасен и блистателен! Он щастливо начал — 28 лет, оторванная рука, цель великодушная: отныне, и мертвый или победитель, он принадлежит Истории. Завидная участь…»
Александр искренно завидовал и каждому, кто отправлялся на эту благородную войну. Таких людей, добровольцев, было немало. Ему случалось видеть и беглецов, прибывавших из тех мест, где развивалось восстание. Он их жадно расспрашивал, но сведения, которые они могли передать, бывали случайны, обрывочны. Оттого ему страшно хотелось не пропустить возвращения Пестеля, и он в Одессе не задержался.
При этих новых встречах Пестель открылся Пушкину с какой–то и новой еще стороны, которую он полностию не мог для себя определить, но которая возбуждала в нем смутное недоумение.
У молдаванского господаря Михаила Суццо, прибывшего в Кишинев по пути в Италию и здесь задержавшегося, Пестель держал себя так, как подобает держать человеку, стоящему на стороне князя Ипсиланти. Правда, и здесь он не проявлял ни малейшего энтузиазма и не произносил никаких громких фраз, но он не скрывал своих пожеланий успеха греческому оружию.
Пушкин с интересом наблюдал обоих собеседников.
Суццо, сочетавший в себе некоторую, кажущуюся, флегматичность с необычайною–внутренней порывистостью, которую всячески сдерживал, но не мог окончательно утаить, был кровно заинтересован, чтобы это «государево око», как экспансивно шепнул он про Пестеля Пушкину, видело то, что надо, и не видело кое–чего того, чего не надо. Соответственно он и вел разговор, начав с изысканных комплиментов уму и дарованиям своего гостя, «о которых наслышан со всех сторон». Впрочем, очень скоро он увидал, что это было совсем лишнее и могло скорее повредить, чем помочь.
Но нация, выросшая у морских берегов, отлично умеет слушаться ветра и управлять парусами, а потому господарь очень ловко, ничуть не меняя общей тональности, — иначе получилось бы все это заметно и грубо, — перенес свои комплименты и высокие, идущие от сердца оценки с самого Пестеля на ту страну, достойным сыном и представителем которой тот является. Очень искусно при этом он дал понять, что Каподистрия близок к царю и, конечно, сам император, как истинно русский человек, должен всем сердцем сочувствовать справедливому делу своих единоверцев эллинов.
Пушкин полностью разделял все чувства Суццо, но его расхолаживали эти дипломатические извороты в изложении мысли. Он поглядывал на спокойного молчаливого Пестеля, ничем не выражавшего своего отношения к тому, что он внимательно слушал. «К чему эта игра? — думал про себя Пушкин. — Разве и так все не достаточно ясно, и какие основания у Суццо думать, что Пестеля надо в чем–то еще убеждать? Он точно бы хочет в чем–то его обойти». А ежели так, то Пушкину захотелось, чтобы тонкий фанариот не обошел русского офицера.
И Пушкин еще раз взглянул на сидевшего, на сей раз в тени, Пестеля. Но, казалось, тот не нуждался в этой благоприятствовавшей ему тени; ему нечего было скрывать и не надо лукавить.
Так Павел Иванович Пестель и заговорил. Он напишет в докладе все точно так, как это есть в действительности. Он также не сомневается в высоком доверии государя к графу Каподистрии, а в высказывании личных своих чувств, на что он, помимо всего прочего, и не уполномочен, конечно, нет никакой надобности. Тут прозвучала как бы суховатая, чиновничья нотка. Это было, конечно, несвойственно Пестелю, но тогда в чем же дело, что под этим скрывалось?
Пестель так говорил, что не давал ни малейшего повода в чем–нибудь ему возразить. Все было ясно и точно. Не в чем было его убеждать. И, кажется, сам Суццо в конце концов был удовлетворен. Но у Пушкина остался на душе все же вопрос. Нет сомнения в том, что Павел Иванович изложит вполне точно действительность. Но он уж никак не чиновник. Какое–то определенное устремление его мыслей должно будет сказаться. Какое же?
И Пушкин оказался прозорливее дипломата Суццо. Тот боялся более всего, не сочтет ли Пестель движение слабым с чисто военной его стороны, и успокоился после ряда наводящих вопросов: Пестель считал, что восстание только в начале и дела идут не плохо, а, кроме того, Ипсиланти в Греции не одинок, на юге развиваются и самостоятельно важные события. «Хорошо», — думал Суццо, а Пушкин, не зная, в чем именно это выражается, чувствовал, однако, что у Пестеля есть какая–то своя особая позиция по коренному вопросу: следует ли выступать России на помощь грекам.
И вот это–то сомнение и тревожило Пушкина. По лицу Пестеля ничего не прочитать. Обратиться с прямым вопросом, раз сам человек что–то замалчивает, может быть, неудобно. Да что неудобно! У всякого другого спросил бы, а этот так умеет молчать о том, о чем хочет молчать, что и не спросишь. А и спросишь, все равно ничего не узнаешь, только себя же поставишь в неловкое положение. Изумительный человек!
Перед уходом, поднявшись, Пестель, как бы в порядке светской любезности, осведомился, как долго еще Суццо пробудет в Бессарабии и куда потом собирается отбыть.
— Как долго, не знаю. Все это зависит от обстоятельств, а думаю проехать в Италию.
— Благословенная страна. Чудесная природа, — с нескрываемым равнодушием промолвил Пестель в ответ. — Вы, конечно, отдохнете там от треволнений.
— Да, эта поездка моя будет носить совершенно частный характер, — отозвался Суццо с какою–то особою вибрацией в голосе.
Этот ответ доставил видимое удовольствие Пестелю. Он и ранее знал, что Суццо собирается в Италию, но это был именно точный ответ на то, что он хотел для себя утвердительно выяснить невинным своим и любезным вопросом о маршруте дальнейшего путешествия молдаванского господаря Михаила Суццо. Для Пушкина все это прояснилось постепенно в течение последующих дней.
Пестель, задержавшись в Кишиневе, неторопливо, но зато обстоятельно писал свой доклад. Он не сделал из него тайны для нескольких избранных лиц, предупредив их о том, что он сообщает его доверительно, и Суццо знать о нем ничего не должен.
В докладе своем Пестель очень подробно и ясно изложил всю фактическую историю дела. Суццо ни в чем не мог бы его упрекнуть: ни в замалчивании, ни в преувеличениях в какую бы то ни было сторону, ни в пристрастном освещении фактов. Точно так же Пестель говорил ему точную правду, что никаких советов или мнений по поводу того, следует ли России вмешиваться в греческие дела, он делать не будет. Но он высказал свое мнение по другому весьма существенному вопросу.
Пестель писал, что греческие события «могут иметь важные последствия; если существует 800 тысяч итальянских карбонариев, то, может быть, еще более существует греков, соединенных политическою целью. Сам Ипсиланти, я полагаю, только орудие в руках скрытой силы, которая употребила его имя точкою соединения».
Чем руководствовался Пестель, когда писал эти строки?
Инзов его одобрял. Он не чувствовал большой нежности к грекам, а равно и к восстаниям, представлявшимся ему народною смутой. Но, главное, он не одобрял вообще вмешательства в дела чужеземные и не был поклонником войны «во всяком углу». Сфера его забот и раздумий была ограничена территориально, но это были заботы устроительного характера — по заселению и приведению в порядок новой провинции. Зато Орлов, как легко было заметить, не только не был в восторге, но коренным образом расходился с Пестелем, и именно от него Пушкин узнал о той позиции, которую занял автор доклада. И сам Александр был не менее удивлен и даже раздражен.
Раздражение это еще более усиливалось тем, что Орлов категорически потребовал от него, чтобы он и виду не показал, что ему что–то известно, и ни о чем не спрашивал Пестеля.
Итак, Пестель, прямо не говоря, был все же явно против того, чтобы могущественная Россия оказала помощь слабой и угнетенной Греции. И это позиция революционера? Мыслимо ли это понять?
Так это и оставалось для Пушкина странной и тревожной загадкой, которую он постиг лишь при другом, не в Кишиневе, свидании с Пестелем, оказавшемся их последнею встречей.
И, однако же, огромная внутренняя сила этого человека непрерывно привлекала к себе внимание Пушкина. Они встречались не раз, но встречи эти бывали на людях, где Пестель имел обыкновение приоткрывать, быть может, не более как на четверть себя настоящего.
Двадцать шестого мая он навестил Пушкина в день его рождения.
Инзов в тот день поднял бокал за виновника торжества и пожелал полной удачи «в важной его литературной работе».
Все обедавшие насторожились и готовы были уже крикнуть «ура» и начать чокаться по поводу неожиданного признания начальником края свободолюбивой музы поэта, но Инзов приостановил их движением руки.
— Эта работа, о коей я говорю, имеет большое значение для нашего края, значение истинно государственное.
Кажется, один только Пушкин начинал догадываться, куда начальник его клонил свою речь. Он, улыбаясь, ногтем чертил на скатерти инзовский профиль.
— Я имею в виду, — закончил Инзов, — большую работу, которою по моему поручению занят наш дорогой новорожденный, а именно перевод с французского молдаванских законов. Его превосходное знание французского языка и ожидаемая мною изрядная русская проза…
Но Инзову не дали кончить. Все дружно захохотали, зааплодировали и поздравляли равно и новорожденного, и по–стариковски остроумного Йнзова. Пушкин в ответ пообещал, если только его превосходительство позволит, попробовать некоторые отделы перевести и в стихах, подобно тому, как он это сделал не так давно с десятою заповедью Моисея. Генерал ограничился тем, что погрозил ему пальцем.
Пестеля не было на этом обеде, он пришел не к Инзову, а прямо в комнаты Пушкина и уже после того, как домашнее торжество было завершено. Вместе с другими гостями, Пущиным и Алексеевым, все вчетвером они отправились на прогулку и по предложению Пушкина решили пройти к Ясской заставе — в острог, взглянуть на разбойников, которых в последнее время, в связи с тревожными событиями, появилось великое множество. Это были и беглецы из–за Прута, и свои «расейские», которых потянуло сюда, как на огонек. Пушкин от Инзова слышал об одном таком русском разбойнике, Тарасе Кириллове, который и между своими был славен за лихие дела, и захотелось его посмотреть.
В Пушкине вновь шевелилась и. на разные лады перестраивалась давно вынашиваемая тема о братьях–разбойниках.
Свидание это с Кирилловым не вышло удачным. Разбойник обманул ожидания прежде всего своею внешностью. Правда, он был сильно заросшим, как подобает разбойнику, и брови его были насуплены, а глаза поблескивали из–под них недобрым огоньком, но ростом он был невелик и столь худ, что напоминал собою голодного затравленного волка. Многое, конечно, мог бы он рассказать, когда б захотел, но он не был к тому расположен и отвечал односложно.
— А правда ли, что тебя арестовали в доме какого–то монаха? — спросил Пушкин.
— А что ж, что у монаха, — ответил Кириллов. — Монах монаху рознь. Это генералы все одинаковые!
И он неприязненно, острым глазком блеснул на дородного, хоть и несколько дряблого Пущина. Тот, слегка поколыхав животом, счел необходимым это оспорить.
— Но, однако ж, любезный, и генералы бывают различные.
— А все возможно, — быстро ответил разбойник. — Но только что ты, ваше превосходительство, ты, видать, одинаковый!
Пущин принужден был выдавить у себя на лице улыбку и отошел, взяв под руку молчаливого плечистого Алексеева.
— Знать, не понравилось, — промолвил Кириллов, едва заметно улыбнувшись.
— Да ты, брат, отгадчик, — поддержал его Пушкин, смеясь.
Пестель участия в разговоре не принимал. Но молчание это не было тем преднамеренным холодным молчанием, которое так тяготило и связывало любую компанию. Сейчас это было молчание о чем–то задумавшегося человека.
— Я тоже выйду, — произнес он негромко, тронув Пушкина за рукав.
И, слегка наклонив голову в сторону сидевшего в цепях человека, он отошел. Разбойник глядел ему вслед — как удалялся этот невысокий, стройный и строгий офицер, не сказавший с ним ни единого слова.
— Вот и этот, — продолжал Кириллов после небольшого молчания, как если бы проверял сам себя. — И этот мог бы разбойничать, коли бы судьба так повернулась. Мы на своих людей глаз имеем. Видал ты кольцо у него? Это материно кольцо. Это у всех у нас, разбойничков, одна сердечная думка — о матери.
Но Пушкин был еще более удивлен, когда тот, совсем уж тихонько, добавил:
— Или нашим братом разбойником, говорю, мог бы быть, или же, может, монахом. И этак бывает… Ты приходи один, когда вздумаешь. Послободней поговорим.
Пушкин задумался, выходя, над этим смелым определением и над зоркостью самого Кириллова к людям. Что–то, может быть, он угадал и про монаха: или круши мир, или удались от мира. Но и в том и в другом случае — одна одолевающая дума. «Только уж я‑то, видно, никак не монах, — рассмеялся он про себя. — А Пестель… что же, пожалуй. Он и улыбается не чаще раза в неделю…»
Но первое, что он увидел, выйдя на свет, была именно фигура человека в полумонашеском платье. Что–то знакомое почудилось ему в ней. Однако то проходила довольно большая группа людей, и разглядеть хорошенько не удалось. Спутники Пушкина из некоторого отдаления оглядывали здание острога, едва ли не лучшее во всем Кишиневе, сложенное из огромных камней. Кто–то издали показал ему рукой: глянь над воротами! Пушкин поднял голову и вслух — громко, с сарказмом — прочел душеспасительную надпись «над вратами ада», как успел он бегло подумать:
— «Не для пагубы, но ради исправления».
И неожиданным эхом раздался ответный возглас из толпы проходивших людей.
— Эх, замки хороши! Да только бывает, кто и замки сшибает!
И голос знаком… «Да неужели же это мой Полифем?» Но только как раз часовой движением ружья припугнул оборванцев, и они прибавили ходу: не разглядеть.
А впрочем, Пушкин внезапно был отвлечен еще и чем–то другим. Сначала он услыхал, а когда быстро взглянул в сторону своих, то и увидал: Пестель смеялся!
Это был смех короткий, непроизвольный, вырвавшийся из большой глубины, злой и ликующий смех одновременно, похожий на короткую внезапную молнию. «Нет, в этом человеке сомневаться нельзя!»
Глава двенадцатая ЖАРКОЕ ЛЕТО
Пестель уехал. Лето. Австрийцами занят Неаполь. Под Скулянами наголову разбиты турками греки. Ипсиланти бежал. Россия не поддержала. Большая волна, которая подымала, спадает. Жаркое лето. Пыль, духота. Умер Наполеон.
Кишинев продолжает шуметь пришлым народом. Одних арнаутов до шестисот. Временами они исчезают за Прут. Часть погибает, часть возвращается; так был в бегах и Георгий, живший у Липранди: несколько дней пропадал и вернулся как ни в чем не бывало. Однако же многие и просто разбойничают: поразбойничав, скрываются также за Прут, а те, что разбойничали там, ищут прибежища здесь. В Кишиневе прозвали их «вольноплясами». Кажется, Пушкин напал на одну такую компанию.
Как–то вечером проходил он мимо своей первой кишиневской квартиры. Из окон бывшего хозяина его, Ивана Николаевича, мерцал слабый свет. Пушкин заглянул через стекло. Сальная свеча воткнута была в горлышко низкой бутылки. В полупотемках несколько человек сидели и ужинали. Было любопытно — что за народ, и Пушкин стукнул в оконную раму. Свет погас. Потом, минуту спустя, послышались шаги изнутри, но двери не отпирали. Чей–то голос негромко спросил:
— Чего надо?
И Пушкин, прежде чем отвечать, немного помедлил, соображая. Да, это тот самый как будто монах, который недавно совсем, у острога, крикнул из проходившей толпы, что, бывает, замки и сшибают… Еще какое–то быстрое мерцание памяти, и Александр увидел корявый ствол старой маслины, и несколько треснувших, упавших с каштана плодов, и весь чистый, залитый солнцем монастырский двор… Как сразу он не узнал?
— Спрячь свою маслинную дубинку, Полифем, и отвори.
Послышалось раздумчивое ворчание, потом дверь немного приоткрылась, и в щель выглянул единственный глаз из–под косматых бровей.
— Не бойся. Припомни Георгиевский монастырь и развалины храма Дианы.
— Припомнил уже, — отвечал Полифем, отворяя дверь. — Я вас не раз уж видал, да остерегался подойти.
— Чего же так?
— Ну, положение нынче наше такое… Входите, будете гостем.
Пушкин вошел. Монах засветил свечу. Комната была совершенно пуста.
— А ужин–то и забыли убрать, — весело сказал Александр. — Или это вы, ваше преподобие, кушаете один за семерых?
Тут и монах ухмыльнулся:
— Кушать за семерых мне не надо, а вот выпить, пожалуй. После долголетней засухи влага уходит в меня, как в песчанистый грунт. А это… — он поглядел на миску, на ложки, на разломанный хлеб и покрутил головой. — Неаккуратный народ!
— А давно ль и вы разрешили себе?
— А после свидания с вами, — шумно вздохнул бога — тырь. — Уж очень душевно тогда с вами разговорился. Да и бумажка ваша, ассигнация синенькая, с двумя этими ветками, дубовой и лавровой, внове была для меня-с. Я привык ведь к старинным — по обычаю прошлой моей жизни гражданской. Бывало, возьмешь ассигнацию и читаешь на ней: «Любовь к отечеству — действует к пользе оного!»
— Как и на остроге: «Не для пагубы, но ради исправления»?
— Вот именно-с. Начальство всегда с благих вершин своих учит нас, в низменностях жизни сей пребывающих. Так вот, видите ли, бес–то меня и смутил. Вижу, что молодой господин облик имеет изрядный и понимание вещей проявил, а вдруг, думаю, все–таки — бумажка та настоящая ли, государственная она или просто, может быть, — «дарственная»? Ну и решил испытать, обменяют ли оную на живую влагу, коей душа и чрево равно взыскуют. Ну, и… разрешил. А потом одно за одно стало цепляться, как хотите судите, то ли на пагубу, то ли на исправление.
— А что, уже близко к той надписи?
— На воле пока. Похаживаю около да приглядываюсь. А и похаживаю не зря. О приятелях думаю. Тараса Ивановича давно не изволили видеть?
Пушкин действительно был у Тараса Кириллова уже раза два или три. Начальство это ему разрешало, а арестанты друг перед другом любили его занимать своими похождениями, он же любил их слушать.
— А что он… подумывает?
— А кто же у них не подумывает? Я чай, и орлы на цепях, которых они там пестуют, тоже хотели бы улететь, да цепочка крепка!
— А эти птички улетели тотчас… — рассмеялся Пушкин, кивнув на остатки ужина.
— Да, у нас это тут все приспособлено! С тех пор как покинули вы эти апартаменты-с, кое–какие жизнь получила усовершенствования — во входах и выходах. А осторожность в наших делах — она не мешает.
Александр охотно болтал с нечаянным своим Полифемом, а еще охотнее слушал его. Беглый монах побывал и на войне и ничуть не думал снова оставить мирскую свою жизнь.
— Нет! я грехи впрок замолил — не только прошедшие, но и предбудущие.
К теме об ассигнациях он и еще раз вернулся, и с таким аппетитом и знанием дела принялся рассказывать, как в Москве в двенадцатом году в Марьиной роще французы фабриковали фальшивые сторублевки, — «но только и русские мастера, пожалуй что, им не уступали», — что Пушкину стало казаться, что и сам Полифем не чужд был этого «золотого ремесла».
— Хоть и бумажное оно, а ремесло золотое!
На эти рассказы пришел и хозяин Иван Николаевич Наумов. Он ничуть не смутился, увидев у себя бывшего своего квартиранта.
— Уж вы извините, Александр Сергеевич, так сказать промысловую нашу невежливость, но в ваше отсутствие, видите ль, столь возросла в квартирах нужда-с, что я сам подал их превосходительству мысль, что вам у них будет поспокойнее, чем у меня-с!
— Ты хочешь сказать, что тебе так было выгоднее, но я, кажется, аккуратно платил, — довольно сурово заметил ему Пушкин.
— Дело не в одних, видите ли, Александр Сергеевич, выгодах, — ответил хозяин, — а в том, не извольте обижаться, что вы человек отнюдь не деловой-с.
Ну, конечно: здесь ныне вершились «дела», и, видимо, не маленькие! Пушкину оставалось одно из двух: или окончательно рассердиться, или же рассмеяться. Не он выбирал, — выбирала минута, и минута оказалась не вспыльчивая, а легкомысленная, и он рассмеялся; как, впрочем, и вообще: особенно быстро он оскорблялся, когда «оскорбитель» почему–либо мнил себя выше его, здесь же никак этого не было.
Хозяин был живописен: или плутяга, получивший обличье святого, или святой, пробующий себя в новом ремесле. Но только что кажется: далеко оно не было для него ново. В фальшивых кредитках и он очень хорошо понимал и с большим оживлением принял участие в рассказах монаха. Рассказчика он даже и поправлял.
— Это вы, друг мой, запамятовали. Эти две комнаты, где их работали, именно были на Преображенском бес–поповщинском кладбище. Я как сейчас их вспоминаю.
Полифем супил брови и вспоминал. Было очень похоже, что обоих их связывала давняя дружба и одни и те же художественные увлечения.
— А до чего хороши бывали подделки! — с истинным восхищением обращался к Пушкину Иван Николаевич. — Только что подпись сенаторов была так сказать повторного вида, несобственноручная, да краска была немного погуще. И чтобы их выловить, с семнадцатого года меняли их в ассигнационном банке на настоящие.
— Что видел, что слышал? — спросил вечером у Пушкина Инзов.
«А почему они, собственно, мне так доверяют?» — задумался Пушкин, и в ответе его Инзову был отчасти ответ и самому себе:
— Так… Старых приятелей встретил, товарищей по ремеслу…
— Неужто поэты?
— Нет, только печатники!
И действительно, Пушкину подобный народ доверял. Он ими не восхищался ничуть, но и они отчасти осуществляли какой–то подрыв того самого порядка, который временами так страстно он ненавидел. Ведь и сам он, — не только стихами и эпиграммами, но и поступками, даже самим своим озорством, для многих столь непонятным и искривлявшим их восприятие и понимание Пушкина, буйством своим, порой переходившим и границы приличия, — также, то инстинктивно, а то и сознательно что–то ломал, протестовал. Творчество, жизнь — их можно было, конечно, глядя холодновато–аналитическим оком со стороны, противопоставлять друг другу, но во всем этом на глубине бил единый источник: непримиримость души. Может быть, это как раз и влекло к нему других беспокойников, ни в чем остальном на него не похожих. И это непостижимое доверие к нему с их стороны как–то его обезоруживало.
Как бы то ни было, он никому и не обмолвился об этом своем интересном визите. Даже Липранди он ничего не рассказал. Впрочем, не «даже Липранди», а именно Липранди–то особенно и нельзя было рассказывать, ибо Липранди — великий законник, и у него есть даже особая страсть к расследованию всяких казусных дел.
Ничего Александр не сказал и о другом своем разговоре с самим Тарасом Кирилловым, которого он вскоре после того навестил в его заключении.
Стояли томительно жаркие дни. Все, кто только мог не выходить на улицу, отсиживались дома. Окна были занавешены от непрерывно атакующих солнечных лучей. Собаки лежали в тени, распластанные и неподвижные, как вяло набитые шкуры. Даже птицы примолкли, и только раскаленный воздух был звонок сам по себе и от малейшего сотрясения, казалось, раскалывался на мельчайшие острые брызги. Или то кровь звенела в ушах от огромного напряжения — сохранить свою человеческую температуру в этой раскаленной печи, именуемой Кишиневом?
Пушкин с утра много работал, но к полудню стало невмоготу. Приятелей видеть ему не хотелось. Сегодня он был недоволен собой. Особенно остро ощущалась бесцельность здешнего его пребывания. Скоро должны приехать Раевские… И поправлял себя: не Раевские, — а Орловы. Екатерина Николаевна уже не Раевская! Смутно ему представлялось: молодой генерал, красавица жена, и входит он… Кто? Да так, знакомый… молодой человек. Знакомый! Но какая же дьявольская жара! И сколько этих молодых и красивых жен генералов… Он вспомнил рассказ Александра Раевского о Елизавете Ксаверьевне Воронцовой, которая тоже в конце концов вышла замуж за генерала. Или самое это звание дает его обладателям красоту и пленительность, неотразимость? А вот когда бы приехали, а он — на войне!
Александр был раздражен на себя, на друзей, на Кишинев. Томление одолевало его. Единственно, куда он способен пойти — это в острог. В этом нет, конечно, ни развлечения, ни поэзии. Но это — сама жизнь. Жизнь, как она есть, сгусток того томления, которое возбуждается ею. В острог! По крайней мере там — без обмана!
И странно, в остроге если была не прохлада, то все же можно было дышать. Стены его столь основательно толсты, что самому солнцу не так–то легко их пробить. Гм, в остроге дышится легче, чем где–нибудь… А, как вам это понравится?
В таком приподнятом состоянии Пушкин шагал по мрачному коридору. «Что я Тарасу скажу? И не у него же искать мне ответа о самом себе?»
Пушкин остановился против окна. Одинокое дерево также, казалось, изнывало от жары. Это была белая акация, и сама по себе дерево задумчивое, но теперь она сжала и опустила все свои узкие, аккуратные перышки, точно еще немного, — стоять невмоготу… — приляжет и она в полном изнеможении. Травы, кое–где уцелевшие от арестантских подошв, имели вид тощий и совсем ошалелый. А у двух столбов, поодаль друг от друга, стояли, тяжело дыша и опустив крылья, два молодых орла, возросшие в неволе на тюремном дворе. Они не сдавались жаре, но и их взгляд был невесел. Пушкин вспомнил, как их помянул Полифем, и зашагал к Тарасу.
Тарас Кириллов встретил его неожиданно весело.
— Ой, как рад, что пришел! Я о тебе нынче думал. Проститься зашел?
— Как так проститься? Разве тебя выпускают?
— Ну, еще чего выдумал! Кто это Тараса Кириллова выпустит? Кто из них себе враг?
Глаза у разбойника стали на минуту стальные. Потом он постепенно как бы отпускал их, и наконец они засветились веселым и вместе лукавым огоньком.
— Либо пропаду, либо… воля!
Он теперь говорил совсем тихо, хотя никого, кроме них, в камере не было. Но эти тихие слова были наполнены такой полнотой чувства, что звучали, как боевая труба.
— Ты хочешь бежать? — спросил Пушкин, едва сдерживая охватившее его волнение.
— А как бы ты думал! Тут пропадать? Клетка надломлена. Ночка придет, доломаем! Я не один.
Так вот какой ответ дал ему Тарас. Гость сам ни о чем и не спрашивал, а тот отвечает!
Александр лег спать поздно. Вечером повеяла откуда–то тонкая прохлада, и стало легче дышать. Он едва успел задремать, как его разбудила тревога. Бил в ночи барабан, подобный набату. Тотчас он вскочил. Бросился было, видно не вовсе еще пробудившись, прямо к окну: решетка! Ах!.. Быстро оделся и выбежал вон через двери. Легкая тучка скользила над месяцем, то освещавшим дорогу, то прятавшим. Он перескакивал через канавы, сокращая путь.
Споткнулся и о какое–то бревно ушиб ногу. Но продолжал бежать.
Он уже видел один побег арестантов в Екатеринославе.
Увидит ли здесь? Все ли пройдет благополучно? Удастся ли? Как бы теперь не поймали…
И он увидал. Увидал мелькавшие по стене тени. Раздалось два выстрела, один за другим. Крики погони:
— Лови их! Держи!
Через четверть часа все было ясно. Не всем беглецам удалось ускользнуть. Но сам Тарас и с ним еще два–три товарища скрылись. В ближайшем овраге для них были припасены быстроходные кони. Кто–то кричал в разных местах, отвлекая внимание. Какая–то доля минуты решала дело и была выиграна. Кириллов с товарищами скачут на воле.
Но Пушкин узнал и увидел еще и другое.
Мальчик шестнадцати–семнадцати лет, заметив побег, схватил свой барабан и поднял тревогу. Один из бежавших разбойников ударил его ножом по лицу около глаза. Рана была глубокая, но он продолжал бить в барабан.
Пушкин был потрясен. Вот жизнь как она есть!
Он помнил Кириллова, и ему хотелось думать, — пусть это сентиментальная мысль! — что не он нанес страшный удар. Но не мог забыть и этого маленького барабанщика; долго не мог забыть.
Михаил Федорович Орлов, вернувшись, расположился уже на два дома. В одном протекали его служебные часы, в другом жил он сам со своею молодою женой, туда же к нему приезжали родные, там принимали и прочих гостей. Теперь у него стало еще веселей и оживленнее.
Пушкин первое время немного стеснялся часто бывать, да и сам Орлов на этом особенно не настаивал. Но когда к молодым приехала погостить вся семья Раевских, Пушкин опять почувствовал себя у Орлова как дома.
— Да ты оставайся тут с нами, — отечески пригласил его Николай Николаевич в присутствии хозяина дома. — Пусть Иван Никитич без тебя поскучает, покуда мы здесь.
Пушкин едва сдержал себя, чтобы его не обнять. Эти четыре дня, которые он провел вместе с Раевскими, среди всего лета были каким–то оазисом, кусочком Юрзуфа. Небо сияло безоблачное, море пело в душе. Он не приходил к Раевским, он жил вместе с ними.
Основное дыхание покоя шло, как всегда, от отца. Он тоже умел быть беспокойным, порою даже и деспотичным, но это случалось не часто, а в этот приезд — на отдыхе, между своими, спокойный наконец за свою старшую дочь, — он напоминал большое великолепное облако, покоящееся в синеве.
Генерал посетил и Ивана Никитича Инзова, подробно оглядев все его богатое домашнее хозяйство, особенно восхищаясь новыми посадками. Два немолодых генерала, достаточно отведавшие боевых тревог за свою беспокойную жизнь (а Инзов ведь и с самим Суворовым переваливал через Альпы!), — оба они теперь глядели на небо, стараясь отгадать на завтра погоду, не покропит ли долгожданный дождь, и припоминали другие народные приметы. Вечером Инзов отдал визит, и за чаем все тот же неспешный был разговор — баюкающий и завораживающий. Пушкин, слушая их, не только не скучал, но незаметно начинал понемногу ощущать себя маленьким мальчиком, возраставшим в милом далеком Захарове. И какая это отрада — забыть о своих взрослых годах, о тревогах, ответственности, даже и о любимой работе и на какой–то срок почувствовать себя при «настоящих больших»…
Но ежели любимую работу на какое–то короткое время и позабыть, она тебя не забудет. Детский и деревенский мир, всколыхнувшийся в Пушкине, не просто в нем всколыхнулся, и недаром он сам знал, помнил, любил деревенскую эту мудрость, накапливаемую веками. Недаром. Немного спустя пришла и работа. Спокойно и ясно, как голос Раевского, как голоса многих деревенских людей, как сама, наконец, и природа — русская, с детства родная, — так он нашел и себя, беспокойный, спокойного — в этих строках, написанных несколько позже — жарким кишиневским летом, где и оно отразилось, и такие же летние дни далекого детства в скромной русской деревне.
Старайся наблюдать различные приметы:
Пастух и земледел в младенческие леты,
Взглянув на небеса, на западную тень,
Умеют уж предречь и ветр, и ясный день,
И майские дожди, младых полей отраду,
И мразов ранний хлад, опасный винограду.
Но рядом с этим покоем и тишиной звучала и музыка сердца. На рукописи «Кавказского пленника» Пушкин как–то в задумчивости начертил профили всех трех сестер: со спокойною гордостью Екатерина; поникшая, как плакун–трава, Елена посередине, а с другого края Мария. Она удалась ему более тех. В Киеве еще как–то он проболтался об этих рисунках. Мария теперь о них вспомнила и просила, чтоб показал.
— Елена совсем у вас как былиночка, — сказала она. — Ей и показывать этого не надобно. А неужели такая действительно гордая Катенька? Правда, что она числится фрейлиной, но разве в ней это заметно?
Александр слегка покраснел:
— Она генеральша!
— Вы это сказали точно с обидой, — улыбнулась Мария в ответ. — Вы в нее были немножечко влюблены, разве не правда?
— Во всяком случае менее, чем она в свое отражение в зеркале, — воскликнул он, намекая на посвященное ей четверостишие и стараясь некоторою вольностью речи скрыть невольное смущение.
— Ой, какой вы недобрый! А при ней вы повторили бы это?
— Если этого потребуете вы.
Но Мария вовсе не думала ни обижаться за сестру, ни читать ему нотации или чего–нибудь требовать. Трудно это наверное утверждать, но, кажется, она даже ничего не имела против того, что Пушкин чуть–чуть подерзил если не перед самою Екатериной, то хотя бы перед ее изображением.
— А почему вы ничего не скажете о себе? — спросил Александр.
Мария посмотрела еще раз на эту устремившуюся вперед юную головку в шапочке и с локонами; уверенная и стремительная черта, идущая от плеча, была так экспрессивна, что, может быть, больше всего передавала тот внутренний полет, который был схвачен в наброске.
— Так вы меня такой видите? — спросила она с раздумьем, проведя мизинцем черту по рисунку.
Она часто имела обыкновение держать пальцы сжатыми в горсть. Так и сейчас — для этого движения она отогнула один. Весь кулачок остался, как был, и лежал на бумаге. Пушкин отлично знал, давно уж приметив, эту ее манеру. Конечно, это было не зря, верно, в такой же строгости, собранности держала она и свой внутренний мир.
— Я вас такой вижу, — сказал он, почти повторяя ее слова и чувствуя вместе с тем, как эта его уважительность неудержимо теплеет, теплеет… — А вам черта эта, кажется, нравится?
— Мне все это нравится, — вдруг сказала она также с чудесным внезапным теплом.
И она подняла руку над тетрадью, разогнула все пальцы и теплой ладонью положила ее на рисунок. Александр увидел на безымянном пальце кольцо, — то самое, которое рна выиграла на лотерее в Киеве, — его кольцо!
Если бы его не было, может быть, все было бы как–то иначе, а не так, как на самом деле произошло. Эта теплая раскрытая ладонь, легшая на его рисунок, изображавший ее, и эти слова: «Мне все это нравится», произнесенные с такою нежданной детской открытостью, — как теплым ветром с моря пахнуло на Пушкина. И как открываешь грудь навстречу тому ветерку, так и Пушкин душою, открытой до дна, устремился к ней, и уже успела пропеть, как птица, строка, и пела другая:
Одна черта руки моей,
Тебе довольно, друг мой нежный…
— и, зазвенев, оборвались: когда он узнал простенькое свое, с бирюзою, колечко. Это было уже что–то другое. Это не нежность. Но, боже мой, неужели ж?.. И одна волна перехлестнула другую — новая, бурная — эту, едва лишь родившуюся: эту запевшую хрупкую нежность. Все в нем забилось в смятении, а внешне он закаменел: душа не успела в этой быстрой смене принять и понести на цельной волне ни того, ни другого чувства. Так неужели же что–то непоправимое произошло?
Вероятно, это длилось всего лишь немного секунд, но даже для глаза, физически — казалось ему, что Мария вовсе не близко, тут же, у стола, она виделась ему на отдалении, а рука ее на тетради показалась такой одинокой и сиротливой, как непринятый дар. Он весь встрепенулся, преодолевая эту мороку. И совсем близко, по–прежнему, снова увидел ее, простую и ясную, с чудесной улыбкой. Эта улыбка его остановила.
— Что с вами? — спросила она. — Вы так удивились кольцу? А я и забыла о нем. («Правда ли?») А надела нарочно, вам показать, чтоб вы не думали, что я потеряла.
Все было правдой. И детский ее замысел был налицо. Только бы она ничего не заметила! Он сделал над собой усилие и что–то ответил ласково–весело.
Но ночью, когда уже лег, ему было очень горько. И казалось, что она совсем не понимает его. И где–то без слов возникала элегия о непонятной его любви. И что он скоро умрет. И голос его в мире замолкнет… Как во Флоренции умер кудрявый веселый Корсаков, милый товарищ его по лицею. А старцы останутся жить и будут глядеть рассудительно спокойными глазами, будет ли завтра вёдро иль дождь. И может быть, только одна… она все же любила меня! — только одна будет лить слезы и вспоминать золотые минуты любви.
Все это шло из глубины существа. И в то же самое время все это можно назвать: жаркое лето и молодость. Та самая молодость, что как бирюза в кольце нашей жизни.
Эти снова «юрзуфские» дни для Пушкина протекали под знаком Марии.
С Давыдовыми, проездом в Одессу, прибыли два их знакомца, молодых человека, очень воспитанные и изысканно любезные. Один из них, очень богатый и знатный, граф Густав Филиппович Олизар, откровенно влюблен был в Марию. Пушкину было досадно, что он не мог на него в полную меру сердиться: сам по себе молодой человек («к несчастию!») был симпатичен, душа у него была чувствительная и поэтическая. Однако еще большим его достоинством было то, что сама Мария, очевидно, никак не отзывалась на его нежные чувства.
Но кто особенно восхищал Пушкина, это опять–таки Николай Николаевич. Он слышал однажды, как тот говорил в кабинете Орлову:
— И что мне до того, что давний предок его созывал какой–то там сейм, а другой предок был маршалком коронного трибунала, а потом стольником великим и опять же коронным. А отец его опять–таки был маршалком коронного трибунала при Станиславе—Августе, и послом на сейме девяносто второго года, и членом русской эдукацион–ной комиссии на Литве, а брат Нарцис Филиппович сенатором состоит Царства Польского… Что мне до того?
— А вы хорошо изучили всю родословную графа!
— Изучишь, мой друг, когда он вот–вот постучится в семью: можно ль войти? А ведь различие наших религий, различие способов понимать взаимные наши обязанности, да, наконец, и различие национальностей наших…
Пушкин никак не различал национальностей в деле любви, а о религиозных различиях ему и помыслить было б смешно, но он, тем не менее, слушал это сейчас с превеликим удовольствием, ибо это воздвигало преграду между Мариею и Олизаром. Но уже поглубже надо бы было задуматься над этим «различием способов понимать взаимные наши обязанности», что особенно подчеркнул Раевский, и это была не банальная мысль о религии и национальности — то мог бы высказать и всякий другой человек старого склада, — в этом же проступал внутренний характер самого Николая Николаевича, думающего и поступающего именно что «на свой салтык». Но Пушкину некогда было особенно размышлять, — разговор шел и дальше.
— Да к тому же, — продолжал Раевский, — он уже был женат…
— На иностранке, — добавил Орлов.
— Да, на графине де Моло. И уже успел развестись. Двадцати лет от роду, и уже развелся.
«Они говорят о нас, как о мальчишках», — невольно подумалось Пушкину.
— И все маршалки, да маршалки! — опять с нескрываемым раздражением вернулся к той же теме Раевский. — И этот вот–вот станет киевским губернским маршалком… Да что мне до того!
И это опять была собственная благородная натура Раевского: он терпеть не мог величания чинами и званиями.
Вместо привычных политических разговоров вечером был домашний концерт. Граф Олизар очень недурно играл. Руки его, несколько женственные, с длинными пальцами, томно задерживались в воздухе, прежде чем упасть на клавиши. Мария пела.
Александр слушал ее издали, затаясь. Свет от свечей трепетно озарял ее все еще полудетский профиль. Как и на рисунке его, голова девушки устремлялась вперед, несколько широкая, девически нежная шея слегка колебалась, покорствуя звукам, и все это вместе было так человечески гармонично и дышало такою чудесною, не небесной, а земной чистотой, что нельзя было не поддаться общему ее обаянию.
Голос Марии совсем не был силен и не отличался какой–либо особою красотой, но, и не умея, она умела сказать в нем себя. Сказать не словами, где человек все же несколько как бы расчленяет себя и всегда надо немного подождать, чтобы по–настоящему верно понять и воспринять то основное, ради чего все и говорилось. Здесь же всякий звук и каждая мелодическая фраза воспринимались в их истинном выражении и полноте. И выражение это было живое, свое, ей одной в мире принадлежащее. Пушкин не знал и не думал о том, как это воспринимают другие, но сам он был в том состоянии, когда воспринимать — значит совместно творить. Он хорошо знал и ценил это чудесное человеческое свойство. Еще совсем юношей он писал, обращаясь к Жуковскому, о таком идеальном читателе и называл блаженным того,
Кто наслаждение прекрасным
В прекрасный получил удел
И твой восторг уразумел
Восторгом пламенным и ясным!
Так изумительно, с совершенною точностью выразил он ту особенную форму восприятия и понимания, когда чувство берет на себя эту новую для него роль — уразуметь. Только слово «восторг» не было сейчас определяющей формою чувства. Это не был порыв, это было ровное, гармонически ясное и человечески теплое раскрытие внутренней жизни души и ее восприятия мира.
Порою пел голос и о тревоге, вставали вопросы, раздумье, борение с собою самой. Это никак не была первобытная невинность птичьего пения или хрустальные звуки ручья, говорящего о непрерывном движении мира. Сложность, сознательность и острота человеческой жизни, объемлемые, впрочем, гармонией, все богатство противоречий, преодолеваемых живым человеческим «я», — вот что звучало в тот вечер для Пушкина.
Как музыку слушают? В меру богатства души самого слушающего. И еще ее слушают так, что у каждого встают свои ответные видения. Они не имеют какой–либо видимой формы, но у них есть своя жизнь, тесно сплетающаяся с разбудившими ее к бытию музыкальными образами. Так слушал и Пушкин.
То казалось ему, что его уже нет, что лира его умолкает, умолкла, и тогда–то, поняв его чувства, Мария твердит собственные его печальные стихи, где был затаен жар его сердца. То она строго допрашивала его о чувствах, растраченных в мятежной его младости, и он уверял, что это забыто и отошло, и бескорыстно, невинной, ей слал пожелание того ясного счастья, для которого она рождена, и умолял не спрашивать о прошлом, дабы не улетела беспечность доверчивой ее души. И все эти чувства и думы сами собою искали свою форму и интонацию. Он не ясно еще их осознавал, но уже возникали они, как тот самый, первичный набросок Марии, что вот, как видение, стоит перед ним — мгновенный и непреходящий: живой.
Не говоря себе слова любовь… — или сказать? — он любил ее истинно в этот короткий вечер, в который уместилась — если не вечность, так жизнь.
Эти короткие музыкальные фразы и бытие их в Марии, они в нем звучали уже — в начальном соприкосновении с чувствами, искавшими слов. Этой стихии своей верен он был органически. Время придет, и другая стихия — ясного разума — осветит и сделает видимым то, что зачато сейчас. Это еще не стихи, не те две элегии, что напишет несколько позже, но им не суждено было бы быть, если бы не было этого их зарождения в сегодняшний вечер.
Мой друг, забыты мной следы минувших лет
И младости моей мятежное теченье.
Не спрашивай меня о том, чего уж нет,
Что было мне дано в печаль и в наслажденье.
Душа твоя чиста: унынье чуждо ей;
Светла, как ясный день, младенческая совесть.
К чему тебе внимать безумства и страстей
Незанимательную повесть?
Не требуй от меня опасных откровений:
Сегодня я люблю, сегодня счастлив я.
Вечер этот прошел, как проходит все в жизни. Но то, что в нем было особенного, это богатство и полнота сложно колеблемых чувств, слитых в единое очищающее чувство, — оно не умерло и не ушло, а сопутствовало Пушкину, то как бы замирая, то возрождаясь, всю его жизнь.
Глава тринадцатая ОВИДИЕВ ПЛЕМЯННИК
Пятого ноября в Кишиневе произошло сильное землетрясение. У Орловых за обедом попадали стаканы со стола; а люстры зазвенели, как колокольчики. Те, кто стоял в эту минуту, казалось, раскачивали пол, налегая то на одну ногу, то на другую. Дом заскрипел, как в бурю корабль, но устоял. Все выбежали вон. Улицы были полны народа. Мужчины тащили разные вещи, женщины плакали, дети в восторге смеялись.
Едва ли не более всех других домов в городе пострадал инзовский дом на горе. Стены расселись, часть крыши сползла. Оставаться в нем было, особенно в верхнем этаже, не безопасно, и Инзов перебрался в дом по соседству.
Но Пушкин не захотел покидать своих комнат, к которым привык. К тому же ему по–молодому нравилось пожить среди развалин, и притом одному.
По вечерам стояла глубокая тишина. Ничто не мешало работать. Все в той же, за ночь еще отстоявшейся тишине приходило и утро. Звуки были только в душе. И, не вставая, Пушкин тянулся и брал бумагу и карандаш.
Утром однажды в наружную дверь раздался с террасы внезапный, какой–то деловитый стук. Никиты не было дома.
— Войдите! — крикнул Пушкин. Никто не отозвался. Почудилось?
Но стук повторился с еще большей настойчивостью.
— Да войдите, кто там? Снова молчание.
Пришлось накинуть халат и выйти взглянуть. Никого не было. «Началась игра в привидения, но почему же утром, не ночью!» И тут заметил на дереве, росшем у самой террасы, пестрого дятла. Птица внимательно поглядывала на него, как бы спрашивая: «Откуда ты взялся и зачем меня потревожил?»
Так это был дятел! Он принял замолкшую усадьбу начальника края за выморочное недурное местечко, которое любопытно было исследовать. Этот нечаянный утренний гость привел Александра на целый тот день в хорошее расположение духа, и он похвастался не перед одним из приятелей, какой утром был у него интересный гость!
А по вечерам раза два или три, выходя посидеть в темноте на террасу, он слышал безмолвные перелеты запоздавших птичек на юг. Пролетали они, не видимые и не разговаривая между собою, но, кажется, на небольшой высоте, и оттого был слышен и возникавший и затихавший трепет их крохотных крыл.
Это было чудесно, и Пушкин об этом никому уже не рассказывал. Да и кому рассказывать? Рассказать было бы можно только Марии. Но Раевские давно уже отбыли в Киев.
Пушкин теперь по–прежнему часто посещал Орловых. Екатерина Николаевна чувствовала себя среди мужской молодежи, бывавшей у них, очень свободно. У нее у самой был отчасти мужской ум, она очень была образованна и на равных правах принимала участие в спорах, у Орлова никогда не умолкавших.
Кроме вопросов домашних, российских, часто обсуждалось положение вещей в Европе и на Балканах. Кто–то однажды помянул об известном «Проекте вечного мира» аббата де Сен—Пьера, и на несколько вечеров эта идея стала предметом страстного обсуждения.
Среди приятелей Пушкина к тому времени прибавился новый, которого доселе он встречал лишь случайно при служебных его наездах из Аккермана в Кишинев, куда теперь вызвал его на постоянное жительство Михаил Орлов. Это был майор Владимир Федосеевич Раевский.
— Раевские для меня не переводятся, — шутил по этому поводу Пушкин.
И этот новый Раевский, «особенный», по памятному определению Охотникова, действительно занял особое место в кишиневский жизни Александра.
Владимир Раевский был худ и высок, одновременно задумчив и страстен, и страсть эта почти целиком уходила в политику. Трудно сказать, у кого было больше непримиримости: у него или у Охотникова, но у Раевского выливалась она более бурно, обжигая настоящим огнем. Все в нем непрестанно кипело, и он был самым яростным спорщиком, всегда увлекаясь даже и самою стихиею спора, ибо это было образом и подобием какой–то настоящей борьбы, к которой неудержимо рвалась его страстная натура. Кроме того, он был очень начитан и многое знал достаточно основательно из того, о чем Пушкин имел лишь самое общее представление.
Майор Раевский был «маленькою энциклопедией» и в спорах о вечном мире касался этого вопроса, начиная с древнейших времен. Он вспоминал, что, по утверждению Платона, война есть естественное состояние народов, а римляне хотели утвердить вечный мир порабощением многочисленных племен под благородную римскую пяту, что позже французский король Генрих Четвертый мечтал об одной великой христианской республике, созданной из всех европейских государств…
Александр с места его прерывал:
— Наподобие священного полицейского союза моего царственного тезки?
Екатерина Николаевна тихонько звенела чайною ложечкой, призывая поэта к порядку. Ее самое хоть и прозвали Марфой Посадницей, но она не любила быстрой верховой езды и хорошо умела держать в своих крепких ручках равно и коня, и мужа, и разговоры, ежели они переходили в галоп.
— Вообще, — вставляла она и свое умиряющее слово, — мне нравится больше другой Сен—Пьер, написавший чудесную пастораль «Поль и Виргиния» и назвавший двоих своих детей именами героя и героини. Правда, что он слишком увлекался молоденькими девушками…
— Это невеликий грех, — смеясь, возражал Александр.
— А на одной из них наконец–то даже и женился, — продолжала Екатерина поддразнивать Пушкина, — когда ему было, если не ошибаюсь, уже пятьдесят с лишним, а потом и еще раз женился, уже в шестьдесят… Предсказываю и вам такую судьбу.
— Тогда я на вашей внучке женюсь!
Но тема была сама по себе такова, что она выносила лишь самую короткую передышку и спор возобновлялся с новою силой. Пушкин, хоть и кратковременно, но увлеченный новой идеей, готов был пожертвовать своею недавней военной романтикой ради действительного вечного мира, когда Наполеоны были бы всего лишь нарушителями общественного порядка. Но для этого и правительства должны стать иными…
Еще свободнее чувствовали себя молодые люди — и сам Пушкин, Охотников, Алексеев, поэт Вельтман и Горчаков, когда собирались они у Липранди. Здесь разговор часто шел и о литературе. Владимир Раевский и сам писал стихи, но еще с большей охотой критиковал чужие. Его суждения были дельны и остры. Вельтман его просто побаивался, а тот совершал кавалерийские наезды и на самого Пушкина, и не всегда несправедливо; случалось, что с замечаниями его приходилось считаться.
Владимир Раевский теперь заменил Охотникова в школьных военных делах. Учил он солдат и юнкеров с большим увлечением. Даже преподавая такую невинную вещь, как география, он занимался настоящей политикой, попутно рассказывая о революционерах прошлых времен и о современных испанских событиях.
Географию, впрочем, и сам он очень любил, путешествуя так в веках и странах. Увлечение это не знало границ. Своего арнаута он наказывал за пьянство тем, что сажал его за книгу и заставлял изучать географию. Арнаут, по–видимому, оказался способным учеником и не страшился того, а скорее как будто желал, чтобы наказание повторялось почаще. Зато и успехи его были немалые. Как–то Пушкин не мог найти одного города на карте Европы. Раевский позвал арнаута, и тот сразу же его показал.
— Я пью будто бы часто, — оправдывался Александр, — но теперь обещаю пить еще чаще, чтобы вы, Владимир Федосеевич, меня географией наказывали! Вижу, что пьянство полезная вещь!
И на самом деле приходилось подтягиваться, библиотека Липранди то и дело приходила в движение.
Раевский сидел у Липранди один. По воскресеньям Пушкин обедал у генерала Бологовского и должен прийти прямо от него.
— Чего–нибудь, верно, веселенького оттуда опять принесет, — промолвил хозяин. — С ним это случается: ежели выпьет, так и сам начудит. Вы не знаете?.. Обедали раз у Орлова. По какому–то случаю был и Иван Никитич Инзов. Было человек нас двенадцать, пожалуй, а Пушкин штатский один. У Инзова, хоть и много было нас, георгиевских кавалеров, у одного «Георгий» на шее. По этому случаю — тост.
— Его нельзя не ценить более всех других орденов!
— Натурально. А Александр Сергеевич был немного уже, как говорится, на взводе, хоть тогда еще и не готовился у вас изучать географию… Поглядел на меня да еще на одного есаула (а он знал, что «георгин» у нас только серебряные), да и говорит: «А такие вот имеют преимущества более, нежели все другие».
— Потому что серебро это избавляет солдат от телесного наказания, — перебил Раевский.
— Ну вот, в одно слово! — воскликнул Липранди. — Так же и он.
— Что же, небось кое–кто и обиделся?
— Да нет, посмеялся во благодушии.
— А между тем это ведь не смешно. Надобно жертвовать жизнью, чтобы себе заработать эту… привилегию! Пушкин об этом и думал. И ежели думал, даже будучи выпивши, сколь глубоко в нем эти мысли сидят! И молодец!
— Тут про меня что–то судачат…
— Пушкин, да откуда ты взялся?
— От Бологовского. Ну уж мужчины судачат — пускай, а вот одна дама недавно как меня аттестовала: «Не говорите вы мне о неприличных его эпиграммах. Все его поведение есть одна сплошная эпиграмма!» Как вам понравится? Ведь неплохо сказала, не будь она дама!
Пушкин был весел, приподнят,
— Нет, что я вам расскажу… У Бологовского, смех… был Димитрий Руссо. Ну, который в деревне живет, исправником был. Ведь генерал любит так, незаметно, над другим посмеяться и все расспрашивал, как тот царя у себя в уезде встречал. И что бы вы думали? Печку надо было топить, обед для царя стряпать. Димитрий Яковлевич и налетел… Дрова разожгли, видите, простые.
— А какие же надо?
— А вот в том–то и дело! «Как это можно: для императора такие дрова, какими каждый царап топит печь!» Хорошо?
И Пушкин залился неудержимым хохотом.
— Правильно, кажется, я запомнил: мужик — это царап? Ну так вот. А там строилась мельница, и из дубового леса уж приготовлены были колеса и клинья. Так он… все велел переколоть и сам… вытаскивал из печки горящие поленья и совал туда дубовые чурки…
Пушкин всех заразил и рассказом, и смехом. Но сам он вдруг перестал смеяться.
— А между тем если подумать, то во вновь завоеванных странах, хотя б и на свой манер, не должны ли честь воздавать повелителю?
Это было совсем неожиданно: то ли Пушкин сказал это всерьез, то ли смеялся опять.
Скоро пришли Алексеев и Горчаков; Алексеев — приятный, спокойный и не слишком разговорчивый, Горчаков — совсем еще юный, напоминавший круглолицую деревенскую девушку, застенчиво–озорной. Здесь играли и в карты, но не азартно, на то было много других открытых домов в Кишиневе. Разговор перешел на литературные темы. Пушкин по просьбе Раевского прочел еще раз любимый его «Кинжал». Каждый раз тот слушал эти стихи с побледневшим лицом и крепко сжав тонкие губы.
— «Свободы тайный страж, карающий кинжал!» — повторил он любимую свою строку. — Но все же напрасно вы и это чудное свое стихотворение наполнили мифологическими именами и именами древних героев. Мы — русские и должны воспевать свое.
Так ранние стихи Пушкина о Наполеоне Владимир Раевский критиковал за неверности географические, а тут за мифологию. Так из него («Как пружина из старого дивана!» — воскликнул однажды, рассердясь, Пушкин) всегда вылезал критик.
Но мифологию Александр никак не хотел уступить. Это было постоянным предметом их расхождения.
— Не вечный мир, о котором толкуете, а вечная ссора, которую осуществляете, — смеялся над ними Липрандн.
— И вечно за мифологию буду я воевать. Скажешь всего одно слово, а за ним бессмертные образы. А если читатель не знает, так в этом я не виноват, и он должен знать! Вот о чем позаботьтесь.
— А русская, наша старина? Как же ее забывать?
— А это дело другое. Я знаю: Вадим, Марфа Посадница… Я напишу про Олега. На память о Киеве. Как был он в Царьграде и умер от собственного своего коня… Хотите?
Прокинули все–таки две–три партии в экарте. Скучно без Вельтмана. Он совсем не умеет, а очень любит эту игру, с ним было б весело. Почему его нет?
Раевский зато развеселился сегодня. Веселость его была, как всегда, совсем особого рода. Липранди ее называл «мрачно–веселым расположением духа» или «майор нараспашку, но при кинжале».
Владимиру Федосеевичу пришла в голову мысль переложить известную песенку «Мальбрук в поход собрался» на «прискорбный случай смерти» подполковника Адамова. Тут подошло еще несколько молодых людей, и в общем шуме составилась эта пародия–песенка, в которой добром помянули и шагистику, — был Адамов ей предан до страсти, — и здравствующего начальника сабанеевского штаба Вахтена, выписавшего для учебных занятий метрономы. Всяк привносил от себя какое–нибудь словечко. Пушкин не знал этих людей, о которых в отрывках уже зазвучали отдельные строки, и в составленье стихов участия сам не принимал, но он подбадривал, и подкрикивал, и подпевал этим молодым людям, расшалившимся, как школьники на перемене. Адамов скончался. Адамова несут хоронить, и хор голосов звенел на всю квартиру Липранди:
За ним гусиным шагом
Капралы шли рядком,
И Вахтен шел под стягом
И нес свой метроном!
Кое–кто в лицах шествие это тут же и изображал.
Но скоро и это оставили. Разбились по группам. Появилось еще винцо. Чокались и переплескивали из рюмки в рюмку, вспоминая, как в средние века делалось это затем, что если в братине было подмешано яду, так чтобы попалось его и хозяину. Кто–то стал утверждать, что на пытках слово «говори» значило то же, что «режь». У Пушкина с Раевским и тут загорелся спор по поводу цыганской песенки, которую Александр слышал в трактире и переложил по–русски: «Режь меня, жги меня!» Кто что утверждал, в общем шуме и гаме понять было немыслимо. Но вдруг из угла, возле входных дверей, раздалась мелкая и лихая дробь каблуков и залихватская та самая песенка: «Ой жги, жги, жги, говори! — Рукавички барановые!» Все обернулись, все рассмеялись.
— Ларин! Откуда? Опять в Кишиневе?
— Ларин — всесветный барин, — отвечала фигура из угла. — Где был, там нет, и хоть съел обед, а закусить охота! А вы там, малявки, оставили мне хоть на донышке? Саша, суконка, здравствуй, как рад тебя видеть!
Илья Ларин действительно был всероссийским бродягой. Пострадав некогда за правду, он, в звании унтер–цейхвахтера, скомандовал сам себе: «Шагом марш!» — и отправился бродить по империи. Пищи ему нужно было не много, но зато питья никогда не довольно. Вельтман, друживший с ним, уверял, что мать, несомненно, вспоила его не молоком, а вином. Знали его во многих местах. Он всюду входил, как к самым лучшим приятелям, которые только и ждут, как бы с ним вместе повеселиться.
В Кишиневе, однако ж, едва ли не в первый раз в жизни, постигла его неудача в самом начале.
Как то и подобало, к первому он заявился к Орлову, и как раз во время обеда. Он так и вошел с железной дубинкою, красный и потный, в пропыленном длинном сюртуке, остановился в дверях и осипшим голосом рявкнул:
— Здравствуй, Орлов! Настоящий орел! Руку!
Михаил Федорович не был охотник до подобных шуток. Он окинул гостя взглядом, поднялся и подошел к Ларину. Тот стоял с протянутою для приветствия рукой. Для всех неожиданно, как на параде, Орлов ему громко скомандовал:
— Во фронт! Руки по швам! Налево кру–гом! Скорым шагом — марш!
Ларин точно, в струнку, вытянул одну руку по швам, а другою вскинул дубинку как ружье на плечо, повернулся налево кругом и молодцевато замаршировал туда, откуда пришел. Он только позволил себе, и достаточно громко, с некоторым даже одушевлением команду продолжить:
— Раз, два! Раз, два!
Вскоре после того он заявился и к Липранди. Это было еще летом. На широком дворе, переходившем в сад, сам хозяин, Пушкин, Вельтман и Горчаков играли в свайку. Арнаут Георгий Джавела тут же, на воздухе, раздувал самовар, а возлюбленная его, хорошенькая христианка Зоица, погромыхивала чайной посудой.
— Ах, малявки! Да они тут чаи распивают, в свайку играют… А вы не знаете, что где два Александра, там обязательно должен быть и Илья. А Илья — это я! Сашка, суконка! Что ж он молчит?
— Что тебе надо? — серьезно спросил Липранди.
— Ах, собака! Известно что: чем гостей встречают?
— А знаешь, чем провожают?
— На, провожай! — крикнул Ларин и засадил в землю дубинку до половины.
Хохот, и мир заключен. Даже дружба была заключен на. Вельтман очень потом любил это рассказывать, а то даже и представлять.
Так и теперь, точно бы Ларина только и недоставало, пришелся он кстати, и еще один денек из кишиневского пестрого бытия доливался почти до краев.
— Ларин! А Вельтмана нет почему? Ты его не видал? — спросил Липранди.
— Видел. Суконочка бедная горит, как кастрюля медная. Два дни не пил, не ел, как бы совсем не сгорел… А когда ж ты меня за Зоицу посватаешь? Такая она малявочка чистенькая… И ведь ты сам обещал.
Тут подошел Пушкин:
— А зачем ему две жены?
— Ах, собака! Да какая же у меня жена?
— А рюмочка–то?
— То не жена моя, Саша. Рюмочка — она моя разлюбезная!
— Оставь его, — промолвил Липранди. — Александр Фомич заболел. Вот он говорит.
Пушкин встревожился и предложил Раевскому пойти навестить Вельтмана. Липранди остался с другими гостями.
Вечерний воздух быстро освежил молодых людей. Как бы вовсе и не было ни шума, ни споров, ни Мальбрука, ни Ларина. Сам собою возник сова другой разговор. Это были короткие фразы, в такт шагам и мыслям.
— А все–таки наша резкая нота и разрыв дипломатических отношений с Турцией! Строганов больше в Стамбул не вернется.
— И на юге восстание не утихает, — добавил Раевский.
— Мне очень хотелось бы в Петербург, но ежели будет война, пусть оставят меня в Бессарабии.
Так вечный мир был далекой мечтой, а жизнь и звала, и говорила другим, сегодняшним голосом.
— Вы были, Владимир Федосеевич, за Владимиреско?
— Да, он стоял ближе к народу.
— А я боялся всегда, что для Ипсиланти он будет помехой. Помехой к тому, чтобы Россия вступила в войну. Императора нашего это, наверное, очень пугало.
Раевский молчал. Неужели и он, так же как Пестель, был против того, чтобы Россия выступила на стороне Ипсиланти? Но прямо об этом спросить Александр не хотел, хотя это так для него и оставалось неразрешимой загадкой. Если уж спрашивать, так у самого Павла Ивановича. А когда он увидит его? И увидит ли?
А Раевский заговорил между тем об Овидии. Это было едва ли не излюбленной темой бесед между Пушкиным и Липранди. В эти разговоры Раевский редко вступал, но Александр теперь Овидия много читал, невольно его судьбу сочетая со своею судьбой, и Владимир Федосеевич прозвал его Овидиевым племянником.
Об этом он заговорил и сейчас.
— Что это вы вдруг перешли на моего дядюшку? — спросил Пушкин, смеясь.
И взглядом добавил: «Я понимаю, просто затем, чтобы переменить разговор?»
Кажется, это было действительно так, но Владимир Федосеевич уже говорил с истинным одушевлением, и тема была горяча: он говорил о судьбе поэта.
Вельтман лежал, но не спал. Он был очень рад нежданным гостям и не смущался так, как всегда. Рука его была горяча, горели глаза. Ему рассказали о Ларине, но он едва улыбнулся, хотя вообще был по–детски смешлив. Его занимали другие какие–то думы.
— Вы помните, как–то мы с вами, — заговорил он, не отрываясь взглядом от Пушкина, — присели однажды на берегу реки Бык, а в грязной заводи лебедь, домашний конечно, купался в мутной воде… И вы еще вспомнили своих, царскосельских. Но тут на берегу реки Бык и вдруг лебедь! Не правда ли, в этом было и нечто мифологическое?
— Это как раз Александр Сергеевич и любит, — заметил Раевский.
— Не только что любит, а и сам он, вы понимаете… Но, конечно, не он, а тот лебедь вышел на берег и этак победно, торжественно распростер свои крепкие крылья и потряс ими под солнцем, скидывая с себя приставшую грязную нечисть. И купался он теперь уже не в воде, а в солнечном свете и был опять без единого пятнышка, белоснежен, прекрасен. И я глядел на него, и у меня была радость.
Не только что сам Александр, но и Раевский слушали эту быструю и вдохновенную речь с некоторым смущением.
— Но это лишь образ, — сказал Вельтман внезапно упавшим голосом, — это, как бы сказать, не научно. А между тем у вас есть своя биография.
Тут он вздохнул и замолк.
— Вот и я говорил по дороге Александру Сергеевичу, — промолвил Раевский, чтобы нарушить молчание, — я говорил, что потом и о нем так же будут гадать, как об Овидии, где он жил да как ездил, где останавливался и за что попал в ссылку.
— Непременно, — ответил Вельтман с непривычной для него энергией. — Непременно! Пушкин в плаще, и плащ его покроет всю Россию.
Оба они привыкли к некоторой причудливости в выражениях-Александра Фомича, но так. он еще никогда не говорил.
— Да вот, — продолжал Вельтман. — Не верите?
И он протянул небольшой листок, исписанный карандашом. Раевский принял его.
— Ну, так и быть, прочтите. Это, Александр Сергеевич, маленькая ваша биография и предсказание будущего.
Раевский начал читать:
— «Александр Фомич Вельтман. 9 час. вечера t°39,7. Вельтман в Кишиневе: э-э, знаю я, по степям ехал, крылышки отращивал. В Крыму, на Кавказе ноженьки крепил: скакать, как кузнечик! Вдоль моря скакал, зелень его набирал, песни подслушивал. А тут в Бессарабии брюшко отращивает со всеми инстинктиками, и хоть у меня 39 и 7, оттого и причудливость в выражениях, но знаю также и то, что головушку окончательно отрастит и затрепещется и заиграет только в Одессе. Ноктюрн в предбаннике у сатаны. Но только что, Вельтман, ты врешь, Пушкин в плаще, и плащ его покроет всю Россию».
Раевский и Пушкин переглянулись. Вельтман лежал, закрыв глаза. Казалось, он впал в беспамятство.
— Что это, бред? — сказал Раевский тихонько. — Вы что–нибудь ему говорили о своих планах с Одессой?
Пушкин кивнул ему головой утвердительно.
— Надо бы доктора.
Это Вельтман расслышал.
— Нет, нет! Я засну и завтра буду здоров. Прикройте меня… плащом. — И он повернулся на правый бок. — Мне становится холодно.
Когда приятели ушли, он полежал немного спокойно. Потом приподнялся на локте, взял свою запись и поднес к пламени горевшей у изголовья свечи. Убедившись, что все сожжено, он улыбнулся, дунул на свечку и потянулся по–молодому, «торопясь выздоравливать», как сказал бы он сам на причудливом своем языке.
— Вот чудотвор, — отозвался на обратном пути Владимир Раевский. — Такого градуса, кажется, ни разу еще он не давал. Но все же высоко ценит он вас.
— Да, — отвечал задумчиво Пушкин. — Но это надо еще оправдать. А вот, что брюшко я отращиваю, и об инстинктиках. Брюшка у меня нет, а что до этих самых инстинктиков… Раевский, он прав, их у меня еще сколько угодно!
На одном из перекрестков они распрощались.
Странный был человек этот Вельтман! Он писал пустяковые стишки о кишиневских балах и о дамах и скрывал, что он их сочиняет, хотя куплеты его были легки и имели шумный успех. Но голова его полна десятками замыслов, всегда очень причудливых. Раз Пушкину он прочитал свою молдаванскую сказку в стихах «Янко–чабан», про великана и дурня, который, обрадовавшись, так рос, что скоро не стало места в хате отца, и возросший младенец, проломив «ручонкою» стену, вылупился из хаты, как из яйца. Пушкин так хохотал тогда! И вот, в сорокаградусном жару, сам он как бы вылупился из яйца — в этих причудливых строчках, которые дал им прочесть.
И как бы сами собою ноги Пушкина направились не прямо домой, а в обход, хотя на прямом пути он мог бы зайти еще, дабы довершить этот пестренький день, ко вдове Полихрони, бежавшей сюда из Константинополя со своею молоденькой дочкой Калипсо, в которой было нечто оригинально–красивое. Сама вдова была ворожея и волшебница, при заклинаниях седые волосы на ее голове становились дыбом, и черная шапочка плясала на волосах. А дочка ее, Калипсо, заунывно и в нос пела турецкие песни, перебирая струны гитары. Кажется, Байрон слушал ее и приветил…
И все же Пушкин пошел окольной дорогой, хоть и знал, что тот дом, мимо которого ему захотелось пройти, конечно, давно уже темен. «Пусть спит!» — подумал он и улыбнулся. Спала, набегавшись за день, пятилетняя чудесная девочка Родоес Сафианос, дочь грека–героя, павшего в битве под Скулянами. Он обнял однажды худенькие ее плечи и девочка, не избалованная лаской, вся прижалась к нему горячим тельцем, как пичуга, гонимая бурей и скрывшаяся под застреху. Он вспомнил тогда и тех птичек, что, пролетая на юг, разговаривали с ним трепетом своих крыл.
Из очередной получки небольшого своего жалованья, начавшего поступать из Петербурга, он, тайно от всех, передал для нее какую–то долю. Пусть думают все, что хотят, о его поведении, порою приписывая и то, чего не бывало. Что за беда! Но этого пусть никто и никогда не узнает. А вот Овидиеву племяннику пора бы куда–нибудь и прогуляться. Кажется, будет командировка у Липранди. Не проехаться ли с ним по Овидиевым местам?
С этими мыслями Пушкин и уснул. Еще один кишиневский денек канул в вечность.
В ночь с четвертого на пятое декабря закрыта была в Кишиневе масонская ложа Овидий.
За несколько дней до того Иван Никитич Инзов получил из Петербурга запрос от начальника генерального штаба князя Волконского, сообщавшего, что до государя дошли сведения об открытии или учреждении масонских лож в Бессарабии.
Князь, между другими вопросами, предлагал его превосходительству генералу Инзову «касательно Пушкина донести его императорскому величеству, в чем состоят и состояли его занятия со времени его определения к вам, как он вел себя и почему не обратили вы внимания на занятия его по масонским ложам? Повторяется вновь вашему превосходительству иметь за поведением и деяниями его самый ближайший и строгий надзор…»
Вопросы были остры и отвечать на них не так просто. Инзов и сам был масон, и Пушкин был принят в кишиневскую ложу еще с начала мая. Но Иван Никитич был верен своему спокойному нраву, и перо в руках держать он умел «Следуя в том представителям благородного пернатого царства, исключение из коего совы да филины представляют», — он продолжал быть верен своему коренному обычаю: ложиться не поздно и рано вставать, отводя иногда утренний час для одиноких своих письменных занятий. Так он поступил и теперь.
Но на сей раз и утром не бойко ходило перо его по бумаге и не раз и не два он задумывался, порою даже покряхтывая и бородкой пера поглаживая наморщенный лоб. Надобно было все отрицать… Но он основательно полагался, как и всегда в трудных случаях, на спасительные туманности канцелярского стиля.
Впрочем, о поведении Пушкина генерал, по обычаю, изъяснился кратко и ясно: «Г. Пушкин, состоящий при мне, ведет себя изрядно». Но тут он легонько вздохнул, вспоминая, как у него за столом Пушкин не раз громил и правительство, и все благородные сословия в государстве… «Я занимаю его письменною корреспонденциею на французском языке и переводами с русского на французский…» Пришлось и повторно вздохнуть, но уже несколько глубже: если бы эти свои нередкие выпады против высших властей и сословий Пушкин также переводил бы на французский, а не изрекал чисто по–русски — при слугах!
Далее шло самое щекотливое — о масонстве… «Относительно же занятия его по масонской ложе, то по неоткрытию таковой… (тут сочинитель письма выразительно крякнул)… по неоткрытию таковой не может быть оным, хотя бы и желание его к тому было. Впрочем, обращение с людьми иных свойств, мыслей и правил, чем те, коими молодость. руководствуется, нередко производит ту счастливую перемену, что наконец почувствуют необходимость себя переиначить. Когда бы благодатное сие чувствование возбудилось в г. Пушкине, то послужило бы ему в истинную пользу». Так отрицание открытия ложи скользнуло совсем мимоходом, мельком, утонув в нарочито обильных туманных фразах о пользе масонства…
И, однако, тотчас же после письма, позавтракав и сменив халат на мундир, Инзов пригласил к себе управляющего ложею, Павла Сергеевича Пущина, и распорядился немедленно ложу закрыть, дабы его собственный отзыв, когда его будут читать в Петербурге, уже сходился более с правдой. «Да и зачем, — думал он с легкой улыбкой, — зачем создавать видимою правдой истинное заблуждение?»
Сам Пушкин относился к масонству прохладив и иронически. Сначала его забавляли эти обряды, позже наскучили. Над Пущиным он откровенно подсмеивался, но и разговоры других о внутреннем совершенствовании человека, которое должно лечь фундаментом для грядущего нового общества, были ему совершенно чужды. Да и были это одни разговоры, ибо жизнь этих «реформаторов» протекала у всех на виду и в ней днем с огнем нельзя было бы отыскать и признака «нового человека». Все это было внешним служением моде. Такого же мнения придерживался и Владимир Раевский, также состоявший членом братства.
Но если не ложа сама по себе, то имя Овидия было дорого Пушкину: именно тут, в Бессарабии, так живо и так непрестанно он его ощущал! «Я буду жить в стране, в которой бродил Назон», — повторял он самому себе в первые же дни кишиневского своего бытия. Он смутно припоминал, еще сидя на развалинах храма Дианы, что история Ореста и Пилада есть и у Овидия в его «Письмах с Понта», и взял их у Липранди в первый же раз, как познакомился с ним.
— Вы, между прочим, книжечку эту мне до сей поры не вернули, — заметил Липранди, бывший в тот день чем–то сильно расстроенным. — Я не в претензии, — поднял он руку, — не обижайтесь. Но не верю я ничему.
— Это чему же, собственно?
— Да ничему. Во–первых, невероятно: Овидий вложил свой рассказ об Оресте и о Пиладе в уста варвара–гота, которого, верно, он плохо к тому же и понимал…
— Неверно! Неверно! — Пушкин даже вскочил. — Вы просто забыли Овидия. Он точно для вас добавляет, что выучился и по–гетски и по–сарматски.
— Я это помню, как помню и то, что это не был, собственно, даже гет, он также был чужестранец и родом из Тавриды. Овидий и этот старик, конечно, немного понимали по–гетски, учились, как и сами вы учитесь по–молдавански… (Липранди хотел было добавить: «И даже других учите, как, например, инзовского серого попугая!» — но он обладал очень большой выдержкой и не захотел ради красного словца ссориться с Пушкиным, которому давно уже надоело слушать попреки в том, что он заставил эту птицу затвердить одно неприличное молдаванское словечко.)
— Я плохо учусь, — возразил Александр, — но важно не это. Все, что пишет Овидий в письме своем к Котте, все правда. Я ошибся, что вы Овидия забыли, вы, конечно, его помните. Но мало помнить, Иван Петрович…
— Надо еще и соображать?
— Вот именно. Вы сами мне облегчили выговорить это слово. (Сам Пушкин, в противоположность Липранди, сдержанностью не отличался.) Ведь там же есть очевидное доказательство, что старик этот действительно был и Назон его слушал. Овидию было известно об Оресте и о Пиладе и без него. Он отлично бы мог это и без него написать. Но, конечно, уже такие подробности о храме, и о лестнице, и о числе ее ступеней он бы не выдумал. Это во–первых, а во–вторых…
— Нет, подождите, это уж я скажу «во–вторых»: я только что начал, а вы…
— А я говорю во–вторых, — с задором и страстью перебил его Александр, — и это–то и есть самая прелесть. Бог знает, когда случилось прекрасное дело: юноши дружбу поставили выше самой даже жизни! И вот…
— И вот это–то и есть мое «во–вторых», — прервал в свою очередь и Липранди (он, когда волновался, имел обыкновение подергивать себя за пуговицу мундира на груди). — Я спрашиваю: есть ли на свете дружба такая? Вот вы, случается, называете Владимира Федосеевича своим Орестом…
Пушкин вспылил и отвечал почти дерзостью:
— Тогда и у сердца нечего дергать, коли там всего одна пуговица!
Липранди смолчал и только круто повел бровями.
— Вы, Александр Сергеевич, так и не докончили, — вступил тогда и Раевский, поднимая на Пушкина задумчивые глаза. — Вы сказали так хорошо: «Случилось прекрасное дело…»
— И не умирает! — подхватил Пушкин с одушевлением. — И не умрет! И живо навеки в народной памяти! Да именно то–то и есть самое драгоценное, что это не пропадает, а становится живым достоянием людей.
Владимир Раевский невольно кивал головой, слушая друга; что–то внутри его разгоралось. А Пушкин уже обернулся к Липранди:
— Вы говорите, что гет этот — варвар. Так что же, у варваров нету и сердца? А разве он сам не сказал, как ценят они верность и дружбу? Да разве же и о самом Овидии память угасла в этих краях? Вот теперь уже я говорю, что не верю. Не верю я этому!
— А вы напрасно сомневались, Иван Петрович, — обратился Раевский к Липранди. — И я горжусь, что Александр Сергеевич почитает меня своим Орестом. Я шутливо зову его Овидиевым племянником, так вот племянник был прав, когда говорил о своем дяде. И прав был о дружбе…
— Дружба моя к вам обоим известна, — промолвил Липранди и на мгновение прикрыл глаза темными веками.
— … — и прав, — медленно, но глубоко одушевляясь, продолжал Раевский, — что каждому из нас первая честь и лучшая радость — стать достоянием народа. И если о ком из нас добрая память останется и не умрет, значит: недаром я жил!
Это невольное «я» вырвалось из самых потайных его дум, о которых не говорил никогда, и Пушкин отчетливо это почувствовал. Тут же подумал он и про себя (собственно не про себя, а про Овидия, но это и было именно про себя самого): «Август поэта выслал, прогнал, а поэт пережил самого Августа и признан народом!»
Наутро после закрытия ложи Пушкину вспомнилась эта недавняя сцена у Липранди. Она еще укрепила их дружбу с Раевским и не оставила никаких неприятных следов в отношениях с самим Липранди.
Александр, чего с ним не бывало, в постели потребовал трубку. Он пускал клубы дыма (правда, почти не затягиваясь) и молча о чем–то сосредоточенно размышлял. Никита пробовал было его разговорить, — он едва отвечал и, казалось, вовсе не думал вставать, как вдруг внезапно вскочил и в одной рубашке подбежал к окну. Нераннее декабрьское солнце из–за железных решеток окна сияло и тепло, и приветливо. Да, в такое погожее утро родятся и счастливые мысли.
Наскоро, почти обжигаясь, Пушкин выпил кофе и, как был, — в домашнем архалуке и бархатных шароварах, — поспешил к своему генералу.
Выйдя за калитку, он поглядел на верхний этаж. Все в том же положении, к починке и не приступали. А впрочем, стены как треснули и осели, так и стоят себе… «И чего Инзушка мой испугался и переехал? А то бы взбежать к нему прямо по лестнице…» Но и так было недалеко.
Инзов его принял в халате. Чем–то он был озабочен. Ужели закрытием ложи? Но Пушкин, едва успев поздороваться, сразу сказал:
— Овидия нашего, Иван Никитич, похоронили вчера. Отпустите меня. Я поищу гробницу его вместе с Липранди.
— Липранди поедет по важному делу, а не гробницы разыскивать.
— А это не важное дело? Имя поэта зачеркнуто, как если б похоронили и самую память о нем.
— Памятуй, кто тебе в этом мешает? Но в эту поездку я не могу тебя отпустить.
— Да почему?
Инзов не сказывал; Пушкин надулся. На Ивана Никитича, прирожденного добряка, иногда словно что находило. Но Александр решил настоять)на своем и устремился к Липранди.
— Что у вас за дела, Иван Петрович?
— Служебные. По поручению генерала Орлова.
— Секрет?
— Да, пожалуй, секрет. Произвести надо следствие в тридцать первом и в тридцать втором егерских полках — в Измаиле и в Аккермане.
— Так что же вы мне секрет говорите?
Липранди улыбнулся подобранной, тонкой улыбкой, и в глубоко сидящих глазах его засветился особый, ему одному свойственный огонек, заставлявший порой настораживаться.
— А я что разве сказал? Я еще ничего не сказал, но ежели Инзов вас не пускает, так потому, думаю, что меня посылает Орлов, а не он. У Орлова надо спроситься. Пусть он наместнику скажет.
— А сами вы не возражаете?
— Мне будет только приятно поездку ту совершить вместе с вами. Дела есть дела, и я совершу их один. А места интересны для вас. Мы будем вести разговоры.
— Географические?
— Вот именно: историко–географические, это же моя страсть и почти специальность. Поищем гробницу Овидия.
— Так и я сказал Инзову. Но она ж не у нас. Томы — у устья Дуная.
— Вы правы, но самый Дунай мы все же увидим. А вот Свиньин в «Отечественных записках» у себя уверял, что Овидий был сослан в пустыню Гетскую — в Аккерман.
— Знаю. Смеялся.
— Посмейтесь еще: около Аккермана есть пресное озеро Лакул—Овилуй, что попросту значит — Овечье озеро, а он считает, что и озеро носит имя Овидия.
Пушкин снова смеялся и, придя к Орлову, заявил ему, что он вздумал зимою выкупаться «в Овечьем озере Свиньина» и просит его поэтому отпустить в поездку с Липранди.
Екатерины Николаевны не было в Кишиневе, она готовилась к родам и уехала в Киев.
— Ну что же, поездка будет ведь в экипаже, — улыбнулся Михаил Федорович.
Он немного ревновал к Пушкину свою молодую жену и только что не без удовольствия писал ей в письме: «После обеда иногда езжу верхом. Третьего дня поехал со мною Пушкин и грохнулся оземь. Он умеет ездить только на Пегасе да на донской кляче».
— Я и не прошусь в кавалерию, — обидчиво возразил Пушкин, догадавшись, на что намекал генерал.
По лицу его было видно, что он что–то и дальше готов был сказать по адресу Михаила Федоровича, и не совсем даже скромное, но воздержался, оставив это стихам. Наступила минута молчания, как иногда это случалось меж ними. Но у Орлова было одно редкое качество: вместо того, чтобы углублять в себе неприязнь, которая всегда готова родиться между людьми из–за самого последнего пустяка, он погашал в себе это чувство тотчас, и часто притом не словами, а делом. Справедливо он думал, что этим выигрывает, а не проигрывает.
Так и сейчас: присел он к столу и написал несколько слов Инзову. Пушкин был отпущен и через три дня вместе с Липранди выехал из Кишинева.
Зимние степи по вечерам одевались легкою изморозью, улетавшею утром едва приметным туманом. Это не навевало печали. Молодая свежая зелень на мочажинах там и сям, меж увядшей травы, блистала на солнце. Пурпуровый лист винограда все еще кое–где не опал, а на полях уж плуг бороздил отдохнувшую землю.
Молдаванские саты не напоминали собою русских селений с их улицами. Турлучные белые мазанки — касы, разбросанные как попало, скорей вызывали представление о шатрах кочующего табора, остановившегося здесь лишь на время. Этому впечатлению противоречили только сады — в каждой деревне и возле каждого дома.
Пушкина все по пути живо интересовало. Как–то он соскочил выпить воды и зашел в одну такую белую касу.
Молодая девушка, с которой знаками он объяснился, зачерпнула из кадки и подала ему деревянный корец. Потом она отошла и, подняв к губам краешек фартука, не отрываясь, смотрела черными любопытствующими и пристальными глазами на редкого гостя. Пушкин пил с наслаждением холодную воду, поглядывая то на девушку, то на чистые белые стены, на цветные узоры на них, выведенные охрой и умброй.
Тишина этой затерянной в глуши жизни, труд на полях и в саду, простор неоглядных степей, по которым неспешно катили они на сытенькой паре коняг, — все это говорило его воображению больше, чем ученые и интересные речи Липранди. Кажется, жизнь здесь далеко не ушла от самых Овидиевых времен.
Очень близко, почти у самых дверей, топилась низкая печка, устье ее отстояло едва на четверть от пола; на земляном полу валялись рыжие куски сухого кизяка, издававшего слабый сладковатый запах. За трубой на печи глухо покашливала слепая старуха. Но вот и она высунула свою сухую голову с седыми космами волос из–под платка и редко помаргивала побелевшими ресницами неподвижных выцветших глаз. Было видно, как под мышкой она придерживала хорта — гончую собаку, с которыми молдаване травят зайцев в степях, дома же ухаживают за ними, как за малыми детьми. Понятно: ей и хотелось развлечься, послушать в своей темноте чей–то там молодой, солнечный голос.
Пушкин напился, протянул пустой ковш, перевернул его, чтобы показать: все до дна было выпито! — и поблагодарил.
Поблагодарил он пространно, больше для старухи, чем для девушки, которая явно по–русски не понимала. Но и для девушки — он показал пальцем на хорта, насторожившего уши, а потом на себя, будто он заяц, и для пущей понятности пальцами сделал скачки: раз! — раз! — убегаю!
Девушка все поняла. Она взглянула на молодого забавного гостя и засмеялась глазами.
Совсем уходя, Пушкин, однако же, в дверях обернулся: ему послышался мужской отрывистый кашель и сквозь него характерно гортанное, какое–то цыганское восклицание. «Ужели же то были цыганы?» — подумал он с недоумением и любопытством и тотчас же увидел, как из–под полушубка с дальней лавки, поначалу не замеченной им, поднялся старик и потянулся к тому же ковшу, из которого Пушкин только что пил.
Фигура старика была столь живописна, что Александр к нему подошел и вступил в разговор. Оказалось, что этот старый цыган, отставший от табора, тяжело заболел и нашел приют себе в этой касе. Разговор был недолог, но Пушкин, думавший о старине, спросил наудачу, не сохранилось ли в его памяти сказание об изгнаннике, жившем давно–давно на берегах Дуная.
— Нет… ничего… — И старик замотал седыми, но все еще с чернью кудрями. — Я никогда его не видал. И отец не видал, и дед не видал.
— А что–нибудь слышал?
— Так… гул доходил от речей.
— От чьих же речей?
— Он приехал из–за моря, и разговор был, как песня, и на устах его мед. Он был тих, как дитя, и добр, как отец. Но только что я ничего не слыхал. Это давно… И дед не слыхал. А дивный был тот человек.
Сидя снова рядом с Липранди и продолжая путь, Пушкин долгое время слушал речь своего спутника, едва ли наполовину ему внимая. Он так ему ничего и не рассказал, затаив про себя эту встречу, самого его взволновавшую.
«Еще твоей молвой наполнен сей предел», — твердил он про себя, покачиваясь в тряской тележке. Изгнанник Овидий — добрый отец и тихое дитя — вставал перед ним, как живое видение. И откуда же? Да из рассказа старика–цыгана! Да ежели б довелось об этом писать, так и вложить бы в уста его этот рассказ об Овидии.
И дивно: скиф, переселившийся к гетам старик, рассказывает ссыльному поэту, чтобы не умерло, предание о великой дружбе, и вот о самом Овидии другому поэту в изгнании рассказывает старик–цыган, и не обрывается эта изустная память народов. «И как знать, — подумалось Пушкину (как иногда очень тихо говорят очень важные вещи, так и тут о себе Александр очень тихо подумал), — как зЗнать, быть может, и я войду в эту цепь…»
— Что вы говорите, Иван Петрович? Я не расслышал.
Так в эти дни, совершая поездку к Дунаю, впервые за все время своего пребывания в этой стране, куда был он заброшен,
«В стране, где я забыл тревоги прежних лет, Где прах Овидиев — пустынный мой сосед», — как писал Чаадаеву, — мыслями он то и дело уносился в далекое прошлое. И для него это не было простой поэтической грезой.
Он искал перемен и жадно их ожидал — теперь, сейчас, а коли не теперь, то хотя бы в видимом будущем. Он пригляделся теперь к жизни крестьян и казаков и не препятствовал чувством своим, в нем возникавшим, выливаться в тех буйных речах, которые собеседников его приводили в истинный ужас. И порой ему думалось: да всегда ли так было? Как будто Эллада дышала и чем–то другим… Так иль не так?
Подобным осколком давних времен представлялись ему и цыгане, которых хорошо ощутил еще в Екатеринославе и дальше встречал в южных степях. Самая свобода передвижения их, та свобода, которой сам был лишен, казалась ему исключительным благом. Так же он мыслил и горцев Кавказа, когда горячим стихом, недавно совсем, рисовал их прямоту и открытость. Все это с новою силой сейчас в нем возникало, томило неразрешенным творческим волнением.
Дорогой, однако, он не молчал. Интересов его хватало на все. Повсюду лежала история — в обломках, в пыли. Да и Липранди, надо отдать ему справедливость, был собеседником неоценимым. Отлично он знал этот край, и в его библиотеке было собрано все, что относилось к истории этих мест. Бендеры и Каушаны взбудоражили Пушкина: вблизи от Бендер были развалины бывших Варницких укреплений, где, по преданию, умер Мазепа; в Каушанах же, этой давней столице буджакскмх ханов, Пушкин надеялся увидать развалины дворцов и фонтанов и не хотел верить Липранди, что там ничего почти не сохранилось. Но Липранди спешил в Аккерман.
Городок этот издали был очень красив. Старинные башни его, генуэзской постройки, выходили, казалось, из моря: лиман был широк и тускло поблескивал первым прозрачным ледком. Пушкину вспомнилось снова, как удивлялся Овидий льду и снегам, как должен он был с недоумением ступать на прозрачную твердую воду. Как раз запорхал и снежок.
У полкового командира Непенина, где остановился Липранди и куда поспели они прямо к обеду, Пушкину посчастливилось встретить петербургского знакомца, старика–француза, подполковника Кюрто, у которого брал он когда–то уроки фехтования. Тот был всего месяца два как назначен комендантом аккерманского замка. С наслаждением целый вечер болтал он с Кюрто, вспоминая далекие петербургские дни. На другой день с утра он был у него и осматривал замок.
Крепостные древние башни с изъеденными временем камнями и с кустами засохшей полыни в расщелинах дышали глубокою стариной. Сверху отсюда днестровский лиман, сжатый морозом у берегов, открывался, свободно плескаясь, во всю свою ширь. Верно, у устья таков и Дунай. В лунные ночи у таких же вот берегов бродил и Овидий, вспоминая веселый огромный и солнечный Рим. За что же он, собственно, оттуда был выслан?
— Я написал, конечно, так, сгоряча, Николаю Ивановичу Гнедичу…
— А как именно? Вспомните! — поинтересовался Кюрто; ему было лестно услышать новый стишок своего ученика по фехтованию.
— А вот именно так! Пушкин припомнил:
В стране, где Юлией венчанный И хитрым Августом изгнанный, Овидий мрачны дни влачил…
— Рапирою — фланконада на Юлию, и на Августа — прямой удар с выпадом! — воскликнул Кюрто, вскидывая узкою бородкою и делая тот и другой фехтовальный прием. — Одобряю! Отлично!
Пушкину сделалось весело. Живо припомнил: «Правая рука согнута в локте! Кисть на высоте плеча! Конец рапиры против глаза противника! Ноги согнуть в коленях и раздвинуть на два следа! Каблуки под прямым углом… Корпус…»
Француз и впрямь оживился:
— Вот мы говорим об Овидии. А думал ли кто–нибудь о том, что и он фехтовал? И, конечно, неплохо, ибо, — он поднял вверх палец, требуя внимания, — ибо фехтовальное искусство впервые развилось у римлян! Рапира была изобретена при Нероне. Марк Аврелий… Но чего вы смеетесь, мосье Пушкин?
Александр не смеялся, а откровенно хохотал. С трудом выговорил он наконец:
— Хорошо, пусть рапира изобретена при Нероне, но как же Овидий неплохо мог фехтовать, когда он умер ранее того, как сей император вступил на престол?
Храбрый Кюрто не растерялся. Быстро он занял позицию, перенес свой клинок, воображаемый, по другую сторону клинка противника и затем нанес удар.
— Вы отлично фехтуете, мой дорогой Пушкин! — продекламировал он с истинным одушевлением. — Де–гаже и прямой удар! Я должен признать себя побежденным.
Так изящно он вышел из сложного положения.
— Да и Юлия, мосье, в этой истории, кажется, ни при чем, — перевел Пушкин разговор на другое. — Впрочем, вы этого и не утверждали. Она до того лет уже десять, как и сама была изгнана.
— И, однако ж, Вольтер в это верил, — возразил Кюрто.
— Да и Овидию было в то время уже за пятьдесят.
— Что значит молодость! — снова воскликнул француз, любуясь на Пушкина. — Да что такое пятьдесят лет? Вот доживете, сами увидите.
— Не доживу.
— Да пятьдесят лет, мой друг, это только расцвет для мужчины, а то и начало расцвета.
Пушкин вспомнил Сен—Пьера и предсказания Екатерины Николаевны. «Этот, слава богу, хоть ничего не предсказывает!»
А Кюрто между тем не без лихости подкрутил черный свой, явно подкрашенный ус.
— А к тому же, припоминаю, — продолжал он, раскачиваясь с каблука на носок и обратно, — припоминаю: кроме Юлии старшей, была и Юлия младшая. И что–то Овидий увидел, чего простому смертному видеть не подобает.
За окошком спускались ранние сумерки.
— Вы ночью выходите сюда полюбоваться?
— Ночью я сплю. Дочери мне говорят, что ночью отсюда Овидиополь хорош.
Дочерей было пять. Все они были уже на возрасте, но, как и подобает француженкам, кокетливы и хохотушки. К обеду приехал Непенин и Липранди, все утро проводивший в полку свое «следствие». Вид у него был усталый и несколько напряженный, невзирая на всю его обычную скрытность. Но за столом все оживилось, еще подъехали гости, и все перешли к карточным столикам.
Так закончился вечер. Пушкину очень хотелось пойти одному на пустынные берега. Но едва об этом обмолвился, очень вскользь, как тотчас же девицы Кюрто, все пять, вызвались его проводить, и он мгновенно пал духом.
— Да нет, я, оказывается, очень устал.
— Тогда оставайтесь у меня ночевать, — любезно предложил отец, провожавший гостей до ворот.
— Нет, я уж пойду вместе со всеми. — Пушкин взглянул на шедших несколько впереди Непенина и Липранди и, понизив голос, добавил: — Но если бы мне не спалось, и я все–таки вздумал бы… Ведь меня не пропустят сюда?
— Вот пустяки! — воскликнул француз. — Ведь и вся крепость–то наша третьего ранга… — И, подозвав караульного, отдал ему распоряжение.
Пушкин серьезно не думал сюда возвращаться. Но когда они очутились дома и скоро Липранди уснул, он убедился, что ему самому не до сна. Целая туча всяческих мыслей и дум его одолевала. В комнате, где они помещались, было жарко натоплено, душно. Поздняя луна поднималась над городом, незанавешенные окна начинали светлеть.
«Удрать от начальства? — шутливо подумал Пушкин, вспоминая лицей и прислушиваясь к ровному дыханию Липранди. — Он ведет следствия, записи и дневники. Он весь преисполнен служебных секретов и полагает, что от него ничто не укрыто. Пусть будет секрет и у меня».
И с легкостью молодости, но и с необходимою осторожностью, усугублявшей приятность задуманной им эскапады, он снова оделся и, никем не замеченный, вышел из дому. «И завтра ему ничего не скажу. А если б проснулся, заметил, так объясню свиданием с француженкой… Пусть поломает голову, с которой же именно».
В городе спали. В редком окне светился огонь. Но, как струя за кораблем, на всем пути Пушкина следом за ним замирал и вновь возникал заливистый лай дворовых собак. Караульный у замка признал, пропустил, и сразу настала такая ничем не тревожимая тишина, что казалось — на берегах этих он только и был единственным живым существом.
Александр забыл обо всем, что было днем — о Липранди, о путешествии, о фехтовальных дел мастере и пяти его дочерях, и даже о том, как необычно он здесь очутился. Напротив того, это было только естественным и единственно верным… И — давно ли он здесь? В тишине время особое: быть может, недавно, но и давно! И с тем большею полнотой отдался он думам, томившим его все эти последние дни. Впрочем, здесь они уже не томили, не мучили: тут им было просторно, свободно, как свободно, легко было нестись свежему ветру с недальнего моря. Он мягко, но сильно и широко тянул и тянул над этой могучей — рекой, напоминавшей Дунай, и от одного спящего города до другого, едва лишь мерцавшего на горизонте и носившего это неумирающее имя — Овидиополь.
Думая об Овидии, Пушкин думал одновременно и о себе. Порою казалось ему, что судьбы их были во всем одинаковы, и выслан был римский поэт просто, конечно, за то, что император его не переносил. Пусть весь его грех, как он говорит это и сам, состоит единственно в том, что у него были глаза. Не все можно даже и видеть, а он уж, конечно, не только увидел, но, верно, кому–нибудь еще и рассказал… Однако же должно ль это лишить языка?
И все же… Да, все же: много веков промчалось над этой пустыней, а имя Овидия живо! «Вспомнит ли кто и меня и придет ли искать здесь мой след!» И вдруг — наконец–то! — здесь, в тишине, под полной луной, дробившейся в водах, дрогнули и зазвучали, сами как полные воды, стихи, теснясь и обгоняя друг друга…
Так этою долгою, но и короткою ночью, дыша у старинной стены вольным и чуть солоноватым дуновением с моря, Пушкин беседовал с тенью другого поэта–изгнанника.
Липранди так ни о чем и не догадался. Проснувшись утром, он лишь удивился, что Пушкин уже одет, а впрочем, тот часто вскакивал рано. Александр же не думал ложиться, одна бессонная ночь ему была нипочем. Они еще съездили поблизости в небольшую швейцарскую колонию, в деревню Шабо, где Липранди хотел повидаться со своим знакомым швейцарцем, организовавшим этот поселок. Пушкин тут помянул добрым словом Ивана Никитича Инзова, проявлявшего много заботы по заселению пустынных земель и по устройству на них разноязычных поселенцев. Вернувшись и пообедав, снова сели в тележку.
Пушкин дорогою был молчалив и об Овидии ни слова, иначе тотчас бы он проболтался о своей ночной экспедиции. Но и эту, вторую ночь, проведенную почти без сна, Пушкина не покидали его поэтические думы. В Татар—Бунар приехали с рассветом, и, пока на остановке варили им курицу, а Липранди пошел умыться у фонтана, Пушкин, радуясь, что остался один и наконец может запечатлеть на бумаге плескавшиеся в нем строки, начал писать свое «Послание к Овидию».
Вернувшись, Липранди видел, как быстро он что–то чертил на маленьких клочках бумаги и потом складывал их по карманам, опять вынимал, просматривал и прятал снова.
— Жаль, я забыл нужный мне томик Овидия!
— А я жалею вдвойне, что не захватил у Непенина чего–нибудь поесть.
Пушкин стал весел, смеялся, но скоро — узнав, что с дороги будет поворот на Килию, а оттуда можно попасть и в Вилково, к устью Дуная, — он очень расстроился, убедившись, что спутник его решительно отказывается заехать туда: пришлось бы потерять более суток. Устье Дуная — в этом сейчас было для Александра нечто притягивающее. Липранди знал, что к послезавтрему два батальона будут стянуты уже в Измаил для допроса. Пушкину пришлось покориться, и он увидел Килийский рукав Дуная лишь в Измаяле. Дунайские берега были круты, холодная вода медлительна и тяжела: Овидий был в ссылке!
Город был славен воспоминаниями. Только что минул тридцать один год: в такой же белый декабрьский день взял его десятичасовым штурмом Суворов. Пушкин хорошо помнил рассказ о том, как, закрывая военный совет, на котором решен был штурм крепости, казавшейся неприступной, Суворов, перецеловав всех генералов, сказал: «Сегодня молиться, завтра учиться, послезавтра — победа либо славная смерть».
Переспав наконец ночь, Пушкин с утра отправился вместе со Славичем, негоциантом, у которого Липранди всегда останавливался, осматривать крепость. Они обошли всю ее береговую часть, и Александр много дивился, как мог Де Рибас со стороны Дуная взобраться на каменную эту твердыню. По возвращении он записал у Ирены, свояченицы Славича, славянскую народную песню и долго пытался вместе с ней разобрать отдельные слова на иллирийском наречии; так же с большим интересом он слушал рассказы хозяина о нравах и обычаях края. Как и всегда, он ничего не упустил, не оставил без внимания.
Всего провели путешественники в Измаиле три с половиною дня. Тут Пушкин познакомился с интересным человеком, генералом Тучковым, основателем целого поселка возле крепости, названного его именем. Генерал был масоном и жил здесь в опале. У него была чудесная библиотека.
— У него все классики и выписки из них, а вы все ехать да ехать… — Пушкин ворчал на Липранди. — Если бы можно, я бы остался тут на целый месяц.
Но у Ивана Петровича все дни были считанные. Он возвращался поздно ночью и заставал Пушкина на диване с поджатыми по–восточному ногами и окруженного множеством исписанных лоскутов бумаги.
— Не добрались ли вы до папильоток Ирены? — спрашивал Липранди, смеясь. — Может быть, выпьем вина?
Пушкин кое–как подбирал и прятал листки под подушку. А утром, открывая глаза, Липранди видел опять знакомую картину: молодой приятель его уже проснулся, он еще не одет, но сидит на том же самом месте и с теми же лоскутками бумаги; он снова их перечитывает, то подымая, то опуская голову, в руках его перо, которым он как бы отбивает такт.
Впрочем, Липранди также писал в Измаиле; из этой поездки привез он свой рапорт, Пушкин — «Послание к Овидию».
Он работал над ним и на рождестве в Кишиневе, помянув в стихах и северную русскую зиму. Это послание свое Пушкин любил: оно вызывало в нем близкую сердцу тень, рисуя образ поэта, печали его и обращения к друзьям…
Пушкин опять в Кишиневе. Снег. Тишина. Город уж спал. Ночь была над Россией. Пусть не Дунай и не геты, но все ж это так: участью он равен Овидию. И снова думает Пушкин: «Вспомнит ли кто обо мне?»
Но если, обо мне потомок поздний мой Узнав, придет искать в стране сей отдаленной Близ праха славного мой след уединенный — Брегов забвения оставя хладну сень, К нему слетит моя признательная тень, И будет мило мне его воспоминанье.
Глава четырнадцатая «БУРЯ»
Казалось уже, что «буря», которую предсказывал Константин Алексеевич Охотников, так и не разыграется. Сам он сильно хворал, кашлял и иногда по нескольку дней отлеживался в постели. Пушкин, вернувшись из путешествия, навестил его в первый день рождества.
— А вы разве не знаете, как готовятся бури, — сказал больной гостю, присевшему к нему на кровать. — Это только так кажется, что бури приходят внезапно. Они зарождаются и вызревают невидимо. Будьте покойны, буря придет, да только не та, какой бы хотелось.
— Я вас понимаю, — быстро отвечал Александр, — но ведь без таких темных бурь не может созреть и светлая буря!
— Это вы точно сказали, — отозвался Охотников. — Но только… — Кашель долго ему не давал договорить; наконец больной осилил его и докончил: — Но только я не доживу.
Пушкин не умел утешать. Сочувствовать он мог горячо, но все слова, которые могли бы быть произнесены, заранее казались ему неверными, ненужными, ничего не выражающими. Оттого он мог иногда показаться холодным и невнимательным. У него не было этой естественной привычки сказать что–нибудь утешающее, может быть, просто потому, что в детстве и сам он знал всего одну только ласковую утешительницу — няню. И с ним иногда, очень редко, случалось, что он мог подойти и, как бывало она, обнять близкого человека в его горе. Однако не мог же он так сделать с Охотниковым, да это и значило бы, что, в сущности, с ним соглашается.
А так и было, что он соглашался. Константин Алексеевич на глазах худел и даже как бы несколько уменьшался в росте. Но в утешениях он не нуждался. Он видел и без того возле себя настоящего товарища в жизни, и этого было довольно. Самое замечание его, горькое, вырвалось единственно из–за физической слабости. Он взял себя в руки, и Пушкин более жалобы от него не слыхал.
— Вот Липранди ездит на следствия. И вы ездили с ним. А ведь, небось, ничего вам не говорил? Железная выдержка. Я не знаю еще, что он привез, но я и так все уже знаю.
И, приподнявшись на подушках, преодолев слабость, он начал рассказывать Пушкину про военные дела.
Генерал Сабанеев и сам не сторонник палочного учения, но он легко поддается и гневу, и скверным советчикам. Еще летом начальник его штаба Вахтен, тот самый, которого поминали в песенке о Мальбруке, делал смотр одному из полков орловской дивизии. Все было в образцовом порядке, но это была дивизия Орлова, и он разнес и командира, и офицеров и дал разрешение унтер–офицерам и ефрейторам бить солдат палками: до двадцати ударов. Липранди в своих следствиях обнаруживал чудовищные жестокости, которые проделывались некоторыми командирами. Липранди умеет вести следствия, и солдаты ему открывают то, что другим побоялись бы рассказать.
— Вот как–то вы говорили, что солдатский «Георгий» спасает от телесного наказания, тем и хорош. А недавно совсем из Охотского полка — батальон майора Вержейского — отлучились без спросу два унтер–офицера, георгиевские кавалеры, и рассказали Орлову…
— Да неужели их секли? — вскипел Пушкин.
— И заметьте, что их рота стоит всего в двадцати верстах от Кишинева. Под ведением этих георгиевских кавалеров было шесть кордонов, и на каждом кордоне Вержейский давал им по двадцати палок иль розог. А рассеченное тело смачивали соленой водой и так переводили за две или три версты до другого кордона. А в общей сложности по ста двадцати ударов на каждого.
— За что? — крикнул Пушкин, вставая.
— За ничто! — так же взволнованно отозвался Охотников и встал. — За выдуманные какие–то непорядки. Я не могу лежать…
Он кликнул денщика. Тот подал халат; подал и трубки.
«Вам нельзя курить», — хотел сказать Пушкин. Но Охотников и сам знал, что нельзя. Но что значит «нельзя», когда, с другой стороны, это же и «необходимо»!
— И вы думаете, это все? Вы бы на них поглядели… Это красавцы и силачи. Палки и розги их с ног не свалили, так их привязали на целую ночь под окнами у батальонного к поднятым оглоблям саней… как бы распятыми!
Охотников сидел и курил, вытянув длинные худые ноги; Пушкин, ругаясь, бегал по комнате.
— Ну, и… — спросил он сорвавшимся голосом. — Ну, и что же?
— Их освидетельствовал доктор Шуллер в присутствии полкового их командира полковника Соловкина. А потом — Липранди! И Липранди все это дознанием подтвердил.
Пушкин долго не мог успокоиться. А Охотников — странно: он перестал кашлять, щеки его зарозовели. Возбужденье — надолго ли? — одолевало болезнь.
— Вы извините, я оденусь при вас. Я не могу, я не должен хворать.
Для занятий учебного батальона шестнадцатой дивизии в Кишиневе не было помещения, и Орлов на собственные средства соорудил для него манеж. К концу декабря работы были закончены, и на первое января назначено освящение нового здания.
Охотников был уже на ногах. Ему и Липранди поручено было убранство этого нового манежа. Здание уходило наполовину в землю. Невысокая часть, выступавшая над поверхностью, вся была в окнах. В три дня украсили все внутри: стены штыками, тесаками, ружьями, фестонами из зеленого, красного и белого сукна. У стены против входа был сделан арматурный щит; пирамидками сложены ядра и даже ввезены две небольшие пушки. Два георгиевских знамени Охотского полка и два таких же знамени Камчатского полка довершали убранство.
Поперек манежа, перед щитом, был накрыт стол для завтрака на сорок человек приглашенных: архиерей, генерал Инзов, губернатор и прочая знать.
Вдоль манежа устроено было восемь столов на восемьдесят человек каждый, — для учебного батальона и для отборных солдат из всех шести полков орловский дивизии.
Пушкину очень хотелось попасть на это торжество, но пришлось удовольствоваться только рассказами о нем.
— Иван Никитич, — говорил Пушкин Инзову, — похлопочите, чтобы меня приняли на один день рядовым в учебный батальон! Я хочу обедать в манеже.
— Хочешь на месяц — отдам, — отшучивался Инзов. — Меньше нельзя.
— Нет, тогда лучше уж я у вас пообедаю на положении штатском.
И действительно, он немного лишь побыл в толпе и ушел.
За два часа до торжества Михаил Федорович Орлов приехал посмотреть, как все устроено.
— Все хорошо. Благодарю. Но вот к георгиевским знаменам поставьте двух часовых из унтер–офицеров, и если найдутся, то с георгиевскими крестами, да и были чтоб повиднее! Накормим потом.
И случилось так, что командир учебного батальона поставил, к несчастью их, тех самых рослых красавцев, что принесли Орлову жалобу на истязания. Как–то никто не обратил на это особого внимания.
Все прошло хорошо и торжественно, и за обедом у Инзова только и было разговоров, что о торжестве. Всем очень понравилось, и только князь Павел Иванович Долгорукий, не так давно прибывший в Кишинев в качестве второго члена управления колониями, был несколько шокирован совместным завтраком начальства с солдатами. Он это выразил в очень коротенькой формуле: «Шампанское и сивуха». (А, впрочем, и сам он, в основном, укладывался в такое же короткое определение «князь» и «бедный»; он непрестанно памятовал о том и о другом, и хотя был не плохим человеком, но именно из этого несоответствия двух основных его качеств проистекали и все остальные противоречивые качества.)
Как будто бы все было тихо. Никто ничего не говорил о военных делах. Но и в самой тишине этой чувствовалось какое–то тайно нараставшее напряжение. Только один единственный день выдался как исключение: день именин Ивана Никитича Инзова.
У наместника в этот традиционно им отмечаемый день было не только шумно и весело, но и тепло по–настоящему. С Пушкиным рядом сидел какой–то старичок–чиновник, доселе неведомый Пушкину, словно бы вынутый из сундука с нафталином. Он захмелел очень быстро, легко, и что–то все в усы бормотал и бормотал. Пушкин прислушался.
— Вы что говорите, сосед?
— А то говорю, — воззрился на него сей человечек, — что хозяин–то наш, Иванушка наш генерал, он как, истинно, печка.
— Как печка?
— Ну да, всегда теплая. Вот оно, видите, и — ах, хорошо!
«Что же, и верно, и не улыбнуться нельзя. Попробуй–ка быть в дурном настроении у так тепло вытопленной печки. Бог глаголет, как видно, устами не только младенцев, но и старцев, впадающих в детство…»
На другой день после празднества Пушкин вышел пройтись за город. У здания нового манежа, хотя час был не обычный, выстраивался батальон.
— Да что такое у вас?
— А говорят, сегодня новый приказ командующего дивизией.
Пушкин не успел узнать, по какому поводу объявляется новый приказ Орлова. Раздался барабанный бой. «Смирно!» Батальон вытянулся в нитку. Майор Гаевский, командир батальона, громким голосом начал читать приказ. Пушкин, остановившись поодаль, слушал:
— «Восьмого генваря. Думал я до сих пор, что ежели нужно нижним чинам делать строгие приказы, то достаточно для офицеров просто объяснить их обязанности, и что они почтут за счастье исполнять все желания и мысли своих начальников; но, к удивлению моему, вышло совсем противное. Солдаты внемлют одному слову начальника; сказал: побеги вас бесчестят, и побеги прекратились. Офицеров, напротив того, просил неотступно укротить их обращение с солдатами, заниматься своим делом, прекратить самоправные наказания, считать себя отцами своих подчиненных; но и по сих пор многие из них, несмотря ни на увещания мои, ни на угрозы, ни на самые строгие примеры, продолжают самоправное управление вверенными им частями, бьют солдат, а не наказывают, и не только пренебрегают исполнением моих приказов, но не уважают даже и голоса самого главнокомандующего».
Далее Пушкин услышал, что приказ относится к делу, о котором ему рассказывал Охотников: истязателей–офицеров Орлов отдавал под суд. Наконец–то!
Третьего дня, на крещение, круглые сутки шел снег, дул большой ветер и гуляла метелица. Сейчас все вокруг было бело, поля пушисты, и нежны, и чуть розовеют в лучах невысокого солнца. И как молод и чист воздух, в меру прожатый небольшим свежим морозом! Пушкину вспомнилось, как, проходя мимо одной из церквей, — кажется, это было четырнадцатого сентября, — он заглянул мимоходом в нее и услыхал, как с амвона читали акт Священного союза трех государей. До него поверх затылков, платков, согнутых спин долетало обрывками:
— «Во имя святой нераздельной троицы… святыя веры, заповедями любви, правды и мира… свою надежду и упование на единого бога…»
И там лежал такой же розовый отсвет, но от свечей, а не от солнца, и там было стоянье людей, которым тоже читался своего рода «приказ»… Но как же одно далеко от другого!
Майор, оглашавший приказ Орлова, теперь повернулся немного в другую сторону, и до Пушкина доносилось не все, как и тогда в церкви; это еще усугубляло воспоминание.
— «…подробное исследование, по которому открылись такие неистовства, что всех сих трех офицеров принужден представить к военному суду. Да испытают они в солдатских рядах, какова солдатская должность. Для них и для им подобных не будет во мне ни помилования, ни сострадания…
Мне стыдно распространяться о сем предмете, но пора быть уверенным всем господам офицерам, кои держатся правилам и примерам Вержейского и ему подобных, что я им не товарищ и они заблаговременно могут оставить сию дивизию, где найдут во мне строгого мстителя за их беззаконные поступки. Обратимся к нашей военной истории: Суворов, Румянцев, Потемкин, всё люди, приобретшие себе и отечеству славу, были друзьями солдат и пеклись об их благосостоянии. Все же изверги, кои одними побоями доводили их полки до наружной исправности, все погибли и погибнут…»
И еще раз:
— Всех сих офицеров представляю к военному суду и предписываю содержать на гауптвахте под арестом впредь до разрешения начальства.
…Предписываю приказ сей прочитать по ротам и объявить совершенную мою благодарность нижним чинам за прекращение побегов в течение моего командования».
Приказ этот наделал много шуму в городе. Добро бы он был направлен к одним офицерам в секретном порядке, но нет, Орлов счел нужным, чтобы он был провозглашен во всеуслышание.
— Что же теперь будет с солдатами, что они начнут вытворять, когда им дана вольная воля? — говорили трусливые и недалекие люди.
— А ведь, пожалуй, Орлова за это по головке не погладят… — вторили им столь же трусливые, но дальновидные.
— Поживем, увидим, — заключали испытанные хитрецы и циники, действительно выжидая, как повернутся обстоятельства, чтобы знать, какую занять им позицию.
А у Пушкина несколько дней, как поглядит на Михаила Федоровича, так засияют глаза. Он забыл свои шутки над ним, а подчас и насмешечки. Больше того, он жалел, что сейчас не было в Кишиневе Екатерины Николаевны, — не ради себя жалел, а ради того, что не мог ей сказать: «Какая ж вы умница, что выбрали себе такого мужа, как генерал Орлов!»
«Ну, а где же все–таки буря?» Бури все не было, и Пушкин все отдавался еще чарам Овидия. Он писал Баратынскому:
Еще доныне тень Назова
Дунайских ищет берегов…
И с нею часто при луне
Брожу вдоль берега крутого.
Перечитывая на святках Овидиевы «Метаморфозы», он особенно был поражен легендою об Актеоне, провинившемся перед богами лишь тем, что увидел, чего не должен был видеть простой смертный. Все точно так, как Овидий и сам говорил о себе… И богиня Диана, превратив неосторожного охотника в оленя, лишила его тем самым человеческого языка, а собственные его собаки, друзья, затравили несчастного. Пушкина это совпадение заволновало, и он тотчас набросал короткие строки — начало поэмы, следуя за повествованием «Метаморфоз»:
В лесах Гаргафии счастливой
За ланью быстрой и пугливой
Стремился долго Актеон.
Уже на темный небосклон
Восходит бледная Диана,
И в сумраке пускает он
Последнюю стрелу колчана.
Но ото всей поэмы так и остался в черновике этот начальный набросок.
В ноябре в Кишиневе было землетрясение, повредившее многие здания, — в наступившем новом году оно как бы перешло на людей, захватив из них самых близких, да и внутренний мир самого Пушкина начал подвергаться непрерывным толчкам. Он стал очень нервен и раздражителен, легко и себя давал вовлекать в столкновения и сам порою их вызывал. Все же это было какою–то отдушиной для того томления и внутреннего огня, который не находил нормального выхода. Он не всегда даже мог и работать, то и дело лишаясь внутреннего равновесия сил. Так до Овидия ли тут? Чего–то другого запросило перо, и Пушкин начал писать своих «Братьев–разбойников» — писал неровно, отдельные эпизоды неохотно ложились в единое целое. Это сердило его, но это же и возбуждало.
Недели через три после именин Ивана Никитича Инзова у него произошло глупейшее столкновение с Лановым, старшим членом «картофельного управления», как потихоньку от Инзова Вельтман шутя называл все управление: «Иван Никитич наш и садовод и огородник отличный: он и колонистов, как картошку, сажает, да еще и окучивает!» Ланов был толст, важен и стар. Он был высокомерен и пренебрежителен со всеми, кто чином был не велик или годами не вышел. Даже товарищ его, Долгорукий, им возмущался: «У Ланова шесть лошадей, а у меня — и кошка чужая! А что такое, собственно, Ланов? — Надутое туловище!» И у них происходили ссоры и нелады.
У этого Ланова не только туловище было надутое, он и сам держался надуто, а когда у него от неумеренной выпивки разливалась желчь, то и лицо распухало. У Пушкина пропадал аппетит, как на него взглянет, бывало, и он очень любил дразнить его и при нем говорить что–нибудь особенно дерзкое насчет власть имущих, а то и о стариках, задирающих нос. Ланов Пушкина обозвал молокососом, а тот в ответ его — «винососом».
Инзов терпеть не мог «происшествий» и тотчас после обеда ушел к себе. Пушкин припугнул Ланова вызовом на дуэль. Ланов когда–то служил у Потемкина и от дуэли не отказался.
— Приходите ко мне на квартиру. Там мы условимся о месте и времени.
Пушкин ушел.
Дальше, однако, произошло нечто не совсем обыкновенное.
— Я его проучу, — разгоряченно сказал Долгорукому Ланов, забыв многочисленные неприятности, бывшие между ними. — Я его проучу, как в старину учил таких нахальных мальчишек.
— Как вы проучите? Пушкин, как говорят, отлично стреляет и непрерывно в стрельбе упражняется.
— Так что ж? Разве я с ним собираюсь стреляться? Я приготовлю у себя несколько солдат, а когда он придет, они его высекут, а я погляжу. А я погляжу!
Но ежели Ланов забыл свои неприятности с князем, то и Долгорукий, в свою очередь, на время забыл то раздражение, которое столь часто ссыльный поэт в нем вызывал резкими своими суждениями. Он Пушкина тайно предупредил, и разыгрался грандиозный скандал, который едва удалось потушить миротворителю Инзову. Пушкин дал волю языку и перу. Наместник грозился его запереть.
— Вы это можете сделать! — горячился Пушкин. — Но я и там заставлю себя уважать!
Ланов сказался больным, а может быть, и в самом деле печень не выдержала. Пушкин уже на другой день дал Долгорукому списать эпиграмму на своего врага:
Бранись, ворчи, болван болванов,
Ты не дождешься, друг мой Ланов,
Пощечин от руки моей.
Твоя торжественная рожа
На бабье гузно так похожа,
Что только просит киселей.
Это было крепко. И Ивану Никитичу пришлось устраивать так, чтобы Пушкин и Ланов за столом у него не встречались.
А жизнь шла своим чередом, и не совсем без движения оказалось между тем и дело о новогоднем празднестве. После знаменитого приказа Орлова о майоре Вержейском и его сотоварищах враги генерала, и без того не дремавшие, послали донос в главную квартиру об отлучившихся самовольно из роты унтер–офицерах, которым, к тому же, на торжестве была отведена самая почетная роль.
Кроме общей для всей империи тайной полиции, были особые тайные наблюдатели и доносчики у Аракчеева, у петербургского генерал–губернатора Милорадовича, а после возмущения в Семеновском полку в Петербурге была организована еще и особая тайная полиция в армии. Но доносить и вообще никому не возбранялось, а охотников на это дело всегда достаточно; таким путем часто сводились и просто личные счеты.
Из главной квартиры Сабанееву как корпусному командиру был послан запрос о происшествии. Это и Сабанееву было неприятно. Он сильно разнес своих осведомителей, «прозевавших сие». Но ничего не поделаешь, и, в собственных интересах, ему пришлось сделать вид, что ничего особенного, в сущности, не произошло. Он прибыл сам в Кишинев и ограничился тем, что пожурил майора Гаевского, поставившего на часы неподходящих людей. Так, временно, оба георгиевских кавалера избежали беды.
Но Сабанеев уехал весьма раздраженный, не показывая только виду: уедет Орлов, найдем что–нибудь и еще! И он на всякий случай оставил в Кишиневе своего адъютанта, гвардии капитана Радича, того самого, о котором Орлов в свое время требовал объяснений от Сабанеева и которого Пушкин побил бы, если бы тот куда–то не исчез. Инзову тогда эту «бурю» с Радичем удалось отвести, теперь же стояла она у порога и сторожила… случая. Случай скоро представился.
Перед самым своим отъездом в Киев Орлов производил инспекторский смотр второй бригаде, стоявшей в окрестностях Кишинева. Все шло благополучно, жалоб солдат не поступало. И вдруг из задних рядов одной из рот Камчатского полка раздался голос одного из солдат, что их капитан пытался было задержать причитавшиеся им деньги за провиант и артельщика хотел наказать, а потом «помирились».
— Ну, помирились и ладно, — сказал в усы стоявший рядом с Орловым Павел Сергеевич Пущин.
— Нет, генерал, это не ладно, — резко его оборвал Орлов. — Это не ладно, чтобы за моей и за вашей спиной ссорились и мирились. Тут не вся еще правда. Как он хотел наказать? Палки приказывал?
— А палки уже принесли, да мы отстояли артельщика и палки у вестовых переломали.
— И помирились?
— Так точно.
— А почему вы молчите? — обратился Орлов к капитану. — Корыстолюбие, трусость и… палки. И это после моего приказа! Читали вы мой приказ своей роте?
Орлов был разгневан. Обернувшись к Пущину, он распорядился, чтобы тот немедленно произвел строжайшее следствие. «А вы чего тут? Соглядатай!» — едва удержался он, чтобы не крикнуть в лицо Радичу, стоявшему здесь же. Но ничего, однако же, не сказал, и только судорога повела его скулы. Сабанеевский адъютант все это видел отлично и понимал, но он и бровью не повел, ясным оком озирая окрестность.
Часа через два Орлов и уехал.
Но едва его тройка отъехала, через другую заставу поскакал в Тирасполь и Радич. А предварительно он успел шепнуть Пущину, что дело совершенно пустое, что начальник дивизии зря поволновался и сам будет рад все это забыть, что и дела–то нет никакого и что, наконец, в этом свете он доложит и самому Сабанееву, «добрейшей души человеку». Пущин всему охотно поверил: Павел Сергеевич Пущин отменно был глуп.
Сабанееву все это дело, на фоне других происшествий, конечно, совсем небольшое, было представлено, как настоящий солдатский бунт. Радич не пожалел красок, кое–что про Орлова и просто приврал, что, например, на его, Радича, предложение сообщить обо всем корпусному командиру Орлов будто бы отвечал: «На что мне ваш корпусный командир? Я сам себе здесь хозяин!» Сабанеев не был органически глуп, подобно Пущину, но в раздражении он терял не только свой ум, но и простую здоровую недоверчивость ко всякому оговору.
В Орлове давно его многое раздражало. Это была странная смесь чувствований, проистекавших из самых различных источников. Он завидовал популярности Орлова среди солдат и считал, что Орлов именно этого и добивается, это и есть его главная цель: значит, Орлов мелкий был человек; кроме того, Сабанееву ненавистна была и самая мысль о каких–либо политических новшествах, а Орлов не скрывал своих взглядов: значит, Орлов был политикан; и Орлов держался не только независимо, но и как настоящий вельможа, а Сабанеев стоял за простоту: он помнил Суворова!
И, наконец, — это было смешно, но смешного на свете гораздо больше, чем кажется, — сам Сабанеев был маленький, щуплый, поджарый и некрасивый «подстарок», а Орлов был высок, с величавой фигурой, молод, красив. И когда блистательный великан невольно глядел сверху вниз, как огромный снисходительный пес на юлящую перед ним (Сабанеев был от природы почти неприлично подвижен) крохотную беспородистую собачонку, игрою судьбы поставленную выше его по иерархической лестнице, — Сабанеев в себе ощущал почти физическое раздражение: взвизгнуть и укусить! Но блистающая махина одною своею массой не допускала до этого. Теперь выпал случай, которого нельзя пропускать.
Так он и помчался в Кишинев: в великом накале — вцепиться и вгрызться!
Между тем Павел Сергеевич Пущин и не думал еще ничего предпринимать. Глупость имеет свою структуру, свои законы и даже свои тонкости. Круглый дурак только снаружи кругл, как арбуз, но внутри у него множество семечек.
Пущин был на Орлова обижен. То, что он сам сделал неуместное замечание, он об этом не думал, но что — ему! — при других! — сделали замечание, — это было, конечно, событие из ряда вон выходящее. И он теперь сводил свои внутренние счеты с Орловым. Ему доставляло удовольствие медлить со следствием, ибо так он не спешил исполнять приказание дивизионного. Каждые пропущенные полчаса были лишнею каплей, омывавшей его честь. Ничего не разгадав в хитростях Радича, он и сам, с довольной улыбкой, чувствуя, как возрождается в своем несправедливо ущемленном достоинстве, шел прямиком в расставленную ему ловушку.
Уже на другой день после отъезда Орлова Сабанеев к вечеру был в Кишиневе. Он вызвал к себе полкового командира и Пущина. И началось… разразилась гроза этого «Суворова наизнанку». Сабанеев дознание производил сам, устремив главное внимание не на капитана, а на солдат, осмелившихся бунтовать. Он вел розыск со страстью и учинил допрос «с пристрастием». Фельдфебель, артельщик и кое–кто из солдат были посажены под караул, а о самом происшествии донесение послано и в главную квартиру в Тульчин, и непосредственно в Петербург. Таким образом, если о скандальном случае при освящении манежа, на которое Орлов и не подумал его пригласить, Сабанеев получил указания прямо из главной квартиры, то теперь уж никто его не опередил, и Радичем он был чрезвычайно доволен.
Был в восторге и Радич: Орлов пострадает! Это не шутки: узнав о таком важном случае, уехать, его не разобрав, по своим личным делам!
— Это прямое служебное преступление со стороны генерала Орлова, — заявил он Пущину, не стесняясь и от удовольствия даже играя шнурами своих аксельбантов.
Павел Сергеевич совсем потерял голову, но, однако ж, заметил:
— Его превосходительство, уезжая, поручил это дело мне.
— Вам? — переспросил уже совсем нагло Радич, как если бы впервые об этом услышал. — Но что же тогда вы предприняли?
— Но ведь вы же сами мне говорили… — беспомощно отозвался Пущин.
— Э, что бы я там ни говорил, это не избавляло ваше превосходительство от необходимости думать. — И на всякий случай сам отошел.
Но мог бы и не отходить. Пущин был совершенно раздавлен. Так говорят только с теми, кто обречен. «Надо было думать… Но я разве не думал? — Плохо думали, Павел Сергеевич!»
И едва минул месяц, четырем солдатам была устроена в Кишиневе публичная торговая казнь; их били кнутом и двоих насмерть засекли. Кстати и унтер–офицеров, стоявших на празднестве при знаменах, разжаловали и лишили крестов. Орлову предложили поехать «на воды», но он отказался, требуя формального суда над собою.
Однако все это было еще впереди, и Кишинев жил обычной, несколько легкомысленной жизнью. Не так давно из Петербурга в распоряжение полковника Корниловича, ведавшего топографической съемкой нового края, приехали два молодых офицера, братья Полторацкие, знакомые Пушкина. Он был очень им рад. От них веяло забытым и незабываемым петербургским воздухом. Пушкин бывал и у них, и все вместе ходили танцевать в казино.
Событиям — назревать и идти своим чередом, а молодость шумела пока и плескалась без всякого череду. Пушкин умел отдаваться веселью и пустякам с истинной страстью и беззаботностью. У него в Кишиневе была на сей счет прочная слава, и если бы его не было в городе, сплетни и болтовня в гостиных обмелели бы наполовину. Тут, как всегда, бывало немножечко правды и очень порядочно выдумки. То говорили, опять потрепал он за бороду какого–то знатного молдаванина, то будто, увидев хорошенькую головку в окне, въехал верхом на крыльцо, то у одной барыни, которая любила, садясь на диван, снимать башмаки, тростью вытащил их из–под дивана и спрятал…
— Да может ли быть?
— Да она сама вчера мне рассказывала!
Порою бывали и «бенефисы». Ивану Никитичу Инзову жаловались, и Иван Никитич имел обыкновение разбирать жалобы по старинке, всенародно. Пушкин даже любил эти представления, но и тут продолжал забавляться, и когда генерал объявлял, что в назидание господину Пушкину он оставляет его «без сапог», тот тотчас же с такой торопливостью принимался стягивать с себя обувь, что и сами жалобщики уже начинали смеяться.
Пушкин любил ходить на народные гуляния, глядеть на борьбу, на игру в свайку, в которую игрывал и сам. Иногда появлялся он костюмированным — то турком, в сандалиях и с феской на голове, с важною длинною трубкой, то евреем, цыганом… Однажды он взял у Полифема, который все еще был цел, монашеское его одеяние и, подоткнувшись со всех сторон, так и отправился через весь город к старухе Полихрони «погадать, попадет ли он в рай или в ад».
Но особенно он любил в праздничные дни вступать в молдаванские хороводы. Проезжавшие мимо бояре приказывали кучерам остановить лошадей и со смешанным чувством глядели, как молодой человек отплясывал «джок» под звуки кобзы: Пушкина, с ними никак не стеснявшегося, они побаивались и не любили, но в то же самое время им было приятно, что он не чуждается их национальности. Тяжеловесные мысли их приходили в движение и как бы стекали по лицу, заставляя пошевеливаться и самые бороды — красоту и природную гордость всякого коренного «бояра».
Святки этого года были особенно шумны и веселы. Их не хотелось кончать, и они сами собою докатились до масленицы. В один из таких вечеров в казино произошла небольшая история, которая имела и продолжение.
Было условлено с Алешею Полторацким, что они начнут мазурку. Александр захлопал в ладоши и закричал музыкантам:
— Мазурку!
Он слышал отлично, как какой–то молоденький егерский офицер, не знакомый ему, заказал до того русскую кадриль. Офицер опять закричал, чтобы играли кадриль, но музыканты послушались Пушкина, которого давно знали.
Полковник Старов, видевший это, подозвал офицера и предложил потребовать у Пушкина извинения. Офицер, которому не хотелось идти на явную ссору, отговорился тем, что он с ним даже и незнаком.
— Тогда придется поговорить мне за вас.
Пушкин себе в секунданты пригласил Алексеева. Липранди, у которого оба они побывали рано утром, также поехал к месту дуэли, версты за две от города, и остановился в какой–то мазанке, ожидая, не проедет ли мимо Старов: он предполагал про себя сделать попытку к примирению противников или по крайней мере оговорить не слишком жестокие условия. Но Старова он так и не увидал и ходил из угла в угол, волнуясь и беспокоясь.
Липранди был сам старый испытанный дуэлянт. Про него ходили легенды, и Пушкин часто допрашивал его о подробностях его поединков. Кажется, на его совести была чья–то жизнь, и этот случай испортил ему отлично начавшуюся карьеру. В двадцать четыре года он был уже подполковником генерального штаба и состоял в четырнадцатом году начальником русской военной и политической полиции в Париже. И вот с тех пор прошло еще восемь лет, и он все тот же подполковник…
Липранди под пулями противника стоял совершенно спокойно, он знал то же свойство и за Пушкиным, но вот за него сейчас он волновался. Эти непривычные волнения людей, скупых на любовь, особенно остры. За окнами выла метель, не видно ни зги. Если Старое пошел на дуэль, как мальчишка, он будет настаивать на очень близком расстоянии между противниками, а Пушкин? То же, конечно, и Пушкин! Дуэль с человеком, уважаемым всеми, полковником, под сорок лет, да это для Пушкина истинное наслаждение… И как это должно быть освежительно среди застойного бытия града Кишинева!
На Алексеева Липранди не возлагал больших надежд. Николай Степанович, правда, бывший военный, но по натуре своей он человек глубоко штатский. Он любит Пушкина, но он слишком спокоен, и спокойствие это не заработано в борьбе со страстями, оно даровое и не упругое. А тут надо быть начеку! А Старов? Старов потребует десяти шагов, восьми шагов!..
Липранди ярился. Он то и дело вскакивал с места и решал ехать на место дуэли… Но… но это было б противно дуэльному кодексу: у Старова был один секундант! И Иван Петрович, в который уж раз, как бы сжимал себя самого в кулак и опускался на твердую лавку, напоминавшую ему почему–то Финляндию: суровый каменный край!
Пушкин часто расспрашивал о его дуэли в десятом году, когда молодой русский офицер в газете, выходившей в Финляндии — в Або, через Балтийское море вызвал шведа, гвардии поручика барона Блома, и вызов через Балтийское море был принят (это было так романтично!), и тот отвечал в стокгольмских газетах с назначением дня прибытия в Або для встречи с Липранди.
И молчаливый и скрытный Липранди рассказал Пушкину все: ну да! — два месяца учился колоться и дал барону смертельный штос!
И вот ждет теперь здесь, и один. А между тем там, может быть, уже совершился, такой же смертельный, выстрел… И каждую минуту может раздаться стук, войдет извозчик и скажет: «Кого–то несут!»
И стук раздается… Извозчик вошел, но не успевает еще он открыть рта, как входят за ним — Алексеев и Пушкин! Как если бы молния упала в зрачок, Иван Петрович закрывает глаза на секунду и в ту же секунду совершенно овладевает собой. Он уже ровен и прост, как всегда, и даже… да, деловит. О, Липранди нельзя упрекнуть в излишней доброте, как Алексеева! Он даже вообще не добр. На что ему доброта! Он может, напротив, быть сух и даже жесток, и он прежде всего — отличный чиновник, отчетливый исполнитель, знаток своего трудного дела по непрерывной связи с Балканами. Все это так, но в эти часы белой метели за окнами, и одиночества, и далеких видений своей собственной, начисто отгоревшей молодости, — может быть, в первый раз, — он понял и сам, как он истинно любит этого кудрявого юношу, поэта, задиру, веселого друга, как он любит его со всею силою сжатого сердца, которое можно наконец–то и отпустить: барьер на шестнадцать шагов — два промаха! — барьер на двенадцать шагов — еще два промаха! Дважды два — четыре… Как хорошо!
— Они хотели еще сблизить барьер, — говорит Алексеев, — но мы, секунданты, им не позволили.
Липранди глядит на него: широкоплечий, красивый, бачки блестят в мельчайших росинках растаявшего снега, и как заблестели глаза! Нет, он молодец — коллежский секретарь Алексеев!
— Вы молодец, Николай Степанович, что вы не позволили.
Глаза Алексеева отвечают: «Я люблю его не менее вас, Иван Петрович». И Липранди читает этот ответ. А сам Пушкин? Что он?
Сам Пушкин как если бы только что выкупался: такой оживленный и свежий.
— А ведь мы отложили! Метель успокоится, и сойдемся опять.
— Метель будет долгая. Едем домой.
До самой плотины через реку Бык ехали шагом. Дрожки утопали в снегу. На одной из улиц Пушкин соскочил на ходу.
— Я к Полторацким. Поговорить о вчерашней мазурке!
Но Полторацких он не застал и оставил записку:
Я жив. Старов здоров. Дуэль не кончен.
Эта дуэль так конца и не имела. «Да он, братец, такой задорный!» — говорил, обращаясь к Липранди, Старов, но все же противники примирились. «Я должен сказать по правде, — обратился полковник к юному дуэлянту, — что вы так же хорошо стоите под пулями, как хорошо пишете». Пушкин был тронут и кинулся его обнимать.
Он помнил запрет, который был на него наложен Марией Раевской: без крайней необходимости жизнью не рисковать, но никогда не мог ему подчиниться. Казалось ему, что он не мог бы себя уважать, когда бы не был готов во всякую минуту стать на поле чести. Даже то, что дуэль эта не была довершена, порою немного его беспокоило. Липранди в своем дневнике, который он вел весьма аккуратно, записал со свойственной ему точностью:
«Алексеев сказал ему, что он ведь дрался с С., то чего же он хочет больше, и хотел было продолжать, но П. с обычной ему резвостью сел ему на колени и сказал: ‟Ну, не сердись, не сердись, душа моя», и, вскочив, посмотрел на часы, схватил шапку и ушел».
Точность была для Липранди обычная, но то, как живо записал этот кусочек суховатого своего дневника, было совсем необычно для этого, многим казавшегося загадочным, человека. На долгие годы будущей мрачной жизни его воспоминание о Пушкине останется для него едва ль не единственным солнечным пятном.
В городе было множество гадалок, особенно охотно гадавших солдатам. Попутно они выведывали от них то, что им приказано было выведывать. Как настоящие чиновники, получавшие, однако, жалованье не от казны, л от своих клиентов, они систематически доносили о настроениях в войсках. Впрочем, это не составляло для населения особой тайны. Для офицеров соглядатаи были свои, в более высоком кругу. Наиболее осторожные избегали заглядывать даже к старухе Полихрони, невзирая на всю причудливость ее волхований, магически к себе привлекавших, и на страстные песни Калипсо, про которую с одинаковым основанием можно было утверждать, что она и красива, и безобразна, а таковая загадочность для молодежи всегда остролюбопытна. И все–таки избегали: «Может быть, и для нас хлопочет старуха, а то и для Турции — на случай войны…»
Трудно в таких вещах разбираться, но вот Владимира Федосеевича Раевского облюбовала особа духовная: архимандрит, ректор кишиневской семинарии. Семинаристы уже и тогда отличались большим свободомыслием, это волновало отца Иринея. Он считал себя призванным бороться с крамолой, где бы она для него ни открылась. Горячий южанин, страстный и неукротимый, полусерб, полумолдаванин, он чувствовал себя не столько пастырем, сколько духовным воином. А поелику битвы за души человеческие неизмеримо важнее всех иных земных битв, он свысока смотрел на блестящее воинство и почитал для себя необходимым вмешиваться и в эту, казалось бы, чуждую для него сферу.
У него блестели не только глаза, но и волосы, крупно волнистые, как у архангела. И настоящая страсть обуревала его, когда он выступал на поле брани, то есть садился за стол и обмакивал в чернила перо для очередного доноса. Так он первым открыл «зловредное для государства учение, которое преподавал Раевский юнкерам в военном бессарабском лицее».
Впрочем, о Владимире Федосеевиче многое было собрано у Сабанеева и без него. И Киселев, начальник штаба армии, после долгих колебаний решился, наконец, отдать приказ об аресте Раевского. Этому много способствовало пошатнувшееся положение Орлова, а арест его адъютанта, в свою очередь, еще более ослаблял позицию самого генерала.
Чувствовал ли Владимир Раевский приближавшуюся грозу? Трудно было сказать. У этого человека была огромная выдержка, и он обычно себя в личном своем не приоткрывал. Было это, пожалуй, всего один–единственный раз.
Как–то вечером Александр сидел у Раевского. Были сумерки, и огня не зажигали. Они не спорили, не горячились. Была тихая, доверчивая минута. Такие минуты выпадают перед расставанием надолго. Пушкин ни о каких опасностях, которые могли бы грозить его другу, и не помышлял. Может быть, знал или чего–то ждал Раевский. Так сидели они и обменивались недолгими фразами, в которых важны не слова, а те чувства, что за словами. Уходить не хотелось. Разговор зашел об Охотникове. Он и Раевский были друзьями, но это никак не афишировалось.
— Здоровье его очень плохо, — заметил Пушкин.
— Да, он за собою никак не следит. И ничего на себя тратить не хочет, живет на одно жалованье.
— А говорят — у него состояние?
— Да, он очень богат. Он получает несколько тысяч в год от отца и тратит все на других. Все несчастные в Кишиневе знают его.
Пушкин это отчасти подозревал, как знал хорошо то же самое и про самого Раевского. Они никогда об этом не говорили.
— Вот и недавно. Деньги он все израсходовал. Так продал последний бриллиантовый перстень и купил одному израненному и бездомному офицеру, служившему вместе с ним… купил ему виноградный сад и домик недалеко от города, а у офицера семья…
Тут трудно подать какую б то ни было реплику, и Пушкин спросил:
— А у самого Константина Алексеевича… Я хочу сказать, у него… своя жизнь?..
Раевский слабо улыбнулся:
— У нас с ним для этого времени нет.
Реплику подать стало еще труднее. Но Раевский сам продолжал:
— Он человек самоотверженный и чистой добродетели человек. — И, как бы почувствовав неловкость от того, что только что поставил Охотникова рядом с собой, заключил серьезно и с истинным чувством: — Я завидую, что человек одних со мной лет так далеко ушел от меня, искоренив последние недостатки в себе самом.
Такие беседы у Пушкина — тихие, о внутреннем и простом, — были в жизни не часты, так в лицее открывались они друг другу с Пущиным, позже бывало так и с Николаем Раевским, но с Владимиром Федосеевичем, когда тот, никаких в ответ доверительностей не требуя, сам открывался ему, — это было в первый и единственный раз.
Через несколько дней после этого вечера в Кишинев прибыл опять Сабаней, как его называли солдаты. Он обедал у Инзова и остался после обеда. Пушкину надо бы уходить к себе, но он медлил. Какое–то предчувствие томило его. Томление это шло, вероятно, от самого гостя. Тот по обычаю шутил за обедом, но не был по–настоящему весел, а себя только подстегивал. Был и Инзов задумчив свыше обыкновенного.
— Я уж просил Киселева. Возьму Липранди к себе в адъютанты. Не вашего, не кишиневского. — Сабанеев зло махнул сухою своей, детскою ручкой. — Уж владейте им как–нибудь вы… На здоровье! А я, бог даст, и без него обойдусь. Я возьму молодого. Да уж и взял! Это законно и без приказа.
— Что же, и наш Иван Петрович человек достойный, — возразил Инзов.
— Такой же достойный, как и ваш этот майор.
Инзов печально взглянул в сторону Пушкина. Но имени майора Сабанеев не назвал. Покушав, оба генерала удалились в кабинет Ивана Никитича.
Все это заставляло насторожиться, и Пушкин остался после обеда в столовой, перелистывая какую–то новую книгу. Инзов не любил послеобеденных прений и, невзирая на лица, обыкновенно уходил к себе — побыть в одиночестве, часок полежать. Но сегодня обычаю этому он изменил. «Что–нибудь важное, — думал Александр. — Что–нибудь важное… И какой это ваш майор? Непременно Раевский!»
Как раз это имя послышалось из–за дверей. Собеседники спорили повышенными голосами. Пушкин преодолел неловкость и подошел к двери поближе. Сабанеев настаивал, петушась. Инзов никак не хотел согласиться. Тогда Сабанеев почти прокричал:
— И я, и вы, мы обязаны подчиняться приказаниям. А я получил приказание: пока майор Раевский не будет арестован, ничего нельзя будет раскрыть!
Не слушая далее и забыв всякую осторожность, Пушкин тотчас побежал к Владимиру Федосеевичу. Тот спокойно лежал на диване и курил трубку.
— Можешь идти, — приказал он арнауту, открывшему дверь Пушкину.
— Здравствуй, душа моя!
— Что нового? Ты как–то запыхался…
Они иногда бывали друг с другом на «ты».
— Новости есть, но дурные.
— Раз Сабаней в гости приехал, какие могут быть новости, кроме дурных.
— Ты угадал.
И Пушкин все передал, что услышал. От Киселева получен приказ: майора Раевского арестовать!
— И ничего нельзя открыть, пока ты не арестован. А что открывать?
На последний вопрос Раевский ничего не отвечал. Он поднялся с дивана.
— Спасибо тебе. Я этого почти ожидал. Но все же, — арестовать офицера по одним подозрениям, — это отзывается турецкой расправой. Впрочем, увидим, что будет. Пойдем к Липранди!
— Но он уехал вчера в Москву, ты же ведь знаешь.
— Уехал Иван Петрович, а Павел Петрович приехал, с Сабанеевым вместе.
Пушкин потемнел с лица.
— Но ведь Сабанеев порочил Ивана Петровича и говорил, что брат на него ничем не походит, следственно…
Раевский при этом не стал Пушкину объяснять, что Сабанеев подозревал Ивана Петровича в принадлежности к тайному обществу, тогда как на самом деле в тайном обществе состоял не кишиневский Липранди, а младший брат его, которого генерал брал к себе адъютантом. Он, впрочем, сказал, остерегая:
— Только у Павла Петровича ни слова о моем деле. Видимо, все же сам он рассчитывал так или иначе узнать о создавшемся положении. Но Павла Петровича, как всегда остановившегося у брата, они не застали. Он пошел повидаться, как им сказали, с другим адъютантом Сабанеева — Радичем.
— Так я его до сих пор еще и не побил! — печаловался Пушкин.
Раевский и Александр расстались на улице. Владимир Федосеевич особенно крепко пожал руку своего молодого друга.
— До завтра, — сказал он чуть дрогнувшим голосом. Тем же приветствием ответил и Пушкин.
Раевский пошел к себе приготовиться к принятию гостей: было очевидно, что Радич примет участие в обыске.
У Владимира Федосеевича был большой шкаф с книгами, более двухсот томов французских и русских авторов. Он едва успел затолкать на верхнюю полку «Зеленую книгу» — статут Союза Благоденствия, в него были вложены четыре распоряжения о принятии в союз, сделанные Охотниковым; сюда же он приобщил и маленькую брошюру — «Воззвание к сынам Севера». Сжечь все это сейчас было б опасно, могли догадаться по запаху. Да и не успеть… И точно, в двери раздался громкий стук. Вошли Павел Петрович Липранди и Радич.
Обыск и арест поручены были персонально Павлу Петровичу, а Радичу отдано было распоряжение — присутствовать. Молодой Липранди держался официально, вежливо–сухо. Радич, ему в подражание, так же. Обыск продолжался недолго. Все было на виду.
— Книги брать? — спросил Радич, окинув взором шкаф.
Липранди, уже успевший обменяться взглядом с Раевским и убедившийся, что все подозрительное именно в книжном шкафу, сухо и деловито ответил своему сотоварищу:
— Не книги, а бумаги нужны. — И тщательно отобрал служебные и деловые бумаги Владимира Федосеевича. — Вам придется приготовиться к отъезду, — сказал он, обращаясь к нему. — Я должен вам объявить, что вы арестованы.
«А из него выйдет толк», — думал меж тем, покручивая холеный ус, капитан Радич, чувствовавший непреодолимое влечение к обыскам, допросам, арестам, ко всему этому увлекательному, даже больше того — пленительному полицейскому делу. Когда бы он знал, какую, при всем своем полицейском уме, играл он в тот вечер глупую роль!
Раевский остался один. Он быстро с полки достал спрятанные им документы и немедленно сжег.
Наутро, когда Александр прибежал проведать Владимира Федосеевича, Раевский был уже далеко.
Пушкин грустил. Он многого не понимал и не знал, насколько дело Раевского было серьезно. Владимира Федосеевича ему так не хватало, как он не мог бы себе и представить. Не было и Ивана Петровича Липранди. Орлов не приезжал. Ему писали письма, Охотников, невзирая на свое нездоровье, ездил к нему в Киев — «просить дивизионного командира, чтобы он возвращался поскорее». Многим казалось, что стоило Михаилу Федоровичу вернуться, как снова все станет на свое место. Но и сам Охотников в Киеве подозрительно задержался. Конечно, он также имел свои основания держаться подальше. Петербургские друзья были на отлете. Первым снялся с места молодой приятель Полторацких — Кек, тоже офицер генерального штаба.
Полторацкие устроили вечеринку. Пушкин привел с собой Горчакова.
Это было похоже на Петербург, но было и что–то походное. Походными прежде всего были стаканы. Они вкладывались один в другой и все были разной величины. Пушкина почтили самым большим. И он эту честь полностью оправдал.
Он редко хмелел, но очень любил эту внезапную легкость, которая охватывала и его самого, и, как он думал, других, совместно пирующих. Легкость и быстротечность.
«О, жизни сон, лети, не жаль тебя!» Воспоминания чудно в нем оживали; и видения были крылаты. Они приносились и уносились по изменчивой прихоти его самого и по каким–то законам, им свойственным.
Сама фамилия — Полторацкие — приводила к Олениным и к другим из того же круга, подобного светлому кругу, очерченному абажуром от лампы. И на тот свет, как мотылек, летела душа. Особенно ему вспомнился вечер у Олениных, когда он впервые встретился с юною генеральшею Керн. Он ничего вслух не называл, но все это пело и проносилось в нем. Кругом было шумно и весело, на гребне волны вскипало какое–нибудь безумное, яркое слово и, пенистое, свежее, срывалось тотчас ветерком дружного смеха и восклицаний. Он и сам — не только участник, но, быть может, раскидистей и блистательней всех, и все же эти два мира в нем пребывали на равных правах. Безмолвие времени имело свой голос: воспоминания! И ни одна мелодия их не бывала нарушена.
И пройдет еще некоторое время, все это станет видимо и со стороны. И не со стороны, а как бы сверху: поэт поднимается над собою самим и может себя рассказать. Уже на другой день он писал:
Я пил — и думою сердечной
Во дни минувшие летал
И горе жизни скоротечной
И сны любви воспоминал.
Меня смешила их измена:
И скорбь исчезла передо мной,
Как исчезает в чашах пена
Под зашипевшею струей.
Этот вечер с друзьями был едва ль не единственным поэтическим вечером в ту наступавшую весну. Вечером, в прощеное воскресенье, молдаване стреляли из ружей, провожая масленицу. Инзов распорядился давать скоромное одним только орлам и собакам. Пушкин об этом сказал Долгорукому. Он пишет дневник, наверное, запишет и это. Постепенно и Долгорукий стал занимать какое–то место в жизни Пушкина.
Князь был воплощенною умеренностью, и Александр не всегда мог его слушать спокойно. Как–то за обедом у Инзова тот развивал свои либеральные взгляды:
— Свобода мыслить не может и не должна быть запрещена законом. Секты и общества надо искоренять, не прикасаясь при этом к частным лицам (Пушкину это припомнилось после ареста Раевского).
— Ну, а своеволие? — спросил один из адъютантов Инзова.
— Своеволие, — ответствовал князь, — как действие, не основанное на правилах разума, нравственности и любви к ближнему, нарушает спокойствие общества и не может быть терпимо.
Пушкин, хоть в присутствии его и не стеснялся, но с ним самим в пререкания не вступал. Он посылал с ним летом в Одессу письмо Сергею Ивановичу Тургеневу, вернувшемуся с русским посольством из Константинополя.
Из этой поездки Долгорукий привез рассказы об обострившихся отношениях с Портой и поклон от своего брата Димитрия, также состоявшего при русском посольстве, бывшего членом «Зеленой лампы» и читавшего там свои стихи. Сам Павел Иванович был человеком порядочным, но одиноким, унылым. Пушкину было его несколько жаль.
И один только раз он увидел его в истинном негодовании. Пушкин сам не был свидетелем торговой казни солдат; об этом позаботился Инзов и пленника своего попридержал. Но Долгорукий был и все видел.
— Какая же их вина? — говорил он взволнованно. — Уставши терпеть тиранство, солдаты вырвали у капитана те прутья, которыми он собирался наказывать их товарищей. И это назвали возмущением и буйством! А самая казнь? Одно приготовление ужасно. Я взглянул только издали, а многие дамы не стыдились смотреть из своих колясок. Не понимаю. Не понимаю лютости человеков. А судьи…
И Долгорукий даже закашлялся от непривычного волнения, его охватившего.
— А судьи? Имеющие власть приговаривать к смерти и истязанию должны быть люди отличного ума и нравственности, а не всякая сволочь, какая у нас сидит в уголовной палате. Да и аудиторы — это иное суть, как не секретари полковые, раболепствующие командирам и не имеющие ни души, ни голоса!
Да, Долгорукий порядочный человек… Но Пушкин не о Долгоруком думал, а именно обо всей этой сволочи, которую — как же он ненавидел!
«Столы трещат, и посуда звенит от его выражений!» — про себя причудливо подумывал Инзов, но Пушкина не останавливал: пусть лучше только слова!
Однако же Пушкин в тот день и в дневнике у себя записал несколько горьких и откровенных строк.
Арест Раевского и полная неизвестность относительно его дальнейшей судьбы, эта торговая казнь, недобрые слухи об Орлове, — все это вогнало Пушкина в злую полосу жизни. Он часто становился резким: не добродушный задор, а почти оскорбительные, злые насмешки. Ему страстно хотелось сорвать на ком–нибудь это свое настроение. Наиболее трусливые из молдаванских бояр стали его избегать.
Ах, отчего он не в Киеве? Контракты, Раевские… Все это было как сон. В Киеве был сейчас и Денис, и каменские Давыдовы. Кажется, Аглая Антоновна покинула мужа и навсегда оставляла Россию, увозя с собой и Адель. Пушкину девочку было истинно жаль. Но и эти известия только скользнули, в груди ходили темные тучи, и наконец разразилась и его личная буря. Сколько бояре ни прятались, а один в лихую минуту все же попался ему на дороге.
Как и всегда в подобных случаях, началось с пустяков.
Незакончившаяся дуэль Пушкина с полковником Старовым много вызвала толков. Многие храбрецы, не державшие в руке пистолета, утверждали, что дуэли, собственно, так не должны бы кончаться. Пушкина одинаково раздражало, когда говорили, что в конце концов он просил извинения у Старова, или, напротив, — извинения приписывали полковнику.
Как–то он играл на бильярде, а поодаль шептались молодые люди из молдаван. Они то и дело поглядывали на Пушкина и одобрительно кивали в его сторону головами. Он догадался, о чем они говорили, но, оторвавшись от игры, подошел к ним и спросил совсем о другом. Ему не хотелось показать и виду, что он понял их разговор.
— Вам нравится, как я играю на бильярде? — спросил он, ловко перекидывая кий из руки в руку.
— Нет, нам нравится, куконаш Александр Сергеевич, — отвечал один из молодых людей, выдвинувшись несколько вперед, — и мы о том беседу ведем, как вы важного полковника заставили пардону просить.
Пушкин вспыхнул и отбросил кий в сторону. Молодые люди попятились, и особенно тот, что выступил впереди других; теперь он укрылся всех дальше.
— Как мы со Огаревым покончили, это наше дело, но Старова я уважаю, и ежели вы позволите себе его осуждать, то я приму это за личную обиду и каждому из вас придется иметь дело со мной.
Молодые люди не только что извинились перед «куконашем Пушкой», как они его величали, но и выразили свое восхищение его справедливостью. К концу разговора Пушкин с ними уже шутил:
— Ваше счастье, — сказал он, смеясь, — что у вас еще бороды не выросли. Я как увижу пышную бороду, так рука и тянется потрепать. Я, как кошка на мышь, кидаюсь на всякую шерсть.
Бороды действительно как–то манили к себе Александра — разворошить их порядок, а с ним и надутую важность самих бородоносцев. Среди таких «опушенных бояр» давно уже его раздражал высокомерный молдаванский вельможа Тодораки Балш. Про таких говорил как–то Вельтман забавною своею скороговоркой забавные стихи:
Он важен, важен, очень важен:
Усы в три дюйма, и седа
Его в два локтя борода,
Янтарь в аршин, чубук в пять сажен!
Он важен, важен, очень важен!
Только борода у Балша была, может быть, и седа, но выкрашена в золотисто–бронзовый цвет и приметно подвита.
Пушкин дружил и болтал с его женой Мариолой. Она была остра на язык и тоже однажды позволила себе пошутить относительно дуэли его со Старовым. Это было уже чересчур, Пушкин вскипел:
— Если бы на вашем месте, мадам, был ваш муж, я бы знал, как мне с ним поговорить.
Это было на вечеринке у молдаванки Богдан, матери Мариолы. Тодораки Балш сидел за карточным столом и вел большую игру. Ему везло. Он был красен и маслянист, озабоченно весел: только бы карта не переменилась! Но Пушкин к нему подошел и потребовал удовлетворения. Тодораки поднялся, сразу раздувшись до предельных размеров, и пошел к жене разузнать, в чем дело. «Карта, наверное, переменится…» — думал он про себя, а жена еще подлила масла в огонь. У боярина кровь прилила к глазам, он повысил голос, а потом и вовсе начал браниться, кричать. Пушкин не оставался в долгу и готов был перейти непосредственно к бою. Его удержали. Но скандал разыгрался действительно с силою бури.
Все гости смешались, как карты в колоде. Невидимая чья–то рука непрестанно их тасовала. Кидались туда и сюда. Старуха Богдан рухнула в обморок. Кто–то наступил на болонку госпожи Крупенской. Трудно было на нее не наступить, потому что она, как муха, шныряла между множеством внезапно пришедших в движение ног. Но вице–губернаторша не вынесла этого и впала в истерику. Целая группа гостей кинулась помогать лакею, несшему на подносе набор спиртов и успокоительных капель. Поднос опрокинули. Попутно опрокинули и карточный стол, зазвенели монеты. Наконец генерал–майор Пущин, все еще заменявший Орлова, овладел положением и почти насильно увез Пушкина с собою.
О происшествии было тотчас же доложено наместнику. Инзов распорядился — противников примирить. Но это оказалось не так–то легко. Ни Пушкин, ни Балш не поддавались на увещания.
— Может быть, вы, полковник, попробуете воздействовать на моего подопечного, — обратился Инзов к полковнику Корниловичу, встретившись с ним на одной из комиссий. — Пушкин приятельствует с Полторацкими, вы же их начальник, и он вас весьма уважает.
Полковник Корнилович, воспитанный светский человек, сказал, что попробует. Ему было и самому любопытно поближе приглядеться к Пушкину. Случай к тому теперь представлялся.
Вечеринка была в воскресенье. Пушкин, уведомленный Корниловичем, ждал его утром в среду. У него были свои мысли — поговорить с полковником о возможной своей поездке на топографические съемки вместе с братьями Полторацкими, которые очень его звали, а ему самому оставаться в Кишиневе было уже невмоготу. Извещение это и самый визит Корниловича были очень кстати. Поэтому он был очень раздосадован, когда получил утром записку от вице–губернатора, срочно его вызывавшего к себе.
Он кликнул Никиту и торопливо набросал по–французски на той же записке: «Вот, полковник, записка Крупенского, которую я только что получил. Будьте добры, подождите меня. Пушкин».
— Приедет полковник Корнилович, передай ему эту записку и попроси подождать.
У Крупенского оказался и Тодораки Балш. Его уговорили просить извинения у Пушкина. В этом не было ничего неожиданного. Матвей Егорович Крупенский был очень доволен завершением этого неприятного дела.
Но завершилось оно совсем по–другому. Пушкин был очень раздражен этим вызовом «по начальству». А кроме того, и сам Балш отнюдь не имел вида человека, признававшего за собою какую бы то ни было вину. Он смотрел на это как на любезность, которую делает уважаемому Матвею Егоровичу, а сам Пушкин тут был ни при чем. Он этого и не думал скрывать, и это становилось похоже на новое оскорбление. Боярин не произнес еще ни единого слова, а Пушкин уже закипал к нему ненавистью, возродившейся с новой силой: точно бы его заманили обманом в ловушку! Наконец Балш, надменно роняя слова, произнёс, подчеркивая слово «упросили»:
— Меня упросили извиниться перед вами. Какого извинения вам угодно?
Пушкин выхватил пистолет и возбужденно сказал:
— Вот как мне было угодно разделаться с вами, да здесь уж не место! — Он спрятал пистолет в карман и ударил боярина по щеке.
Корнилович тем временем заезжал, поглядел на записку, понял, что его разговор был бы теперь уже лишним, и дожидаться не стал. Пушкин отправился к Инзову. Иван Никитич продержал его у себя до обеда и, как говорили в управлении, радуясь возможности посудачить, все это время «мылил ему голову», потом накормил и отправил под арест с адъютантом.
Пушкин писал из заключения веселые стихотворные записки, но ему не было весело.
Навещал его Долгорукий, приносил, по просьбе узника, стихи своего батюшки, Ивана Михайловича. Это был чистый восемнадцатый век, и они ненадолго узника развлекли. Приходил и Инзов поговорить — «о том, что тебе интересно»: новости о продолжавшейся испанской революции; это был уж, конечно, век девятнадцатый. А сам Иван Никитич Инзов? Он был в отношениях с Пушкиным как бы вне всяких веков. Он считал необходимым — для пользы, для пользы единственно! — и посадить под арест, и потолковать «о том, что тебе интересно», и прислать балычку: Пушкин балык очень любил.
Но полностью и сам Инзов Пушкина не мог растопить. Дикая история с Балшем не разрешила его томлений. Он не жалел пышнобородого боярина и считал себя вправе побить его. Правда, за это сидит под арестом, и довольно–таки на сей раз длительным, но так что же? Первое время Пушкин бодрился: лучше сидеть под арестом, чем на свободе быть таким вот чиновником, как Долгорукий. Он так в этом роде ему и сказал. Неизвестно, поймет ли. Но Пушкин собой и своею судьбой был недоволен. Подумаешь: буря! Того ли хотелось бы?
Да и просто сидеть взаперти — не всю жизнь, как сгоряча сказал чиновнику–князю, а хотя бы вот эти три недели («До пасхи и просидишь» — сказал ему Инзов), — как нелегко! Он заскучал, похудел. Глядя на поджарых подневольных инзовских орлов, он вспоминал и тюремных орлов на цепи, и самого Тараса Кириллова, и песенку ту, что иногда бормотал разбойник в усы:
Замки нам не братья,
Тюрьма не сестра…
Этот мотив и этот размер запели и в нем. И он быстро набрасывал первые строки об узнике и об орле: И тихо, и грустно в темнице глухой, Пленен, обескрылен орел молодой, Мой верный товарищ в изгнанье моем Кровавую пищу клюет под окном.
Замка на двери у него не было, но решетка была, и это он думал о самом себе как об узнике. Но, однако же, он ли один сидит за решеткой, и он ли один мечтает о воле? И думы все ширились, ширились, и уже не одного себя он представлял арестантом и не одного Кириллова вспоминал: тюрьма была велика.
И Пушкин искал, и менял, и находил — слова, именно те, которые тему его и углубляли, и расширяли. Да, был он в изгнании, именно он — «в изгнанье моем», — но это уже чересчур явно было о себе, и он оставил только темницу.
Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном.
Клюет, и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно;
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: «Давай улетим!
Мы вольные птицы: пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер… да я!»
И все же свое было и оставалось: даже и туча проползала не раз и застилала белесые кишиневские холмы, что непрестанно глядели в окно, а в воспоминании был жив снежный Эльбрус, и не покидали мечты о морских синих краях… Но личное это нашло наконец свою преображенную форму, которая делала его вместительным, емким, не только своим. Вздыхая об узнике, многие и на свободе вздохнут о самих себе, о той подлинной воле, которая человечеству все еще только снится.
И с чего началось? С орлов и решетки в инзовской комнате, с разбойничьей песенки — все это тут, перед глазами, в ушах, все это живые конкретности сегодняшнего дня, но, отталкиваясь от них, хотя их же отчасти и сохраняя, вырваться вдруг из личной своей тесноты в просторную думу о человеке, не значит ли это — не только мечтать, но и осуществить деяние свободы?
Пушкин и сам отдавал себе в этом отчет, и сознание это приносило с собою гордое удовлетворение. Это действительно было глотком свежего воздуха.
Но такою же крепкой являла себя и сила действительности. Дни проходили за днями в неизменной своей монотонности. Пушкин сидел, когда прежде всего был Пушкин — движение!
Стражи у комнаты Инзов не ставил, он полагался на узника. Единственным сторожем и поильцем–кормильцем был верный Никита. И он со дня на день худел и становился все молчаливее. Пушкин в думах своих почти что его не замечал: так тот был тих и неслышен.
А думы порою были самые мрачные. Александру казалось, что он покинут, забыт. Алексеев отбыл в какую–то командировку, и приходилось довольствоваться Долгоруким, а это как постная пища! Да и вообще, где же друзья? Всех разметала судьба… Не свойственное Пушкину уныние стало наведываться в его комнату за решеткой все чаще и чаще… И вдруг открывается дверь:
— Александр Сергеевич, батюшка… сказывали… адъютант прибудет сейчас… генерал будто как распорядился о воле!
Никита стоял в дверях, голос его дрогнул, и улыбка, как зайчик, бегает по вдруг посвежевшему лицу его, не смея еще остановиться определенно на губах. За окном веселый и солнечный день. Уже зеленеет молодая трава, и воздух, трепеща, струится над нею. Но Пушкин, как в обмороке, сердце закрыто. «Туда где синеют морские края…» И он невольно вздохнул: «Попроситься, что ли, в Одессу?» Он стоит, — и ни с места.
— Что с тобою, Никита?
Пушкин увидел, как у Никиты закапали слезы. Такого зрелища он ни разу еще не видал. Почему это? Откуда они?
И понял тотчас, чего и Никита сам полностью не понимал, но тем непосредственней чувствовал: верного дядьку его так поразило, что барин от радости не закричал, не вскочил, не закружился по комнате.
— Извели они, батюшка, вас…
Больше Никита ничего не мог произнести.
И к Пушкину, томившемуся потерей друзей, мигом вернулась вся жизнь. Он подскочил к Никите и обнял его, затормошил.
— Не изведут, ничего! Одеваться давай! Да какой нынче день?
Улыбка и слезы. Как через них просквозило человеческое верное сердце! И только сейчас, как если б действительно сняли запоры, снова свежо, и легко, и горячо: молодость, жизнь. Спасибо, Никита!
Глава пятнадцатая «ПЕВЕЦ В ТЕМНИЦЕ»
Инзов выпустил Пушкина поговеть, а после пасхальной заутрени и совсем отпустил на волю. Балш подавал ему жалобы, но «великий староста кишиневский» распорядился дело считать «за истечением времени — изжитым». Так, по слову его, оно и было изжито.
Кишиневская пасха была пестра и шумна. Долгорукий обижался, что Инзов заехал с визитом к правителю канцелярии раньше, чем к нему. Ему объяснили одну тонкость, которую из виду он упустил: правитель канцелярии был женат, а он нет; таким образом, ущербность его еще увеличивалась: беден и — холост! Но он развлекался тем, что на другой день пошел смотреть на борьбу. Там он встретил и Пушкина.
Борьба была интересная: не столько на силу, сколько на ловкость. В ней была своя ритмика, и Пушкин отчетливо это ощущал, когда звуки волынки сливались с движением тел в одно целое. Народ теснился вокруг все ближе и ближе, и один полицейский, довольно боязливо размахивавший обнаженною шпагой, и двое болгар, ему помогавших, ничего не могли поделать. Это, конечно, был беспорядок, но Пушкину нравилось и это. Он достаточно у себя насиделся без вольных телодвижений!
Ему и лицей вспоминался — борьба на дворе, и, улыбаясь, припоминал кое–какие строчки из своей «Гавриилиады». Но борьба была замечательна и сама по себе. Не сила и не запал, а ловкость и изворотливость побеждали. Однако ж как часто и в жизни так побеждают!
И, оборотясь к Долгорукому и вкладывая в слова двойной смысл, он произнес:
— Вот чего мне не хватает. Этому я буду учиться!
В увлеченье борьбой ему действительно захотелось ей научиться, но и то доставило ему удовольствие, что он вслух высказывает и другую свою, более важную мысль, о которой собеседнику никак не догадаться. Он всегда это любил и знал по стихам, что, когда наряду с ясной прозрачностью мысли иль чувства заложено в них что–то еще, на глубине, не всегда и самим полностью осознанное, — стихи получали особую полновесную жизнь.
Кишиневская пасха пестра. Инзов в тот день принимал духовенство, а потом у него были евреи со скрипками, Пушкин имел столкновение с Балшем, а. на первом же вечере весело переглянулся с тринадцатилетней Аникой, дочкою Мариолы, — в пику и назидание матери. И он опять танцевал, но — с пистолетом в кармане! Впрочем, для прогулок он скоро стал его заменять огромной железной палкой, с которой с тех пор почти не расставался. Многим палка эта была, вероятно, знакома: на «красную горку» из Кишинева, как говорили, «подался» куда–то пьяница и весельчак Илья Ларин.
— Саша, cyконка. Возьми от меня, брат, на память: что–то мне она стала легка…
Как–то у Инзова за столом подшутили над этой тяжеленной палкой, как над «новым поэтическим достижением» Пушкина. Но и он отшутился, припомнив дубинку Петра. Слово за слово, и разговор стал серьезным. Пушкин Петра обожал и считал его подлинным исполином, наследников же его престола — мелкотой и ничтожеством.
— Что из того, что все трепетали перед его дубинкою? Трепетали именно все, все были равны!
— Но он разрушал старый быт и добрые нравы старины.
— Он выбивал старую Русь, как на ветру выбивают старую шубу от пыли и затхлости. Выбивал и проветривал на вольном ветру. А что бороды брил, так нравственность не в бороде!
— Но это уже иноземщина!
— Нет, отчизне своей цену он знал и отчизну любил. Это потомки его перешли на иноземщину, на то, что полегче, а легче всего оказалось французить. Мы русского языка своего стали гнушаться. А эта революционная голова…
— У царя была революционная голова?!
— А эта революционная голова, — с особою настойчивостью продолжал Пушкин, — так любила Россию, как только писатель может любить русский язык.
— И что же можно творить в этой России?
— Все можно творить в этой России и в этом русском языке. Но прежде всего надо расчистить, и тот не патриот, кто не желает перемены правительства в России…
Пушкин и далее продолжал в том же духе, разгоряченный вином и намолчавшийся в одиночестве. Долгорукий про себя думал: «Русский язык, конечно, хорошая вещь, и батюшка стихи по–русски писал, но при слугах все ж таки лучше бы по–французски…» Этим мыслям очень не чужд был и Инзов, они ему в голову приходили не раз. Но по существу Пушкину он возражал лишь для видимого порядка. Это не значило, что генерал с ним соглашался, но ему неизменно нравилось что–то в этом молодом самозабвении поэта, как, может быть, нравилась… всякая жизнь. Как, в самом деле, ручью не звенеть? И какая унылая была б тишина без движения ветра!
И во всяком случае: за пощечину — да, но за вольные речи Инзов Пушкина под арест не сажал.
Князь Павел Иванович Долгорукий и вообще Инзову удивлялся, как только он терпит эти вольные «дополнения к Карамзину». И вообще, что у него за публика за столом! Член управления и приказный, подьячий — все вместе, и каждый пользуется своею долею доверенности, и это в то время, как они не равны ни средствами, ни воспитанием, ни властью! Все это никак не может ни устроить согласия обоюдного, ни определить каждому точных границ подчиненности и повиновения…
Погода стояла в ту весну, как говорили, чересполосная: засуха и дожди, засуха и гроза, а в промежутках молебствия о ниспослании влаги хлебам.
И такая же чересполосица в днях. То нечаянно порадует Пушкина и Долгорукий. Вдруг возьмет да и воскликнет: «А ведь легче управиться с целым полком, нежели с дюжиною подлых подьячих!» А то посмешит Инзов. Сильно к нему приставал некий де Потт, землемер: его дом стоял на низком месте, и его кругом заливало водою. Но на просьбу его о квартире Инзов с улыбочкою отвечал: «Вить и англичане на острове, а живут, ничего!»
Или — воздухоплаватель! Целое событие в городе. Толпы народа. Правда, что все норовят больше на даровщинку. Зачем платить целую леву, чтобы лезть за плетень, когда в небесах все равно будет видно! Но Пушкин своих семи гривен не пожалел и наблюдал возле самого воздухоплавателя, итальянца Доминициани, как он возился с помощниками, усердно надувая шар.
Приготовления шли медленно и как–то неуверенно. Пушкин взглянул за плетень и увидел Долгорукого среди бесплатных зрителей.
— Помните стихи вашего батюшки, — крикнул он ему:
Нет, мало, — дай еще за облако лететь: Надул тафтяный шар — и в воздухе явился!
Павел Иванович, верно, был бы рад, что Пушкин помнил кое–что из стихотворений его отца наизусть, но он был порядочно глуховат и в беседе всегда переспрашивал: «Что?» — и тогда, когда действительно не расслышит, и тогда, когда ему вовсе ничего не говорят, и даже, если расслышал, но просто не успел воздержаться от привычного «что». Но сейчас именно воздержался, не хотелось вступать в разговор, а причина тому все та же, постоянная: князь и… беден! Завести разговор со зрителем платным — это как–то подчеркивать, что сам, в некотором роде, в разряде низших существ… А Пушкин уже отвернулся, и ему было не до разговоров, его очень занимали все манипуляции этого чернокудрого человека с внушительным носом древнего философа и откровенно плутовскими современными глазами. Пушкину все время казалось, что дело кончится каким–нибудь фокусом: не полетит!
Так и случилось. Когда билетов уже больше не брали, а только томились в ожидании полета, итальянец, будто нечаянно, поджег нижний край шара, который вспыхнул у всех на глазах. Тогда он схватил себя за голову и изобразил совершеннейшее отчаяние, издавая восклицания с мольбой к богоматери, в то время как один из его помощников поспешно удалялся с выручкой.
Произошли суматоха и давка. Платные посетители бежали из–за плетня от огня, а самый плетень уже рушился под напором толпы, стоявшей снаружи; эти рвались к месту происшествия. Многие видели, как Пушкин, в отсвете пламени, громко смеялся и аплодировал итальянцу за выдумку.
— Этот латинянин, — говорил он потом, — умеет отлично надувать не только шары, но и публику.
Очередною сенсацией в городе была отставка Павла Сергеевича Пущина; его уволили от должности, оставив в чине генерал–майора. Он сразу уменьшился в размерах, мундир стал велик, жилет заморщинил. Он спешно покидал Кишинев, объявив себя при отъезде несостоятельным; за долги имущество его пошло с молотка. Позже прошел слух, что Пущин не получил паспорта для выезда из России. Но такие происшествия были редкостью.
Орлов из Киева все не возвращался. Оттуда приходили слухи, что без боя он не сдается. Передавали, как он говорил: «Сабанеев рассчитывал, что одним ударом меня сшибет. Ударил и подул в пальцы: сам себя ушиб». Не слишком ли Михаил Федорович надеялся на одну свою правоту, когда против него усердно работало много людей, которым до правоты не было ни малейшего дела, но которые защищали зато личные свои интересы?
Пушкин теперь переселился от Инзова к приятелю своему Николаю Степановичу Алексееву в его чистенькую и светлую мазанку. Они жили дружно, да и выходя в город, почти не разлучались. Полторацкие, произведя свою съемку, уехали в Петербург. Александр бродил по Кишиневу, — когда Алексеев был занят или куда–нибудь выезжал, — без дела, без цели. Весною ему плохо работалось, а развлечениями его были только обеды у Инзова да карточная игра в клубе.
У Инзова он отводил душу в разговорах и особенно бывал рад, когда у наместника появлялся какой–нибудь свежий гость, с которым можно было сцепиться. Обедающие у Инзова любили эти бои. И не только одно зрелище схватки какого–нибудь увешанного орденами важного лица с «нашим Пушкиным» — как многие его называли, не соглашаясь с его дерзкими взглядами, но все же самим им отчасти гордясь, — не только один этот «бой быков» их занимал; порою они и самыми речами истинно увлекались.
Пушкин, конечно, прекрасный был тореадор и умел довести до ярости и очень крупных быков, но нельзя было слушать без волнения, когда он говорил о позоре и стыде крепостного права. Он немного при этом бледнел и то поднимался, то садился опять, стукал рукою с салфеткой об стол и откидывал ее прочь.
— Я никогда… Я никогда крепостных за собою не буду иметь! Почему? А потому, что я не могу поручиться, что обеспечу для них благополучие. Да и всякого, кто это берет на себя и не выполняет, для кого крестьяне единственно только источник дохода, я почитаю бесчестным.
— А батюшку своего, Сергей Львовича, как почитаешь? — спросил Иван Никитич серьезно.
— Батюшку я исключаю, — отвечал Александр несколько неуверенным тоном. — Батюшка честен, но у нас нет на этот счет одинаких с ним правил.
— А жить будешь чем? Голова!
— Вот именно жить буду я — головой! Или, если хотите, гусиным пером.
Инзов и тем уже был доволен, что Пушкин не стал порочить отца, хотя натянутость в их отношениях была ему небезызвестна, и потому второй свой вопрос он задал тоном уже веселым, а гусиное перо совсем его восхитило.
— Я готов пожертвовать тебе целого гуся! — провозгласил он и, шумно отодвинув стул, поднялся из–за стола.
В другой раз Пушкин всех ошарашил неожиданным заключением пространных своих рассуждений о Наполеоне и революциях.
— Прежде народы, — сказал он раздельно и полновесно, как если бы говорил власть имеющий, — прежде народы восставали один против другого, теперь король неаполитанский воюет с народом, прусский воюет с народом, гишпанский тоже с народом, — так нетрудно расчесть, кто возьмет верх.
Князь Долгорукий, дома у себя записав эту фразу, добавил еще: «Глубокое молчание после этих слов. Оно продолжалось несколько минут…» И это молчание, видимо, было очень насыщенным, ибо и тут, в дневнике, перо его также остановилось без какого–либо полемического замечания.
Томление духа и сопутствующее ему возбуждение сил Пушкина не покидали. Он увлекался и картами. Играл он азартно, и уж, конечно, не для выигрыша. Если бы были деньги, верно бы, много проигрывал. Но денег было немного. И, однако же, находились люди, которые и с ним играли наверняка. С одним из таких игроков, офицером генерального штаба Зубовым, вышло у него очередное столкновение.
По окончании игры, в которой Зубов именно играл «наверняка» и обыграл дочиста Пушкина, Александр с большим равнодушием и со смехом стал говорить другим игрокам, что нельзя же платить такого рода проигрыш. Зубов потребовал объяснений, и Пушкиным дуэль была принята.
Обычное место дуэлей называлось в Кишиневе малиной, хотя это и был виноградник. Пушкин не раз потешался над этим названием и теперь, смеясь, идя на дуэль, говорил секунданту, что, кроме малины и винограда, там будут еще и черешни.
— Эта дуэль должна быть веселой: это дуэль из–за женщины. Мне изменила червонная дама. Впрочем, не столько она изменила, как Зубов похитил ее у меня из колоды!
Действительно, он захватил в фуражке черешен и беззаботно их ел, выплевывая косточки в сторону противника. Так он стоял и под пистолетом Зубова, которому выпал первый выстрел. Немудрено, что Зубов, стреляя, промахнулся.
Пушкин от выстрела отказался. Но он вдруг стал бледен, холоден, строг, когда вместо того чтобы требовать выстрела, Зубов бросился к нему с объяснениями.
— Это лишнее, — сказал коротко Пушкин, выбросил оставшиеся ягоды и удалился.
Все это озорное и легкомысленное настроение, а рядом с тем выдержка и хладнокровие, эти противоречивые, но согласные чувства, его покинули, и им овладела на время безотчетная грусть. Сейчас, когда это все минуло, он вспомнил дуэль горных баранов, но и это его не развлекло. «Нет, там это было проще, естественней… — Смутно, как волокнистые облака, проплывали в нем отдельные мысли, едва задевая сознание. — Не в битве и не за друга… И моя жизнь, неповторимая, я готов был отдать ее… Но разве моя жизнь принадлежит только мне?» Тут мысли остановились. Это было что–то очень серьезное.
Он так и не додумал этих отрывочных мыслей. Но они в нем остались, уйдя на глубину. Через некоторое время он, что называется, «отошел» и вернулся к привычному состоянию.
Делу об этой дуэли никакого не дали хода. Да и Пушкин «на поле» держал себя так, что, собственно говоря, и грешно было б его наказывать. Напротив того, его поведение принесло ему большую честь.
Первого июля возвратился наконец из своей долгой поездки Липранди. Ни Вяземского, ни Чаадаева он не видал и письма Пушкина к ним привез обратно. Зато Александр получил письма от Дельвига и Баратынского, из дому от своих. Липранди приехал усталый с дороги и озабоченный своим положением. Он пытался устроиться на службу в Одессе, но это ему не удалось. Впрочем, об этом он не распространялся, а Пушкин засыпал его расспросами о Москве, о Петербурге, о доме. Он заставлял рассказывать все подробно, до мелочей.
— Ну, так что же, иду по Фонтанке… — Между Измайловским и Калинкиным мостами, — перебивал его Пушкин, как маленький.
— Ну да. Может быть, дом прикажете описать? Каменный, одноэтажный, с балконом.
— Он очень непрочный, балкон… И половицы в правом углу вовсе прогнили. Мне это нравилось.
— Что половицы прогнили?
— Да, что непрочный! Романтичней. Страшней.
— Вот, верно, такого–то вас и вспоминала эта старушка…
— Мамушка? Няня?
— Я прихожу. Дома нет никого. Лакей узнает, что есть письма от вас, ну и позвал старушку какую–то…
Пушкин сердился, смеялся. Обычно он был сдержан в выражении чувств, но что–то сейчас его подмывало.
— Не какую–то! Это же няня! Арина Родионовна. Я разве вам про нее не говорил?
— Да я и сам потом догадался. Но как же расспрашивала она о вас, Александр Сергеевич! И о здоровье–то, и хорошо ли вам спится, и мягкая ли перинка, и что кушаете…
— Что же вы отвечали?
— А в Москве, куда я попал лишь потом, я всем страсти рассказывал, как сами вы приказали: ходит по кабакам, оборванный, грязный…
— Ну, только не грязный!
— В рубище, во вретище, и весь в долгах с головы до ног.
— Без вас тут был один… воздухоплаватель. Так он заработал сотню рублей чистою выдумкой. Я тогда же подумал: вот человек — живет головой! Может, и мне выдумка ваша поможет. Ну, а няне вы как?
— Чистенький и аккуратный. Говеет, работает. Ждет не дождется, когда приедет, чтобы ее обнять.
— Не смейтесь, Липранди. Вы сказали чистую правду. А она была в ватной своей кацавейке? Она корицей всегда — чуть–чуть! — пахнет.
— Она спрашивала, Пушкин, о вас и заливалась слезами.
И письма друзей Пушкина взволновали. Вот он — его оставленный мир! И как далеко, и как все давно!
После обеда он прилег и уснул, что случалось с ним очень редко. И во сне видел лицей и, как всегда, когда снился лицей, — Кюхельбекера. Так с этими мыслями и проснулся и тотчас сел разбирать лицейские свои тетради, привезенные Липранди из Петербурга. Целый вечер воспоминания не покидали его. В комнате была тишина, тишина спустилась и на душу. Что такое, собственно, счастье, Пушкин, верно, затруднился бы определить, но он знал, что не ошибается, когда перед тем, как ложиться спать, записал: «1 июля день щастливый».
Много рассказов еще было отложено. Липранди торопился вступить в служебные свои дела. Пушкин застал его дома лишь дня через два по приезде. Еще по дороге вспомнилось, что забыл спросить, получил ли он посланное ему вдогонку письмо, где в легких стихах, иносказательно, сообщал об аресте Владимира Федосеевича, рассчитывая, что он поймет, кто такое Орест, и обратит внимание на то, что он сам под арестом всего лишь три дня, а Раевского не видит уже давно…
Мой друг, уже три дня
Сижу я под арестом.
И не видался я
Давно с моим Орестом…
— Да, я догадался тотчас, — отвечал Липранди, когда Александр с порога еще спросил его об этом. — Но ведь у меня есть стихи и от самого Ореста!
— Вы его видели? Когда же и как? Что он — здоров?
— Я с собою тогда их не захватил, но они у меня здесь.
От сидевшего в тираспольской крепости Раевского уже было, еще до того, одно стихотворное послание «К друзьям в Кишинев». Пушкина оно и тронуло, и расстроило. Раевский всегда его упрекал за обилие имен мифологических, в послании же он сам, обращаясь к Пушкину, как бы протягивал руку примирения и щедро черпал из мифологии.
Но сквозь этот дружеский убор проступала сердечная боль: «Сковала грудь мою, как лед, — Уже темничная зараза…» И все же узник преодолевал эти личные чувства. Как раненый воин, он передавал товарищу знамя:
Воспой простые предков нравы, Отчизны нашей век златой, Природы дикой и святой И прав естественных уставы.
Пушкин уже пробовал ему отвечать: «Недаром ты ко мне воззвал — Из глубины глухой темницы…» Недаром: он чувствовал уже и тогда, как много еще ему надо сказать, и, как бывает всегда, задевало и возбуждало ответное движение прежде всего то, что и без того назревало в самом. «Природы дикой и святой — И прав естественных уставы» — это отозвалось у Пушкина, и очень живо, не столько по отношению к русской древней истории, так непосредственно ощущавшейся самим Владимиром Федосеевичем, как гораздо глубже и действенной по отношению к вольным кочевникам — цыганам, давно уже манившим творческое его воображение.
Так и личные порывы свои, и этот отзыв на голос товарища — все вливалось в единое чувство, поднимавшее с места! Вот именно: поднимавшее с места! Да с какой бы охотою сам осуществил этот побег, о котором думал не раз: горячие степи, кочевье, бродячий народ… Так брал он и вольницу, разбойников. Из разбойников, правда, удался только очерк двух братьев, все остальное как–то отпадало, не создавалось единого целого. Так написал свою «Песнь о вещем Олеге»: «Волхвы не боятся могучих владык…» Так начал поэму о Вадиме и не кончил ее. Уже запевал иногда тонкими струйками «Бахчисарайский фонтан»: два мира — крест и луна…
В таком беспорядке, одновременно и перебивая друг друга, бежали в нем мысли, пока Липранди искал свой пакет. В это время к нему вошел и еще один молодой друг Раевского, поручик Таушев. Он с порога еще прямо спросил:
— Вы проезжали Тирасполь. Владимира Федосеевича видели? Расскажите!
Липранди опять помедлил с ответом. Он держал уже в руках довольно толстый пакет.
— Привычка: подобные вещи прятать подальше.
— Дайте же мне!
Пушкин, однако, читать подождал. Пока Липранди рассказывал, как ему удалось повидаться с Раевским на гласисе крепости («Такой вот отлогий», — показал рассказчик рукой) и какой тот имел измученный вид, как надерзил на допросе Сабанееву и как расспрашивал про все и про всех, Александр непроизвольно разглаживал пальцем конверт, как если бы касался руки самого Раевского. Иван Петрович рассказывал спокойно и обстоятельно, Пушкин слушал, не поднимая глаз, ничем не выказывая постепенно его охватывавшего волнения, и только розовощекий Таушев, еще хранивший повадки провинциального студента, порою прерывал рассказ каким–нибудь восклицанием.
— Отъехав достаточно, я обернулся. Владимир Федосеевич продолжал стоять и махнул мне платком.
Александр отошел к окну и сел так, чтобы ему не мешали и чтобы лица его не было видно. Он жалел, что сейчас не один.
Стихи имели название «Певец в темнице» и подпись: «38 Егерского полка майор Раевский». И стихи эти были как исповедь. Александр все в них узнавал: беседы совместные и самого Раевского…
Ты знал ли дружества привет?
Всегда с наружностью холодной
Давал ли друг тебе совет
Стремиться к цели благородной?
Пушкин сразу признал этого друга, с постоянно «холодной наружностью». Кто же иной, как не Павел Иванович Пестель? Как живо представились ему оба они в просторной столовой Орлова. Из открытой форточки ветер треплет край занавески. Пестель отошел один, к нему тотчас, как бы по уговору, приблизился Раевский, и вот оба стоят друг против друга, одинаково строгие и скупые на слова. Разговор деловой. Пестель пониже, Раевский слегка наклонился к нему. И разговор очень короток. Уже не советы: похоже скорее на прямые поручения.
Какая, однако ж, строка: «Мечты мечтами истреблял!..» Да: мечты сердца мечтами разума, мечты о личном счастии мечтою о счастье народном. И дальше: как сильно и хорошо!
Пушкин это воскликнул и вслух:
— Как сильно и хорошо! Мысль эта мне нигде не встречалась.
— Прочтите же нам!
Но Александр не слыхал, не отвечал. Он читал дальше — о листах истории, залитых кровью, о погибшей вольности Новгорода и Пскова, о том, как народ «пал на край своей могилы», но рано ли, поздно ли обретет силу для ответного удара. В этом стихотворении, неровном и длинном, но местами и сжатом до лаконизма, был весь Раевский.
Пушкин кончил читать и немного еще так посидел, не оборачиваясь.
— Вот это, — промолвил он наконец и, пересев ближе к Липранди и Таушеву, прочел им не очень громко, но сжато и сильно:
Как истукан, немой народ
Под игом дремлет в тайном страхе:
Над ним бичей кровавый род
И мысль, и взор казнит на плахе!
И, помолчав, повторил последнюю строчку.
— Никто не изображал еще так сильно тирана: «И мысль и взор казнит на плахе!» Хорошо выражение и о династии: «Бичей кровавый род!»
— И как точно схвачено! — подхватил Таушев. Пушкин вздохнул:
— Да, после таких стихов не скоро же мы увидим этого спартанца!
Он был даже рад, когда Таушев перевел разговор на другие строки, которые можно было повернуть легкомысленно, он и сам принял в этом участие, но потом схватил Таушева под руку, надел на него фуражку, и они вместе вышли. Он не хотел показывать товарищам, как глубоко взволновало его послание Раевского, но, и выйдя на воздух, не мог удержаться, чтобы не продолжать разговора все о тех же, его поразивших стихах.
Самый образ Владимира Федосеевича и этот его завет из тюрьмы долгое время сопутствовал мыслям Пушкина. Он пытался передать их на бумаге, черкая, несколько раз возвращаясь, все неудовлетворенный.
Не форма стихов ему не удавалась: он не мог найти точной формы собственных мыслей. Форма же мыслей — это и было точным выражением самой мысли. Но перо в руках — оно помогало и мышлению. Это было нераздельно. Форма, запечатленная на бумаге, возвращалась в сознание и вступала во взаимодействие с самим процессом искания и нахождения — горячим, изменчивым, но и настойчиво целеустремленным.
Но все это не было поисками только мысли. Эмоциональная взволнованность, непосредственное ощущение человеческой правды, музыкальная ее интонация, — разве все это не было тем, может быть, даже и основным, что давало мыслям подлинную их жизнь, которая одарена великою властью вызывать ответное человеческое волнение и раздумье, способные, в свою очередь, двигать к поступкам, изменять человека и его бытие?
Быть может, когда–то и сама земля, палимая солнцем и омываемая влагой и воздухом, искала первичные формы кристаллов, форму листа, стебля и корня, форму мозговых извилин, поправляя, отбрасывая негодное, усовершенствуя в тысячелетиях. И вот над нею человек: философ и воин, строитель и разрушитель, революционер, хозяин земли.
Так же и поиски Пушкина, творчество Пушкина — как и всякое творчество чувства и разума, — были вполне органичны: пусть над природою и над собой, но и в природе, в себе. Пушкин об этом, конечно, не думал, но отсюда шли его ощущения, и в этом веселом молодом человеке, порою даже задире и забияке, порою легкомысленном и невоздержанном на слово, карты, вино и увлечения — все эти свойства его и качества в такие минуты, часы стирались, как губкой с доски, а пытливый настойчивый ум и чудесное горячее сердце, чистые чувства, музыка слов, легко несущих на волнах гармонии драгоценный, свежедобытый груз, — это само по себе было блистательным явлением природы.
И творческое состояние это, единое, было многообразным. Жару сопутствовал холодок, досаде на неудачу — радость находки.
Он был строг не только к стихам, но и к себе. Порою казалось ему, что вся прошлая жизнь, все, что знал и ценил, — все отошло.
Но все прошло! — остыла в сердце кровь,
В их наготе я ныне вижу —
И свет, и жизнь, и дружбу, и любовь
И мрачный опыт ненавижу.
Свою печать утратил резвый нрав,
Душа час от часу немеет;
В ней чувств уж нет.
Так легкий лист дубрав
В ключах кавказских каменеет.
К теме этой не раз он возвращался. Иногда, томимый внезапно вскипевшею жаждой сесть за стол и писать — в этом было спасение! — он открывал тетрадь, где придется, и быстро набрасывал строки этим необычным для него размером. И снова не получал удовлетворения. Да и не только в стихах он не мирился с таким взглядом на мир. Раевский спрашивал, как судия:
Что составляло твой кумир —
Добро иль гул хвалы непрочной?
Это и для самого Пушкина был едва ли не главный вопрос: что же он сделал до сей поры и чем бы по праву мог гордиться? И он, снова с пером в руке, перебирал одно за другим все, о чем писал Раевский, и набрасывал, почти пункт за пунктом, новый стихотворный ответ: «Не тем. горжусь я, мой певец…» Он не гордился и теми своими стихами, где умел привлекать к себе «вниманье сердец», и не голосом грозной сатиры, и даже не тем,
Что непреклонным вдохновеньем,
И бурной юностью моей,
И страстью воли, и гоненьем
Я стал известен меж людей, —
Иная, высшая награда
Была мне роком суждена…
И он готов уже был излить свои сокровенные думы в прямом ответе Раевскому на его «гул хвалы непрочной» и поделиться предчувствием истинного своего призвания. Высшая эта награда преподносилась ему: говорить за народ, остаться живым для народа, как в преданиях живы остались Орест и Пилад, как жив и сам Овидий Назон.
Но вдруг показалось ему: а что если это всего лишь «Самолюбивых чувств отрада! — Мечтанья суетного сна!» И такие сомнения тут же ложились под перо и… тут же вычеркивались. А между тем дыхание этой предвкушаемой гордости все поднималось из сердечных глубин… Но он не доверял его даже своей тетради. Ведь это надобно было еще заслужить!
Глава шестнадцатая УТАЕННЫЙ РЕЙС
У Пушкина было время, досуг остаться с собою самим наедине: он опять сидел под арестом!
История эта была глупее и неожиданнее всех других. За столом у наместника появилась новая личность — отставной офицер Рутковский, служивший некогда под начальством Инзова. Инзов и теперь намеревался куда–то его пристроить. Пушкина этот надутый и глупый враль весьма раздражал.
Инзов изредка выезжал на охоту с ружьем и собакой. В его отсутствие Пушкина втравили в спор все на ту же тему о крепостном праве. И сам Рутковский, и некий переводчик при управлении, Смирнов, оба подвыпившие, держали себя неприлично и вызывающе. Они подмаргивали друг другу и подхохатывали. При Инзове этот Смирнов был тише воды, ниже травы, теперь же, поощряемый Рутковским, он кипятился вовсю. Александр на него только рукою махал, главные стрелы он направлял на Рутковского.
— Вы сейчас штатский, — спрашивал он его как бы мимоходом, — или опять хотите надеть военный мундир? Но это все равно, впрочем: и штатские чиновники подлецы, и генералы скоты большею частью.
Все это надо было Рутковскому принять на себя, по связи с вопросом, к нему обращенным, но и принять как будто бы было нельзя, он не генерал. По штатской, однако же, линии и он, и Смирнов получили полностью.
— Один класс земледельцев почтенный, кто трудится сам на земле. Ну, а господа дворяне… — Красная потная шея Рутковского вызывала в нем тошноту омерзения. — Дворян надобно было всех бы повесить. Да и я… — он несколько даже потянулся через стол, — я бы и сам петли затягивал…
Инзову по возвращении, наверное, обо всем доложили. Когда на другой день, написав с утра самое мирное письмецо брату Левушке, Пушкин пришел к столу, генерал взглянул на него вовсе не ласково. Зато Рутковский цвел и сиял. Из–за сущих пустяков вспыхнула между ними ссора. Это опять грозило домашним арестом, и Пушкин, еще не весьма раздраженный, стал в шутку, как у него это было в обычае, снимать сапог, поглядывая на Инзова и как бы говоря: «Ну вот, я готов, Иван Никитич, отдайте распоряжение!» Инзов был не в духе, пушкинской выходки как бы и не заметил, поднялся, ушел.
— Смотрите, он хочет вас бить! — закричал Смирнов, весь подавшись к Рутковскому. — Глядите, глядите: сапог уже снял!
— А что же, если вам уж так хочется… — И Пушкин, как бы всерьез, поднялся со стула.
Рутковский дико взвизгнул и спрятался за спину Смирнова. Шум дошел и до Инзова, но он сдержался, не вышел.
В тот же день вечером в кишиневских гостиных и клубах рассказывалась новая легенда, что Пушкин, сняв сапог, ударил кого–то подошвой в лицо. «Да ударил–то из–за чего?» — «А опять, верно, за картами!» Другие рассказывали уже просто почти о поножовщине. Но как бы там ни было, у Пушкина был досуг и много времени с собой наедине. Алексеев был в командировке, и Инзов поставил у дверей караул.
Пушкин просидел под арестом пять дней. В тот же день, как Инзой, найдя какое–то местечко Рутковскому, отправил его в Новоселицу, Пушкин немедленно был освобожден, но сам после этого долго у Ивана Никитича не показывался. Пушкин досадовал: посадить надо было не его, а Рутковского!
Те разговоры, которые Пушкин вел за столом у наместника, не были просто вспышкою темперамента. Он много теперь размышлял о русской истории после Петра, и ему захотелось, именно на досуге, записать свои мысли. Несколько дней, уже по снятии караула, который его особенно обидел (это случилось всего второй раз), он почти никуда не выходил.
Второго августа он написал свои заметки по русской истории восемнадцатого века. Он искал характерных черт минувшего столетия, пытаясь тем самым поближе вглядеться в черты нового века, в который он в детстве вступил, как через порог. И насколько был буен на словах за рюмкой вина, настолько суждения здесь были продуманы и облечены в строгую форму. О крепостном праве он писал так: «Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство; нынче же политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян, желание лучшего соединяет все состояния противу общего зла…»
Но русских монархов, «ничтожных наследников северного исполина», он не щадил. «От канцлера до последнего протоколиста все крало и все было продажно. Таким образом, развратная государыня развратила и свое государство». «Екатерина уничтожила пытку, а тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением; Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел из рук Шешковского (домашний палач кроткой Екатерины) в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами, и Фонвизин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность». Тут Пушкин думал уже о самом себе.
И Липранди снова в отъезде. Пушкина мало кто навещает. Так его очень легко и вовсе забыть. Так легко и совсем затеряться. Но неожиданно эта последняя мысль обертывается не грустно, она вызывает даже улыбку: «А что если?..» Проходит еще день или два, и мысль созревает в намерение, а с осуществлением Александр никогда не медлит.
— Если кто будет спрашивать, ты говори: «Барин ушел гулять за город». А ежели кто вздумал бы дознаваться, почему и ночью барина не было, отвечай: «Ночевал у приятеля». А спросят; «У которого?» — доложи: «Не могу знать!» Как будешь отвечать?
— Не могу знать! — отвечает Никита. А Пушкин смеется:
— Ну хорошо, запомни хоть это!
Август розово–желтый. Дали синеют. Воздух хоть прикровенно, но дышит уже чудесной осенней легкостью. Как будут звонко–легки и шаги по одинокой безлюдной дороге. Как хорошо свободой дышать!
Так все и сбылось. Свобода? Она оказалась тут же, под боком, только руку за ней протянуть, только сделать шаг, и еще шаг, и еще шаг…
Эти несколько дней, про которые Пушкин потом остерегался рассказывать, были чудесно полны. Каждый день налит до краев воздухом, светом, быстрым и легким покоем. Да, да… покой не в сиденье и не в бездействии. Лень и покой — отнюдь не соседи. Покой полон музыки, а разве же музыка — лень?
Пушкин шагал, но движение было похоже скорее на тихий полет; мысли летели быстрее. В одно путешествие множество он вместил путешествий. На этом досуге видения, образы парили в — нем, как облака. Да и события, встречи были отчасти такими же созданиями чистой фантазии. Потом говорили — цыгане, роман… Будто бы звали цыганку Земфирой и одевалась она по–мужски, шаровары цветные, и носила баранью шапку и вышитую молдаванскую рубаху, и трубка в зубах. Был и молодой цыган: Земфира ночью исчезла! Пушкин помчался за нею… Многое, впрочем, позже рассказывали, и притом приблизительно с тою же степенью достоверности, как и об ударе подошвою игрока…
Но и цыгане действительно были, как была и та ссора. Однако же все было проще и лучше, и, главное, позже вспоминалось все это как милое сновидение.
Пушкин побыл и в таборе, ходил и один. Но у него оставалось немного и денег, присланных через Липранди из дому. На одном почтовом дворе, где ночевал, однажды он встретил поручика Таушева.
— Какими судьбами? Куда?
— А вы? — вопросом ответил и Пушкин.
— Я в Тульчин по делам.
— И я с вами!
Так (вовсе не неожиданно) Пушкин попал и в Тульчин: квартира командующего армией — фельдмаршала, графа Петра Христиановича Витгенштейна.
После степей, расположенных по берегу Буга, ровных и мирных, холмы Тульчина давали всей местности иной колорит, весьма гармонировавший с грозною военного силой, здесь расположенной. Отдельные корпуса второй армии были раскинуты на огромном пространстве, но средоточие этой силы, главное командование, штаб — высились здесь, в этом польско–еврейском местечке, принадлежавшем целиком одному магнату, графу Потоцкому, на хорошенькой и веселой дочке которого был женат молодой начальник штаба, генерал Павел Дмитриевич Киселев, любимец императора.
В сущности, в руках Киселева было все управление армией. Сам Витгенштейн царем был не очень любим и проживал почти все время в своем поместье, верстах в семидесяти от Тульчина, с увлечением там занимаясь сельским хозяйством. С полгода тому назад Киселев приезжал в Кишинев и обедал у Инзова.
С Иваном Никитичем не очень–то разойдешься, но вообще Кишинев молодым генералом положительно был ослеплен. От него так и веяло Петербургом, Зимним дворцом, Невою; он имел такой вид, как если бы вчера только был при дворе и беседовал запросто с императором. Он был очень ловок и обходителен, но не скрывал своего светского превосходства.
Пушкин был с Киселевым знаком еще по Петербургу. У него была одно время эта слабость покрасоваться в театре возле таких людей, как Алексей Орлов или Киселев. Лущину это очень не нравилось и он не раз выговаривал другу, но Александр не оставлял своего. Это была, конечно, и слабость, но одновременно и непреодолимое любопытство художника, которому интересно решительна все характерное. Пущин этого не понимал, а между тем юный поэт и тогда еще оценил Киселева.
В послании к Алексею Федоровичу Орлову летом девятнадцатого года писал он о Киселеве:
На генерала Киселева
Не положу своих надежд,
Он очень мил, о том ни слова,
Он враг коварства и невежд;
За шумным, медленным обедом
Я рад сидеть его соседом,
До ночи слушать рад его;
Но он придворный: обещанья
Ему не стоят ничего.
Знал ли сам генерал об этих строках? Вернее, что знал, но на них обижаться было бы действительно все равно, что обижаться на зеркало. Во всяком случае, с Пушкиным он об этом — «ни слова». Мимолетно они вспомнили Петербург и театр, и вообще с поднадзорным поэтом был Киселев совершенно любезен и даже обронил ему на прощанье ни к чему не обязывающую светскую фразу: «Вам побывать бы у нас в Тульчине!»
И вот Пушкин был здесь у него почти как в гостях; а у Таушева тут много друзей, и поэта одели, обули. Он стоял перед зеркалом и глядел на себя: «Как на сцене!..»
Тульчин всего небольшое местечко, а Кишинев, как–никак, — город и центр управления целого края, но все же сразу стало издали ощутимо, какая там была патриархальная провинция и, напротив, как здесь все полно движения, жизни! И сам Киселев у себя дома был немного иной: он был значительно проще и не так снисходил с высоты своего блистательного величия.
Появлению Пушкина он ничуть не удивился.
— Ну вот, наконец–то побудете вы и у меня, — сказал он с приветливой улыбкой. — А что Иван Никитич?
Пушкин не знал бы, что и ответить на этот столь естественный вопрос, но Киселев сделал его так мимоходом, что ответа и не потребовалось. Тотчас же, без паузы, он легко завершил свое приветствие упоминанием о жене, без чего оно не было бы полным.
— Софья Станиславовна будет рада вас видеть. Один из предков ее был очень крупным польским поэтом.
Пушкин у Киселева был раза два. Здесь все было очень богато, но от самой этой роскоши веяло какой–то гармонией. Не как в Кишиневе, где кичились бояре друг перед другом набором не согласованных между собою предметов роскоши, что напоминало более антикварную лавку или уголок на киевских Контрактах, где вещи кричали о своем достоинстве прежде всего огромной ценой… И это не было на одной только поверхности, но открыто вопияло о блистательном идиотизме хозяев, о беспощадной убогости их самих и всего сонма их окружения — восторгавшихся и завидовавших. Здесь же воздух пусть был несколько более гордый, чем бы хотелось, но не было запаха, хотя б и богатой, конюшни.
Хозяйка действительно оказалась мила и даже резва и поминутно нарушала светские условности, внося оживление, смех. Были очень милы и другие польские панны, глаза их, как свечки, поблескивали при разговоре, и самый голос звучал мелодично. Но со всем тем в основном царило мужское начало. Очень ладно и строго пригнанная по отношению к другим, у всякого была своя точная сфера обязанностей, влияния, власти, причем не было вовсе градации по богатству или несостоятельности, что было очень приятно. Как на пирушке у Полторацких, один походный стакан входил в другой походный стакан: командующий армией (почти как бог Саваоф за облаками), начальник штаба, адъютанты командующего, адъютанты начальника штаба, прочие генералы и их адъютанты, офицеры штаба различных рангов и несколько штатских чиновников. Как холмы Тульчина — один над другим, и гармонично — все вместе.
Во всякое другое время Пушкин, засидевшийся в Кишиневе, отдал бы, верно, большую дань вечерам у Киселева с приветливыми и веселыми сестрами Потоцкими, с пением и музыкой, но его манило другое: не Киселев, а Пестель. Молодежь собиралась отдельно, и здесь центром был Павел Иванович. Но свидания эти Пушкина с ним, на людях, не прибавили многого к кишиневскому впечатлению. И ему снова вспоминались строки из послания Владимира Раевского: «Всегда с наружностью холодной давал ли друг тебе совет…»
Эти несколько дней Пушкин прожил вместе с Таушевым, и восторженный молодой человек очень ему полюбился. Он немного знал Дельвига, и это тоже было приятно. Он рассказывал и о Казани, о своем пребывании в тамошнем университете. Так заболтались они однажды на целую ночь. Таушеву очень рано надо было встать, и они, поздно вернувшись от Пестеля, решили встретить солнце.
— «Мальчик, солнце встретить должно!» — вспомнил Пушкин стихи Дельвига.
— Встретим, встретим! — восторженно закричал Таушев. — Это что же за стихи? Не знаю таких. Не экспромт ли?
Пушкин, не слушая его, рассеянно кивнул головой. Но стихи прочел с одушевлением. А вслед за стихами появилось и вино.
Так до солнца они и болтали. Пушкин очень смеялся, слушая рассказы о знаменитом Магницком, который, приехав ревизовать университет, публично предложил разрушить его за вредное направление науки, которым пропитаны самые стены. А потом, когда его сделали попечителем Казанского учебного округа, он приказал все «тела христианские», по которым учились студенты, предать «святому погребению». Профессора математики — так и те стали излагать геометрию на манер философии или, верней, богословия…
— Как? Как? — переспрашивал Александр, смеясь. — Сразу все эти подвиги невозможно и запомнить.
— А вот студентам все надобно было запоминать слово в слово: «Гипотенуза в прямоугольном треугольнике есть символ сретения правды и мира, правосудия и любви (два катета?) через ходатая бога и человека (сама гипотенуза?), соединившего горнее с дольним, небесное с земным!»
Пушкин пробовал завести разговор с Таушевым о Пестеле. Разболтавшийся молодой человек сразу притих, а из того, что говорил, Александр мог понять единственно то, с каким огромным уважением Таушев к нему относился и как почти преклонялся перед умом его и силою речи. То же отношение Пушкин мог наблюдать и у многих молодых офицеров. Но при этом у них не было того отраженного света, который лучился в глазах от горячего чувства любви или дружбы. А сам он к этому был очень чувствителен.
Оставшись один, Александр сидел у окна, не ложась. Молодое солнце медленно, властно, само собирая свой блеск, неспешно всходило на крутизну. Спать совсем не хотелось, сон отгорел. Он сидел по давней, с детства, привычке, облокотись о подоконник и подперев щеку сжатой рукой. Он думал, и мысли, как быстрые утренние облака, поднимались непроизвольно и почти одновременно самые различные.
Здесь, среди молодежи, он видел всегда и одного генерала, князя Сергея Григорьевича Волконского, тоже еще довольно молодого и весьма привлекательного. Раньше он с ним не встречался, но от Владимира Раевского слышал о нем, как о прекрасной души человеке. Также он знал, что князь в большой дружбе со всею семьей Николая Николаевича Раевского… Граф Олизар успеха не будет иметь, а этот Волконский — высокий задумчивый человек с добрыми глазами? Но он старше Марии лет на пятнадцать, на двадцать, разве это возможно?
И все же вчера была минута одна, когда сердце Пушкина как–то заныло. Князь к нему сам подошел, и в первый раз они между собою разговорились. Волконский много расспрашивал и о Владимире Федосеевиче, и Александру все время казалось, что он хочет что–то сказать ему важное, но когда эти слова, видимо, были совсем уже на языке, он всякий раз замолкал. Пушкин не понимал, в чем было дело. Может быть, что–нибудь хотел он сказать о Раевских, о Марий Николаевне? И он сам спросил о них.
Волконский чуть слышно вздохнул, но, кажется, был скорее рад этому простому и такому естественному вопросу. Он рассказал все, что знал; в последнюю поездку его в Киев все были здоровы.
— А дочери Николая Николаевича… где же они теперь? — спросил Пушкин несколько более стремительно, чем бы хотел.
И вот тут–то он и почувствовал — и так физически ощутимо, как если бы пахнуло в лицо ветерком, — почувствовал волнение, возникшее и у Волконского. Князь отвечал очень коротко:
— Были в Крыму и Одессе. Думаю, что и сейчас их в Киеве нет, уже, верно, в деревне.
Пушкин хотел бы спросить и еще: где именно, может быть, в Каменке? Но более он ничего не спросил: это было нельзя, неудобно. Он мог бы сказать и нечто другое еще: «Как я вас понимаю!» Но таких вещей и вообще не говорят. А вот думать о них нельзя запретить — даже и самому себе. И это было в душе самое раздумчивое, разымчивое, как легкое облако: Мария!
И одновременно с этим воспоминанием представилась крепость, в которой сидит Владимир Раевский. Допросы, тюрьма. В чем его преступление? «Мысль и взор?» А если б бежать? «Мы вольные птицы; пора, брат, пора!» Нет, мы не вольные птицы…
И рядом — мысли о Пестеле. Какое дурацкое определение гипотенузы! И, шутя, себя спрашивал, как же определить: что такое Пестель? И, уже не шутя, определял его так: Пестель — он в Тульчине истинный центр, и вокруг него описан действительно круг, но по отношению к этому кругу остальные товарищи его — линии касательные, и круга они, все вокруг него группируясь, не пересекают. А как хотелось бы этот круг пересечь, и по возможности, ближе к центру! Итак, что же выходит, если в учебнике рядом с определением гипотенузы поставить определение круга и касательных? Определение простое и краткое — это Пестель и его товарищи.
Однако как будто пора уже и возвращаться к Ивану Никитичу. Надо сегодня покинуть Тульчин. Но что если все–таки… если они теперь в Каменке? Сегодня уехать… куда? Не туда ли?
На улице за углом чьи–то шаги. Улицы пусты. Час ранний.
Возникла фигура: Павел Иванович Пестель!
— Так мне и казалось, что вы уже встали, — произносит он вместо приветствия и подходит к окну.
— Я не ложился, полковник.
— Як вам, если позволите. С ответным визитом.
— Да, я вчера у вас был…
— Нет, вы были у меня в Кишиневе.
Ага, помнит и он тогдашний их разговор! И Павел Иванович улыбается такою для него редкой улыбкой.
Так состоялось и это, последнее в жизни, свидание с Пестелем. Он объяснил, что так рано зашел потому, что в десять часов уезжает по делу на несколько дней из Тульчина (теперь у него много хлопот с Вятским полком — новая и большая забота), и ему не хотелось уехать, не повидавшись с Пушкиным, который, как слышно, собирается уже обратно в Кишинев. Так он объяснил свой ранний приход, но он никак не объяснил его истинной цели.
И все же прямо начал с вопроса:
— Вы с князем Сергеем Григорьевичем беседовали вчера?
— Да, вчера в первый раз мы разговорились, он мне очень понравился.
Видимо, Пестель ждал не такого ответа. По лицу его было видно, как что–то он быстро соображал. «Значит, Волконский не сделал ему того предложения, о котором было условлено? Впрочем, это было оставлено в конце концов на его волю. И, конечно, первое мое впечатление, что этого не надобно делать, и первое мое решение были верны. Никогда и ни в чем не надо другим уступать. Но почему же все–таки Пушкин не спал целую ночь? И, решив окончательно выведать истину (быть может, Волконский все же что–нибудь говорил!), Пестель пошел на некоторую неловкость и, внимательно глядя на Пушкина, очень просто спросил:
— Тогда отчего ж вы еще не ложились? Пушкин был изумлен.
— Павел Иванович, я не понимаю вас!
— Простите меня. Я просто неловко выразился. Это ни в какой связи не стоит с тем, о чем мы говорили. Вы, верно, писали всю ночь?
— О нет! Мы всю ночь проболтали.
— И, однако ж, листок со стихами. Вы разрешите взглянуть?
— Это стихи не мои. Вот чудак: Таушев кажется их переписал!
— Как это странно, — просмотрев листок, сказал Пестель: — «Обмануть воображенье — И в былое заглянуть!» Да, это не ваши стихи. Я отдал бы все, чтобы заглянуть в будущее.
Убедившись окончательно, что Волконский не только не говорил с Пушкиным о вступлении в тайное общество, но и не сделал к тому никакого намека, Пестель сразу сделался с Александром прост, ясен, даже открыт, и их разговор, прерванный полугодом, опять сейчас продолжался. У Пушкина за это время многое отстоялось. Он имел обыкновение время от времени делать для себя записи по главным вопросам, о которых велись оживленные дебаты в Кишиневе.
Так когда–то, в связи со спорами о возможности вечного мира, он для себя сделал выписку из Руссо. Но и тогда он столько же думал об этом вопросе, как и о Пестеле, именно когда у себя записал: «Руссо, рассуждающий не так уж плохо для верующего протестанта». В протестантизме есть жестокость суждений, острая логика, — так думал он про себя, — и недаром, может быть, и Руссо, и Пестель в детстве своем испытали влияние именно протестантизма». Теперь ему захотелось проверить, как Пестель отнесется к самой мысли Руссо, и он спросил, полагаясь на свою память:
— Вы помните, кто это сказал: «То, что полезно для народа, возможно ввести в жизнь только силой, так как частные интересы почти всегда этому противоречат»?
— Это сказал Жан—Жак Руссо. И там же он говорит несколько далее: «…это может быть достигнуто лишь средствами жестокими и ужасными для человечества». А я добавлю к сему, что средства не важны, когда — великая цель.
— Павел Иванович, а ведь и в мирное время вы как бы ведете войну?
— К сожалению, не веду, но готовиться к ней — это долг каждого, и не только военного, но и гражданина. И здесь также главное — сплоченность и дисциплина. Отдельные вылазки ни к чему не ведут.
— Вы точно кого–то имеете в виду?
— Как всегда. — И, помолчав, добавил: — Да хотя бы Орлова.
Пушкин живо ответил:
— С этим я никогда не соглашусь! Орлов отменил у себя телесные наказания для солдат, позорящие их человеческую честь. И он отстаивает свои убеждения открыто и благородно.
— Благородства генерала Орлова отрицать я не смею, но не о том наша беседа. Бывает, что и себя надо во благо сберечь. Так и дуэли суть действия благородные, да какой же в них разум?
Александр вспыхнул. Попробовал бы ему кто другой такое сказать! А вот этот сказал, и — ничего. «Какой же в них разум?» Разума не было. Но ведь есть же нечто другое!
— Павел Иванович, — ответил он медленно и без всякого задора. — Вы же сами знаете хорошо, что бывают положения, когда наша честь…
— Я все это знаю, — быстро и, напротив, нетерпеливо отозвался Пестель, — но… (Он мог бы спросить: «Пушкин, а скажите по совести, в ваших дуэлях было ли то, о чем вы говорите?» — и Пушкину по совести пришлось бы ответить: «Да ведь я еще молод, а отвага есть истинная честь молодости!» Однако этого воображаемого диалога, конечно, не могло быть и не было.) …но — продолжал Пестель, — это есть наше несчастие. Так на сие и смотреть надлежит. И все же — для цели высокой, которая есть цель человеческой жизни, всей жизни, и удовлетворение чести, коли понадобится, надлежит отдалить до времени благоприятного.
«Для этого нужно прежде всего иметь перед собою такое дело всей жизни», — подумал про себя Пушкин, но вслух этого не произнес.
Разговор опять подходил к какой–то острой грани, но развития он не получил. Немного оба они помолчали. Побежденного в этой их стычке, в сущности, не было, но Александр физически ощутил на себе давление этого ума, похожего на огромную глыбу, сложенную из кристаллов. Кажется, ежели что в нем и теплело, так это только кольцо на руке. Пушкину вспомнилось, как сказал хорошо об этом кольце разбойник Кириллов, и ему захотелось спросить: «Это кольцо вашей матушки? Правда ли? Я отгадал?»
У Пестеля тем временем мысль шла своим путем.
— В Кишиневе после отъезда моего, несомненно, были суждения, и говорили, что докладом своим о гетеристах я как бы себя перед государем оберегал. Так ли?
— Так.
— Это, конечно, и правда, — согласился он. — Но не все дело в том.
Пушкин вопросительно и с большим интересом на него поглядел.
— Скажите, — неожиданно спросил Павел Иванович, — вы за кого были: за Владимиреско или за Ипсиланти в возникших меж ними разногласиях?
— За Ипсиланти, — не колеблясь, ответил Александр, — и невзирая даже на то, что за Владимиреско шел народ. Но, видите ли, мне казалось, что его вмешательство на первых же порах помешает России выступить на стороне греков: царь Александр так боится именно этих народных движений!
У Пестеля сверкнули глаза.
— Александр Сергеевич, — сказал он чуть торжественно, — у вас государственный ум, и вы поймете меня. (Это было сказано, конечно, человеком, знающим, что такое государственный ум, и, более того, способным определять его в других и одаривать этим «званием», но Пушкин на этой едва лишь скользнувшей мысли не задержался, как–то тем самым признав за Пестелем право так разговаривать.) Вы поймете меня. Конечно, мы с вами хотим в конце концов одного и того же, но вот вы полагали, для этого надо желать, чтобы наша империя объявила Турции войну, а я был иного мнения, — я этого не желал. В наших путях к цели единой мы расходились, но не разошлись в характере мышления. Вы готовы были отринуть все, что мешало вашим путям, я отвергал то, что могло бы стать на моем пути. Вы отстраняли Владимиреско, сочувствуя ему. Таково же и мое отношение к Ипсиланти.
— Но почему же вы не хотели, чтобы Россия вступила в войну на стороне, которой вы сами сочувствуете! — воскликнул Пушкин с горячностью. — Это мой «государственный ум» отказывается понимать.
— А между тем вы это поймете очень легко и, несомненно, поняли бы и сами, когда бы имели время размыслить, ибо предпосыльные мысли уже были выражены. Вредно все то, хотя бы оно само по себе было и хорошо, что мешает главному делу всей жизни. Правительство наше теперь дозревает к тому, чтобы упасть. Популярная война его укрепила бы, новый подъем народного чувства потопил бы множество его грехов, и все, что можно сейчас… противопоставить, — все это было бы смято и смыто и доведено до небытия. А Александр… а император был бы опять на пьедестале, с которого именно пора уже его свергнуть!
Вот оно что! Да, теперь это было ясно. И это было не «вообще», а очень предметно и точно. Пушкин с минуту глядел на Пестеля. В глазах полковника был режущий блеск.
— Но почему же, — спросил Александр, стремясь уяснить все окончательно, — почему же вы были, сколько я знаю, и против Владимиреско? Вот Владимир Федосеевич…
— Знаю. Тут мы с ним разошлись. Множество не есть еще сила, сила — в организации. Бунт не есть революция. Точный расчет говорит: надо найти точку приложения силы, тогда отпадает стихийность. Такие дела требуют точности, краткости.
— Это дворцовый переворот, но не революция, — сказал Пушкин.
— Назовите хоть так. Важно, кто станет у власти и будет осуществлять новый порядок.
«Пусть так, — подумал Пушкин. — Но тогда это все же не революция. Где же тогда сам–то народ? Может быть, из нас троих более всех был прав именно Владимир Раевский, и настоящая сила — только в народе».
Но, как редко с кем в разговоре, Пушкин в этой беседе не раз себя останавливал. Основное теперь и без того представлялось ему значительно более ясным. Не надо дробить! И это тоже бывало редко весьма, — почти не упомнить подобного! — Александр был несколько утомлен разговором. И причина тому никак не бессонная ночь: бессонную ночь он умел прокинуть, как карту. Дело было в другом — в его собеседнике. Но молодость в этом ни за что не признается. «Так, — думал он, — Пестель со мною теперь, и я еще с ним поживу».
Да и Павел Иванович встал. Какая–то новая легкая тень легла на его высокий лоб.
— В Кишиневе теперь без Раевского пусто, — сказал он совсем неожиданно. — По тому, как Раевский держится перед Сабанеевым, видно, каков человек Владимир Раевский.
Это сказано было с тем непередаваемым чувством, где уважение и любовь составляли единое.
С крепким рукопожатием собеседники расстались, и через минуту, стоя у окна, Пушкин слушал те же ровные и четкие шаги — шаги полковника Пестеля.
Итак, его короткий рейс был завершен. Он решил было вместе с Таушевым (этот чудак отыскал–таки где–то свой листок со стихами) вернуться ближней дорогой, но какая–то волна теплого и беспокойного ветра еще раз подхватила его. Он подсчитал свои деньги, занял немного у Таушева и… помчался в Каменку. На один день, на два часа…
Только увидеть, только взять в руку теплую руку. И это не было страстью, не было даже велением сердца, это неудержимо потянулась душа, все существо, как в минуты творческого подъема такой же бывал неистребимый позыв к полной гармонии звуков, к завершенности создаваемой жизни.
Из Тульчина он уехал с впечатлением очень своеобразным. Эта ровная и размеренная, но и приподнятая внутренне жизнь, по мере того, как он удалялся, все яснее звучала своей особою музыкой, как если бы исполняли ее на органе. Но музыка самого Пушкина не укладывалась в несколько строгое это звучание. Она была сложнее и беспокойнее. Этот его побег из Кишинева многое ему дал. Множество новых впечатлений омывали его, как воды большой народной реки. Он был и на людях, и ничто не мешало ему быть с собою самим. Не отрываться от жизни и физически ощущать собственный свой внутренний рост — какое это блаженство.
Он ехал в эту поездку тем самым путем, каким некогда шли дружины Олега и Святослава. Он здесь вспомнил написанную им полгода назад «Песнь о вещем Олеге». Степи далеко раскинуты, спокойные, ровные, как сама вечность. И травы были все те же, те ж облака, и поступь коня, и мреющий воздух, и синева на горизонте. Он прочел эти стихи про себя от начала до конца. Было странно: эта песнь об Олеге была столько же его, как и песнью этих беспредельных русских пространств. Она не противоречила им, она широко и спокойно здесь пребывала — своя. Он остался доволен этим своим ощущением. Какая–то правда была: верность земле, народу, истории.
И впечатление это было гораздо шире и обымчивее. Не одна эта пиеса, не счастливое какое–то единичное соответствие, найденное поэтом, нет! Было совершенно чудесно, как если бы степной русский ветер без слов говорил: вопросы, сомнения, поиски — все хорошо; ошибки — лучше б поменьше ошибок; труд, рост непрерывный, ответственность — о, непременно! А тогда — да, тогда уже весь человек неотрывен земле, народу, истории. (Таков несовершенный перевод с этого языка, ведомого всякому, кто не зарос с головы и до пят хотя бы и самыми кудрявыми мыслями, но лишь о себе и благополучии собственном.)
Пушкин ехал теперь — простой. Кто–то вернул его самому себе. Многие ключи со свежею силой били в нем и звенели, всему было место, и ничто ничему не мешало. Но когда тенистая Каменка показалась невдалеке, сердце его запрыгало более сильно и неукротимо, чем та простенькая деревенская повозка, которая умела подскакивать также на славу. Он и одет был очень небрежно, и на голове не было шляпы, ветер вихрил его волосы, сам он приподымался с сиденья и вновь опускался, — немудрено, что дворовая девочка бросилась от него в дом с пронзительным криком:
— Батюшки! К нам привезли какого–то скаженного! Тут Пушкин не выдержал и захохотал, замахав вослед ей руками, как крыльями. Это было внешнее, непроизвольно дикое выражение сильнейшего волнения, нежности и тревоги.
Теперь шагая к Ивану Никитичу с повинной головушкой, вспоминая сие, он улыбался. Дом был полупуст. И коренные хозяева оказались не дома. Ну что же: на два часа, так на два часа! Он обошел все памятные места в парке, поглядел на спокойные воды Тясмина, посидел на его берегу, съел, вернувшись, с большим аппетитом деревенских щей, выпил немного вина и на отдохнувших конях направился в свой Кишинев.
Итак, он заехал напрасно! Но он не переживал это как какое–либо несчастие. Та крепость и простота, какими его напоили украинские степи, доселе его не покидали… И вот уже Кишинев, и к Инзову шел, как если бы просто, соскучившись, давно не видав, шел повидать.
А и сам Иван Никитич встретил его на месте просто.
— Что же палку с собой не захватил? Нечем побить!
— Разве так, Иван Никитич, встречают блудного сына?
— Еще не хорошо? Да вы что же и впрямь, Александр Сергеевич, обиделись за караул?
— Немножко обиделся. Но ушел я не потому.
— По воле соскучился? Говорят, ты с цыганами там кочевал? А я объявил, что одного отослал в Новоселицу, а другого, то есть тебя, в Измаил. Караул? Да ты знаешь, Рутковский что за человек? Я сам его выписал. А он не человек, а истинная язва, он такого нагородил бы! И поверь, не себя оберегал.
Инзов увел Пушкина к себе в кабинет. Там они, старый немалый, проговорили часов около трех.
— Так говори, что был в Измаиле. А нет, — лучше с цыганами. Таушеву я приказал уж молчать. А Липранди, слава создателю, еще не возвращался. Да нет, самое лучшее — ничего вовсе не говори. Ты знаешь, твой этот дурак… он оказался не глуп.
— Какой мой дурак?
— А Никита Козлов. Я его спрашиваю то и спрашиваю другое, а он знает одно: «Не могу знать!» Это ты его так научил? Да когда я бы был молод, я бы такого и к себе в услужение взял!
Пушкин смеялся. И Инзов явно соскучился без своего подопечного, и Пушкину с ним опять хорошо. Совсем при расставании Инзов сказал:
— Только ты мне обещаешь? — больше ни–ни и никогда! То–то. Ты пишешь по–русски, и тебе это знать не мешает, как старики говорят. «Горюшко мне с тобой, — они говорят, — горюшко мне с тобой, радость ты моя!»
Инзов этого от стариков никогда не слыхал, он только прикрыл «стариками» эти слова, в нем сейчас зародившиеся. Он обнял Пушкина и отпустил.
Глава семнадцатая ТРУДЫ И ДНИ
Так и остался этот рейс Пушкина утаенным. Он последовал совету Ивана Никитича, всем советам сразу: кому говорил про Измаил, кому про цыган, кому: «Не могу знать!» Дни вошли в свою колею, и время опять переменилось. Когда происходят события, время летит, а как вспомнишь потом, есть что вспомнить, и в воспоминаниях — времени кажется много. В однообразии же совершенно напротив: каждый день бесконечен, и время ползет, а как месяц пройдет, вспомнишь — как не было месяца: и не прошел, — пролетел! Так и для Пушкина: дни стали тянуться, но вместо событий их ускоряла работа.
Теперь Кишинев жил сравнительно тихо. Возвращению Орлова перестали верить уже и оптимисты. Пушкин вместе с Липранди помогал укладывать его библиотеку, которую переправляли в Киев. Охотников не возвращался. Он угасал от чахотки. Вельтман уехал. Ларин не появлялся. Сам Липранди вскоре подал в отставку и тщетно искал себе места, очень нуждаясь, но не теряя своей загадочной осанки. Инзов ездил на охоту, а по вечерам собирал в бумажные самодельные конвертики цветочные семена, сортируя и провеивая их на ладони. Осень, и Пушкин все чаще уходит в работу. К осени и у него созревали свои семена. И их собирать, сортировать, провеивать…
Он помнил свое обещание, данное Адели. И он написал ей стихи, в которых так неслучайно рифмовалась «Адель» с «колыбелью»; так мягко–ритмично, с тихою нежностью колыхались эти короткие строки:
Играй, Адель,
Не знай печали;
Хариты, Лель
Тебя венчали
И колыбель
Твою качали.
Он знал, что никогда ее не увидит, она вырастет и расцветет без него. Он бескорыстно благословлял ее на молодую любовь, но не хотел, чтобы она совсем забыла его:
И в шуме света
Люби, Адель,
Мою свирель.
Так эта девочка и осталась жить в его памяти, как какое–то неясное для него самого обещание. Не она сама, но именно этот образ ее в нем не хотел умирать. «Твоя весна — Тиха, ясна!» Он не забудет особенно эту чистую линию лба и чуть косой разрез глаз, и как говорила: «Думав, думав, наш рыцарь окрестил коня Рыжаком!» — и как смеялась потом со всею весеннею своей чистотой.
Стихи он отправил Орлову. Там найдут способ их переправить. Так через Орлова сносился он и с Москвой. Оттуда всегда бывала оказия, а в Киев из Кишинева также ездили часто. Так переправил он Вяземскому и свою «Гавриилиаду», толстый пакет. Орлов, видимо, знал, что это за послание, но на всякий случай назвал его письмом. «При сем следует также большое письмо от Пушкина… Я не знаю, что он к тебе пишет (приходилось быть осторожным и Орлову!), но этот молодой человек сделает много чести русской словесности».
А еще через месяц и Екатерина Николаевна писала брату Александру: «Посылаю тебе письмо, кажется (и Екатерина Николаевна знала, как выразиться!), от Пушкина… Пушкин послал Николаю отрывок поэмы, которую не думает ни печатать, ни кончать. Это странный замысел, отзывающийся, как мне кажется, чтением Байрона. Его дали Муравьевым, которые привезут его тебе».
Так Пушкин разгружал казенную почту, посылая «с оказией» то «Гавриилиаду», то «Братьев–разбойников». Только этот отрывок он и сохранил, остальные же сжег, как неудавшиеся. Да, впрочем, и хранить их было, пожалуй, неосторожно… «Кавказский пленник» уже был отпечатан и прибыл в Кишинев вместе с «Шильонским узником» в переводе Жуковского. «Приехали пленники», — писал Пушкин своему издателю Гнедичу, но как–то не радовался уже так по–детски, как это было, когда получил «Руслана и Людмилу». Как время бежит, и как сердце мужает! Тогда его тронуло до глубины все решительно: и виньетка, и переплет, и даже самый формат письма Гнедича, который точно был соразмерен с форматом книги. Легкая тень разочарования порою теперь ложилась на душу…
Впрочем, он воли ей не давал в своем «Бахчисарайском фонтане», который как раз зашумел. Раевские давно уже о нем спрашивали, но Пушкин умел ждать своего времени. Начало — великая вещь, надобно точно уметь его угадать, и работа тогда идет, сама себя подгоняя.
Получив «Кавказского пленника», Пушкин достал и свою юрзуфскую тетрадь с начальным наброском поэмы. Он вспомнил, как и тогда уже улыбался над эпиграфом о молодости из «Фауста», но только теперь в полную меру почувствовал, как был он в ту пору действительно молод и как эту юность теперь вот, сейчас хотелось ему возвратить!
Как будто слышу близкий глас
Давно затерянного счастья.
Это ощущение и эта внутренняя мелодия шли еще от прошлогодних элегий. Звуками этими, воспоминанием Тавриды он сам возвращал себе свою юность.
Ты вновь со мною, наслажденье;
В душе утихло мрачных дум
Однообразное волненье!
Воскресли чувства, ясен ум.
Так, сам не слишком заметив, как это произошло, Пушкин преодолел наконец — самым течением жизни, работой преодолел эти раздумья свои: писать ли? Муза его вновь была с ним неотлучною спутницей: «Воскресли чувства, ясен ум».
Ясный ум Пушкина был занят в ту осень и новыми поисками. Он уже пробовал прозу, записав еще ранее два молдаванских предания, слышанных им от гетеристов. Проза ему трудно давалась. Даже письма свои он нередко переписывал по нескольку раз. И это не было для него простым расширением писательских своих возможностей, это было порождено прежде всего властной потребностью выражать свои мысли, и это было заботой о русском языке, страстно любимом, но еще не нашедшем в себе точных форм для выражения всего богатства внутренней жизни человека.
Он не повторял теперь: «век наш не век поэтов», но он отдавал должное и стихам и прозе. Литература, — он теперь в том утвердился, — это и есть его жизненный путь. И тогда уже он понимал, что слова поэта есть дела поэта.
Он писал для себя и заметки о том, какова должна быть русская проза, и живо отзывался на тот же вопрос в письме к Вяземскому. «Ты меня слишком огорчил предположением, что твоя живая поэзия приказала долго жить. Если правда — жила довольно для славы, мало для отчизны. К щастию, не совсем тебе верю, но понимаю тебя. Лета клонят к прозе, и если ты к ней привяжешься не на шутку, то нельзя не поздравить Европейскую Россию. Предприими постоянный труд, пиши в тишине самовластия, образуй наш метафизический язык, зарожденный в твоих письмах, — а там что бог даст. Люди, которые умеют, читать и писать, скоро будут нужны в России, тогда надеюсь с тобою более сблизиться…» (Так и Пушкин вскорости ждал «развития каких–нибудь странных происшествий».);
И все же, когда холодные наблюдения ума и горестные заметы сердца запросились однажды под перо, они вылились в письме к брату по–французски. Впрочем, это было столько же письмо, как и набросок нового характера, стоявшего и над пленником, и над разбойниками и просившего для себя большого места: в предчувствии уже возникал образ Онегина. Так за «Бахчисарайским фонтаном», где в музыке строк прежде всего было слышно биение собственного сердца, в очередь стали «Цыгане», «Онегин».
Дни напряженного труда сменялись порою и днями безделия. Время почти останавливалось. «Который час?» — «Вечность!»
Князь Долгорукий уезжал в Петербург. Он ехал в отпуск, но не намерен был больше возвращаться. Инзов его не очень долюбливал и удерживать не стал. Он только сказал на прощание:
— Все лучшего ищете, князь, но ведь вы и туда себя ж повезете!
Павел Иванович жестоко обиделся бы на эту точную правду, да не расслышал.
— Что вы изволите говорить, ваше превосходительство?
— А то говорю, — сказал Инзов погромче, — что сам я за тридцать три года службы отпуск брал всего один раз.
И как то было правдой про князя, так это было тоже истинного правдою о себе: Инзову не было надобности никуда от себя уезжать.
Александр отослал с князем письмо к отцу и до такой степени начисто забыл о его отъезде, что через несколько дней писал Левушке, будто письмо это отправил по почте и только потом спохватился — «виноват: с Долгоруким…».
Редко когда в Кишиневе так было похоже на русскую зиму, как в наступившие святки. Снег выпал щедрый, густой. Все веселились, катаясь на санках. Полость заиндевела, полозья скрипят, мелкая снежная пыль взвивается из–под копыт и опушает ресницы; мороз холодит, кровь горячит: «Кучер, живей!» У Крупенского — карты, танцы — у Варфоломея: подлинный, коренной Кишинев!
Егор Кириллович Варфоломей, откупщик и крупный чиновник, богач и гостеприимный хозяин, балами своими славился на весь город. У него было шумно и весело. Самый дом его был небольшой, но он пристроил к нему огромный танцевальный зал, разрисовав его под трактир. Пушкин живо помнил первые свои впечатления от боярских молдаванских палат. Вельтман однажды, еле пробившись через пеструю толпу арнаутов в передней и в не менее пестрое сонмище гостей и хозяев, прислуги и музыкантов, весело продекламировал:
— Вы помните… как это у Державина?
Повисли в воздухе мартышки,
И свет стал — полосатый шут!
Вельтман любил такие вольные композиции из отдельных строчек, тут это было кстати. Теперь Вельтмана нет, но «мартышки» все налицо. Однако не только экзотика всех сюда привлекала, был и другой сильный магнит.
Пушкин входит и издали видит уже Пульхерицу Варфоломей. Она всегда перед ним проносится в облаке — то розовом, то голубом, то сиреневом. Она немногоречива, и говорит более улыбкой, нежели словами. У нее очаровательный очерк губ, в уголках рта как бы по запятой, хвостиком кверху. Это было необычайно своеобразно и мило. Пушкин любил ее немного смущать. Она в ответ улыбалась, и оттого эта одной ей свойственная примета ее рта делалась еще выразительнее. От воздушного платья отделялась ее маленькая ручка в перчатке, в ней веер, и движением веера как бы она говорит: «Ну что вы! Какие вы, право!» Это было очаровательно.
Впрочем, изредка те же точно слова она произносила и вслух, и это было… тоже очаровательно.
Не было, кажется, ни одного человека из молодежи, кто бы ею не увлекался, но она была со всеми ровна: мила со всеми одинаково и как будто равно ко всем равнодушна. Отец с отчаянием взирал со своих высоких подушек, тщетно стараясь отгадать, кого же судьба пошлет наконец ему в зятья. Но судьба Пульхерицы словно уснула возле нее.
У самого Варфоломея были не только одни понятные отцовские чувства. Он торопился закрепить за дочерью свое состояние, отделить ее от себя. Он предвидел возможный крах своих дел по откупам и стремился себя обезопасить. Ему нужен был зять — русский и с сильной рукой. Он ловил Горчакова, Вельтман всегда казался ему необстоятельным, о Пушкине он недоумевал: ссыльный как будто, а принят везде, и будто бы сам государь его опекает… Так, при случае мог бы напомнить, как его величество сами изволили при проезде через Кишинев с Пульхерицей польский протанцевать… Но как судьбу угадать, как судьбу разбудить?
Пушкин танцует мазурку со страстью. Пульхерица едва успевает одну улыбку сменить другою улыбкой, еще более милой. Веер вместе с приподнятым платьем в правой руке. Приходится ротику между улыбок самому говорить:
— Ну, что вы! Какие вы, право!
Мазурка кончается. Девушка делает легкое движение благодарности. Сквозь облако газа чуть намечаются ее очертания. Она убегает, зарозовевшая, попудрить лицо, отдышаться.
— Пофтйм! Пофтйм!.. Милости просим! Варфоломей весь изгибается, манит к себе Александра.
— Вы Александр, и государь есть Александр. Вы одинаковы есть. В танцах особенно.
Самое трудное дело для Егора Кирилловича вести беседу по–русски, и он говорит «винегретом», как называл это Вельтман: русский, французский, молдаванский. Однако же можно понять, что он, Варфоломей, есть очень несчастный боярин, потому что несчастный боярин есть тот, у которого нет русского зятя с сильной рукой. С Пушкиным он уже не стеснялся и откровенно советовался.
— Я говорил мусье Горчакову, что он может, это есть правда, положиться на мое уважение и благодарность, то есть любовь. А он мне…
Пушкин махнул рукой Горчакову. Тот подбежал.
— А ты как ответил?
Горчаков уже знает, в чем дело: история эта рассказывалась не однажды!
— А я отвечал: «Я очень ценю вашу привязанность, но не с вами мне жить!» — И, смеясь, убежал.
— У него оч–чень хорошая память, — грустно отозвался Варфоломей, — но ведь истинно мне нужен зять…
— Русский и с сильной рукой? — перебивая его, спросил Пушкин. — Вы упустили такого.
— А кто именно есть?
— Не есть, Егор Кириллович, а именно, что был. Был и уехал.
— А может, не вовсе уехал? Я очень ценю вашу привязанность, но кто же такой?
— Князь Долгорукий. Он был без памяти от вашей дочери…
Варфоломей слушал с разинутым ртом. А Пушкин, подумав, серьезно и даже немного печально добавил:
— Как, впрочем, и все мы; кто больше, кто меньше. Про Долгорукого он говорил сущую правду. Князь был застенчив и скромен, мечтателен. Он создан был для семейного уюта. Он почти нигде не бывал и лишь в городском саду любовался этим воздушным видением, всегда окруженным сонмом подруг, но никогда не осмеливался к ней подойти. Правда была о других, но и о себе: Александр не мог понять и собственного чувства к этой простой и странной девушке. Оно никак не развивалось, не углублялось, но и не теряло ничего, не возбуждая ни сильных желаний, ни сколько–нибудь ощутимого страдания. Она воспринималась более всего через зрение, как чудесный рисунок, чуть лишь тронутый красками подлинной жизни.
— Вы меня, то есть, не очень расслушиваете? А как между тем этот князь?
— Вот именно князь — и беден, и холост. Что князь — хорошо, что беден и холост — нехорошо. А когда бы стал вашим зятем, перестал бы быть беден и перестал бы быть холост. И вам хорошо, и ему.
— Но почему же раньше вы мне не сказали? Варфоломей хлопнул в ладоши. Молодой арнаут, как на театре, выбежал из–за занавеса. Он был строен, красив — в лиловой бархатной одежде, в кованной из серебра позолоченной броне; на голове из богатой турецкой шали чалма, другая такая же шаль вместо пояса, за нею воткнут ятаган.
Хозяин ему подал знак, и он тотчас удалился, склонив тяжелую голову и почтительным движением руки давая понять, что приказание принято. Тем временем Варфоломей продолжает угощать своим «винегретом». Но Пушкин не слушает и мечтательно следит за Пульхерицей, танцующей с Горчаковым. И Горчаков, розовый, кругленький, крутится, как пастушок вокруг пастушки. Остановить — и можно поставить их между других статуэток, каких на камине немало.
Вельтман не раз утверждал, что Пульхерица не существо, а вещество, что он ни разу не видел, как она ела, что это изумительный кукольный механизм. Но Вельтман причудник, он, как и все, не имел, конечно, успеха и вместо того, чтобы обидеться иль загрустить, выдумал сказку. Но жизнь интереснее сказки. В природе бывает подснежник? Планеты для глаза горят, ничуть не горя? Но Пульхерица дышит, и ее дыхание теплое. И дыхание ее, вместе с улыбкой, особенно красноречиво…
Но зато батюшка Пульхерицы истинно многоречив, и он пыхтит, как кузнечные мехи: — Пофтим! Пофтим!
Босая и грязноватая, чудесная девочка–цыганка, с глазами, похожими на маленькие темно–коричневые вишни, уже принесла на серебряном подносе крошечные чашечки густого ароматного кофе. Пушкин ей сделал пальцами «козу», и она вся задрожала мелким смехом, именно вся теперь став изящною тоненькой веточкой вишни. Еще немного, и с листьев ее брызнет роса… Но девочка поднос удержала и ловко поставила его на низенький столик перед знакомым ей гостем.
Варфоломей дал Пульхерице время вновь отдышаться и вновь тронуть лицо себе пудрой. Потом снова подал знак музыкантам, и снова запели цыганские скрипки. Таков Кишинев — коренной Кишинев!
И опять Варфоломей хлопнул в ладоши, и опять арнаут. Теперь он хозяину — Пушкин тем временем вытянул ноги — и Пушкину тоже, став на колено, раскуривает длиннейшие трубки. Он обтирает кисейным платком, наброшенным на руку, драгоценный мундштук. Платок вышит золотом, в каждом стежке дышит восток. Наконец подается чубук и ставится на пол под трубку медное блюдечко.
Скрипки поют… Молодежь… Как бы ткется ковер из живого движения рук, колыхания плеч, блеска погонов сквозь сквозистое облачко пролетающей шали: Восток!
А по стенам, на диванах, подушках расположились, как на гряде спелые дыни, куконицы — мамаши. От них пышет жаром, и только что не поднимается над диванами пар. Платья на них европейские, но как язык — молдаванско–французский, так и тут поверх тончайшего шелка — кацавейка без рукавов — фермеле, шитая золотом. Но вот они все заколыхались.
— Джок! Джок! Пульхерица, джок!
А в ответ на этот призыв, шепотком, шепотком, из рядов молодежи уже слышится легкий припев, сложенный все тем же странником Вельтманом:
Пульхерица, легконожка,
Кишиневский наш божок,
Встань, голубушка, немножко
Пропляши с бабакой джок!
— Пофтим! Пофтим! — закричали все разом и заплескали в ладоши.
«Бабака» Варфоломей улыбался с пышного своего дивана. Раз в год действительно он танцевал с дочкою «джок». Это было редкое зрелище, и жажда увидеть его была велика. Варфоломей был знатен и тучен, и «важен, важен, очень важен» — важен, как настоящий паша, невзирая на то, что в молодости с господским чубуком в руках стоял на запятках ясского господаря Мурузи. Но самая пышная важность в том–то и состоит, чтобы иногда «снизойти». И Егор Кириллович снизошел, вернее сказать, с дивана его низвели два гайдука огромного роста, в косматых папахах, неизвестно откуда возникшие по тайному знаку госпожи Варфоломей.
Вельтман звал себя странником, потому что все странствовал, разъезжая по съемкам, но так его можно было прозвать и по его странностям. В прошлом году, во время такого же танца, он уверял, что каждый раз, как, танцуя, отец приближался к Пульхерице, он незаметно для всех повертывал заводной ключ в корсете божественной куклы. Это была клевета! Ни с кем Пульхерица так легко и свободно не танцевала, как со своим не слишком–то поворотливым родителем. А быть может и то, что именно на фоне этого медведя–паши собственная ее воздушная резвость казалась особенно очаровательною.
Все ходили в огромном одном хороводе чуть не во всю просторную залу, подпевая, приплясывая, выкидывая коленца. За спинами гостей — из кухни и дворни, из девичьей сбежались все присные дома: повар и поварята в белых колпаках, но с лицами, вымазанными сажей, как у трубочиста; кучера, свои и чужие, в армяках с заткнутыми за подпояски кнутовищами; пестро затканные арнауты; старые и молодые цыганки в ярких монистах, лентах и бусах, серьгах: все это звенит, подпевает, все движется, шевелится, — вот–вот ветер от скрипок и труб, жалеек, цимбал сдует их всех и понесет по залу, как яркую осеннюю листву в листопад.
Но это лишь рамка и окружение: танцующим довольно простора, чтобы из замирания, томления, иногда наступавших в течение танца, вдруг ринуться прочь друг от друга и закружиться, завертеться — бабака вокруг одной своей ноги, Пульхерица — бабочкой, порхающей меж цветов. И бабака вдруг сел! И Пульхерица опустилась к нему на колени и обняла, не выпуская веера, ручками в длинных белых перчатках, его разгоряченную шею. Все заплескали в ладоши, и все закричали, выражая восторг.
Та же цыганочка принесла триумфатору на том же серебряном подносе блюдечко варенья и высокий бокал холодной воды — дульчесу, дабы прохладиться. А пока «паша» отдыхает и прохлаждается, молодежь, с разрешения хозяйки, задерживает из толпы уходящего люда цыганку Земфиру. Впрочем, госпожа Варфоломей зовет ее Земфиреской и приказывает спеть. Скрипки молчат, зарыдала гитара. Земфира отвесила низкий поклон, все украшения ее прозвенели, как колокольчики, яркая юбка под незаметным движением пальцев вскинулась в стороны, и дуновение бесчисленных складок и складочек, за минуту мирно дремавших, пронеслось по всей зале. У Земфиры блеснули глаза, и, как в зеркалах от огня, у всех загорелись ответные огоньки и уже не погасали, пока она пела: Арде мэ, фриже мэ, Пе кырбуне пуне мэ!
Тут Пушкин, пока звенел этот голос, в котором дышала и ночь, и степные костры, и скрипение арбы, и вырывалась порою огненная птица, летя в темноту, мгновенная и дерзкая, и пахнуло в лицо мятой и чабрецом, придорожной полынью, и вдруг у реки соловей, — пока эта дикая и нестройная стройность, стройная жаркою страстью, все расплавляющей, пока она жаром дышала в лицо, — все он забыл и ничего больше не видел, кроме этих то белым, то черным сверкающих глаз.
Земфира закончила и дико глядела перед собою. Потом вдруг очнулась, поклонилась, прозвенела опять и гордою, вольной походкой, чуть поводя от внутренней дрожи плечами, покинула зал.
Режь меня, жги меня;
Не скажу ничего;
Старый муж, грозный муж,
Не узнаешь его.
Всем хотелось теперь, чтобы Пушкин читал эти стихи: ту самую песню по–русски, которую пела цыганка, но он не хотел, отказался. И он лишь медленно отходил от этой грозы, которая целиком его захватила. Волнение это было нерасчленимо, в нем ни один живой случай не возникал, это было и шире и глубже всякого отдельного случая, всякой слишком определенной мысли: это было криком самой торжествующей жизни, слившим воедино печали и радость, муки и восторг.
Да, для него вечер уже завершен. Он хочет уйти, поворачивается и видит Пульхерицу. Она глядит на него, на сей раз забыв об улыбке. Но она вся как улыбка, как роза в росе. Он делает движение, чтобы к ней подойти, но Варфоломей, отдохнувший, вернувшийся к трудной своей, лишь на минуту покинутой думе, останавливает его.
— Что беден и холост, это, то есть, мы переиначим, а князь — это оставим. Скажите, возможно? Я все… предпринять! В этих руках. — И он сжимает пустую пухлую горсть.
Пушкин глядит, наклоняясь, в небольшие его вопрошающие глазки и говорит — ничуть не озорно, а скорее с какою–то тихою грустью:
— Но ведь нужна, Егор Кириллович, и еще одна безделица: чтобы и она его полюбила.
— Вот в том–то вся и беда! — восклицает Варфоломей; эту последнюю фразу он уже хорошо выучил по–русски.
Пушкин идет от бабаки, но Пульхерица уже не одна, возле нее щебечет стайка подруг. Он к ним подошел, шутит, прощаясь, и на устах его девы уже опять порхает обычная милая улыбка.
Варфоломей глядит издали. Думы его выдает невольный вопрос:
— Да сам–то он кто?
— Вы о ком изволите говорить, Егор Кириллович? — подобострастно вопрошает случившийся поблизости кто–то из мелких чиновников.
— Я говорю о господине Пушкине. Ну кто ж он, скажите!
— Пушкин, Егор Кириллович, хоть и невольник, а вольная пташка.
— Пташка? Не понимаю.
— Пушкин — поэт.
— Вот в том–то вся и беда.
Танцы будут еще продолжаться. Варфоломей еще будет пить кофе и курить, размышляя, куконицы–мамаши и дальше не смогут остыть, и Пульхерица будет еще в танце порхать и улыбаться, но улыбка ее будет немножко печальней. Только этого никто не заметит. Пушкин ушел.
Ровные белые улицы. Снег перестал. Звезды зажглись над миром, над Кишиневом. Танцы у Варфоломея, а у Крупенского карты.
— Кучер живей!
Пушкин обратился с просьбою в Петербург о предоставлении ему отпуска. Ответ затягивался.
— Если меня в Петербург не отпустят, я от вас все равно куда–нибудь убегу.
— Не убежишь.
— Почему?
— А потому: обещал больше не бегать.
Тон у Ивана Никитича спокойный, простой. Не скажешь даже — уверенный, за показною уверенностью часто стоит именно что неуверенность, человек как бы сам себя подкрепляет, а когда говорят так естественно, как естественно дует ветер или идет дождь, что тут возразишь! Пушкин и не возражал.
— Тогда отпустите в Одессу!
В Одессу просился он уже не в первый раз, но Инзов не считал это удобным, во всяком случае пока нет из Петербурга ответа. Немудрено, что Пушкин скучал и время от времени устраивал себе развлечения. Такое очередное развлечение он позволил себе на одном из обедов у генерала Бологовского.
Генерал–майор Димитрий Николаевич Бологовский командовал второю бригадой дивизии, расположенной в Кишиневе. Он был лет на десять старше генерала Пущина, но по характеру своему казался моложе. Он любил выпить и поострить, про него ходило множество анекдотов, от которых он не особенно открещивался, а подвыпив, и сам любил кое–что о себе рассказать. Однако же всем было известно, что не следовало при нем и намекать на то, что он принимал участие в убийстве императора Павла. Он приподнял за волосы мертвую голову убитого и ударил ею о землю. «Вот тиран!» — сказал он и спокойно–брезгливо обтер об мундир свои пальцы. Ему было тогда всего лет двадцать пять, и хоть он и стоял в карауле в ту памятную ночь, одиннадцатого марта, но, наверное, был сильно выпивши — «для куражу».
Пушкин обедал у него всегда по воскресеньям. В двадцать третьем году одиннадцатое марта пришлось как раз в воскресенье, и Александр вспомнил памятную для хозяина дома годовщину. Было, как и всегда у Бологовского, шумно и весело. Вина было много, и Пушкин ему отдал изрядную дань. Он сидел рядом с Алексеевым.
— А что, Николай Степанович, — сказал он негромко, — как весело наш генерал поминает императора Павла.
— Пушкин, молчи, — отвечал Алексеев, — ты же знаешь…
— А что мне! — ответил Пушкин с задором. — Я знаю, а он еще лучше меня должен знать. — И, поднявшись с бокалом, громко провозгласил: — Димитрий Николаевич, ваше здоровье!
— А что? По какому же, собственно, поводу? — спросил генерал, недоумевая.
— А сегодня одиннадцатое марта! — ответил при воцарившемся вдруг общем молчании Пушкин.
По правде сказать, он и не собирался этого подчеркивать, полагая, что генерал и так догадается. Но Бологовский не догадался, спросил, а ежели спрашивают, надо ответить! Вышла большая неловкость, но все же скандала не произошло. Бологовский быстро нашелся и вышел из положения.
— А вы почему знаете? — обратился он к Пушкину. — Ведь и в самом деле сегодня день рождения моей племянницы Леночки.
И все стали поздравлять генерала. Кто догадался, а кто и от чистого сердца пил за здоровье неведомой девушки, проживавшей, по словам генерала, в Смоленске. Все встали из–за стола, а хозяин сел за шахматы, зная наперед, что проиграет.
— Говорят, ты бесился опять? — спросил Инзов на другой день после происшествия.
— Я чувствую склонность к истории, — отвечал Пушкин невинно, — и только дал точную справку.
К удивлению, Иван Никитич головы ему не «мылил». Он даже впал в небольшую задумчивость и, слегка побарабанив пальцами по столу, как бы сам для себя произнес:
— Каков бы он ни был, покойный монарх, а всякому человеку надлежит помирать собственной смертью.
Инзов высказал это в виде общей сентенции, но Пушкину невольно в эту минуту припомнилось, что говорили про этого человека, носившего всю жизнь псевдоним — «Инако зовут».
Вскоре пришел и ответ из Петербурга, адресованный Инзову: царь в отпуске Пушкину отказал. Пушкин ответил царю, выпустив на пасхальной неделе одну из птичек, живших у Инзова в клетках.
В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!
Иван Никитич, которому Александр прочел эти стихи, был душевно растроган.
— Ну погоди, дай срок. Только без дела я тебя отпустить не могу. Поедешь лечиться на море.
Пушкин повеселел. У него забрезжили надежды перебраться в Одессу совсем. Он много работал, гулял. «Бахчисарайский фонтан» был закончен, начал «Онегина». Если в небольших по размеру стихотворениях он откликался тотчас на блеснувшую мысль, на взволновавшее чувство, то поэмы всегда долго вынашивались. Он должен был отойти, чтобы увидеть все в целом, постигнуть гармонию пропорций и дать всему точное место. Так он издали видел и обнимал единым глазом далекую семью снежных вершин; так, отъехав от города и обернувшись, схватывал общую его физиономию и соотношение отдельных частей.
Точно так было и с поэмами: Кавказ, екатеринославские разбойники, Бахчисарай — все это уже нашло свою форму, но цыганы еще искали себя, они как бы еще кочевали в творческих его раздумьях. «Онегин»… — уже одно то, что поэту понадобилась еще большая даль, чтобы увидеть свою петербургскую юность, предсказывало вещь и по размерам превосходящую прежние. Если в Вольтеровой «Девственнице» была двадцать одна песнь, то отчего бы не написать «поэму песен в двадцать пять»? А впрочем, это скорее роман, и действие в нем может нагнать самую жизнь, герой сделаться спутником жизни.
Пушкин снова переживал то совершенно особое чувство, которое сопутствует началу нового большого труда. Нечто подобное испытывает человек перед отправлением в далекое путешествие. Припасы в дорогу уложены, мешок с овсом привязан веревками позади экипажа. День начался раньше обычного, и он моложе, чем всегда, и будет расти у вас на глазах. Деревья проснулись, но еще умываются холодной росой. Немного еще — и солнце подаст им, дабы обсушиться, тончайшее полотенце лучей: их хватит на все и на всех. Самые звуки и то, как добегают они к вашему уху, — все молодое.
А между тем сила, готовность, приподнятость — как в дереве соки весною, а мысли и образы наливаются жизнью, как почки на ветке. Бывают минуты: кажется, брызнут все сразу. Но на то и человек, а не самое хотя бы великолепное дерево. Вы садитесь в повозку, и вы управляете ею. Каждый поворот дороги приносит новое видение, но глаза неизменно ваши, хотя и они становятся все острее и зорче. Они видят все, но выбирают то, что нужно. И из всех слагаемых главное, он же творец и организатор, — сам поэт.
Но и то, начальное, чувство — готовность брызнуть и процвести всему сразу, — и оно не пропадает, этим единством будет пронизана в конце концов и вся завершенная вещь. У нее будет свое дыхание, манера и краски, и автор будет глядеться в нее, как в воды озера, — того самого озера, которое сам окопал, обсадил, где плотину воздвиг и перекинул мостки. Забота и мысли, сосредоточенность, щедрость души, самозабвение в работе, — все это радость труда, рождающего новую живую жизнь!
Однако, быть может, это уводит и от людей, и от событий, протекающих в жизни других, в жизни народа? Смешное предположение! Пушкин отнюдь не уходил в какую–то рабочую келью: ведь и река не только струится в течении, но и бьет в берега.
Пушкин много гулял. Встретит чиновника.
— А, Александр Сергеевич! С музой под ручку, конечно, зефиром дышать?
Утро чудесное, и зефир, правда, хорош. Но по пути к кишиневским холмам Пушкин зайдет на базар с его разноязычною суетой, пестротою одежд, спорами, криками, жаром торговли. Пушкину не по дороге на чиновничью службу.
Но если чиновник, добавив еще комплимент о «народности» Пушкина, на встречный вопрос доверительно скажет, что ему предстоит в своем роде интересное дело, хотя б, например, отправка из тюрьмы арестантов, Пушкин тотчас, вместо музы, под ручку возьмет господина чиновника. Так однажды ему довелось проводить из острога и старого своего знакомца Полифема.
Бывший монах то пропадал, то появлялся. С тех пор как Пушкин переселился жить к Алексееву, невольно он наблюдал житие в заезжем доме Наумова, бывшего своего хозяина: Алексеев жил рядом. Сам Иван Николаевич, немного побушевав, скоро остепенился, опять его можно было б поставить в собор на свечную торговлю. А Полифем («С вашей легкой руки, Александр Сергеевич!»), веселый монах, кажется, полностью отдался своей широкой натуре. Его и сажали уже, и выпускали, теперь он шел на поселение. Ни виду, ни рассуждений, обретенных в монастыре, он, однако же, не терял, как равно сохранял и веселость, процветшую в нем от кишиневского бытия и кишиневского пития.
И по–прежнему в нем была какая–то легкость восприятия жизни, которую по–своему он «бальзамически» обонял. Все это было, конечно, грешно, но и «простительно — ради невинности сего обмана и простодушной сладости чувств».
Пушкину было его истинно жаль, когда, проходя из тюремных ворот, он протянул на прощание широкую лапищу и, озорно кивнув мохнатою головой на конвойных, громко сказал:
— Сибирь далека, ну да еще, может, увидимся!
«Что это он мне пророчит — Сибирь?» — подумалось Пушкину. Но Полифем подмигнул и ухмыльнулся.
— Сибирь, говорю далека, да у меня, люди честные, ноги, знать, длинные!
Тут в ответ не мог не улыбнуться и Александр.
Какой–то период в Кишиневе явно заканчивался. Из Киева пришла весть, что Орлов был зачислен «по армии» и нового назначения не получил, — это значило: оставлен совсем не у дел. Он настаивал, чтобы его предали суду, но в этом было отказано. Охотников, так же как и Орлов, уехал в Москву, а вскоре получено было известие, что он там скончался. Шли разговоры о назначении графа Михаила Семеновича Воронцова в Одессу. Липранди долго в прежнее время служил у него, и потому было естественно для Воронцова взять его на службу к себе.
Владимир Федосеевич Раевский все еще подвергался в Тирасполе длительным тяжелым допросам. Но от него ничего не добиться. Не через Липранди, иными путями, до Пушкина дошло в новой редакции «Послание к друзьям». Там были строки, обращенные прямо к нему; они с новою силой его взволновали:
Оставь другим певцам любовь! Любовь ли петь, где брызжет кровь, Где племя чуждое с улыбкой Терзает нас кровавой пыткой, Где слово, мысль, невольный взор Влекут, как явный заговор, Как преступление, на плаху, И где народ, подвластный страху, Не смеет шепотом роптать.
Так и из тюрьмы, как голос совести, звучали призывы Раевского. Но и вне тюрьмы лежала, казалось порою, пустыня, мертвая тишина. Пушкин пытался найти какой–то обобщающий образ, но все это оставалось в черновиках. Большой, взволнованный, вольный Кишинев отходил в прошлое, оставался Кишинев карт и балов: малый кусочек огромной России!
Кто, волны, вас остановил,
Кто оковал ваш бег могучий,
Кто в пруд безмолвный и дремучий
Поток мятежный обратил?
Взыграйте, ветры, взройте воды,
Разрушьте гибельный оплот, —
Где ты, гроза — символ свободы?
Промчись поверх невольных вод!
Инзов видел томление Пушкина и наконец в Одессу его отпустил.
Глава восемнадцатая У СИНЕГО МОРЯ
«Мне хочется, душа моя, написать тебе целый роман — три последние месяца моей жизни. Вот в чем дело: здоровье мое давно требовало морских ванн, я насилу уломал Инзова, чтобы он отпустил меня в Одессу — я оставил мою Молдавию и явился в Европу. Ресторация и Итальянская Опера напомнили мне старину и, ей–богу, обновили мне душу. Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляет мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе — кажется и хорошо — да новая печаль мне сжала грудь — мне стало жаль моих покинутых цепей. Приехал в Кишинев на несколько дней, провел их неизъяснимо элегически — и выехав оттуда навсегда, о Кишиневе я вздохнул. Теперь я опять в Одессе и все еще не могу привыкнуть к европейскому образу жизни — впрочем, я нигде не бываю, кроме в театре».
Так двадцать пятого августа Пушкин писал Левушке в Петербург. Тот, вероятно, и сам, еще ранее Александра, знал кое–что о предстоявшем переходе брата из–под опеки Инзова под опеку Воронцова. Об этом усиленно хлопотал, побуждаемый Вяземским, Александр Иванович Тургенев, которому удалось склонить к этому плану и министра Нессельроде (Каподистрия давно уже был в отставке) и самого Воронцова. Граф Михаил Семенович Воронцов соблаговолил выразить согласие — взять к себе молодого поэта, дабы «спасти его нравственность» и «дать таланту досуг и силу развиться».
Пушкин, конечно, очень скоро почувствовал это снисходительно–обидное к нему отношение любезного вельможи и в том же письме к брату, жалуясь на безденежье, твердо заявлял: «На хлебах у Воронцова я не стану жить — не хочу, и полно».
Итак, Пушкин снова у моря, где суждено протекать последнему году его южной ссылки.
Он остановился в гостинице Рено, в угловой комнате с балконом и видом на море. Просыпался он рано и отправлялся прямо на пляж; выкупавшись, шел в одну из турецких кофеен, которых было немало вдоль берега. Там он посиживал, часто в пестром своем кишиневском архалуке с феской на голове, наслаждаясь ароматом крепкого черного кофе. Чашечки были миниатюрны и наполовину полны осевшей гущи; в этой гуще и была главная выгода расчетливых и степенных хозяев.
В приморских кофейных множество разного люду: шкиперы и матросы с иноземных кораблей, приказчики и доверенные торговых фирм, подпольные адвокаты и люди без определенных занятий или с такими занятиями, о которых могли б рассказать лишь доверительно. Здесь совершались сделки и царил запах денег; чаще всех других слов звучали цифры больших и маленьких сумм.
На пристани, куда приходили корабли с разноцветными флагами, было куда интереснее. Живая разноязычная толпа была подвижною и шумной. Тут встречали и расставались, узнавали новости. Корабли, привозившие заморские товары, отдыхали недолго и грузились отечественною тяжелой пшеницей, шерстью и кожами. Пушкин являлся сюда уже не в феске и не в архалуке, по улицам он проходил в черном, наглухо застегнутом сюртуке и черной шляпе, но всегда со своею палицей.
Он и в Одессе продолжал неустанно работать. «Онегина» писал едва ли не каждый день. Он так привык теперь к его оригинальной строфе, что часто даже да улице или в казино приходили к нему короткие живописные строки, которые точно сами спешили занять предназначенные им места. Ранее Пушкин отдавался в поэмах свободному сочетанию рифм и вольному течению повествования. Он и здесь не стеснял себя переходами и отступлениями, но наличие четырнадцатистрочной строфы, ее обязательность и неизменность были чудесною точкой опоры: роман в стихах, а не поэма!
Весь роман в целом еще не был виден отчетливо–ясно, он только чувствовался, но эта расчлененность на отдельные главы давала возможность сосредоточиваться в пределах каждой главы, а соотношение написанных и еще остававшихся строф создавало точное ощущение формы, размера каждой главы, внутренней ее емкости. В думах о работе был свой большой план и малые планы, и каждая строфа также была в своем роде законченною отдельностью. И оттого все движение романа, невзирая на отклонения и нестесняемую внутреннюю свободу поворотов в его развитии, было, однако же, строго соразмерно.
Больше того. Можно сказать, что именно эта строгость и давала законное бытие свободе. Это было очень своеобразное и по–своему бодрящее ощущение. И была, конечно, еще та художническая радость, которая сопутствует всякому новому нахождению самого себя. Точно дерево тянет в простор новую ветвь, так неожиданно изменяющую и обогащающую его видимую форму, к которой уже само оно как бы привыкло. Такой же находкой и радостью были «Цыганы», которых он начал, уже обжившись в Одессе, зимой: там была свежая радость — найти живой диалог.
Но если в «Цыганах» живой диалог радовал его как художника, то они же были исполнены напряженного чувства, ищущих разрешения дум. Одно было сопряжено с другим, и, быть может, впервые Пушкин здесь выходил за пределы личных своих переживаний. Правда, в поэме сквозили и собственные его черты. Пушкина, как и его героя, «порой волшебной славы манила дальняя звезда», «над одинокой головою и гром нередко грохотал», но он глядел теперь на все это со стороны. Алеко (так и самого Александра перекрестили цыгане) бежал из городской неволи, где люди Любви стыдятся, мысли гонят, Торгуют волею своей, Главы пред идолами клонят И просят денег да цепей.
Самого его «преследует закон», он в «изгнанье», и он ищет полной свободы, но вот — осуществляет ее как своеволие, и остается одиноким, покинутым. Много тем перекрещивалось в мятежной и строгой поэме, но с наибольшей суровостью вставал именно этот вопрос о правах и границах индивидуальной свободы. Пушкин «Цыган» закончил уже не в Одессе, но выносил он, выстрадал их именно здесь.
Пушкина видели только снаружи: живого, веселого, остроумного, порою язвительного, порою проказливого, но что ж в этом особенного? Это могло быть мило, забавно, а иногда и неприятно, если посмеются над тобою самим, или, напротив, приятно, если на зубок попадетесь не вы, а приятель, но в этом ведь нет еще очарования. А Пушкин дышал, иногда даже только что царапнув кого–нибудь, — дышал этим очарованием. Не парадокс ли это? Ничуть. Дышала как раз большая творческая душа — без всякого с его стороны напряжения, — не разгадываемая, но ощутимая и живая.
И все же случалось, что этот внутренний мир становился видимым, ясным и открывался порою даже весьма далекому внутренне человеку.
Был у Пушкина старый знакомый по «Арзамасу», Филипп Филиппович Вигель, умница, но человек неприятный, неуживчивый и злопамятный. Летом двадцать третьего года он был назначен на службу к Воронцову и поселился в той же гостинице рядом с Пушкиным. Он вел записки, и было в них столько же недоброжелательности к людям, как и чернил. Но и такой человек записал: «Разговор Пушкина, как бы электрическим прутиком касаясь моей черными думами отягченной главы, внезапно порождал в ней тысячу мыслей, живых, веселых, молодых, и сближал расстояние наших возрастов. Беспечность, с которою смотрел он на свое будущее, часто заставляла меня забывать и собственное… Но одними ли стихами пленял меня этот человек? Бывало, посреди пустого, забавного разговора, из глубины души его или сердца вылетит светлая, новая мысль, которая изумит меня, которая покажет и всю обширность его рассудка».
Вигель увидел ум и веселость. Липранди, который то появлялся в Одессе, то исчезал, исполняя задания Воронцова, видел другое — как Пушкин в Одессе томился, более даже, чем в Кишиневе. Оба эти жестковатых человека, друг друга совершенно не переносившие, были равно под обаянием Пушкина, правда что постигая его прежде всего со стороны именно ума. Но в Одессе и чувству Пушкина было много простора: в Одессе жил он опять у моря!
Город этот никак не похож на Кишинев. Здесь все было другое. Вместо патриархального инзовского стола пышный двор нового наместника, где не очень–то дашь себе волю, разве что найдешь выход раздражению какою–нибудь мгновенного эпиграммой. Вместо помещиков, тяготевших к своей бессарабской столице, пестрой и шумной, но одновременно и домовитой, раскидистой, куда, как в огромную усадьбу, съехалось великое множество гостей, которые тут и осели, — в Одессе, тоже при пестроте и веселости, главное было не в этом.
Основное обличив города определялось торговлей. Негоцианты бывали и за столом Воронцова. Из Англии граф привез уважение к торговле, промышленности, банкам. Будучи сам исключительно богатым, лично он никак и ни в чем не был заинтересован. Он поощрял все это с государственной точки зрения. Благодаря порто–франко, осуществленному здесь с девятнадцатого года, иноземные товары, не облагаемые пошлинами, текли сюда огромным потоком, и не для одной только России. Транзитом они распространялись отсюда: на запад — в Австрию, на восток, через Кавказ, — в Персию.
Вдоль берега, где был предположен Приморский бульвар, наряду с дворянскими особняками уже появлялись купеческие и банковские дома, не уступавшие им по размерам и превосходившие по прочности и солидности стройки. Много негоциантов жило и на других улицах города. Пушкин бывал в нескольких таких домах, чаще всего у француза Сикара и серба Ивана Степановича Ризнича. Знакомство с ними обоими завязалось в театре, где Александр был завсегдатаем. У Сикара были обеды не частые, званы бывали только мужчины. Он собирал интересный народ, за столом возникали живые беседы, и бывать там было приятно.
У Ризнича общество было смешанное, и туда приходили запросто. Этот бывший австрийский банкир, содержавший теперь в Одессе большую контору для экспорта хлеба, дома держался как бы совсем в стороне. Веселой хозяйкою в доме была молодая жена, двадцатилетняя Амалия Ризнич.
С Пушкиным это бывало, как если бы действительно амур спускал внезапную свою стрелу и попадал прямо в сердце. И это было не потому лишь, что в жилах текла страстная кровь его предков, это было и поэтически восторженным восприятием красоты. Еще в Киеве он видел мельком одну такую красавицу, которая на мгновение ослепила его. Это было как молния, упавшая в море: Каролина Собаньская, сестра известного польского писателя–романиста. Он виделся с ней и в Одессе, но никакого настоящего сближения между ними не произошло, и не потому, — за что на нее косились в большом свете, — что она была на положении незаконной жены, — какое до этого могло быть Пушкину дело! — а скорее, быть может, потому, что этим мужем ее был ставленник Аракчеева, карьерист и доносчик, граф Витт. Какой–то чудесный инстинкт Пушкина оберег, да, по счастию, и сама Каролина Адамовна не слишком–то выделяла русского поэта.
И какое другое все было с Амалией Ризнич! Она была совсем юной, и к ней было бы смешно применить самое слово «дама». Она была весела, грациозна, порою причудлива и во все вкладывала живость и страсть, ездила верхом, увлекалась не только танцами, но и картами. Даже на улицах появлялась она в мужской шляпе и полуамазонке с длинным шлейфом — высокая, гибкая, стройная.
Иван Степанович Ризнич, коммерции советник и крупный негоциант, был одновременно и директором театра. Там, на спектакле итальянской оперы, он и представил Пушкина жене.
Амалия Ризнич была итальянка, родом из Флоренции, с огромными дышащими глазами: цвет их то сгущался до совершенной, полной синевы южного неба, то постепенно смягчались они и делались матовыми, теплыми; трудно было от них отвести и свой встречный взгляд. Пушкин был сразу ею пленен: «Улыбка уст, улыбка взоров…» Все искрилось в ней, и все играло. И по цвету лица, по живости и быстроте движений, казалось, она обладала чудесным здоровьем. Но сама–то, видимо, знала, что жить ей недолго, и торопилась стремительно жить.
На другой день после театра Александр проходил мимо ее дома. Она стояла на балконе и, улыбнувшись ему, вынула розу из темных волос и кинула вниз. Он поймал ее на лету. Это походило на сцену из какой–нибудь итальянской оперы. Очарованием этой благословенной страны веяло от нее. Пушкин жестом спросил, можно ль войти, она приложила палец к губам и чуть наклонила голову. Он понял, что можно, и понял, что войти надо тихо.
Так он стал бывать в ее доме, и притом не только на вечерах, когда бывало много народу; он иногда сопровождал ее и на прогулках верхом и очень часто после обеда поджидал, пока она переоденется, чтобы вместе с ним ехать в театр.
Одесский театр главным фасадом был расположен прямо на море. Здание было снаружи изящно, красиво — с фронтоном, колоннами; так же изящно, просторно, светло и внутри. Ризнич была в театре как дома. И не потому лишь, что муж был директором. Нет, итальянская музыка, итальянские арии, сама она в директорской ложе нижнего яруса — все это было волшебно, точно и не покидала родной своей страны, а вся эта нарядная, шумная, разноязычная публика, каким–то чудом она — в гостях у нее, у хозяйки. Порою казалось все это сном наяву.
К театру они иногда подъезжали на лодке, но особенно хорошо было возвращаться по морю, когда свет от разноцветных фонариков, дрожа, отражался в воде: совсем как Венеция! Музыка, море, любовь, красота…
Сложнее, трудней бывало на вечерах в доме Ризнич. Иван Степанович принимал широко. Негоциант не хотел уступить самому наместнику, а кое в чем стремился его превзойти. Если суда его грузились российской пшеницей, то из Италии он получал апельсины, лимоны, миндаль и первый ими мог щегольнуть.
— У Ивана Степановича, — говорили, — все не как–нибудь: фрукты из Мессины, жена из Флоренции…
Правда, что на вечерах этих Ризнич не только тщеславился, он не забывал и о делах. Пушкин в это, конечно, совсем не вникал. Его томило другое. У Амалии много поклонников, и это естественно. Но в кругу молодежи были и пожилые, очень богатые люди, с ними играла она и в карты — азартно, счастливо, а муж оставался при этом неизменно в тени. Так неужели ж она… Неужели и впрямь деньги над ней имеют какую–то власть? Эта мысль мучила Пушкина и придавала его чувству особенно острый, изнуряющий характер, ибо об этом он не решался, не мог произнести с нею ни слова. Он и сам от себя гнал эти гнетущие мысли. Но ему чудилось, что кто–то из этих людей, увлечься которыми было никак уж нельзя, точно имел, и не скрывал этого, какие–то особые на нее права…
Ревность снедала Пушкина. Он находил, что она подобна была какой–то страшной болезни, которую не остановить, — чуме или лихорадке. Порою томила она и глухою тоской, и тогда казалось ему, что он может повредиться в уме. У него начинался жар, он почти бредил и вспоминал бредовое же предсказание Вельтмана, и как раз об Одессе… Ну, сатана не сатана, а похоже, так если б взойти на горящий костер…
Однако, по счастию, эти припадки бывали редки и кратки, как короткой и быстрой была и сама эта южная страсть. В минуту раздумья он иногда видел и себя, и ее как бы со стороны:
Простишь ли мне ревнивые мечты,
Моей любви безумное волненье?
Ты мне верна: зачем же любишь ты
Всегда пугать мое воображенье?
Окружена поклонников толпой,
Зачем для всех казаться хочешь милой
И всех дарит надеждою пустой
Твой чудный взор, то нежный, то унылый?
С берега видел он иногда, как проплывала ее богато изукрашенная лодка, и переносился мыслью в нее. В лодке была она и кто–либо из ее солидных поклонников. Их было два — польский помещик Исидор Собаньскии и князь Яблоновский, несколько помоложе, но также уже пожилой. Пушкин, глядя на них, всегда колебался: который? И вот она едет с кем–то из них: сердце сжималось. Но в воображении возникали блистающие глаза нежной красавицы, и рождались не эпиграмма на ненавистных соперников, а легкие строки, видение Италии:
Ночь светла; в небесном поле Ходит Веспер золотой. Старый дож плывет в гондоле С догарессой молодой.
Да, жаркое чувство к молодой красавице было и поэтическим чувством. То, что она была итальянка, как бы уводило его в те страны, о которых мечтал с самого детства, и отношения их порой походили на сказку, на поэму, воплощенную в жизнь.
Этот короткий роман — как быстро, внезапно он начался, так же и оборвался. В начале зимы у Ризнич родился ребенок, здоровье ее надломилось, и муж отправил ее весною на родину. Он проводил жену до границы, а за границею уже ждал ее богатый покровитель. С ним она и проследовала дальше. Все это можно было предвидеть, и отношения между Ризнич и Пушкиным прервались еще задолго до ее отъезда. И все же разлука их вышла тяжелой, мучительной.
В ноябре в Одессу приехала Мария Раевская — проведать сестру свою Елену, жившую у Воронцовых: Раевские состояли в родстве с графинею Елизаветой Ксаверьевной. Здоровье Елены немного поправилось и особого опасения не внушало, но она была очень худа, и ей постоянно надо было беречься. Даже в танцах она не принимала участия и лишь глядела, как танцуют другие. Она все больше и больше уходила в себя. С братом Александром, который часто и подолгу теперь пребывал в Одессе, останавливаясь у Воронцовых же, как–то она совсем разошлась, а приезду сестры так была рада, что от радости не спала по ночам.
Мария пробыла почти до рождества. Казалось бы — возвращался Юрзуф! Но ничто не повторимо, и на Юрзуф не похоже было нимало.
Вся семья Раевских, — братья и сестры, отец, — все они крепко жили в душе Александра. Это была единственная, пожалуй, семья, которую он неотрывно любил. И после Кавказа и Крыма отношения их не только не прерывались, но временами казалось, что Пушкину и не суждено от этой семьи оторваться. Глядя теперь издали, он понимал, что из трех дочерей генерала Раевского наиболее близка ему была именно Мария, чудесно выросшая за это время из угловатого, серьезно–шаловливого подростка в красивую и строгую девушку с чистым и твердым характером. Он сознавал, что у них бывали минуты, которые могли стать решающими. Но они таковыми не стали.
Что же мешало?
Основное, что их разделяло, было, кажется, то, что оба они, каждый по–своему, были — характеры! Это чудесная, трудная и редчайшая вещь, когда два человека с собственными, отчетливо выраженными индивидуальностями, не теряя их, могут составить единое и гармоническое целое. Чаще бывает иное: один покоряет другого; один из двух покорился, и такой дорогой ценой найдена прочность; прочность, но не гармония. Мария же рано определилась и выросла, а Пушкин рос непрерывно и далек еще был от завершения роста. Внешне будучи пленником, он развивался в полной душевной свободе.
К тому же, хотя он и был уже необычайно своеобразен, характерен, но и самый характер его продолжал быть в движении. И для него совсем не пришло еще время (да и позже оно долго не приходило) — время, когда появилась бы властная потребность устроения собственной жизни.
А страсть? Да, налетающий этот ураган мог бы, как буря, разметать все, что стоит на пути. Но этому ветру, как заслон, противостояла вся семья Раевских: его к ним любовь, чистое и прочное уважение. И страсть, — ничего не обещающая и ни к чему не обязывающая, — она не возникла.
И как, напротив, ничто и никто не мешал другим его чувствам в Одессе. Мужа Амалии Ризнич попросту он не уважал; ближе узнав Воронцова, им оскорбляемый, — он испытывал к графу чистую ненависть.
Мария и Пушкин не имели между собою никаких объяснений. Отношения их не были внешне испорчены, но, как–то само собою это произошло: друг от друга они отдалились. Мария была горда и ни единым словом и ни движением не выказывала того, что в ней происходило. Ой же себе говорил: «Да, она никогда не понимала моего чувства к ней. Графу Олизару откажут, но теперь сюда приезжает Волконский, будет еще одни светский брак!» Так он умел иногда подумать — холодно и зло, сам хорошо сознавая, как был к ней несправедлив. Пушкин был не без слабостей, но огромная редкая сила его в том и была, что он их видел и знал, и не оправдывал; трудно только бывало всегда признать о себе что–либо — перед другими.
Впрочем, сейчас на отношениях своих с Марией не очень–то он и останавливался: было ему не до того, он горел, как свеча, и обретал новые силы только в работе.
Но и в работе его она уже пребывала. В «Бахчисарайском фонтане» — «Седой отец гордился ею и звал отрадою своею»: да, это и было так; «Толпы вельмож и богачей руки Марииной искали, — И много юношей по ней в страданье тайном изнывали», да, и это тоже было так. Ну, а о себе? Вдали от нее он и сам тосковал и отчаивался:
Забудь мучительный предмет
Любви отверженной и вечной…
Он горячо написал эти строки и… выбросил их, ибо считал себя не вправе говорить открыто о своем чувстве к ней. И даже самую эту мысль — оговорку о том, что нельзя «разглашать», — также он не доверил печати. Пусть никто не прочтет, никто не услышит этих признаний:
Безумец! полно, перестань,
Не растравляй тоски напрасной!
Мятежным снам любви несчастной
Заплачена тобою дань —
Опомнись! долго ль, узник томный,
Тебе оковы лобызать
И в свете лирою нескромнай
Свое безумство разглашать?
Он выбросил эти строки, но можно ли выбросить самое чувство, которое их продиктовало? На время, и на долгое время, могли в нем как бы замолкнуть, на самом же деле только уйти на глубину, рожденные ею сердечные звуки, но все истинное, — что бы то ни было, — конечно, не умирает и лишь ждет своего, вслед за туманом, ясного срока. Так и образ Марии Раевской был в сердце Пушкина неистребим.
Но была л» и впрямь эта любовь его — отверженною любовью или просто, как говорится по–русски, они разминулись, как на море два корабля? А бывало же, что паруса их плещутся совместно, так что не разобрать, какие из них на одном корабле, а какие на встречном, другом… И встретятся ли еще когда, а ежели встретятся, узнают ли друг о друге всю правду?
Синему морю до этих вопросов не было дела, и ответов оно не давало. Могучая эта стихия не знала покоя сама и ему не давала покоя, путая как бы самое время и вздымая чувства в душе — волну за волной и волну над волной. Это и верно: море не столько покорствует времени, как само походит на вечность, то есть на жизнь, вечно изменчивую, но непрестанно пребывающую в самой себе.
Глава девятнадцатая ЗАПИСКИ ЕКАТЕРИНЫ II
В первые дни по приезде в Одессу Пушкину вправду казалось: к нему возвращалась свобода, цепи оставлены там, в Кишиневе, но все же его потянуло туда — как бы проститься. Правда, что для него Кишинев в значительной мере уже опустел, отгорел. Владимир Федосеевич Раевский и по сей день пребывает в тюрьма, нет ни Оштанкова, ни Орловых… Но все это было, и у памяти сердца ничего не отнять. Это была целая эра, эпоха именно вольного роста, невзирая на «цепи». Пушкин осуществил это свое желание и побывал в Кишиневе.
На обратном пути внезапно он понял, что Кишинев покидал насовсем, и на душе его зашевелилась горькая мысль, что не нашел как–то слов при расставании с Инзовым. С ним вообще иногда это случалось. Всегда экспансивный, живой и находчивый в споре, полемике, в пылу разговора — тихие чувства свои он в слова облекал с запозданием, с какой–то в конце концов все же понятной заминкой.
А у Ивана Никитича все это просто, тепло. Он обнял своего подопечного дружески, задержав на его плече руку дольше обычного, и на прощанье сказал:
— Мы тут жили с тобою по–деревенски, там ты будешь на полном свету. Но там этак, чтоб по–простому… не обольщайся, не жди.
Инзов более знал и далее видел, чем Пушкин. У Александра тогда пело в душе и от моря, и от огнем охватившей его страсти к красавице Ризнич, но в дороге и он от души по Кишиневу вздохнул. И сам Кишинев, и Каменка, Киев, и побег его в степи, в Тульчин… Да, эти поездки его и все, что связано с ними, — могло ли бы все это быть, когда бы не Инзов? Все это стало возможным, и свершилось все лишь потому, что цепь его была в доброй руке.
И хоть, правда, здесь под арест его никто не сажал, но скоро он стал ощущать — и невзирая даже на море! — отсутствие вольного воздуха. И отношения с Ризнич скоро ему стали мучительны, и нестерпимее день ото дня становились сношения с Воронцовым. Как все это непохоже было на Инзова!
Тот порою ворчал и сердился, но он был не над Пушкиным, а сбоку, с ним рядом, — Воронцов же и глядел–то не как–нибудь, а с высоты. Инзов не был «начальником», не был сановником, — важным сановником, высоким начальством был Воронцов. Инзов был ласков и добр, сам того не замечая, — Воронцов был любезен рассчитанной холодной любезностью, которая Пушкина просто бесила. Инзов был весь от природы, Воронцов же был «сделанный». Инзов был человек, и юноша Пушкин был для него — человек, и ничто человеческое им обоим не было чуждо, а что ж Воронцов — ужели не человек? И Воронцов человек, и человек со страстями, но и они в нем были холодными, а как честолюбие есть самая холодная из страстей, то и был он — более честолюбец, чем человек, а Пушкина видел, и очень при этом на далеком от себя расстоянии, просто–напросто мелким чиновником в должности архивариуса.
Этот чиновник, однако, не только сидел в обширной библиотеке вельможи (там он рылся в шкафах и на полках с большим прилежанием и с истинным удовольствием, откапывая для себя преинтересные документы), но он позволял себе много больше. Эта его независимость, колкость, насмешливость бесили уже Воронцова. Начальник края не позволял себе снизойти до прямых пререканий с этим распущенным молодым человеком, ибо и самые страсти графа Михаила Семеновича были организованными, и он лишь порою ронял несколько слов уже с неприкрытой надменностью. Вызвать за это его на дуэль? Невозможно. И Пушкин тоже ронял… эпиграммы.
Что–то сгущалось не только в личном одном бытии самого Пушкина. Потерпел крушение генерал Орлов. Да и всюду так. Даже Денис Давыдов, прирожденный военный, вышел вчистую.
Город был полон рассказов о смотре войск второй армии Витгенштейна. Государь остался доволен и всех осыпал милостями. Окончательно забыта была и дуэль Киселева с генералом Мордвиновым, который был им убит. Об этой дуэли также спорили много, и Пушкин горячо ратовал за убитого, доказывая, что он проявил более чести, вызвав лицо, стоящее выше его по службе. Горячность эта была многим понятна, но сам он не высказывал, однако же, и другой важной причины, почему Киселев так его раздражал: лишь недавно ему стало известно, что Владимир Раевский был арестован именно по его приказанию. Как бы то ни было, Киселев остался любимцем императора.
Пушкин услышал также и о Павле Ивановиче Пестеле. Год тому назад ему дали совершенно расстроенный Вятский полк, и за один год он привел его в образцовый порядок. Царь отозвался: «Превосходно! Точно гвардия». И пожаловал Пестеля, в числе других, арендою в три тысячи десятин земли.
Пушкин ни на минуту не усомнился в полковнике Пестеле. Но какова ж должна быть его выдержка, и… для чего он себя бережет? И ужели же государь так–таки ничего и не подозревает? А между тем в армии было до сорока человек разжалованных офицеров и, невзирая на то, что за них просил сам Киселев, — согласившись на все другие его просьбы, в этой одной император ему отказал.
Порою Пушкину казалось, что ничего так–таки никогда в мире и не произойдет. Он завидовал Байрону, уехавшему сражаться за свободу Греции, но и в Одессе он видел одну неприглядную изнанку греческого движения. За Пиренеями французские войска разгромили революционную Испанию, уничтожили конституцию и восстановили королевскую власть. Вождь революции Риего был казнен. Когда известие о том, что он заключен в тюрьму, было получено царем во время обеда после смотра и государь громогласно о том сообщил, Воронцов воскликнул: «Какая счастливая новость, ваше величество!»
В Одессе, как и там, за царским столом, все были смущены этою выходкой. Пушкин позже отвел себе душу убийственною эпиграммой, еще сгустив краски: новость в его стихах гласила не об аресте, а о казни Риего.
Сам государь такого доброхотства
Не захотел улыбкой наградить:
Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить
И в подлости осанку благородства.
С Александром Раевским Пушкин виделся часто. Они много и о разных вещах говорили. Пушкин читал ему «Бахчисарайский фонтан». Поэзия до этого слушателя доходила с трудом, но тем интереснее были отдельные его злые замечания. Он очень издевался и хохотал над «обмороком в бою» хана Гирея и с наслаждением повторял:
Он чисто в сечах роковых
Подъемлет саблю и с размаха
Недвижим остается вдруг,
Глядит с безумием вокруг,
Бледнеет, будто полный страха,
И что–то шепчет, и порой
Горючи слезы льет рекой.
— Хорошо, что хоть слезы порой проступают, а то совсем статуя, монумент.
Пушкину трудно было что–нибудь возразить. Ему живо вспомнилось, как в Юрзуфе однажды он так же задумался над неподвижным своим черкесом, который, невзирая на это, «шашкою сверкал».
— Ты прав, — отвечал он Раевскому. — Молодые писатели вообще не умеют изображать физические движения страстей. Читателя это может смешить.
Александр Николаевич был доволен, но все не унимался:
— А впрочем, и слезы его делу не помогают. Это просто какой–то второй бахчисарайский фонтан: монумент, источающий влагу.
Пушкин на это ничего не ответил, но про себя подумал: «А что ж, это и критика, и неплохая моя находка!» Он очень ценил такие непроизвольно возникавшие соответствия, и стихи остались, как были.
Но гораздо все было тяжелей и мрачней, когда разговор заходил о политике — тут же или в какую–либо другую из встреч: «Печальны были наши встречи…»
Оба они опять вспоминали письма Орлова к Александру Раевскому на Кавказ. «И я очень думаю, что девятнадцатый век не пробежит до четверти без развития каких–нибудь странных происшествий».
— Это писал он мне в двадцатом году. Осталось немного до истечения четверти века. И что ж? Странные происшествия действительно уже наступили, но только… для самого Орлова. Он назначен «состоять по армии», а это значит теперь…
— В подмосковной?
— Вот именно! А это и значит теперь, — упрямо повторил Раевский, — состоять уж никак не по армии, а всего только «по фабрике и заниматься своими делами». Так он сам определил в письме к Катеньке. Вот и все «происшествие»!
Потом Александр Николаевич переходил к Греции, Италии, Испании. Везде народные движения были подавлены. Так неужели у нас что–либо подобное могло бы иметь успех? Он говорил с сарказмом и злостью. Морщина между бровей, унаследованная им от отца, становилась все резче, он был так худ и костляв, что в сумерках, при своем высоком росте, становился похож не на человека, а на обитателя иного мира, злого духа, клевещущего на земной мир, презирающего вдохновение и называющего пустой мечтой все прекрасное.
В такие минуты Раевский становился почти страшен. Пушкин зажигал свечи, но редкие тени делали выражение лица его еще более зловещим. И Пушкин гасил свечи. Так ему легче сопротивляться.
Позже, ночью, он размышлял о царе Александре и Наполеоне. Владыку Севера, принесшего миру тихую неволю, и этого всадника, пред кем склонились цари, казнившие его позже мучением покоя, — ему хотелось вызвать их на очную ставку. Строки ложились на бумагу одна за другой, но замысел этот так и остался недовершенным.
Пушкин и сам прикован был к одному месту, испытывая великую духоту этой «тихой неволи» и мучаясь «мучением покоя», а речи Раевского могли довести до отчаяния.
Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды…
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
Был уже поздний час. Лампа под абажуром очерчивала магический круг света, вырывая его из полутьмы и как бы отъединяя от беспокойного суетного бытия, мешающего сосредоточенности думы.
Жизнь Пушкина и в Одессе текла пестро и шумно, более шумно и пестро, чем в Кишиневе. Это давало забвение, и это же рождало порою горькие мысли. Новые люди здесь, с которыми ему приходилось общаться, как–то не были еще им «обжиты». После того как внезапно оборвалось с Амалией Ризнич, образовалась в душе пустота, которую не заполняли светские встречи. Все напрягавшаяся глухая борьба с Воронцовым, из которой не видно было исхода, томила и раздражала одновременно.
Сегодня он никуда не выходил, читая, раздумывая, глядя в окно. Ночью, сейчас, родились эти стихи. Так он до сих пор и не ответил Владимиру Федосеевичу Раевскому… Он думал и о нем, и о себе, когда писал эти строки. Но неужели ж таков его отклик на голос «певца из темницы?» Он вспомнил, как у Липранди, отвернувшись к окну, читал послание Раевского. «Бичей кровавый род»… Эта строка и тогда уколола его, вонзившись, подобно стреле, и вот снова она зазвенела в душе, но слова преломились в нем по–иному: из рода в род народам даны ярмо да бич…
«Свободы сеятель пустынный» — да это он, Владимир Раевский. Пушкин не писал ни во втором, ни в третьем лице, он говорил как бы от себя и о себе, но это были именно думы Раевского. В воспоминании вставала кишиневская школа и стриженые головы мальчиков. Да, это он «Рукою чистой и безвинной — В порабощенные бразды — Бросал живительное семя»… Никто сам о себе так бы не мог сказать, но Александр вкладывал ему эти слова так, как он его видел, как его понимал и воспринимал. И было бы жестоко и невозможно писать: «Но потерял ты только время»… А дальше… дальше Пушкин дал себе волю и восклицал уже от себя самого, изливая всю горечь и боль своих размышлений.
Горечь была за Раевского, и за себя, и еще гораздо шире, общее… горечь за всех неудачников революций, восстаний. А толпа? Пушкин помнил рассказы о небывалом подъеме в дни Ипсиланти, и именно здесь, в той самой Одессе, что ныне полна благоденствующих лавочников и торгашей, как бы совсем позабывших о далеком своем несчастном отечестве.
Он, конечно, не смешивал их с подлинным народом, и он не переменился в своих убеждениях, чувствуя эту народную боль, как свою собственную. И, призывая народы пастись, он вкладывал в этот призыв гневный сарказм, он кидал его как сознательно наносимое оскорбление. Это и было бы, может быть, в руках его самым острым оружием, но где и как его применить, кто поэта услышит и куда долетит этот листок, освещенный магическим кругом отъединения?
Пушкин не видел себя со стороны. Он был небольшой, черный, курчавый и легкий. Сжаты: губы, рука; одна нога легла на другую; глаза не мигают; почти статуэтка похожего на негритенка русского мальчика. Он не мальчик уже; но такую вот напряженность мысли, соединенную с самоотверженной чистотой цельного чувства, знает, быть может, одна только ранняя юность. И та рука, что была сжата, разжалась: пальцы переплетены, и это без слов что–то крепит и утверждает в душе.
Так, подобно морю, на берегах которого жил, душевная жизнь Пушкина была беспокойна, и множество противоречивых или кажущихся таковыми движений в нем возникало: тоска и хандра, о которых писал в письмах и что отмечал Липранди; покорность Александру Раевскому и одновременный бунт против него; страстное увлечение Амалией Ризнич, в котором топил себя, как в вине, и вот — глухой этот обрыв; и непрерывная невидимая дуэль с Воронцовым; море, движение и тяга туда, за пределы родной земли — все, что заказано в его положении изгнанника, — и вместе с тем собственный внутренний мир, полный чувства и мыслей, звуков и образов, мир, где он свободен.
Пушкин любил и часы архивных занятий. Здесь Воронцов ни в чем его не стеснял.
Осень. Все раньше темнело, но короткие дни полны были солнца и света, — благословение юга. Библиотека огромна, в ней тихо, глянцевитый вощеный паркет; если ступит чья–либо нога — издали слышно. Но гостем, и то очень редким, был здесь один Гунчисон, доктор–старик, вывезенный Воронцовым из Лондона. Он был глуховат, но еще того более притворялся глухим. Он не любил разговаривать, и исключение делал только для Пушкина.
Так и сейчас. Гунчисон только что вышел. Он писал большое исследование об атеизме, и его рассуждения Пушкину были весьма любопытны, но, оставшись один, тотчас Александр склонился над старою, уже пожелтевшею рукописью, которая еще более его занимала и из которой делал он выписки.
«Сие последнее чувство, чувство речи, я старалась подавлять в себе несравненно более других. Моя природная гордость, естественный закал души моей делали для меня невыносимою мысль быть несчастною. Я говорила самой себе: счастие и несчастие в сердце и в душе каждого человека; если ты чувствуешь несчастие, стань выше его и действуй так, чтобы твое счастие не зависело ни от какого события».
Пушкин задумался. Тут было что–то, что открывало автора записок с несколько неожиданной стороны. Это была мудрость женщины, которая ставила счастье превыше всего. Как далеко это хотя б от того ж Гунчисона, для которого превыше всего истина, мысль.
Выписки делать Пушкин, однако ж, не стал. Он поглядел еще рукопись — там и тут, остановился и, улыбнувшись, стал, не спеша, длинным ногтем мизинца водить строку за строкой. Все наконец разобрав, он быстро карандашом начал писать.
Была тишина, но Пушкина что–то слегка заволновало. Он ощутил беспокойство, но продолжал переписывать, не отрываясь. Странно: как если бы от самой бумаги, которой касалась когда–то рука императрицы, шел еще запах духов… Так далеко его еще никогда не увлекало воображение. Он поднял голову и в ту же минуту почувствовал легкое прикосновение веера. Он обернулся и в изумлении увидел позади себя графиню Воронцову.
— Елизавета Ксаверьевна, вы? Я не слыхал, как вы подошли…
— Я вам не хотела мешать. Что вы читали… писали?
— Это «Записки Екатерины». — И, закусив губу, покорствуя внезапному побуждению, он протянул ей листок.
Елизавета Ксаверьевна быстро пробежала глазами несколько строк, и ниже еще несколько строк…
«…Я сказала о том, что я нравилась; стало быть, половина искушения заключалась уже в этом самом; вторая половина в подобных случаях естественно следует из самого существа человеческой природы; потому что идти на искушение и подвергнуться ему — очень близко одно от другого…
…Человек не властен в своем сердце; он не может по произволу сжимать его в кулак и потом опять давать свободу…»
Да, Воронцова, так чудесно неслышно приблизившаяся, и вблизи была, как видение. Свободное платье, серебристое, матовое, не облегало ее, и вея она возникла для глаза в какой–то колеблемой дымке, и только на тонкой цепочке низко спускавшийся крестик теплел на ее приоткрытой груди. Она подняла глаза и, улыбнувшись, подала листок Пушкину. Щеки ее чуть зарозовели.
— У вас удивительно неразборчивый почерк, — сказала она. — Ничего не понять.
Однако улыбка ее говорила другое.
— Ну, не буду мешать. Заходите к нам чаще. Не надо, не провожайте.
Пушкин глядел ей вослед, как ступала она по солнечным пятнам паркета, непринужденно легко, но теперь, уже все–таки слышно, и думал, почти уж не мыслью, а биением сердца: эта дама… эта графиня, которой недавно был он представлен… как же он сразу тогда не увидал… и не понял? Но в нем билось и другое еще: «Да, человек в сердце своем… нет, он в нем не властен».
Здесь, в Одессе, было много людей, с которыми он непрестанно общался, значительно больше, чем в Кишиневе. Но немногие кишиневские знакомые занимали в душе его более важное место, ибо входили в самую его потайную и напряженную жизнь. Тут же многое множество было светских знакомых, но отношения с ними не оставляли — никакого следа, бегло скользя по душе.
Не без интереса он наблюдал крупных чиновников из окружения Воронцова. Были среди них и подлинные раритеты: скупцы и расточители одновременно; блестящие красавцы и законченные тупицы, сочетавшие оба эти качества в какой–то счастливой гармонии; администраторы–гастрономы, которые не ели только тогда, когда говорили, а впрочем, и говорили исключительно длинно и нудно. Кое–кто и среди них, само собой, выделялся — отдельные экземпляры, законченно неприятные.
Таков был хотя бы Брунов, из остзейских баронов, человек с огромною страшною челюстью, которая казалась еще страшней оттого, что он обладал самыми изысканными манерами и чарующей льстивою французскою речью. Еще в Бухаресте он был пойман с поличным и уличен в воровстве, но как–то вывернулся. Как мог его Воронцов принимать в интимном кругу — это было загадкой. А планы Брунова были обширны. Пушкин от Вигеля слышал, что он был не прочь свалить Казначеева, правителя канцелярии наместника и честного человека, и, сев на его место, править всеми делами. Вигель, коварный хитрец, пользуясь тем, что Брунов по фамилии его самого числил за немца, однажды подлил масла в огонь.
— Нас маловато, — сказал он, вздохнув. — Еще бы остзейцев сюда, а то и из самой Германии, да все бы места повидней заполнить своими.
— Да это можно и после, — ответил барон.
Но ежели такой внушительный тип ничего не мог возбудить, кроме гадливости, то что же, разве запомнить еще живой анекдот, как некий Марини, похожий на червяка в вицмундире, питавший болезненную страсть к орденам и наградам, — как однажды он так приставал к Воронцову о представлении его к какому–то ордену, что тот почти выбежал в сад, а Марини за ним и в сад — с чернильницей и гусиным пером. Воронцов обернулся:
— Ну как же я здесь, любезнейший, подпишу? Марини не растерялся и, изогнувшись, подставил спину вместо стола.
Что могли Пушкину дать эти люди? Пусть интересно — порою смешно, порою противно, а для души — ровно ничего.
Из семейств, в которых Пушкин бывал, самым приятным было семейство Бларамберга, уроженца Бельгии. Сам он археолог, с ним разговор интересен: он великий знаток всех черноморских древностей. Они вспоминали вместе развалины храма Дианы, и гору Митридата, и даже самого керченского Павла Дебрюкса, которого Бларамберг, смеясь, причислял также к древностям.
У него бывало всегда полно гостей. Старшая дочь его была за испанцем, консулом; за столом одновременно говорили на нескольких языках — по определению Пушкина, «настоящее вавилонское столпотворение»:
— Жалко, что я арабский забыл. Без него чего–то не хватает!
Туманский, поэт, сверстник Пушкина, очень смеялся и говорил в свою очередь:
— А я очень жалею, что я канцелярский чиновник и только немножко поэт, а хотел бы я быть…
Пушкин быстро его перебивал:
— Консулом! Знаю.
Туманский весьма и весьма ухаживал за девицами Бла–рамберг, но о женитьбе вряд ли серьезно мечтал. Глядя со стороны, можно было, пожалуй, подумать, что и Александр Сергеевич красивыми этими девушками несколько увлекался, но он с ними только болтал, танцевал, принимал участие во всяческих играх и забывал сию же минуту, как выходил за порог. Так и Василий Иванович Туманский был ему мил, но и только.
Все эти люди и встречи, при всем их разнообразии, походили на слитный гул волн и были как фон, аккомпанемент подлинной музыке чувства. «Записки Екатерины», тишина библиотеки, под солнцем паркет — вот что стояло в душе, не умирая. И словно бы музыка, тогда возникшая в нем, все возрастала и ширилась, заполняя собою всю жизнь. Этого Пушкин еще никогда не испытывал: он всюду с собою носил это светлое облако, улегчавшее самую его поступь. Порою внезапно, между чужими людьми, для них непонятно, он улыбался себе самому — тому, что в душе.
Пушкин часто теперь бывал и у Воронцовых. В бильярдной у графа бывали его приближенные, графиня принимала в гостиной: Пушкин с Раевским всегда там. Из дам у Елизаветы Ксаверьевны особенно часто бывала Нарышкина, за которою, впрочем, очень ухаживал и сам Воронцов, да еще Башмакова, вздорная внучка Суворова (так нередко бывает с потомками великих людей). Все они были между собою в родстве. Иногда заходил и граф Ланжерон, предшественник Воронцова в звании наместника края, «француз, воевавший против французов», как шутя про него говорили одесские остряки.
Беседа текла непринужденно — по–французски, по–русски, немного по–польски (дамы между собою). Граф–эмигрант душою здесь отдыхал. Он до сих пор пребывал в очень большом смущении от того прискорбного обстоятельства, что ему предпочли Воронцова,(и нового начальника края за это неолюбливал. Здесь же, меж дамами, был он по–прежнему в полной красе, здесь он был кавалер. Годы щадили его, и по фигуре он выглядел совсем молодым. Когда говорил на родном языке, был остроумен, галантен, изяшен, но у него была слабость думать, что он в совершенстве знает и русский язык, и даже «йязик простолью–динофф».
К Пушкину он чувствовал слабость, может быть, и потому, что наблюдал, как молодой человек независимо держит себя по отношению к Воронцову. Но, кроме того, этот юноша шестидесяти лет вообразил, что и ему самому на досуге не поздно еще стать писателем.
— Я вам на днях пьередам мою трагедию. Но скажите мне, когда у вас один стьих хорош, вы не меньяете его на другой, который нье лучше?
— Даже плохой на плохой не меняю, — отвечал, смеясь, Пушкин; он хорошо понимал, о чем идет речь.
Но Ланжерон не очень–то вслушивался, продолжая свое:
— Ну и вот, а чьеловека на чьеловека меньяют! Так–то и променьяли кукушку на йястреба.
Так эта мысль о Воронцове его не покидала, и он отбывал в сторону дам, дабы там отдохнуть на каком–нибудь изысканном каламбуре.
Пушкин в гостиной Елизаветы Ксаверьевны не был похож на Пушкина хотя б у Орловых в далеком теперь Кишиневе. Он не шумел не горячился, не был в центре внимания и никак к тому не стремился. Он, казалось, спокойно уступал первую роль Александру Раевскому, и тот, при всем своем остром уме, не догадывался, что позиция Пушкина была выгоднее, хотя о какой–то там «выгоде» притихший поэт нимало не думал. Он ничего себе не позволял, ни малейшей вольности, после той единственной, которую допустил внезапно, порывисто, в библиотеке с «Записками Екатерины».
Елизавета Ксаверьевна не показала тогда ни малейшего неудовольствия. Даже напротив — казалось, сама она рада была этой открытости чувства. И все же сам Пушкин от этого именно чувствовал не смущение — нет, и не робость, — он чувствовал правду той именно формы своего внутреннего состояния, которое ему не хотелось нарушить, как абсолютно безошибочно чувствовал форму стихов, выражавших именно то, что он хотел выразить.
Это видимое спокойствие его не было все же простой тишиной, и лишь отчасти было некоей завороженностью самым присутствием Елизаветы Ксаверьевны, взглядом ее, улыбкой иль звуками голоса, это была очень полная внутренняя жизнь с непрерывным и гармоническим нарастанием чувства. Но он его сам не ускорял, никак ничего не форсировал, он знал, что все будет.
Графиня порою сама вовлекала его в разговор, порою лишь взглядывала и оставляла в покое. Он ловил этот взор, внимательный, ясный, и казалось ему, что она все понимает и что, как и он, так же она знает: все будет!..
От этой их общей уверенности вскипало в груди, и он поднимался и отходил быстро к окну. За стеклами там — ночь стояла над миром, небо и море не были отъединены, и одни и те же звезды были на глубине и в вышине. Этому космосу он открывался до дна, как самому себе.
Но и разум его не покидал, только и разум этот был как бы особенный разум, тонкий и светлый, не нуждавшийся в выводах, облекаемых в слово. В эти минуты грань между чувством и мыслью почти совсем исчезала, но все же он, понимал свою радость, совершенно подобную той самой радости, какую испытывал, находя новую форму в поэзии, в творчестве. Так и чувства его были богаты и многогранны, как и весь внутренний мир его творчества; и звезды сияли и там, и здесь все те же одни — вечные звезды.
Подобные состояния долго не длятся — можно сгореть, испепелиться, к Пушкин как бы сходил снова к людям. Этого — нет, невозможно отнять. О» был спокоен. И снова он мог легко и свободно дышать, и говорить, и даже болтать. Где–то внутри покоилась огромная радость и тайна, а внешне это обертывалось доброй благожелательностью ко веем этим людям, открытою живостью. Он ничему не изменял, но он не мог не лучиться, не искриться. И она, казалось ему, понимала и это.
Да будут благословенны записки императрицы Екатерины!
Глава двадцатая «САЛЮТ»
Зима была шумная, пышная. Новый начальник края давал; бал за балом, блистательно открывая свою эру. Пушкин на этих празднествах и веселился, и злился, предавался тоске и чувству блаженства — попеременно.
Если в Одессе вся эта масса знакомых людей возбуждала одно лишь его любопытство, то с тем. большею силой нарастали в нем два противоположные чувства к чете Воронцовых: страстное чувство любви к графине Елизавете Ксаверьевне и острое чувство ненависти к графу Михаилу
Семеновичу. А на этих балах они были оба — хозяин, хозяйка. И оттого все становилось особенно сложно.
Это не был вечер в гостиной Елизаветы Ксаверьевны, и не был короткий деловой разговор на стороне с высоким начальником. И там все было разно, но все было ясно по–своему, все стояло на месте. В гостиной порою он начисто забывал о самом существовании графа. Здесь он был нервен. Перед ним были муж и жена, и только так их видели все окружающие. Для него же это было невыносимо. А сам он? Он был почти что никто. Порою и здесь об этом он забывал, но когда внезапно или сам Воронцов, каким–нибудь словом, похожим на жест, указывающий человеку его надлежащее место, или другой кто–нибудь из чиновной верхушки давал ему вскользь понять это же самое, Пушкин вскипал от обиды, от гневного сознания несправедливости. И тут он давал себе волю — чувствам, словам, эпиграмме, — ни с кем и ни с чем не считаясь.
А Елизавета Ксаверьевна? В такие минуты он забывал и ее. А ей, как хозяйке, могло это быть и неприятно. Он обрывал сам себя и отходил от собеседника. Ему становилось неловко за проявленную им несдержанность, хотя это и не было его основным ощущением. Он страдал от того, что она может его не понять, что она в эту минуту может быть с теми, кто сам его вызвал на подобную вспышку. С ними? — она? — против него?
И он избегал ее, боясь подтверждения своих подозрений, но вдруг ловил этот взгляд — светлый и… понимающий. Порою в глазах ее пробегал огонек, как если б она даже и одобряла: «Так им и надо. И поделом!» И снова все расцветало вокруг, и становилось легко, упоительно… И как только мог он подумать! Но даже и самое раскаяние это было светло. Не надо терзать ни других, ни себя!
И вот снова был бал! Искрился, переливаясь, хрусталь от сотен свечей, играло в бокалах вино, светились глаза. Под музыку двигалось ритмически плавно множество пар, блистая мундирами и орденами, щелкая шпорами, шурша и благоухая шелками. Но, как все на свете, — как непохоже одно на другое! Празднества в Каменке, где было никак не меньше богато, но где рядом с этим, над этим пылал настоящий костер возвышенных мыслей и чувств, где строились планы великих событий в жизни страны; или балы в Кишиневе у Варфоломея — также на святках, — где все, напротив, так было открыто и простодушно, что дева Пульхерица, казалось, цвела, как цветок на лужайке, и знойным ветром степей врывалась туда же цыганская песня… Тут было все по–иному, напоминая разве, отчасти, Тульчин.
Настоящего бала в Тульчине при Пушкине не было. Но он отчетливо и там ощущал ту же самую «музыку сфер», где у всякой планеты, у каждой звезды были свои точно определенные орбиты. А Пестель? Павел Иванович Пестель был сам по себе, сам он был центром особой, малой вселенной. И Тульчин остался для Пушкина — в памяти, в жизни — связанным вовсе не с Киселевым, а именно с Пестелем.
Мир был велик, и мир одновременно был тесен. Красавицу Ольгу Нарышкину, неизменно бывавшую у Воронцовых, Пушкин знал именно еще по Тульчину. Сестра ее Софья была замужем за Киселевым, и ею весьма увлекался друг Пушкина, Вяземский. Ольга, гостя в Тульчине, завязала роман с мужем сестры. Кажется, было похоже на то, что в Одессе теперь то же самое повторялось и с Воронцовым, двоюродным братом ее мужа. Пушкин раз вспомнил, как его вызвал перед высылкой, из Петербурга граф Милорадович, генерал–губернатор. Ольга Нарышкина слушала и смеялась:
— Когда б я про то была извещена, мне довольно бы было одного движения пальца, чтобы поэту помочь…
И она поводила изящным мизинчиком; и на нем блеснул изумруд; и блеску его надобно было верить: у Ольги Нарышкиной был роман и с Милорадовичем. Можно было подумать, что она была своеобразным коллекционером.
На балах у Воронцовых Пушкин встречал и старых знакомцев: тут был и Павел Сергеевич Пущин, осевший и полинявший, и генерал Сабанеев. Этот крохотный живчик, однако же генерал от инфантерии, всех насмешил на январском костюмированном балу странным своим нарядом. Он явился во фраке, прикрепив к нему множество иностранных орденов. Они сверкали, звенели, цеплялись один за другой, и сам он, маленький, с развевающимися фалдами фрака походил на какую–то юркую мушку, вымазавшуюся в меду и шныряющую между людей, чтобы стереть с себя эти блестящие пятна.
Впрочем, на сей маскарадный костюм очень обиделись консулы многих иностранных держав. Позже стало известно, что и сам государь опереточным этим выступлением своего генерала остался весьма недоволен. Пушкину же выходка Сабанеева, напротив того, очень понравилась.
— Что ж, — говорил он, смеясь. — Ведь русского ордена он ни одного не надел!
Пушкин не думал, что об этом известном ему персонаже скоро придется ему задуматься совсем с другой стороны. Но пока никакие тяжелые мысли его не смущали. Он отдавался самозабвенно мечтам… Еще двенадцатого декабря, на «великом балу», как он сам для себя называл это празднество, из графининых уст он услышал нечто, его весьма взволновавшее. Всем было известно, что Воронцов в Крыму покупал земли. Он приобрел, между прочим, и отделывал заново тот самый дом в Юрзуфе, где Пушкин в двадцатом году был вместе с Раевскими. Работы шли быстро, и на зимнем балу уже говорили о лете и мечтали О дивной поездке морем в Юрзуф.
Воронцов приглашал, и приглашал широко. Мимо него он, однако, прошел, как если бы на том месте не было даже и стула. Что–то замерло в Пушкине, и что–то тотчас загорелось. Но он подавил это чувство и постарался, чтобы его никто не заметил. И вот мимо гостей к нему подошла Елизавета Ксаверьевна. Легкая краска проступила у нее на щеках.
— Вы не слышали, кажется, новость, — сказала она с великолепной непринужденностью. — Мы решили летом устроить большую поездку в Юрзуф. Вы знаете эти места и даже знаете дом. Я была б очень рада услышать ваше согласие сопутствовать нам.
Пушкин слушал, и сердце его билось шибко, тревожно.
— Но, графиня…
Она остановила его легким движением руки.
— Когда я приглашаю своих друзей, мне не хотелось бы слышать никаких «но».
Он молча ей поклонился. Она прошла дальше.
Так вышло все это по–особенному. Если бы просто пригласил его Воронцов, как пригласил Олизара и даже Туманского, — тоже поэтов, — то это было бы просто нормально и, конечно, приятно. Но приятность вся заключалась бы лишь в перспективе этой летней поездки. Теперь же было нечто совсем другое: он приглашен — вопреки! И графиня его пригласила в числе своих друзей. А потому это была еще и радость победы.
И уже через неделю он даже звал Вяземского — словно к себе — провести предстоящее лето в Крыму, «куда собирается пропасть дельного народа, женщин и мужчин».
О, скоро вас увижу вновь,
Брега веселые Салгира!
Но в эти же зимние дни Пушкина глубоко взволновала и еще одна новость, уже совершенно другого рода. Он узнал от одного из чиновников, что в Одессе задержан был младший, любимый брат Владимира Федосеевича Раевского, пробиравшийся в Тирасполь, чтобы как–нибудь повидаться там с узником. У молодого человека документы оказались не в порядке, и его арестовали. Вся эта история Пушкину тяжело легла на душу: это было жестоко, бесчеловечно; это была отвратительная изнанка всего этого блеска мундиров, увешанных орденами…
И снова несколько дней Пушкин ходил с мыслями о далеком друге своем, томящемся в заточении. И это не было мыслями только о нем. А те мысли, идеи, за которые он пострадал? Это великое дело, за которое отдавал свою жизнь? Ах, сколько раз он отводил себе душу в беседе — воображаемой — с тираспольским узником, но это были беседы лишь с самим собою.
И вот как раз в эту пору из Бессарабии вернулся Липранди. Он из поездок своих всегда привозил интересные новости. На сей раз он рассказал про одного старика, которого видел в Бендерах. Старик этот будто бы помнил Мазепу и Карла Двенадцатого. Слухи ходили, что в Варнице, на берегу Днестра, совсем недалеко от Бендер, была могила Мазепы.
— А как зовут того старика?
— Представьте, его фамилия — Искра.
Пушкин в Киеве был на могиле полтавского полковника Ивана Ивановича Искры, которого обезглавили вместе с Кочубеем в местечке Борщаговке, близ Белой Церкви, имения Воронцова. От Александра Раевского, прожившего там почти весь прошлый год, Пушкин слышал кое–что из местных преданий, сохранившихся о Василии Кочубее и его дочери, об Искре и о Мазепе. История Украины всегда живо его интересовала. И вдруг: «Представьте, его фамилия — Искра!»
— Да сколько же лет тому старику?
— А я считал, по моему расчету выходит ему около ста тридцати пяти лет.
— А на вид?
— Представьте, на вид всего лет шестьдесят. Бодрый, здоровый.
— Иван Петрович, возьмите меня с собою в Бендеры! Так Пушкина поманила возможность вновь побывать в Бессарабии.
Липранди этой своей статридцатипятилетнею редкостью, лицезревшею знаменитого короля–воина, заинтересовал и Воронцова. Граф приказал ему, чтобы бендерский полицеймейстер Бароцци вызвал к определенному сроку Искру в Бендеры, он сам пожелал его видеть. Все это было исполнено, и через две недели, вернувшись снова в Одессу, Липранди доложил о том Воронцову. Граф прособирался два дня, но дела его не пустили, и он разрешил Пушкину эту поездку.
Воронцов охотно разрешил бы беспокойному своему подопечному поездку куда–нибудь и подальше, а самое лучшее, если бы и совсем убрали его из Одессы… К обычному недовольству графа присоединялись теперь и новые раздраженные чувства. Не то, чтобы Елизавету Ксаверьевну серьезно уже он ревновал, но он считал глубоко неприличным и для себя оскорбительным, чтобы самое имя Пушкина могли поминать рядом с именем графини. А между тем его поминали и, больше того, намеками, полусловами и недомолвками давали понять о зарождавшейся этой близости и самому всесильному графу.
В этом было большое наслаждение для многих и многих. С одной стороны, это было выражением самых добрых, чувств к Воронцову — предостеречь, вовремя открыть глаза, с другой же — «ага, тут и вы, ваше сиятельство, не всемогущи… тут и вы, как все мы, грешные…» Воронцов однажды попробовал на эту тему заговорить, очень осторожно и сдержанно, с самой Елизаветой Ксаверьевной. Одним своим взглядом она его остановила: у него не было права с нею так говорить.
Как бы то ни было, для Пушкина снова дорога — по бессарабской земле… От. Тирасполя до Бендер всего десять верст. Но в воздухе уже зареяли ранние зимние сумерки. Липранди же должен был явиться еще к Сабанееву, и было решено в Тирасполе заночевать. Иван Петрович Липранди остановился у брата, Павла Петровича, и очень звал Пушкина с собой к Сабанею. Александр отговаривался, что надо почиститься, что ему очень лень, что он устал. Но генерал прислал за ним ординарца, и пойти все же пришлось.
У себя дома генерал Сабанеев казался совсем другим человеком, не тем, каким проявлял себя в служебных делах. Пушкин не раз уже отмечал эту черту у многих людей: снимая и надевая мундир, они соответственно как–то меняют и душу. Он, конечно, и дома так же был суетлив и подвижен и заставлял вспоминать чудачества его на балу у Воронцова. Но даже и эта «изнанка Суворова» была интересна. Пушкину очень к нему не хотелось идти, но раз уж попал, любопытство заговорило. Да и принял он гостя с радушием.
— И какой же вы мальчик еще! — певуче пропела Пульхерия Яковлевна, жена генерала, поглядывая на Александра, как на подростка.
— А мы, матушка, — ответствовал муж, — такие уж с ним рождены: из молодых, да ранние, из маленьких, да бедокуры!
Сабанееву очень нравилось, что и Пушкин подвижен, что и ростом мал; уже одно это в нем пробудило симпатию к молодому поэту. Генерал и его сумел вызвать на разговор, и сам болтал с удовольствием.
— Бендеры весьма замечательный город, — рассказывал Сабанеев. — И даже не тем, собственно, что у турок брали его мы три раза, — граф Панин брал, Потемкин брал и, наконец, взял Мейендорф, — а тем, государь мой, Бендеры весьма замечательны, что это город бессмертных. Да Иван Петрович вам, верно, рассказывал? Там, кроме солдат, никто не умирал от самого присоединения области и до сего дня. Но в чем тут секрет, открыл, собственно, я. И, коли хотите, я вам расскажу.
Как было не заинтересоваться этим рассказом!
— Изволите видеть, я получил здесь, в Буджаке, десять тысяч десятин земли. Государь пожаловал мне после смотра. Половину я тотчас продал главнокомандующему, а половину решил заселить. Все это события, можно — сказать, последних дней. У меня это быстро. В Тульской губернии подрядили мне однодворцев. Ну, приехали переселенцы, а двух семей нет. Видишь, их напугали: «Вас Сабаней закрепостит!» Пропали. Как иголку — не сыщешь. И вот бабы две прибегают, как сумасшедшие. Личики — так!
И Сабанеев уморительно представил, какие у них были личики, перекосив сам лицо, плечи, руки.
— Мужей их, видите, арестовали, и уже должен приехать палач бить их кнутом. Картинка, а? А таков городок! Он весь населен беглыми. А как кто умрет, его паспорт переходит к новоприбывшему: так по паспорту все и бессмертны! Вот и все. А этим новоприбывшим — меня испугавшимся, — достались паспорта несчастливые. Вот и все-с. Едва я их отстоял.
«А быть может, и Искра таков? — подумалось Пушкину. — И вообще прелесть какая: мертвые души — живые души… Сюжет!»
О Бендерах рассказы были неисчерпаемы. Особенно Сабанеев распространялся об изумительно ловких, искусных фальшивомонетчиках, обосновавшихся там же. Пушкин невольно вспомнил своего Полифема.
На другой день с утра оба, Липранди и Александр, были в Бендерах.
— А где же ваш Искра? — с живостью и нетерпением спросил Пушкин у полицеймейстера Бароцци.
— А там, — отвечал хозяин. — На заднем крыльце. Да вы не беспокойте себя. Мы его позовем, когда вы захотите.
Но Пушкин едва дослушал. «Искра!» Он не хотел терять ни минуты.
На заднем крыльце действительно стоял человек, высокий, громоздкий. Он опирался, немного пригнувшись, на большую дубину. Что–то страшно знакомое было в этой могучей спине. Неужели же?.. И эти рассказы о фальшивомонетчиках…
Пушкин негромко позвал:
— Полифем! Тот обернулся.
— Да какие же у тебя длинные ноги…
Старый знакомец по Крыму и Кишиневу — монах и разбойник — открыл уже было рот, но за Пушкиным скрипнула дверь, и лицо Полифема сразу стало бесстрастным. Александр, впрочем, все же заметить успел едва уловимое, но выразительное движение бровью и глазом, умолявшее его о молчании.
Им помешали: Бароции почел неприличным оставлять приезжего гостя из канцелярии наместника на черном ходу, и «Искру» позвали в квартиру. Пушкину очень пришлось себя сдерживать, но он обходился с монахом совсем как с незнакомым. Впрочем, по пути на место бывшей Варницы они успели потихоньку перекинуться несколькими словами.
Полифем в своей роли был неподражаем. Он очень точно все разузнав, как, по преданию, расположены были оковы, редуты, показывал и называл, как если бы видел все самолично.
— А короля шведского, господа мои, принял я даже с первого глаза за простого слугу. Яички я приносил, молочко, творожок. Так он выйдет, бывало, и каждое яичко — на свет!
Нельзя было не подарить престарелому «Искре», как когда–то в Крыму, ассигнацию за его на этот раз уже не мифологические, а исторические «воспоминания»; к тому ж Полифем для них потрудился, а это ему принадлежит мудрое изречение: «всякий труд должен быть благодарен»… Пушкину вспомнилось, между прочим, из рассказов Александра Раевского, что первый словесный донос на Мазепу Кочубей отправил Пегру через бродячего монаха Никанора… Как Русь еще не устоялась, как и доселе переливается с места на место, точно сама себя ищет в этих бродячих Полифемах и Лариных!
На обратном пути снова пришлось заночевать в Тирасполе. Иван Петрович Липранди уехал в Кишинев, а брат его, Павел Петрович, на другой день утром сообщил Пушкину, что Сабанеев разрешил ему повидаться с Владимиром Федосеевичем Раевским. Это известие было для Александра совсем неожиданным. Словно прочли его мысли. Он сюда ехал и думал: брата родного не допустили, а ему уже нечего и думать… И вдруг какой неожиданный оборот! Он осведомился об условиях свидания. Условия обычные: в присутствии коменданта или дежурного. Пушкин, немного помедлив, наотрез отказался, сказав, что спешит в Одессу к определенному часу. Это не было правдой, это было первое пришедшее в голову объяснение.
Пушкин принял это решение быстро, но оно было продиктовано не какою–либо одной единственной мыслью.
С какою бы радостью он повидался с Владимиром Федосеевичем! У него накопилось так много больных, острых раздумий, которыми если и поделиться, так именно с ним… Но разве же это возможно при посторонних? Это и было первою в нем вспыхнувшей мыслью.
Ну хорошо, а если бы даже и без посторонних? Что же, прочесть ему: «Паситесь, мирные народы»? Да ведь это — убить последнюю, хотя бы только «упрямую» бодрость. А делать лишь вид, что все идет не так–то уж плохо, — да разве это возможно? Да это просто и недостойно.
И другие еще, уже более житейские мысли переплелись в ту же минуту с этими основными, вырывавшимися из глубины. Он не забыл, что ведь не кто иной, как именно Павел Петрович Липранди производил обыск и арестовал Раевского в Кишиневе. Это всегда оставалось для него загадкой. С братом его, с Иваном Петровичем, несмотря на всю близость их отношений, он об этом никогда не поминал и для себя остановился на мысли, что младший Липранди просто исполнял приказание Сабанеева, которому, в свою очередь, приказали; все это называется коротко: служба! И, кроме того, Павел Петрович, как человек, был ему просто очень приятен…
Но когда он сообщил о возможности этого свиданья Пушкину и о том, что его разрешил сам Сабанеев, безо всякой притом просьбы, у Александра вспыхнули самые неприятные подозрения и по отношению к Сабанееву… А что, если это подстроено и чем–нибудь может Раевскому повредить? Раевскому, а может быть… А может быть, это ловушка и для него самого? И сам Воронцов так легко его отпустил!
И ему захотелось бежать из этого места, где все так неясно и где все обернулось так подозрительно.
Пушкин действительно знал теперь хорошо все «муравьиные ходы», как называл это Липранди, — все ухищрения и подвохи доносительского свойства, главною душою которых был Вахтен, начальник сабанеевского штаба. Но… надобно ли было со всем этим считаться?
Все эти мысли, одна пересекая другую, определили решение Пушкина, но главным было сознание того, что он не мог принести с собой подлинной радости, веры, подъема…
И все же мысль о том, что он как бы бежал от опасности, преследовала его до самой Одессы. Ему было не по себе. «Называл Орестом — и даже не повидался! Пестелю, может быть, надо себя беречь, а мне для чего?»
Он и позже долго не мог избавиться от этого горького ощущения, и, однако, в то же самое время он теперь уже знал свой жизненный путь и не томился более так, как это было в начале его пребывания на юге. Он постепенно пришел к одной мысли и в ней утвердился: как и Владимир Раевский, Пестель, Орлов, как при жизни Охотников вел, — так же и он ведет ту же войну. И себя также должен, быть может, беречь.
Но где ж его голос? Кто его слышит в пустыне?
И вот один случай смыл эту горечь.
Стояло уже лето двадцать четвертого года. Жизнь текла, как река, то быстрее, то медленней, делая изгибы и повороты. Не было Ризнич. Отбыла и Мария Раевская. Внезапно зато появился на короткое время ее брат Николай. Он был теперь уже в чине полковника и переходил из Сумского гусарского в Курляндский драгунский. Он хотел было взять с собой из Петербурга Пушкина Льва, но эта поездка не состоялась. Александр скучал по своему Левушке, ждал его, звал, да не так–то все это было просто.
Но милому другу своему Николаю Пушкин был искренно рад. Они сразу заговорили о тысяче вещей: о Петербургe, о Льве, о служебных делах Николая, об одесском бытии самого Пушкина; и вспоминали знакомство свое — как уже это было давно! — у Чаадаева в Петербурге, и совместное путешествие по южным степям и Кавказу, и незабвенные дни пребывания в Юрзуфе, куда собирались теперь Воронцовы…
Они говорили и не могли наговориться. Но чего бы ни касалась беседа их — быть может, от самого голоса Николая, от мягкой повадки его, — как теплое облако, снова в душе Александра подымалось и ощущение всей семьи Раевских. Он никогда их не забывал, но он не трогал в себе этих воспоминаний, в нем как бы покоившихся. Самое имя Марии — он не смел даже мысленно произносить это милое имя: так надлежало; это он понимал. И все же она именно особенно сильно его взволновала в этот приезд Николая Раевского.
Это была целая история. Бестужев в «Полярной звезде» напечатал «Элегию», те самые стихи, которые в Киеве читал он Марии и которые после того она прочла и сама. Она ему очень серьезно запретила печатать последние строки, а Бестужев, вопреки воле Пушкина, все же их напечатал. Томик «Полярной звезды», только что вышедший, привез как раз Николай, иначе он порядочно долго добирался бы почтой.
— Ты извинишь. Это понятно, дорогой я кое–что почитал.
Пушкин развернул книжку как раз на своих стихах и тотчас увидал:
Когда на хижины сходила ночи тень —
И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.
Краска ему бросилась в лицо. Но он сдержался и не издал ни звука, он только поднял глаза на Николая. Тот, к его изумлению, глядел с добродушной улыбкой и, видя, что Пушкин молчит, сам прервал это значительное и странное молчание.
— Таврида! — сказал он с большой мягкостью. — Как хорошо было там, и как были мы молоды!
У Пушкина несколько отлегло на душе. Значит, не нужно ничего говорить, ничего объяснять и углублять. Как с Николаем ни был он близок, он и ему не хотел бы доверить этой тайны своей. А и она ничего брату, стало быть, тоже не говорила. Да, тут все обошлось, но ежели она увидит сама?..
И в тот же вечер писал он Бестужеву, сильно черкая черновик письма: «Конечно, я на тебя сердит и готов с твоего позволения браниться хоть до завтра. Ты напечатал те стихи, о которых именно просил тебя не выдавать их в печать… Ты не знаешь до какой степени это мне досадно… Оне… относятся к женщине, которая их читала…» И он давал себе слово — по крайней мере в собрании стихов их никогда не печатать.
Так, не открывшись близкому другу, Пушкин легко говорил о том самом с другим человеком, правда, что милым, но несравненно менее близким, чем Николай. Больше того, через месяц тому же Бестужеву, коснувшись близкого выхода в свет своего «Бахчисарайского фонтана», он приоткрыл и еще какую–то сторону своих отношений к Марии, о чем также осторожнее было бы умолчать: «Радуюсь, что фонтан мой шумит. Недостаток плана не моя вина. Я суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины».
Пушкин, конечно, никак не мог предвидеть, что и эти строки его попадут в печать. Как–то случилось, что бесцеремонный Булгарин, — журналист, не стеснявшийся совать нос всюду, куда его только удавалось просунуть, — распечатал чужое письмо и тиснул эти самые строки в своих «Литературных листках». И это признание также могло попасть на глаза Марии… Пушкин был раздосадован, почти взбешен. Тому же Бестужеву он уже летом писал: «Признаюсь, одной мыслию этой женщины дорожу я более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики. Голова у меня закружилась».
Правда, в то время голова Александра кружилась от другого, казалось бы, целиком его захватившего чувства, но вот оказалось, что и Мария, отсутствующая, в нем не умирала, не отошла в область чистого одного воспоминания. И не могла отойти. Недаром единожды в жизни он ощутил, что это за слово семья — еще более полное, теплое, чем даже слово: любовь. Семья — это то, что объемлет всю жизнь; это то, чем незабываемо дано было ему насладиться именно у Раевских, и только у них.
Но все это было и — отошло и, может быть, в жизни никогда более не вернется. Приезд Николая дал ему радость еще раз вздохнуть этим воздухом: «Таврида! Как хорошо было там, и как были мы молоды!»
Впрочем, они и теперь были не стары! Беседы их далеко уходили за пределы житейского. Николай не только любил, но и понимал литературу. Пушкин очень прислушивался к его мнениям, и разговоры их совсем не были похожи на разговоры со старшим братом Раевским. Николай не любил критиковать по мелочам, он высказывался широко и принципиально, и то, что он говорил, никогда не было тут же рожденным остроумным экспромтом, а являлось результатом его размышлений.
За последнее время у Пушкина бродили мысли о драме; в «Цыганах», над которыми работал, веял уже дух трагедии. Говорили они и обо всем этом.
Но вот уехал и Николай Николаевич. Как бывает всегда, после отъезда стало более пусто и одиноко, чем до приезда. Теперь Пушкин стал поджидать Петра Андреевича Вяземского. Тот внял его приглашению и собирался приехать на лето в Одессу, прося подыскать ему дом. Но позже поездка расстроилась, и Александр ждал теперь одну Веру Федоровну. Конечно, и это было приятно, но у Пушкина не было в Одессе близкого друга. Отношения его с Александром Раевским очень усложнились. Порою Пушкину, и не без основания, казалось, что Раевский ревнует к нему Елизавету Ксаверьевну и, может быть, даже ведет против него прямую интригу.
Филипп Филиппович Вигель любил подливать масла в огонь. Финн по отцу, высокого роста, скуластый, медоточиво он говорил, сжимая в приятную (как ему думалось) каплю свой и без того крохотный ротик.
— А почему–то мне, Александр Сергеевич, все хочется сравнить вас с Отелло, а господина Раевского, Александра Николаевича-с, вот именно с Яго, другом неверным его…
Мысли эти и подозрения были мучительны. Гораздо открытее, откровенно враждебны, были его отношения с Воронцовым. И если в чувстве своем к Елизавете Ксаверьевне Пушкин вовсе не задавался вопросами: можно ль, зачем, что будет дальше (так все живое, покорное единственно голосу солнца, голосу жизни, не знает подобных вопросов), то граф Михаил Семенович не только что знал их, но и готовил ответы, резкие и определенные.
Борьба между ними все обострялась. Она была не равна. Вся страсть и весь гнев эпиграмм были оружием Пушкина, вся реальная сила была в руках властителя края. Впрочем, и Воронцов прибегал также к перу, и его письма в столицу властно подготовляли новое изгнание поэта.
Кроме того, граф не стеснялся третировать Пушкина как мелкого чиновника своей канцелярии. Так он послал его на борьбу с саранчой, что уж никак не входило в обязанности молодого «чиновника» его канцелярии и граничило с прямым издевательством. Пушкин, однако, должен был подчиниться. Но он твердо решил: если действительно он служащий, потребовать себе отставки. Он писал официальные письма при ближайшем содействии Александра Николаевича Раевского, но они только усугубляли невыгодность его положения.
И вот наконец последнее оскорбление — иначе нельзя это назвать, — Пушкин не был включен в списки приглашенных в Юрзуф. Яхта «Утеха», предоставленная наместнику главным командиром Черноморского флота Грейгом, торжественно отплыла из Одесского порта, оставив Пушкина на берегу. Из маленькой пушки дан был прощальный салют. Поездка эта откладывалась в течение целого месяца из–за болезни маленькой дочери Воронцовых. Но от Веры Федоровны Вяземской, которая как раз к этому времени прибыла в Одессу с детьми, он уже знал о резкой размолвке между супругами. В конце концов граф настоял на своем.
Пушкин был оскорблен, но одновременно почувствовал в этом проявление не силы уже, а слабости, даже… боязни… Это был выпад не только против него одного, а и против графини… Как теперь должно это их сблизить!
Он не ошибся и в этом своем предчувствии…
Скоро уже должна она и возвратиться. А пока Пушкин бродил по пыльной Одессе — часто один — с думами, с думами…
Ненадолго весною съездил он в Кишинев, но эта поездка его не освежила. В нем так нарастало желание, покинуть все эти места. Порою он думал и о побеге, но он не верил в побег. Думал о близких друзьях, общества коих лишен. Думал и о неверных друзьях… и, наконец, о себе. О работе, призвании, цели. О все прибывающих силах, которые порою почти физически чувствовал. И как же душа жаждала отклика! Если б он был, так все было бы хорошо!
И вот незадолго до вечера однажды, забывшись, он далеко зашел за город. Солнце стлало косые лучи, как бы удлиняя поля. Было безлюдно, пустынно. Александр шел, глубоко задумавшись, медленно, как очень редко ходил. Порою, и вовсе не замечая того, останавливался. Думы были без слов, но в них было все, что на душе наболело. Вот именно: где ж его голос? И кто его слышит в пустыне? Это и был самый острый укол, самая терпкая горечь.
Внезапно едва он не натолкнулся на какой–то предмет, и невольно тронул рукою: холодное. Холодное дуло орудия. Он машинально начал разглядывать пушки,
— Эй, кто такой? — послышался окрик.
Пушкин взглянул. Издали быстро к нему приближался молодой офицер.
— Что вы здесь делаете? Кто вы?
— Я Пушкин, — просто сказал он.
Офицер отдал ему честь и быстро побежал прочь, махая рукой и что–то крича. Весь лагерь встревожился. Пушкин несколько отошел, так как все бежали прямо к орудиям.
— Смирно! — закричал офицер. — Слушать команду! К орудиям! Приготовься к стрельбе. Пли!
Грянул залп. Офицер, с сияющим, красным от возбуждения лицом, подошел к Александру.
— Честь имею представиться, дежурный офицер Григоров.
Пушкин, улыбаясь, пожал ему руку.
— А зачем вы палили?
— В вашу честь, Александр Сергеевич! В честь любимого поэта России.
«И плащ его покроет всю Россию», — вспомнился Пушкину все тот же Вельтман. Он был очень расторгай. Легкая краска проступила у него на лице. Подошли другие офицеры. За ними на отдалении — солдаты.
— Идите, идите! Это же Пушкин. Это же дали мы залп в его честь.
— Спасибо. Спасибо вам от души. Но не пришлось бы вам отвечать из–за меня?
— Пусть и отвечу. Я рад, что так вышло. Мы чтим вас превыше начальства.
Григоров говорил несколько приподнято. Как на параде. Но это был особый духовный парад. Пушкин чувствовал это. Он и сам заволновался.
— Вы говорите, как истинный друг, — сказал он. — А у меня… у меня очень мало друзей.
— О, у вас много друзей! Мы знаем вас хорошо. Мы вас читаем.
Пушкину вспомнилось, как в недавнем своем «Послании цензору» он писал о себе, о поэте политических вольных стихов:
И рукопись его, не погибая в Лете,
Без подписи твоей гуляет в свете.
«Так в пригородной этой пустыне, где я гулял — еще до меня, как вижу, разгуливали стихи мои». И он улыбнулся.
— Что это там, неужели картошку пекут? — спросил он у Григорова. — Я давно уже мечтал… как у цыган. Это не нарушит у вас дисциплины?
— Дисциплина у нас не расходится с сердцем, — с тем же подъемом и с неподдельною искренностью воскликнул молодой офицер.
Пушкин побыл и у солдат, и в офицерском шатре. Этот костер — как на поле сражения; как на биваке — в офицерском шатре.
Посреди веселого чествования на Пушкина налетело облако задумчивости. Он вспомнил погибшего в Греции Байрона. Пушкин недавно еще в письме одному приятелю, жалуясь на разложение греков, которое видел в Одессе и которое его оскорбляло, все же писал: «Ничто еще не было столь народно (и подчеркнул это слово), как дело греков». Так он это и чувствовал. Он хотел писать и о Байроне, но не выходило пока.
Нет ветра — синяя волна
На прах Афин катится.
………………………..
Высокая могила зрится.
Об этом властителе дум хотелось сказать не так элегически — ярче, проникновеннее. Вот поэт, сочетавший свободу, лиру и меч!
Молодые хозяева заметили мгновенную задумчивость гостя. Все невольно притихли, и от наступившей вдруг тишины Пушкин очнулся. Чуть задрожавшей рукой он потянул над столом налитый бокал и произнес очень тихо:
— За Байрона…
— Павшего за свободу, — добавил Григоров.
В молчании все чокнулись, а через минуту беседа вновь загорелась с новою силой и оживлением.
На обратном пути Пушкин уже не шагал бы так медленно. Напротив того, была большая потребность одолевать быстро, легко любые просторы. Но его усадили в полковую тележку.
Было уже совершенно темно, когда подъезжал он к городу. Одесса мерцала огнями. Море ловило их отблески, дробило волнами, играло. Береговой бриз как бы подгонял Пушкина.
Но и мысли, и чувства его не были сейчас беспокойны. Напротив, внутри разогнало все тучи. И это не было удовлетворение, покоящееся в самом себе. Это было как мужественная ясность, готовность встретить все, что судьба пошлет на пути. За последние дни он предчувствовал расставание с морем, с Одессой, новое изменение жизни.
Ему казалось, что и эта военная молодежь, так радушно и так торжественно его встретившая, как бы вместе с тем и провожала его… И это вышло, пожалуй, покрепче, чем тот салют Воронцову! Да, что бы ни произошло, он получил сегодня удивительную крепость. Он существует не только в этом вот сюртуке, шляпе и сапогах. Его бытие и общение с людьми много шире. И он не один. У него есть друзья. Может быть, много друзей.
Александру сегодня видеть никого больше не захотелось. Весь остаток дня он провел у себя. Позднею ночью море зарокотало, как бы суля близкую бурю. А как хорошо умело оно по вечерам шуметь о любви! Словно в предчувствии скорой разлуки и расставания, Пушкин почувствовал, как весь этот год на морском берегу не походил на другие года его «сухопутного» пребывания на юге. Он был не впервые у моря, но в этот период жизни своей он как бы полностью носил его в самом себе.
Если «целый роман — три последние месяца», как писал брату Левушке, только что перебравшись в Одессу, то что же сказать про весь этот год, да хотя бы и — про одно последнее лето, мучительное и дорогое? О, этот роман он сохранит для себя. Пушкин любил отдаваться ветру воспоминаний. Самое близкое и сокровенное, собственную свою морскую стихию — он возьмет все это с собою в дорогу. Воспоминания эти уже и сейчас его волновали. Они возникали как бы капризно, но верные какой–то своей логике чувства. Они нарушали порою не только последовательность, но и самые пропорции времени, однако жив этом была по–своему правда. А дорога — дорога была неизбежна. От моря, легко колыхаясь, поднимался туман, и Одесса уже возникала как бы в дымке минувшего. Пушкин давно покинул тележку. Он у себя. Свет не зажжен. Но сквозь зыбкий туман и синеву набегавших, уже полусонных видений эта встреча за городом, этот «салют» — светили они, как маяк. Да, ни много ни мало — четыре минуло года. Да, будет дорога; близка. И будут воспоминания. Эту способность души человеческой Пушкин всегда очень ценил. Воспоминания не раз ему полнили жизнь. А порою они не менее живы, чем сами события, прошлое в них как бы гостит в настоящем. И, сопутствуя жизни, они не так скоротечны, как миг настоящего.
Так это и было, когда — очень скоро — Пушкин вынужден был покинуть Одессу и ехал на север — в Михайловское. Последние дни свои у синего моря — он увез их с собой.
1937–1953 гг.
© Художественное оформление. Издательство «Молодь», 1983. Новиков И. А. Пушкин на юге, — К.: Молодь, 1983. — 368 с.
Р 2 Н 73 Художественное оформление В. С. МИТЧЕНКО
Текст печатается по изданию: Иван Новиков. Пушкин в изгнании, М., «Советский писатель», 1962.
Редактор В. 6. Тимукина. Художественный редактор В. И. Пойда. Технический редактор С. Г. Орлова. Корректоры 3. М. Клещенко, Т. Н. Поливода, Л. В. Свириденко.
Информ. бланк № 1945. Сдано в набор 28.12.82. Подписано к печати 01.02.83. Формат 84X108 1/32. Бум. кн. — журн. Гарнитура литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. — 9,32. Усл. краскоотт. 19,32. Уч. изд. л. 21,86. Тираж 500 000 экз. (3‑й завод 300 001 – 500 000 экз.).Заказ № 3 – 405. Цена 1 р. 60 к. Подитрафкомбинат ордена «Знак Почета» издательства ЦК ЛКСМУ «Молодь». Адрес издательства и полиграфкомбината: 252119, Киев‑119, Пархоменко, 38 – 44. 70802 – 004 Н-Без объявления. М 228(04) — 83





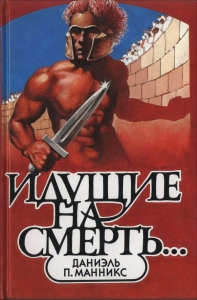



Комментарии к книге «Пушкин на юге», Иван Алексеевич Новиков
Всего 0 комментариев