Составитель Г. Кожевников.
Переводчики не указаны.
С. Пеллико Мои темницы
Воспоминания
Перевод с итальянского
Предисловие автора
Писал ли я эти «Воспоминания» из суетного желания поговорить о себе? Желаю, чтобы этого не было, и насколько каждый может быть своим судьею, мне кажется, что у меня были лучшие цели: содействовать утешению несчастных изложением тех бедствий, которые я перенес, и утешений, которые я испытал, доказав, что они могут быть получены и в величайших несчастиях; засвидетельствовать, что среди своих долгих мучений я не нашел, однако, человечества столь несправедливым, столь недостойным снисходительности, столь бедным людьми, обладающими прекрасной душою, как обыкновенно его представляют; побудить благородные сердца любить, а не питать ненависти ни к кому из людей, непримиримо ненавидеть только низкую ложь, малодушие, коварство, всякое нравственное унижение; повторить истину, уже известнейшую, но часто забываемую: только в религии и философии можно почерпнуть стойкую волю и спокойное суждение, а без сочетания этих двух условий нет ни справедливости, ни достоинства, ни твердых принципов.
I
В пятницу 13 октября 1820 года я был арестован в Милане и отправлен в С. Маргериту. Было три часа дня. Весь этот день, как и в течение следующих, меня долго допрашивали. Но об этом я ничего не скажу. Подобно любовнику, оскорбленному своей возлюбленной, я храню обиду про себя и, оставив политику, поговорю о другом.
В девять часов вечера, в эту несчастную пятницу, я был передан актуариусом тюремному смотрителю, который, отведя меня в назначенную комнату, любезно предложил мне передать ему часы, деньги и все, что только было в моем кармане, чтобы в должное время возвратить мне их, и почтительно пожелал доброй ночи.
— Постойте, любезный, — сказал я ему, — я сегодня еще не обедал, принесите-ка мне чего-нибудь.
— Сейчас, гостиница здесь в соседстве, и вот вы увидите что за вино там!
— Вино? Я не пью его.
Услышав такой ответ, синьор Анджиолино испуганно взглянул на меня, надеясь, что я шучу. Тюремщики, содержащие винную лавочку, боятся непьющих арестантов.
— Нет, в самом деле не пью.
— Мне жаль вас: вдвойне тяжелее будете чувствовать уединение…
Видя, что я не меняю своего решения, он ушел, и меньше чем через полчаса мне был принесен обед. Я немного закусил, выпил залпом стакан воды и остался один.
Комната была в нижнем этаже и выходила окнами во двор. Камеры здесь, камеры там, камеры наверху, камеры напротив. Я прислонился к окну и стоял там, прислушиваясь к шагам тюремщиков и к разгульному пению нескольких заключенных.
Я думал: век тому назад это был монастырь. Воображали ли когда-нибудь кающиеся девы, обитавшие в нем, что в их кельях раздадутся сегодня не женские мольбы, не благоговейные гимны, а богохульства и неприличные песни, что в этих кельях будут люди всякого рода и, большею частью, предназначенные к острогу и виселице? А через столетие кто будет жить здесь? О, скоротечность времени и постоянное движение вещей! Может ли тот, кто знает, кто понимает вас, печалиться, если счастье перестает улыбаться ему, если он умирает в темнице, если ему угрожает виселица? Я был вчера одним из самых счастливейших смертных, а сегодня лишен всего, что радовало и поддерживало меня в жизни: нет больше свободы, нет общества друзей, нет больше надежд! Нет, безумно обманывать себя. Отсюда я не выйду иначе, как не будучи брошен в ужаснейший вертеп или отдан на расправу палача! И что же? После моей смерти взойдет день и будет такой же, как если бы я умер во дворце и был погребен с величайшими почестями.
Размышляя таким образом о скоротечности времени, я ободрился. Но вспомнились мне отец, мать, оба брата, обе сестры, другое семейство, которое я люблю, как свое, и все философские рассуждения разлетелись в прах. Я упал духом и зарыдал как дитя.
II
Три месяца тому назад я приехал в Турин и свиделся там после долгой разлуки с моими дорогими родителями, с одним из братьев и с обеими сестрами. В нашем семействе мы все горячо любили друг друга! Но никого, кроме меня, не осыпали отец и мать так щедро всевозможными ласками. О, как я был растроган при встрече с ними, найдя их так сильно постаревшими, чего я и не предполагал! Как бы я хотел тогда не покидать их больше, посвятить себя заботам о них, утешать их старость! Как мне было горько, что в короткое время моего пребывания в Турине много других обязанностей отрывало меня от родного крова, как грустно мне было, что я не могу посвятить им больше времени. Бедная матушка все говорила с печальною нежностью: «Ах! Сильвио наш не для нас приехал в Турин!» Я выехал в Милан утром, и разлука с родными была самая грустная. Отец сел со мной в коляску и проводил меня с милю, потом возвратился домой одинокий, печальный. Я обернулся, чтобы взглянуть на него, и плакал, целовал кольцо, подаренное матушкой, и никогда я не чувствовал, удаляясь от родных, такой удручающей тоски. Не веря предчувствиям, я удивлялся своей беспомощности осилить горе и с ужасом говорил себе: «Что за тоска, что за беспокойство?» И казалось мне, что я предвижу грядущее горе.
Теперь в тюрьме мне припомнились тогдашние ужас и тоска моя; пришли на ум все слова родителей, слышанные мною три месяца тому назад, и горькая жалоба матушки: «Ах, Сильвио не за тем приехал в Турин, чтобы повидаться с нами!» — мне вновь пала тяжелым камнем на сердце. Теперь упрекал я себя, зачем, зачем я был так мало с ними нежен? Я горячо люблю их и так мало говорил им про это! Может быть, я никогда их больше не увижу, а между тем вдоволь не нагляделся на дорогие черты!.. Зачем был я так скуп на доказательства моей сыновней любви? Думы такие разрывали мне сердце.
Я закрыл окно, с час прохаживался по комнате, думая, что не засну всю ночь. Лег потом на постель, и усталость меня усыпила.
III
Ужасно в первый раз, ночью, пробудиться в тюрьме. «Возможно ли? — говорил я себе, вспоминая, где я. — Возможно ли? Я — здесь? И не сон ли это? Вчера арестовали меня? Вчера меня долго допрашивали? И завтра будут допрашивать? И кто знает, когда это кончится? И вчера вечером, перед тем, как заснуть, я так долго плакал, думая о родных?»
Отдых, совершенная тишина, короткий сон, восстановивший мои умственные силы, казалось, удесятерили силу горя. Горе родных, при полном отсутствии всего, что могло бы развлечь их, в особенности горе отца и матери, когда они услышат о моем аресте, рисовалось в моем воображении с невероятною силою.
«В эту минуту, — говорил я себе, — они спят еще спокойно или, может быть, думают с нежностью обо мне, вовсе не предчувствуя, где я? О, как бы они были счастливы, если бы Бог взял их к себе прежде, чем дойдет в Турин известие о моем несчастии! Кто даст им силу выдержать подобный удар?»
Какой-то внутренний голос, казалось, ответил мне: «Тот, Кого призывают все несчастные, Кого они любят и Чье присутствие они ощущают в себе! Тот, Кто дает силу Матери идти за Сыном на Голгофу и стоять у креста Его! Друг людей, друг несчастных!»
И впервые тогда восторжествовала в моем сердце религия, и этим благом я обязан сыновней любви.
Прежде, хотя и не был я против религии, я мало и дурно ей следовал. Возражения, приводимые обыкновенно против религии, не казались мне чем-нибудь значительным, и, все-таки, тысячи софистических сомнений ослабляли мою веру. Но эти сомнения давно уже не касались божественного существования, и я говорил себе, что если Бог существует, необходимое следствие Его правосудия есть загробная жизнь для человека, который страдает на земле так несправедливо; отсюда заключение — стремиться к благам этой второй жизни, отсюда культ любви к Богу и ближнему, непрестанная жажда самосовершенствования бескорыстными жертвами. Уже давно говорил я себе все это и прибавлял: и что такое христианство, как не вечная жажда самосовершенствования?
Несмотря на то, что уже давно так думал и чувствовал, я все-таки не решался прийти к заключению: будь же последователен! Будь христианином! Не смущайся заблуждениями! Не истолковывай в дурную сторону какой-нибудь трудный для понимания пункт учения церкви, так как главный и самый яркий пункт ее есть: люби Бога и ближнего!
В тюрьме я решил прийти к такому заключению и пришел к нему. Еще колебался несколько, думая, что кто-нибудь, узнав, что я стал религиознее прежнего, сочтет меня за ханжу, за лицемера, униженного несчастием. Но чувствуя, что я ни то, ни другое, я твердо решил не заботиться вовсе о незаслуженных, но возможных порицаниях и быть и объявить себя отныне впредь христианином.
IV
На таком решении я остановился гораздо позже, но думать о нем и почти желать его я начал в первую ночь ареста. К утру я успокоился и был чрезвычайно тем удивлен. Снова стал думать о родителях и о других лицах, мною любимых, и уже не отчаивался больше в их душевной силе. Меня утешило воспоминание об их прекрасных, нравственных качествах, издавна известных мне.
Почему же прежде я так убивался, представляя себе их беспокойство, а теперь так уверен в их мужестве? Была ли чудом эта счастливая перемена или это совершенно естественно вытекало из моей вновь окрепшей веры в Бога? Да и что в том, назовешь ли, или не назовешь чудом истинно великую благотворность религии?
В полночь два secondini (так называются тюремщики, подчиненные тюремному смотрителю) пришли навестить меня и нашли, что я в сквернейшем расположении духа. На рассвете снова пришли и нашли меня веселым и спокойным.
— Этой ночью, синьор, у вас был ужасный вид, — сказал Тирола, — теперь совсем иное, что меня радует; это знак того, что вы, извините за выражение, не мошенник, — я уже состарился в этой должности, и мои замечания имеют некоторый вес, — те еще более безумствуют на второй день ареста, чем в первый. Табак нюхаете?
— Этой привычки у меня нет, но я не хочу отказаться от вашей любезности. Что касается вашего замечания, то, извините, скажу, что оно не достойно такого мудреца, каким вы кажетесь. Если сегодня утром у меня нет ужасного вида, то разве такая перемена не могла бы быть доказательством глупости и легкомысленной надежды на скорую свободу?
— Я боялся бы, что это так, если бы вы, синьор, по другим причинам были в тюрьме; а по тому делу, что привело вас сюда, в теперешнее время невозможно и думать, чтобы все это так быстро кончилось. Да и не так уж вы просты, чтобы вообразить себе это. Прошу прощения. Не угодно ли еще щепоточку?
— Дайте-ка. Но как это можно жить среди несчастных и иметь такое веселое лицо, как ваше?
— Вы думаете, что это признак равнодушия к несчастию другого? По правде сказать, я и сам не знаю хорошенько, но уверяю вас, что постоянно видеть слезы других мне тяжело. Я иногда притворяюсь веселым, чтобы и бедные арестанты повеселели.
— Мне пришла, мой друг, мысль, которой никогда прежде у меня не было: что можно быть тюремщиком и все-таки доброй души человеком.
— Ремесло тут не при чем, синьор. По ту сторону ворот, что вы видите, кроме одного двора есть еще другой двор и другие камеры, все для женщин. Там… не надо бы и говорить про то… женщины, ведущие дурную жизнь. И, однако, синьор, есть среди них чисто ангелы, судя по сердцу. Вот если бы вы были секондино…
— Я? — и я покатился со смеху.
Мой хохот смутил Тирола, и он замолчал. Может, он хотел сказать, что будь я секондино, мне бы трудно было не полюбить кого-нибудь из этих арестанток.
Спросив меня, что я хочу на завтрак, он ушел и через несколько минут принес мне кофе.
Я пристально посмотрел ему в лицо с лукавой улыбкой, как будто хотел сказать: «Не снесешь ли ты мою записочку другому несчастному — моему другу Пьеро»? А он мне ответил другою улыбкою, говорившей: «Нет, синьор, и если вы обратитесь к кому-нибудь из моих товарищей, который вам скажет: да, — берегитесь, как бы вам не изменили».
Я не уверен, понял ли он меня и я его. Только знаю хорошо, что я раз десять почти готов был попросить у него клочок бумаги и карандаш и не смел: было что-то в его глазах, предупреждавшее, казалось, меня не доверяться никому или уж сказать скорее ему, чем другим.
V
Если бы у Тирола, хотя он и казался добрым, не было бы этих хитрых взглядов, если бы у него физиономия была поблагороднее, я бы поддался искушению сделать его своим послом, и моя записочка, придя вовремя к моему другу, может быть, дала бы ему силу исправить какую-нибудь ошибку и, может быть, это спасло бы если и не его, бедняжку, так как уже многое было открыто, то многих других, в том числе и меня!
Терпение! Значит, так надо было.
Я был вызван на допрос, который тянулся весь этот день и несколько следующих без всякого перерыва, за исключением обеда.
Пока длился процесс, дни для меня быстро летели в этих нескончаемых ответах на столько разнообразных вопросов, а в часы обеда и вечером — в обсуждении всего того, что спрашивалось у меня, и что я ответил, и что еще, по всей вероятности, у меня спросят.
В конце первой недели со мной случилась большая неприятность. Мой бедный Пьеро, желая установить связь со мной, как этого желал и я, послал мне записочку и воспользовался для этого услугами не кого-нибудь из секондини, а услугами одного несчастного арестанта, приходившего с секондини убирать наши камеры. Это был человек лет 60–70, приговоренный, не знаю хорошенько, к скольким-то месяцам тюремного заключения.
Булавкой, которая была у меня, я проколол себе палец и написал кровью в ответ несколько строк, что и отдал посланному. Но, по несчастию, за ним подглядели, обыскали, нашли при нем записку и, если не ошибаюсь, наказали его палочными ударами. Я слышал громкие крики, показавшиеся мне принадлежащими несчастному старику, и затем его уже больше никогда не видал.
Будучи вызван на следствие, я задрожал при виде моей бумажонки, исписанной кровью. (Благодарение небу, что там не было ничего серьезного; моя записочка носила характер простого привета). Меня спросили, посредством чего я добыл кровь, отняли у меня булавку и смеялись над тем, что нас ловко поддели. А мне было не до смеху! У меня все был перед глазами несчастный старик. Я бы охотно вытерпел какое угодно наказание, лишь бы простили его, и когда до меня донеслись эти крики, которые, как я боялся, были его, сердце облилось у меня кровью.
Напрасно пытался я узнать о нем у смотрителя и у секондини. Они качали головой, приговаривая: «Он дорого поплатился — больше уж не будет, пусть теперь отдохнет хоть немного». Больше я ничего не добился.
Свидетельствовало ли это о более тяжелых условиях заключения, или они говорили так потому, что он, быть может, умер под палками или вследствие их?
Однажды показалось мне, что я увидал его по ту сторону двора под навесом со связкой дров на плечах. Сердце затрепетало у меня, как будто бы я увидал родного брата.
VI
Когда перестали мучить меня допросами и не стало больше ничего, что бы заняло меня в продолжение дня, тогда-то узнал я всю горечь и тяжесть одиночества.
Хотя и дозволили мне иметь Библию и Данте; хотя и дана мне была смотрителем в мое распоряжение его библиотека, состоящая из нескольких романов Скудери, Пьяцци, но мой дух был слишком возмущен, чтобы я мог заняться каким бы то ни было чтением. Учил я наизусть ежедневно по одной песне Данте, и я выполнял это занятие так машинально, что думал больше о своих делах, чем о стихах. То же самое было со мной, когда я читал и другое что-нибудь, за исключением некоторых мест Библии. Эта божественная книга, которую я всегда сильно любил, даже и тогда, когда я, казалось, был неверующим, теперь изучалась мною с большим вниманием, чем когда бы то ни было. И все-таки несмотря на все мое доброе желание, я весьма часто читал ее и не понимал, так как думал совершенно о другом. Мало-помалу я сделался способным вдумываться более основательно и все больше и лучше ценить ее.
Это чтение не давало мне ни малейшего повода к ханжеству, т. е. к той дурно понимаемой благоговейности, которую имеет трус или фанатик. Я научился любить Бога и людей, желать всегда больше всего царства справедливости, бежать неправды, прощать неправым. Христианство, вместо того, чтобы уничтожить то, что могла сделать во мне хорошего философия, упрочило, завершило это рассуждениями более высокими, более могучими.
Прочитав однажды, что молиться нужно непрестанно, что истинно молиться не значит говорить много, как язычники, но поклоняться Богу с простотою как в словах, так и в действиях и делать так, чтобы те и другие были исполнением Его святой воли, я положил себе начать на самом деле эту непрестанную молитву, т. е. не допускать ни одной мысли, которая бы не была одушевлена жаждой повиновения воле Божией.
Церковных молитв, произносимых мною, было всегда немного, не потому, что я пренебрегал ими (я, напротив, считаю их очень полезными, и полезными именно потому, что они удерживают внимание молящегося на предмете молитвы), а только по той причине, что я чувствовал себя неспособным произносить много церковных молитв, не развлекаясь и не забывая мысли моей молитвы.
Мое решение — быть постоянно в присутствии Бога вместо того, чтобы быть мучительным усилием ума и предметом страха, было для меня величайшим наслаждением. Не забывая, что Бог всегда вблизи нас, что Он в нас, или, лучше, что мы в Нем, одиночество день ото дня становилось менее ужасным для меня. «Разве я не нахожусь в самом прекрасном обществе», — говорил я себе и напевал, и насвистывал с живейшим удовольствием.
— Да разве не могла бы быть, — думалось мне, — у меня горячка и разве не могла бы она унести меня в могилу? Все мои близкие, которые обливались бы горькими слезами, теряя меня, ведь получили бы мало-помалу силу покориться безропотно моей смерти. Вместо могилы меня поглотила тюрьма: можно ли думать, что Бог не даст им подобной же силы?
И мое сердце посылало им жаркие мольбы, иногда со слезами, но это были тихие, нежные слезы, Я был полон веры в то, что Бог поддержит и их, и меня. Я не ошибся.
VII
Жить на свободе значительно лучше, чем жить в заточении, — кто в этом сомневается? Однако и в заточении можно жить с удовольствием, когда думаешь, что и там Бог присутствует, что радости света скоротечны, что истинное благо заключается в спокойствии совести, а не во внешних предметах. Менее чем через месяц я примирился, не скажу — совершенно, со своей участью. Не желая допустить недостойного поступка — купить свою безнаказанность гибелью другого, я видел, что моя участь — или виселица, или долгое заточение. Было необходимо примириться с этим. «Я буду жить до тех пор, пока не отнимут у меня дыхания, — говорил я себе, — и когда у меня возьмут его, я сделаю то же самое, что делают все больные, достигая своей последней минуты — умру.»
Я приучал себя не жаловаться ни на что и доставлять душе своей все возможные наслаждения. Самое обыкновенное наслаждение было — снова и снова припоминать и перечислять все блага, украшавшие мои дни: прекраснейший отец, прекраснейшая мать, превосходные братья и сестры, друзья, хорошее воспитание, любовь к наукам и пр., и пр. Кто больше меня одарен был счастьем? Почему же не быть за него благодарным Господу, если оно и уменьшено теперь несчастием? Иногда, делая это перечисление, я умилялся и плакал, но скоро присутствие духа и веселость вновь возвращались.
С первых же дней я приобрел себе друга. Это не был смотритель, или кто-нибудь из секондини, или кто-нибудь из лиц, ведущих процесс. Говорю, однако, о человеческом создании. Кто же это? Дитя, глухонемой, пяти или шести лет. Отец и мать были воры, павшие под ударом закона. Бедный сиротка был задержан полицией со многими другими детьми. Все они жили в одной комнате, напротив моей, и в определенные часы их выпускали во двор подышать чистым воздухом.
Глухонемой подбегал к моему окну и, улыбаясь, делал мне знаки. Я бросал ему ломоть хлеба, он схватывал его, подпрыгивая от радости, подбегал к своим товарищам и раздавал каждому по куску, а потом приходил под окно и съедал свою часть, выражая мне благодарность улыбкою и сиянием своих прекрасных глаз.
Другие дети смотрели на меня издали, не смея подойти ближе. Глухонемой питал ко мне большую симпатию не потому только, что я давал ему хлеб. Иногда он не знал, что делать ему с хлебом, который я кидал ему, и делал мне знаки, что он и его товарищи сыты и не хотят больше есть. Если он видел, что идет ко мне в комнату секондино, он отдавал ему хлеб, чтобы тот передал его мне. Хотя он и ничего не ждал тогда от меня, он все-таки продолжал мило резвиться перед моим окном и радовался, если я смотрел на него. Как-то раз один из секондини позволил ребенку войти ко мне в камеру: едва войдя, он подбежал ко мне и обнял мои ноги. Я взял его на руки и не могу выразить, с каким жаром он осыпал меня ласками. Сколько любви в этом милом созданьице! Как бы я желал воспитать его и спасти!
Я никогда не знал его имени. Он и сам не знал, есть ли у него какое. Был он всегда весел, и я никогда не видал, чтобы он плакал, исключая единственный раз, когда его ударил тюремщик, уж не знаю за что. Странное дело! Жить в подобном месте, кажется, верх несчастия, однако, этот ребенок был наверно так же счастлив, как мог бы быть в его возрасте счастлив княжеский сын. Размышляя об этом, я понял, что нужно стараться, чтобы расположение духа не зависело от места, в котором находишься. Если мы будем управлять своим воображением, мы почти повсюду будем чувствовать себя хорошо. День скоро проходит, и когда вечером ложишься в постель, не чувствуя голода, не имея сильного горя, — что нужды, что эта постель находится в стенах, которые зовут тюрьмою, а не в стенах, называемых домом или дворцом?
Прекрасное рассуждение! Но как управлять воображением? Я пытался управлять им и иногда, казалось мне, отлично достигал этого, но в другой раз воображение одерживало верх, и я, досадуя, недоумевал над своим бессилием.
VIII
«И в несчастий я все-таки счастлив, — говорил я себе, — счастлив тем, что мне дали камеру в нижнем этаже, на этом дворе, где в четырех шагах от меня находится этот милый ребенок, с которым мы так нежно беседуем! Удивительна человеческая понятливость! Чего только не говорили мы нашими взглядами и выражением физиономии! Сколько прелести было в его движениях, когда я улыбался ему! Как он старался поправить свои движения, не понравившиеся мне! Как он понимал, что я люблю его, когда он ласкает или угощает кого-нибудь из своих товарищей! Никто на свете не вообразил бы себе, что я, стоя у окна, мог быть чем-то вроде воспитателя для этого бедного созданьица. Часто упражняясь в разговоре знаками, мы совершенствуемся во взаимной передаче наших мыслей. Чем умнее и благороднее он будет при моем посредстве, тем больше я буду любить его. Я буду для него добрым духом разума и добра, он научится поверять мне свои печали, свои радости, свои желания, я научусь утешать его, облагораживать его, направлять все его действия. Кто знает, может быть, решение моей участи будет откладываться с месяца на месяц и меня оставят состариться здесь? Кто знает, что это дитя не вырастет на моих глазах и не будет приставлено к какому-нибудь делу в этом доме? С такими способностями, какие у него, чего он может достичь здесь? Увы, ничего большего, чем стать отличным секондино или кем-нибудь в этом роде. Так разве не сделаю я хорошего дела, если постараюсь возбудить в нем желание заслужить уважение честных людей и уважать себя самого, если постараюсь развить в нем прекрасные чувства?»
Этот монолог был совершенно естествен. Я всегда имел большую склонность к детям, и обязанность воспитателя мне казалась высокой. Я исполнял подобную обязанность несколько лет у Джакомо и Джулио Порро, двоих юношей с прекрасными надеждами, которых я любил и всегда буду любить как своих собственных детей. Один Бог знает, сколько раз я думал о них в тюрьме! Как горевал я о том, что не могу довершить их воспитания! Как горячо я молился о том, чтобы они нашли нового учителя, который бы их любил так же, как я!
Иногда я восклицал про себя: «Какая это жестокая пародия! Вместо Джакомо и Джулио, детей, одаренных всем, что только могли дать природа и счастье, у меня учеником бедняжка глухонемой, оборванец, сын вора!.. Который может стать секондино, а в обстоятельствах немного менее благоприятных оказался бы вором».
Эти размышления расстраивали меня и приводили в уныние. Но едва, бывало, заслышу я крики глухонемого, как вся кровь приливала мне к сердцу, точно у отца, услыхавшего голос своего сына. И этот крик, и вид его рассеивали во мне всякую мысль о том, что он хуже других. И чем он виноват, что он оборван, что он глухонемой и отпрыск вора? Человеческое создание в возрасте невинности всегда достойно уважения. Так говорил я, и со дня на день все больше и больше привязывался к нему. Мне казалось, что он становился понятливее, и это укрепляло меня в моем решении — посвятить себя тому, чтобы сделать из него благородного человека. Строя в уме всевозможные планы, я думал о том, что, может быть, в один прекрасный день я выйду из тюрьмы и найду средство поместить этого ребенка в коллегию глухонемых и таким образом открою ему дорогу к лучшей судьбе, чем судьба вора или нищего.
Среди таких размышлений о судьбе этого ребенка пришли ко мне двое секондини, чтобы увести меня отсюда.
— Меняется помещение, синьор.
— Что вы хотите сказать этим?
— Приказано перевести вас в другую камеру.
— Почему?
— Другая крупная птица поймана, а так как это лучшая камера… понимаете…
— Понимаю: это первое помещение для вновь прибывших.
И меня перевели в противоположную часть двора, но, увы, уже не в нижний этаж, где можно было беседовать с глухонемым. Проходя через двор, я увидал этого милого мальчика: он сидел на земле пораженный, печальный, он понял, что теряет меня. Через минуту он вскочил и подбежал ко мне, секондини хотели отогнать его, но я взял его на руки и, как он был, грязного я целовал, целовал его с нежностью и оторвался от него, — должен ли говорить? — с глазами полными слез.
IX
Бедное сердце мое! Так легко тебе полюбить и любишь ты так горячо, а между тем, на сколько уже разлук ты было осуждено! Последняя разлука была не менее грустна, тем более, что мое новое помещение было наипечальнейшим. Темная, грязная каморка с окошком, в котором вместо стекла была бумага, со стенами, испещренными пятнами цвета, не смею сказать какого, или надписями на местах, свободных от пятен. Многие из этих надписей состояли только из имени, фамилии и обозначения родины бедняка, с прибавлением числа того дня, в который он был арестован. Другие, кроме этого, состояли из обвинений ложных друзей, себя самого, женщины, судьи и прочее. Иные были краткими автобиографиями. Некоторые содержали нравственные изречения. Были, например, следующие слова Паскаля: «Те, которые опровергают религию, узнали бы, по крайней мере, какова она, прежде чем опровергать ее. Если бы эта религия хвалилась тем, что она дает видеть Бога без всякой завесы, тогда бы было опровержением сказать: что в мире нет ничего, что бы показывало Бога с такою очевидностью. Но так как, напротив, она говорит, что люди находятся во тьме и что они далеки от Бога, который скрыт от их внешнего познания, и что потому-то и дается Ему в св. писании имя: Deus absconditus… то в чем же преимущество тех, которые в небрежении, оказываемом ими к знанию истины, кричат, что истина им не показана?»
Ниже были написаны слова того же самого автора: «Здесь не идет дело о пустом интересе кого-нибудь постороннего; здесь дело идет о нас самих, о всем нашем. Бессмертие души — такое важное для нас дело, так тесно касающееся нас, что нужно потерять всякий смысл, чтобы быть равнодушным к этому».
Другая надпись гласила: «Благословляю тюрьму потому, что она дала мне возможность познать людскую неблагодарность, мое ничтожество и благость Господа».
Рядом с этими словами были самые неистовые проклятия, написанные кем-то, называвшим себя атеистом, который проклинал Бога, как бы забывая свои собственные слова, что нет Бога.
За целым столбцом таких богохульств следовал другой с ругательствами против подлецов, как он называл тех, которых заточение в тюрьме делает религиозными.
Показал я эти нечестивые строки одному из секондини и спросил, кто их написал?
— Наконец-таки я нашел эту надпись, — сказал он, — их тут так много, а разыскать ее мне было некогда.
И, не говоря дурного слова, он стал соскабливать ножом со стены эту надпись.
— Зачем это? — сказал я.
— Потому что бедняк, написавший это, был приговорен к смерти за предумышленное убийство, раскаялся в том, что написал эти строки и просил у меня этой милости.
— Бог да простит ему! — воскликнул я. — Какое же убийство совершил он?
— Не будучи в состоянии убить своего врага, он отомстил ему, убив его сына, прекраснейшего ребенка, какой только был на земле.
Я ужаснулся. До чего может дойти зверство! И это чудовище говорило таким оскорбительным языком о человеке, который был выше всех человеческих слабостей! Убить невинного ребенка!
X
В моей новой комнате, столь тёмной и грязной, будучи лишен общества милого мальчика, я был совершенно подавлен. По несколько часов я стоял у окна, выходившего на галерею, по ту сторону которой виднелся конец двора и окно моей первой комнаты. Кто-то там заменил меня? Я видел, что там кто-то быстро и подолгу расхаживает, очевидно, в сильном волнении. Спустя два или три дня я увидал, что ему дали что-то писать, и он весь тот день не вставал из-за столика.
Наконец, я узнал его. Он выходил из своей камеры в сопровождении тюремного смотрителя: шел он на допрос. Это был Мелькиорре Джойа!
У меня сжалось сердце. И ты здесь, благородный человек! (Он был счастливее меня. Через несколько месяцев заключения он был выпущен на свободу).
Когда я вижу какое-нибудь доброе создание, это меня утешает, меня привлекает, заставляет меня о нем думать. Какое великое благо — мыслить и любить! Я бы жизнь свою отдал за то, чтобы избавить Джойа от тюрьмы, и, однако, меня утешало то, что он здесь, что я вижу его.
Когда я смотрел на него долгое время, когда я пытался понять по его движениям, спокоен ли он духом, или нет, когда я молился за него, я тогда чувствовал в себе большую силу, большую способность мыслить, я тогда был более доволен собою. Я хочу сказать этим, что один вид человека, к которому питаешь любовь, уже достаточен для того, чтобы уменьшить тяжесть одиночества. Вначале такое благодеяние оказывал мне бедный немой ребенок, а теперь один вид достойного человека был благодетелен для меня.
Может быть, кто-нибудь из секондини сказал ему, где я. Раз утром он открыл свое окно и замахал платком в знак привета. Я ответил ему тем же. О, какое удовольствие испытал я в эту минуту! Мне казалось, что исчезло всякое расстояние между нами, и что мы находимся вместе. Сердце билось у меня, как у влюбленного, увидавшего свою возлюбленную.
Жестикулировали, не понимая друг друга, но с таким же самым усердием, как будто бы и понимали; или скорее мы действительно понимали друг друга: эти жесты хотели сказать все то, что мы перечувствовали, а ведь каждому из нас небезызвестно было то, что чувствовал другой.
Каким утешением, казалось мне, должны были быть в будущем эти приветствия! Но вот и пришло будущее, а на мои приветствия мне не отвечали! Всякий раз, как я замечал, что Джойа у окна, я махал ему платком. Напрасно! Секондини мне сказали, что ему запрещено реагировать на мои жесты и отвечать мне на них. Зато он часто смотрел на меня, и я смотрел на него, и таким образом мы еще многое сказали друг другу.
XI
На галерее, находившейся под окном, на одном уровне с моей камерой, с утра и до вечера проходило взад и вперед много других арестантов в сопровождении секондино; шли они на допросы или возвращались с них. Большею частью, это были люди низшего класса. Однако я видел тут и людей образованных. Хотя я и не мог долго останавливать на них своего взгляда, так быстро они проходили, однако, они привлекали к себе мое внимание. Все они, кто больше, кто меньше, возбуждали во мне сострадание к ним.
Это печальное зрелище в первые дни увеличивало мою грусть, но мало-помалу я привык к этому, и дело кончилось тем, что и это зрелище уменьшало ужас моего одиночества.
Также перед моими глазами проходило много арестанток. С этой галереи они спускались под аркой на другой двор, где были женские камеры и госпиталь для женщин, больных сифилисом. Только одна стена, и то довольно тонкая, отделяла меня от одной из женских камер. Часто оглушали они меня своими песнями или спорами. Поздним вечером, когда утихал шум, я слышал их разговоры.
Если бы я захотел вступить с ними в разговор, я бы мог это сделать. Я удержался от этого, сам не знаю почему. По робости ли? Из гордости ли? Или из благоразумия, чтобы не свести дружбы с падшими женщинами? Должно быть, были все эти три причины. Женщина, когда она такова, какою должна быть, для меня есть высокое, прекрасное создание. Видеть ее, слышать ее, говорить с нею — это обогащает ум благородными мыслями. Но порочная, внушающая презрение, падшая женщина меня возмущает, огорчает, лишает поэзии мое сердце.
Однако… (эти однако неизбежны для обрисовки человека, существа столь сложного) между этими женскими голосами были очень приятные, и они — почему не сказать? — мне нравились. Один из этих голосов был приятнее других и звучал гораздо реже. Этот голос никогда не произносил ни одного пошлого слова. Та, кому принадлежал этот голос, пела мало и, большею частью, только эти два трогательные стиха:
Chi rende alla meschina La sua felicita?1Иногда она пела литанию. Ее товарки вторили ей, но я всегда отличал голос Маддалены от других голосов, которые казались слишком дикими, чтоб смешать их с голосом Маддалены.
Да, эту несчастную звали Маддаленой. Когда ее товарки рассказывали свои несчастия, она сочувствовала им и вздыхала, повторяя: «Мужайся, моя милая, Господь никого не оставляет.»
Кто мог помешать мне представлять ее себе красивой и более несчастной, чем преступной, добродетельной и способной вернуться к добродетели, если она от нее отдалилась? Кто мог бы порицать меня за то, что я умилялся, слыша ее, что я с уважением слушал ее, что я молился за нее с особенным жаром?
Невинность достойна уважения, а тем более раскаяние! Разве гнушался грешниц самый лучший из людей — Богочеловек, разве не уважал Он их стыда, разве не причислял Он их к тем, кого Он больше уважал? Почему же мы так презираем женщину, впавшую в бесславие?
Рассуждая так, я сотни раз пытался возвысить голос и выразить братскую любовь Маддалене. Раз уже произнес я первый слог ее имени: «Мад!..» Странное дело! Сердце забилось у меня как у влюбленного пятнадцатилетнего мальчика, а мне уже тридцать один год — возраст, не совсем подходящий для этих ребяческих трепетаний сердца.
Дальше первого слога не мог идти. Снова начал: «Мад!.. Мад!..» и бесполезно. Я показался самому себе смешным и вскричал в досаде: «Глупый! А не Мад!»2.
XII
Тем и кончился мой роман с этой бедняжкою. Но я еще долго обязан был ей добрыми чувствами. Бывало часто хандрил я, но голос ее разгонял мою печаль; часто, думая о порочности и неблагодарности людей, я раздражался, я переставал любить весь мир, но голос Маддалены возвращал меня к состраданию и снисхождению.
— О, неведомая грешница! Да не будешь ты осуждена на тяжкое наказание! Или на какое бы наказание ни была ты осуждена, да послужит оно тебе на пользу, да облагородишься ты через него и через него же да живешь и умрешь ты достойной любви Господа! Пусть жалеют и уважают тебя все те, кто знает тебя, как жалел и уважал я тебя, не зная! Да вдохнешь ты в каждого, кто бы ни увидел тебя, терпение, кротость, жажду добродетели, веру в Бога, как вдохнула ты их в того, кто, не видав, полюбил тебя! Мое воображение могло ошибаться, представляя тебя красивой телом, но твоя душа, в чем я убежден, была прекрасна. Твои подруги говорили грубо, а ты — стыдливо и скромно; они богохульствовали, а ты благословляла Бога; они ссорились, а ты улаживала их ссоры. Если кто-нибудь подаст тебе руку, чтобы свести тебя с дороги бесчестия, если кто-нибудь осушит твои слезы, да снизойдут все утешения на него, на детей его и на детей детей его!
Смежно с моей камерой была другая, в которой жило несколько мужчин. Я слышал и их разговоры. Один из этих мужчин заправлял другими, может быть, не потому, что он был выше других по своему положению, а скорее в силу некоторой смелости и уменья красиво говорить. Он выдавал себя за доктора. Споря, он заставлял молчать спорящих повелительным голосом и запальчивостью слов, предписывал им то, что они должны думать и чувствовать, и те после некоторого сопротивления кончали тем, что признавали его правым во всем.
Несчастные! Ни один из них не уменьшал неприятностей тюремной жизни, питая хоть какое-нибудь нежное чувство, хоть сколько-нибудь религиозности и любви!
Предводитель моих соседей поздоровался со мной, и я отвечал ему тем же. Спросил он меня, как я провожу эту проклятую жизнь. Я отвечал ему, что для меня нет проклятой жизни, как бы печальна она ни была, и что до самой смерти нужно стараться пользоваться прекрасным даром — мыслить и любить.
— Объяснитесь, синьор, объяснитесь.
Я объяснился, но меня не поняли. И когда после искусных подготовительных речей я решился привести ему в пример ту кротость, которая пробудилась во мне голосом Маддалены, он разразился громким хохотом.
— Что такое? Что такое? — закричали его товарищи. Предводитель пересказал мои слова, и все хором захохотали, так что я остался в дураках.
В тюрьме бывает все то же, что и на свободе. Те, которые полагают свою мудрость в том, чтобы на все негодовать, на все жаловаться, все унижать, считают величайшею глупостью — сострадание, любовь, утешение, доставляемое прекрасными мыслями, которые славят человечество и его Творца.
XIII
Я оставил их смеяться и не возразил ни полслова. Два или три раза соседи обращались ко мне, но я молчал.
— Нет его у окна, отошел от него, прислушивается к вздохам Маддалены, обиделся на наш смех.
Так говорили они, пока, наконец, их главарь не приказал замолчать тем, которые прохаживались на мой счет.
— Молчите вы, дурачье, коли не знаете, какого дьявола вы тут говорите. Не такой большой осел наш сосед, каким вы его считаете. Вы не способны ни о чем поразмыслить. И я помирал со смеху, да одумался. Все бездельники умеют неистовствовать, как вот мы это делаем. А вот немного побольше кроткого веселья, немного побольше добросердечия, немного побольше веры в благодеяния Неба — все это, как вы думаете, что обозначает? Скажите-ка искренно!
— Вот и я теперь о том думаю, — отвечал один, — мне кажется, что все это есть признак того, что несколько получше бездельничества.
— Верно! — громко вскричал вожак, — на этот раз я опять начинаю питать уважение к твоей башке.
Не особенно возгордился я тем, что был признан ими только несколько лучшим бездельником, чем они, однако, я почувствовал некоторую радость, что эти несчастные поняли значение добрых чувств.
Я двинул рамой окна, как будто бы только что вернулся. Меня окликнул их вожак… Я ответил ему в надежде, что он хочет серьезно побеседовать со мной. Я ошибся. Пошлые умы избегают серьезных рассуждений: если истина иногда и осветит их, они способны с минуту рукоплескать ей, но скоро после того они отворачиваются от нее и, желая похвастаться здравым смыслом, сомневаются в истине и шутят над ней.
Затем он спросил меня, не за долги ли я в тюрьме?
— Нет.
— Может быть, обвиняетесь в мошенничестве? Разумеется, ложно обвиняетесь?
— Я обвиняюсь совершенно в другом.
— В какой-нибудь любовной истории?
— Нет.
— В убийстве?
— Нет.
— В карбонарстве?
— Именно.
— А что это за карбонарии?
— Я их так мало знаю, что не смогу сказать вам про то.
Один из секондино с гневом прервал нас и, осыпав ругательствами моих соседей, обратился ко мне со строгостью не полицейского, а скорее учителя, и сказал: «Стыдитесь, синьор, позволять себе разговоры с подобными людьми! Знаете ли, что это — воры?»
Я покраснел, а потом устыдился того, что покраснел, так как позволять себе разговоры с такими людьми скорее хороший поступок, чем плохой.
XIV
На следующее утро я подошел к окну, чтобы увидать Мелькиорре Джойа, но уже больше не вступал в разговор с ворами. Я ответил на их приветствие и сказал, что мне запрещено разговаривать.
Пришел актуариус, снимавший с меня допрос, и объявил мне таинственно, что пришли ко мне и что это посещение доставит мне большое удовольствие. И когда ему показалось, что он уже достаточно подготовил меня, он сказал: «Одним словом, это ваш отец, если угодно, пожалуйте за мной.»
Я последовал за ним вниз, замирая от радости и стараясь придать себе ясный и спокойный вид, который бы успокоил моего бедного отца.
Узнав о моем аресте, он надеялся, что меня задержали по пустому подозрению, и что я скоро выйду. Но видя, что арест все еще продолжается, он приехал ходатайствовать перед австрийским правительством о моем освобождении. Жалкая иллюзия отцовской любви! Он не мог считать меня столь безрассудным, чтобы я подверг себя всей строгости законов, а напускная веселость, с какою я говорил с ним, убедила его, что мне нечего бояться какого бы то ни было несчастия.
Краткая беседа, какую дозволили нам, взволновала меня невыразимо, тем более, что я и виду не подавал, что я взволнован. Всего труднее было не выказать этого при расставании.
При тех обстоятельствах, в которых находилась тогда Италия, я был твердо уверен, что Австрия даст пример чрезвычайной строгости, и что я буду осужден или на смерть, или на долгие годы заточения. И скрывать это от отца! Обманывать его, высказывая ему основательные надежды на скорое освобождение! Не залиться слезами, обнимая его и говоря ему о матери, о братьях и сестрах, которых уже больше, я думал, не увижу на земле! Просить его голосом, в котором бы не слышалось горькой тоски, чтобы он еще раз, если может, пришел повидаться со мной! Ничто никогда не стоило мне таких усилий.
Он ушел совершенно успокоенный мною, а я вернулся в свою камеру с разбитым сердцем. Лишь только я остался один, я надеялся облегчить свои страдания слезами. Но не было для меня и этого облегчения. Я разразился рыданьями и не мог пролить ни слезинки. Невозможность выплакать свое горе есть одно из самых жестоких страданий, и, о, сколько раз я испытал его!
Меня свалила жестокая лихорадка с сильнейшей головной болью. За весь день я не проглотил и одной ложки супу. «Пусть эта болезнь будет смертельна, — говорил я, — хоть бы она сократила мои муки!»
Глупое малодушное желание! Бог не внял ему, и я благодарю Его за это не только потому, что после десятилетнего заточения, я снова увидал мою дорогую семью и могу назвать себя счастливым, но также и потому, что страдания придают достоинство человеку, а я хочу надеяться, что они не были бесполезны и для меня.
XV
Спустя два дня вернулся отец. Всю ночь перед тем я спал хорошо, и от лихорадки не осталось и следа. Непринужденно и весело встретил я отца, и никто бы не узнал, как страдал я и что еще теперь разрывает мне сердце.
— Думаю, — сказал мне отец, — что через несколько дней тебя отправят в Турин. Мы уже приготовили для тебя комнату и будем ждать тебя с большим нетерпением. Служебные обязанности принуждают меня ехать домой. Постарайся, прошу тебя, постарайся поскорей присоединиться ко мне.
Его нежная и грустная ласковость убивала меня. Мне казалось, что из любви к нему я должен притворяться, хотя это притворство мне было не по душе и совесть была неспокойна. Не лучше ли, не достойнее ли бы было моего отца и меня самого, если бы я сказал ему: «Вероятно, мы уж больше не свидимся в этом мире! Простимся друг с другом без ропота, без стонов, и благослови меня в последний раз!»
Это было бы для меня в тысячу раз лучше притворства. Но взглянул я в его добрые глаза, на дорогие черты его милого лица, на его поседевшую голову и мне стало ясно, что услышать подобную речь было выше его сил.
А если бы, не пожелав его обмануть, я увидал его полным отчаяния, может быть, потерявшим сознание или (страшная мысль!) пораженным смертью в моих объятиях?
Нет, я не мог ни сказать ему истину, ни дать ему проникнуть в нее! Мое внешнее спокойствие его вполне обмануло. Мы расстались без слез. Но после возвращения в камеру мной овладела еще большая тоска, я молил о слезах и напрасно!
Покориться без ропота всему ужасу долгого заточения, спокойно отдаться в руки палача — было в моей власти, но безропотно покориться безысходному горю, которое овладеет отцом, матерью, братьями, сестрами… это было выше моих сил!
Я бросился на землю с горячей мольбой, какой никогда еще не произносил: «Боже мой! Я приму все от руки Твоей, но укрепи Твоей божественной мощью сердца тех, кому я необходим, чудной властью Твоей сделай так, чтобы они не нуждались во мне, пощади жизнь каждого из них и не сократи ее ни на один день!»
О, как благодетельна молитва! Я долго стоял, вознося мольбы к Богу, и моя вера росла по мере того, как я размышлял о божественной благости, по мере того, как я размышлял о величии души человеческой, когда она, отрешаясь от эгоизма, стремится достичь цели — иметь одну волю с волей бесконечного Промысла.
Да, это возможно! Это долг человека! Разум, который есть глас божества, разум говорит, что все должно быть принесено в жертву добродетели. И разве это будет жертва, какую бы мы должны были принести ради добродетели, если в самых горестных случаях мы будем бороться против воли Того, Кто есть начало всякой добродетели?
Если виселица или другое какое-нибудь мучение неизбежно, — бояться его, не уметь идти к нему, благословляя Всемогущего Господа, есть знак жалкого упадка духа или невежества. И нужно не только согласиться на свою собственную смерть, но и на то горе, которое испытывают наши родные. Можно только просить Милосердного Творца, чтобы Он умерил это горе, чтобы Он поддержал нас всех Своею десницею. Такая молитва всегда будет услышана.
XVI
Прошло несколько дней, и я был все в том же положении, т. е. в кроткой грусти, полной мира и религиозных мыслей. Мне казалось, что я восторжествовал над всякой слабостью и более недоступен никакой тревоге. Безумное заблуждение! Человек должен стремиться к совершенному постоянству и твердости духа, но этого никогда не достигает на земле. Что же смутило меня? Вид несчастного друга, вид моего доброго Пьеро, который прошел в нескольких шагах от меня по галерее, в то время, как я был у окна.
Его взяли из его логовища, чтобы отвести в тюрьму для уголовных.
Он и сопровождавшие его прошли так быстро, что я едва успел узнать его, заметить его поклон и, в свою очередь, поклониться ему.
Бедный юноша! В расцвете лет, с умом полным блестящих надежд, с характером честным, скромным, достойным всякого уважения и любви, созданный для высоких наслаждений жизнью — и брошен в тюрьму по политическим делам, и в такое время, когда наверное не избежишь самых страшных перунов закона!
Мне так стало жаль его, так стало горько, что я не могу освободить его, не могу даже поддержать его своим присутствием и словом, что успокоить меня, хоть немного, ничто не могло. Я знал, как он любил свою мать, брата, сестер, зятя, племянников, как он страстно желал сделать их счастливыми и как его все они любили. Я знал, каково будет горе каждого из них при таком несчастии. Нет слов, чтобы выразить то бешенство, которым был я охвачен тогда. И это бешенство длилось так долго, что я отчаивался победить его.
И этот страх был иллюзией. О, несчастные, думающие, что вы — достояние непреодолимого, страшного, все увеличивающегося горя, потерпите немного и вы разубедитесь в том! Ни величайший мир, ни величайшая тревога не могут долго длиться на земле. Нужно убедить себя в этой истине, чтобы не возноситься в счастливые дни и не падать духом в дни несчастия.
За долгим бешенством последовало утомление и апатия. Но апатия вовсе не была продолжительна, и я боялся того, что буду потом постоянно переходить от одной крайности к другой. Я ужаснулся такой перспективе и опять прибег и на этот раз к горячей молитве. Я просил у Бога, чтобы Он помог и бедному Пьеро, как и мне, и его семье, как и моей. Только повторяя эти мольбы, я мог действительно успокоиться.
XVII
Когда я стал спокоен духом, я предался размышлению о выстраданной душевной буре и, негодуя на свою слабость, стал изыскивать способ, как бы мне избавиться от подобных бурь. И вот какое средство мне в том помогло: каждое утро моим первым занятием, после краткой молитвы Создателю, было представить себе что-либо, способное взволновать меня. На каждом я живо останавливал свое воображение и приготавливал себя к этому случаю, начиная от посещений моих близких до посещения палача, я все их представлял себе. Это грустное занятие казалось невыносимым в первые дни, но я желал быть стойким, и в скором времени был этим доволен.
В начале 1821 года граф Луиджи Порро получил дозволение посетить меня. Нежная и горячая дружба, которая была между нами, необходимость о многом сказать друг другу, препятствие к этому излиянию, поставленное присутствием актуариума, слишком короткое время, данное нам для пребывания вместе, грустные предчувствия, наполнявшие душу тоской, усилие, делаемое мной и им, чтобы казаться спокойными, — все это, казалось, должно было поднять в моем сердце одну из самых страшных бурь. Распростившись с этим дорогим другом, я чувствовал себя спокойным — расстроенным, но спокойным.
Таково действие подготовки себя к сильным душевным волнениям.
Принятая на себя обязанность — достичь твердого, постоянного спокойствия духа — обусловливалась не столько желанием уменьшить свое горе, сколько тем, что тревога казалась мне грубою, недостойною человека. Взволнованный ум уже не рассуждает больше: он вращается в непреодолимом водовороте преувеличенных мыслей, создается логика безумная, бешеная, злобная, такое состояние есть абсолютно антифилософское, антихристианское.
Если бы я был проповедником, я бы часто настаивал на необходимости не поддаваться душевной тревоге: ни при каком условии не может быть она хороша. Как был спокоен в Себе и мирен с другими Тот, Кому все мы должны подражать! Нет ни величия души, ни справедливости, если нет кротости, если не стремишься к тому, чтобы улыбаться, а стремишься раздражаться случайностями этой кратковременной жизни. Гнев не имеет за собой никакого достоинства, разве только в одном чрезвычайно редком случае, когда предполагается смирить им злобствующего и отвлечь его от несправедливости.
Может быть, есть гнев другого рода, чем тот, что знаю я, и менее достойный осуждения. Но тот неистовый гнев, рабом которого я был в то время, не был выражением одного горя: сюда примешивалось всегда много ненависти, много нестерпимого зуда к злословию и проклятию, к разрисовке общества или тех или других отдельных личностей красками самыми мерзкими. Эпидемическая болезнь в мире! Человек полагает, что он становится лучше, унижая других. Кажется, все друзья шепчут друг другу на ухо: «Будем любить только друг друга, крича, что все канальи, мы покажемся полубогами».
Курьезный факт, что жить в таком раздражении нам так нравится! Здесь даже полагают что-то вроде героизма. Если тот, против которого я вчера так неистовствовал, умер, немедленно же ищется другой. На кого мне жаловаться сегодня? Кого ненавидеть? Пусть бы хоть чудовище какое было!.. О, радость! Я нашел его! Идите, друзья, разорвем его!
Все так идет на свете, и без ненависти могу сказать, что идет плохо.
XVIII
Нечего было мне так сильно досадовать на скверную комнату, куда меня поместили. По счастливой случайности освободилась лучшая комната, которую и дали мне, что было для меня приятною неожиданностью.
Не должен ли был я быть чрезвычайно довольным при этом известии? И однако — я не был. Я не мог думать без сожаления о Маддалене. Какое ребячество! Хоть к кому-нибудь да иметь привязанность и по причинам, по истине, не особенно серьезным! Выходя из этой грязной каморки, я обернулся назад и кинул взгляд на стену, к которой я, бывало, так часто прислонялся в то время, как, может быть, с противоположной стороны несколькими вершками дальше, прислонялась и бедная Маддалена. Я хотел бы еще раз услыхать эти два трогательных стиха:
Chi rende alla meschina La sua felicita!Напрасное желание! Вот еще одной разлукой больше в моей несчастной жизни. Не хочу долго говорить об этом, чтобы не дать повода смеяться надо мной, но я был бы лицемером, если бы не признался в том, что я еще долго грустил по ней.
Уходя, я поклонился двум из моих бедных соседей, бывших у окна. Вожака их не было тут, извещенный товарищами, он подбежал к окну и также поклонился мне. А потом начал напевать этот куплет: «Chi rende alla meschina…» Хотелось ли ему посмеяться надо мной? Бьюсь об заклад, что если бы задать этот вопрос пятидесяти лицам, сорок девять ответили бы «да». Однако, несмотря на такое большинство голосов, я склонен думать, что добрый вор хотел мне этим сделать любезность. Я так это и принял, и был ему за то благодарен. Я еще раз взглянул на него: он просунул сквозь железную решетку руку, держа в ней берет, и махал мне им в знак прощания, когда я поворачивался, чтобы спуститься с лестницы.
Во дворе, под навесом, я увидал глухонемого, что было для меня большим утешением. Он заметил меня, узнал и хотел бежать навстречу. Жена смотрителя, кто ее знает зачем, схватила его за ворот и прогнала домой. Мне было очень неприятно, что я не мог обнять его, но меня тронула его радость, с какою он побежал было ко мне. Ведь так приятно быть любимым!
Это был день больших происшествий. Пройдя два шага, я поравнялся с окном моей прежней комнаты, в которой жил теперь Джойа.
— Добрый день, Мелькиорре! — сказал я ему, проходя мимо. Он поднял голову и, кидаясь ко мне, вскричал:
— Добрый день, Сильвио.
Увы, мне не дали остановиться ни на одну минуту. Я свернул под большие ворота, поднялся по лесенке и очутился в чистенькой комнатке, как раз над комнатой Джойа.
Когда мне внесли постель и оставили меня одного, моим первым делом было осмотреть стены. Было на них написано несколько заметок карандашом, углем или просто чем-то острым. Я нашел две прелестных французских строфы, о которых теперь сожалею, что не выучил их наизусть. Они были подписаны «Герцог Нормандский». Я стал напевать их, применяясь, как умел, к мотиву песенки моей бедной Маддалены, но вот чей-то голос близко-близко запел их на другой мотив. Когда он кончил, я закричал: «Браво!» Он любезно приветствовал меня, спрашивая, не француз ли я?
— Нет, я итальянец, а зовут меня Сильвио Пелико.
— Автор «Franceska da Rimini»?
— Именно.
За этим ответом последовали любезности и соболезнования по поводу того, что я в тюрьме.
Он спросил меня, из какой части Италии я родом.
— Из Пьемонта, — отвечал я.
Здесь следовали новые любезности относительно характера и ума пьемонтцев, отдельное упоминание о выдающихся лицах Салуццо и в особенности о Бодони.
Эти немногие похвалы были тонки, изящны, сделаны человеком хорошего воспитания.
— Теперь позвольте мне, — сказал я ему, — спросить вас, синьор, кто вы?
— Вы пели мою песенку.
— Эти две прекрасных строфы, что на стене, ваши?
— Да, синьор.
— Так вы…
— Несчастный герцог Нормандский.
XIX
Проходил под нашими окнами смотритель и заставил нас замолчать.
«Какой это герцог Нормандский? — раздумывал я. — Не тот ли это титул, который давался сыну Людовика XVI? Да ведь, без всякого сомнения, умер этот бедный ребенок. Ну, так мой сосед, должно быть, один из тех несчастных, которые пытались воскресить его.»
Многие выдавали себя за Людовика XVII и все они были признаны самозванцами: какие же у этого-то данные, чтобы поверили ему?
Хотя я и пытался еще сомневаться, но какое-то непреодолимое убеждение в ложности его слов укоренилось во мне. Тем не менее, я решил не оскорблять несчастного, какую бы басню ни рассказал он мне.
Спустя некоторое время, он снова запел, я воспользовался этим, и мы возобновили нашу беседу.
На мой вопрос о том, кто он, он отвечал, что он действительно Людовик XVII, и разразился упреками в адрес Людовика XVIII, его дяди, похитителя его прав.
— Но почему же вы эти права не предъявили во время Реставрации?
— Я лежал тогда при смерти в Болонье. Как только стало мне лучше, я поехал в Париж, явился к высшим властям, на что сделано, того не воротишь: мой дядя по своей неправоте, не хотел меня признавать, моя сестра была с ним заодно против меня. Один только добрый принц Конде принял меня с распростертыми объятиями, но его дружба ничего не могла сделать. В один прекрасный вечер, на улицах Парижа, напали на меня наемные убийцы, вооруженные кинжалами, и я едва-едва спасся от их ударов. Поскитавшись некоторое время в Нормандии, я вернулся в Италию и остановился в Модене. Отсюда я не переставал писать монархам Европы и в особенности императору Александру, который отвечал мне с величайшей любезностью, и я все еще не отчаивался добиться правосудия или, если уже должны были принестись в жертву политике мои права на трон Франции, по крайней мере, добиться того, чтобы мне дали приличное содержание. Я был арестован, отправлен за границы Моденского герцогства и передан австрийскому правительству. И вот уже восемь месяцев, как я заживо погребен здесь, и Бог знает, когда я выйду отсюда!
Я не поверил ни одному его слову. Но что он заживо погребен здесь — была истина, и это возбудило во мне живейшее сострадание к нему.
Я просил его рассказать вкратце свою жизнь. Он передал мне до мельчайших подробностей все, что я уже знал относительно жизни Людовика XVII: как его посадили с башмачником, злодеем Симоном, как подучили его свидетельствовать против королевы, его матери, и поддержать бессовестную клевету на нее и пр., и пр. И, наконец, как пришли за ним ночью в тюрьму, где он находился; слабоумный ребенок по имени Матюрэн был оставлен вместо него, а он был похищен. На улице стояла коляска, запряженная четверкой, причем одна из лошадей была деревянная, в ней и скрыли его. Благополучно добрались до Рейна и перешли границу; генерал (он говорил мне его имя, но я не помню его), который освободил его, некоторое время выдавал себя за его воспитателя, отца, затем отправил или увез его в Америку. Там с молодым королем без королевства были разные перипетии: терпел голод в пустынях, поступил на военную службу, счастливо жил, всеми уважаемый, при бразильском дворе, был оклеветан и принужден бежать. Вернулся в Европу к концу правления Наполеона и был арестован в Неаполе Иоакимом Мюратом, а когда вновь увидал себя свободным и близким к ступеням трона Франции, его поразила в Болонье эта несчастная болезнь, в течение которой Людовик XVIII и короновался.
XX
Он рассказал эту историю с поразительным видом истины. Верить ему я не мог, а все-таки удивлялся ему. Все факты французской революции были ему известны в совершенстве, он говорил о них охотно и красноречиво, приводя любопытнейшие анекдоты. В его речах было что-то солдатское, но не без изящества, приобретаемого в кругу утонченного общества.
— Вы мне позволите, — сказал я ему, — попросту обходиться с вами, не употребляя титулов?
— Это и мое желание, — отвечал он, — я извлек хоть ту выгоду из несчастия, что умею смеяться над всяким тщеславием. Уверяю вас, что я горжусь больше тем, что я человек, а не тем, что я король.
Утром и вечером мы подолгу вместе разговаривали и, не смотря на то, что я считал его комедиантом, душа его казалась мне доброй, чистой, жаждущей всякого нравственного блага. Несколько раз я порывался сказать ему: «Извините, я желал бы поверить вам, что вы — Людовик XVII, но откровенно вам признаюсь, что я убежден в противном; будьте и вы настолько искренни, перестаньте притворяться передо мной.» И я передумывал про себя прекрасное слово, какое я скажу ему относительно тщеты всякой лжи, в том числе и той лжи, которая кажется невинной.
Со дня на день я это откладывал: все выжидал, не станет ли теснее наша дружба, и так и не решился привести в исполнение свое намерение.
Когда я размышляю об этом недостатке смелости, я оправдываю его иногда, как необходимую вежливость, как благородную боязнь опечалить человека и многим другим. Но эти оправдания не удовлетворяют меня, и я не могу скрыть того обстоятельства, что я был бы более доволен собою, если бы не засела у меня в горле придуманная маленькая речь. Делать вид, что веришь обману — это малодушие: мне кажется, что я не сделал бы этого больше.
Да, малодушие! Верно, что какими бы я ни обставлял деликатными околичностями свои слова, все-таки жестоко сказать другому: «Я вам не верю». Он рассердится, мы лишимся того удовольствия, которое нам доставляла его дружба, он осыплет нас, может быть, обидными словами. Но все-таки гораздо лучше, честнее потерять все, чем допустить ложь. И, может быть, несчастный, который осыпал бы нас обидными словами, видя, что мы не верим его обману, удивился бы потом нашей откровенности и получил бы повод к таким размышлениям, которые бы вывели его на лучшую дорогу.
Секондини склонны были верить тому, что он действительно был Людовиком XVII, и, пережив уже столько перемен судьбы, не отчаивались, что в один прекрасный день он взойдет на трон Франции и вспомнит об их преданнейшей службе. За исключением того, чтобы благоприятствовать его побегу, для него делалось все, что только он желал.
Этому и я был обязан честью видеть великую особу. Он был среднего роста, сорока — сорока пяти лет, несколько толстый и лицом настоящий бурбон. Вероятно, что случайное сходство с бурбонами и ввело его в искушение сыграть эту печальную роль.
XXI
В другой недостойной боязни людского мнения я должен обвинить себя. Мой сосед не был атеистом, а, напротив, говорил иногда о религиозных чувствах, как человек, ценящий их и не чуждый их; но у него все-таки было много безрассудных предубеждений против христианства, на которое он смотрел не столько с точки зрения его истинной сущности, сколько с точки зрения его злоупотреблений. Его прельстила поверхностная философия, предшествовавшая французской революции и следовавшая за ней. Ему казалось, что можно почитать Бога с большею правильностью, чем учить евангелие. Не ознакомившись хорошо с Кондильяком и Праси, он почитал их величайшими мыслителями и воображал, что этот последний дал законченность всем возможным метафизическим изысканиям.
Я, который довел гораздо дальше свое философское образование; я, который чувствовал слабость экспериментальной доктрины; я, который знал грубые ошибки критики, какою был охвачен век Вольтера, с целью порочить христианство; я, прочитавший Гене и других благородных обличителей этой ложной критики; я, убежденный в том, что нельзя логикою вещей допускать Бога и отрицать Евангелие; я, считавший таким пошлым делом следовать за течением антихристианских мнений и не уметь возвыситься до понимания того, на сколько прост и высок католицизм, не в карикатурном своем виде, — я имел низость принести все это в жертву боязни людского мнения. Меня смущали шутки моего соседа, хотя и не могла от меня скрыться их пустота. Я скрывал свою веру, колебался, раздумывал, будет ли удобно или неудобно противоречить ему, говорил себе, что это бесполезно, и хотел убедить себя, что я оправдан.
Низость! Трусость! Что нужды в кичливой силе прославленных мнений без всякого основания? Правда, что неуместное рвение есть безрассудство и может еще больше раздражать того, кто не верит. Но признаваться откровенно и в то же время скромно в том, что ты твердо считаешь важною истиной, и признаваться в этом даже и там, где не ожидаешь одобрения, где ты предполагаешь, что не избегнешь небольшого презрения или насмешки, — вот это есть истинный наш долг. И это благородное признание всегда может быть выполнено так, чтобы здесь не было неуместного характера миссионерства.
Должно признаваться в важной истине во всякое время, потому что, если нельзя надеяться, что немедленно познают эту истину, можно однако же этим дать такой толчок душе другого, который произведет большее беспристрастие суждений, а за этим последует победа света.
XXII
В этой комнате я прожил месяц и несколько дней. В ночь с 18 на 19 февраля 1821 года я был разбужен шумом засовов и замков; вижу, что входит несколько человек с фонарем: первая представившаяся мне мысль была та, что пришли задушить меня. Но пока я, недоумевая, смотрел на эти фигуры, подходит ко мне с любезным видом граф Б. и говорит мне, чтобы я оделся бы поскорее для выхода отсюда.
Я был поражен этими неожиданными словами, и у меня появилась безумная надежда, что меня отправят к границам Пьемонта. Возможно ли, чтобы такая буря и улеглась таким образом? Неужели я вновь получу желанную свободу? Неужели я снова увижу моих дорогих родителей, братьев, сестер?
Но недолго волновали меня эти обманчивые мечты. Я быстро оделся и последовал за своими спутниками, не попрощавшись со своим соседом. Мне показалось, что я слышал его голос, и мне было жаль того, что я не мог отвечать ему.
— Куда мы едем? — спросил я у графа, садясь в коляску с ним и с жандармским офицером.
— Я не могу вам сказать этого, пока мы не будем в миле от Милана.
Я видел, что коляска не поехала к Верчельским воротам, и мои надежды разлетелись в прах!
Я замолчал. Была прелестнейшая лунная ночь. Я смотрел на эти милые улицы, по которым столько лет ходил таким счастливым, на эти дома, на эти церкви. Все пробуждало во мне тысячи сладких воспоминаний.
О, бульвар Восточных Ворот! О, вы, общественные сады, где я столько раз гулял с Фосколо, с Монти, с Людовико ди-Бреме, с Пьетро Борсьери, с Порро и с его детьми, со столькими другими милыми людьми, беседуя с ними в полном расцвете жизни и надежд! О, как, говоря себе, что я вижу вас в последний раз, о, как при вашем быстром исчезновении из моей жизни, я чувствовал, что я любил и люблю вас! Когда мы выехали из ворот, я надвинул шляпу на глаза и плакал.
Дав проехать больше чем с милю, я сказал графу Б.: «Я полагаю, что мы едем в Верону.»
— Едем дальше, — отвечал он, — мы едем в Венецию, где я должен передать вас специальной комиссии.
Мы ехали на почтовых, не останавливаясь, и прибыли 20 февраля в Венецию.
В сентябре предыдущего года, за месяц до моего ареста, я был в Венеции и обедал в многочисленной и веселой компании в гостинице Луны. Странное дело! Граф Б. и жандармский офицер привезли меня именно в эту гостиницу Луны.
Слуга чрезвычайно был изумлен, увидав меня и заметив, (хотя жандарм и двое конвойных, принявших вид прислуги, были переодеты), что я в руках властей. Я обрадовался этой встрече, будучи убежден, что слуга расскажет многим о моем прибытии.
Пообедали, а потом я был отведен в палаццо дожа, где находился суд. Проходя под этими дорогими портиками delle Procuratie3 и перед кафе Флориана, где я в прошлую осень наслаждался столь прекрасными вечерами, я не встретился ни с одним из своих знакомых.
Прошли небольшую площадь… и на этой площади, в прошлом сентябре, какой-то нищий сказал мне эти странные слова: «Видно, что вы чужестранец, синьор; но я не понимаю, как это вы и все чужестранцы любуетесь этим местом: для меня это — место несчастия, и я прохожу здесь единственно по необходимости.»
— Не случилось ли здесь какого-нибудь с вами несчастия?
— Да, синьор, страшное несчастие, и не со мной одним. Бог да сохранит вас, синьор, Бог да сохранит вас!
И он поспешно удалился отсюда.
Проходя теперь снова по этой площади, нельзя было не вспомнить слов нищего. И опять на этой же площади, в следующем году, я всходил на эшафот, где слушал чтение моего смертного приговора и замену этого наказания пятнадцатилетним заключением в тюрьме!
Если бы моя голова немножко бредила мистицизмом, я бы счел великим этого нищего, предсказавшего мне столь верно, что это место несчастия. Я отмечаю этот факт единственно, как странную случайность.
Поднялись в палаццо, граф Б. переговорил с судьями, затем передал меня тюремщику и, прощаясь со мной, растроганный, обнял меня.
XXIII
Я молча последовал за тюремщиком. Пройдя несколько коридоров и зал, мы пришли к небольшой лестнице, которая привела нас в Свинцовые тюрьмы, знаменитые государственные тюрьмы со времени Венецианской республики.
Здесь тюремщик внес в регистр мое имя и затем запер меня в назначенную мне камеру. Так называемые Свинцовые тюрьмы (i Piombi) — это верхняя часть палаццо, бывшего прежде дворцом дожа, крытая свинцом.
В моей камере находилось большое окно с огромной решеткой, которое выходило на кровлю церкви св. Марка, крытую также свинцом. По ту сторону церкви я видел вдали конец площади и повсюду бесконечное число куполов и колоколен. Гигантская колокольня св. Марка отделялась от меня только церковью, и я слышал тех, кто несколько громче говорил на самом верху. С левой стороны церкви виднелась также большая часть огромного двора палаццо и один из его входов. В этой части двора находился колодец, и туда беспрестанно приходили брать воду. Но тюрьма была так высока, что люди казались мне там внизу маленькими детьми, и я различал их слова только тогда, когда они кричали. Я находился здесь в гораздо большем уединении, чем в Миланской тюрьме.
В первые дни заботы об уголовном процессе, который был начат специальной комиссией против меня, печалили меня, и сюда присоединялось, может быть, и мучительное чувство одиночества. Кроме этого, я был еще дальше от своей семьи, и у меня не было больше известий о ней.
Новые лица, которые я видел, не были антипатичны мне, но они были серьезны и как будто страшились меня. Молва преувеличила им заговор, составленный миланцами и остальной Италией, с целью получить независимость, и они боялись, не был ли я одним из самых непростительных зачинщиков этого безумного дела. Моя небольшая литературная деятельность была известна тюремному смотрителю, его жене, дочери, двум его сыновьям и даже двум секондини: кто их знает, не воображали ли все они того, что автор трагедий есть что-то вроде волшебника!
Были они серьезны, недоверчивы, но вполне вежливы, и желали, чтобы я позволил им поближе познакомиться со мной.
С первых же дней все стали дружелюбнее, и я нашел их добрыми. Жена смотрителя обладала осанкой и характером тюремщика. Эта была женщина с чрезвычайно сухим лицом, лет сорока, с чрезвычайно сухою речью, без малейшего следа того, чтобы она была способна любить кого-нибудь другого, кроме своих детей.
Она приносила мне кофе утром и после обеда, воду, белье и пр. С нею приходили обыкновенно дочь, девушка пятнадцати лет, некрасивая, но с добрыми глазами, и два сына: один тринадцати лет, другой — десяти. Потом они уходили вместе с матерью и, запирая за собою дверь, оборачивались, чтобы нежно взглянуть на меня. Тюремный смотритель не приходил ко мне, за исключением только тех случаев, когда он должен был отвести меня в залу, где собиралась комиссия для разбора моего дела. Секондини приходили редко, потому что заняты были в полицейских тюрьмах, находившихся в нижнем этаже, где было всегда много воров. Один из этих секондини был старик лет семидесяти с лишним, но еще годный для этой утомительной беготни вверх и вниз по лестницам в разные камеры. Другой был молодой человек лет 24 или 25, более склонный рассказывать свои любовные похождения, чем заниматься своей службой.
XXIV
Да! Страшны заботы об уголовном процессе для подсудимого, обвиняющегося во вражде к государству! Какая боязнь, как бы не повредить другому! Какая трудность — бороться против стольких обвинений, против стольких подозрений! Какая вероятность того, что все это не запутается еще ужаснее, если процесс скоро не кончится, если будут проведены новые аресты, если откроются новые безрассудства не таких лиц, которые еще неизвестны, но тех же самых, о которых теперь идет дело!
Я решился не говорить о политике, и потому нужно, чтобы я удержался от всякого рассуждения относительно процесса. Скажу только, что я часто после долгих часов в зале заседаний возвращался в свою камеру столь ожесточенным, столь пылающим страшным гневом, что убил бы себя, если бы голос религии и память о дорогих родителях не удержали меня.
Спокойствие духа, которого, казалось мне, я достиг в Милане, теперь совершенно исчезло. В течение нескольких дней я отчаивался вновь достичь этого спокойствия, и то были адские дни. Я перестал тогда молиться, сомневался в справедливости Бога, проклинал людей и весь мир и перебирал в уме своем все возможные софизмы относительно тщеты добродетели.
Несчастный и раздраженный человек страшно изобретателен в том, чтобы клеветать на себе подобных и даже на самого Бога. Гнев более безнравствен, более преступен, чем это вообще думают. Так как невозможно неистовствовать с утра до вечера, целыми неделями, и душа, обуреваемая яростью, нуждается же в промежутках отдыха, то в эти промежутки обыкновенно сознаётся вся безнравственность предыдущего. Кажется тогда, что ты спокоен, но это спокойствие — злобное, нечестивое; на губах дикая усмешка, без доброты, без достоинства; любовь к беспорядку, к опьянению, к насмехательству.
В подобном состоянии я пел целыми часами с некоторого рода веселостью, но в этой веселости на самом деле не было ни малейшего признака добрых чувств; я шутил со всеми, кто входил в мою камеру; я принуждал себя смотреть на все с точки зрения циника.
Это постыдное время недолго тянулось: шесть или семь дней.
Моя Библия покрылась пылью. Один из мальчиков смотрителя, лаская меня, сказал мне: «С тех пор, как вы больше не читаете этой книжонки, мне кажется, что вы менее грустны.»
— Кажется тебе? — сказал я ему.
И, взяв Библию, я смахнул платком пыль с нее и открыл ее на удачу; на глаза мне попались вот эти слова: «Et ait ad discípulos suos: impossibile est, ut non veniant scandala; vae autem illi, per quem venient! Utilius est illi si lapis molaris imponatur circa collum ejus et projiciatur in mare, quam ut scandalizet unum de pusillis istis»4.
Я был поражен тем, что мне попались именно эти слова, и покраснел при мысли, что этот мальчик был так проницателен: увидав пыль на Библии, он решил, что я не читаю ее больше, и потому-то я и сделался добрее, что перестал заботиться о Боге.
— Ах ты, маленький вольнодумец! — сказал я ему с нежным упреком и сожалея о том, что я ввел его в соблазн. — Это — не книжонка; с того времени, как я не читаю ее, я сделался гораздо хуже. Когда твоя мать позволяет тебе побыть немного со мною, я пользуюсь этим, чтобы прогнать свое дурное расположение духа; но если бы ты знал, как оно одолевает меня, когда я один, когда ты слышишь, что я пою, как безумный!
XXV
Мальчик ушел, и я испытывал какую-то радость, что взял снова Библию и признался в том, что я стал хуже без нее. Мне казалось, что я удовлетворил великодушного друга, несправедливо оскорбленного мной, что я примирился с ним.
— И я покинул Тебя, мой Боже? — воскликнул я. — И я предал? И я мог думать, что постыдный смех цинизма соответствует моему безнадежному положению?
Я произнес эти слова с несказанным волнением, положил на стул Библию, встал на колени читать ее и я, которому так трудно плакать, залился слезами.
Эти слезы были в тысячу раз приятнее всякого веселья. Я вновь познавал Бога! Я любил Его! Я раскаивался в том, что оскорбил Его, допустил себя упасть до такой степени! И я обещал никогда больше не разлучаться с Ним, никогда!
О, как утешается и возвышается дух искренним возвратом в религию.
Я читал и плакал больше часу, и встал полным веры в то, что Бог со мною, что Бог простил мне всякое заблуждение. Тогда и мои несчастия, и муки процесса, и вероятная виселица мне казались незначительным делом. Я радовался страданию, так как оно давало мне случай к выполнению некоторого долга, так как, страдая безропотно, с духом покорным Провидению, я повиновался воле Господа.
Библию, благодарение небу, я умел читать. Уже не судил я теперь о ней с жалкой критикой Вольтера, насмехаясь над выражениями, которые смешны или неправильны только в том случае, когда по истинному ли невежеству, или по ехидству, не проникают в их смысл.
Мне было ясно, каким собранием святости, и отсюда истины, была Библия; я видел ясно, какая это не философская вещь оскорбляться некоторыми несовершенствами ее слога, и насколько это похоже на то высокомерие, с каким презирают все то, что не имеет элегантных форм; я видел ясно, как нелепо думать, что такое собрание религиозно чтимых книг не имеет достоверного происхождения; мне было ясно, насколько неоспоримо превосходство такого писания над Кораном и над теологией индейцев.
Многие злоупотребляли этим писанием, многие хотели сделать из него кодекс несправедливости, санкцию их преступных страстей. Это правда; но у нас все так: всем могут злоупотреблять, а разве можно когда сказать про что-нибудь прекрасное, чем злоупотребляют, что это прекрасное само по себе зло?
Иисус Христос сказал: весь закон и пророки, все это собрание священных книг, сводится к заповеди: любить Бога и людей. И такое писание разве не есть истина, приложимая ко всем векам? Разве не есть оно всегда живое слово Св. Духа.
Когда вновь пробудились во мне эти размышления, я опять вернулся к своему решению — сообразовать с религией все мои мысли относительно дел человеческих, все мои думы о прогрессе и цивилизации, мою филантропию, мою любовь к отечеству, все склонности души моей.
Те несколько дней, которые я провел так недостойно, надолго меня запятнали. Последствия их я чувствовал долгое время и должен был много трудиться, чтобы уничтожить следы этих дней. Всякий раз, как человек поддается искушению, унижающему его разум, искушений — смотреть на творения Господа сквозь адское увеличительное стекло насмешки, когда человек прекращает благодетельную молитву, — вред, который он производит всем этим в собственном разуме, способствует скорому и легкому падению человека вновь в это искушение. В течение нескольких недель, почти всякий день, я подпадал под тяжелое влияние мыслей неверия: я употреблял все силы моего духа, чтобы отогнать от себя эти мысли.
XXVI
Когда эта борьба кончилась и когда я вновь, как мне казалось, стал твердым в вере в Бога, я наслаждался некоторое время самым сладким миром. Допросы, которым подвергала меня комиссия каждые два или три дня, как они ни были мучительны, уже не причиняли мне больше продолжительного беспокойства. Я старался в этом трудном положении не изменить долгу чести и дружбы и затем говорил себе: а в остальном да будет воля Божия.
Я опять вернулся к точному выполнению ежедневной подготовки себя ко всякой случайности, ко всякой тревоге, ко всякому предполагаемому несчастию, и это занятие вновь принесло мне много пользы.
Мое одиночество между тем увеличилось. Оба сына тюремного смотрителя, иногда приходившие ко мне ненадолго, были отправлены в школу и, бывая теперь чрезвычайно мало дома, больше уже не приходили ко мне. Мать и сестра, когда бывали тут мальчики, также часто останавливались поболтать со мной, а теперь появлялись только за тем, чтобы подать кофе, и сейчас же оставляли меня. Что касается матери, я мало сожалел о том, потому что она не выказывала ни малейшего сострадания. Но у дочери, хотя и некрасивой, была некоторая нежность взгляда и речи, которые не остались не замеченными мной. Если она приносила мне кофе и говорила: «Это я его делала», — кофе казался мне всегда превосходным. Если же говорила: «Его мама делала», — вода была горяча.
Видя так редко людей, я занялся муравьями, которые появлялись на моем окне, роскошно кормил их; эти уже призывали с собой целое войско товарищей, и окно кишело этими насекомыми. Я занялся также красивым пауком, который сплёл паутину на одной из моих стен. Кормил я его мушками и комарами, и он так подружился со мной, что спускался на кровать и на руку и брал добычу с моего пальца.
Только и были одни насекомые моими посетителями! Была еще весна, а комары уже размножились в страшном количестве. Зима была чрезвычайно мягкая, и после небольших мартовских ветров наступила жара. Трудно выразить, как раскалялся воздух берлоги, в которой я жил. Находясь под лучами южного солнца, живя под свинцовою крышей, имея окно, выходящее на крышу св. Марка, также крытую свинцом, отражение от которой было ужасное, я задыхался. Я никогда не имел ни малейшего понятия о такой страшной, подавляющей жаре. К этому мучению присоединились еще комары в таком количестве, что, сколько я ни метался, сколько ни убивал их, я был покрыт ими; постель, столик, стул, пол, стены, потолок — все было ими покрыто; вся комната кишела ими: они беспрестанно прилетали и вылетали в окно, производя адское жужжанье. Жалили эти твари чрезвычайно больно, и когда тебя жалят с утра и до вечера и с вечера до утра, да притом ты должен еще постоянно беспокоиться, придумывая, как бы уменьшить их число, — так истинно страдаешь и телом, и духом.
Тогда-то, испытав подобный бич, я познал его тяжесть; просил и не мог добиться, чтобы мне переменили комнату, и тогда мной овладело искушение — покончить жизнь самоубийством, и я боялся, что сойду с ума. Но, благодарение небу, это безумие было кратковременно, и религия продолжала поддерживать меня. Она убедила меня, что человек должен страдать и страдать с твердостью; она дала мне познать сладость горя, дала познать ту радость, когда не падаешь под тяжестью его, когда все одолеваешь.
Я говорил себе: чем горше будет жизнь моя, тем менее страшно мне будет увидеть себя в такие молодые годы, как мои, приговоренным к казни. Без этих предварительных страданий я умер бы, может быть, трусом. Да и такие ли у меня добродетели, чтобы я достоин был счастья? Где они?
И, со справедливою строгостью спрашивая себя, я нашел в прожитых мною годах немного поступков, заслуживающих некоторой похвалы: все остальное были глупые страсти, служение кумирам, гордая и ложная добродетель. «Так и страдай, недостойный! — заключил я. — Если люди и комары убьют тебя, хотя бы по злобе и без всякого права, познай в них орудия Божественной справедливости и молчи!»
XXVII
Нужна ли человеку сила для искреннего смирения? Для признания себя грешником? Разве не правда то, что мы вообще тратим молодость по-пустому и вместо того, чтобы употреблять наши силы на движение вперед по пути к благу, мы употребляем их большею частью на собственное разрушение. Есть здесь исключения, но признаюсь, что они не касаются моей бедной персоны. И нет никакой заслуги в том, что я признаюсь в недовольстве собою: если видишь, что лампа дает больше дыму, чем свету, не будет большой искренностью сказать, что она горит не как следует.
Да, без самоунижения, без лицемерной совестливости, смотря на себя со всем возможным спокойствием мысли, я нашел себя достойным кары Бога. Внутренний голос говорил мне: подобные наказания должны быть тебе, если не за это, так за другое; они дали тебе возможность опять придти к Тому, Кто совершенен, и подражать Которому призваны все смертные по мере их ограниченных сил.
На каком же основании стал бы я жаловаться, если одни люди явились по отношению ко мне подлыми, другие — несправедливыми, если мирские радости у меня были отняты, если я должен был зачахнуть в тюрьме или погибнуть насильственной смертью, когда я сам принужден обвинить себя в тысяче проступков против Бога?
Я старался твердо запечатлеть в своем сердце эти столь справедливые рассуждения: и, сделав это, я увидел, что нужно быть последовательным и что им нельзя быть иначе, как благословляя правый суд Божий, любя его и подавляя в себе всякое желание, противоречащее ему.
Чтобы стать более твердым в этом решении, я задумал отныне впредь тщательно излагать письменно все мои чувства. Плохо было то, что комиссия, позволяя мне иметь письменные принадлежности и бумагу, пронумеровала листы этой бумаги, с воспрещением уничтожить хоть один, и оставила за собой право исследования, на что я употребил эту бумагу. Чтобы заменить бумагу, я прибег к невинной хитрости — полировал кусочком стекла грубый столик, стоявший у меня, и на нем потом писал каждый день длинные размышления об обязанностях человека и в особенности о моих обязанностях.
Я не преувеличиваю, говоря, что для меня часы, употребленные так, были иногда полны наслаждения, несмотря на трудность дыхания, которую я испытывал от чрезмерного жара и мучительнейших укусов комаров. Чтобы уменьшить количество этих последних, я был вынужден, несмотря на жару, писать не только в перчатках, но и обвязав себе запястье, чтобы комары не попали за рукава.
Эти мои рассуждения носили характер скорее биографический. Я рассказывал про все хорошее и дурное, что было во мне с детства до сих пор, рассуждая сам с собою, стараясь разрешить всякое сомнение, приводя в порядок, на сколько умел, все мои понятия, все мои мысли относительно всего.
Когда вся поверхность стола, годная для употребления, становилась исписанной, я читал и перечитывал написанное, размышлял над тем, что уже было обдумано, и наконец решался (часто с сожалением) соскоблить все это стеклом, чтобы снова иметь эту поверхность годной к восприятию моих мыслей.
Затем опять продолжал свою историю, часто замедлялась она отступлениями всякого рода, анализом то того, то этого метафизического пункта, или морального, политического, религиозного, и когда все было исписано, я опять читал и перечитывал, а потом соскабливал.
Не желая иметь никакого повода к препятствию в пересказе самому себе, с самой свободной доверчивостью, фактов, вспоминавшихся мне, и моих мнений, и предвидя возможность чьего-нибудь посещения с целью обыска, я писал на жаргоне, т. е. перестанавливал буквы и делал различные сокращения, к чему я чрезвычайно привык. Такого посещения, однако, не случилось, и никто не замечал, что я так прекрасно провожу мое печальное время. Когда я, бывало, заслышу, что смотритель или другой кто открывает мою дверь, я покрываю столик скатертью и кладу на нее письменные принадлежности и законную тетрадку бумаги.
XXVIII
Также и этой тетрадке посвящал я по несколько часов, а иногда и целый день или целую ночь. Писал я там литературные вещи. В то время мной были написаны: «Ester d’Engaddi» и «Iginia d’asti» и следующие песни, озаглавленные: «Tancreda», «Rosilde», «Elegí e Valafrido», «Adello», сверх того много набросков трагедий и других произведений, и между прочим набросок поэмы «Lega Lombarda», и другой поэмы «Cristoforo Colombo».
Так как допроситься новой тетради, когда старая кончилась, не всегда было легко, то я сначала набрасывал сочинение на столике или на бумажонке, в которой мне приносили сухие винные ягоды или другие фрукты. Иногда я отдавал свой обед одному из секондини, уверяя его, что у меня вовсе нет аппетита, и тем подбивал его подарить мне листок бумаги. Это случалось только в известных случаях, когда столик был весь записан, и я еще не мог решиться соскоблить с него то, что было написано. В таком случае я терпел голод, и хотя тюремный смотритель имел в распоряжении мои деньги, я весь день не просил у него чего-нибудь поесть, чтобы он не заподозрил, что я отдал свой обед, частью потому, чтобы секондино не увидал, что я обманул его, уверяя, что я потерял аппетит. Вечером я поддерживал себя крепким кофе и упрашивал, чтобы его приготовила сьора 5 Цанце 6. Это была дочь смотрителя, она, если могла сделать кофе тайком от матери, делала его чрезвычайно крепким, таким, что при пустом желудке этот кофе причинял мне нечто вроде судорог, правда, не болезненных, которые и заставляли меня бодрствовать всю ночь.
В таком состоянии мягкого опьянения я чувствовал, что мои умственные силы удваивались, я поэтизировал, философствовал, молился до зари с величайшим наслаждением. Затем внезапное утомление охватывало меня: я бросался тогда на кровать и, не смотря на комаров, которым, сколько я ни завертывался, все-таки удавалось жалить меня, я спал глубоким сном час или два.
Эти ночи, когда меня так возбуждал крепкий кофе, принятый на голодный желудок, эти ночи, проводимые мною в такой сладкой экзальтации, казались мне слишком благодетельными, чтобы я не старался часто доставлять их себе. Почему, и не нуждаясь в бумаге от секондино, я нередко решал не дотрагиваться до еды за обедом, чтобы получить вечером желанные чары магического напитка. И счастлив я был, когда достигал этой цели! Несколько раз случалось, что кофе делался не доброю Цанце и представлял из себя кипяченую воду. Такая неудача несколько сердила меня. Вместо того, чтобы быть наэлектризованным, я томился, зевал, чувствовал голод, бросался на кровать и был не в состоянии заснуть.
Потом жаловался на это Цанце, и она жалела меня. Как-то раз я сурово прикрикнул на нее за то, что она, будто бы, меня обманула. Бедняжка заплакала и говорит мне:
— Синьор, я никогда никого не обманывала, а все зовут меня обманщицей.
— Все! О, так значит, не я один сержусь на эту бурду.
— Я не то хочу сказать, синьор. Ах, если бы вы знали!.. Если б я могла раскрыть вам свою душу!..
— Да не плачьте так. Что с вами? Ну, простите, если я напрасно закричал на вас. Верю, вполне верю, что не по вашей вине у меня такой скверный кофе.
— Ах, да не о том я плачу, синьор!
Мое самолюбие было немного задето, но я улыбнулся.
— И так вы плачете не по случаю моего выговора, но совсем по другому поводу?
— Да, так.
— Кто же назвал вас обманщицей?
— Мой милый.
И лицо ее все покрылось краскою. И в своей простодушной доверчивости она рассказала мне комично-серьезную идиллию, которая растрогала меня.
XXIX
С этого дня, не знаю уже почему, я сделался наперсником девушки, и она стала подолгу беседовать со мной.
Между прочим, она говорила мне:
— Синьор, вы такой добрый, что я смотрю на вас так, как могла бы смотреть дочь на отца.
— Ну, это плохой комплимент, — отвечал я, отталкивая ее руку, — мне едва тридцать два года, а вы уже смотрите на меня, как на отца.
— Так я скажу, синьор: как на брата.
И, насильно взяв мою руку, она с чувством пожала ее. И все это было наиневиннейшим образом.
После я говорил себе: «Счастье, что она не красавица! А то в другой раз меня могла бы смутить эта невинная фамильярность.»
В другой раз я говорил себе: «Счастье, что она так молода! Нечего и бояться, чтобы я влюбился в девушку таких лет.»
Иногда нападало на меня некоторое беспокойство: мне казалось, что я ошибался, считая ее некрасивой, и я должен был согласиться, что формы ее не были неправильны.
— Не будь она такой бледной, — говорил я, — и не будь у нее этих веснушек на лице, она могла бы считаться хорошенькой.
Правда, что невозможно не находить некоторого очарования в присутствии, во взглядах, в болтовне милой, живой, молодой девушки. Я и потом не старался приобрести ее благосклонность, и был ей милым, как отец или как брат, на мой выбор. А почему? Потому что она читала «Francesca da Rimini» и «Eufemio», и мои стихи так разжалобили ее! И еще потому, что я был арестантом, не убив, не ограбив никого, как она говорила.
И в конце концов, я, который полюбил Маддалену, не видав ее, как я мог быть равнодушным к сестринским попечениям, к грациозно льстивым похвалам, к превосходному кофе этой Venezianina adolescente sbirra? 7
Я был бы лжецом, если бы приписал своему благоразумию то, что я не влюбился в нее. Я не влюбился в нее единственно потому, что у нее был возлюбленный, от которого она была без ума. Горе бы мне, если бы это было иначе!
Но если чувство, пробудившееся во мне, было не то, которое называется любовью, то, признаюсь, что оно приближалось к последней. Я пламенно желал, чтобы она была счастлива, чтобы ей удалось выйти замуж за того, кто ей нравился; у меня не было ни малейшей ревности, ни малейшей мысли о том, что она могла бы меня избрать предметом своей любви. Но когда, бывало, заслышу я, что отворяется дверь, сердце бьется у меня от надежды, что это — Цанце; и если это была не она, я не был доволен; если же это была она, сердце забьется еще сильнее, и я рад и счастлив.
Ее родители, которые уже были хорошего мнения обо мне и знали, что она влюблена до безумия в другого, без малейшего опасения позволяли почти всякий раз ей самой приносить мне мой утренний, а иногда и вечерний кофе.
Она обладала пленительною простотою и ласковостью. Как-то раз она сказала мне:
— Я так сильно влюблена в другого, а между тем я столь охотно бываю с вами. Когда я не вижу своего милого, я только здесь и не скучаю.
— Ты не знаешь, почему это?
— Не знаю.
— Я тебе скажу — почему. Потому что я не мешаю говорить тебе о твоем возлюбленном.
— Это так, но мне кажется и потому еще, что я вас очень, очень уважаю!
Бедная девушка! Она часто брала меня за руку, пожимала мне ее и не замечала, что это, в одно время, и было приятно мне, и волновало меня.
Благодарение Небу, я могу вспомнить без малейшего угрызения совести об этом милом создании.
XXX
Эти страницы были бы наверное гораздо приятнее, если бы Цанце была влюблена в меня, или, по крайней мере, я бы бредил о ней. Однако эта простая привязанность, которая нас соединяла, мне была дороже любви. И если я когда боялся, что мне сердце могло изменить, меня это серьезно огорчало.
Как-то раз, боясь, чтобы этого не случилось, в отчаянии от того, что нашел ее (уже не знаю, в силу какого очарования) в сто раз прекраснее, чем она показалась мне сначала, будучи охвачен грустью, которую я иногда испытывал вдали от нее, и радостью, которую причиняло мне ее присутствие, я решился дня два быть угрюмым, воображая, что она несколько отвыкнет от общения со мною. Средство это мало помогло: эта девушка была так терпелива, так сострадательна! Обопрется локтем на окно и все смотрит на меня молчаливо. А потом и говорит мне:
— Синьор, вам, кажется, наскучило мое присутствие, а все-таки я, если бы могла, проводила бы здесь весь день и именно потому, что вижу, что вам необходимо развлечение. Это скверное расположение духа есть естественный результат одиночества. А вот попытайтесь поболтать хоть немного, и скверное расположение духа исчезнет. А если вы не хотите поболтать, поболтаю я.
— О вашем возлюбленном, да?
— Ах, нет! Не все же о нем, я и о чем-нибудь другом умею поговорить.
И она начинала действительно рассказывать мне о своих домашних делах, о суровости матери, о добродушии отца, о ребячестве братьев; и рассказы ее были полны простоты и прелести, но, для себя самой незаметно, она попадала опять на излюбленную тему, на свою несчастную любовь.
Я не переставал быть угрюмым и надеялся, что она рассердится на это. Она же, было ли это неумышленно или с хитростью, не обращала внимания на мою угрюмость, и пришлось мне кончить тем, что я вновь повеселел, вновь улыбался, тронутый ее нежным терпением со мной и благодаря ее за него.
Я откинул неблагодарную мысль — рассердить ее, и мало-помалу мои страхи оставили меня. В самом деле я уже не находился под влиянием их. Долгое время исследовал свою совесть, писал свои размышления по этому вопросу, и подробное изложение их мне помогло.
Человек иногда пугается пустых призраков. Чтобы не бояться их, нужно рассмотреть их поближе и с большим вниманием.
И есть ли вина в том, что я желал, с нежным беспокойством, ее посещений, что я дорожил тем удовольствием, которое они доставляли мне, что мне приятно было ее сострадание ко мне, приятно было платить ей привязанностью за привязанность; ведь наши мысли, которые мы передавали друг другу, были чисты, как самые чистые мысли детства; ведь пожатия ее руки и ее ласковые взгляды, меня волнуя, наполняли меня спасительным уважением.
Раз вечером, делясь со мною сильным огорчением, испытанным ею, несчастная бросилась ко мне на шею и оросила лицо мое слезами. В этом объятии не было ни малейшей дурной мысли. Дочь не могла бы с большим почтением обнять своего отца.
А все-таки после этого мое воображение было слишком потрясено. Это объятие мне часто приходило на ум, и тогда я не мог больше ни о чем другом думать.
В другой раз, при подобном же порыве дочерней доверчивости, я быстро высвободился из ее милых рук, не прижимая ее к себе, не целуя ее, и сказал ей:
— Прошу вас, Цанце, не обнимайте меня никогда, это нехорошо.
Она пристально посмотрела на меня, потупила глаза, покраснела и верно впервые прочитала в душе моей возможность любви к ней.
Она и после не переставала быть дружной со мной, но эта дружба сделалась более почтительной, более соответствующей моему желанию, и за это я был ей благодарен.
XXXI
Я не могу говорить о бедствиях других людей, но что касается моих, с тех пор, как я живу, нужно признаться, что, исследовав их хорошо, я всегда находил их приносящими некоторую пользу для меня. Да, кончая этим страшным жаром, который меня угнетал, и этими армиями комаров, которые вели со мной такую жестокую войну! Я тысячу раз размышлял об этом. Без этого беспрерывного, мучительного состояния, был ли бы я постоянно настороже против угрожавшей мне любви? И как было бы трудно быть любви достаточно почтительной с такою веселою, приветливой натурой, как эта девушка! Если я и в таком положении боялся себя, то как бы я мог управлять собою, при несколько лучшем воздухе, при воздухе, располагающем к веселости?
В виду неблагоразумия родителей Цанце, столь доверявших мне, в виду опрометчивости ее самой, что она не предусмотрела возможности стать для меня причиной преступного опьянения, в виду малой твердости моей добродетели, нет сомнения, что удушающий жар этой печи и жестокие комары были спасительны для меня.
Эта мысль несколько примиряла меня с этими бичами. И тогда я спрашивал себя: «Хотел ли бы ты быть свободным от них и жить в хорошей комнате, в которой бы дышалось легко, и больше не видеть этого милого создания?»
Я должен сказать правду! У меня не хватало духу ответить на этот вопрос.
Когда хоть немного любишь кого-нибудь, нельзя выразить того удовольствия, которое доставляют, по-видимому, чистые пустяки. Часто одно слово Цанце, ее улыбка, ее слезы, прелесть ее венецианского говора, грация, с какою она отгоняла платком или веером комаров от себя и от меня, наполняли мою душу детским довольством, которое длилось весь день. В особенности мне отрадно было видеть, что ее печали уменьшались при разговоре со мною, что ей нравилась моя набожность, что мои советы убеждали ее, и что сердце ее воспламенялось, когда мы рассуждали о добродетели и о Боге.
— Когда мы поговорим вместе о религии, — говорила она, — я молюсь охотнее и с большею верой.
Иногда разом обрывая какое-нибудь пустое рассуждение, она брала Библию, открывала ее, целовала на удачу какой-нибудь стих и высказывала желание, чтобы я перевел ей и объяснил его. И при этом она говорила: «Хотела бы я, чтобы вы всякий раз, как станете перечитывать этот стих, вспоминали, что я целовала его.»
Не всегда, правда, приходились кстати ее поцелуи, в особенности, если случалось открыть Библию на «Песне песней». Тогда, чтобы не заставлять краснеть ее, я пользовался ее незнанием латинского языка и останавливался только на таких фразах, где и святость книги, и невинность Цанце были бы неприкосновенны, так как и то и другое внушало мне высокое к ним уважение. В таких случаях я никогда не позволял себе улыбаться. Для меня, однако, бывало немалое затруднение, когда она, не понимая хорошо моего лжеперевода, просила перевести ей отрывок слово в слово и не позволяла мне быстро переходить к другому предмету.
XXXII
Ничего нет вечного на земле! Цанце захворала. В первые дни своей болезни она приходила ко мне, все жалуясь на сильную головную боль. Плакала и не объясняла причины своих слез. Только пробормотала какую-то жалобу на своего возлюбленного.
— Это злодей, — говорила она, — но да простит ему Бог!
Сколько я ни упрашивал ее облегчить, как бывало прежде, свое сердце, я не мог узнать, что огорчило ее до такой степени.
— Я завтра утром вернусь, — сказала она мне как-то вечером.
Но на следующий день кофе принесла мне ее мать, в другие дни — секондини, а Цанце тяжело занемогла.
Секондини говорили мне двусмысленности насчет любви этой девушки, которые поднимали мои волосы дыбом. Обольщение? Но, может быть, это клевета. Признаюсь, что я поверил этому, и был страшно потрясен таким несчастием. Но все-таки я еще надеялся, что они лгут.
Через месяц с лишним ее болезни, бедняжка была отправлена в деревню, и я уже больше не видал ее.
Не могу выразить, как я горевал об этой потере. О, насколько более страшным сделалось мое одиночество! Мысль, что это доброе создание несчастно, во сто раз была для меня тяжелее ее отсутствия! Она так много утешала меня в моих бедствиях своим нежным состраданием ко мне, а мое сострадание было бесплодно для нее! Но наверное она будет убеждена, что я плакал по ней, что я всем бы пожертвовал, лишь бы принести ей, если бы это было возможно, какое-нибудь утешение, что я не перестану никогда благословлять ее и молиться о ее счастье.
Когда была Цанце, ее посещения, хотя и были всегда слишком коротки, но, прерывая однообразие моей жизни, проходившей в постоянном размышлении и молчаливом изучении, вплетая в мои мысли другие мысли, возбуждая во мне какое-то сладкое чувство, истинно скрашивали мое несчастие и прибавляли мне сил.
После же нее тюрьма для меня вновь стала могилой. В продолжение многих дней я был подавлен грустью до такой степени, что даже в библии не находил ни малейшего удовольствия. Грусть моя была, впрочем, спокойна, в сравнении с прежде испытанными безумствами. Значило ли это, что я уже более свыкся со своим несчастием? Что я стал более философом, более христианином? Или только то, что жар, от которого я задыхался в своей комнате, ослабил до такой степени силу моего горя? Ах! Не силу горя! Мне помнится, что я сильно чувствовал его в глубине души моей, и, может быть, намного сильнее, так как я таил свое горе, не изливал его ни криком, ни волнением.
Конечно, долгий искус уже сделал меня способным терпеть новые огорчения, и я терпел их, поручая себя воле Божией. Я так часто говорил себе: жаловаться, это — малодушие, что, наконец, умел сдержать жалобы, готовые обнаружиться, стыдился того, что они были близки к обнаружению.
Занятие излагать письменно свои мысли содействовало укреплению моего духа, познанию тщеты всего, это занятие помогало мне привести большую часть моих рассуждений к таким заключениям:
— Бог существует; отсюда непогрешимая справедливость; отсюда все, что происходит, предназначено для самых лучших целей; отсюда страдание человека на земле есть благо для него.
И знакомство с Цанце для меня было благодетельно: оно смягчило мой характер. Ее нежное одобрение было для меня импульсом — не изменять долгу, который, как я сознавал, лежит на каждом человеке: быть выше судьбы и потому быть терпеливым, и я не изменял в течение нескольких месяцев этому долгу. И эти несколько месяцев постоянства приучили меня покоряться безропотно Провидению.
Цанце видела меня гневным только два раза. Один раз был тот, о котором я уже упоминал, по поводу скверного кофе, другой раз был по следующему поводу.
Каждые две или три недели приносил мне смотритель письмо от моего семейства, письмо, прошедшее сначала через руки комиссии и жестоко обезображенное помарками самых черных чернил. Как-то раз случилось, что, вместо помарок нескольких фраз, была проведена страшная полоса через все такое письмо, за исключением слов: «Carissimo Silvio», которые стояли в начале и приветствия в конце: «t’abbracciamo tutti di cnore»8.
Я был так взбешен этим, что в присутствии Цанце разразился грубым криком и проклинал сам не знаю кого. Бедная девушка жалела меня, но в то же самое время меня упрекала в противоречии моим принципам. Я видел, что она права, и не проклинал уже больше никого.
XXXIII
Как-то раз один из секондини вошел с таинственным видом в мою камеру и сказал мне:
— Когда была здесь сьора Цанце… так как она приносила вам кофе… и долго оставалась разговаривать… и я боюсь, как бы она, негодная, не разболтала все ваши секреты, синьор…
— Не разболтает ни одного, — сказал я ему гневно, — и я, если бы у меня и были секреты, не был бы так глуп, чтобы обнаруживать их. Продолжайте.
— Извините, я ведь, знаете ли, и не говорю, что вы неблагоразумны, но я не доверяю сьоре Цанце. А теперь, синьор, так как у вас нет больше никого, кто бы приходил беседовать с вами… доверяюсь… в…
— В чем? Объяснитесь вы разом.
— Но вы сначала поклянитесь, что не измените мне.
— Э! Поклясться, что я ни изменю вам, это я могу: я никогда никому не изменял.
— Скажите же на самом деле, что клянетесь.
— Да, я клянусь, что не изменю вам. Но знаете ли, глупый вы человек, что тот, кто способен изменить, способен и нарушить данную клятву.
Он вытащил из кармана письмо и передал мне его, дрожа и заклиная меня, чтобы я уничтожил его, когда прочитаю.
— Постойте, — сказал я ему, развертывая письмо, — лишь только я прочту, я разорву в вашем присутствии.
— Но, синьор, нужно бы, чтобы вы ответили, а я ждать не могу. Делайте, что хотите. Только условимся вот в чем: когда вы услышите, что кто-нибудь идет, знайте, что, если это я, то я буду напевать песенку: «Sognai, mi géra un gato». В таком случае вам нечего бояться, что вас застанут врасплох, и вы можете держать какую угодно бумагу в кармане. Но если вы не услышите этой песенки, то это будет значить, что или это не я, или я иду не один. В таком случае вы не держите никакой тайной бумаги, потому что может быть обыск, и если у вас есть какая-нибудь бумажка, вы как можно тщательнее разорвите ее и бросьте в окно.
— Будьте спокойны, я вижу, что вы предусмотрительны, и я буду таким же.
— Однако, вы назвали меня глупцом.
— Побраните меня за это, — сказал я ему, пожимая его руку. — Простите.
Он ушел, и я прочел:
«Я… (здесь говорилось имя) один из ваших почитателей: я знаю наизусть всю вашу «Francesca du Rimini». Меня арестовали за… (здесь был обозначен день ареста и причина его); я бы дал не знаю сколько фунтов своей крови, чтобы доставить себе удовольствие быть с вами, или по крайней мере получить камеру, смежную с вашей, с той целью, чтобы мы могли говорить друг с другом. Когда я узнал от Тремерелло, так назовем мы нашего поверенного, что вы, синьор, схвачены, и причину этого, у меня явилось пламенное желание сказать вам, что никто не сожалеет о вас более меня, что никто не любит вас более меня. Не будете ли вы столь добры, не примете ли вы следующего предложения: будем облегчать тяжесть нашего одиночества, переписываясь друг с другом? Я вам обещаю, как честный человек, что ни одна живая душа никогда ничего не узнает от меня об этом, будучи вполне уверен, что того же самого я могу ждать и от вас, если вы примете мое предложение. А пока, чтобы вы хоть сколько-нибудь познакомились со мной, я даю вам очерк моей жизни…»
Следовал сам очерк.
XXXIV
Всякий читатель, у которого есть хоть немного воображения, легко поймет, каким электрическим должно было быть подобное письмо для бедного арестанта, в особенности для арестанта с характером вовсе не нелюдимым и с любящим сердцем. Первым моим чувством было — полюбить этого неизвестного, сопереживать его несчастиям и быть полным благодарности за ту благосклонность, которую он оказал мне. «Да! — воскликнул я. — Я принимаю твое предложение, великодушный! Да принесут и тебе мои письма утешение равное тому, какое я извлек из твоего первого письма!»
И читал, и перечитывал я это письмо с ребяческим ликованием, и сотни раз благословлял написавшего его, и мне казалось, что всякое его выражение показывало душу чистую, искреннюю, благородную.
Заходило солнце: это был час моей молитвы. О, как я чувствовал присутствие Божества! Как я благодарил Его за то, что Оно не оставляет меня, а находит все новые средства к тому, чтоб не дать истомиться силам моего ума и сердца! Как оживлялись во мне воспоминания о всех драгоценных благах Его!
Я стоял у окна, скрестив руки, просунутые сквозь решетку: церковь Св. Марка была подо мной, бесчисленное множество вольных голубей ворковали, порхали и гнездились на ее свинцовой крыше. Великолепное небо стояло надо мной, я царил над всей этой частью Венеции, видневшейся из моей тюрьмы, далекий гул человеческих голосов приятно поражал мой слух. В этом месте несчастном, но прекрасном для взоров, я беседовал с Тем, Чьи очи видели меня, я поручал Ему моего отца, мою мать и всех, кто мне дорог, и мне казалось, что Он отвечал мне: «Доверься моей благости!» и я восклицал: «Да, я доверяюсь Твоей благости!»
И я окончил свою молитву умиленный, успокоенный и мало обращал внимания на укусы, которыми между тем весело наделяли меня комары.
В этот вечер, когда стало успокаиваться после такого возбуждения мое воображение, а комары начали становиться невыносимыми, и я почувствовал необходимость закрыть себе лицо и руки, внезапно пришла мне в голову злая и низкая мысль, кинувшая меня в дрожь, я желал прогнать эту мысль и не мог.
Тремерелло высказал мне гнусное подозрение относительно Цанце: что она выведывала от меня мои секреты, она! Эта чистая душа! Которая ничего не знала в политике! Которая ничего и не желала знать о ней!
В ней невозможно мне было сомневаться, но я спросил себя, а имею ли я такую же самую уверенность в Тремерелло? А если этот плут есть орудие подлых розысков? Если это письмо сочинено Бог знает кем, чтобы подтолкнуть меня сделать важные сообщения новому другу? Может быть, предполагаемый арестант, который мне пишет, и не существует вовсе? Может быть, и существует, да только какой-нибудь бесчестный человек, который добивается секретов, рассчитывая спасти себя раскрытием их, а может быть, и он благородный человек, но бесчестен Тремерелло, который хочет погубить двоих, чтобы выиграть этим прибавку к своему жалованью.
О, как это гадко, но и как естественно видеть повсюду вражду и козни тому, кто страдает в темнице!
Такая боязнь, такие сомнения меня угнетали, меня унижали. Нет, в Цанце я никогда не мог их иметь ни на минуту! Все-таки, когда Тремерелло сболтнул эти слова по поводу Цанце, у меня явилось полусомнение — не в ней, а в тех, кто допускал ее приходить ко мне в камеру. Неужели возлагали на нее, по своему ли усердию, или по приказанию свыше, тяжелую обязанность разведчицы? О, если это так, то как им плохо услужили!
Но что мне делать с письмом неизвестного? Последовать, что ли суровым и скаредным советам страха, который величают благоразумием? Возвратить письмо Тремерелло и сказать ему: «Я не хочу рисковать своим спокойствием»? А если здесь вовсе нет никакого обмана? А если неизвестный есть человек весьма достойный моей дружбы, заслуживающий того, чтобы я рискнул чем бы то ни было, лишь бы умерить ему тоску одиночества? Трус! Ведь ты стоишь, может быть, в двух шагах от смерти, ведь тебе со дня на день могут вынести смертный приговор, и неужели ты откажешься сделать еще раз доброе дело? Отвечать я должен, отвечать! Но если, по несчастью, узнают об этой переписке и никто не сможет вменить нам ее в преступление, то разве не вероятно все-таки, что бедного Тремерелло постигнет жестокое наказание? Недостаточно ли этого соображения для того, чтобы не предпринимать тайной переписки, считая подобное решение своим безусловным долгом?
XXXV
Я волновался весь вечер, не смыкал глаз всю ночь и среди стольких неизвестностей не знал, на что решиться.
Я поднялся с постели до зари, встал к окну и молился. В таких трудных случаях нужно с верой просить совета у Бога, внимать Его внушениям и следовать им.
Я так и сделал, и после долгой молитвы отошел от окна, стряхнул комаров, потер руками искусанные щеки, и решение было принято: высказать Тремерелло мой страх, что опасность этой переписки может пасть на него, отказаться от нее, если он поколеблется, принять, если он не поддастся страху.
Я прохаживался по комнате, пока не услыхал, как напевают: «Sognai, mi géra un gato, E ti me carezzevi». Это Тремерелло нес мне кофе.
Я высказал ему свое беспокойство и не пожалел слов, чтобы навести на него страх. Но он остался твердым в желании служить, как сказал он, двум таким прекрасным господам. Такое заявление довольно-таки не шло к его трусливому, как у зайца, лицу и к имени Тремерелло, какое мы ему дали 9. А в таком случае тверд был и я.
— Я вам оставлю свое вино, — сказал я ему, — только снабдите меня бумагой, необходимой для этой корреспонденции, и верьте тому, что если я услышу звон ключей без вашей песенки, я всегда уничтожу в одну минуту какой бы то ни было тайный предмет.
— А вот вам и бумага. Я вам всегда буду давать ее, как только пожелаете, и полагаюсь совершенно на вашу аккуратность.
Я обжег себе нёбо, глотая поскорее кофе. Тремерелло ушел, и я расположился писать.
Хорошо ли я делал? Было ли принятое мною решение внушено действительно Богом? Не восторжествовало ли здесь скорее мое собственное желание, мое предпочтение тягостным жертвам того, что мне нравится? Не было ли это решение следствием совокупности гордого самодовольства из-за того уважения, которое засвидетельствовал мне неизвестный, и боязни, как бы я не показался трусом, если я предпочту благоразумное молчание несколько рискованной переписке?
Как разрешить эти сомнения? Я откровенно их высказал товарищу по заключению, отвечая ему, и тем не менее прибавил, что мое мнение таково: когда кому-нибудь кажется, что он поступает хорошо и без явного отвращения совести, он больше не должен страшиться вины. Пусть и он все-таки обдумает точно также со всею должною серьезностью то дело, которое мы предпринимаем, и скажет мне откровенно, с какой степенью спокойствия или беспокойства он решается на это. И если по новому размышлению он счел бы это предприятие слишком неблагоразумным, мы постарались бы отказаться от того утешения, которое доставляла бы нам переписка, и удовлетворились бы тем, что мы познакомились друг с другом, перекинувшись немногими словами, но неизгладимыми и стоящими высокой дружбы.
Я написал четыре горячих страницы, одушевленных самым искренним чувством, объяснил вкратце причины моего ареста, говорил о своем семействе и о некоторых других своих обстоятельствах, имея целью дать ему узнать меня во всех сокровенных изгибах души моей.
Вечером мое письмо было отнесено. Не спав предыдущую ночь, я был страшно утомлен, сон не заставил себя призывать, и я пробудился следующим утром укрепившимся, веселым, замирающим от сладкой мысли, что, может быть, через несколько минут я получу ответ друга.
XXXVI
Ответ пришел вместе с кофе. Я бросился на шею Тремерелло и сказал ему с нежностью: «Бог да вознаградит тебя за твою доброту!» Все мои подозрения относительно его и неизвестного разлетелись, не могу сказать почему, потому что они были мне ненавистны, потому что, остерегаясь когда бы то ни было без толку говорить о политике, они казались мне бесполезными, потому что, хотя я и почитатель таланта Тацита, я все-таки очень мало верю в правильность тацитствования, т. е. того, чтобы видеть все вещи в черном цвете.
Джулиано (так угодно было пишущему назвать себя) начинал письмо с предварительных любезностей и говорил, что у него нет никакого беспокойства относительно предпринятой корреспонденции. Потом подшучивал, вначале умеренно, над моими колебаниями, а затем подшучивание становилось несколько колким. Наконец, после красноречивой похвалы моей искренности, просил у меня извинения, если он не мог скрыть от меня неудовольствия, которое он испытал, заметив во мне, говорил он, какую-то совестливую нерешительность, какую-то христианскую тонкость совести, что не может согласоваться с истинной философией.
«Я всегда буду вас уважать, — присовокуплял он, — если даже мы и не можем быть согласными в этом, но искренность, которой я держусь, обязывает меня сказать вам, что у меня нет религии, что я всеми ими гнушаюсь, что я только из скромности принимаю имя Джулиано, потому что этот добрый император 10 был врагом христиан, но что на самом деле я гораздо дальше его иду в этом. Коронованный Юлиан верил в Бога и имел в себе много ханжеского. У меня нет ничего, я не верю в Бога, всю добродетель полагаю в любви истины и того, кто ее ищет, и в ненависти к тому, кто мне не нравится».
И, продолжая таким образом, не приводил никаких доказательств, поносил христианство, восхвалял с напыщенной энергией высоту нерелигиозной добродетели и писал панегирик императору Юлиану, частью в серьезном, частью в шутливом духе, за его вероотступничество и за его человеколюбивую попытку стереть с лица земли все следы Евангелия.
Боясь затем, что слишком задел мои мнения, он снова просил у меня извинения. Повторял свое величайшее желание войти со мной в переписку и приветствовал меня.
Приписка гласила: «У меня нет иного беспокойства совести, кроме того, что я недостаточно откровенен. Поэтому я не могу умолчать о своем подозрении, что христианский язык, которым вы со мной говорите, есть притворство. Я горячо желаю этого. В таком случае сбросьте маску: я вам подал пример».
Не умею выразить странного действия, произведенного на меня этим письмом. Я дрожал, как влюбленный в первые периоды: ледяная рука, казалось, сжала мне сердце. Этот сарказм над моей совестливостью меня оскорбил. Я раскаивался, что открыл душу такому человеку: я, который так презираю цинизм! Я, который считаю его самой нефилософской, самой грубой из всех тенденций! Я, на которого так мало действует высокомерие!
Прочитав последнее слово, я взял письмо между большим и указательным пальцем одной руки и большим и указательным пальцем другой руки и, подняв левую руку, быстро дернул правую, так что в каждой руке осталось по половинке письма.
XXXVII
Я смотрел на эти два лоскутка и с минуту размышлял о непостоянстве дел человеческих и о ложности их внешнего проявления. Немного времени тому назад такая жажда этого письма, а теперь я разрываю его в негодовании! Немного времени тому назад такое предвкушение будущей дружбы с этим товарищем по несчастию, такая уверенность во взаимной поддержке, такое желание явить себя ему полным горячей любви, а теперь я называю его наглецом!
Я положил эти оба куска один на другой, снова взял их по-прежнему между большим и указательным пальцем одной руки и большим и указательным пальцем другой и опять поднял левую руку и быстро дернул правой рукой.
Готов был опять повторить то же самое, но один из лоскуточков выпал у меня из рук, я наклонился поднять его, и в тот короткий промежуток времени, когда я наклонялся и поднимался, я переменил решение и захотел вновь прочесть это гордое писание.
Сажусь, составляю друг с другом эти четыре куска на Библии и перечитываю. Оставляю их так лежать, прохаживаюсь, еще раз перечитываю и в это время думаю:
— Если я ему не отвечу, он рассудит, что я страшно смущен, что я не осмеливаюсь снова явиться перед таким Геркулесом. Ответим ему, покажем ему, что мы не боимся очной ставки доктрин. Покажем ему, что нет никакой трусости в зрелом взвешивании советов, в колебании, если идет речь о решении несколько опасном и притом более опасном для других, чем для нас. Пусть он узнает, что истинное мужество не в насмехательстве над совестью, что истинное достоинство не в гордости. Объясним ему разумность христианства и несостоятельность безверия. И наконец, если этот Джулиано высказывает мнения, столь противоположные моим, если он не щадит меня от колких сарказмов, если он так мало старается снискать мое расположение к нему, не служит ли это, по крайней мере, доказательством того, что он не шпион? Разве только вот что: может быть, эти грубые удары, наносимые им моему самолюбию, есть тонкая хитрость? Однако, нет, я не могу этому верить. Я зол на то, что меня оскорбили дерзкими насмешками, и потому-то мне и хочется убедить себя что тот, кто бросает эти насмешки, не может быть ничем иным, как самым презренным из людей. Низкая злоба, которую я тысячи раз осуждал в других, прочь из моего сердца! Нет, Джулиано есть то, что он есть, и ничего больше, он наглец, а не шпион. Да и имею ли я в самом деле право давать ненавистное имя наглости тому, что он считает искренностью? Вот какое твое смирение, о, лицемер! Стоит только кому-нибудь по заблуждению ума держаться ложных мнений и насмеяться над твоей верой, ты тотчас берешь на себя право порицать и унижать его. Бог знает, не хуже ли это ярое смирение и зложелательное рвение в моей груди, в груди христианина, не хуже ли дерзкой откровенности этого неверующего? Может быть, ему не достает только луча милосердия, чтобы его твердая любовь к истине переросла в религию более стойкую, чем моя. Не сделаю ли я лучше, если буду молиться за него, чем негодовать на него и считать себя лучшим? Кто знает, может быть, в то время, как я гневно разрывал его письмо, он перечитывал с нежною любовью мое и столь верил в мою доброту, что считал меня неспособным обидеться его откровенным словам? Который из двух самый неправый: тот ли, кто любит и говорит: «Я не христианин», — или тот, кто говорит: «Я христианин», — и не любит? Трудное дело узнать человека, даром, что прожил с ним долгие годы, а я хочу судить о нем по одному письму. Между столькими возможностями нет ли такой, что, не признаваясь в том самому себе, он вовсе не спокоен в своем атеизме, и поэтому возбуждает меня к борьбе с ним, втайне надеясь, что он должен будет мне уступить? О, пусть бы это было так! О, великий Боже, в Чьих руках самые недостойные орудия могут быть действенными, избери меня, избери меня на это дело! Внуши мне те сильные, могущественные и святые доводы, которые победили бы этого несчастного! Которые привели бы его к благословению Тебя и к познанию того, что вдали от Тебя нет такой добродетели, которая не была бы противоречием!
XXXVIII
Я разорвал на мельчайшие кусочки, но без всяких следов гнева, четыре лоскутка письма, подошел к окну, протянул руку и остановился посмотреть на участь кусочков бумаги на воле ветра. Некоторые легли на свинцовую крышу церкви, другие долго кружились в воздухе и упали на землю. Я увидел, что все они разлетелись в разные стороны, и нет никакой опасности, что кто-нибудь их соберет и проникнет в их тайну.
Потом я написал Джулиано и принял все меры к тому, чтобы я не был и не показался раздосадованным.
Шутил над его боязнью, что я довел тонкость совести до степени несогласимой с философией, и сказал, чтобы он, по крайней мере, на счет этого отложил свои суждения. Хвалил его за то, что он так искренен, уверял его, что он найдет меня равным себе в этом отношении, и прибавлял, что для того, чтобы дать ему в том доказательство, я встаю на защиту христианства, будучи твердо убежден, говорил я, что, как я буду всегда готов к тому, чтобы дружески выслушать все ваши мнения, так и вы будете великодушны и выслушаете спокойно мои.
Эту защиту я предполагал вести исподволь и пока начал ее точным анализом сущности христианства: богопочитание, разоблачение суеверий, братство между людьми, вечное стремление к добродетели, смирение без унижения, достоинство без гордости, образец: Богочеловек! Что еще более философского, более великого?
Я намерен был затем показать, как проявлялось более или менее слабо такое знание во всех тех, кто со светом разума искал истины, но никогда не было распространено во всей вселенной, и как Божественный Учитель, придя на землю, дал нам поразительный пример Самого Себя, распространяя это знание со средствами человечески более слабыми. То, чего никогда не могли сделать величайшие философы: уничтожение идолопоклонства и общее проповедование братства — выполнено было несколькими грубыми провозвестниками. Тогда освобождение рабов производилось все чаще и, наконец, появилось государство без рабов, такое общественное устройство, какое древним философам казалось невозможным.
Обозрение истории, начиная от Иисуса Христа и до нашего времени, должно было в конце концов, показать, как религия, основанная Иисусом Христом, всегда была пригодна для всех возможных степеней цивилизации. А потому ложно то, что если цивилизация продолжает идти вперед, так Евангелие перестает быть соотносимым с ней.
Я писал мельчайшим шрифтом и довольно долго, но все-таки я не мог сказать больше, так как мне не хватало бумаги. Я прочитал и перечитал свое введение, и мне показалось, что оно написано было хорошо. В самом деле, не было ни одной фразы, показывавшей злопамятство относительно сарказмов Джулиано, и письмо изобиловало выражениями доброты, продиктованными сердцем, уже вполне примиренным.
Я послал письмо и на следующее утро с душевной тревогой ждал на него ответа.
Пришел Тремерелло и говорит мне:
— Тот господин не мог писать, но просит вас продолжать вашу шутку.
— Шутку? — воскликнул я. — Неужели он сказал: шутку? Может быть, вы плохо поняли?
Тремерелло пожал плечами:
— Может быть, плохо понял.
— Но, может, вам только кажется, что он сказал: шутку?
— Как мне кажется в эту минуту, что я слышу звон на колокольне св. Марка. (Действительно в это время гудел колокол).
Я выпил кофе и молчал.
— Но скажите мне: все ли мое письмо прочитал этот господин?
— Думаю, что прочитал, так как хохотал он, хохотал, как сумасшедший, и, скатав из этого письма шарик, он кидал его в воздух, а когда я ему сказал, чтобы он не забыл после уничтожить его, он тотчас же его разорвал.
— Отлично!
И я возвратил Тремерелло чашку, говоря, что видно, что кофе приготовляла сьора Беттина.
— А что, разве плох?
— Отвратителен.
— А, однако, делал его я и уверяю вас, что я сделал его крепким, и нет причин к тому, чтобы он был плох.
— Ну, может быть, у меня скверный вкус во рту.
XXXIX
Я целое утро ходил взад и вперед, дрожа от негодования. Что за человек этот Джулиано? Зачем называть мое письмо шуткой? Зачем смеяться и играть им как мячиком? Зачем не ответить мне ни строчки? Все неверующие таковы! Чувствуя слабость своих суждений, они, если кто-нибудь берется опровергнуть эти суждения, не слушают, смеются, хвастаются превосходством ума, которому уже больше нечего исследовать. Несчастные! И была ли когда философия без исследования, без серьезности? Если правда, что Демокрит всегда смеялся, так он был буффон. Но поделом мне, зачем я предпринимал эту корреспонденцию? Что я обманывал себя на один момент, это еще простительно. Но когда я увидал, что он наглец, не глупо ли было то, что я опять писал ему?
Я решился больше не писать ему. За обедом Тремерелло взял мое вино, вылил его в бутылку и, кладя ее к себе в карман, сказал: «О, да, ведь у меня бумага здесь есть для вас.»
И подал мне ее.
Он ушел, а я, смотря на эту белую бумагу, почувствовал искушение написать в последний раз Джулиано и распроститься с ним, преподав ему хороший урок по поводу того, что наглость гнусна.
— Прекрасное искушение! — сказал я потом. — Воздать ему презрением за презрение! Заставить его еще больше возненавидеть христианство, являя ему в себе, христианине, нетерпение и гордость! Нет, это не годится, прекратим на самом деле переписку. А если я прекращу ее так сухо, разве не скажет он равным образом, что нетерпение и гордость одолели меня? Следует еще раз написать ему и без желчи. Но если можно писать без желчи, то не лучше ли будет умолчать о его хохоте и о том, что он удостоил назвать письмо мое шуткою? Не лучше ли будет продолжать попросту свое письмо? Не лучше ли будет искренно продолжать мою апологию христианства?
Я подумал немного об этом и затем принял это решение.
Вечером отправил письмо и на следующее утро получил несколько строк благодарности, строк очень холодных, однако без колких выражений, но и без малейшего следа одобрения или приглашения продолжать мое письмо.
Такая записка мне не понравилась. Тем не менее, я решился не отказываться до конца.
Мой тезис не мог быть трактуем вкратце, и потому он был предметом пяти или шести других длинных писем, на каждое из которых мне отвечали лаконичной благодарностью с прибавлением каких-нибудь изъявлений, не идущих к делу: то он проклинал своих врагов, то смеялся над тем, что проклинал их, и говорил, что естественно сильным притеснять слабых и что он сожалеет только о том, зачем он не сильный, то поверял мне свои любовные похождения и то влияние, которое они оказывали на его измученное воображение.
Тем не менее, на последнее мое письмо относительно христианства, он сказал, что готовит мне длинный ответ. Я ждал больше недели, а между тем, он всякий день писал мне совсем о другом и, большею частью, разные непристойности.
Я просил его вспомнить об ответе, и советовал ему приложить все старания к правильному взвешиванию всех доводов, которые я привел ему.
Он мне ответил несколько раздраженно, наделяя себя именами философа, человека, которому нечего бояться, человека, не нуждающегося в таком взвешивании, чтобы понять, что черное не бело. И затем он занялся веселым рассказом о своих скандальных приключениях.
XL
Я все это терпеливо сносил, чтобы не дать ему повода назвать меня ханжей и нетерпимым, и не отчаивался еще, что после этой горячки эротических буффонств наступит период серьезности. Между тем, я высказывал ему свое неодобрение его неуважения к женщинам, его профанации любви, и сожалел о тех несчастных, которые, как он мне говорил, были его жертвами.
Он притворялся, что плохо верит моему неодобрению, и повторял: «Что бы вы там ни бормотали сквозь зубы по поводу безнравственности, я уверен, что вас занимают мои рассказы, все люди любят это удовольствие, как я, но у них не хватает откровенности явно говорить о том, я вам расскажу теперь такое, что очарую вас, и вы по чистой совести сочтете себя обязанным аплодировать мне.»
Но из недели в неделю он вовсе не переставал писать эти бесстыдства, и я (все надеясь в каждом письме найти что-нибудь иное и будучи привлекаем любопытством) читал все, и моя душа становилась не то что развращенной, но смущенной, она отдалилась от благородных и святых мыслей. Общение с испорченными людьми портит самого, если только не обладаешь добродетелью гораздо большею обычной, гораздо большею, чем та, какою обладал я.
— Вот и наказан ты, — говорил я самому себе, — за твою самонадеянность! Вот что выигрываешь, когда пускаешься в миссионерство, не имея должных качеств для этого!
В один прекрасный день я решился написать ему эти слова:
«Я до сих пор всеми силами старался вызвать вас на другие темы, а вы все мне посылаете рассказы, которые, как я откровенно вам говорил, мне не нравятся. Если угодно вам, чтобы мы говорили о более достойных вещах, тогда продолжим нашу переписку, в противном случае пожмем друг другу руки, и пусть каждый из нас останется при своем».
Два дня не было ответа, и я вначале радовался тому. «О, благословенное одиночество! — восклицал я, — сколь менее тягостно ты нестройного, унижающего сообщества!
Вместо того, чтобы сердиться, читая те бесстыдства, вместо того, чтобы напрасно стараться противопоставить им благородные мысли, которые прославляли бы человека, я буду опять беседовать с Богом, я вернусь к своим дорогим воспоминаниям о своем семействе, о своих истинных друзьях. Я буду снова больше прежнего читать Библию, писать на столике свои мысли, изучая свое сердце и стараясь улучшить его, я вернусь снова к тихой, невинной грусти, в тысячу раз предпочтительней всяких игривых и скверных картин.»
Всякий раз, как Тремерелло входил в мою камеру, он говорил мне:
— Ответа еще нет.
— Хорошо, — отвечал я.
На третий день он сказал мне:
— Синьор N. N. лежит больной.
— Что с ним?
— Он не говорит ничего, но все время в постели, не ест, не пьет и в скверном расположении духа.
Я был сильно опечален тем, что он страдает, и что у него нет никого, кто бы утешил его.
У меня сорвалось с языка, или, лучше сказать, вырвалось из сердца:
— Я напишу ему две строчки.
— Я их отнесу сегодня вечером, — сказал Тремерелло и ушел.
Я был в некотором затруднении, садясь за столик. Хорошо ли я делаю, что снова берусь за перо? Не я ли благословлял недавно свое одиночество, как вновь отысканное сокровище? Как же я непостоянен! Однако этот несчастный не ест, не пьет, наверное он болен. И время ли теперь покидать его? Последняя моя записка была жестока: не помогла ли она огорчить его? Может быть, несмотря на различие нашего образа мыслей, он никогда бы не разорвал нашей дружбы. Моя записка, может быть, показалась ему суровее, чем она была на самом деле, он и принял ее за безусловное, пренебрежительное прости.
XLI
Я написал следующее:
«Я слышал, что вы нездоровы, и это сильно меня огорчает. От всего сердца я желал бы быть возле вас и оказать вам все услуги друга. Я надеюсь, что единственной причиной вашего молчания за эти три дня было ваше плохое здоровье. Не оскорбились ведь вы моей запиской того дня? Я написал ее, уверяю вас в этом, без малейшего недоброжелательства и с единственной целью привлечь вас к более серьезным предметам рассуждения. Если писать вам болезнь не позволяет, посылайте мне только точные известия о вашем здоровье, я буду вам писать всякий день что-нибудь, чтобы развлечь вас и чтобы вы помнили, что я хочу вам добра».
Я никогда не ожидал такого письма, каким он мне ответил. Оно началось так: «Я отказываю тебе в дружбе: если ты не знаешь, что делать с моей, то и я не знаю, что мне делать с твоей. Я не такой человек, который прощал бы оскорбления, я не такой человек, который вернулся бы раз он отринут. Потому что ты знаешь, что я болен, ты пристаешь лицемерно ко мне в надежде, что болезнь ослабит мой дух и допустит меня слушать твои проповеди…» И он продолжал дальше все в таком же роде, жестоко порицая меня, насмехаясь надо мной, выставляя в карикатурном виде все, что я говорил ему о религии и о нравственности, обещая жить и умереть всегда одним и тем же, т. е. с величайшею ненавистью и с величайшим презрением ко всем философиям, отличным от его.
Я был ошеломлен.
— Хороших дел наделал я, — говорил я себе с горем и ужасом. — Бог мне свидетель, что мои намерения были чисты! Нет, я не заслужил этих оскорблений! Терпение! Одним образумлением больше. Да образумится и тот, если он выдумывает себе обиды, чтобы иметь удовольствие не прощать их! Больше того, что я сделал, я не обязан делать.
Все-таки, спустя несколько дней, мое негодование улеглось, и я подумал, что такое бешеное письмо могло быть результатом непродолжительного возбуждения. «Может быть, он и стыдился его, — говорил я, — но слишком горд, чтобы признаться в том, что он не прав. Не великодушно ли будет теперь, когда у него было время успокоиться, еще раз написать ему?»
Мне многого стоило принести в жертву мое самолюбие, но я это сделал. Кто смиряется, не имея низких целей, тот не унижается, какое бы несправедливое презрение ни пало на него.
Я получил в ответ письмо менее жестокое, но не менее оскорбительное. Он, не примиренный, говорил мне, что удивляется моей евангельской кротости.
«Ну, хорошо, примемся, — продолжал он, — опять за переписку, но будем говорить прямо. Мы не любим друг друга. Мы будем писать с той целью, чтобы каждому позабавить самого себя, свободно излагая на бумаге все, что приходит нам в голову: вы — ваши серафимские мысли и образы, а я — свои богохульства, вы — ваши восторги по поводу достоинства мужчины и женщины, а я — простой рассказ о своих нечестиях, в надежде, что я обращу вас, а вы обратите меня. Отвечайте мне, нравится ли вам такой договор».
Я отвечал: «Это не договор, а насмешка. Я искренне желал вам добра. Совесть не обязывает меня больше ни к чему иному, как к пожеланию вам всякого счастья и в этой и будущей жизни.»
Так кончились мои тайные сношения с этим человеком, — кто знает! — может быть, более ожесточенным несчастием и безумствующим с отчаяния, чем дурным по натуре.
XLII
И опять я истинно благословлял свое одиночество, и мои дни в течение некоторого времени вновь потекли без всяких перемен.
Кончилось лето, в последней половине сентября жар спал. Наступил октябрь, я радовался теперь, что у меня комната будет хороша для зимнего времени. Но вот раз утром приходит тюремный смотритель и говорит мне, что ему приказано переменить мою камеру.
— Куда же переводят меня?
— Да вот тут, в нескольких шагах отсюда, в более прохладную камеру.
— А почему же не подумали об этом в то время, когда я умирал от жары и когда воздух кишел комарами, а постель — клопами?
— Приказа раньше не было.
— Ну, хорошо! — идем.
Хотя я и многое вытерпел в этой камере, мне все-таки грустно было покидать ее, и не только потому, что она была прекрасной в холодное время года, но и по многим другим причинам. Там у меня были муравьи, которых я любил и кормил с заботливостью, я сказал бы, почти отеческой, если бы это не было смешным выражением. За несколько дней перед этим мой милый паучок, о котором я говорил, эмигрировал куда-то, уже не знаю, по какой причине, но я говорил себе: кто знает, не вспомнит ли он обо мне и не вернется ли? И теперь, когда я ухожу, может быть, вернется он и найдет эту камеру пустой, а если и будет здесь другой какой-нибудь гость, может, будет он врагом пауков и сметет туфлей эту красивую паутину и раздавит бедную тварь! Сверх того, не скрашивалось ли мое печальное пребывание в этой камере добротою Цанце? Бывало, так часто прислонялась она к этому окну и великодушно кидала моим муравьям крошки буццолаи 11. Там, бывало, сидела обыкновенно, здесь вот рассказывала мне про это, тут рассказывала про то, там вон наклонялась она над моим столиком и обливала его своими слезами!
Помещение, куда перевели меня, находилось также в свинцовых тюрьмах 12, но с двумя окнами — одно на север, другое на запад, местопребывание постоянных простуд и страшного холода в суровые месяцы.
Окно, выходившее на запад, было огромное, окно, выходившее на север, было маленькое и находилось высоко над моею кроватью.
Я высунулся сначала в то окно и увидел, что оно выходит напротив палаццо патриарха. Вблизи моей камеры находились другие в небольшом флигеле направо и в каменном строении напротив меня. В этом строении было две камеры, одна над другой. В нижней было громадное окно, и в него видно мне было, что там ходит по комнате человек, прилично одетый. Это был синьор Капорали ди Чезена. Он увидал меня, сделал мне какой-то знак, и мы сказали друг другу наши имена.
Потом захотел я взглянуть, куда выходит мое другое окно. Я поставил на кровать столик, на столик стул, вскарабкался на него и увидел себя на одном уровне с крышей палаццо. По ту сторону палаццо представился мне прекрасный вид на город и на лагуну.
Я стоял и любовался этим прекрасным видом и, слыша, что отворяется дверь, я не тронулся с места. Это был тюремный смотритель, который, увидав меня взобравшимся наверх, забыл, что я не могу, как крыса, уйти через решетку, вообразил, что я пытаюсь бежать, и, страшно испугавшись, быстро вскочил на кровать, несмотря на ломоту в бедрах, которая мучила его, и схватил меня за ногу, пронзительно крича.
— Да разве вы не видите, — сказал я ему, — что нельзя бежать — ведь тут решетка? Неужели вы не можете сообразить, что я взлез только из одного любопытства?
— Вижу, сьор, вижу, понимаю, но слезайте, говорю я вам, слезайте, еще соблазнитесь, пожалуй, улепетнуть.
И мне пришлось слезть, и я рассмеялся.
XLIII
В окна боковых камер я познакомился с шестью другими политическими заключенными.
И вот я, предполагая, что буду находиться в большем одиночестве, чем прежде, попадаю в некотором роде в общество. В начале я досадовал на это, то ли потому, что долгая затворническая жизнь сделала меня нелюдимым, то ли потому, что неприятный исход моего знакомства с Джулиано меня сделал недоверчивым.
Тем не менее, те небольшие разговоры, которые мы вели, частью словами, частью знаками, в короткое время сделались для меня благодеянием, если не потому, что эти разговоры развеселяли меня, так, по крайней мере, потому, что они служили развлечением для меня. О своем сношении с Джулиано я не сказал ни с кем ни слова. Мы дали друг другу честное слово, что схороним в себе эту тайну. Если я и говорю о том на этих страницах, так это потому, что кому бы ни попались они на глаза, тому невозможно будет догадаться, кто из всех, находившихся в этой тюрьме, был Джулиано.
К новым вышеупомянутым знакомствам с товарищами по заключению присоединилось еще одно, которое было для меня самым приятным.
Из большого окна мне виден был кроме тюрем, бывших напротив меня, целый ряд крыш, украшенный трубами, террасками, колокольнями, куполами, который сливался в перспективе с морем и небом. В ближайшем ко мне доме (это был флигель патриархатства) жило одно доброе семейство, которое получило права на мою признательность, выказывая мне своими поклонами сострадание и жалость, которую я внушал им. Один поклон, одно слово любви несчастным — какая это великая милость!
Началось это с того, что там из окна выглянул мальчик, лет девяти или десяти, поднял ко мне свои ручонки, и я услыхал, что он кричит:
— Мама, мама, вон там наверху, в свинцовой тюрьме, посадили кого-то. О, бедный арестант, кто ты?
— Я Сильвио Пелико, — отвечал я.
Подбежал к окну и другой мальчик, постарше, и закричал:
— Ты Сильвио Пелико?
— Да, а вы, милые дети?
— Меня зовут Антонио С…, а моего брата — Джузеппе.
Потом он обернулся назад и сказал:
— Что еще надо спросить у него?
И какая-то женщина, наполовину скрытая от меня, думаю, что это была их мать, подсказала этим милым детям несколько ласковых слов, которые они мне и сказали, и я с нежностью поблагодарил их за то.
Эти разговоры были непродолжительны, и не нужно было злоупотреблять ими, чтобы не заставить тюремного смотрителя браниться, но всякий день повторялись эти разговоры, к великому моему утешению, на рассвете, в полдень и вечером. Когда зажигали огонь, эта женщина запирала окно, и дети кричали мне:
— Доброй ночи, Сильвио!
И она, делавшись в темноте посмелее, повторяла растроганным голосом:
— Доброй ночи, Сильвио! Мужайся!
Когда дети, бывало, завтракали или закусывали, они говорили мне:
— Ах, если бы мы могли дать тебе нашего кофе с молоком! Если бы мы могли дать тебе наших буццолаи! В тот день, когда ты будешь на свободе, вспомни о нас и приходи к нам! Мы дадим тебе славных, горячих буццолаи и много, много поцелуев!
XLIV
В октябре месяце были для меня годовщины самых печальных происшествий. Я был арестован 13 числа этого месяца в предыдущем году. Кроме этого, много других печальных воспоминаний выпадали на этот месяц. За два года перед этим, в октябре месяце, по несчастной случайности, утонул в Тичино один прекрасный человек, человек с большими достоинствами, которого я очень уважал. За три года перед тем, в октябре, нечаянно застрелился из ружья Одоардо Брике, юноша, которого я любил, как своего сына. Во времена моей первой юности, в октябре, поразило меня другое тяжелое горе.
Хотя я и не суеверен, но меня приводило в уныние роковое стечение в этом месяце столь несчастных воспоминаний.
Разговаривая через окно с этими детьми и со своими товарищами по заключению, я притворялся веселым, но едва я входил в свое логово, невыразимая тяжесть горя камнем падала на сердце.
Я брался за перо, чтобы написать какие-нибудь стихи или что-нибудь другое в литературном роде, и непреодолимая сила, казалось, принуждала меня писать совсем другое. Что? Длинные письма, которые я не мог отсылать, длинные письма к моему дорогому семейству, в которых я изливал все мое сердце. Я писал их на столике и потом соскабливал их. Они были наполнены выражениями горячей любви, нежности, воспоминаниями о том счастье, каким я наслаждался в родной семье, окруженный отцом, матерью, братьями и сестрами, столь снисходительными, столь любящими. Тоска по родной семье, пламенное желание повидать ее внушали мне тысячи прочувствованных, страстных выражений. Я писал целыми часами, и все еще многое оставалось невысказанным, все еще много других мыслей, других чувств просилось на бумагу.
Это было повторением моей биографии, повторением, только в новой форме, морочившим меня картинами прошлого, это заставляло меня обращать мои взоры к тому счастливому времени, которого уже не было больше. Но, Боже мой, сколько раз, представив себе на бумаге самым живейшим образом, какой-нибудь момент моей наисчастливейшей жизни, увлекшись опьяненной фантазией до того, что мне казалось я нахожусь с теми лицами, которым пишу, сколько раз внезапно вспоминалось мне настоящее, перо выпадало из рук, и меня охватывал ужас! Это были по истине страшные минуты! Я и прежде иногда испытывал их, но никогда в такие минуты не содрогался так, как теперь.
Я приписывал эти содрогания, эту столь страшную тоску слишком большой возбужденности чувств, вызванной эпистолярной формой, какую я придавал своему писанию, и тем еще, что я обращал эти письма к лицам, столь дорогим для меня.
Я хотел заняться другим и не мог, я хотел бросить, по крайней мере, эпистолярную форму — и не мог. Я брал перо, садился писать — и в результате всегда оказывалось письмо, полное нежной любви и полное горя.
— Неужели уже больше не свободна моя воля? — говорил я себе. — Эта необходимость делать то, чего я вовсе не хотел бы, не есть ли помешательство моего разума? Ведь этого прежде со мной не случалось. Еще было бы это объяснимо в первые дни заточения, но теперь, когда я свыкся с тюремной жизнью, теперь, когда моя фантазия должна бы успокоиться относительно всего, теперь, когда я взрастил в себе столько философских и религиозных мыслей, как это я сделался рабом слепых желаний сердца, и ребячусь так? Займемся тогда другим.
Я старался тогда молиться или принуждал себя к изучению немецкого языка. Тщетное усилие! Я замечал, что опять я писал другое письмо.
XLV
Сущая болезнь было подобное состояние, не знаю, не должен ли я сказать, что это было нечто вроде сомнамбулизма. Без сомнения, это было результатом чрезмерной усталости, вызванной постоянным бодрствованием и размышлением.
Пошло еще дальше. Постоянная бессонница овладела мною, и ночи, большею частью, сделались лихорадочными. Тщетно переставал я пить по вечерам кофе: бессонница была та же самая.
Мне казалось, что во мне было два человека: один все хотел писать письма, другой хотел делать что-нибудь иное. «Хорошо, — говорил я — помиримся на том: пиши письма, но пиши их по-немецки, вот мы таким образом и будем учиться этому языку».
С этих пор я писал все на дурном немецком языке. По крайней мере я сделал таким образом некоторый успех в этом занятии.
Утром, после долгого бодрствования, истомленный мозг впадал в какой-то тяжелый сон. И снилось мне, или, скорее, бредил я тогда, что будто бы вижу я, как тоскует и убивается по мне отец, мать или кто-нибудь из близких. Я слышал их жалобные рыданья и скоро, сам рыдая, просыпался, содрогаясь от ужаса.
Иногда в эти короткие сны, казалось мне, что я слышу, как матушка утешает других, входя с ними в мою камеру, и обращается ко мне со священнейшими словами относительно долга безропотной покорности Всемогущему; и когда я все более и более ободрялся и веселел, видя мужество ее и других, она вдруг заливалась слезами, и все плакали. Никто не может знать, как надрывалось тогда мое сердце.
Чтобы избавиться от такого бедственного положения, я пробовал вовсе не ложиться в постель. Всю ночь не гасил огня и сидел у стола за письмом или чтением. Но что? Бывали моменты, когда я читал, будучи совершенно бодр, но читал, ничего не понимая, и моя голова не была в состоянии связать ни одной мысли. Тогда я переписывал что-нибудь, но переписывал, думая совершенно о другом, чем то, что я писал, думая только о своих несчастиях.
А если ложился в постель, было еще хуже. Никакое положение не было сносным, я ворочался с боку на бок, и дело кончалось тем, что мне приходилось вставать. А если я и засыпал, то эти повергавшие меня в отчаяние сны причиняли мне больше зла, чем бодрствование.
Мои молитвы были бесплодны, тем не менее, я часто повторял их, не произнося много слов, а только взывая к Богу. Боже, Ты близок к человеку, Ты знаешь все человеческие печали!
В эти страшные ночи до того разыгрывалось мое воображение, что, хотя я и не спал, казалось мне, что я слышу то стоны в моей камере, то чей-то сдавленный хохот. Я с детства никогда не верил ни в домовых, ни в ведьм, а теперь этот смех, эти стоны меня ужасали, и я не знал, как объяснить себе это, и против воли думал, что не служу ли я посмешищем для неизвестных мне злобных существ?
Много раз, дрожа от страха, я хватал свечу и смотрел, нет ли кого под кроватью, кто бы дразнил меня? Много раз западало мне в голову сомнение, что меня перевели в эту камеру из прежней потому, что здесь есть какая-то ловушка, что, может быть, в стенах сделано потайное отверстие, откуда шпионы следят за всем, что я делаю, и бессердечно забавляются моими страхами.
Если стою у стола, кажется мне, что кто-то тянет меня за платье, то кто-то толкает мою книгу, которая падает на пол, то кто-то дует на огонь свечи, чтобы затушить ее. Я вскакивал тогда на ноги, озирался кругом, ходил по комнате с какою-то недоверчивостью, мнительностью и спрашивал сам себя: в своем ли я уме? Не сошел ли я с ума? И не различал больше, действительность ли то, что я вижу и чувствую, или все это сон, иллюзия? И тогда я взывал с тоскою:
«Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me?»13.
XLVI
Как-то раз я лег в постель, незадолго до рассвета, будучи твердо уверен, что я положил свой платок под изголовье. После недолгого тяжелого сна я проснулся, как обыкновенно, и мне показалось, что меня душили. Я чувствовал, что у меня сильно сдавлено горло. Странное дело. Шея у меня была обвернута моим платком, крепко связанным в несколько узлов. Я поклялся бы, что не делал этих узлов, что я не дотрагивался до платка с той поры, как положил его под подушку. Приходится думать, что я сделал это во сне или в бреду, не сохранив о том ни малейшей памяти, но я не мог этому верить, и с той поры я всякую ночь подозревал, что меня задушат.
Я понимаю, насколько эти безумства должны быть смешны для других, но мне, который испытывал их, они причиняли такое страдание, что я все еще дрожу при одной мысли о них.
Всякое утро мои страхи исчезали, и пока длился дневной свет, я чувствовал себя столь оправившимся от этих ужасов, что мне казалось невозможным когда-нибудь снова страдать от них. Но при закате солнца я начинал опять дрожать, как в лихорадке, и каждая ночь приводила за собой нелепые безумства предыдущей.
Чем больше я падал духом во мраке, тем больше прилагал усилий в течение дня, чтобы показаться веселым в разговорах с товарищами, с обоими мальчиками патриархатства и со своими тюремщиками. Слыша, как я шучу, никто бы не вообразил себе того жалкого недуга, которым я страдал. Я надеялся этими усилиями укрепить себя, но они ни к чему не вели. Эти ночные призраки, которые днем я называл глупостью, вечером вновь становились для меня страшной действительностью.
Если бы я смел, я бы упросил комиссию переменить мне комнату, но я не решился на это, боясь показаться смешным.
Все рассуждения, все размышления, все старания, все молитвы были тщетны: мной овладела страшная мысль, что я совершенно и навсегда покинут Богом.
Все эти лукавые софизмы против Провидения, казавшиеся мне за несколько недель перед этим, когда еще я был способен рассуждать, столь глупыми, теперь не выходили у меня из головы, и мне казалось, что их нужно принять во внимание. Несколько дней я боролся против этого искушения и, наконец, уступил ему.
Я перестал признавать благо религии, я говорил так же, как говорят безумные атеисты, как Джулиано, недавно писавший мне: религия не служит ни к чему иному, как к ослаблению способностей ума. Я решился в своем высокомерии поверить тому, что, отказавшись от Бога, я придам сил моему уму. Безумная уверенность! Я отрицал Бога и не умел отречься от невидимых злобных существ, которые, казалось, окружали меня и питались моими скорбями.
Как назвать это мучение? Достаточно ли сказать, что это была болезнь? Или это было в то же самое время божеской карой, побуждавшей меня отбросить мою гордость и познать, что без особенного света я мог сделаться неверующим, как Джулиано, и более безумным, чем он?
Что бы это ни было, Господь избавил меня от такого зла, когда я всего менее этого ожидал.
Раз как-то утром, после того, как я выпил кофе, со мной случилась страшная рвота и колики. Я думал, что меня отравили. После мучительной рвоты, я был весь в поту и лег на кровать. К полудню я заснул и спал спокойно до вечера.
Я проснулся, удивляясь такому нежданному спокойствию, сон, казалось, прошел, и я встал. Если я встану, говорил я себе, у меня будет больше сил для борьбы с обычными страхами.
Но страхи не явились. Я ликовал и, будучи полон благодарности, снова чувствуя присутствие Господа, бросился на землю, чтобы помолиться Ему и испросить у Него прощения в том, что я в течение многих дней отрицал Его. Это излияние радости истощило мои силы, и, оставшись некоторое время на коленях, прислонившись к стулу, я был вновь застигнут сном и в этом положении заснул.
После этого, не знаю, через час или через несколько часов, я проснулся наполовину и бросился, как был, одетый, на постель и проспал до зари. Я чувствовал себя все еще сонным в течение целого дня, вечером я быстро лег и проспал всю ночь. Какой кризис произошел во мне? Я его не знаю, но я выздоровел.
XLVII
Тошнота, которою давно уже страдал я, прекратилась, прекратились и головные боли, и на меня напал страшный аппетит. Желудок работал превосходно, и мои силы увеличивались. Дивное Провидение! Оно отняло у меня силы, чтобы смирить меня, оно возвратило мне их потому, что приближалось время произнесения приговоров, и Провидение хотело, чтобы я не пал духом при их объявлении.
24 ноября, один из наших товарищей, доктор Форести, был взят из свинцовых тюрем и переведен, мы не знали, куда. Тюремный смотритель, его жена и секондини были перепуганы, ни один из них не хотел пролить свет на эту тайну.
— И что это хочется вам знать, — говорил мне Тремерелло, — если тут нет ничего хорошего знать? Я и так уже слишком много сказал вам.
— Ну, да к чему же послужит молчание? — воскликнул я, весь дрожа, — разве я не понял вас? Ведь он осужден на смерть?
— Кто?.. Он?.. Доктор Форести?..
Тремерелло находился в нерешимости, но страсть к болтовне была одной из его добродетелей.
— Не скажите потом, что я болтун. Собственно я не хотел разинуть рта относительно этого. Помните, что вы меня вынудили.
— Да, да, я вынудил, но смелей! Скажите мне все! Что с бедным Форести?
— Ах, синьор! Его заставили пройти мост Вздохов! Он в камерах для уголовных! Смертный приговор произнесен над ним и еще над двоими.
— И его казнят?.. Когда?.. О, несчастные! А кто те двое?
— Я ничего не знаю, я ничего не знаю. Приговор еще не обнародован. По всей Венеции говорят, что будет много смягчений наказания. Дай Бог, чтобы никого из них не казнили! Дай Бог, если не все будут спасены от смерти, дай Бог, чтобы вы, по крайней мере, избегли ее! Я так к вам привязан… извините за вольность… как к своему брату!
Он ушел от меня растроганный. Читатель может себе представить, в каком волнении я находился весь этот день и потом всю ночь и еще много дней, так как я больше ничего не мог узнать.
Неизвестность длилась с месяц, наконец, приговор относительно подсудимых первого процесса был обнародован. Приговорено было много лиц, из них девять было осуждено на смерть, но император помиловал их, и смертная казнь была заменена тяжким тюремным заключением — кому на двадцать лет, кому на пятнадцать (в этих двух случаях осужденные должны были отбывать наказание в крепости Шпильберг около города Брюнна в Моравии), кому на десять лет и менее (и тогда шли в крепость Лайбах).
Если смягчили наказание всем подсудимым первого процесса, то не служит ли это доказательством того, что смерть должна пощадить подсудимых и второго процесса? Или такое снисхождение было оказано только первым, потому что они были арестованы до тех еще постановлений, которые были после обнародованы против тайных обществ, и вся строгость падет на вторых?
— До разрешения моих сомнений не может быть далеко, — говорил я. — Слава Богу, что у меня есть время предвидеть смерть и приготовиться к ней.
XLVIII
Моей единственной мыслью было — умереть по-христиански и с должным мужеством. Было у меня искушение избавиться от виселицы самоубийством, но это искушение исчезло. Какое преимущество в том, что я не дамся убить себя палачу, а буду сам своим палачом? Что! Я спасаю честь этим? И не ребячество ли думать, что больше чести подшутить над палачом, чем не делать этого, когда все равно неизбежно умереть? И не будь я христианином, самоубийство, если порассуждать о том, кажется мне глупою забавою, бесполезностью.
— Если пришел конец моей жизни, — говорил я себе, — то не счастлив ли я тем, что мне есть время собраться с мыслями и очистить свою совесть желаниями и раскаяниями, достойными человека? Рассуждая заурядно — идти на виселицу, это есть самая худшая из смертей, рассуждая мудро, не есть ли это лучшая из стольких смертей, которые приходят через болезни, болезни, ослабляющие разум, не допускающие душе оторваться от пошлых, низких мыслей?
Я так проникся справедливостью этого рассуждения, что страх смерти, и смерти такого рода, как виселица, совсем исчез у меня. Я много размышлял о Святых Дарах, которые должны были придать мне сил к этому торжественному шагу, и мне казалось, что я могу принять эти Дары с таким настроением, что они не замедлили бы оказать свое действие. Сохраню ли я эту высоту духа, которую я, как думал, имею, этот мир, это чувство снисхождения к тем, кто меня ненавидел, эту радость, что я могу свою жизнь принести в жертву воле Божией, сохраню ли я их, когда поведут меня на казнь? Увы! Человек полон противоречий, и когда тебе кажется, что ты стал более сильным, более безгрешным, через минуту после этого ты можешь впасть в слабость и прегрешение! Один Господь знает, умру ли я тогда достойно. Я еще не столь высокого мнения о себе, чтобы утверждать это.
Мое воображение между тем остановилось на мысли — вероятной близости смерти — таким образом, что умереть мне казалось не только возможным, но я даже предчувствовал, что я наверное умру. Всякая надежда на то, что я избегну этого определения судьбы, все больше и больше покидала меня, и при каждом звуке шагов и ключей, всякий раз, как растворяли мою дверь, я говорил себе: «Мужайся! Может быть, пришли за тобой, чтобы вести тебя к выслушиванию приговора. Выслушаем его с полным достоинства спокойствием и благословим Господа».
Я размышлял о том, что я должен был написать в последний раз своим родным и в отдельности отцу, матери, каждому из братьев и каждой из сестер, и, перебирая в своем уме выражения чувств, столь глубоких и столь священных, я умилялся и плакал, и эти слезы не ослабляли моего желания безропотно подчиниться Верховному промыслу.
Как было не вернуться бессоннице? Но какая была разница между этой бессонницей и прежней! Я не слышал ни стонов, ни смеха в комнате, не бредил ни духами, ни спрятавшимися людьми. Ночь была для меня желаннее дня, потому что ночью я больше сосредоточивался в молитве. К четырем часам я обыкновенно ложился в постель и спал мирным сном около двух часов. Проснувшись, я еще долго лежал в постели. Вставал к одиннадцати.
Однажды ночью лег я несколько раньше обыкновенного, не прошло еще четверти часа, как я заснул, — просыпаюсь, и мне бросается в глаза сильный свет на стене. Я испугался, что не впал ли я снова в прежний бред, но то, что я видел, не было иллюзией. Этот свет падал из выходившего на север окошечка, под которым я лежал.
Я соскакиваю на пол, беру столик, ставлю его на кровать, сверху кладу стул, взлезаю на него — и вижу одно из прекраснейших и ужаснейших огненных зрелищ, какое я только мог бы себе вообразить.
Был большой пожар на ружейный выстрел от наших тюрем. Началось с того здания, где были общественные пекарни, которое и сгорело дотла.
Ночь была чрезвычайно темная, и тем более выделялись эти огромные клубы пламени и дыма, подхватываемые порывистым ветром. Со всех сторон летели искры, и казалось, что с неба падал огненный дождь. Соседняя лагуна отражала пожар. Множество гондол сновало взад и вперед. Я представлял себе страх и опасность тех, кто жил в загоревшемся доме и в соседних с ним, и жалел несчастных. Я слышал далекие голоса мужчин и женщин, кричавших:
— Тоньина! Момоло! Беппо! Цанце!
И имя Цанце поразило мой слух! Хоть их и тысячи в Венеции, я, однако, боялся, не была ли это та, воспоминание о которой было так сладко для меня! Не она ли это там, несчастная? И, может быть, окружена пламенем? О, если бы я мог броситься освободить ее!
Замирая, дрожа, удивляясь, я простоял до зари у этого окна, потом слез, подавленный смертельною грустью, представляя себе гораздо больше потерь, чем это было. Тремерелло мне сказал, что сгорели только пекарни и смежные магазины с большим количеством кулей муки.
XLIX
В моем воображении еще живо сохранилось впечатление от виденного пожара, когда, несколько ночей спустя, — я еще не ложился в постель и занимался у столика, весь окоченев от холода, — раздались близкие голоса: были это голоса смотрителя, его жены, их детей и секондини:
— Пожар! Пожар! О, Пресвятая Дева! О, мы погибли!
Мне сразу перестало быть холодно, я вскочил на ноги, весь обливаясь потом, и озирался кругом, не видно ли уже где пламени. Но пламени не было видно.
Пожар был, впрочем, в самом палаццо, в присутственных комнатах.
Один из секондини кричал:
— Но, синьор, что же мы будем делать с запертыми-то в клетку, если огонь дальше пойдет?
Тюремный смотритель отвечал:
— Мне жаль оставить их зажариться. Но я не могу, однако, открыть камеры без разрешения комиссии. Скорее, говорю, бегите, просите это разрешение!
— Иду, бегу, синьор! Но ведь, знаете ли, ответ-то не придет вовремя.
И куда девалась та геройская преданность воле Божией при мысли о смерти, преданность, которою, как я был твердо уверен, я обладаю? Почему это мысль о том, что я сгорю живым, меня кинула в лихорадку? Как будто бы больше удовольствия быть повешенным, чем сгореть? Я подумал об этом и устыдился своего страха, только что хотел было закричать смотрителю, чтобы он меня выпустил из милости, но удержался. Тем не менее было страшно.
«Вот, — говорил я, — каково будет мое мужество, если я спасусь от огня, и меня поведут на смерть! Я удержусь, скрою от других свою трусость, но буду страшиться. Но… разве это не будет мужеством — действовать так, как будто не дрожишь от страха, а на самом деле боишься? Разве это не великодушие — принудить себя дать охотно то, что жаль дать? Разве это не повиновение — повиноваться против своего желания?»
Суматоха в помещении тюремного смотрителя была так сильна, что это показывало все увеличивающуюся опасность. А секондини, ушедший просить разрешения вывести нас отсюда, не возвращался! Наконец, показалось мне, что я слышу его голос. Я прислушался, но слов разобрать не мог. Жду, надеюсь, напрасно! Никто не идет. Возможно ли, что не разрешено перевести нас в безопасное от огня место? Или нам уже больше нет средств к спасению? Или, может, тюремный смотритель и его жена мечутся, чтобы спасти самих себя, и никто не думает о бедных, запертых в клетку?
«Да в конце концов, — снова думал я, — это не есть философия, это не есть религия! Не лучше ли я сделаю, если приготовлюсь к тому, чтобы увидеть пламя, входящее в мою комнату и готовое пожрать меня?»
Между тем шум утих. Мало-помалу не стало слышно ничего. Было ли это доказательством того, что пожар прекратился? Или все те, кто только мог, убежали и не осталось здесь больше никого, кроме жертв, обреченных на столь жестокую смерть?
Стоявшая тишина меня успокоила: я понял, что, должно быть, пожар потушили.
Я лег в постель и упрекал себя в трусости, и теперь, когда уже больше нечего было бояться, что я сгорю живым, я жалел о том, что не сгорел: лучше бы мне было сгореть, чем через несколько дней быть убитому людьми.
На следующее утро я узнал от Тремерелло, какой был пожар, и смеялся над тем страхом, какой был у Тремерелло, по его словам: как будто мой страх не равнялся его страху или не был больше его.
L
11 января 1822 года, около 9 часов утра, Тремерелло воспользовался случаем придти ко мне и, взволнованный, говорит:
— Знаете ли вы, что на острове Сан-Микеле ди Мурано, недалеко от Венеции, есть тюрьма, где находится, может быть, больше сотни карбонариев?
— Вы мне как-то говорили об этом. Ну… что же вы хотите сказать?.. Да, ну, говорите же! Может быть, и там есть осужденные?
— Да, есть.
— Кто?
— Не знаю.
— Не там ли мой несчастный Марончелли?
— Ах, синьор, не знаю я, не знаю, кто там есть. — И он ушел, страшно взволнованный и смотря на меня с состраданием.
Немного времени спустя, пришел тюремный смотритель в сопровождении секондини и какого-то человека, которого я никогда не видал. Смотритель казался смущенным. Новоприбывший заговорил:
— Синьор, комиссия приказала, чтобы вы следовали за мной.
— Идем, — сказал я, — а кто же вы?
— Я смотритель тюрем Сан-Микеле, куда вы должны быть переведены.
Смотритель свинцовых тюрем передал последнему мои деньги, которые у него были в руках. Я попросил и получил позволение сделать подарок секондини. Я привел в порядок свое платье, взял Библию под мышку и отправился. Когда мы спускались по этим бесконечным лестницам, Тремерелло украдкой пожал мне руку, казалось, он хотел мне этим сказать: «Несчастный! Ты погиб.»
Мы вышли в ворота, выходившие на лагуну, здесь была гондола с двумя секондини нового смотрителя.
Я сел в гондолу, и противоположные чувства пробудились во мне: какая-то жалость, что я покидаю свинцовые тюрьмы, где я хоть и многое выстрадал, но где я ко многим привязался, и где многие ко мне привязались, — удовольствие, что я нахожусь после столь долгого заточения на свежем воздухе, что я вижу небо, город, воду без этой ненавистной решетки — воспоминание о той веселой гондоле, которая в те, лучшие времена несла меня по этой же самой лагуне, воспоминание и о гондолах Лаго ди Комо и Лаго Маджоре, и о лодочках По, и о лодочках Роны и Соны!.. О, вы веселые, счастливые исчезнувшие годы! И был ли кто на свете тогда так же счастлив, как я?
Сын прекраснейших родителей, родившийся в положении, которое причисляет человека почти одинаково и к бедному, и богатому, и облегчает ему приобретение истинного познания и бедности, и богатства — положение, которое я считаю наивыгоднейшим для воспитания в себе и развития благородных чувств. Я, проведя свое детство окруженным нежнейшими попечениями родных, отправился в Лион к старому двоюродному брату матери, человеку очень богатому и заслуживающему этого богатства, где все, что только могло очаровывать сердце, бьющееся любовью к прекрасному, восхищало первый жар моей юности. Вернувшись оттуда в Италию и поселившись с родителями в Милане, я продолжал учиться и любить общество и книги, находя только прекрасных друзей и лестное одобрение. Монти и Фосколо хотя и были противниками, были одинаково благосклонны ко мне. Я привязался больше к последнему, он, такой вспыльчивый и раздражительный человек, который многих своей суровостью побудил разлюбить его, был для меня воплощенною нежностью и сердечностью, и я нежно любил и почитал его. И другие уважаемые литераторы любили меня, как и я их любил. Никакая зависть, никакая клевета никогда не касались меня или, если и были они, то происходили от таких лишенных всякого уважения людей, что ни их зависть, ни их клевета не могли повредить мне. При падении Итальянского королевства отец перебрался вместе с остальным семейством в Турин, а я, откладывая со дня на день свое присоединение к этим дорогим для меня лицам, кончил тем, что остался в Милане, где меня окружало такое счастье, что я не мог решиться покинуть его.
Между прочими превосходными друзьями в Милане трое преобладали в моем сердце: Д. Пьетро Борсьери, монсиньор Лодовико ди Бреме и граф Луиджи Порро Ламбертенги. Сюда присоединился вскоре граф Федериго Конфалоньери. Сделавшись воспитателем двух мальчиков Порро, я стал им вместо отца, а отцу — вместо брата. В этот дом стекались не только те, кто были самыми уважаемыми в городе, но множество знаменитых путешественников. Я познакомился здесь со Сталь, Шлегелем, Дэвисом, Байроном, Гобгаузом, Брогэмом и со многими другими знаменитостями различных частей Европы. О! Как восторгало меня знакомство со столь достойнейшими людьми, как оно побуждало меня к улучшению, развитию, облагораживанию души моей! Да, я был счастлив! Я не переменил бы своей доли на долю принца! И после такой доли, полной радостей, быть брошеным среди мошенников да разбойников, переходить из тюрьмы в тюрьму и кончить тем, что меня повесят, или я погибну в оковах!
LI
Перебирая в своем уме эти мысли, я приехал в Сан-Микеле и был заключен в комнату, откуда был вид на двор, на лагуну и на красивый остров Мурано. Я спросил о Марончелли у смотрителя, его жены, у четырех секондини. Но они приходили ко мне на короткое время, были полны недоверчивости и ни о чем не хотели говорить со мной.
Тем не менее, там, где есть пять или шесть лиц, трудно не найтись хоть одному, который не захотел бы посочувствовать и поговорить. Я нашел одного такого и узнал, что следует.
Марончелли, долго пробыв в одиночестве, был помещен вместе с графом Камилло Ладерки, этот последний через несколько дней вышел из тюрьмы, как невиновный, а первый снова остался один. Из наших товарищей так же ушли, как невиновные, профессор Джан-Доменико Романьози и граф Джованни Арривабене. Капитан Рециа и синьор Канова находились вместе. Профессор Ресси лежал при смерти в камере, рядом с той, где были те двое.
— Ведь приговор относительно тех, которые не ушли отсюда, уже получен. Чего же ждут и не объявляют нам его? — говорил я. — Может быть, когда умрет бедный Ресси или когда он будет в состоянии выслушать приговор, не правда ли?
— Думаю, что так.
Всякий день я спрашивал о несчастном.
— У него отнялся язык, снова в состоянии говорить, но бредит и ничего не понимает, подает мало признаков жизни, часто харкает кровью и все еще бредит, ему хуже, стало лучше, в агонии.
Такие ответы давались мне в течение многих недель. Наконец, в одно прекрасное утро мне сказали: умер!
Я поплакал о нем и потом утешился той мыслью, что он не узнал своего приговора!
На следующий день, 21 февраля 1822 года, пришел за мной смотритель. Было десять часов утра. Смотритель привел меня в залу заседаний комиссии и ушел. Президент, инквизитор и двое судей ассистентов, сидевшие при моем входе, теперь поднялись с кресел.
Президент с выражением благородного соболезнования сказал мне, что приговор получен и что решение суда было страшное, но что император уже смягчил его.
Инквизитор прочитал мне приговор: приговаривается к смертной казни. Затем он прочел рескрипт императора: смертную казнь заменить тяжким заключением в крепости Шпильберг на пятнадцать лет.
Я отвечал: «Да будет воля Божия.»
И я действительно желал принять по-христиански этот страшный удар, не показать, не питать к кому бы то ни было злобного чувства.
Президент похвалил мое спокойствие и посоветовал мне всегда хранить его, говоря, что от этого спокойствия могло зависеть то, что, может быть, через два, три года меня сочтут достойным большей милости. (Вместо двух, трех лет прошло много больше).
И другие судьи обратились ко мне с ласковыми словами надежды. Но один из них, казавшийся все время следствия враждебным ко мне, сказал мне какую-то любезность, которая показалась мне колкой, она не согласовалась с выражением его глаз, в которых, я поклялся бы в этом, играла обидная радость и оскорбительный смех.
Теперь я не поклянусь, чтобы это было так: я мог прекрасно быть введен в заблуждение. Но тогда кровь вскипела во мне, и мне стоило больших усилий не разразиться бешенством. Я скрыл его, и в то время, когда меня хвалили за христианское терпение, я втайне уже потерял его.
— Завтра, — сказал инквизитор, — нам предстоит неприятная обязанность объявить приговор публично, но формальность неизбежна.
— Пусть так и будет, — сказал я.
— С этой минуты мы разрешаем вам, — прибавил он, — быть вместе с вашим другом.
И, позвав тюремного смотрителя, меня снова передали ему, сказав, чтобы я был помещен с Марончелли.
LII
Какая это была сладкая минута для меня и для друга, когда мы вновь свиделись после разлуки, длившейся год и три месяца, и после стольких горестей. Радости дружбы заставили нас позабыть на несколько мгновений наше осуждение.
Тем не менее я быстро вырвался из его рук, чтобы взять перо и писать отцу. Я пламенно желал, чтобы известие о моей печальной участи пришло в родную семью лучше от меня, чем от других, дабы уменьшить глубокую скорбь дорогой семьи словами мира и религии. Судьи обещали мне отослать немедленно это письмо.
После этого Марончелли рассказал мне о своем процессе, а я — о моем, мы передали друг другу много разных тюремных приключений, подошли к окну, приветствовали трех других друзей, которые были у своих окон: двое из них были Канова и Рециа, находившиеся вместе, первый был приговорен к шестилетнему тяжкому тюремному заключению, а второй к трехлетнему, третий был доктор Чезаре Армари, который в предшествовавшие месяцы был моим соседом в свинцовых тюрьмах. Он не был ни к чему приговорен и вышел потом, объявленный невиновным.
Беседа с теми и другими была отрадным развлечением в течение всего дня и всего вечера. Но, когда мы улеглись в постель и потушили огонь, и наступила тишина, я не мог заснуть, голова у меня горела, и сердце обливалось кровью при мысли о моем доме. Устоят ли мои старые родители перед таким несчастьем? Довольно ли будет для них других их детей, чтобы утешать их? Все дети были любимы ими, как я, и больше меня стоили этой любви, но заменят ли когда отцу и матери остающиеся им дети того, которого теряют родители?
Да и только ли о родных и других мне милых я думал! Воспоминание о них сокрушало и умиляло меня. Но я думал и о том, злорадном и оскорбительном смехе судьи, о процессе, о мотивах приговора, о политических страстях, об участи стольких друзей своих… И уже не смел больше снисходительно судить ни о ком из своих противников. Бог послал мне большое испытание! Мой долг был бы достойно выдержать это испытание. Я не мог! Не хотел! Мне доставляла большее наслаждение ненависть, чем прощение: я провел адскую ночь.
Утром не молился. Мир казался мне творением силы враждебной добру. Я и прежде иногда клеветал так на Бога, но я не поверил бы, что вновь сделаюсь клеветником и сделаюсь им в короткое время! Джулиано в своих величайших неистовствах не мог быть нечестивее меня. Если питаешь мысли, полные ненависти, особенно, когда потрясен страшным несчастием, которое должно было бы сделать тебя еще более религиозным, ты и будучи справедливым становишься несправедливым. Да, даже если бы и был ты справедлив, так как нельзя ненавидеть без предубеждения. И кто ты, о, жалкий человек, что требуешь, чтобы ни один человек не судил о тебе строго, что требуешь, чтобы никто не мог причинить зло, когда причинивший его предполагал в простоте своего сердца, что он поступает по справедливости? Кто ты, чтобы жаловаться на то, что Бог допускает тебя страдать таким, а не другим образом?
Я сознавал себя несчастным от того, что не мог молиться, но там, где царит гордость, нет другого Бога, кроме самого себя.
Я хотел бы поручить своих, приведенных в отчаяние, родителей Верховному Помощнику в скорбях, но уже больше не верил в Него.
LIII
В 9 часов утра Марончелли и я были посажены в гондолу, и нас повезли в город. Пристали к палаццо дожа и взошли в тюрьмы. Нас поместили в той комнате, где за несколько дней перед этим был синьор Капорали, я не знаю, куда он был переведен. Человек девять или десять полицейских находилось тут в качестве стражи, мы стали ходить по комнате в ожидании минуты, когда нас поведут на площадь. Ожидание было продолжительно. Только в полдень появился инквизитор и объявил нам, что пора отправляться. Подошел доктор, предлагая нам по стакану мятной воды, мы выпили и были ему благодарны не столько за воду, сколько за глубокое сострадание к нам, какое показал добрый старик. Это был доктор Досмо. Затем подошел к нам конвойный начальник и надел на нас наручники. Мы последовали за ним в сопровождении остальных солдат.
Спустились по великолепной лестнице Гигантов, и вспомнился нам дож Марино Фальеро, обезглавленный здесь, вошли в огромные ворота, которые вели из двора палаццо на площадку, и, придя на нее, мы повернули налево к лагуне. Посередине площадки был эшафот, на который мы должны были взойти. От лестницы Гигантов до этого эшафота стояли в два ряда немецкие солдаты, мы прошли между рядами.
Взойдя на эшафот, мы оглянулись кругом и заметили ужас в этой огромной толпе народа. В разных частях в отдалении видно было много вооруженных. Нам говорили, что были и пушки с зажженными фитилями.
И это была та самая площадь, где в сентябре 1820 года, за месяц до моего ареста, какой-то нищий сказал мне: «Это место есть место несчастия!»
Мне вспомнился этот нищий, и я подумал: кто знает, может быть, среди этих тысяч зрителей находится и он и он узнал меня?
Капитан, немец, скомандовал нам, чтобы мы повернулись лицом к палаццо и смотрели бы наверх. Мы повиновались и увидали на балконе судебного чиновника с бумагой в руках. Это был приговор. Чиновник прочел его громким голосом.
Царило глубокое молчание до слов: «Приговариваются к смертной казни». Тогда поднялся всеобщий ропот сострадания. Последовало снова молчание, чтобы услышать конец чтения. Новый ропот поднялся при словах: присуждаются к тяжкому тюремному заключению, Марончелли на двадцать лет, а Пелико на пятнадцать.
Капитан подал нам знак сходить с подмостков. Мы еще раз взглянули кругом и спустились. Вошли снова во двор, взошли по огромной лестнице, вернулись в ту же комнату, откуда нас взяли, тут сняли с нас наручники и затем нас вновь отвели в Сан-Микеле.
LIV
Те, которые раньше нас были осуждены, уже были отправлены в Лайбах и Шпильберг в сопровождении полицейского комиссара. Теперь ждали возвращения этого комиссара, чтобы отправить нас к месту нашего назначения. Этот промежуток времени длился с месяц.
В моей жизни было тогда только одно развлечение: это — самому разговаривать и слушать разговоры других. Сверх этого, Марончелли читал мне свои литературные произведения, а я ему читал свои. Однажды вечером я прочел из окна «Ester d’Engaddi» Канове, Рециа и Армари, а на следующий вечер я прочел им «Iginia d’Asti».
Но по ночам я метался и плакал и спал мало или и вовсе не спал.
Я желал и боялся в то же время узнать, как принято моими родителями известие о моей несчастной участи.
Наконец, пришло письмо от моего отца. Какова была моя скорбь, когда я узнал, что мое последнее к нему письмо не было тотчас же отправлено, как о том я так сильно просил инквизитора! Несчастный отец, все обольщая себя той мыслью, что я выйду без обвинения, читал однажды Миланскую газету и нашел там мой приговор. Отец сам рассказывал мне об этом жестоком факте и предоставлял мне судить, как этот факт глубоко поразил его.
О, как я, вместе с безграничной жалостью, какую я почувствовал к нему, к матери и ко всем родным, воспылал негодованием на то, что письмо мое не позаботились отправить! Коварства в этом замедлении не было, но я предположил здесь адское коварство, я думал, что здесь кроется утонченное варварство, желание того, чтобы бич пал со всею возможною тяжестью и на невинных моих родственников. Я желал бы, чтобы я мог пролить море крови в наказание за это воображаемое бесчеловечие.
Теперь, когда я сужу спокойно, я не нахожу это правдоподобным. Это замедление произошло, без всякого сомнения, не от чего другого, как от беспечности.
Находясь в таком безумии, я задрожал от ярости, услыхав, что мои товарищи предполагают до отъезда отпраздновать пасху. Я думал, что я не должен праздновать ее, так как у меня вовсе не было никакого желания прощать. Если бы я совершил такое дело!
LV
Комиссар наконец прибыл из Германии и явился сказать нам, что через два дня мы отправимся.
— С удовольствием, — прибавил он, — я могу доставить вам некоторое утешение. Возвращаясь из Шпильберга, я видел в Вене его величество императора, который сказал мне, что он дни вашего наказания, господа, желает считать не в 24 часа, а в 12. Этими словами он имел в виду сказать, что наказание уменьшено наполовину.
Это уменьшение наказания ни теперь, ни после не было нам объявлено официально, но нет никакой вероятности, чтобы комиссар лгал, тем более, что он сказал нам об этом не тайком, но с ведома комиссии.
Я все-таки не знал, радоваться ли мне этому. Для меня было немногим менее страшно пробыть в оковах семь с половиною лет, а не пятнадцать. Мне казалось невозможным прожить так долго.
Мое здоровье снова было довольно плохим. Я страдал от сильной боли в груди и кашля, и думал, что повреждены легкие. Ел мало, да и этого желудок не варил.
Мы отправились в ночь с 25 на 26 марта. Нам дано было позволение проститься с нашим другом, доктором Чезаре Армари. Один из сбирров сковал нас: правую руку и левую ногу, чтобы нам было невозможно бежать. Спустились в гондолу, и конвойные стали грести к Фузине.
Прибыв туда, мы нашли приготовленными две кареты. Рециа и Канова сели в одну, Марончелли и я — в другую. В одном из экипажей с двумя арестантами был комиссар, в другом экипаже — суб-коммиссар с двумя остальными. Довершали конвой шесть или семь полицейских стражей, вооруженных ружьями и саблями, эти стражи разместились частью внутри карет, частью на козлах, вместе с ямщиком.
Всегда бывает горько, когда несчастие принуждает покинуть отечество, но покидать его скованному, отправляемому в ужасный климат, обреченному на то, чтобы томиться долгие годы среди разбойников, так тяжело, так разрывает сердце, что нет слов выразить это!
До перехода нашего через Альпы, мне все дороже и дороже становилась своя нация, в силу той доброты и сострадания, которые повсюду нам оказывали те, кто встречался нам. В каждом городе, в каждом селении, в каждой из разбросанных по пути полуразвалившихся хижин, куда за несколько недель перед этим уже пришло известие о нашем осуждении, нас ожидали. Во многих местах комиссарам и страже стоило больших трудов разогнать толпу, которая нас окружала. Удивительно было то чувство доброжелательства, которое выказывалось нам.
В Удине случилась с нами трогательная неожиданность. Когда мы прибыли в гостиницу, комиссар приказал запереть ворота и отогнать народ. Он указал нам комнату и сказал прислуге, чтобы нам принесли обед и все необходимое для ночлега. И вот, спустя минуту, вошло трое мужчин с матрацами на плечах. Каково же было наше удивление, когда мы увидали, что только один из этих людей был слугой в гостинице, а что остальные двое были наши знакомые! Притворившись, что мы хотим им помочь разложить матрацы, мы пожали украдкой им руку. Искренне прослезились и они, и мы. О, как было это мучительно, что мы не можем пролить эти слезы в объятиях один другого!
Комиссары не заметили этой трогательной сцены, но я боялся, не проник ли в тайну один из конвойных в тот момент, когда добрый Дарио пожимал мне руку. Этот конвойный был венецианец. Он посмотрел пристально на Дарио и на меня, побледнел, казалось, колебался, не должен ли он повысить голос, но смолчал и перевел глаза, как будто бы ничего не заметив. Если он не отгадал, что это были наши друзья, то, по крайней мере, подумал, что это были слуги, знакомые нам.
LVI
Утром выехали из Удины, едва светало. Этот милый Дарио был уже на улице, весь закутанный в плащ, он еще раз приветствовал нас и следовал за нами долгое время. Мы увидели также, что за нами ехала коляска, две или три мили. В этой коляске кто-то махал нам платком. Наконец, она повернула назад. Кто бы это мог быть? Мы догадывались.
О, да благословит Господь все великодушные сердца, не стыдящиеся любить несчастных! Ах, я их тем больше ценю, что в тяжкую годину бедствий я узнал и трусов, которые отреклись от меня, рассчитывая извлечь пользу из того, что осыплют меня упреками. Но таких людей было мало, а число первых не было скудным.
Я ошибался, думая, что то сострадание, которое мы находили в Италии, должно было прекратиться, когда мы будем в чужой стране. Ах, добрый человек всегда земляк несчастному! Когда мы были в иллирийских и немецких землях, с нами случалось то же самое, что и в наших. Этот стон был всеобщим: arme Herren (бедные господа)!
Иногда при въезде в какое-нибудь селение наши коляски бывали принуждены останавливаться, чтобы решить, где расположиться. В таком случае народ теснился около нас, и мы слышали слова сожаления, выходившие истинно из глубины сердца. Доброта этого народа меня трогала еще больше доброты моих земляков. О, как я был благодарен всем! О, как сладка любовь ближних! И как сладко любить их!
Утешение, извлекаемое мною отсюда, уменьшало мое негодование против тех, кого я называл своими врагами.
«Кто знает, — думалось мне, — если бы я увидал их лица вблизи, и если бы они увидали меня, и если бы я мог читать в их душе, а они в моей, — кто знает, не был бы я принужден признаться в том, что в них нет ничего злодейского, а они — в том, что и во мне нет ничего! Кто знает, не были бы мы принуждены снисходительно отнестись друг к другу и взаимно полюбить друг друга».
Ведь слишком часто люди отворачиваются друг от друга, потому что не знают друг друга, а если бы они обменялись между собою несколькими словами, может каждый протянул бы доверчиво руку другому.
Мы остановились на целый день в Лайбахе, где Канову и Рециа разлучили с нами и отправили в крепость. Легко себе представить, как грустна была разлука для всех четверых.
Вечером, в день нашего приезда в Лайбах и на следующий день к нам пришел один господин, о котором нам сказали, если только я хорошо понял, что он муниципальный секретарь. Был он человек очень гуманный и говорил о религии с чувством и с достоинством. Я было думал, что это пастор: священники одеваются в Германии так же, как миряне. У него было одно из тех открытых лиц, которые внушают уважение. Мне было жаль, что я не мог поближе познакомиться с ним, и досадно теперь, что я был так ветрен, что позабыл его имя.
Как приятно мне было бы также знать и твое имя, о, милая девушка, которая в одной штирийской деревушке следовала за нами среди толпы и потом, когда наша коляска должна была остановиться на несколько минут, ты приветствовала нас обеими руками, затем отошла с платком у глаз, опершись на руку грустного юноши, который казался немцем по своим белокурым волосам, но который, может быть, был в Италии и полюбил наш несчастный народ!
Как приятно бы было мне знать имя каждого из вас, о, вы, почтенные отцы и матери семейств, которые в разных местах подходили к нам и спрашивали, нет ли у нас в живых родителей, и, слыша, что есть, вы бледнели, восклицая: «О, да вернет вас скорее Господь к этим бедным старикам.»
LVII
Мы прибыли к месту нашего назначения 10 апреля.
Город Брюнн — столица Моравии и здесь находится резиденция губернатора двух провинций: Моравии и Шлезии. Город стоит в веселой долине и имеет вид богатый. Много суконных фабрик процветало в нем тогда, которые после пришли в упадок. Народонаселения было около 30 тысяч душ.
Вблизи городских стен, на западе, подымается большая гора, и на ней находится мрачный замок Шпильберг, некогда дворец государей Моравии, а теперь самый суровый острог Австрийской монархии. Это была довольно сильная цитадель, но французы бомбардировали ее и взяли во время знаменитого аустерлитцкого сражения (деревня Аустерлитц находится недалеко). Этой цитадели больше не исправляли так, чтобы она могла служить крепостью, а только восстановили часть ограды, которая была разрушена. Около трехсот арестантов, большею частью, воров и убийц, находятся здесь, одни из них приговорены к тяжкому тюремному заключению, другие к тягчайшему.
Тяжкое тюремное заключение значит быть обязанным работать, носить на ногах цепи, спать на голых досках и есть самую худшую пищу, какую только можно себе представить. Тягчайшее тюремное заключение это — быть еще ужаснее скованным: туловище обхватывалось железным обручем, прикованным к цепи, вбитой в стену, так что едва можно было доставать до доски, которая служила постелью, пища — та самая, как гласит закон: хлеб и вода.
Мы, государственные преступники, были приговорены к тяжкому тюремному заключению.
Поднимаясь по склону этой горы, мы оглянулись назад, чтобы сказать свету прости, не ведая, откроется ли когда-нибудь для нас та пропасть, которая нас поглощала. Я внешне был спокоен, но внутри все клокотало. Тщетно хотел я прибегнуть к философии, чтобы успокоиться, философия не имела достаточных доводов для меня.
Выехав из Венеции в скверном состоянии здоровья, я был страшно утомлен дорогой. Голова и все тело болели: я горел в лихорадке. Физическая боль поддерживала во мне гнев, а гнев, вероятно, усиливал физическую боль.
Мы были переданы супер-интенданту Шпильберга, который и вписал наши имена среди имен воров. Имперский комиссар, удаляясь, обнял нас и был растроган.
— Советую вам, господа, главным образом послушание, — сказал он, — за малейшее нарушение дисциплины вы можете быть подвергнуты господином супер-интендантом строгому наказанию.
Когда вписали наши имена, Марончелли и я были отведены в подземный коридор, где открылись для нас две темных, не смежных между собою, камеры.
Каждый из нас был заключен в свое логово.
LVIII
Как тяжко, когда ты уже сказал прости стольким предметам, когда остаешься ты только вдвоем с твоим, одинаково несчастным другом, как тяжко и с ним расстаться! Марончелли, покидая меня, видел, что я болен, и оплакивал во мне человека, которого он, вероятно, уже больше никогда не увидит, я оплакивал в нем цветок, блещущий здоровьем, отторгнутый, может быть, навсегда от животворного света солнца. И как завял, в самом деле, этот цветок! В один прекрасный день он снова увидел свет, но в каком состоянии!
Когда я остался один в этом страшном вертепе и услышал, как заперлись за мною запоры, и разглядел при слабом свете, который падал из высокого окошечка, голую доску, данную мне вместо постели, и огромную цепь в стене, я сел, дрожа от ярости, на эту постель и, взяв эту цепь, вымерил ее длину, думая, что цепь предназначена была для меня.
Спустя полчаса, загремели ключи, открывается дверь: это главный тюремщик нес мне жбан воды.
— Это пить, — сказал он грубым голосом.
— Спасибо, добрый человек.
— Я не добрый, — возразил он.
— Тем хуже для вас, — сказал я ему в негодовании. — А эта цепь не для меня ли?
— Да, синьор, если вы не будете смирны, если будете буйствовать, если вы будете говорить дерзости. А если будете благоразумны, мы наденем вам цепь только на ноги. Кузнец ее теперь готовит.
Он прохаживался медленно взад и вперед, махая неуклюже связкой огромных ключей, и я гневным взором смотрел на его гигантскую, сухопарую, старую фигуру, и, не смотря на то, что черты его лица не были грубыми, все в нем мне казалось ненавистнейшим олицетворением грубой силы!
О, как бывают несправедливы люди, когда они судят по наружности и подчиняясь высокомерному предубеждению! У этого человека, про которого я думал, что он затем и играет так весело ключами, что хочет дать мне почувствовать свою печальную власть, которого я считал наглым в силу его долгой привычки к жестокостям, были на уме мысли сострадания, и он наверное потому-то и говорил так грубо, чтобы скрыть это чувство. Он хотел бы скрыть его и потому, чтобы не показаться слабым, и из боязни, что я был недостоин этого чувства, но в то же время он, предполагая, что я, может быть, скорее несчастен, чем преступен, желал бы обнаружить мне свое чувство.
Наскучившись его присутствием, а больше еще его видом, я счел необходимым обрезать его и сказал ему повелительно как слуге:
— Дайте мне пить.
Он посмотрел на меня и, казалось, хотел сказать: «Высокомерный! Здесь нужно отучиться приказывать.»
Но он смолчал, согнул свою длинную спину, взял с земли жбан и подал его мне. Я заметил, когда брал жбан от него, что он дрожал, и, приписывая это дрожание его старости, я был охвачен чувством жалости и почтения к нему, которое смирило мою гордость.
— Сколько вам лет? — сказал я ему ласково.
— Семьдесят четыре, синьор: уже много видел я несчастий и своих, и чужих.
При этом намеке на свои и чужие несчастия он опять задрожал в то время, как брал от меня жбан, и я подумал, что это следствие не одной его старости, но и некоторого благородного волнения. Эта мысль уничтожила во мне всякую ненависть, запавшую в мою душу при первом взгляде на него.
— Как вас зовут? — спросил я его.
— Судьба, синьор, подсмеялась надо мной, дав мне имя великого человека: меня зовут Шиллер.
Затем в немногих словах рассказал он мне, откуда он родом, какого происхождения, какие видал войны и какие вынес раны.
Был он швейцарец, крестьянин по происхождению, воевал против турок под началом генерала Лаудона во времена Марии Терезии и Иосифа II, затем участвовал во всех войнах Австрии против Франции до падения Наполеона.
LIX
Когда мы о человеке, которого сначала сочли дурным, становимся лучшего мнения, тогда, обращая большее внимание на его лицо, его голос, его манеры, мы усматриваем в нем, как нам кажется, ясные признаки прекрасных качеств. Но существует ли в действительности то, что мы усматриваем? Я думаю, что нет. Это же самое лицо, этот же самый голос, эти же самые манеры казались нам перед тем носящими на себе явный признак обратных качеств. Если меняется наше суждение о нравственных качествах, тотчас же меняются и заключения, сделанные нами относительно физиономии. Сколько лиц нам внушают к себе уважение, потому что мы знаем, что эти лица принадлежат людям благородным и нравственно прекрасным, которые вовсе не показались бы нам способными внушить к себе уважение, если бы принадлежали другим людям! И наоборот. Меня рассмешила однажды одна дама, которая, увидав изображение Катилины и спутав его с Коллатином, вздумала отыскать в этом изображении величественную скорбь Коллатина о смерти Лукреции. Однако такие самообманы свойствены всем людям.
Ведь нет же таких лиц, которые, раз они принадлежат добрым людям, носили бы на себе чрезвычайно явственно характер доброты, как нет лиц злодеев, которые чрезвычайно явственно носили бы на себе характер злодейства, но я утверждаю, что много есть таких лиц, выражение которых неопределенно.
Наконец, став несколько помягче со стариком Шиллером, я посмотрел на него более внимательно, чем раньше, и он перестал мне не нравиться. Сказать правду, в его разговоре, хотя и несколько грубом, проявлялись черты благородной души.
— Мне, капралу, пришлось вот вместо отдыха исполнять неприятную должность тюремщика, и Господь ведает, что мне это гораздо тяжелее, чем если бы я потерял свою жизнь в сражении.
Я раскаялся в том, что только что так надменно попросил у него пить.
— Любезный мой Шиллер, — сказал я, пожимая ему руку, — вы напрасно отрицаете это, я знаю, что вы добры, и, впав в это злополучие, я благодарю небо за то, что оно дало мне вас в стражи.
Он выслушал мои слова, покачал головою, потом отвечал, потирая себе лоб, как человек, которого мучит одна мысль:
— Нет, синьор, я злой человек, меня заставили принести присягу, которой я не изменю никогда. Я обязан обходиться со всеми арестантами, не взирая на их звание, без снисхождения, не допуская никаких поблажек, и в особенности с государственными арестантами. Император знает, что делает: я должен повиноваться ему.
— Вы славный человек, и я всегда приму то, что вы сочтете долгом совести. Кто поступает по чистой совести, тот может ошибаться, но он чист перед Богом.
— Бедный синьор, имейте терпение и пожалейте меня. Я буду железным в исполнении своего долга, но сердце… Сердце полно сожаления, что я не могу помочь несчастным. Вот то, что я хотел вам сказать.
Мы оба были растроганы. Он умолял меня быть тихим, не впадать в ярость, как часто это делают осужденные, не принуждать его обходиться жестоко со мною.
Затем, как бы желая скрыть от меня часть своей доброты, он сказал мне суровым тоном:
— Теперь мне надо отсюда уходить.
Потом вернулся назад, спрашивая меня, давно ли я так сильно кашляю, и грубо обругал доктора, зачем он не пришел сегодня вечером навестить меня.
— У вас сильная лихорадка, — прибавил он, — я знаю в этом толк. Вам нужен бы по крайней мере соломенный тюфяк, но, пока не прикажет врач, мы не можем дать его вам.
Он ушел, запер за собою дверь, и я растянулся на жестких досках, в лихорадке и с сильною болью в груди, но уже менее яростным, менее враждебным к людям, менее далеким от Бога.
LX
Вечером пришел супер-интендант в сопровождении Шиллера, другого капрала и двух солдат затем, чтобы произвести обыск.
Было предписано три ежедневных обыска: утром, вечером, в полночь. Осматривали каждый угол камеры, каждую безделицу, потом низшие уходили, а супер-интендант (который никогда не упускал случая быть утром и вечером) оставался немного поговорить со мной.
В первый раз, как я увидал эту кучку, мне пришла в голову дикая мысль. Не зная еще этих тягостных обычаев и в бреду лихорадки, я вообразил, что пришли ко мне за тем, чтобы умертвить меня, и схватился за длинную цепь, находившуюся около меня, чтобы размозжить лицо первому, кто подойдет ко мне.
— Что вы делаете? — сказал супер-интендант. — Мы не за тем пришли, чтобы причинить вам какое-нибудь зло. Это посещение есть формальность для всех камер, которая имеет целью убедить нас в том, что здесь нет ничего ненадлежащего.
Я был в нерешимости, но, когда увидал, что подошел ко мне Шиллер и протянул мне дружески руку, его отеческий вид внушил мне доверие: я выпустил цепь и взял эту руку в свои.
— О, какой жар, — сказал он супер-интенданту. — Ему бы можно было по крайней мере дать соломенный тюфяк!
Он произнес эти слова с выражением такого истинного, нежного сострадания, что я был этим умилен.
Супер-интендант пощупал мой пульс, пожалел меня: он был ласковый, обходительный человек, но не посмел ничего произвольно разрешить мне.
— Здесь все строго и для меня, — сказал он. — Если я не буду буквально выполнять то, что мне предписано, я рискую быть отрешенным от своей должности.
Шиллер вытянул губы, и я бы побился об заклад, что он подумал про себя: «Если бы я был супер-интендантом, я бы не довел страха до такой степени: не разрешить произвольно того, что так оправдывается необходимостью и столь безвредно для монархии, да разве можно бы было когда-нибудь счесть это за большой проступок».
Когда я остался один, мое сердце, с некоторого времени неспособное к глубокому религиозному чувству, умилилось, и я молился. Это была молитва о ниспослании благословений на Шиллера, и я закончил эту молитву словами: «Сделай так, чтобы я различал в людях те качества их, которые привлекли бы меня к ним. Я приму все муки заточения, но молю Тебя, Боже, сотвори любовь во мне к людям! Молю Тебя, избавь меня от мук ненависти к моим ближним!»
В полночь я услыхал шаги в коридоре. Загремели ключи, отворяется дверь. Это пришел капрал с двумя стражами произвести обыск.
— Где мой старик Шиллер? — спросил я, желая его видеть. Он оставался в коридоре.
— Здесь я, здесь, — отвечал он.
И, подойдя к доскам, на которых я лежал, он снова пощупал мне пульс, беспокойно наклонившись посмотреть на меня, как отец наклоняется над постелью больного сына.
— А что я теперь вспомнил: ведь завтра четверг! — проворчал он, — ведь только четверг!
— Что вы хотите сказать этим?
— Да то, что доктор обыкновенно приходит по утрам в понедельник, среду и пятницу — и только, и что завтра он, вероятно, не придет.
— Не беспокойтесь об этом!
— Как тут не беспокоиться! Во всем городе только и разговору, что о вашем прибытии, господа, и доктор не может не знать этого. Какого же черта не постараться ему сверх обыкновения прийти один лишний раз?
— Кто же знает, что он не придет завтра, хоть это и четверг?
Старик ничего не сказал, но сжал мне руку с такою страшною силой, что чуть не раздавил ее. Хоть и больно мне было, но мне было приятно это. Это похоже на удовольствие, испытываемое влюбленным, когда случится, что его возлюбленная, танцуя, наступит ему на ногу; он почти вскрикнул бы от боли, но вместо того он улыбается и считает себя счастливым.
LXI
В четверг утром, после мерзейшей ночи, ослабленный, с отбитыми костями на этих голых досках, я был в страшном поту. Пришли с обыском. Супер-интенданта не было, так как в это время ему было неудобно, он пришел после, несколько позже.
Я сказал Шиллеру:
— Посмотрите, как я облит потом, ведь мне очень холодно, мне бы надо тотчас же переменить рубашку.
— Нельзя! — крикнул он грубым голосом.
Но украдкой он сделал мне знак глазами и рукою. Когда уходили капрал и солдаты, он снова мне сделал знак в то время, как запирал за собой дверь.
Немного спустя, он появился снова, неся мне одну из своих рубашек, вдвое длиннее меня.
— Для вас, — сказал он, — она немножко длинна, да теперь у меня здесь нет других.
— Благодарю вас, мой друг, но так как я привез с собою в Шпильберг полный сундук белья, то, надеюсь, мне не откажут дать одну из моих рубашек, будьте так добры, сходите к супер-интенданту и попросите у него одну из них.
— Синьор, вам ничего давать не приказано из вашего белья. Каждую субботу вам, как и другим арестантам, будет выдаваться казенная рубашка.
— Добрый старик, — сказал я, — вы видите, в каком я положении, маловероятно, что я когда-нибудь выйду живым отсюда: я никогда не смогу ничем вознаградить вас.
— Стыдитесь, синьор, — вскричал он, — стыдитесь! Говорить о награде тому, кто не может оказать вам услуг! Тому, кто едва может снабдить тайком больного, чем бы осушить тело, обливающееся потом!
И, грубо набросив на меня свою длинную рубашку, он ушел, ворча, и захлопнул дверь со страшным шумом.
Через два, этак, часа он принес мне краюху черного хлеба.
— Это вот, — сказал он, — порция на два дня.
Потом он стал гневно прохаживаться.
— Что с вами? — спросил я. — Вы сердитесь на меня! Да ведь я же надел вашу рубашку, которую вы мне одолжили.
— Я сержусь на доктора, который, хоть сегодня и четверг, мог бы, однако, прийти!
— Терпение! — сказал я.
Я говорил: «Терпение!», — а сам не находил никаких средств лежать так на досках, даже без подушки: все мои кости болели.
В одиннадцать часов мне был принесен обед одним арестантом в сопровождении Шиллера. Обед составляли два железных горшка: в одном сквернейшая похлебка, в другом вареные овощи, приправленные таким соусом, один запах которого вызывал тошноту.
Я было попытался проглотить несколько ложек похлебки, но не было никакой возможности.
Шиллер твердил мне:
— Будьте пободрее, старайтесь привыкнуть к этой пище, иначе и с вами случится то же, что и с другими: придется грызть только один хлеб и умереть потом от истощения.
В пятницу утром пришел наконец доктор Бейер. Он нашел у меня лихорадку, приказал мне дать соломенный тюфяк и настоял на том, чтобы я был выведен из подземелья и переведен в верхний этаж. Но этого сделать было нельзя: там не было места. Но было сделано о том донесение графу Митровскому, губернатору двух провинций Моравии и Шлезии, живущему в Брюнне, и граф приказал, чтобы, в виду серьезности моей болезни, мнение доктора было приведено в исполнение.
В комнату, которую мне дали, проникало немного света, и я, вскарабкавшись к решетке узкого окошечка, увидал внизу долину, часть города Брюнна, предместье со множеством садиков, кладбище, озеро Картезианцев и лесистые холмы, которые отделяли нас от славных полей Аустерлитца.
Этот вид очаровал меня. О, как бы я был рад, если бы мог поделиться им с Марончелли!
LXII
Меж тем, нам готовили арестантскую одежду. Спустя пять дней, мне принесли мою.
Она состояла из пары штанов из грубого сукна, правая сторона серого цвета, а левая черного, из полукафтана также двух цветов, одинаково расположенных, и из куртки таких же цветов, но иначе расположенных, т. е. черного цвета правая сторона и серого левая. Чулки были из грубой шерсти, холщовая рубашка из оческов, наполненная колючками — чистая власяница, на шее небольшой лоскут такого же холста, как на рубашке. Башмаки из некрашенной кожи на шнурках. Шляпа белая.
Дополняло это одеяние железо на ногах, т. е. цепь от одной ноги к другой, причем оковы этой цепи замыкались гвоздями, которые заклепывались на наковальне. Кузнец, исполнявший эту работу, сказал солдату, думая, что я не понимаю по-немецки:
— Такого больного, как он, могли бы пощадить от этой погремушки: не пройдет двух месяцев, как ангел смерти придет освободить его.
— Mochte es sein (пусть бы так было)! — сказал я ему, ударив его по плечу.
Бедняга вздрогнул и смутился, потом сказал:
— Надеюсь, что я не буду пророком, и желаю, чтобы вы были освобождены совершенно другим ангелом.
— Чем жить так, не кажется ли вам, — отвечал я ему, — что скорее пусть будет ангел смерти желанным гостем?
Он утвердительно кивнул головой и удалился, сожалея обо мне.
Я бы в самом деле охотно перестал жить, но не покушался на самоубийство. Я верил тому, что моя болезнь легких была настолько сильна, что скоро унесет меня в могилу. Но это было неугодно Богу. Трудное путешествие порядочно утомило меня: отдых мне дал некоторое облегчение.
Спустя несколько времени после ухода кузнеца, я услыхал в подземелье звук ударов молотка по наковальне. Шиллер был еще в моей камере.
— Слышите эти удары, — сказал я ему, — верно надевают цепи на бедного Марончелли.
И, когда я говорил это, у меня так сжалось сердце, что я зашатался и, если бы меня не поддержал добрый старик, я бы упал. Я более получаса пробыл в состоянии, казавшемся обмороком, но которое на самом деле не было им. Я не мог говорить, мой пульс едва бился, холодный пот облил меня с головы до ног, и, несмотря на это, я слышал все слова Шиллера, и у меня сохранялось живейшее воспоминание о прошлом и сознание настоящего.
Приказ супер-интенданта и бдительность стражи держали до сих пор все соседние камеры в тишине. Три или четыре раза я слышал пение какой-то итальянской песенки, но все скоро смолкло по окрику часовых. Этих часовых у нас было несколько на площадке, находившейся под нашими окнами, и один в нашем коридоре. Этот последний часовой ходил взад и вперед по коридору, прислушиваясь в дверях, и возбранял всякий шум.
Как-то раз, к вечеру (всякий раз, как я об этом вздумаю, во мне пробуждается тот трепет, который охватил меня тогда) часовые, по счастливой случайности, были менее внимательны, и я услыхал, как кто-то в камере, смежной с моей, запел песенку тихим, но ясным голосом.
О, какая радость, какое волнение охватило меня!
Я встал с постели, прислушался, и когда тот замолчал, я разразился неудержимым плачем.
— Кто ты, несчастный? — воскликнул я. — Кто ты? Скажи мне свое имя. Я Сильвио Пелико.
— О, Сильвио! — вскричал сосед. — Я не знаю тебя в лицо, но люблю уже давно. Взберись к окну и поговорим с тобой, не взирая на этих бездельников.
Я вскарабкался к окну, он сказал мне свое имя, и мы перекинулись несколькими ласковыми словами.
Это был граф Антонио Оробони, родом из Фратты, близ Ровиго, молодой человек двадцати девяти лет.
Увы, мы скоро были прерваны грозным окриком часовых! Коридорный часовой стал сильно стучать прикладом ружья то в дверь Оробони, то в мою дверь. Мы не хотели, мы не могли повиноваться, но проклятия стражей были таковы, что мы прекратили беседу, условились снова начать, когда сменят часовых.
LXIII
Мы надеялись, так и случилось на самом деле, что, и тише говоря, мы можем слышать друг друга, и что нам будут попадаться добрые часовые, которые притворятся, что не замечают нашей болтовни.
Скоро мы научились говорить так тихо, что этого для наших ушей было достаточно, а другим было или вовсе не слышно, или представлялось, что они ослышались. Но случалось изредка, что у нас бывали слушатели с более тонким слухом, или мы забывали сдерживать голос. Тогда до нас доходили окрики и раздавался стук в двери и, что всего хуже, мы навлекали на себя гнев бедного Шиллера и супер-интенданта.
Мало-помалу мы усовершенствовали все предосторожности, т. е. говорили в эти часы, а не в другие, тогда, когда были одни часовые, а не другие, и всегда самым тихим голосом. Благодаря ли нашему искусству, или благодаря тому, что другие привыкли снисходительно смотреть на это, мы кончили тем, что могли всякий день порядочно беседовать друг с другом, почти никогда не навлекая на себя выговора со стороны стражи.
Мы соединились друг с другом нежною дружбой. Он рассказал мне свою жизнь, а я рассказал ему свою. Грусть и утешения одного становились грустью и утешениями другого. О, какую поддержку мы находили друг в друге! Сколько раз после бессонной ночи каждый из нас, подходя к окну и приветствуя друга, и слыша его ласковые речи, чувствовал, что в сердце уменьшалась скорбь и увеличивалось мужество! Каждый был убежден, что он полезен для другого, и эта уверенность пробуждала нежное соревнование в кротких, ласковых мыслях и то довольство, которое и в несчастий является у человека, когда он может помочь своему ближнему.
Каждый разговор влек за собой необходимость продолжения, разъяснений и давал беспрерывно животворный толчок знанию, памяти, фантазии, сердцу.
Вначале, вспоминая Джулиано, я не доверял постоянству этого нового друга. Я думал: до сих пор еще не случилось нам натолкнуться на разногласия, но не сегодня, так завтра я могу чем-нибудь не понравиться ему, и вот это-то будет несчастие.
Это подозрение скоро пропало. Наши мнения были согласны относительно всех существенных пунктов, за исключением разве того, что он к благородному сердцу, бьющемуся великодушными чувствами, не приниженному несчастием, присоединял еще самую чистую и полную веру в христианство, между тем как моя вера с некоторого времени колебалась во мне, а иногда, казалось мне, и совсем исчезала.
Он разбивал мои сомнения справедливейшими рассуждениями, в которых было много любви: я чувствовал, что он прав, и признавал это, но сомнения возвращались. Это случается со всеми теми, у кого нет в сердце Евангелия, со всеми теми, кто ненавидит других, кто превозносит самого себя. Ум и видит иногда истину, но так как она ему не нравится, он разуверяется в ней тотчас же и употребляет все старания на то, чтобы остановить свое внимание на другом.
Оробони обладал прекрасной способностью останавливать мое внимание на тех мотивах, которые побуждают человека быть снисходительным к врагам. Если я говорил с ним о ком-нибудь ненавистном для меня, он тотчас же вступался за такого человека и искусно защищал его и не только словами, но и примером. Многие повредили ему. Он стенал от них, но прощал им всем, и если он мог рассказать мне о какой-нибудь похвальной черте каждого из них, он охотно это делал.
Гневное настроение, которое овладело мной и делало меня нерелигиозным со времени моего осуждения и до сих пор, длилось еще несколько недель, затем совершенно исчезло. Добродетель Оробони породила во мне желание обладать такой же. Всеми силами стараясь достичь ее, я по крайней мере шел по его следам. Тогда я вновь мог искренне молиться за всех, не относиться больше с ненавистью ни к кому, мои сомнения в вере исчезли: ubi charitas et amor, Deus ibi est.
LXIV
Сказать правду, если наказание и было чрезвычайно строгим и способным привести в негодование, все-таки у нас в то же самое время была та редкая участь, что все, кого мы видели, были добры к нам. Они не могли облегчить наше положение ничем иным, как только ласковым и почтительным обхождением, а такое-то обхождение и было у всех. Если и была некоторая грубость в старике Шиллере, зато как она вознаграждалась благородством его сердца! Даже бедняк Кунда (это был тот арестант, который приносил нам обед и три раза в день воду) и тот хотел, чтобы мы видели, что он жалеет нас. Он убирал нам комнаты два раза в неделю. Раз утром, убирая в камере, он улучил момент, когда Шиллер отошел шага на два от двери, и предложил мне ломоть белого хлеба. Я не взял его, но сердечно пожал ему руку. Это пожатие руки растрогало его. Он сказал мне на плохом немецком языке (он был поляк):
— Синьор, вам так мало дают теперь есть, что вы наверно страдаете от голода.
Я уверил, что нет.
Доктор, видя, что никто из нас не мог есть пищу такого качества, какого давали нам в первые дни, посадил нас всех на четверть порции, как это называют, т. е. на больничную пищу. Эта четверть порции состояла из трех крохотных мисочек супу на день, кусочка жареной телятины на один глоток и, может быть, трех унций белого хлеба. Так как мое здоровье улучшалось, то и аппетит увеличивался, и этой четверти порции для меня было на самом деле слишком мало. Я попробовал было вернуться к пище для здоровых, но ничего этим не выиграл, так как она до того была противна, что я не мог ее есть. Приходилось безусловно оставаться на больничной пище. Больше году я испытывал муки голода и узнал, что это за муки. И это мучение, и еще с большею силою, терпели некоторые из моих товарищей, которые будучи сильнее и здоровее меня привыкли питаться обильнее. Я знаю между ними нескольких таких, которые брали хлеб и от Шиллера, и от других двух стражей, приставленных к нам, и даже от добряка Кунды.
— В городе говорят, что вам, господа, дают мало есть, — сказал как-то раз цирюльник, молодой человек, практикант нашего хирурга.
— Истинная правда, — отвечал я откровенно.
В следующую субботу (он приходил каждую субботу) он хотел дать мне украдкой большой ломоть белого хлеба. Шиллер притворился, что не замечает этого. Я, если бы послушался своего желудка, взял бы этот хлеб, но я устоял и отказался от него, чтобы этот бедняга не покушался повторять приношения, что под конец стало бы затруднять его.
По этой же самой причине я отказывался от предложений Шиллера. Несколько раз он приносил мне вареного мяса, упрашивая меня съесть его и уверяя, что это ему ничего не стоило, что у него осталось, что он не знает, что с ним делать, что он все равно отдаст его другим, если я не возьму. Я бы с жадностью накинулся на это мясо, но если бы я взял его, не появлялось бы у Шиллера всякий день желание принести мне что-нибудь?
Только два раза, когда он предложил мне тарелку вишен и один раз несколько груш, вид этих плодов до того непреодолимо околдовал меня, что я не мог устоять. Я потом раскаивался, что взял, именно потому, что он с этих пор уже больше не переставал приносить мне их.
LXV
В первые же дни было постановлено, чтобы каждый из нас прогуливался с час времени два раза в неделю. Впоследствии это облегчение давалось через день, а позднее и каждый день, исключая праздники.
Каждый отправлялся на прогулку отдельно, в сопровождении двух конвойных с ружьями на плечах. Я, как имеющий камеру в начале коридора, проходил, идя на прогулку, мимо камер всех итальянских государственных арестантов за исключением Марончелли, который одиноко томился в подземелье.
— Приятной прогулки! — говорили мне все из своих окошек в дверях, но мне не позволялось останавливаться, чтобы поздороваться с кем-нибудь.
Мы спускались по лестнице, проходили широкий двор и выходили на площадку, выходившую на юг, с которой виднелся город Брюнн и открывался обширный вид на окружающие деревни.
В вышеупомянутом дворе было всегда много простых арестантов, которые приходили или уходили на работы или группами прогуливались, беседуя между собою. Между ними было много итальянских воров, которые раскланивались со мною с большим уважением и говорили между собою:
— Не мошенник, как мы, однако его заключение суровее нашего.
В самом деле, у них было больше свободы, чем у меня.
Я слышал и эти, и другие слова и, в свою очередь, раскланивался радушно. Один из этих арестантов раз сказал мне:
— Ваше здоровье, синьор, радует меня. Вы, быть может, видите на моей физиономии нечто такое, что непохоже на злодея. Несчастная страсть подтолкнула меня совершить преступление, но, синьор, нет, я не злодей.
И он залился слезами. Я протянул ему руку, но он не мог мне ее пожать. Мои конвойные, не по злобе, но по имевшимся у них инструкциям, оттолкнули его. Они не должны были мне позволять подходить к кому бы то ни было. Разговаривая со мною, арестанты, большею частью, делали вид, что они говорят между собою, и если мои два солдата замечали, что эти слова обращались ко мне, они приказывали замолчать.
Также по этому двору проходили люди разного звания, посторонние в крепости, приходившие посетить супер-интенданта или капеллана, или сержанта, или кого-нибудь из капралов.
— Вот один из итальянцев, — говорили они вполголоса и останавливались посмотреть на меня, и несколько раз я слышал, как они говорили по-немецки, думая, что я не понимаю их, — недолго проживет этот бедный синьор: у него написана смерть на лице.
В самом деле, после того, как я сначала поправился, я изнемогал от скудости пищи, и часто начиналась у меня вновь лихорадка. С трудом я тащил свою цепь до места прогулки и там бросался на траву и так проводил обыкновенно все время, пока не кончится мой час.
Конвойные стояли или садились около меня, и мы начинали разговаривать. Один из них, по имени Краль, богемец, хотя и из крестьян, и бедный, получил некоторое воспитание и совершенствовал его, сколько мог, размышлениями о явлениях в мире и чтением всех книг, какие только попадались в его руки. Он был знаком и с Клопштоком, и с Виландом, и с Гете, и с Шиллером, и со многими другими хорошими немецкими писателями. Он знал на память бесконечное число отрывков из их произведений и рассказывал их осмысленно и с чувством. Другой конвойный был поляк, Кубицкий, неграмотный, но обходительный и добрый. Я дорожил ими обоими.
LXVI
На одном конце этой площадки находилась квартира супер-интенданта, на другом конце помещался капрал с женой и маленьким сыном. Когда я видел, что кто-нибудь выходил из этих жилищ, я вставал и подходил к тому или к тем, кто там появлялся, и был осыпаем изъявлениями любезности и доброжелательности.
Жена супер-интенданта с давнего времени была больна и медленно угасала. Иногда выносили ее на канапе на открытый воздух. Трудно описать, как она растрогалась, выражая мне сострадание, которое она испытывала ко всем нам. Ее взоры были чрезвычайно кротки и застенчивы, но как они ни были застенчивы, она иногда устремляла их с вопрошающей доверчивостью на взоры того, кто разговаривал с нею.
Я однажды сказал ей, смеясь:
— Знаете, синьора, вы несколько походите на одну особу, которая была мне дорога!
Она покраснела и отвечала с серьезной и милой простотой:
— Не забывайте же обо мне, когда я умру, молитесь о моей бедной душе и о малютках, которых я покидаю на земле.
С этого дня она не могла уже больше вставать с постели, и я не видал ее более. Потомилась еще несколько месяцев, потом умерла.
У нее было трое детей, хорошеньких, как амурчики, и один еще грудной. Несчастная обнимала их часто в моем присутствии и говорила:
— Кто знает, какая женщина сделается их матерью после меня! Но кто бы ни была она, да даст ей Господь сердце матери и для нерожденных ею детей! — и она плакала.
Тысячу раз вспоминались мне эта молитва ее и эти слезы.
Когда ее уже не стало, я обнимал иногда этих малюток, и умилялся, и повторял эту материнскую молитву. И думал я о своей матери и о ее жарких молитвах, которые возносило за меня, без сомнения, ее любящее сердце, и с рыданием я восклицал:
— О, сколь счастливее та мать, которая, умирая, покидает невзрослых детей, чем та, которая, воспитав их с бесконечными заботами, видит, что они похищены у нее!
Две добрые старушки обыкновенно находились с этими детьми: одна была мать супер-интенданта, другая — его тетка. Они захотели узнать всю мою историю, и я рассказал им ее вкратце.
— Как мы несчастны, — говорили они с выражением искреннейшего огорчения, — что не можем ничем вам помочь. Но верьте, что мы будем молиться за вас и что, если в один прекрасный день придет помилование вам, этот день будет праздником для всего нашего семейства.
Первая из них, которую я всего чаще видел, обладала нежным, необычайным красноречием в утешениях. Я выслушивал их с сыновней благодарностью, и они запечатлевались в моем сердце.
Она говорила вещи, которые я знал уже, а они поражали меня, как новые: что несчастие не унижает человека, если только он не малодушен, но напротив возвышает его, что если бы мы могли проникнуть в предначертания Господа, мы бы увидели во многих случаях, что нужно больше оплакивать победителей, чем побежденных, радующихся, чем печальных, богатых, чем лишенных всего, что это истина, что Богочеловек явил особое благоволение к несчастным, что мы должны гордиться крестом, после того, как он был несен на божественных раменах!
Но эти две добрые старушки, которых я видал так охотно, должны были в скором времени уехать по семейным обстоятельствам из Шпильберга, и дети перестали также приходить на площадку.
Как печалили меня эти потери!
LXVII
Неудобство от цепей на ногах, лишавшее меня сна, содействовало ухудшению моего здоровья. Шиллер хотел, чтобы я пожаловался на это, и уверял, что доктор должен будет позволить мне снять их.
Несколько времени я не внимал ему, но потом уступил его совету и сказал доктору, что для того, чтобы вновь мне получить благодеяние сна, я прошу его позволить мне снять цепи, по крайней мере, на несколько дней.
Доктор сказал, что моя лихорадка не дошла еще до такой степени, чтобы он мог согласиться на мою просьбу, и что нужно, чтобы я привыкал к оковам.
Ответ раздосадовал меня, и я обозлился на то, что высказал эту бесполезную просьбу.
— Вот что я выиграл тем, что последовал вашему совету, — сказал я Шиллеру.
Случилось, что я сказал ему эти слова довольно резко: этот грубый, но добрый человек оскорбился ими.
— Вам не нравится, — вскричал он, — подвергать себя отказу, а мне не нравится ваша надменность со мной!
Потом продолжал в таком роде:
— Гордецы полагают, что их величие в том, чтобы не подвергать себя отказам, не принимать, что им предлагают, стыдиться тысячи нелепостей. Alle Eseleien! Все глупости! Пустое величие! Непонимание истинного достоинства! Истинное достоинство, большею частью, состоит в том, чтобы стыдиться только дурных дел.
Сказал это и ушел, наделав адского шуму ключами.
Я обомлел. «Все-таки, мне нравится эта грубая откровенность, — сказал я. — Ведь шли из сердца как и его приношения, так и его советы, так и его сострадание. И разве он не правду сказал мне? Скольким слабостям не даю я имени, между тем как они суть не что иное, как гордость?»
В обеденный час Шиллер впустил арестанта Кунду внести горшки и воду, а сам оставался на пороге. Я позвал его.
— Некогда, — отвечал он сухо-пресухо. Я соскочил с досок, подошел к нему и сказал:
— Если вы хотите, чтоб еда шла мне впрок, не делайте этой злой мины.
— А какую же мину надо мне делать? — спросил он.
— Какая у веселого человека, какая у друга, — отвечал я.
— Да здравствует веселье! — воскликнул он. — И если, чтобы еда шла вам в прок, вы хотите видеть меня танцующим, так вот — я к вашим услугам.
И он пустился дрыгать своими сухими и длинными жердями так забавно, что я разразился хохотом. Я смеялся, а сердце мое было тронуто.
LXVIII
Однажды вечером Оробони и я стояли у окна и горевали взаимно о том, что мы голодны. Мы повысили несколько голос, и часовые закричали на нас. Супер-интендант, проходивший, по несчастью, по этой стороне, счел своим долгом позвать Шиллера и стал сильно выговаривать ему, что он не как следует наблюдает, чтобы держать нас в молчании.
Шиллер в страшном гневе пришел жаловаться на это мне и предписал мне больше никогда не говорить из окна. Он хотел, чтобы я пообещал ему это.
— Нет, — отвечал я, — я вам не хочу это обещать.
— О, der Teufel! Der Teufel! — вскричал он. — Мне говорить, не хочу, мне, который получает страшную ругань из-за вас!
— Мне жаль, любезный Шиллер, что вы получили этот выговор, мне истинно жаль этого, но я не хочу обещать вам то, что, я чувствую, не сдержал бы.
— А почему же не сдержали бы вы этого?
— Потому что не мог бы, потому что продолжительное одиночество составляет такое жестокое мучение для меня, что я никогда не устою перед необходимостью облегчить грудь звуком нескольких слов и пригласить моего соседа ответить мне. А если бы молчал сосед, я обратился бы со словами к решетке моего окна, к холмам, находящимся передо мною, к птицам, которые летают.
— Der Teufel! И мне не хотите обещать?
— Нет, нет, нет! — воскликнул я.
Он с шумом швырнул на пол связку ключей и повторил:
— Der Teufel! Der Teufel! — потом разразился, обнимая меня:
— Ну, должен ли я перестать быть человеком из-за этих паскудных ключей? Вы прекрасный человек, и мне приятно, что вы не хотите обещать мне то, чего не сдержали бы. Ведь и я бы то же самое сделал.
Я поднял ключи и подал ему.
— Эти ключи, — сказал я ему, — не так уж паскудны, так как не могут из такого, как вы, честного капрала сделать злого бездельника.
— А если бы я думал, что они могут меня сделать таким, — отвечал он, — я отнес бы их своим начальникам и сказал бы, — если вы не хотите дать мне другого хлеба, как только хлеб палача, я пойду просить милостыню.
Он вытащил из кармана платок, вытер им глаза, потом устремил их вверх, сложив руки на молитву. Я сложил свои и молча молился, подобно ему. Он понимал, что я возносил мольбы за него, как и я понимал, что он возносил их за меня.
Уходя, он сказал вполголоса:
— Когда вы разговариваете с графом Оробони, так говорите сколь возможно тише. Таким образом, вы сделаете два добрых дела: одно — избавите меня от выговора со стороны господина супер-интенданта, другое — не дадите, может быть, понять какой-нибудь разговор… должно ли мне говорить про то?.. Какой-нибудь разговор, который, будучи передан, всего больше прогневал бы того, кто властен наказать.
Я уверил его, что с наших уст не сходило никогда ни единого слова такого, которое, если бы и было передано кому бы то ни было, могло бы оскорбить кого либо.
В самом деле, нам не нужно было предупреждений, чтобы быть осторожными. Два арестанта, которые начинают общаться между собою, прекрасно умеют создать жаргон, на котором бы могли говорить все, не будучи поняты каким бы то ни было слушателем.
LXIX
Я возвращался раз утром с прогулки: это было 7 августа. Дверь в камеру Оробони стояла открытой, а в камере был Шиллер, который не слыхал, как я пришел. Мои конвойные хотели пройти вперед, чтобы запереть эту дверь. Я их опередил, бросился туда, и вот я в объятиях Оробони.
Шиллер был ошеломлен, он проговорил: «Der Teufel! Der Teufel!» — и поднял свой палец, грозя мне. Но его глаза наполнились слезами, и он воскликнул, рыдая:
— О, мой Боже! Будь милосерден к этим бедным молодым людям, и ко мне, и ко всем несчастным, Ты, который и Сам был столь несчастен на земле!
Оба конвойные плакали тоже. И коридорный часовой, подойдя сюда, также заплакал. Оробони говорил мне:
— Сильвио! Сильвио! Это один из самых счастливых дней в моей жизни.
Я не знаю, что говорил ему, я был вне себя от радости и от нежности.
Когда Шиллер стал заклинать нас разойтись, и было необходимо повиноваться ему, Оробони залился потоком горьких слез и сказал:
— Увидимся ли мы еще когда-нибудь на земле?
И я не увидал уж его больше никогда! Спустя несколько месяцев, его комната опустела, и Оробони лежал на кладбище, которое было напротив моего окна!
С того времени, как мы увиделись с ним в ту минуту, казалось, что мы еще нежнее, еще сильнее прежнего полюбили друг друга, казалось, что мы сделались более необходимыми друг для друга.
Он был красивый молодой человек, благородной наружности, но бледный и плохого здоровья. Только одни глаза были полны жизни. Моя привязанность к нему увеличилась еще больше от жалости, которую внушали мне его худоба и бледность. Он испытывал то же самое относительно меня. Мы оба сознавали, что, вероятно, одному из нас скоро придется пережить другого.
Через несколько дней он захворал. Я ничего иного не делал, как только горевал и молился за него. После нескольких лихорадочных припадков, ему опять стало немного лучше, и он мог вернуться к дружеским беседам. О, как утешало меня то, что я слышу снова звук его голоса!
— Не заблуждайся, — говорил он мне, — это не надолго. Имей мужество приготовиться к моей утрате, вдохни своим мужеством мужество и в меня.
В эти дни требовалось побелить стены в наших камерах, и нас перевели пока в подземелье. По несчастию, в этот промежуток времени нас не поместили в смежные камеры. Шиллер говорил мне, что Оробони чувствует себя хорошо, но я боялся, что он не хочет сказать мне правду, и страшился того, как бы здоровье Оробони, и так уж столь слабое, не ухудшилось в этом подземелье.
Но я, по крайней мере, был счастлив тем, что меня этот случай привел быть вблизи моего дорогого Марончелли. Я даже слышал его голос. Напевая, мы приветствовали друг друга, невзирая на брань конвойных.
В это время приехал, чтобы осмотреть нас, главный доктор из Брюнна, посланный, быть может, вследствие донесений, сделанных в Вену супер-интендантом относительно чрезвычайной хилости, к которой привела всех нас такая скудость пищи, или потому, что тогда в камерах царил повальный скорбут.
Не зная причины этого посещения, я вообразил себе, что это было из-за новой болезни Оробони. Боязнь потерять его причиняла мне невыразимое беспокойство. Сильная грусть тогда охватила меня, и я желал умереть. Мысль о самоубийстве опять возникла у меня. Я боролся с ней, но я был, как утомленный путник, который, говоря самому себе: мой долг идти до конца, чувствует сильнейшую потребность броситься на землю и отдохнуть.
Мне сказали, что недавно в одной из этих темных берлог старый богемец убил себя, размозжив себе голову о стену. Я не мог выбросить из головы искушение сделать с собой то же самое. Я не знаю, то ли не дошло мое безумие до такой степени, или пошедшая горлом кровь заставила меня поверить, что смерть не далеко. Я возблагодарил Бога за то, что Он хотел пресечь мою жизнь таким образом, избавляя меня от отчаянного поступка, который осуждал мой рассудок.
Но Бог вместо того захотел сохранить ее. Это кровотечение облегчило мою боль. Между тем, я снова был переведен в верхний этаж, и этот больший свет и вновь вернувшееся соседство Оробони меня снова привязали к жизни.
LXX
Я передал ему страшную грусть, испытанную мною в разлуке с ним, а он сказал мне, что и он также должен был бороться с мыслью о самоубийстве.
— Воспользуемся, — говорил он, — тем малым временем, вновь данным нам, чтобы укрепить друг друга религией. Поговорим о Боге, постараемся возбудить в себе любовь к Нему, напомним себе то, что Он есть справедливость, мудрость, благость, красота, что Он есть все то наилучшее, что восхищает нас всегда. Истинно говорю тебе, что смерть не далеко от меня. Я тебе буду вечно благодарен, если ты поможешь мне сделаться в эти немногие дни столь религиозным, сколь бы я должен был быть в течение всей моей жизни.
И наши разговоры не касались ничего иного, кроме христианской философии и сравнения ее с бедностью сенсуализма. Оба мы радовались тому, что замечали такую гармонию между христианством и разумом, оба, сличая различные евангельские вероисповедания, видели, что единственно только католическое вероисповедание может на самом деле устоять против критики, и что доктрина католического вероисповедания состоит в чистейших догмах и в чистейшей морали, а не в жалких приставках, произведенных человеческим невежеством.
— И если мы опять, хотя на эго и мало надежды, вернемся в общество людей, — говорил Оробони, — неужели мы будем так малодушны, что не будем исповедовать евангелие? Неужели нас будет тяготить это, если про нас будут думать, что тюрьма ослабила наш дух, и что по слабоумию мы сделались более твердыми в вере?
— Мой Оробони, — сказал я ему, — в твоем вопросе мне виден и твой ответ, это и мой ответ. Верх малодушия — быть рабом мнений других, когда убежден, что они ложны. Я не думаю, чтобы у меня или у тебя когда-нибудь было подобное малодушие.
В этих сердечных излияниях я сделал ошибку. Я поклялся Джулиано, что, открывая его настоящее имя, я никогда никому не передам тех отношений, которые были между нами. Я рассказал о них Оробони, говоря ему:
— Никогда бы на свете не сорвалось этого у меня с языка, но ведь здесь мы в могиле, а если ты и выйдешь отсюда, я могу положиться на тебя.
Эта честнейшая душа молчала.
— Почему же ты мне не отвечаешь? — спросил я его.
Наконец, он стал серьезно порицать меня за нарушение тайны. Его упрек был справедлив. Никакая дружба, как бы тесна она ни была, как бы ни была она скреплена добродетелью, не может дать право на такое нарушение.
Но, так как уже ошибка случилась, Оробони воспользовался ею для моего же блага. Он знал Джулиано и знал много превосходных его поступков. Он рассказал мне о них и говорил:
— Этот человек так часто поступал, как истинный христианин, что он не может донести до могилы своего антирелигиозного неистовства. Будем надеяться, будем надеяться на это! И постарайся, Сильвио, простить ему от всего сердца его заблуждения, и молись за него!
Его слова были для меня священны.
LXXI
Беседы, о которых я говорю, то с Оробони, то с Шиллером, то с другими, занимали все-таки малую часть моих долгих двадцати четырех часов суток, а бывало нередко, что и вовсе не удавалось мне ни с кем побеседовать.
Что я делал в таком одиночестве?
Вот какова была вся моя жизнь в эти дни. Я поднимался всегда на заре и, взойдя на изголовье доски, вскарабкивался к решетке окна и говорил свои молитвы. Оробони уже был у своего окна или не медлил подойти к нему. Мы здоровались и продолжали, молча, возносить свои мысли к Богу. Насколько были ужасны наши логовища, настолько для нас был прекрасен вид из окон. Это небо, это поле, это отдаленное движение живых существ по долине, эти голоса поселян, этот смех, эти песни, веселили нас, заставляли нас сильнее чувствовать присутствие Того, Кто так велик в своей благости, и в Котором мы столь нуждались.
Потом приходили с утренним обыском. Пришедшие осматривали камеру, чтобы узнать, все ли в порядке, и осматривали мою цепь, кольцо за кольцом, с целью убедиться, не сломалась ли она случайно, или не сломал ли я ее преднамеренно, или же скорее (так как сломать цепь было невозможно) делался этот осмотр, чтобы точно выполнить предписания. Если это был день прихода доктора, Шиллер спрашивал, не хочу ли я говорить с ним, и принимал к сведению мой ответ.
Когда кончался осмотр наших камер, Шиллер возвращался, сопровождая Кунду, на обязанности которого лежала уборка каждой камеры.
Через короткий промежуток времени нам приносили завтрак. Его составляла половина горшка красноватого бульона, с тремя тончайшими ломтиками хлеба, я съедал этот хлеб, а бульон не пил.
После этого я занимался. Марончелли привез из Италии много книг, и все наши товарищи также привезли их с собою, кто больше, кто меньше. Все вместе образовало порядочную библиотечку. Сверх того, мы надеялись увеличить ее на наши деньги. От императора еще не приходило никакого ответа относительно позволения, которое мы испрашивали на чтение своих книг и на приобретение других, а тем временем брюннский губернатор позволил каждому из нас пока иметь у себя по две книги и меняться ими каждый раз, как захотим. В девять часов приходил суперинтендант, и если был позван доктор, первый его сопровождал.
Остальная часть времени оставалась мне затем на занятия вплоть до одиннадцати часов — времени нашего обеда.
До захода солнца больше никаких уже посещений не было, и я снова занимался. В это время Шиллер и Кунда приходили переменить воду, а спустя минуту приходил супер-интендант с солдатами для вечернего осмотра всей камеры и моих оков.
В один из дневных часов, до или после обеда, по усмотрению конвойных, была прогулка.
С окончанием упомянутого вечернего осмотра, Оробони и я начинали беседовать, и это были обыкновенно самые долгие разговоры. Сверх обыкновения, разговоры бывали и по утрам или сейчас же после обеда, но большею частью эти разговоры были самые короткие.
Иногда часовые были так снисходительны, что говорили нам:
— Немножко потише, господа, иначе нам придется отвечать.
В другой раз они показывали вид, что не замечают наших разговоров, а если видят, что приближался сержант, просили помолчать нас, пока тот не уйдет, и едва он скроется, они говорили:
— Господа, теперь можно, но только как можно тише.
Иногда некоторые из этих солдат становились настолько смелыми, что вступали с нами в разговор, отвечали на наши вопросы и передавали кое-какие известия об Италии.
На некоторые разговоры мы отвечали только тем, что просили их замолчать. Было естественно, что мы сомневались, искренни ли эти сердечные излияния, или же это была хитрость, употребляемая ими с целью выведать наши мысли. Тем не менее, я склоняюсь гораздо больше к той мысли, что этот народ говорил искренно.
LXXII
Раз вечером были у нас благодушнейшие часовые, и потому мы с Оробони не давали себе труда сдерживать голос. Марончелли в своем подземелье, вскарабкавшись к окну, услыхал нас и различил мой голос. Он не мог удержаться и поздоровался со мною песней, спросил меня, как мое здоровье, и выразил мне в самых нежных словах свое сожаление по поводу того, что он еще не добился разрешения быть со мной вместе. Этой же милости и я просил, но ни супер-интендант Шпильберга, ни брюннский губернатор не смели по своему произволу разрешить это. Наше взаимное желание было доведено до сведения императора, но до сих пор никакого ответа еще не было получено.
Кроме того раза, как мы пением приветствовали друг друга в подземелье, я слышал много раз его песни, но не понимал слов, и притом пение едва раздавалось несколько минут, как не давали продолжать его. А теперь он гораздо сильнее возвысил свой голос и не был так скоро прерван, так что я понял все. Нет слов, чтобы выразить то волнение, которое испытал я.
Я ответил ему, и мы продолжали наш разговор около четверти часа. Напоследок сменили часовых на площадке, и вновь прибывшие уже не были так снисходительны. Хотели было снова запеть, но поднялись неистовые ругательства, и нам пришлось замолчать.
Я представлял себе Марончелли, томящегося столь долгое время в тюрьме, бывшей несравненно хуже моей. Я воображал себе ту грусть, которая часто должна была там угнетать его, и тот вред, который принесет это его здоровью, и глубокая тоска сжала мне сердце.
Наконец, я мог плакать, но слезы не облегчили меня. Меня схватила сильная головная боль с жестокой лихорадкой. Я не мог стоять на ногах и бросился на свою постель. Конвульсии увеличились, в груди появились страшные спазмы. Думал, что я умру в эту ночь.
На следующий день лихорадить меня перестало и в груди стало легче, но мне казалось, что весь мозг у меня в огне, и я едва мог шевелить головой, не вызывая жестоких болей.
Я сказал Оробони о своем состоянии. И ему также было хуже обыкновенного.
— Друг, — сказал он, — не далек тот день, когда один из нас двоих уже больше не сможет придти к окну. Каждый раз, как мы приветствуем друг друга, может быть последним разом. Будем же оба готовы — умереть ли, пережить ли друга.
Его голос был умилен, я не мог отвечать ему. С минуту мы молчали, потом он заговорил:
— Ты блажен, что знаешь немецкий! Ты сможешь, по крайней мере, исповедаться. Я просил священника, который бы знал по-итальянски, но мне сказали, что здесь нет такого. Но Господь видит мое желание, и с той поры, как я исповедался в Венеции, истинно мне кажется, что я ничем не обременил своей совести.
— Я же, напротив, исповедался в Венеции, — сказал я ему, — с душою полною злобы и сделал хуже, чем если бы вовсе отказался от таинств. Но, если теперь дадут мне священника, уверяю тебя, что я исповедуюсь чистосердечно и прощая всем.
— Да благословит тебя Небо! — воскликнул он. — Ты мне доставляешь большое утешение. Сделаем, да, сделаем оба все возможное, чтобы нам навеки соединиться и в счастье, как это было, и в дни несчастия!
На следующий день я ждал его у окна, но он не явился. Я узнал от Шиллера, что Оробони сильно захворал.
Спустя восемь или десять дней, ему стало лучше, и он снова приветствовал меня. Мне нездоровилось, но я терпел. Так прошло несколько месяцев и для него, и для меня в этих сменах лучшего худшим.
LXXIII
Я терпел до одиннадцатого января 1823. Утром я встал с небольшою головною болью, но с расположением к обмороку. У меня дрожали ноги, и я с трудом дышал.
И Оробони уже два или три дня как нездоровилось, и он не вставал.
Принесли мне суп, едва я отведал его, как упал без чувств. Спустя несколько времени, коридорный часовой взглянул случайно в дверное окошечко и, видя меня распростертым на полу с опрокинутым горшком возле, счел меня мертвым, и позвал Шиллера.
Пришел и супер-интендант, немедленно послали за доктором и меня положили в постель. С трудом я очнулся.
Доктор сказал, что я в опасности, и приказал снять с меня оковы. Он прописал мне, не знаю какое, сердечное лекарство, но желудок не мог ничего удержать. Головная боль страшно усилилась.
Немедленно донесли губернатору, который отправил курьера в Вену, чтобы узнать, что со мной делать. Отвечали, чтобы меня не помещали в больницу, но чтобы ухаживали за мной в камере, с тем же самым старанием, как если бы я был в больнице. Кроме того, супер-интендант был уполномочен снабжать меня бульоном и супом со своей кухни, пока болезнь не перестанет быть серьезной.
Эта последняя предусмотрительность вначале была для меня бесполезна: никакая пища, никакое питье не принималось желудком. В течение всей недели мне становилось все хуже и хуже, и я день и ночь был в бреду.
Для ухода за мной были приставлены Краль и Кубицкий, оба с любовью ходили за мной.
Всякий раз, как я приходил несколько в сознание, Краль повторял мне:
— Уповайте на Бога, только Бог один благ.
— Помолитесь за меня, — говорил я ему, — не о том, чтобы я выздоровел, а о том, чтобы Он принял мои несчастия и мою смерть во искупление моих грехов.
Он надоумил меня принять Св. Тайн.
— Если я не просил об этом, — отвечал я, — припишите это моей слабости, но принять их будет для меня большим утешением.
Краль передал мои слова супер-интенданту, и ко мне был прислан тюремный капеллан.
Я исповедался, приобщился и соборовался. Я был доволен этим священником. Звали его Штурм. Его рассуждения со мной о справедливости Бога, о несправедливости людей, о долге всепрощения, о сущности всего мирского не были пошлы, они носили отпечаток возвышенного и образованного ума и горячего чувства истинной любви к Богу и к ближнему.
LXXIV
Усилие, сделанное мною для того, чтобы принять Св. Дары с должным вниманием, казалось, истощило мои последние силы, но на самом деле оно помогло мне: я на несколько часов впал в летаргию, которая успокоила меня.
Я проснулся несколько облегченный и, видя возле себя Шиллера и Краля, я поблагодарил их за попечение.
Шиллер сказал мне:
— У меня глаз уж навострился распознавать больных: я бы побился об заклад, что вы не умрете.
— Разве вам не кажется, что вы делаете мне дурное предсказание? — сказал я.
— Нет, — отвечал он, — велики в жизни бедствия, это правда, но кто их переносит с благородством духа и со смирением, тому это всегда приносит в жизни пользу.
Потом он прибавил:
— Если вы будете живы, я надеюсь, что для вас скоро наступит большое утешение. Вы просили позволения повидаться с синьором Марончелли?
— Уже я столько раз просил об этом, и все напрасно, не смею больше и надеяться на это.
— Надейтесь, надейтесь, синьор! И еще раз попросите об этом.
Я в самом деле повторил свою просьбу в тот же день. Равным образом и супер-интендант сказал мне, что я должен надеяться, и прибавил, что Марончелли будет можно не только повидаться со мной, но что мне его дадут в сиделки, а скоро затем и в неразлучные товарищи.
Так как, сколько ни было нас, государственных арестантов, у всех нас здоровье более или менее было расстроено, то губернатор просил в Вене, чтобы нас всех можно было поместить по двое, так чтобы один помогал другому.
Я просил также милости позволить мне написать своим родным последнее прости.
К концу второй недели в моей болезни сделался кризис, опасность миновала.
Я начинал уже вставать, когда однажды утром отворяется дверь, и я вижу, что ко мне входят с праздничными лицами супер-интендант, Шиллер и доктор. Первый подбегает ко мне и говорит:
— Нам разрешено дать вам в товарищи Марончелли и позволить вам написать письмо родителям.
У меня от радости перехватило дыхание, и бедный супер-интендант, у которого не хватило благоразумия, счел меня погибшим.
Когда я пришел в чувство и вспомнил об услышанной вести, я просил, чтобы не отсрочивали для меня такое счастье. Доктор согласился, и Марончелли был приведен в мои объятия.
О, какая это была минута!
— Ты жив? — восклицали мы взаимно.
— О, друг! О, брат! До какого мы дожили счастливого дня, дня свидания! Да будет благословен Господь за это!
Но к нашей безграничной радости примешивалась и безграничная жалость. Марончелли должен был быть менее поражен, чем я, найдя меня таким изможденным, каким я был: он знал, какую я перенес тяжелую болезнь, но я, и представляя себе то, что он выстрадал, никогда не воображал его столь непохожим на прежнего. Он едва был узнаваем. Его наружность, некогда столь прекрасная, столь цветущая, страшно изменилась: все было унесено горем да голодом, да скверным воздухом его темной камеры!
Все-таки видеть друг друга, слышать друг друга, наконец-то стать неразлучными — это нас утешало. О, сколько у нас было сообщить друг другу, припомнить, рассказать! О, сколько нежности в сострадании! Какая гармония во всех мыслях! Какое удовольствие быть согласными в деле религии, согласными в том, чтобы ненавидеть невежество и варварство, но не относиться с ненавистью ни к кому из людей, сожалеть о невеждах и варварах и молиться за них!
LXXV
Мне принесли бумагу, перо и чернила, чтобы я написал письмо к родителям.
Так как позволение собственно было дано умирающему, который намеревался послать родным последнее прости, то я боялся что мое письмо, будучи теперь иного содержания, уже больше не будет послано. Я ограничился тем, что просил с величайшею нежностью родителей, братьев и сестер, чтобы они примирились с моей участью, уверяя их, что я безропотно покорился ей.
Тем не менее это письмо было отправлено, как я после узнал, когда после стольких лет вновь увидал родительский кров. Это было единственное письмо, которое в течение столь долгого времени моего заточения могли получить от меня дорогие родители. От них же я никогда не имел ни одного: все письма, которые мне писали, всегда задерживались в Вене. Точно также были лишены всяких сношений со своими родными и остальные товарищи по несчастию.
Бесконечное число раз мы просили милости иметь, по крайней мере, бумагу, перья и чернила для занятий и употреблять наши деньги на покупку книг. Но на наши просьбы вовсе не обращали никакого внимания.
Губернатор между тем продолжал позволять нам чтение наших книг.
По его же доброте нас стали несколько лучше кормить, но, увы, это было непродолжительно. Он согласился на то, чтобы нас кормили не с острожной кухни, а с кухни суперинтенданта. Для такого употребления ему была ассигнована некоторая сумма. Подтверждения этому распоряжению не пришло, но пока длилось это благодеяние, оно принесло мне большую пользу. И у Марончелли прибавилось немного сил. Для несчастного Оробони было уже слишком поздно.
Этот последний находился сначала с адвокатом Солера, а потом со священником Д. Фортини.
Когда нас разместили в камерах по двое, нам вновь подтвердили запрещение переговариваться через окна, угрожая, что тот, кто пойдет наперекор, будет снова оставлен один. Мы нарушили, по правде сказать, несколько раз этот запрет, чтобы поздороваться друг с другом, но уже долгих разговоров у нас не было.
Наклонности Марончелли и мои совершенно гармонировали друг с другом. Бодрость одного поддерживала бодрость другого. Если одного из нас охватывала грусть или дрожь негодования против суровости нашего состоянии, другой веселил его какой-нибудь шуткой или подходящими к данному случаю рассуждениями. Нежная улыбка почти всегда умеряла наши печали.
Пока у нас были книги, даром, что мы их читали столько раз, что знали на память, они представляли приятную пищу для ума, так как служили поводом к новым исследованиям, сличениям, рассуждениям, проверкам и пр. Читали мы и размышляли большую часть дня в молчании и предавались болтовне во время обеда, прогулки и вечером.
Марончелли в своем подземелье сложил много чрезвычайно прекрасных стихов. Он мне пересказывал их и слагал другие. И я также слагал стихи и пересказывал их ему наизусть. А наша память изощрялась, удерживая все это. Была удивительна та способность, которую мы приобрели, — способность слагать на память длинные произведения в стихах, сглаживать их и переделывать бесконечное число раз, пока не доведешь их до той же самой степени возможного совершенства, какое бы было достигнуто, если бы писать их. Марончелли сложил таким образом исподволь и удержал в памяти многие тысячи лирических и эпических стихов. Я сложил трагедию «Leoniero da Dertona» и много других вещей.
LXXVI
Оробони, который сильно страдал зимой и весной, летом стало еще хуже. Он харкал кровью, и у него сделалась водянка.
Предоставляю судить читателю, какова была наша скорбь, когда он от нас так близко умирал, а мы не могли разбить эти жестокие стены, которые мешали нам видеть его и оказать ему наши дружеские услуги!
Шиллер приносил нам известия о нем. Несчастный молодой человек жестоко страдал, но дух его никогда не унижался. Духовную помощь ему оказывал капеллан, который по счастливой случайности знал по-французски.
Умер он в день своих именин, 13 июня 1823 года. За несколько часов до своей смерти он заговорил о своем восьмидесятилетием отце, умилился и заплакал. Потом пришел в себя, сказав:
— Но зачем я плачу о самом счастливом из самых дорогих моему сердцу! Ведь он накануне соединения со мной в вечном мире.
Его последние слова были:
— От всего сердца я прощаю своим врагам.
Ему закрыл глаза Д. Фортини, его друг с детства, человек — весь религия и любовь.
Бедный Оробони! Какой холод пробежал у нас по жилам, когда нам сказали, что его уже больше нет! И услышали мы голоса и шаги тех, кто приходил за этим трупом! И увидели мы из окна дроги, на которых повезли его на кладбище! Везли эти дроги два простых арестанта, за ними следовало четверо конвойных. Мы проводили глазами печальное шествие до кладбища. Дроги въехали в ограду. Остановились в одном углу: там была могила.
Спустя несколько минут, дроги, арестанты и стража вернулись назад. Один из этих конвойных был Кубицкий. Он мне сказал (благородная, прекрасная мысль, удивительная в грубом, простом человеке):
— Я тщательно заметил место погребения на тот случай, чтобы, если какой-нибудь родственник или друг мог бы испросить когда-нибудь разрешение взять эти кости и унести их в свою страну, знать, где он лежал.
Сколько раз бывало Оробони говорил мне, смотря из окна на это кладбище:
— Нужно бы привыкнуть мне к мысли истлеть вон там, однако признаюсь, что от этой мысли меня кидает в дрожь. Мне кажется, что похорони меня в этих странах, мне уже не будет здесь так хорошо, как на нашем милом полуострове.
После смеялся и говорил:
— Ребячество! Когда платье ветхо и нужно его сбросить, так что в том, где бы оно ни было брошено?
Иногда он говорил:
— Я готов принять смерть, но я бы охотнее покорился ей с таким условием: хоть бы только войти мне в родительский дом, обнять колени отца моего, выслушать одно слово благословения и умереть!
Он вздыхал и прибавлял:
— Если эта чаша не может миновать меня, мой Боже, да будет воля Твоя!
И в последнее утро его жизни, целуя распятие, которое подал ему Краль, он еще раз сказал:
— Ты, который был Бог, ведь и Ты страшился смерти и говорил: «Si possibile est, transeat a Me calix iste!» Прости, если это и я говорю. Но я повторяю и другие Твои слова: «Verumtamen non sicut Ego volo, sed sicut Tu!»
LXXVII
После смерти Оробони, я снова захворал. Я думал, что скоро соединюсь с усопшим другом, и желал этого. Если бы не это, разве бы разлучился я без сожаления с Марончелли?
Много раз, пока он, сидя на постели, читал или слагал стихи, или притворялся, подобно мне, что развлекается такими занятиями, и размышлял о наших несчастиях, я с грустью смотрел на него и думал: во сколько же раз печальнее будет твоя жизнь, когда коснется меня дыхание смерти, когда ты увидишь, что меня выносят из этой комнаты, когда ты скажешь, смотря на кладбище: и Сильвио там! И я умилялся, думая об этом бедном друге, остающемся в живых, и молился о том, чтобы ему дали другого товарища, способного ценить его, как ценил его я или же, чтобы Господь продлил мои мучения и оставил бы на мне сладкую обязанность умерять мучения этого несчастного, разделяя их.
Я не говорю, сколько раз проходили мои болезни и появлялись снова, Марончелли в течение этих болезней ухаживал за мной, как самый нежный брат. Бывало, заметит он, что не стоит говорить со мной, и сидит тогда молча, увидит, что его речь может развлечь меня, и он всегда находит предмет для разговора, подходящий к расположению моего духа, и то поддерживает во мне это расположение духа, то старается исподволь изменить его. Умов благороднее его я никогда не знавал, равных его — мало. Величайшая любовь к справедливости, величайшая терпимость, величайшая вера в человеческую добродетель и в помощь провидения, самое живейшее чувство изящного во всех искусствах, богатая поэзией фантазия, все приятнейшие дары ума и сердца соединялись в нем, чтобы сделать его дорогим для меня.
Я не забывал Оробони и всякий день горевал о его смерти, но часто радовалось мое сердце, когда я представлял себе, что он, мой возлюбленный, избавившийся теперь от всех зол, сидящий на лоне божества, должен был причислить к своим радостям и ту, что он видит меня с другом не менее, чем он, нежным и любящим.
Казалось, какой-то голос в глубине души уверял меня, что Оробони уже не находится больше в месте очищения грехов, тем не менее, я всегда молился за него. Много раз я видел его во сне, что он молился за меня, и я любил убеждать себя, что эти сны не были случайны, но были истинными откровениями его, допущенными Богом, чтобы утешить меня. Было бы смешно, если бы я передал жизненность таких снов и ту сладость, которую они действительно оставляли в моем сердце на целые дни.
Но религиозные чувства и дружба моя к Марончелли все больше облегчали мои скорби. Единственная мысль, пугавшая меня, была возможность того, что этот несчастный, будучи также довольно плохого здоровья, хотя и менее плохое, чем мое, опередит меня на дороге к могиле. Всякий раз, как он заболевал, я боялся, всякий раз, как я вижу, что ему лучше, был праздником для меня.
Эта боязнь потерять его придавала все больше и больше силы моей любви к нему, а боязнь потерять меня производила и в нем то же самое действие.
Ах, как много нежности в этих стенах печали и надежды за того, кто остается только одним единственным для тебя! Наша доля была наверное одна из самых несчастных на земле, однако, столь сильная любовь друг к другу и взаимное уважение образовали и среди наших несчастий уголок счастья, и мы истинно наслаждались им.
LXXVIII
Я горячо желал, чтобы капеллан (которым я был так доволен во время первой моей болезни) был нам дан в духовники, и чтобы мы могли видеть его время от времени, и не будучи тяжко больными. Вместо того, чтобы на него возложить эту обязанность, губернатор назначил нам августинца по имени отец Баттиста, пока не придет из Вены или утверждение этого последнего, или назначение другого.
Я боялся прогадать на этой перемене, но я ошибался. Отец Баттиста был ангелом доброты, обладал возвышенным и изящным образом мыслей и с глубоким пониманием рассуждал об обязанностях человека.
Мы просили, чтобы он часто приходил к нам. Он приходил каждый месяц и чаще, если мог. Приносил нам книги с разрешения губернатора и говорил нам, от имени своего аббата, что вся монастырская библиотека к нашим услугам. Это было бы большим приобретением для нас, если бы было оно продолжительно. Все-таки мы пользовались этим предложением в течение нескольких месяцев.
После исповеди он долго оставался беседовать с нами, и во всех его речах проявлялась душа прямая, достойная, понимающая и ценящая величие и святость человека. Мы имели счастье наслаждаться около года его знаниями и его любовью, и он никогда ни в чем не изменил себе. Не было никогда ни одного слова, которое бы дало повод заподозрить в отце Баттисте намерение служить не Богу, а политике. Никогда не было никакого недостатка в каком бы то ни было деликатном отношении.
Вначале, сказать правду, я не доверял ему, я ожидал увидеть то, что он употребит остроту своего ума на такие выискивания и исследования, делать которые ему не пристало. В государственном арестанте подобное недоверие слишком естественно, но, о, как стало легко на душе, когда это недоверие исчезло, когда в его беседах о Боге не открылось никакого другого рвения, кроме рвения к Богу и человечеству!
У него была особенная, присущая только ему, манера доставлять утешение так, чтобы оно оказывало свое действие. Так, например, я обвинял себя в исступленном гневе по поводу суровости нашей тюремной дисциплины. Он высказал несколько замечаний относительно добродетели, состоящей в терпении с ясным спокойствием и во всепрощении, потом перешел к тому, что стал мне рисовать в живейших образах бедственность положений, отличных от моего. Он много жил и в городе, и в деревне, знал и великих, и малых, и много размышлял о человеческих несправедливостях, и умел хорошо обрисовать страсти и нравы разных классов общества. И везде он показывал мне сильных и слабых, угнетающих и угнетаемых, повсюду — необходимость или ненавидеть себе подобных, или любить их по великодушной снисходительности из сострадания. Случаи, которые он мне рассказывал, чтобы напомнить мне о всеобщности несчастия и о тех благих последствиях, которые вытекают из него, ничего не представляли особенного, напротив, они были совершенно обыкновенны, но он говорил мне о них в выражениях столь справедливых, столь мощных, что эти его речи прочно укореняли в моей душе выводы, заключавшиеся в них.
Ах, да! Всякий раз, как я слышал эти ласковые упреки и эти благородные советы, я пламенел любовью к добродетели, я уже больше ни к кому не питал ненависти, я бы отдал свою жизнь за малейшего из моих ближних, я благословлял Господа за то, что Он сделал меня человеком.
Ах! Несчастен тот, кто не признает высокого значения исповеди! Несчастен тот, кто, чтобы не показаться вульгарным, считает себя обязанным смотреть на нее с насмешкой! Это не правда, что бесполезно всякому, и так знающему, что нужно быть добрым, еще слышать, что говорят это, что достаточно собственных размышлений и подходящего чтения, нет! Живое слово человека имеет такое значение, такую мощь, каких ни чтение, ни собственные размышления не имеют! Живым словом душа больше потрясается, впечатления, при этом образующиеся, — глубже. В брате, который говорит, есть жизнь, в его речах — своевременность, которых часто напрасно бы искали и в книгах, и в собственных наших мыслях.
LXXIX
В начале 1824 года супер-интендант, у которого в одном из концов нашего коридора находилась его канцелярия, перевел ее в другое место, а комнаты канцелярии с другими, примыкавшими к ним, были превращены в камеры. Увы, мы поняли, что надо ожидать из Италии новых государственных преступников.
Действительно, в скором времени прибыли подсудимые третьего процесса — все друзья и знакомые! О, как сильна была моя скорбь, когда я узнал имена их! Борсьери был одним из самых старинных моих друзей! К Конфалоньери я был привязан хоть и не так давно, но зато всем сердцем! Если бы я мог, подвергая себя тягчайшему тюремному заключению или какому-нибудь мучению, какое только можно себе представить, отбыть вместо них их наказание и освободить их, Бог знает, не сделал ли бы я этого! Не говорю только, что я бы отдал жизнь за них: ах, что значит отдать жизнь? Страдать, это — гораздо больше!
Я тогда сильно нуждался в утешениях отца Баттисты, но ему больше не позволяли приходить.
Были получены новые предписания относительно поддерживания в тюрьме самой строгой дисциплины. Та площадка, которая служила нам местом прогулки, была сначала окружена частоколом, чтобы никто, даже издали в телескопы, больше не мог нас видеть. Таким образом для нас был потерян самый прекраснейший вид на окружающие холмы и на лежащий внизу город. Этого было недостаточно. Чтобы попасть на эту площадку, приходилось проходить, как я уже говорил, через двор, а во дворе многим удавалось видеть нас. С целью скрыть нас от всех взоров, нас лишили этого места прогулки и назначили нам другое, самое крохотное, находящееся вблизи нашего коридора, и на самой северной стороне, как и наши камеры.
Не могу выразить, как нас опечалила эта перемена места нашей прогулки. Я не отметил всех утешений, которые у нас были в прежнем месте, теперь отнятом у нас. Мы там видали детей супер-интенданта, выходивших вместе с их больной матерью в последние дни ее жизни, там нас ласкали эти милые дети, там мы иногда вступали в разговор с кузнецом, жившим неподалеку на этой площадке, там мы слыхали веселые песенки и нежные звуки гитары, на которой играл один из капралов, и наконец там возникла невинная любовь — не моя, не моего товарища, но любовь одной доброй венгерской капральши, продавщицы фруктов. Она была влюблена в Марончелли.
Еще раньше того, как он был помещен вместе со мною, Марончелли и эта женщина, почти каждый день видясь тут друг с другом, свели между собою небольшую дружбу. Он был такой чистой, достойной, простой душой, что вовсе и не подозревал, что в него влюбилось доброе создание. Он узнал об этом от меня. Не решился поверить мне и, только предполагая, что я прав, он стал относиться холоднее к ней. Большая сдержанность с его стороны вместо того, чтобы потушить любовь этой женщины, казалось, увеличила ее.
Так как окно ее комнаты находилось на расстоянии едва одного фута от земли, она выпрыгивала к нам, как будто за тем, чтобы растянуть на солнце холст, или за каким-нибудь другим делом, и стояла тут, смотря на нас, а если могла, вступала и в разговор с нами.
Бедные наши конвойные, всегда утомленные тем, что мало или вовсе не спали ночью, охотно пользовались случаем быть в этом уголке, где они могли, не будучи видимы начальством, сидеть на траве и дремать. Марончелли был тогда в большом затруднении, до того становилась явной любовь этой несчастной. Еще большим было мое затруднение. Тем не менее подобные сцены, которые были бы довольно смешны, если бы эта женщина мало внушала к себе уважения, были вовсе не смешны, я даже мог бы сказать, что они были трогательны. У несчастной венгерки было одно из тех лиц, которые несомненно показывают добродетельные наклонности и внушают уважение. Она не была красива, но обладала той миловидностью, при которой несколько неправильные черты ее лица, казалось, хорошели при каждой улыбке, при каждом движении мускулов.
Если бы моей целью было описывать любовь, мне немало пришлось бы порассказать об этой несчастной и добродетельной женщине, теперь умершей. Но довольно и того, что я сказал об одном из немногих приключений нашей тюремной жизни.
LXXX
Усиленные строгости все однообразнее делали нашу жизнь. В чем прошли для нас весь 1824, весь 1825, весь 1826, весь 1827 год? Нас лишили права пользоваться нашими книгами, которое на время было дано губернатором. Тюрьма стала для нас настоящей могилой, в которой только не доставало нам могильного спокойствия. Каждый месяц, в не назначенный заранее день, приходил к нам директор полиции в сопровождении лейтенанта и стражи с целью произвести у нас тщательный обыск. Нас раздевали донага, осматривали все швы платья, думая найти в них или спрятанную бумагу, или что-нибудь другое, распарывали тюфяки и обшаривали их. Хотя и ничего не могли они найти у нас потаенного все-таки в этом нечаянном и неприятном посещении, повторяемом без конца, было что-то, я не знаю, что-то такое, что приводило меня в негодование и бросало всякий раз в жар.
Мне казались прошедшие годы столько несчастными, а теперь я с завистью думал о них, как о таком времени, которое было дорогим и приятным для меня. Где те часы, в которые я был поглощен изучением Библии или Гомера? С помощью чтения Гомера в подлиннике, я увеличил то самое знание греческого языка, которое было у меня, и пристрастился к этому языку. Как мне было жалко, что я не могу продолжать заниматься им. Данте, Петрарка, Шекспир, Байрон, Вальтер-Скотт, Шиллер, Гете и другие, всех отняли у меня! Скольких друзей потерял я! К ним же причислял я и несколько книг христианского учения, как-то: Бурдалу, Паскаля, Подражание жизни Иисуса Христа, Филотея и прочие книги, которые, если их читают с ограниченной критикой, не вникая в суть дела, злорадствуя над каждым промахом, над каждой слабой мыслью, бросаются и не берутся больше в руки, но если эти книги читать без мудрствований и не соблазняясь их слабыми сторонами, то в этих книгах мы найдем высокую философию, питающую в полной мере и ум, и сердце.
Несколько из таких религиозных книг было потом прислано нам в дар императором, но книги другого рода, служащие для литературных занятий, были безусловно исключены.
Этот дар аскетических творений был для нас исходатайствован в 1825 году далматским духовником, присланным к нам из Вены, отцом Стефано Пауловичем, который спустя два года стал каттарским епископом. Ему же мы были обязаны и тем, что, наконец, для нас стали служить обедню, в которой нам раньше все отказывали, говоря, что нельзя нас вести в церковь и держать там отдельными парами, как это было предписано.
Так как нельзя было сохранить в церкви подобный порядок, то нас разделяли, когда мы шли к обедне, на три группы: одна становилась на хорах, где находился орган, другая под этими хорами, так, однако, чтобы не быть видимой, а третья в молеленке, отгороженной решеткой.
У меня и Марончелли были в таком случае товарищами, только с запрещением говорить одной паре с другой, шестеро арестантов, осужденных по первому приговору, бывшему перед нашим. Двое из них были моими соседями в венецианских тюрьмах. Стража приводила нас на назначенное место и отводила обратно после обедни, каждую пару в ее камеру. Обедню приходил служить капуцин. Этот добрый человек всегда заканчивал службу Oremus, с жаром молясь растроганным голосом о нашем избавлении от оков. Когда он уходил из алтаря, он окидывал ласковым взглядом каждую из трех групп и печально склонял свою голову, молясь.
LXXXI
В 1825 году Шиллер был признан слишком одряхлевшим от старости, и его назначили смотрителем других арестантов, относительно которых не требовалось такой бдительности. О, как нам было жаль, что он удаляется от нас, да и ему было жаль покидать нас!
Его преемником был сначала Краль, человек не менее его добрый. Но и этому вскоре дали другое назначение, а к нам приставили человека не злого, но грубого и чуждого всяким проявлениям чувства.
Эти перемены глубоко печалили меня. Шиллер, Краль и Кубицкий, а в особенности первые двое, ухаживали за нами в наших болезнях, как могли бы это делать только отец или брат. Неспособные нарушить свой долг, они умели выполнять его без жестокости. Если и было у них немного жесткости в обращении, так это почти всегда было невольно, и вполне окупалось ласковым, любовным отношением, которое у них было к нам. Я иногда, бывало, сердился на них, но как они сердечно прощали мне! Как они горячо желали убедить нас, что чувствовали привязанность к нам, и как радовались, видя, что мы были убеждены в этом и считали их людьми честными и добрыми!
С того времени, как Шиллер удалился от нас, он несколько раз хворал и поправлялся. Мы спрашивали о нем с сыновней тревогой. Выздоравливая, он, бывало, прогуливался иногда под нашими окнами. Мы кашлем здоровались с ним, и он, смотря наверх с печальной улыбкой, говорил часовому, так что мы слышали:
— Da sind meine Sohne! (Там мои сыновья!)
Бедный старик! Как тяжело мне было видеть, что ты едва-едва тащишься со своим больным боком, а я не могу поддержать тебя своею рукою!
Иногда он садился тут на траву и читал. Это были те книги, которые он давал мне читать. И, чтобы я их узнал, он говорил часовому их заглавия или перечитывал какой-нибудь отрывок. Большею частью, это были повести из календарей или другие романы не высокого литературного достоинства, но нравственного содержания.
После разнообразных возвратов апоплексии, его отправили в военный госпиталь. Он уже был в самом плохом состоянии и вскоре там умер. Было у него несколько сотен флоринов, плод его долгих сбережений: он роздал их в подарок некоторым своим сослуживцам. Когда он увидал близкий свой конец, он призвал к себе этих приятелей и сказал:
— У меня ближе вас нет никого, удержите каждый из вас то, что у вас в руках. Я прошу вас только молиться за меня.
У одного из этих друзей была дочь восемнадцати лет, крестница Шиллера. За несколько часов до смерти добрый старик послал за ней. Он не мог уже больше произносить ясно слов, снял с пальца серебряное кольцо, свое последнее богатство, и надел ей его на палец. Потом он поцеловал ее, и заплакал, целуя. Девушка громко рыдала и обливала его слезами. Он утирал ей их платком. Взял ее руки и положил их к себе на глаза. Эти глаза закрылись навсегда.
LXXXII
Человеческие утешения исчезали для нас одно за другим, печали все увеличивались. Я покорялся воле Божией, но покорялся стеная, и моя душа вместо того, чтобы сделаться нечувствительной к несчастию, казалось, все больнее чувствовала его.
Раз мне был тайно доставлен листок «Аугсбургской Газеты», в котором сообщалась чрезвычайно странная вещь относительно меня, по случаю пострижения в монахини одной из моих сестер.
Сообщалось следующее: «Синьора Мария Анджиола Пелико, дочь и пр., и пр. постриглась… дня в монахини в монастыре Визитации в Турине и пр. Она сестра автора «Francesca da Rimini», Сильвио Пелико, который недавно вышел из крепости Шпильберг, будучи помилован его величеством императором: милосердый поступок — достойнейший столь великодушного монарха, эта милость обрадовала всю Италию в виду того, что…»
И здесь следовали похвалы мне.
Я не мог себе представить, зачем, для чего была вымышлена басня о помиловании. Что это — чистая забава журналиста, казалось неправдоподобным, быть может, это была какая-нибудь хитрость немецкой полиции? Кто знает? Но Мария Анджиола была точно моей младшей сестрой. Стало быть, эта прекрасная девушка в самом деле постриглась в монахини. Ах, может быть, она приняла это звание потому, что потеряла своих родителей! Бедная девушка! Не захотела она, чтобы я один терпел тоску в тюрьме, и она захотела стать затворницей! Да даст же ей Господь больше, чем Он дает мне, сил, терпения и самоотверженности! Сколько раз этот ангел будет думать обо мне в своей келье! Как часто будет она подвергать себя суровым эпитимиям, чтобы вымолить у Господа облегчение страданий брата!
Эти мысли меня умиляли и терзали мне сердце. Весьма вероятно, что мои несчастия могли сократить дни отца или матери, или их обоих! Чем больше я думал об этом, тем невозможнее казалось мне, что моя Мариетта покинула бы родительский кров. Эта мысль угнетала меня так, как будто бы я был уверен в этом, вследствие чего я впал в страшную тоску.
Марончелли был этим опечален не меньше моего. Несколько дней спустя, он задумал сочинить поэтический плач о сестре арестанта. Вышла прекраснейшая поэма, навевающая грусть и жалость. Когда он ее окончил, он прочел мне ее. О, как я был ему благодарен за его милое внимание! Между стольких миллионов стихов, которые до тех пор были написаны для монахинь, вероятно, эти были единственными, сочиненными в тюрьме для брата монахини товарищем его по оковам. Какое сочетание мыслей трогательных и религиозных!
Таким образом дружба умеряла мои страдания, мои печали. Ах, с этого времени не проходило больше ни одного дня, чтобы моя мысль не витала долго в стенах монастыря, чтобы я не думал с самой нежной любовью об одной из его затворниц, чтобы я не молил горячо небо усладить ей одиночество и не допустить ее до того, чтобы ее фантазия рисовала ей слишком страшным мое заточение!
LXXXIII
Да не думает читатель, что если раз дошла до меня тайно газета, так и вообще удавалось мне часто получать подобные вести из мира. Нет, все были добры ко мне, но все были связаны величайшим опасением. Если что-нибудь тайное и доходило до меня, так это было только тогда, когда тут не могло явиться ни малейшей опасности. И мудрено было не явиться какой-нибудь опасности среди столь частых и обыкновенных, и чрезвычайных обысков.
Мне никогда не было доставлено тайком сведений о моих далеких милых, за исключением вышеприведенного известия относительно моей сестры.
Опасение, которое было у меня, что моих родителей уже больше нет в живых, через некоторое время скорее увеличилось, чем уменьшилось, вследствие неопределенности тех выражений, в каких директор полиции однажды пришел известить меня, что у меня дома все обстоит благополучно.
— Его величество император повелевает, — сказал он, — сообщить вам добрые вести о тех родственниках, которые у вас в Турине.
Я затрепетал от удовольствия и от неожиданности такого сообщения, какого прежде никогда не бывало, и попросил подробностей.
— Я оставил, — сказал я ему, — в Турине родителей, братьев и сестер. Все они живы? Умоляю вас, если есть у вас письмо от кого-нибудь из них, умоляю вас, покажите мне его!
— Я ничего не могу показать. Вы должны и этим быть довольны. Уже одно то доказывает благосклонность императора, что он приказывает сообщить вам эти утешительные слова. Этого ни для кого еще не делалось.
— Я согласен, что это есть доказательство благосклонности императора, но вы поймите, что мне невозможно найти утешение в таких неопределенных словах. Кто те родственники, которые находятся в добром здоровье? Не потерял ли я кого-нибудь из них?
— Синьор, мне жаль, что я не могу сказать вам больше того, что мне приказано.
С тем он и ушел.
Наверное мне этим известием хотели доставить некоторое утешение, но я убедил себя в том, что в то же самое время, как император захотел уступить настоятельным просьбам кого-нибудь из моих родных и согласился на то, чтобы до меня дошла эта весть, в то же самое время он не хотел, чтобы мне показали какое-нибудь письмо, так как я бы увидал, кого из родных потерял я.
Через несколько месяцев после этого мне было доставлено известие, подобное вышесказанному. И опять ни письма, никакого объяснения больше!
Видели, что я не довольствовался этим и что становился все более печальным, и все-таки никогда ничего больше не передавали мне о моих родных.
Я думал о том, что родители умерли, что умерли, может быть, также и братья, и Джузеппина, другая моя любимая сестра, что, быть может, и Мариетта, одна оставшаяся в живых, скоро зачахнет в тоске одиночества и в трудах покаяния, и думы эти отравляли мне жизнь.
Несколько раз сильно заболевая обычными болезнями или новыми, как, например, страшными коликами с мучительнейшими симптомами, похожими на холерные, я надеялся умереть. Да, это выражение точно — я надеялся.
И тем не менее, о, человеческие противоречия! Когда я бросал взгляд на своего изнемогающего товарища, у меня сердце разрывалось при мысли покинуть его одиноким, и я вновь страстно желал жить!
LXXXIV
Три раза приезжали из Вены высокопоставленные особы осматривать наши тюрьмы с целью удостовериться в том, что здесь не злоупотребляют дисциплиной. Первым проехал барон фон Мюнх. Он, будучи тронут тем, что у нас мало свету, сказал, что будет упрашивать, чтобы нам зажигали фонарь и ставили его снаружи у дверного окошечка на несколько часов вечера, и тем продлили бы наш день. Его посещение было в 1825 году. Спустя год, его благая мысль была приведена в исполнение. И таким образом при этом могильном свете мы хоть могли с этих пор видеть стены и не рисковали разбить себе головы, когда приходилось идти.
Второе посещение было барона фон Фогель. Он застал меня в сквернейшем состоянии и, слыша, что доктор, хотя и считал для меня полезным кофе, но не решался приказать давать мне его, так как это предмет роскоши, выразил, к моему удовольствию, согласие на это, и было приказано выдавать мне кофе.
Третье посещение было не знаю какого-то другого придворного, человека лет пятидесяти-шестидесяти, который явил нам своим обращением и своими речами самое благородное сочувствие. Он не мог ничего для нас сделать, но его теплое отношение к нам было для нас благодеянием, и мы были ему благодарны.
О, как жаждет узник видеть создания своего рода! Христианская религия, столь богатая человечностью, не забыла причислить к делам милосердия и посещение узников. Видеть людей, которые сострадают твоему несчастию, услаждают тебе его, даже когда они не имеют средств облегчить тебе его более действенно.
Величайшее одиночество может быть полезно иным в смысле самосовершенствования, но я полагаю, что оно было бы вообще гораздо полезнее, если бы не доводить его до крайности, если бы допускать некоторое соприкосновение с обществом. По крайней мере, я так создан. Если я не вижу себе подобных, я сосредоточиваю свою любовь на слишком незначительном числе их и перестаю любить других, если же я могу видеть, не скажу многих, но все-таки порядочное число, я нежно люблю тогда весь род человеческий.
Тысячу раз мое сердце горело любовью только к такому незначительному числу людей и так было полно ненависти к другим, что я ужасался этого. Тогда я подходил к окну, жаждя увидеть какое-нибудь новое лицо; и я почитал себя счастливым, если часовой не проходил слишком близко к стене; если он подходил так, что я мог его видеть; если он поднимал голову, слыша, что я кашляю; если выражение его лица было доброе. Когда мне казалось, что я замечаю на его лице отпечаток добрых чувств, сладкая дрожь охватывала меня, как будто бы этот незнакомый солдат был самым близким моим другом. Если он удалялся, я ждал с беспокойством влюбленного, когда он вернется, и если он возвращался, смотря на меня, я радовался этому, как великой милости. Если же он не проходил больше так, чтобы я его видел, я оставался убитым, как человек, который любит и знает, что другим до него нет дела.
LXXXV
В смежной камере, где раньше был Оробони, находились теперь Д. Марко Фортини и синьор Антонио Вилла. Этот последний, крепкий и здоровый прежде, как Геркулес, сильно страдал от голода в первый год, а когда стали ему больше давать пищи, он был не в силах переваривать ее. Долго он изнемогал и потом, доведенный почти до крайности, упросил, чтобы ему дали камеру с более чистым воздухом. Зловонная атмосфера тесного склепа была для него, без сомнения, чрезвычайно вредна, как и для всех остальных. Но выпрошенное им средство уже было для него недостаточно. В этой большой комнате он пробыл еще несколько месяцев, потом после нескольких кровоизлияний умер.
За ним ухаживал его товарищ по заключению Д. Фортини и аббат Паулович, поспешно прибывший из Вены, когда узнал, что он умирает.
Хотя я и не был с ним связан такими же тесными узами, как с Оробони, все-таки смерть его меня сильно опечалила. Я знал, что его чрезвычайно нежно любили его родители и жена! Все-таки ему скорее надо завидовать, чем сожалеть о нем, а каково оставшимся в живых!
Также моим соседом был он и в свинцовых тюрьмах, Тремерелло приносил мне много его стихов, а ему носил мои. Иногда в этих стихах его царило глубокое чувство.
После его смерти, мне казалось, что я полюбил его больше, чем при жизни, слыша от солдат, как тяжело страдал он. Несчастный не мог покориться безропотно смерти, хотя и был весьма религиозен. Он испытал в самой сильной степени ужас перед этим страшным шагом, но не переставал, однако, благословлять Господа и восклицал со слезами:
— Я не умею уподобить свою волю Твоей, меж тем я хочу уподобить ее, сотвори Ты во мне это чудо!
У него не было мужества Оробони, но он подражал ему, говоря, что прощает врагам.
В конце этого года (это был 1826 год) мы услыхали однажды вечером в коридоре шум шагов нескольких человек. Наши уши уже привыкли прекрасно различать тысячи родов шума. Вот открывается дверь, мы узнаем, что это дверь той камеры, где был адвокат Солера. Открывается другая — то дверь Фортини. Среди нескольких сдержанных голосов мы различаем голос директора полиции. Что такое? Обыск в такой поздний час? Но почему?
Но в скором времени снова вышли в коридор. И вот милый голос доброго Фортини:
— О, бедный я! Извините меня, пожалуйста, я забыл том дневника.
И быстро-быстро побежал он назад, чтобы взять этот том, потом присоединиться к группе. Открылась дверь на лестницу, мы услышали, как они спустились до конца: мы поняли, что двое счастливцев получили помилование, и хотя нам и прискорбно было, что мы не могли следовать за ними, мы все-таки радовались за них.
LXXXVI
Это освобождение двоих товарищей было без всякого последствия для нас! Как это ушли они, когда были приговорены одинаково с нами: один на 20, другой на 15 лет, а над нами и над многими другими не просияла милость?
Значит, против неосвобожденных существовало более враждебное предубеждение? Или не намереваются ли помиловать всех нас, но через короткие промежутки времени по двое за раз? Может быть, каждый месяц? Может быть, каждые два или три месяца?
Мы недоумевали таким образом некоторое время. Но и больше трех месяцев прошло, а других не освобождали. В конце 1827 года мы думали, что не назначен ли декабрь месяцем помилования. Но и декабрь прошел, и ничего не произошло.
Мы продолжили свое ожидание до лета 1828 года, так как тогда оканчивались для меня семь с половиною лет заключения, равносильные, по слову императора, пятнадцати годам, если считать со дня ареста. А если не хотят зачесть время следствия (и такое предположение было самое правдоподобное), то, считая со дня опубликования приговора, семь с половиною лет истекали только в 1829 году.
Все, какие можно было считать, сроки прошли, а помилование не проблеснуло. Между тем, еще до ухода Солеры и Фортини, у моего бедного Марончелли появилась опухоль на левом колене. В начале боль была легкая и принуждала его только хромать. Потом ему уже стало трудно таскать свою цепь, и он редко выходил на прогулку. В одно прекрасное осеннее утро ему захотелось выйти вместе со мной подышать немного воздухом, снег уже выпал, в одну роковую минуту, как я его не поддерживал, он поскользнулся и упал. Падение немедленно обострило боль в колене. Мы отнесли его на постель, он уже больше не был в состоянии держаться на ногах. Когда доктор его увидал, то решился наконец приказать снять с него цепи. Опухоль увеличивалась день ото дня и сделалась огромной и чрезвычайно болезненной. Таковы были мучения бедного больного, что он не знал покоя ни в постели, ни вне ее.
Когда ему нужно было двигаться, встать, лечь, я должен был брать больную ногу с возможною осторожностью и переложить ее самым медленным образом в такое положение, какое было нужно. Иногда какое-нибудь самое незначительное перемещение из одного положения в другое вызывало судороги, длившиеся четверть часа и больше.
Пиявки, фонтанели, прижигания, припарки, то сухие, то мокрые, — все было испробовано доктором. Боль только увеличивалась, и больше ничего. После прижигания ляписом образовалось нагноение. Вся эта опухоль стала в ранах, но она нисколько не уменьшалась, выход гноя из ран ни разу не дал никакого облегчения.
Марончелли был в тысячу раз несчастнее меня, тем не менее, о, как я страдал вместе с ним! Мне было приятно ухаживать за ним, так как мой уход, мои попечения относились к столь достойному другу. Но видеть, что он таким образом угасает среди столь долгих и жестоких мучений, а я не могу дать ему здоровья! И предугадывать, что это колено уже никогда больше не выздоровеет! И замечать, что больной считает более вероятным смерть, чем выздоровление! И постоянно удивляться его мужеству и его ясному спокойствию: ах, все это повергало меня в невыразимую тоску!
LXXXVII
В этом жалком состоянии он еще сочинял стихи, пел, разговаривал, он делал все, чтобы обмануть меня, чтобы скрыть от меня часть своих печалей. Он не мог ни есть, ни спать, похудел страшно, часто падал в обморок и всякий раз, через несколько минут возвращаясь к жизни, он ободрял меня.
То, что он выстрадал в течение девяти долгих месяцев, неописуемо. Наконец, было разрешено, чтобы состоялась консультация. Приехал главный доктор, одобрил все, что испробовал доктор, и, не высказав своего мнения относительно болезни и относительно того, что остается делать, уехал.
Спустя минуту, приходит суб-интендант и говорит Марончелли:
— Главный доктор не решился объясниться здесь в вашем присутствии: он боялся, что у вас не будет сил выслушать объявление жестокой необходимости. Я уверил его, что у вас достанет к тому мужества.
— Надеюсь, — сказал Марончелли, — что я дал тому некоторое доказательство, перенося без криков, без стонов эти мучения. Мне, ведь, предлагают?..
— Да, синьор, ампутацию. Только главный доктор, увидав вас столь изможденным, не решается советовать ее. При такой слабости чувствуете ли вы себя способным вынести ампутацию? Хотите ли вы подвергнуть себя опасности?..
— Умереть? А разве я все равно не умру вскоре, если не положу конца этой болезни?
— В таком случае мы тотчас же дадим знать обо всем этом в Вену, и как только придет разрешение ампутировать…
— Что? Да разве нужно на это разрешение?
— Да, синьор.
Через восемь дней пришло ожидаемое согласие.
Больной был принесен в большую комнату, он попросил, чтобы я следовал за ним.
— Может быть, я умру при операции, — сказал он, — так пусть уж я буду, по крайней мере, в объятиях друга.
Мне было разрешено быть вместе с ним.
Аббат Врба, наш духовник (преемник Пауловича), причастил несчастного. Когда этот обряд был исполнен, мы стали ждать хирургов, а они все не появлялись. Марончелли стал еще петь гимн.
Наконец пришли и хирурги, их было двое. Один — наш домашний хирург, т. е. наш цирюльник, который, когда было нужно произвести операции, имел право делать их собственноручно и не хотел уступать этой чести другим. Другой был молодой хирург, воспитанник венской школы, уже пользовавшийся славою очень искусного хирурга. Будучи прислан губернатором для присутствия при операции и руководства ею, он хотел было произвести ее сам, но ему пришлось удовольствоваться наблюдением за ее выполнением.
Больной был посажен на край кровати со спущенными вниз ногами: я держал его в своих объятиях. Повыше колена, где бедро было не поражено, была наложена повязка, обозначавшая место, где должен был пройти нож. Старый хирург все кругом обрезал глубиною в палец, потом стянул вниз обрезанную кожу и продолжал резать обнаженные мускулы. Кровь потекла ручьями из артерий, но они тотчас же были перевязаны шелковой ниткой. Наконец, он перепилил кость.
Марончелли не испустил ни одного крика. Когда он увидел, что уносят прочь его отрезанную ногу, он кинул на нее взгляд сожаления, потом, обратившись к хирургу, сказал ему:
— Вы меня избавили от врага, а у меня нет средств вознаградить вас за это.
На окне тут стояла в стакане роза.
— Принеси мне, пожалуйста, эту розу, — сказал он мне.
Я принес ему ее. И он предложил ее старому хирургу, говоря ему:
— У меня нет ничего другого поднести вам в знак моей благодарности.
Тот взял розу и заплакал.
LXXXVIII
Хирурги полагали, что шпильбергская больница обладает всем необходимым, за исключением инструментов, которые они принесли с собою. Но, когда ампутация была уже сделана, они увидали, что не доставало разных необходимых вещей: клеенки, льда, бинтов и пр.
Бедный калека должен был ждать два часа, чтобы все это было принесено из города. Наконец, он мог лечь в постель, и ему положили лед на обрезанное место.
На следующий день очистили это место от образовавшихся там сгустков крови, обмыли его, стянули вниз кожу и зашили.
В течение нескольких дней, больному не давалось ничего, кроме какой-нибудь полчашки бульону, с распущенным в нем яичным желтком. А когда прошла опасность лихорадки при заживлении раны, начали постепенно подкреплять его более питательной пищей. Император предписал, чтобы, пока не восстановятся силы больного, ему давали хорошую пищу, с кухни супер-интенданта.
Выздоровление длилось сорок дней. После этого времени мы были отведены обратно в нашу камеру, она, впрочем, была увеличена, т. е. пробили стену и соединили нашу прежнюю берлогу с той, в которой жил Оробони, а после него Вилла.
Я перенес свою постель на то самое место, где была постель Оробони, где он и умер. Это место мне было приятно, казалось, что я приблизился к нему. Часто видал я его во сне, и мне казалось, что его дух на самом деле посещал меня и успокаивал небесными утешениями.
Страшное зрелище стольких мучений, которые терпел Марончелли и до ампутации ноги, и в течение этой операции, и после нее, укрепило мой дух. Бог, даровавший мне удовлетворительное здоровье во время болезни Марончелли, так как для него было необходимо мое попечение, отнял у меня здоровье, когда он мог держаться на костылях.
У меня появилось несколько мучительнейших опухолей желез. Я выздоровел от них, но за этим последовала боль в груди, уже испытанная мною прежде, но только теперь удушье было сильнее, чем когда-либо, головокружение и спазматическая дизентерия.
«Пришла и моя очередь, — говорил я себе. — Неужели я буду менее терпелив, чем мой товарищ?»
Я приложил все старания, чтобы подражать, на сколько умел, его мужеству.
Нет никакого сомнения, что всякое человеческое положение имеет свои обязанности. Обязанности больного — терпение, бодрость и все усилия к тому, чтобы не надоедать окружающим.
Марончелли на своих несчастных костылях уже больше не был так ловок, как бывало прежде, и он досадовал, боясь, что служит мне менее хорошо. Сверх того, он боялся, что, жалея его движения и усталость, я не пользуюсь его услугами в полной мере.
Действительно это иногда случалось, но я старался, чтобы он этого не заметил.
Сколько он ни восстановил свои силы, однако, все еще прихварывал. Он страдал, как и все ампутированные, болезненными ощущениями в ноге, как будто бы отрезанная часть все еще жила. У него болела ступня, голень и колено, которых у него уже больше не было. К этому присоединялось еще то, что кость была плохо отпилена и высовывалась сквозь новое мясо и часто разрывала шов. Только спустя около года обрезанное место достаточно отвердело и больше не открывалось.
LXXXIX
А тут пошли новые болезни у несчастного и почти без перерыва. Сначала ломота в суставах, начавшаяся с суставов рук и мучившая потом всего его в течение нескольких месяцев, а затем скорбут. От скорбута в скором времени все тело его покрылось синеватыми пятнами, так что страшно было смотреть.
Я старался утешиться, думая про себя: если уже приходится здесь умереть, так это хорошо, что один из нас двоих заболел скорбутом: это — заразная болезнь, и она сведет нас в могилу, если и не вместе, так по крайней мере через небольшой промежуток времени.
Мы оба готовились к смерти и были спокойны. Девять лет тюремного заключения и тяжелых страданий примирили нас наконец с мыслью совершенного уничтожения двух тел, так разрушенных и нуждающихся в покое. И души верили в благость Божию и верили в то, что они соединятся друг с другом в том месте, где все людские страсти прекращаются и где мы молили, чтобы когда-нибудь к нам присоединились, примиренные, и те, которые нас не любили.
Скорбут, в предшествовавшие годы, произвел большое опустошение в этих тюрьмах. Правительство, узнав, что Марончелли захворал этой страшной болезнью, испугалось новой цынготной эпидемии и согласилось на требование доктора, который сказал, что, кроме чистого воздуха нет никакого другого действенного средства для Марончелли, и советовал держать его как можно меньше в камере.
Я, как сосед его, да и притом будучи болен порчею соков (dyscrasia), пользовался тем же преимуществом.
Во все те часы, когда место для прогулки не было занято другими, т. е. на рассвете часа два, начиная за полчаса до него, потом в течение обеда, если так нам было угодно, потом три часа вечером вплоть до захода солнца, мы были на дворе. Это в будние дни. В праздники, так как не было у других в привычке прогуливаться, мы были во дворе с утра и до вечера, исключая время обеда.
Другой несчастный, лет около 70, весьма расстроенного здоровья, был присоединен к нам, так как сочли, что и ему также может помочь кислород. Это был синьор Константине Мунари, милый старик, любитель литературных и философских занятий, общество которого нам было довольно приятно.
Если считать мое наказание не со времени ареста, а со времени осуждения, семь с половиною лет оканчивались в 1829 году, в первых числах июля, по времени утверждения приговора императором, или 22 августа, по времени его обнародования.
Но и этот срок прошел, и умерла всякая надежда.
До тех пор Марончелли, Мунари и я делали надеялись, что мы еще увидим свет, увидим вновь нашу Италию, наших родных, и это было предметом рассуждений полных желания, сожаления и любви.
Прошел август, потом и сентябрь, а потом и весь этот год, и мы приучили себя не надеяться уже больше ни на что на земле, за исключением неизменного продолжения взаимной нашей дружбы и помощи Божией, чтобы достойно довести до конца нашу долгую жертву.
Ах, дружба и религия — два неоцененных блага. Они украшают и жизнь узников, у которых уже нет надежды на помилование! Бог по истине всегда с несчастными — с несчастными, которые любят!
ХС
После смерти Виллы, за аббатом Пауловичем, который был сделан епископом, последовал в качестве нашего духовника аббат Врба, моравец, профессор Нового Завета в Брюнне, славный воспитанник высшего института в Вене.
Этот институт есть духовная община, основанная знаменитым Фринтом, бывшим в то время придворным священником. Члены этой общины — все священники, лауреаты теологии, которые в строгой дисциплине продолжают тут свои занятия, имеющие целью достичь возможного знания. Намерение основателя было превосходно: постоянно распространять истинное и твердое знание в католическом духовенстве Германии. И в общем эта цель была достигнута.
Врба, живя в Брюнне, мог посвящать нам гораздо большую часть своего времени, нежели Паулович. Он сделался для нас тем же, чем был отец Баттиста, исключая то, что ему не было позволено приносить нам книги. Мы часто подолгу беседовали с ним, и моя религиозность извлекла отсюда большую пользу, или, если таким образом сказать чересчур много, мне казалось, что я извлекал ее, и велика была поддержка, которую я чувствовал потом.
В 1829 году он заболел, после, будучи должен отправлять другие обязанности, он больше не мог приходить к нам. Это огорчило нас в высшей степени, но нам опять посчастливилось, так как за ним следовал другой ученый и превосходный человек, аббат Зяк, вицекуратор.
Столько немецких священников было назначаемо к нам, и ни одного из них не было дурного! Ни одного, в котором бы проглядывало желание стать орудием политики (а этому было бы легко обнаружиться!), напротив не было ни одного такого, в котором бы не было многих достоинств: большой учености, самого полного проявления католической веры и глубокой философии! О, как достойны уважения подобные слуги церкви!
Эти немногие, которых я узнал, побудили меня сделать весьма выгодное заключение о католическом немецком духовенстве.
И аббат Зяк подолгу беседовал с нами. Он сам служил мне примером для того, чтобы я спокойно переносил свои болезни. Он беспрестанно мучился воспалениями зубов, шеи, ушей, и, тем не менее, всегда был веселым.
Между тем у Марончелли исчезли мало-помалу скорбутные пятна от большего пребывания на свежем воздухе, и одинаково Мунари и мне стало лучше.
XCI
Наступило 1 августа 1830 года. Протекло десять лет, как я лишился свободы, восемь с половиною лет, как я живу в тяжком тюремном заключении.
Был воскресный день. Мы отправились, как и в другие праздники, на обычное место прогулки. Посмотрели еще раз с выступа стены на расположенную внизу долину и кладбище, где лежали Оробони и Вилла, поговорили еще о том, как и наши кости в один прекрасный день отдохнут там. Посидели еще на обычной скамье, ожидая, как пройдут бедные арестанты к обедне, которую служили раньше нашей. Их отводили в ту же самую молельню, куда в следующую обедню шли мы. Стена этой молеленки выходила к месту нашей прогулки.
Обычай есть во всей Германии, что в продолжение обедни народ поет гимны на родном языке. Так как Австрийская империя представляет собой страну, населенную немцами и славянами, и в Шпильбергских тюрьмах большее число простых арестантов принадлежит к тому или другому из этих народов, то гимны тут пелись один праздник по-немецки, другой — по-славянски. Таким образом, всякий праздник произносились две проповеди и чередовались два языка. Для нас было величайшим удовольствием слушать это пение и аккомпанемент органа.
Среди женщин были и такие, голос которых проникал в сердце. Несчастные! Некоторые были чрезвычайно молоды. Любовь, ревность, дурной пример довели их до преступления. В душе моей еще звучит их религиознейшее пение гимна Sanctus: Heilig! Heilig! Heilig! Слыша его, я прослезился.
В десять часов женщины удалились, и к обедне отправились мы. И еще увидал я тех из моих товарищей по несчастию, которые слушали обедню на хорах органа, одна только решетка отделяла нас от товарищей, все они были бледные, изможденные, с трудом волочившие свои цепи!
После обедни мы вернулись в наши логовища. Через четверть часа нам принесли обед. Мы накрывали на стол, каковое занятие состояло в том, что мы клали дощечку на голые доски, служившие постелью 14, и брались за наши деревянные ложки, когда в камеру вошел синьор Веграт, суб-интендант.
— Мне неприятно тревожить вас за обедом, — сказал он, — но будьте так любезны, следуйте за мною, здесь господин директор полиции.
Так как этот последний обыкновенно приходил по неприятным делам, таким как обыски или розыски, мы последовали в весьма скверном расположении духа за суб-интендантом до комнаты присутствия.
Там мы нашли директора полиции и супер-интенданта, и первый сделал нам поклон любезнее обыкновенного.
Он взял в руки какую-то бумагу и отрывисто сказал нам, быть может, боясь произвести слишком сильное впечатление, если бы он яснее выразился:
— Господа… имею удовольствие… имею честь… объявить вам… что его величество император благоволил оказать еще… милость…
И он медлил сказать нам, что это была за милость. Мы думали, что это было какое-нибудь уменьшение наказания, как-то: быть избавленным от бездеятельности, иметь больше книг, получать пищу, менее отвратительную на вкус.
— Не понимаете, что ли? — сказал он.
— Нет, синьор. Будьте добры, объясните нам, какая это милость.
— Свобода для вас двоих и для третьего, которого вы вскоре обнимете.
Казалось бы, что такая весть должна была привести нас в ликование. Мы тотчас же унеслись мыслями к родителям, о которых уже столько времени мы не имели никаких известий, и боязнь, что, быть может, мы не найдем их больше на земле, так нас опечалила, что исчезла всякая радость при вести о свободе.
— Онемели? — сказал директор полиции. — Я ожидал, что увижу вас ликующими.
— Прошу вас, — отвечал я, — довести до сведения императора нашу благодарность, но не имея никаких известий о наших семействах, мы не можем не страшиться того, что лишились дражайших особ. Эта неизвестность гнетет нас даже и в ту минуту, которая должна бы быть минутой величайшего ликования.
Он дал тогда Марончелли письмо от его брата, которое утешило его. Мне же он сказал, что нет ничего от моих родных, и это еще более заставило меня бояться, что дома случилось какое-нибудь несчастие.
— Ступайте, — продолжал он, — в вашу камеру, я вскоре пришлю к вам и того третьего, который также помилован.
Мы ушли и ждали с душевным беспокойством этого третьего. Мы хотели бы, чтобы это были все, однако мог быть только один. Если бы это был бедный старик Мунари! Если бы тот! Если бы это был другой! Ни одного не было такого, за которого бы мы ни возносили мольбы.
Наконец открывается дверь, и мы видим, что этот товарищ — синьор Андреа Тонелли из Брешии.
Мы обнялись. И обедать больше не могли. Беседовали вплоть до вечера, сожалея о друзьях, которые оставались.
При заходе солнца вернулся директор полиции, чтобы вывести нас из этого злосчастного места. Наши сердца сжимались тоскою, когда мы проходили мимо камер стольких друзей и не могли увести их с собою! Кто знает, сколько еще времени они будут томиться тут? Кто знает, сколько из них должны будут стать здесь добычею медленной смерти?
Каждому из нас надели на плечи солдатский плащ и шапку на голову, и таким образом в том же одеянии каторжника, но без цепей, мы спустились со злополучной горы и были отведены в город, в полицейскую тюрьму.
Был прекраснейший лунный свет. Улицы, дома, народ, который мы встречали, — все мне казалось таким прекрасным, таким странным после стольких лет, в течение которых я не видал подобного зрелища!
XCII
В полицейской тюрьме мы ожидали имперского комиссара, который должен был приехать из Вены, чтобы проводить нас до границы. Между тем, так как наши чемоданы были проданы, мы запаслись бельем и платьем и сняли острожную одежду.
Через пять дней приехал комиссар, и директор полиции передал нас ему, вручив ему в то же самое время и деньги, привезенные нами в Шпильберг и вырученные от продажи чемоданов и книг, эти деньги потом нам были возвращены на границе.
Комиссаром был синьор фон Ное, дворянин, служивший в канцелярии министра юстиции. Нельзя было приставить к нам человека более прекрасного воспитания. Он обходился с нами всегда самым вежливым и предупредительным образом.
Я выехал из Брюнна с мучительнейшею одышкой, а движение коляски до того увеличило боль, что вечером я задыхался страшным образом и боялся с минуты на минуту совсем задохнуться. Сверх того, у меня всю ночь была страшная лихорадка, и комиссар не знал на следующее утро, могу ли я продолжать поездку до Вены. Я отвечал утвердительно, и мы поехали, жестокость боли была чрезвычайная, я не мог ни есть, ни пить, ни говорить.
Я приехал в Вену полуживой. Нам отвели хорошее помещение в общем полицейском управлении. Меня положили в постель, призвали доктора, он сделал мне кровопускание, и я почувствовал облегчение. Моим лечением в течение восьми дней были совершенная диета и большое количество настоя наперсточной травы (digitalis), и я выздоровел. Доктор, синьор Зингер, оказывал мне истинно дружеское внимание.
Я чрезвычайно сильно порывался ехать, тем более, что до нас дошло известие о трех днях в Париже.
В тот же самый день, как разразилась эта революция, император подписал декрет о нашей свободе! Наверное, он не вернет теперь его. Но не невероятно, однако же, было и то, что, так как время опять стало критическим для всей Европы, можно опасаться народных движений и в Италии, и Австрия не захочет в такое время водворить нас в отечество. Мы были убеждены, что нас не вернут в Шпильберг, но мы опасались, чтобы кто-нибудь не внушил императору мысль отправить нас в ссылку в какой-нибудь город империи далеко от полуострова.
Я показывал, что я более здоров, чем это было, и просил, чтобы поторопились с отъездом. Между тем у меня было сильнейшее желание представиться его превосходительству туринскому посланнику при австрийском дворе, господину графу ди-Пралормо, доброте которого я стольким был обязан. Он действовал с самой великодушной готовностью и прилагал все старания к тому, чтобы добиться моего освобождения. Но запрещение, чтобы я не видался ни с кем, кто бы это ни был, не допускало исключения.
Лишь только я стал выздоравливать, нам оказали любезность, прислав на несколько дней коляску, чтобы мы покатались немного по Вене. Комиссар был обязан сопровождать нас и не допускать нас ни с кем разговаривать. Мы видели прекрасную церковь св. Стефана, прелестные городские бульвары, соседнюю виллу Лихтенштейн и, наконец, императорскую виллу Шенбрунн.
В то время, как мы были в великолепных аллеях Шенбрунна, проходил император, и комиссар заставил нас удалиться, чтобы наш истомленный вид не опечалил императора.
XCIII
Мы выехали, наконец, из Вены, и я терпел до Брука. Здесь одышка опять стала жестокой. Мы послали за доктором, это был некто синьор Юдманн, весьма обходительный человек. Он сделал мне кровопускание, велел лечь в постель и принимать сердечное лекарство. Через два дня я настоял на том, чтобы продолжать путешествие.
Проехали Австрию и Штирию и въехали в Каринтию без всяких происшествий, но, когда мы прибыли в деревню Фельдкирхен, на небольшом расстоянии от Клагенфурта, получили контр-приказ. Мы должны были здесь остановиться до нового извещения.
Предоставляю судить читателям, как для нас было неприятно это происшествие. Я, сверх того, сожалел, что причинил такой вред двум своим товарищам: если они не могли возвратиться на родину, то это моя роковая болезнь была тому причиной.
Мы прожили в Фельдкирхене пять дней, и здесь комиссар делал все возможное, чтобы развлечь нас. Был тут маленький театр с комедиантами, и он повел нас туда. Он доставил нам однажды развлечение посмотреть на охоту. Охотниками были наш хозяин и несколько молодых поселян вместе с владельцем прекрасного леса. Мы, расположившись на удобном месте, наслаждались этим зрелищем.
Наконец, прибыл курьер из Вены с приказом комиссару отправить нас к месту назначения. Я возликовал вместе со своими товарищами от этой счастливой вести, но в то же самое время страшился того, что приближается для меня день рокового открытия, что у меня нет больше ни отца, ни матери, ни кто знает еще каких других из моих близких!
И моя грусть росла по мере того, как мы приближались к Италии.
С этой стороны въезд в Италию непривлекателен для взоров, здесь спускаются с прекраснейших гор немецкой земли на итальянскую равнину, сухую и бесплодную, так что путешественники, которые еще не знают нашего полуострова и проезжают здесь, смеются над тем великолепным представлением, какое у них есть о нем, и подозревают, что они одурачены теми, от кого слыхали столько похвал.
Непривлекательный вид этой местности содействовал тому, что я стал еще грустнее. Снова видеть наше небо, встречать человеческие лица не северного типа, слышать из уст каждого звуки родного языка — все это меня умиляло, но это было волнение, вызывавшее у меня скорее слезы, нежели радость. Сколько раз в коляске я закрывал себе руками лицо, притворяясь спящим, и плакал! Сколько раз по ночам я не смыкал глаз и горел в лихорадке, то осыпая от всего сердца самыми горячими благословениями мою милую Италию и посылая благодарение небу за то, что я ей возвращен, то мучаясь тем, что нет никаких известий из дому, и воображая себе несчастия, то думая о том, что вскоре я буду принужден разлучиться, быть может, навсегда, с другом, столько перестрадавшим со мною и давшим мне столько доказательств братской любви!
Ах! Столь долгие годы могильного пребывания не потушили еще силы моих чувств! Но этой силы было так мало на радость и так много на горе!
Как бы я желал увидеть вновь Удину и эту гостиницу, где те двое великодушных переоделись прислугой и пожали нам украдкой руки!
Мы оставили этот город слева и проехали мимо.
XCIV
Порденоне, Конельяно, Оспедалетто, Виченца, Верона, Мантуя, сколько мне они напоминали! Из первого места был родом один прекрасный молодой человек, бывший моим другом и погибший в русской резне; Конельяно была та самая деревенька, куда, как мне говорили секондини в Свинцовых тюрьмах, была отправлена Цанце; в Оспедалетто вышла замуж, но теперь уже не жила здесь больше, одна несчастная, но ангельская душа, которую я раньше и теперь еще уважал. Во всех этих местах на меня нахлынули воспоминания, более или менее дорогие; а в Мантуе больше, чем в каком другом городе. Казалось мне, что я только вчера приехал сюда с Лодовико в 1815 году! Казалось мне, что это было вчера, как я приехал сюда с Порро в 1820 году! Те же самые улицы, те же самые площади, те же самые дворцы, и такая разница в людях! Столько моих знакомых похищено смертью! Столько сосланных! Целое поколение взрослых, которых я видел детьми! И не иметь возможности подбежать к тому или к этому дому! Не иметь возможности ни с кем поговорить о том или о другом!
И в довершении всего Мантуя была местом разлуки Марончелли со мною. Мы тут переночевали весьма печальные оба. Я волновался, как человек накануне выслушивания своего приговора.
Утром я вымыл лицо и посмотрел в зеркало, не видно ли еще, что я плакал. Я принял, на сколько мог, спокойный и улыбающийся вид, произнес краткую молитву к Богу, но, сказать по истине, весьма рассеянно, и, услыхав, что Марончелли уже двигал своими костылями и разговаривал со слугою, я пошел обнять его. Мы оба казались полными мужества при этом расставании, мы разговаривали друг с другом немного взволнованные, но твердым голосом. Жандармский офицер, который должен был отвезти его к границе Романьи, прибыл, нужно было отправляться. Мы не знали, что и сказать друг другу: обнялись, поцеловались, еще раз обнялись. Он сел в коляску и скоро скрылся из виду, я остался уничтоженным.
Вернулся в комнату, бросился на колени и молился за этого несчастного калеку, разлученного с его другом, и разразился слезами и рыданьями.
Я знал многих превосходных людей, но никого нежнее и общительнее Марончелли, никого возвышеннее во всех отношениях благородства, никого менее свободного от порывов дикости, никого, кто бы более его помнил, что добродетель слагается из постоянных проявлений терпимости, великодушия и благоразумия. О, мой товарищ стольких лет горя, да благословит тебя Небо, где бы ты ни жил, и да даст Оно тебе друзей, которые бы сравнялись со мною в любви к тебе и превзошли меня в доброте!
XCV
В то же самое утро мы отправились из Мантуи в Брешию. Здесь был отпущен на свободу другой товарищ по заключению, Андреа Тонелли. Этот несчастный узнал, что он потерял здесь мать, и его слезы отчаяния разрывали мне сердце.
Хотя и был я в величайшей тоске по многим причинам, меня несколько рассмешил следующий случай.
В гостинице на столе лежала театральная афиша. Беру ее и читаю: — Франческа Риминийская, опера и пр.
— Чье это сочинение? — спросил я слугу.
— Кто переложил ее на стихи и кто положил на музыку, я того не знаю, — отвечал он. — Но вообще это все та же Франческа Риминийская, которую все знают.
— Все? Ошибаетесь. Мне, едущему из Германии, какое же дело знать о ваших Франческах?
Слуга (рослый детина с несколько надменным лицом, истый брешианец) посмотрел на меня с презрительным сожалением.
— Какое дело вам? Синьор, здесь дело идет не о Франческах, а идет дело об одной только Франческе Риминийской. Я хочу сказать, что это есть трагедия синьора Сильвио Пелико. Здесь переделана она в оперу, немножечко хоть и попорчена, но все же это та самая.
— А, Сильвио Пелико! Мне кажется, я где-то слыхал это имя. Не тот ли это скверный зачинщик, который был сначала приговорен к смертной казни, а после к тяжкому тюремному заключению, восемь или девять лет тому назад?
Никогда бы я не сказал этой шутки! Он оглянулся, потом взглянул на меня, оскалил свои прекраснейшие тридцать два зуба, и если бы не заслышал шума, я думаю, он бы убил меня.
Он отошел, бормоча:
— Скверный зачинщик!
Но перед отъездом он открыл, кто я был. Он не мог больше ни спрашивать, ни отвечать, ни писать, ни ходить. Ничего иного не мог, как только уставиться на меня, потирать себе руки и говорить всем некстати:
— Сьор, да, сьор, да! — точно он собирается чихнуть.
Спустя два дня, 9 сентября, я приехал с комиссаром в Милан. Приближаясь к этому городу, вновь увидав купол собора, снова проезжая по Лоретской дороге, столь часто, бывало, посещаемой мной, как славное место для гулянья, опять въезжая в Восточные ворота и вновь находясь на бульваре (Corso), снова видя эти дома, эти храмы, эти улицы, я испытал самые сладкие и самые мучительные чувства: безумное желание остаться на несколько дней в Милане и обнять бы вновь тех друзей, которых я нашел бы еще там; бесконечная жалость — думая о тех, кого я оставил в Шпильберге, о тех, кто блуждает в чужих странах, о тех, кто умер; живейшая благодарность при воспоминании о той любви, которую вообще оказывали мне миланцы; дрожь негодования против некоторых, клеветавших на меня, между тем, как они были всегда предметом моей благосклонности и моего уважения.
Мы остановились в «Bella Venezia».
Здесь я столько раз бывал на дружеских пирах, здесь я посещал столько достоуважаемых чужестранцев, здесь одна уважаемая пожилая синьора упрашивала меня, и напрасно, ехать с ней в Турин, предвидя, если я останусь в Милане, те несчастия, которые случились со мной. О, трогательные воспоминания! О, прошлое, столь усеянное радостями и печалями и так быстро промелькнувшее!
Слуги гостиницы тотчас же открыли, кто я. Молва распространилась, и к вечеру я увидел, что многие останавливались и глядели на окна. Один (не знаю, кто это был), казалось, узнал меня и приветствовал меня, поднимая обе руки.
Ах, где же были вы, сыновья Порро, мои сыновья? Почему я не видел их?
XCVI
Комиссар повел меня в полицию, чтобы представить директору. Какое впечатление при виде этого дома, моей первой темницы! Сколько грустных воспоминании пронеслось передо мной! Ах! С нежностью вспомнил я о тебе, о, Мелькиорре Джойа, о том, как ты стремительно ходил взад и вперед, как я видел, в этих тесных стенах, и о тех часах, которые проводил ты неподвижно у столика, начертывая свои благородные мысли, и о тех знаках, которые ты мне делал платком, и о грусти, с какой ты смотрел на меня, когда тебе запретили делать мне знаки! Я подумал о твоей могиле, быть может, неведомой большему числу тех, кто любил тебя, как она была неведома мне! И молил о ниспослании мира душе твоей!
Мне вспомнился и глухонемой, и трогательный голос Маддалены, мой трепет сострадания к ней, вспомнились и воры, мои соседи, и мнимый Людовик XVII, и тот бедный арестант, которого поймали с запискою, и который, как показалось мне, кричал под палкою.
Все эти и другие воспоминания угнетали меня, как грустный сон, но меня больше давило воспоминание о двух посещениях тюрьмы моим бедным отцом десять лет тому назад. Как добрый старик обманывал себя, надеясь, что я скоро могу присоединиться к нему, чтобы вместе ехать в Турин! Перенес ли бы он твердо мысль о десятилетнем заточении сына, и каком заточении? Но когда его мечты исчезли, имел ли он, имела ли мать силы устоять против раздиравшей их скорби? Было ли мне дано еще увидеть их обоих? Или, быть может, одного из них? Кого же?
О, мучительнейшее, все возрождающееся сомнение! Я был, так сказать, у порога дома и не знал еще, живы ли мои родители, жив ли хоть один из членов нашей семьи?
Директор полиции принял меня любезно и позволил мне остановиться в «Bella Venezia» вместе с имперским комиссаром, вместо того, чтобы стеречь меня в другом месте. Впрочем, он не дозволил мне видеться ни с кем, и поэтому я решился выехать на следующее же утро. Я добился только разрешения увидеться с пьемонтским консулом, чтобы справиться у него о моих родных. Я бы пошел к нему сам, но, будучи в лихорадке и принужденный лечь в постель, я попросил его прийти ко мне.
Он был так добр, что не заставил себя ждать, и как я ему был за то благодарен!
Он принес мне добрые вести о моем отце и о моем старшем брате. Относительно матери, другого брата и обеих сестер я остался в жестокой неизвестности.
Отчасти, но недостаточно утешившись, я бы хотел, чтобы облегчить свою душу, продолжить дальше мою беседу с господином консулом. Он не был скуп на благосклонность, но, однако, должен был оставить меня.
Оставшись один, я хотел плакать, но у меня не было слез. Почему это иногда горе доводило меня до слез, а в другой раз, и это всего чаще, когда мне казалось, что слезы были бы для меня столь сладким облегчением, я призывал их бесполезно? Эта невозможность облегчить мою скорбь усилила мою лихорадку, голова страшно разболелась.
Я попросил у Штундбергера пить. Этот добрый человек был сержантом венской полиции, исполнявшим обязанность слуги комиссара. Он был не стар, но случилось, что когда он подавал мне пить, его рука задрожала. Эта дрожь напомнила мне Шиллера, моего милого Шиллера, когда в первый день моего прибытия в Шпильберг я с заносчивой гордостью попросил у него жбан воды, и он подал мне его.
Странное дело! Это воспоминание, присоединившись к другим, скатило с сердца камень, и у меня брызнули из глаз слезы.
XCVII
Утром 10 сентября, я обнял своего превосходного комиссара и отправился в путь. Мы только с месяц знали друг друга, а мне он казался давнишним другом. Его душа, вполне обладавшая чувством прекрасного и честного, не была пытливой, не была хитрой, не потому, что он не мог иметь к тому способность, но вследствие той любви к благородной простоте и искренности, которой обладают правдивые люди.
Кто-то в дороге, в одном месте, где мы остановились, сказал мне тайком:
— Берегитесь вы этого ангела-хранителя, если бы он не был из хвостатой породы, уж вам бы не дали его.
— И, однако, вы ошибаетесь, — сказал я ему, — я имею самое искреннее убеждение, что вы ошибаетесь.
— Самые хитрые, — возразил тот, — те, которые кажутся более простыми.
— Если бы это было так, никогда бы не надо было верить ничьей добродетели.
— Есть некоторые социальные посты, где может быть много высокой благовоспитанности в обращении, но не добродетели! Не добродетели! Не добродетели!
Я не мог ему ничего иного ответить, как:
— Преувеличение, сударь мой, преувеличение!
— Я последователен, — настаивал тот.
Но нас прервали. И мне вспомнилось Лейбницево cave a consequentiariis.
И, однако, слишком много людей рассуждает с этой ложной и ужасной логикой: я следую знамени А, которое, я уверен в том, есть знамя справедливости, тот следует знамени В, которое, я уверен в том, есть знамя несправедливости, следовательно он — негодяй.
Ах, нет, безумные логики! Какого бы вы ни были знамени, не рассуждайте так бесчеловечно! Подумайте, что если отправиться от какой-нибудь невыгодной данной (а где есть общество или отдельный человек, у которых бы не было таких данных?) и идти с неумолимою строгостью от следствия к следствию, легко кому бы то ни было дойти до такого заключения: «За исключением нас четверых, все люди заслуживают быть заживо сожженными. А если делается более тонкое исследование, каждый из четверых скажет: «Все люди заслуживают быть заживо сожженными, кроме меня».
Этот низкопробный ригоризм совершенно антифилософичен. Умеренная недоверчивость может быть разумною, недоверчивость же, доведенная до крайности — никогда.
После намека, сделанного мне насчет этого ангела-хранителя, я еще больше прежнего занялся изучением его и всякий день я еще больше убеждался, что это бесхитростная, великодушная натура.
Когда установился известный общественный порядок, как бы он очень или не очень хорош ни был, все общественные посты, которые не считаются по всеобщему признанию бесчестными, все общественные посты, которые обещают благородно содействовать народному благу, и обещаниям которых большая часть людей верит, все социальные посты, в которых глупо отрицать, что там находятся честные люди, могут быть всегда занимаемы честными людьми.
Я читал об одном квакере, который питал отвращение к солдатам. Раз он увидел, что один солдат бросился в Темзу, и спас несчастного, который тонул, он сказал:
— Я всегда буду квакером, но и солдаты добрые создания.
XCVIII
Штундбергер проводил меня до кареты, куда я сел вместе с жандармским офицером, которому я был поручен. Шел дождь и дул холодный ветер.
— Закутывайтесь хорошенько в плащ, — говорил мне Штундбергер, — закрывайте получше голову, постарайтесь не приехать домой больным, ведь вам так мало надо, чтобы простудиться! Как мне жаль, что я не могу служить вам вплоть до Турина!
И все это говорилось им так сердечно и таким растроганным голосом!
— С этих пор уже, быть может, никогда около вас больше не будет ни одного немца, — прибавил он, — быть может, вам уже больше никогда не придется услышать, как говорят на этом языке, который итальянцы находят столь грубым. Да, вероятно, вы мало и горевать-то будете об этом. Среди немцев вам пришлось перенести столько несчастий, что у вас и не будет большой охоты вспоминать о нас, и, тем не менее, я, имя которого вы скоро забудете, я, синьор, всегда буду молиться за вас.
— А я за тебя, — сказал я ему, в последний раз пожимая его руку.
Бедняга закричал еще раз: «Guten Morgen! Gute Reise! Leben Sie wohl (Добрый день! Гладкой дороги! Будьте здоровы)!» Это были последние немецкие слова, произнесенные при мне, и они прозвучали так ласково, как будто бы это были слова моего языка.
Я люблю страстно свое отечество, но во мне нет ненависти ни к какой другой нации. Цивилизация, богатство, мощь, слава различны у разных наций, но во всех них есть души, повинующиеся великому назначению человека — любить, сострадать и помогать.
Сопровождавший меня бригадир рассказал мне, что он был одним из тех, которые арестовали моего несчастнейшего Конфалоньери. Он сказал мне, как этот последний пытался бежать, как ему это не удалось, как он, вырвавшись из объятий супруги, вместе с нею умилился и выдержал с достоинством это несчастие.
Я горел в лихорадке, слушая эту историю, и, казалось, железная рука сдавила мне сердце.
Рассказчик, человек простодушный, по-товарищески беседуя со мною, вовсе и не замечал, что, хотя я и ничего не имел против него, все же я не мог не ужасаться, смотря на эти руки, которые хватали моего друга.
В Буффалоре он завтракал, мне было слишком тоскливо, я не ел ничего.
Когда-то, еще в давние годы, когда я жил на даче в Арлуно с детьми графа Порро, я хаживал, бывало, гулять в Буффалору вдоль Тичино.
Я возликовал, увидав оконченным прекрасный мост, материалы для которого я видал прежде разбросанными на ломбардском берегу, разделяя тогда общее мнение, что такой работы никогда не исполнят. Я ликовал, переезжая через эту реку и будучи вновь на Пьемонтской земле. Ах, хоть я и люблю все нации, Бог знает как я предпочитаю им Италию, и хотя я полон любви к Италии, Бог знает, на сколько мне слаще всякого другого имени итальянской страны имя Пьемонта, земли отцов моих!
XCIX
Против Буффалоры стоит Сан-Мартино. Здесь ломбардский бригадир переговорил с пьемонтскими карабинерами, потом простился со мной и переехал через мост.
— Ступайте в Навару, — сказал я ямщику.
— Будьте добры, подождите минуточку, — сказал один из карабинеров.
Я понял, что я еще не свободен, и опечалился этим, опасаясь, что, быть может, замедлится мое прибытие в родительский дом.
Спустя четверть часа с лишним, появился господин, который попросил у меня позволения ехать вместе в Навару. Другого случая ему не представилось, тут не было другого экипажа, кроме моего, он очень счастлив, что я позволил ему воспользоваться им и проч., и проч.
Этот переодетый карабинер был милого нрава и составил мне приятную компанию до Навары. Когда мы прибыли в этот город, он, прикинувшись, что хочет остановиться со мною в гостинице, велел ехать коляске в казармы карабинеров, где мне сказали, что тут приготовлена для меня постель в комнате бригадира, и что я должен дожидаться высших приказаний.
Я думал, что могу отправиться на следующий день, лег в постель и, поболтав немного с хозяином бригадиром, заснул глубоко. Давно уже я не спал так хорошо.
Я проснулся утром, быстро поднялся, и первые часы мне показались долгими. Я позавтракал, поболтал, прошелся несколько раз по комнате и по балкону, бросил взгляд на книги хозяина, наконец меня известили, что пришли ко мне.
Любезный офицер принес мне вести о моем отце и сообщил мне, что в Наваре есть письмо от него, которое мне скоро принесут. Я был ему чрезвычайно обязан за эту приятную любезность.
Прошло несколько часов, которые, однако, показались мне вечностью, и наконец пришло письмо.
О, какая радость снова видеть этот милый почерк! Какая радость узнать, что моя мать, моя милая, добрая мать еще жива! И живы мои оба брата и моя старшая сестра! Увы! Младшая, та Мариетта, которая постриглась в монахини ордена Визитации, и о которой до меня тайком дошло известие в тюрьме, перестала жить девять месяцев тому назад!
Мне сладко думать, что я обязан своей свободой всем тем, кто меня любил и кто молился за меня беспрестанно перед Богом, и в особенности сестре, которая умерла с изъявлениями величайшей любви. Бог да вознаградит ее за всю тоску и все муки, которые вытерпело ее сердце из-за моих несчастий!
Дни проходили, а позволения выехать из Навары не приходило. Утром 16 сентября, наконец, это позволение мне было дано, и всякая охрана карабинеров с меня была снята. О, сколько уже лет не приходилось мне идти, куда я хочу, без сопровождения стражи!
Я получил свои деньги, принял поздравления и поклоны от знакомого моего отца и отправился в три часа пополудни. У меня были попутчиками одна дама, негоциант, гравер и два молодых живописца, один из которых был глухонемой. Эти живописцы ехали из Рима, и мне приятно было услышать, что они знали семейство Марончелли. Ведь всегда приятно иметь возможность говорить о тех, кого мы любим, с кем-нибудь, кто не безучастен к ним!
Переночевали в Верчелли. Наступил счастливый день 17 сентября. Мы продолжали путешествие. О, как медленны коляски! Прибыли в Турин только вечером.
Кто бы когда мог описать радость моего сердца и сердца моих близких, когда я вновь увидел и обнял отца, мать, братьев?.. Не было тут моей милой сестры Джузеппины, которую удерживали ее обязанности в Кьери, но, услыхав о моем счастье, она поспешила приехать на несколько дней. Возвращенный этим пяти дражайшим предметам моей нежности, я был и есть самый счастливый из смертных!
Ах! За прошедшие несчастия и за настоящее довольство, как за все благое и злое, что остается для меня, да будет благословенно Провидение, которого люди и вещи, волею или не волею, есть удивительные орудия, которые оно умеет употребить для целей, достойных себя!
Э. Штильгебауер Пурпур
Исторический роман
Перевод с немецкого
I
Герцогский штандарт, веявший над дворцом в герцогской столице Кронбурге, опустился до половины флагштока. К порталу дворца, сделанному из лучших белых плит майнцкого известняка, подкатил придворный экипаж.
— Как могло это произойти так быстро? — поспешно спросил открывавшего дверцу придворного лакея вышедший из экипажа господин.
— Камердинер Геллер, ваше превосходительство, нашел его светлость за письменным столом уже бездыханным, — смущенно пробормотал тот в ответ. — Лейб-медика доктора Лебера пригласили немедленно, но он напрасно хлопотал около его высочества.
Министр-президент Бауманн фон Брандт поднялся по давно знакомой ему лестнице из белого мрамора, слывшей одной из достопримечательностей герцогского дворца. Во втором его этаже были расположены герцогские апартаменты. Из передней посетитель направился в кабинет, тот самый кабинет, где много лет тому назад он получил портфель из рук своего государя.
У дверей с ружьями к ноге стояли на часах два герцогских гвардейца в ослепительных белых мундирах с голубыми доломанами. Две неподвижные фигуры гуннов. Тихо, автоматически отдали они честь, когда министр переступал порог кабинета.
Перед голубой портьерой, висевшей на двери кабинета его высочества, Бауманн фон Брандт на минуту остановился.
Как поразило его все это — так, простой случай, для которого нет никаких объяснений. У него закружилась голова, и он закрыл глаза руками. Не то, чтобы он хотел этим скрыть слезы, — нет, такие чувства были незнакомы Бауманну фон Брандту. В эту минуту, когда он непосредственно почувствовал смерть того, кто из года в год возвышал его и вознес на такую головокружительную высоту, в эту самую минуту его поразила мысль, что теперь дни его могущества сочтены. Тенью подернулось его бритое лицо, которому придавал большое сходство с хищной птицей ястребиный нос, нависший над узкими, бескровными, вечно сжатыми губами.
«Альфред! — пронеслось у него в голове. — Эрцгерцог Альфред».
Он вошел в кабинет.
Через высокое готическое окно рядом с письменным столом герцога падали утренние лучи солнца. Они играли на лице умершего, которого до прихода министра-президента оставили в том самом положении, в каком его нашел камердинер Геллер.
Лейб-медик низко поклонился Бауманну и сказал:
— Искусство врача тут более не нужно, ваше превосходительство. Его высочество преждевременно скончался от разрыва сердца.
Бауманн фон Брандт поблагодарил доктора легким движением руки и подошел к телу герцога.
На лице покойного лежит отпечаток тихого спокойствия смерти. В руке было зажато судорожно золотое перо, которым герцог только что подписал последнюю бумагу. То была тронная речь для предстоящего открытия ландтага, которую вчера вечером Бауманн фон Брандт послал в кабинет его высочества.
Недалеко от тела, плача, стоял камердинер Геллер.
Кроме него и лейб-медика в кабинете герцога до приезда министра-президента никого не было.
— Расскажите, как это произошло? — обратился Бауманн к камердинеру.
— Я только что приготовил второй завтрак, который его высочество изволили обыкновенно кушать во время работы, — начал он с рыданием в голосе, — как вдруг мое внимание привлек какой-то странный шум. Мне в передней показалось, что это был вздох, какое-то клокотанье и стон. Я прислушивался с минуту, но не слыхал более ничего. Через некоторое время меня охватил смертельный страх. Я тихонько вошел в кабинет и нашел его высочество в том самом положении, в каком вы изволите теперь его видеть.
— Хорошо, Геллер. Будьте добры, доктор, составить протокол, на основании которого я должен сделать официальное оповещение о смерти его высочества. Я сейчас должен созвать всех министров на экстренное заседание. Дальнейшие меры можно будет принять только после его решения.
— А как же его высочество наследный принц Альфред? — робко заметил доктор.
— Я поставлю в известность его высочество о кончине его родителя лично и представлю его высочеству прошение об отставке кабинета. После составления протокола можно будет положить смертные останки почившего в его спальне.
Камердинер и врач молча поклонились всемогущему здесь человеку.
Министр-президент пошел из кабинета, медленно и задумчиво. Не замечая чести, которую ему отдал караул, он спустился вниз.
«Эрцгерцог Альфред!» — снова пронеслось в его голове.
Перед дворцом стояла большая толпа народа. Весть о внезапной смерти герцога успела уже разнестись по улице. Бауманн фон Брандт даже не взглянул на народ. Он сел в экипаж и поехал прямо в министерство финансов. Принимая назначение от герцога, он выговорил себе портфель министра финансов.
Здесь он распорядился, чтобы немедленно был созван совет министров.
Эти лакейские душонки, как он называл их в глубине души, были марионетками в его руках. Одну за другой вытаскивал он их наверх за время своего долголетнего правления. С ними ему не трудно было управиться. Другое дело эрцгерцог Альфред!
Теперь дело шло о том, чтобы выбрать депутацию, которая должна была сообщить юному наследнику престола, воспитывавшемуся, по прихоти покойного герцога, вдали от шумной столицы, известие о внезапной кончине его отца и его восшествии на престол и передать обычную в таких случаях отставку министерства. По предложению Бауманна фон Брандта для этой миссии были избраны он сам, министр внутренних дел Фрейлинг и военный министр генерал фон Дорбах. Затем решено было послать телеграмму единственному из близких родственников покойного, его зятю по второму браку князю Филиппу. Официальное объявление дворов и посольств должна была сделать придворная канцелярия.
После преждевременной смерти герцогини, герцог Бернгард, только что неожиданно скончавшийся, из человека общительного превратился в чудака. Он сознательно отказался от всякой роскоши, от всяких торжеств. Целыми днями работал он у себя в кабинете и удалил от себя даже своего единственного сына и наследника. О возможности внезапно умереть герцог едва ли думал. И вот теперь он умер в том одиночестве, в котором он жил после смерти своей жены, которую он боготворил, а сын и наследник, сидя там, в тихих горах, где он проводил годы своей юности под ферулой своего воспитателя, и не подозревал, что тяжелая корона опустилась на его слабую голову. Он еще не чувствовал, что тяжелые складки пурпурной мантии легли на его узкие плечи: ему было всего восемнадцать лет.
Чудные весенние дни стояли в уединенной горной долине, которая была колыбелью принца почти с того самого момента, как он помнил себя. В полной красе весну можно видеть только там, где сосновые леса на холмах соприкасаются с крутыми отвесными скалами гор, только там, где расщедрившаяся природа понатыкала в свое платье, словно измарагды и сапфиры, ясные горные озера. В последние недели этого теплого апреля из пышных зеленых лугов вышли, словно по волшебству, тысячи цветов. На всех возвышенностях, во всех ложбинках все было покрыто темно-синим ковром.
Ближайшие окрестности старого, перестроенного ныне уже покойным герцогом романтического замка Гогенарбурга были любимым местом наследника. Тут был луг, окруженный темными елями и стройными лиственницами. На нем раньше всего весной появлялись незабудки. И в нынешнем году они раскинулись перед его взором, словно голубая королевская мантия. От них глаз переходил на средневековую постройку замка Гогенарбурга, который был отведен для житья ему, его воспитателям и адъютантам, а затем на отвесные, еще покрытые снегом отроги высоких гор. Отсюда открывался дивный вид на дикую горную долину, через которую проложил себе путь бурный горный поток, и на отвесную меловую скалу, которая внезапно подымалась на краю равнины, словно какой-то носитель королевской мысли. Справа и слева в глубине у ее ног лежали два небольших горных озера, одно зеленое, словно смарагд, другое — светло-голубое, как драгоценный сапфир. В своих мечтах Альфред называл их драгоценными камнями своей герцогской короны. Над крутыми меловыми скалами кружился могучий горный орел, носились неверным полетом соколы, а в тишине ночей раздавалось уханье сыча.
Таков был мир эрцгерцога Альфреда.
Великолепную столицу, резиденцию своего отца, из которого этот одаренный художественным вкусом герцог и его предки создали красивейший город в Европе, он видел в своей жизни самое большое два-три раза. Редко посещал его и отец в его уединении. Мать он едва помнил. Его не тянуло к шумной жизни Кронбурга. Уединение его лесного замка, словно какой-то волшебник, захватило самую глубину его внутренней жизни.
Он никогда не скучал. Целыми часами он мечтал и смотрел в даль. Его сильная, развитая чтением фантазия создавала целый новый мир среди этих скал и гор, и мысль о короне, которую он призван когда-нибудь носить, порождала в его сердце удивительное сновидение.
Он, государь этих гор и озер, герцог столицы и этой равнины. Когда ему было шестнадцать или семнадцать лет, он читал со своим профессором латинского языка «Анналы» Тацита и картины из жизни древних римлян Светония. Виллы патрициев в Байях и Тибуре, здания на Палатинском холме, золотой дом Нерона, сады Цезаря — все это оживало в его творческой фантазии и принимало гигантские размеры. Он был художник и творец, гений мысли и дела, и сам не догадывался об этом.
Держа в руках «Илиаду» Гомера, он лежал в золотых лучах этого весеннего полудня на траве своего луга, прикрытый плащом из голубого бархата, который он велел сам приготовить для себя. Он читал ту песню, где Гефест кует оружие для Ахилла.
Вдруг Альфред очнулся от сонма мифологических образов.
Около него стоял, затаив дыхание, его адъютант фон Ласфельд.
— Ваше высочество, — начал он. — Во дворец прибыла депутация от министерства с министром-президентом Бауманном фон Брандтом во главе. Очевидно, речь идет об очень важном государственном деле.
— Просите их сюда, Ласфельд.
— Простите, ваше высочество, депутация от министерства с министром-президентом во главе, повторил Ласфельд. — Если ваше высочество не желает навлечь неудовольствие вашего отца…
— Поэтому ведите их сюда. Я вам приказываю, Ласфельд.
— Повинуюсь приказанию.
Ласфельд удалился.
Альфред встал с высокой травы, отшвырнул от себя книгу и стал ходить взад и вперед беспокойными шагами. Какое-то внезапное предчувствие как будто подсказало ему, какую весть должна была передать ему депутация из Кронбурга. Голубой плащ широкими складками закутывал его стройную фигуру. В его глазах изредка вспыхивал огонек. Узкой красивой рукой он беспокойно гладил свои густые каштановые вьющиеся волосы.
Ждать ему пришлось минут пять.
Наконец показалась депутация. Фрейлинг и Бауманн фон Брандт были в министерских мундирах, фон Дурбах в полной генеральской форме, в шляпе с перьями. Уже издали эрцгерцог заметил на них траур.
Министр-президент остановился перед ним и низко поклонился. Затем послышался его голос:
— Ваше высочество, мы явились сюда лично, чтобы сообщить вам о внезапной кончине августейшего вашего родителя, последовавшей сегодня утром. Мы первые всеподданнейше приветствуем ваше высочество, как нового носителя герцогской короны, и слагаем с себя должности, вверенные нам вашим августейшим родителем.
После этих слов министра-президента водворилась глубокая тишина. И вдруг дрожь прошла по стройному, как ель, телу эрцгерцога, слезы брызнули у него из глаз, но он быстро овладел собою.
— Заверяю вас, господа, в моем герцогском благоволении к вам. Прошу вас всех помочь мне в моей тяжелой задаче, как вы помогали моему покойному отцу, и возвращаю портфели вам обратно. Я сегодня же отдам приказание о сформировании нового кабинета, того же самого, который был при отце, и в полночь прибуду в Кронбург.
Альфред выпрямился во весь свой рост. Он был выше Бауманна почти на целую голову, и теперь министр-президент в первый раз смотрел на него снизу вверх. Давно, с самого дня конфирмации в дворцовой церкви не видал он наследного принца. И теперь на лесном лугу, усеянном цветами, на фоне блестящих озер и могучих гор, в голубом плаще, обвивавшем его, как королевская мантия, он казался чем-то чудесным, и он впервые почувствовал, что этот юноша, которого он всегда так боялся, произвел на него сильное впечатление. В его больших черных глазах Бауманну показалось что-то загадочное, словно ночь, а от высокого бледного чела веяло чистотою вечных снегов. Эти брови словно были нарисованы рукою самого Рафаэля. Бауманн фон Брандт внезапно вспомнил о мадонне Рафаэля, которую он видел, когда несколько лет тому назад сопровождал покойного герцога во Флоренцию. Какие загадки таились в этих глазах, за этим высоким бледным челом?
Не успел Брандт очнуться, как его новый государь милостивым движением руки дал знак, что они могут удалиться.
Депутация тронулась в обратный путь.
«Носитель короны», — раздавалось в сердце Альфреда. Он завернулся в свой плащ, словно в пурпуровую королевскую мантию, и вдруг задрожал, словно охваченный морозом.
II
На торжественном заседании герцог Альфред принес присягу на верность конституции. Государственный совет и министерство его отца остались на месте. Первое облачко, показавшееся было после внезапной смерти герцога Бернгарда на горизонте министра-президента, теперь исчезло. Во дворе казарм войско было приведено к присяге. Великолепные улицы Кронбурга превратились в лес траурных флагов. Все то, что покойный герцог презирал при жизни, воздавалось ему теперь по приказанию его сына: блеск и пышность, какой уже давно не видала герцогская столица.
По высочайшему повелению герцога Альфреда, тело почившего было перенесено в дворцовую церковь. Стены капеллы, в которой на высоком катафалке был поставлен великолепный металлический гроб, были обиты черным сукном. Над алтарем высилось белое распятие, обвитое черным флером. Под сводами церкви был раскинут пурпурный балдахин. На вершине его красовалась герцогская корона, а с боков свисали длинные, в несколько метров черные ленты. Середина церкви напоминала индийский лес пальм, белые розы в изобилии вились около всех колонн. Вокруг тела герцога стояло пятьдесят серебряных подсвечников. Тысячи свечей заливали церковь ярким светом.
На горностаевом плаще покоилась усталая голова Бернгарда, и белый мех блестящими складками спускался до самого низа. Усопший лежал с великолепной лентой высшего ордена на шее, в левой его руке был старинный меч, в правой букет цветов, вложенный одним из сыновей герцога. Дежурство около гроба несли придворные чины и офицеры герцогской гвардии. Неподвижно, словно высеченные из мрамора, стояли в головах и у ног три гвардейца в белых мундирах с голубыми доломанами.
Звон колоколов несся со всех колоколен церквей. Казалось, все население страны в этот день высыпало на улицы Кронбурга, чтобы видеть похороны герцога и посмотреть на него, молодого герцога, о котором рассказывали такие удивительные вещи. Тысячи людей заполнили улицы.
Любопытство их и страсть к зрелищам были наконец удовлетворены. Колокольный звон и рокот барабанов возвестили столице, что собравшаяся по повелению молодого герцога процессия тронулась в путь. Ее открывали лакеи в красных ливреях, с горящими факелами в руках. За ними двигались духовные ордена и братства, ученики столичных школ, придворные чиновники, духовенство. По древнему церемониалу в качестве носильщиков шли пятьдесят закутанных в мантии человек с закрытыми лицами и с факелами в руках. Перед погребальной колесницей шел двор герцога Бернгарда. Покрытые черным лошади везли исчезавший под грудой венков гроб. А за колесницей, опустя голову, шел молодой герцог. Он шел один, ни одного человека не было около него. Не было даже герцога Филиппа, его ближайшего родственника, не было и высоких сановников государства.
Он был в мундире своего гвардейского полка, с высоким в герцогстве орденом. Странно было, что поверх этого мундира развевался голубой плащ, который он упрямо не хотел снять, несмотря на все представления, и в который он как будто хотел укрыться от всех, кто к нему приближался.
Все взоры были обращены на этого юношу с фигурой Аполлона, все лица поворачивались к нему, матери и отцы подымали своих детей, чтобы показать им его, и по траурным улицам тысячи голосов повторяли:
— Вот он! Вот он!
Альфред шел с опущенной головой, не отводя взора от ехавшей впереди него траурной колесницы.
Усеявшие улицы зрители уже почти не замечали блестящего конца пышной похоронной процессии — министров и чиновников, членов совета и депутатов, иностранных послов и войск кронбургского гарнизона. Глаза неизменно следили за высокой фигурой молодого герцога, которого так редко видели в столице и который вдруг явился из своего уединения среди гор, чтобы осчастливить свой народ.
Начало процессии уже достигло главного собора. При входе встретил тело усопшего государя архиепископ кронбургский. Пятьдесят закутанных в мантии фигур сняли гроб с колесницы, приняли умершего герцога в свою среду и внесли его смертные останки под своды собора. При пении 90-го псалма сошел герцог Бернгард в склеп, где покоились его предки.
Погрузившись в молитву, герцог Альфред стоял на коленях.
Надгробная плита задвинулась над могилой его отца. Он поднялся наконец. Сквозь готическое окно собора врывался свет весеннего солнца, смягчаемый темно-красными стеклами, на которых было изображено распятие. Лучи солнца играли на каштановых волосах юноши, как будто стараясь сплестись для него в диадему.
Герцог вышел из церкви, вызывая всеобщее изумление, словно какое-то чудесное видение.
Министр-президент настойчиво просил у него аудиенции после погребения. Альфред должен быть настроен тогда мягче. Торжественные похороны сильно потрясли его романтическую душу. Перед порталом собора он сам подошел к министру и, протянув ему руку, сказал:
— Милейший Брандт, — начал он, — вы хотели…
Опытный дипломат замер в почтительной позе.
Альфред сел в экипаж и движением руки пригласил министра-президента ехать с ним.
— Вы можете, любезный Брандт, дорогой…
— Милостивое внимание вашего высочества облегчает мне задачу, — отвечал он.
И пока экипаж ехал по улицам столицы, министр приступил к делу.
— Рискуя навлечь на себя немилость вашего высочества, я должен сделать шаг, который, может быть, не встретит полного сочувствия вашего высочества.
— Какой шаг?
— Я вызвал в столицу его светлость князя Филиппа.
— Как вызвали?
— Вашему высочеству, быть может, не известно, что уже несколько лет тому назад, когда вы были еще мальчиком, князь Филипп был отправлен в ссылку вашим августейшим родителем.
— В ссылку? И вы мне говорите об этом только теперь?
— Я не мог поступить иначе. Его высочество герцог, конечно, простил бы его, если б его не постигла внезапная смерть.
— В чем же состояла вина моего родственника?
— В том, что он женился на актрисе, и это сделало его пребывание при дворе невозможным. Но этот брак давно уже расторгнут. Его высочество, ваш покойный родитель, не желал, чтобы князь Филипп особенно пострадал за это.
Он запретил ему жить в Кронбурге, на что ему давали право законы о царствующей фамилии.
— Я подумаю об этом. Но преждевременный вызов князя без моего согласия…
Какой-то недобрый огонек показался в глазах Альфреда.
Он нажал на пуговку звонка, карета остановилась.
— Я не задерживаю вас долее, — коротко сказал он.
И, как бы извиняясь, прибавил:
— Отсюда до министерства финансов два шага.
Сильная борьба поднялась в его сердце. Его власть была оскорблена. Хитрый старик думал провести его, как маленького мальчика, он, который только по его милости и остался министром-президентом. Как могли скрывать от него, что князь Филипп впал в немилость, и призывать его в столицу сейчас же после смерти отца, даже не спросив его согласия. Да, не знает еще этот министр-президент, с кем ему придется иметь дело. Но он почувствует это!
Карета обогнула подъезд герцогского дворца. На флагштоке гордого здания высоко реял герцогский штандарт. Часовые стояли с ружьями.
Медленно и задумчиво поднялся Альфред по лестнице. Первые дни он работал в кабинете своего отца. Его гнев на министра-президента прошел. Он сел в разукрашенное золотом кресло покойного герцога Бернгарда и перечел бумаги, которые для него по его приказанию приготовил его адъютант Ласфельд. Первым ему попал в руки обычный указ об амнистии, приготовленный министром-президентом. Он собственноручно сделал исправления, которые казались ему нужными, расширил указ.
Получили помилование вообще все, кто был приговорен к заключению на один год, а не только те, которые совершили преступления против короны, как проектировал министр-президент. Освобождение их должно было последовать немедленно. Сделав эти исправления, он подписал бумагу: Альфред.
Какой-то странный размах чувствовался в этом имени. Словно воля, превратившаяся в материю, стояли эти большие прямые буквы. Выдавался и энергичный росчерк, как бы свидетельствуя о непреклонной решимости.
На звон серебряного колокольчика, которым всегда пользовался его отец, явился дежуривший возле кабинета лакей.
— Позовите фон Ласфельда, — сказал Альфред.
Тот немедленно явился.
— Ласфельд?
— Что прикажете?
— Поезжайте сейчас к князю Филиппу. Я буду ждать его. Сейчас же.
— Слушаю.
Альфред поднялся и прошелся по комнате. Потом он пошел по бесконечной анфиладе герцогского дворца.
— Все должно остаться по-старому, — говорил он про себя, — все.
Он вернулся в кабинет.
— Гофмаршала!
— Его сиятельство граф Штор ожидает приказаний вашего высочества в приемной.
— Пусть войдет.
Граф Штор явился.
— Любезный граф, — начал Альфред. — Апартаменты моего покойного отца должны остаться без всяких изменений. Позаботьтесь о том, чтобы приготовить для меня другое жилище.
— Ваше высочество изволите…
— Разве вы не слышали: другое жилище.
— Если вашему высочеству апартаменты вашего покойного родителя…
— Есть еще какое-нибудь место в столице?
— В северном флигеле.
— Отправляйтесь туда.
— Сейчас же?
— Сию же минуту. Идем.
В сопровождении герцога граф Штор двинулся по бесконечным комнатам замка. Наконец они достигли северного флигеля. Граф Штор приказал едва нагнавшему их сторожу отворить его. Альфред прошел несколько великолепных зал. Они были слишком велики и роскошны для покойного герцога, эти постройки прадеда Иоахима, слывшего самым расточительным из князей. В большой зеркальной зале Альфред остановился.
— Это мне не нравится. Комнаты очень хороши, но все это должно быть иначе. За сколько времени вы могли бы переделать все это?
— Это зависит от того, какие будут приказания вашего высочества.
— Нужен другой стиль. Рококо. Понимаете, рококо. Я дам вам рисунки, которые я сделал сам… Можете управиться за неделю?
— Я должен сначала посмотреть рисунки, ваше высочество.
— Я хочу, чтобы вы управились. Я так хочу!
— Слушаю, ваше высочество.
— Я пошлю рисунки прямо в гофмаршальскую часть.
Альфред подошел к высокому окну.
— Вид отсюда хорош. Как вы думаете, можно в этом флигеле устроить зимний сад?
— Полагаю, что можно, — в большой зале.
— Зимний сад, с озером. Я не могу расстаться с моими озерами.
Граф Штор изумленно посмотрел на герцога.
— Что вы на меня так глядите? — спросил Альфред и отвернулся, как будто бы ему не под силу было переносить человеческие взоры.
— Да, с озером, а вокруг него пальмовый лес. Вы понимаете меня или вы туги на понимание?
— Я вас вполне понимаю, ваше высочество, — пробормотал граф Штор.
— Итак, через неделю. Уведомьте придворную оранжерею. А теперь ведите меня назад.
Граф молча повиновался.
— Я сегодня вернусь в Гогенарбург. Когда все будет приведено в порядок, вы мне доложите.
— Слушаю, ваше высочество.
На пороге кабинета Альфред столкнулся с князем Филиппом, который поклонился ему чуть не до земли.
— Входи, — услышал он ясный голос своего племянника.
Филипп последовал приглашению.
— Мы решили, чтобы солнце нашей герцогской милости воссияло и над тобой.
Эти слова как-то радостно звучали в устах Альфреда. Он обнял дядю и порывисто поцеловал его в обе щеки.
III
Обычный траур был продлен Альфредом, «чтобы особо почтить память моего усопшего родителя», как сказано было в собственноручно написанном указе. Народ, особенно жители веселого Кронбурга, роптали.
Но это ни к чему не привело. Герцог был глух ко всем намекам министров и чинов двора. Он жалел о своем отце, и его народ, с которым он связан чувствами, должен испытывать то же самое.
Блестящие покои северного флигеля были приведены в порядок. Это продолжалось недели и месяцы. В первые дни из Гогенарбурга в столицу каждый день летели депеши и курьеры. Потом Альфред избрал в качестве летней резиденции замок Турн, находившийся недалеко от столицы. Отсюда правил он первое время. Благодаря быстрой рыси его лошадей, которых меняли трижды во время пути, он мог доезжать до столицы за два с небольшим часа. Таким образом, суета оживленной улицы герцога Бернгарда в самом центре столицы чередовалась для него с видами на великолепное голубое озеро, омывавшее стены его замка. Но чаще бывало так, что в замок призывались высшие чины двора и министры. Бауманн фон Брандт про себя проклинал капризы молодого герцога, который вздумал управлять, не показываясь в свою столицу.
Но министру-президенту и высшим сановникам пришлось пережить в эти первые месяцы нового правления нечто еще более удивительное. Альфред входил во все мелочи, во все подробности докладов, чего никогда не бывало прежде. У чиновников всех ведомств оказались теперь полны руки работы, чтобы исполнять все приказания молодого герцога и удовлетворять всем его желаниям.
До поздней ночи работал телеграф между замком, министерствами и другими главными управлениями. У Альфреда была странная привычка рассматривать все государственные дела в те тихие часы, когда все живущее покоится во сне. В круглом окне маленького замка в ночной тиши падал мягкий свет лампы на тихое озеро и на горный ландшафт, озаренный волшебным светом луны. Там сидел одинокий юноша и руководил, как ему подсказывала его фантазия, судьбами целого народа.
Часто среди глубокой ночи герцогский экипаж вдруг останавливался перед зданием министерства финансов в Кронбурге, и Бауманн фон Брандт, согласно приказу, должен был совершать ночную поездку в замок. И всемогущий когда-то министр подчинялся капризам своего нового, юного государя. Он боялся, как бы бразды правления не попали в другие руки.
Во время таких ночных аудиенций, которые герцог давал не только ему, но и другим в угловой комнате своего замка, уединенного и почти неприветливого, он с удивлением присматривался к внутреннему миру этого преждевременно созревшего юноши, как он называл его, который вдруг стал на его глазах выдающимся человеком.
«Как это делал мой отец», — таков был обычный в первые недели ответ Альфреда, но уже месяца через два-три все переменилось. Самостоятельность овладела юным монархом, и приказания и распоряжения министра-президента нередко возвращались к нему перечеркнутые каким-нибудь одним словом Альфреда, чего никогда не бывало при герцоге Бернгарде.
«Невозможно», «не следует», «необходимо изменить сообразно моим предположениям», — читал он на полях объемистых докладов, на добросовестную разработку которых ушло несколько недель.
Острый взгляд Альфреда, меткие суждения, сказочная память, энергия и редкий дар схватывать во всем самое важное — все это не только удивляло, но просто пугало не только министра-президента, но и всех окружающих.
Мелочи, которые можно было разрешить в одну минуту, с молодым герцогом обсуждались часами; он хотел быть осведомленным во всем. Наоборот, законопроекты, требовавшие со стороны государства больших финансовых жертв, разрешались им немедленно, начертанием неизменного «согласен».
«Прошу не представлять мне всякие мелочи относительно благотворительности и жалованья чиновникам, находящимся на моей службе», — гласила отметка, сделанная на полях бумаги с указанием расходов на содержание герцогского двора.
Наконец двор окончательно был перенесен в Кронбург. В октябре праздновался традиционный народный праздник. Его справляли за городскими воротами, на огромном луге, под защитой колоссальной фигуры, которая в образе гигантской женщины воплощала величие герцогства.
В первый раз со дня погребения своего отца показался герцог народу. Теперь он был совсем другой. Его темные глаза на этот раз сияли радостью. Он смешался с народом, а при раздаче призов собственноручно раздавал их крестьянам.
Вечером этого дня Альфред впервые после восшествия на престол отправился в театр.
Ночью директор театров барон Глаубах был вызван к герцогу.
— Любезный барон, — начал Альфред. — Сегодняшнее представление мне не понравилось. Все это были кулисы. Не было правды, не было природы.
Старый барон с горечью покачал головой. Он побледнел. Он заколебался на своем видном посту, которого при герцоге Бернгарде никто не решался оспаривать у него.
— Ваше высочество, — забормотал он смущенно…
— Садитесь, барон, — снова заговорил Альфред. — Я попросил бы вас доложить мне о новых пьесах, принятых для театра. Если что-нибудь можно устроить сегодня ночью…
— Ваше высочество…
— У меня есть идея, есть настроение, чувство того, чем должна быть придворная сцена. Все эти образы и тона нечто совершенно другое, чем то, что я видел сегодня в театре.
— Ваше высочество, — снова забормотал директор.
Но Альфред не дал ему говорить.
— Нужно вообразить, любезный барон, что где-нибудь в отдаленной земле живет гений, что… Вы понимаете меня?
— Простите, ваше высочество, я не понимаю вас.
— Пойдемте.
Директор пошел за герцогом. С изумлением останавливался его взор на анфиладе раззолоченных апартаментов, которые были отделаны по рисункам герцога, и которые он ревниво скрывал от постороннего взгляда.
Лазурь, золото и белый цвет — вот любимые цвета герцога, которые повторяются здесь с самыми разнообразными оттенками.
В изумлении следовал барон Глаубах за герцогом.
Альфред обернулся.
— Вот как я себе представляю все это, барон, золото, лазурь и белый цвет. Взгляните на эту чернильницу из одного куска лапис-лазури, которая стоит на мраморном столике в углу. Я не употребляю ее, она слишком хороша.
Он на минуту остановился перед столиком, взял в руки восхитивший его предмет и показал его барону.
Оба пошли дальше и приблизились к аллее из каких-то японских растений.
— Эта аллея ведет в мое сокровенное убежище, любезный барон. Никто еще не ходил по ней. Но вы должны видеть его, чтобы почувствовать, чем должна быть сцена.
Альфред нажал кнопку, находившуюся сбоку аллеи, и открыл дверь. Крик изумления вырвался у директора.
— Это уже не театр, это правда, это сама природа, красота, облекшаяся в кровь и плоть, — говорил Альфред.
Перед взорами барона лежало тихое кристально-чистое озеро, освещенное мягким светом искусственной луны. На берегах его высились пальмы, а на поверхности скользил маленький челнок в образе дельфина.
— Вот как я представляю себе сцену, любезный барон. В далекой, далекой стране надо отыскать гения, художника, который мог бы осуществить мой сон! Эту рощу должны оглашать никогда не слыханные мелодии, в этих кустах должны петь невиданные птицы, как те вольные пташки в моих горах над Гогенарбургом, и в чудесах красоты должны сливаться воедино все люди — душою и телом. Вот как я представляю себе сцену, барон! Назовите мне имя того гения, который может превратить этот сон в действительность. Я награжу его золотом, он будет моим другом, моим братом. Но пусть не будет больше таких представлений, как сегодня вечером. Не думаете ли, что такой гений где-нибудь дремлет и ждет меня?
— Не знаю, ваше высочество.
— Вы, конечно, не знаете. Пусть мне принесут рукописи пьес. Я заставлю играть их здесь, в роще, и открою художника, который может осуществить мои сны.
— Ваше высочество, в Париже недавно освистали оперу, написанную таким пионером в области красоты.
— А мне об этом ничего не сказали! Закрыли для такой оперы двери моего театра! Почему? У вас есть партитура этой оперы? Нет ли у вас другой какой-нибудь оперы этого, как вы его называете, пионера в области красоты?
— Он сам выдает себя за такого пионера, ваше высочество. Только будущее покажет, действительно ли он пионер.
— Как будто будущее может что-нибудь показать, если мир оставит погибать с голоду великого художника! Я думал, что вы больше понимаете дело. Итак, оперы этого гения покоятся в вашем письменном столе?
— Никак нет, ваше высочество. В царствование вашего отца, когда ваше высочество изволили жить еще в Гогенарбурге, я решился сделать попытку. Я велел разучить одну из опер этого композитора и поставить ее. Ее давали раза два-три. Но эта опера не понравилась ни двору, ни публике. Рецензенты напали на музыку и разнесли ее. Гения встретили насмешками, и я уже не решился на второй опыт.
Альфред вперил свои блестящие глаза в барона Глаубаха и сказал:
— Я приказываю, барон, чтобы эта опера немедленно была возобновлена в репертуаре. Впрочем, нет, подождите!
Альфред с минуту подумал.
— Я хочу видеть эту оперу один. Понимаете, совершенно один. Когда это можно сделать? Сегодня еще не поздно?
— Сегодня немыслимо, положительно немыслимо, ваше высочество. Но достаточно будет двух-трех репетиций. Я ставил эту оперу прошлую зиму. Вашему высочеству нужно будет назначить день на будущей неделе.
— Не день, а ночь, — перебил Альфред. — Если люди ничего не понимают в этом герое, пионере красоты, если они осмеяли его, то я хочу слышать его оперу. Вы дадите ее как можно скорее. В одну из ближайших ночей на будущей неделе. Для одного меня. Поняли?
— Слушаю.
— Вы свободны.
Альфред милостиво проводил барона фон Глаубаха через волшебно освещенную рощу, мимо озера, в свои покои.
В эту ночь герцог не смыкал глаз. Беспокойно ворочался он на нежном пуху своей парадной постели.
— Ах, если б он оказался художником моих снов, — громко говорил он сам с собою.
Спальня была озарена голубым огнем. Альфред набросал рисунок этой комнаты давно, когда был еще мальчиком. Потолок представлял звездное небо. Тихим блеском светились сотни звезд. Яркий свет искусственной луны падал на герцогскую постель. Он впускался в эту единственную в своем роде спальню при помощи особого хитроумно придуманного аппарата.
Альфред оперся пылающей головой на руку.
— Ах, если б он оказался долгожданным Мессией! Исполнителем моих снов, огненным столпом на темной дороге моей юности! Избавителем от мук! Тантал, Тантал! — говорил он сам с собой.
Как будто какое-то просветление спустилось на его лицо.
Очами своей пылкой фантазии он хотел увидеть исполнение того, чего еще не выразил ни один художник ни словом, ни кистью, ни резцом, не выразил потому, что то, что таил в своей душе герцог Альфред, превышало человеческие силы.
IV
В театральных кругах Кронбурга царило большое возбуждение. Произошло нечто небывалое в истории сцены. Огромный оркестр, хор и артисты получили приказание собраться ночью для исполнения оперы, отвергнутой публикой и специалистами.
«По повелению его высочества» — стояло на извещении директора театра. Все усилия получить билет на это представление остались тщетны. Барон Глаубах напустил на себя могильное молчание. Театральные чиновники нашептывали друг другу о принцессе, которую никто не видал и которую никто не знал по имени и для которой будто бы давалось это представление.
«Представление начнется в половине первого ночи» — стояло на извещении, которое было разослано только участвующим.
Огромное здание театра, непосредственно примыкающее к дворцу, было освещено, как днем, «торжественно», как говорится в официальных отчетах по случаю приема каких-нибудь высоких гостей. На сцене все уже было готово. До половины первого оставалось всего три минуты.
Глубокая тишина царила внутри театра. В огромных залах, с которыми может сравняться разве парижская опера, не было ни души.
Ровно в половине первого барон Глаубах дал знак начинать представление. Оркестр заиграл. Великолепная театральная зала погрузилась в полумрак. Дверь ложи, находящейся в середине, отворилась, и странная фигура молодого герцога, словно тень, вошла в зиявшее пустое пространство.
Занавес поднялся.
Сцена представляла уходящую вдаль долину реки, покрытую лесом.
На заднем плане струился серебряный поток, освещенный яркими лучами солнца. Под могучим дубом стояла высокая стройная фигура князя в средневековом одеянии. Его окружала его дружина. Он как будто собирался творить суд и расправу. Перед ним стоял отряд рыцарей под предводительством человека в черных доспехах. Рядом с ним была женщина. Громко звучит военный клич, гулко гремят трубы в пустом тихом зале.
Черный рыцарь выступает вперед и заявляет свою жалобу.
Появляется девушка чудной красоты, в белом платье, с длинными белокурыми косами, которые обвивают ее голову, словно солнечная корона.
Как очарованный, прислушивается одинокий юноша в ложе.
Его черные глаза не отрываются от этого чарующего видения. Какой-то сладкий трепет проходит по его жилам, когда до него доходит мягкий и чистый, как звон колокольчиков, голос певицы.
Вдруг глаза всех действующих лиц обращаются в глубину сцены. На блещущей серебром реке показывается белоснежный лебедь, который на золотых цепях везет за собою челнок, а на нем стоит белый рыцарь, словно пришелец из какого-то другого мира. Серебряное вооружение, серебряный шлем, серебряный меч, только рог, который он носит у пояса, из золота.
Юноша в ложе срывается со своего места. Словно молния пронизывает его. Он перевешивается через барьер и ушами, и глазами впивается в сказочное видение. Ему кажется, что все то, о чем он до сего времени мечтал, ничто в сравнений с тем, кто приближается теперь по сцене, с этим защитником невинности, преследуемой с дьявольской хитростью, отцом народа и страны, спустившимся с недосягаемой высоты, избранным посланником неба… как и он сам, пришедший в герцогскую столицу с уединенных чистых высот Гогенарбурга для того, чтобы осчастливить народ и защищать преследуемую невинность.
Он плачет. Он потрясен. Его сердце стучит сильно, а тело дрожит. Он ужасается величию того, что стало плотью и кровью, ибо в образе рыцаря с лебедем он увидел самого себя перед важнейшею своею задачей.
Его глаза расширяются. Он уже забывает о театре и не знает, где он находится. Он слушает и смотрит.
Вот черный рыцарь опять на сцене. О, как он ненавидит его. «Бауманн фон Брандт», — проносится у него в голове, — его министр-президент, в котором он прозревает непримиримого врага, разрушителя его фантазий и планов. Но это только один момент. Дальше он уже улыбается гордой улыбкой победителя.
Серебряный рыцарь поверг в прах черного.
Силы тьмы побеждены, покорены свету чистоты и невинности божественного посланника, благость которого дарует жизнь даже врагу.
Странная, торжественная, огненная фраза пронзает его: «Ты не должна меня спрашивать никогда».
Упал занавес. В театре водворилась мертвая тишина.
Без антракта начинается второй акт. Юноша в ложе сжимает кулаки; козни черного рыцаря и его жены грозят гибелью светлому. Глубокий и тяжелый вздох сотрясает его молодое тело.
Она, даже она сомневается в нем, в его божественном послании, задает запрещенный вопрос, разрушает тайну, срывает окружающее его сияние, прикасается грубой человеческой рукой к его доспехам, золотому рогу и белым лебедям!
Юноша закрывает свои большие черные глаза и плачет. Шиллер, которого он так часто перечитывал в своем уединении в Гогенарбурге, Шиллер вспоминается ему, когда падает занавес после второго акта. Губы его дрожат. Он видит, как исчезают белые лебеди Грааля.
Его била лихорадка. Долго и без движения сидел он, когда представление уже кончилось. Он как-то забыл даже имя самого творца этой оперы.
Наконец он как будто очнулся от сна. Это он, чистый и неприкосновенный таинственный посланец небес, к которому не может никто обращаться с вопросом.
Он поднялся с места, гордый и царственный.
В ложу был позван барон Глаубах.
— Знаете ли вы, где живет человек, создавший эту… эту чудную вещь? — проговорил герцог.
— Конечно, ваше высочество.
— Спешите, телеграфируйте, что я хочу видеть его завтра. Слышите, барон, завтра же. Я хочу наградить его по-королевски. Я благодарен ему на всю жизнь за эти часы.
— Слушаю. Как будет угодно вашему высочеству.
— Завтра же он должен быть здесь, понимаете… Я не отпущу его, этого волшебника в царстве красоты, создавшего такую вещь. А вы, барон, возьмите вот это на память о сегодняшнем вечере.
Альфред снял с пальца драгоценное кольцо.
— Я всегда носил этот сапфир. Он такого же голубого цвета, как цветы моих лугов. Он прозрачен, как горный поток у подножья Гогенарбурга. Глядя на этот перстень, вы должны вспоминать обо мне, освобождающем искусство от унижения. Позвольте мне самому надеть вам этот перстень и поблагодарить вас за эти часы.
Барон Глаубах не знал, что делать. Как человек, строго соблюдавший придворные церемонии, он не смел высказаться при таком бурном излиянии чувств своего государя.
Он подчинился молча. Взял перстень и позволил герцогу надеть его себе на палец. Альфред заключил его в свои объятия и порывисто поцеловал.
— Барон, завтра я должен видеть и слышать этого художника. Переживу ли я эти часы, которые отделяют меня от утра? Благодарите его от моего имени. Я хочу… Да, так. Я подарю ему серебряные доспехи. Я сейчас закажу для него серебряный шлем с лебедем.
Альфред поднялся и пошел вниз по освещенной, как день, лестнице и исчез в своем дворце.
Когда он дошел до своих апартаментов, камердинер доложил, что холодный ужин готов.
— Не хочу, мой друг, — отвечал юный герцог.
Он скрылся в аллее. Когда он вступил в свой зимний сад, вспыхнули огни, цветы стали испускать свой бальзамический запах. Большие белые розы тихо склонялись к водам искусственного озера. Альфред сел в челнок и неслышными легкими ударами весел он был уже на середине озера. Тут он выпрямился во весь свой рост. Из ясных вод в блеске искусственного солнца глянул ему навстречу его собственный образ. Здесь впервые он представил себя, тем рыцарем с лебедем.
V
Через три дня маэстро и герцог встретились.
Телеграмма Глаубаха осталась без ответа. Альфред не находил себе места. Он приказал своему секретарю Винтереру отыскать творца оперы и немедленно привезти его во дворец.
Благодаря своему красноречию, Винтереру удалось уговорить этого уже ожесточенного, порвавшего с миром человека, и он поехал с ним.
В роскошный кабинет Альфреда вошел человек лет пятидесяти, скорее невзрачный, чем представительный.
По лицу герцога скользнуло легкое разочарование, когда он впервые увидел этого воплотителя своих смелых мечтаний. Эпитет «божественный», с которым он хотел обратиться к нему, замер на его губах.
Но, взглянув в эти чудные голубые глаза, он быстро оживился. Это как будто из мрамора выточенное лицо, смело выгнутый нос, блеск его глаз, нервное подергивание нежных рук, волосы, в изобилии ниспадавшие на слишком широкий лоб, — все это придавало маэстро вид чего-то необычайного. Этому способствовала и одежда, в которой он предстал перед герцогом.
На нем была бархатная куртка, в руках он держал бархатный берет, который по своей форме напоминал береты, встречающиеся на картинах Рембрандта.
— Как мне назвать тебя, — послышался голос Альфреда, — маэстро, брат, родственная душа, творец Тангейзера? Я призвал тебя сюда, чтобы поблагодарить тебя, разрешителя души моей, проводника к солнечному свету.
— Ваше высочество, — смущенно заговорил маэстро, — этот поток милостей, который с первых же слов… на мою слабую голову.
— Нет, нет! — перебил его Альфред. — Не то, единственный. Ты брат мой, по которому давно томилась душа моя. Оставайся при мне, при моем дворе, дай мне руку, веди меня на вершину, где звучит гармония твоей души! Хочешь?
— Меня не поняли, — с горечью отвечал маэстро. — С моей головы сорвали едва завоеванный венец, меня осмеяли вместе с моим творением. Бедность, скудость, ожесточение, голод и домашние невзгоды были единственными спутниками моего тернистого пути. Высоко, выше, чем когда-нибудь, носится в облаках венок, к которому тянутся мои дрожащие руки и который я никогда, никогда не достану.
— Ты уже достал его, ты уже держишь его в руках, — воскликнул с одушевлением Альфред. — Эта диадема прекраснее всех королевских корон в мире. Будь моим, будь мне вождем и руководителем! Хочешь?
Дрожь пробежала по телу маэстро.
— Если бы я мог уверовать, что в вас, герцог, я нашел избранного… Я не подберу выражений… Знатока моего искусства… искусства будущего, о котором я мечтаю… Рыцарь с лебедем лишь предвестник его, лишь предчувствие, а не завершение того, что я чувствую, слышу в храме этого нового искусства…
— Предвестники, предчувствия… как… как же это? Говори, маэстро, объясни мне, поделись со мной, объясни, что же это за искусство будущего?
— Если бы я даже владел потоком речи и силою слов, то и тогда я не мог бы этого, герцог. Все слова — ничто в сравнении с бушующим морем звуков, которые дрожат в моей душе, ничто в сравнении с тем бездонным чувством высшего счастья и глубокой скорби в моей груди. Я вижу колеблющиеся образы, которые я не смею схватить, от которых я отступаю и к которым я денно и нощно стремлюсь. И тогда-то, герцог, познаю я тщету наших человеческих способностей, бессилие мира и театра воплотить все это в кровь и плоть и представить перед восхищенными глазами. Но это фата-моргана, за которую я хватаюсь и с которой я падаю в пропасть. Я лежу в пустыне, в сухом песке и со стоном умоляю о глотке воды, который мне никто не дает. В своем горячечном сне я вижу великий сон, недостижимую картину. Храм, в котором осуществится эта музыка будущего. Что значат все наши театры в сравнении с этим храмом. Театр! Противное слово, обозначающее как раз противоположное тому, о чем я мечтаю…
— Чего ты хочешь? В моей, герцога, власти создать для тебя то, что ты хочешь. Только говори, говори дальше.
Долго маэстро молчал.
Наконец он отвечал печально:
— Ваше высочество, я не верю, чтобы то, что я хочу создать, было во власти человека, хотя бы он был и герцогом.
— Почему же нельзя? — раздался бесконечно гордый голос Альфреда.
— В ваши годы я сам так думал, но время, жизнь и свет научили меня другому. Я хотел достичь самого могучего, долететь до самого далекого — и вот я лежу теперь во прахе, как Икар, разбившийся о скалы греческого моря.
— Ты и теперь хочешь еще достигнуть цели?
— Я хотел достигнуть и хочу достигнуть, несмотря ни на что. Самое страшное в нашей судьбе то, что, даже будучи ранеными насмерть, мы все еще хотим и хотим! Видал ли ты когда-нибудь, герцог, застреленную дикую козу или глухаря, сраженного выстрелом охотника? Он все еще хочет летать, хотя боль раны и перебитых крыльев заставляет его падать на землю!
Альфред обеими руками закрыл лицо.
— Нет, оставь, оставь! Я боюсь крови, я не могу видеть ран, я ненавижу войну и охоту.
— Тем не менее, — не смущаясь, продолжал маэстро, — я должен вызвать этот образ перед твоими глазами, если ты хочешь заглянуть в глубину той души, где живет музыка будущего. Мы отрываем наше живое мясо от костей и бросаем его жадной толпе, которая пожирает его без малейшего признака мысли. Я схоронил свои творения, для меня они мертвы, даже и тот рыцарь с лебедем, который привел тебя в такой восторг. Я последовал за твоим гонцом, чтобы предостеречь тебя, ибо мне жаль тебя, жаль твоей красоты и молодости. Предостеречь от сирены, которая манит тебя в неизведанную глубину, на головокружительные высоты. Избегай общения со мной, никому еще не принесло оно блага и спасения.
Глаза Альфреда были неподвижно устремлены на говорившего.
— Как Агасфер, брожу я в безумии по стране, — продолжал маэстро, гонимый вперед одной мыслью, — найти мою мечту. Мир, положение, любовь, счастье, семью, мою нежно любимую жену — все это отдал я в жертву. Я огненный Молох, пожирающий в своем огненном чреве всякого, кто к нему приближается. Никто из тех, кто защищал меня, не был еще счастлив.
— Я хочу, несмотря ни на что, чтобы ты был моим другом, моим братом, — со слезами заговорил Альфред. — Расскажи мне все, как это началось. Никто не понял тебя, но я пойму.
В глубоком волнении маэстро опустился на колени перед Альфредом.
— Встань! — испуганно вскричал герцог. — Этого я не могу переносить.
И он сам поднял его и посадил рядом с собой на позолоченном диване.
— Расскажи мне все, я хочу влить в твои раны целительный бальзам. И даю тебе мое герцогское слово, что я построю для твоей музыки будущего не театр — о, нет! а храм, какого не видал еще мир.
— Ваше высочество в самом деле имеет такое желание?
— Даю в том мое герцогское слово. Расскажи, как шла твоя жизнь?
— Мой отец рано умер. Он был небольшим чиновником. Второй муж моей матери был актер. Таким образом я рано пришел в соприкосновение со сценой и стал думать собственную думу. Теперь я уже старик!
Альфред улыбнулся.
— Не по летам, ваше высочество, а по жизненному опыту. Разбиты мои надежды, сокрушилось, брошено мной самим то, что начал было я строить. Я боготворил рыцаря с лебедем, теперь я уже не ценю его. В моей груди живет теперь совсем другое. Оно уже отчасти осуществилось, и потому-то я и здесь.
— Поэтому.
— Я разбил, наконец, сосуд, в котором мои предшественники хотели заключить искусство. Они ошибаются, — продолжал он, и глаза его вспыхнули. — А мой гений ведет меня через пропасть к храму, который я хочу воздвигнуть. Часть моего творения здесь. Никто не пожелал его иметь, никто не чувствовал в себе силы с ним справиться. Хватит ли силы у тебя? Поможешь ли ты поставить эту оперу, если даже все будут над тобой смеяться?
— Да, — торжественным тоном отвечал герцог.
Маэстро передал ему тонкую тетрадку. В ней было всего несколько листов с нотами, а на обертке большими буквами написано было: «Liebestod».
Альфред поднялся.
— Иди за мной, маэстро.
Тот повиновался. Герцог повел своего нового друга по длинной анфиладе раззолоченных комнат.
Наконец он отворил дверь и сказал:
— Я хочу слышать это сейчас же.
Герцог и маэстро были теперь в небольшой комнате, обитой светло-голубым атласом. На потолке была нарисована картина, изображающая победу музыки над природою: «Орфей, привлекающий к себе зверей».
Молча, движением руки Альфред указал маэстро на рояль и протянул ему тонкую тетрадку. Но маэстро не взял ее. Он сел перед инструментом, и из его недр перед слухом царственного юноши восстало новое творение. Альфред слушал. Слезы показались в его больших, темных глазах.
Маэстро казался ему отрешившимся от всего земного. И действительно, он как будто забыл о всем окружающем и даже о герцоге. Волны звуков уносили его к далекому северному морю, он лежал в объятиях Изольды и уже не думал ни о Кронбурге, ни о своей злой судьбе.
Дрожа, расплывались по тихим герцогским апартаментам образы неслыханной красоты. Слезы бежали по щекам юноши.
— Это будет! — вскричал Альфред. — Будет новое искусство и его храм. Даю тебе мое герцогское слово!
И он проводил обратно своего нового друга.
VI
В последующие месяцы маэстро был ежедневным гостем герцога. По просьбе своего царственного друга он поселился в Кронбурге и неутомимо работал над завершением второго могучего творения, которое он начал еще в дни скорби и бедности и которое не находил в себе спокойствия докончить.
Появление маэстро на улицах Кронбурга вскоре привлекло к себе всеобщее внимание. Творец «Рыцаря с лебедем», которого в такой мере осыпал милостями герцог, приобрел себе быструю известность. Каждый ребенок знал его имя. Люди останавливались и шептались, когда он шел к герцогскому дворцу в своем берете и бархатной куртке. Дружбой между маэстро и герцогом стала уже заниматься и пресса. И не всегда слышались лишь благосклонные голоса. Прежде других восстала против этого мечтательного союза душ клерикальная и национальная партия, по мнению которой ничего хорошего такой союз герцогу не обещал.
Маэстро раньше герцога услышал эти голоса. И здесь он был Агасфером, как любил он называть себя. Несмотря на герцогские милости, он чувствовал, что боги ненавидят его, что он вступил на скользкий путь, но его поддерживала надежда на то, что с помощью герцога ему удастся наконец провести свою оперу на казенную сцену. Он затыкал уши от предостерегавших его друзей, обманывая самого себя.
Дела управления отнимали у Альфреда почти все время. С ними чередовались придворные празднества, посещения, приезды иностранных августейших гостей. Но те часы, которые мог сохранить для себя герцог, посвящались им другу. Вместе с ним он углублялся в его творческие планы, и в его собственном сердце росло великое желание создать для нового искусства достойный его храм.
Подозрительно, но не без легкого чувства удовлетворения следил в эти месяцы за своим герцогом министр-президент Бауманн фон Брандт. С появлением в Кронбурге маэстро ядовитые замечания, которыми герцог любил снабжать его распоряжения и бумаги, появлялись все реже и реже. Этот идиот, как называл про себя министр создателя новой сцены, в конце концов оказался недурным громоотводом для слишком возбужденного юноши, который не хотел знать ни балов, ни охоты, и на которого женщины не имели влияния, обыкновенно весьма могучего в его возрасте.
В эту зиму Альфред не раз появлялся на балах в солнечном сиянии своей молодости, и министр-президент, успевший столковаться с князем Филиппом, которому были возвращены все почести, напрасно старался подметить, не оказал ли этот Аполлон в герцогском одеянии особого внимания кому-либо из придворных дам.
Он был неприступен даже для самых красивых женщин, с которыми Бауманн фон Брандт нарочно старался его сблизить.
Тогда хитрый царедворец уцепился за герцогского духовника.
Достопочтенный доктор богословия, иезуит отец Пфистерман, узрев неожиданно перед собой министра-президента, придал своему лицу такое выражение, которое говорило, что он готов его слушать.
— Я хотел бы конфиденциально переговорить с вашим преподобием насчет герцога, — начал Бауманн фон Брандт. — Вкусы и образ действий его высочества озабочивают меня, — откровенно говоря, не нравятся мне. Этот музыкант совершенно вскружил ему голову. Я ожидаю больших бед для герцогства от этого человека, если его высочество по-прежнему будет носиться с ним, ограничиваться только его обществом и к другим смертным будет глух и слеп.
— Вы совершенно правы, ваше превосходительство, — отвечал духовник. — Но что прикажете делать? Кто имеет влияние на его высочество, кроме этого музыканта? Ваша власть была беспредельна, ваше превосходительство, а теперь…
— Была беспредельна, — с горечью повторил Бауманн фон Брандт, — вы правы, была. Теперь все идет по другому курсу. Теперь уже нет ничего прочного, и никто не знает, сохранит ли он завтра пост, который занимает сегодня. Но вы, ваше преподобие, — ведь у вас в руках чувства, совесть, душа герцога.
— Что вы хотите этим сказать, ваше превосходительство?
— Что я хочу сказать? Неужели вы так недогадливы. Простите, я думал, что в иезуитских школах герцогства преподается и внедряется редкое искусство все понимать сразу. Поймите же меня! Его высочество чужд человеческих страстей. А кто недоступен человеческим страстям, с тем трудно ладить: его нельзя понять.
Он помолчал с минуту, потом устремил пристальный взгляд на иезуита и сказал:
— Его высочество так еще молод и так благочестив, воспитан в страхе Божием. Неужели на исповеди он не покаялся вам в каком-нибудь прегрешении?
— Нет.
— Ни в малейшем волнении плоти, на котором его можно было бы поймать? Мне кажется, ему скоро уже будет двадцать лет.
— Вы хотите женить его, ваше превосходительство?
— Боже сохрани меня от этого! Или вы думаете, что министерский портфель уже тяготит меня? Женить его для того, чтобы власть ускользнула из его рук и перешла в нежные ручки будущей герцогини? Это было бы еще хуже!
Бауманн фон Брандт приблизил свои губы к уху духовника и прошептал:
— Нужно отвлечь его от этого идиота, который опутал его своей музыкой. Нужно найти для этого средство, ввести ко двору женщину, которая могла бы явиться орудием моих высших планов, от которой можно было бы узнавать о всем, что происходит за этими всегда закрытыми, позолоченными дверьми комнаты, в которую против его воли никто еще не дерзнул войти. Нужно изучить его, чтобы сообразить, как нужно с ним действовать! Понимаете?
Иезуит хитро сощурил глаза и отвечал шепотом:
— Вы говорите о любовнице, ваше превосходительство?
— Будем называть ее так, если хотите. Можно было бы назвать ее фавориткой, подругой. Она должна быть набожной католичкой, преданной церкви и государству. Она должна держать нас в курсе всего и переносить все тайны с постели его высочества в уши его духовника. Она одна может нам помочь. Понимаете? Если бы вы во время исповеди навели ловкими вопросами мысль герцога на женщину, которая ему нужна и которая будет руководить им!
— А вы уже нашли такое орудие ваших высших планов, ваше превосходительство?
— Кажется. Скажу вам по секрету, гофмаршал граф Штор, по моему желанию, призвал ко двору графиню Монтебелло. Вы знаете ее? Понимаете, про кого я говорю?
— Монтебелло?
Монах проговорил это имя с великим воодушевлением.
— Разве она не красива, эта роскошная южанка с огненными глазами и белоснежной высокой грудью?
Священник отошел от него подальше, но Бауманн фон Брандт не дал себя обмануть.
— Она глупа и болтлива, ваше преподобие, благочестива, я бы даже сказал, что она ханжа, если бы я не говорил с вашим преподобием. Но его высочество до сего времени ни разу не взглянул на нее, как я ни старался возбудить его! Разве ваша церковь не знает греха ока, греха сладострастной мысли, плотского греха, который воздвигает себе трон в самом сердце человека. На исповеди именно вы могли бы открыть ему глаза, которые никого, кроме творца оперы о рыцаре с лебедем, не замечают при дворе. Понимаете ли вы меня наконец? Если вы знаете свое дело, то Монтебелло будет рупором между нами и его высочеством. И тогда дни этого авантюриста будут сочтены. Он уже доставил немало неприятностей герцогству с этим особым представлением опер глубокой ночью. О, я предвижу, что наступят самые худшие времена, если нам не удастся с помощью Монтебелло взять герцога в свои руки.
Иезуит задумчиво покачал головой.
— А что, если этим средством мы добьемся совершенно противоположного тому, к чему мы стремимся? На его высочество полагаться нельзя. Я должен откровенно сознаться вам, что на исповеди он ни разу не говорил мне об искушениях плоти.
— Я вполне этому верю. Он невинен и чист, как снег на горах. Он еще ребенок, мальчик, которого так или иначе нужно водить на помочах. Поэтому-то на вас и лежит обязанность указать ему правильный путь, пока не ускользнула из наших рук последняя нить, которая нас с ним соединяет.
— И вы думаете, что таким образом.
— И никаким другим. Вы должны открыть для него сладость любви. Его взгляд обращен всегда внутрь. Он уважает и ценит только себя и свои нелепые мальчишеские фантазии, которые поддерживает в нем этот фантазер. Только жизнь, чары природы могут спасти его. Знаете, что мне вдруг вспомнилось? Один из его камердинеров, от которых я время от времени получаю сведения о частной жизни герцога, рассказывал мне о новом сумасбродстве.
— О каком же?
— Вы помните, как он переехал в северный флигель дворца и приказал устроить там себе искусственное озеро и искусственное солнце. Вы бывали в этом саду?
— Нет.
— Точно так же, как и я. Он, как Аргус, сторожит этот уголок. Но директору театра барону Глаубаху случайно удалось побывать там. Это было тогда, когда последовало распоряжение о ночном представлении. Только с этим музыкантом герцог часами говорит в этом зимнем саду, обыкновенно по ночам. Говорят, он проделывает там нечто невероятное. Говорят, будто в глубокую ночь он плавает по озеру в золотом челноке, который везут настоящие живые лебеди. Он надевает доспехи рыцаря св. Грааля, серебряный шлем и носит золотой рог. Но он сам не может петь. Раза два-три он уже ночью призывал к себе оперного певца Фролиха, который должен был петь, спрятавшись за пальмы, пока рыцарь плавал по озеру. Может быть, нам удастся провести Монтебелло в этот сад, дверь в который находится недалеко от спальни его высочества?
— Вы так думаете?
— Вы соображаете не скоро! Вы должны на исповеди возбудить в нем ловкими вопросами страсть, а остальное уж мое дело. Прислуживающий ему камердинер Кеплер, к которому его высочество относится всегда очень милостиво, легко может навести его на мысль, что он должен плавать не один, а с Эльзой. А этой Эльзой будет Монтебелло!
— Великолепно!
— Не правда ли? Кеплер скажет ему, что у Монтебелло чудный голос, что она собирается поступить на сцену. Относительно Монтебелло я вполне уверен. Она покорит герцога, и через нее он попадет в наши руки. Таким образом мы вырвем его из когтей этого демона, вернем отечеству его государя и дадим хорошенькой женщине любовника, о котором она и не мечтала. Вы, достойный отец, видимо, очень мало понимаете в красоте тела, но я могу вас уверить, что герцог Альфред — один из красивейших мужчин, которых я встречал в моей жизни.
— А если?.. А если мы добьемся как раз противоположного тому, что, по всей вероятности, получилось бы у всякого другого смертного в двадцать лет? Тогда что?
— Что тогда? Тогда Монтебелло впадет в немилость и больше ничего. В таком случае вы и я умываем руки, как древний Пилат, ха-ха-ха!
— Вы — да, ваше превосходительство, но не я. Ведь я должен воспользоваться во зло святою исповедью для того, чтобы разбудить греховные желания.
Бауманн фон Брандт отвернулся.
— Как вам угодно, ваше преподобие. Его преподобие фон Лензинг, пастор придворной церкви, где его высочество ежедневно бывает у ранней обедни, будет на этот счет другого мнения. Он большой патриот, и для него интересы родины выше всяких богословских вопросов. Он сделает то, о чем я только что просил вас. И тогда, конечно, вы уж не останетесь духовником его высочества.
Пфистерман побледнел. Епископская кафедра в Кронбурге, на которую он уже столько лет косился будучи все это время доверенным лицом покойного герцога Бернгарда, скоро должна освободиться после смерти восьмидесятилетнего ее обладателя. И тогда… что же будет тогда, если фон Лензинг приобретет благосклонность герцога, а всемогущий Бауманн фон Брандт поставит его на его место, если он сегодня не подаст ему руку и откажется помогать его планам.
— Вы размышляете, ваше преподобие? — услыхал он голос министра-президента. — Что же тут размышлять? Лензинг не откажется меня выслушать. Это сильный проповедник, и его высочество каждый день слушает обедню в придворной церкви. Стоит только сказать ему слово, и…
— Я согласен, ваше превосходительство.
— Вам придется сделать очень немного, если вы меня поняли. Остальное предоставьте мне и камердинеру Кеплеру.
На лице Бауманна фон Брандта появилась улыбка сатира.
— Не последняя роль выпадет и прекрасной Монтебелло. Ее грудь будет побелее этого лебедя.
VII
Одно имя не сходило с уст болтливого придворного общества в Кронбурге: Бьянка Монтебелло. Невероятное совершилось. На одном из придворных торжеств герцог Альфред очень долго беседовал с этой южной красавицей, от которой все были в восторге. Он танцевал с нею несколько раз. Все передавали друг другу на ухо диковинные вещи, когда Монтебелло, которой завидовали все женщины и которую преследовали, словно дикого зверя, все мужчины, была однажды вечером приглашена в герцогский дворец.
Бьянка была родом из Рима. Ее отец, Альбоин Монтебелло, был посланником при ватиканском дворе и женился на дочери князя Доменико, древнего римского происхождения. Рано лишившись отца, молодая девушка была воспитана своей матерью, совершенно замкнувшейся в церкви, в одном из монастырей. Когда ей минуло двадцать пять лет, ее привезли ко двору в Кронбург. Род Монтебелло принадлежал к стариннейшим дворянским родам в герцогстве. Эта итальянская фамилия была им дана в Неаполе Фридрихом Вторым.
В Кронбурге Бьянка жила с матерью и вела уединенный образ жизни, пока ее появление не привлекло внимания министра-президента. Впервые она появилась в свете на вечере в доме Бауманна фон Брандта. Тут она впервые попалась на глаза его высочеству. С этого времени она стала духовной дочерью Пфистермана, который, кроме его высочества, считал в числе своих духовных детей добрую половину всей придворной церкви.
Несмотря на свои двадцать пять лет, Бьянка была еще совсем неискушенным ребенком. Но ребенком с сильными страстями ее южного со стороны матери происхождения, с явными инстинктами пышно распустившейся женщины, которая хочет покорять всех, с кем ей приходится сталкиваться. Она много занималась музыкой, преклонялась перед новым маэстро, прежние оперы которого теперь то и дело давались по приказанию герцога на казенной сцене. Но еще больше мечтала она, со всей силой своей женской натуры, о молодом носителе герцогской короны, который представлялся ей, как сотням придворных дам и тысячам девушек из народа, каким-то богом красоты и несокрушимой силы.
Иезуит Пфистерман отлично понял намеки министра-президента. В тихие часы молитвенного настроения сердце Бьянки открывалось для ее богобоязненного духовного отца, и он мог читать в нем, как в открытой книге. Он и Бауманн фон Брандт отлично знали, что страстность молодой женщины не остановится перед ступенями герцогского трона. Они знали ее лучше, чем она знала саму себя. Они предвидели, что дремлющий в этом сердце дикий пыл разгорится когда-нибудь в яркое пламя и что, не считаясь с благословением церкви, она ринется в объятия того, обладать которым она так страстно стремится.
Альфред жил и действовал словно во сне с тех пор, как он впервые увидел рыцаря с лебедем, с тех пор, как он увидел самого маэстро.
При первой же его беседе с Бьянкой, которая повергла в изумление весь придворный мир, разговор вращался только об этой опере и вообще о музыке нового маэстро.
С большим восхищением Альфред услышал из уст этой роскошной женщины с черными жгучими глазами, что и она принадлежит к числу восторженных поклонниц и знатоков нового искусства. С этой дивной представительницей женского пола он дольше и подробнее, чем когда-либо, беседовал о вопросах нового искусства, всецело захватившего его сердце. Напрасно старались Пфистерман и министр-президент разузнать о том, что говорил герцог этой красавице, которая, по их мнению, сразу взяла его в свои руки: Бьянка была слишком хитра. Она сразу поняла, какую неслыханную силу, какое неожиданное уважение она приобрела при этом дворе, благодаря милостивому вниманию к ней герцога. И этот монарх-юноша, так доверчиво беседовавший с нею, как с другом, возбуждал в ней сострадание: она знала и чувствовала, что она предаст его врагам, если будет передавать им его слова. Вполне определенное недоверие, выросшее из сильного женского чувства, явственно подсказывало ей, что Пфистермана, этого вождя клерикалов в Кронбурге, и Бауманна фон Брандта, руководившего государственной жизнью герцогства, можно считать всем, чем угодно, только не друзьями ее обожаемого герцога.
За первой встречей между нею и Альфредом в тихом зимнем саду последовали дальнейшие. Бьянка не хотела, да и не могла сопротивляться ходу событий, несмотря на то, что она сделалась жертвою пересудов не только двора, но и всего Кронбурга. Страсть всецело захватила ее с тех пор, как она увидела, что этот загадочный герцог отличает ее перед другими, с тех пор, как она заглянула в его черные глаза.
Ей было трудно ладить с Пфистерманом. Духовник засыпал ее вопросами, министр-президент с жадностью ждал на них ответа. Но Пфистерману никак не удавалось вырвать у Бьянки какие-либо признания. Все то, что говорил ей ее мечтательный друг о своих взглядах и планах в искусственно-лунные ночи в своем зимнем саду или в светло-голубой музыкальной комнате дворца, — все это она берегла в самом сокровенном уголке своего сердца.
Пфистерман в разговорах с молодой женщиной задавал ей прямые вопросы о привычках и планах герцога. Ответа на них не было, мимо них проходили, к ним не прислушивались. В тиши исповедальни духовник нашептывал молодой девушке такие вещи, от которых краска стыда бросалась ей в лицо и которые она, всецело захваченная мыслью о своем друге, тем не менее жадно впитывала в себя.
Но из нее ничего нельзя было вытянуть, решительно ничего такого, что стоило бы сообщать Бауманну фон Брандту и что представляло бы для последнего какой-нибудь интерес.
— Это, действительно, человек без плоти и крови, — процедил сквозь зубы Бауманн фон Брандт, услышав эти ничего не говорящие новости.
Несмотря на все неудачи, он, однако, не разуверился в том, что он знает людей. Бьянка, сама того не замечая, медленно, но неуклонно шла по тому пути, который должен был привести к цели министра-президента.
Альфред был слишком доверчив, слишком невинен и преисполнен сознания своей герцогской и художественной миссии и не замечал, какой опасности подвергал он своими ночными беседами женщину, которую он уважал, и в какой опасности находился он сам. У него перед глазами была только одна цель — исполнить свое обещание и создать храм нового искусства. Роскошное создание со жгучими черными очами было для него не женщиной, а одухотворенной красотой, на службе которой он находился. Так он смотрел на нее, так он чувствовал ее в тихие вечера и глубокие ночи, когда свет искусственного солнца заливал весь его зимний сад. Он обыкновенно садился вместе с нею в челнок, который везли лебеди, и в отдаленных уголках пальмовой рощи она должна была петь для него. Как уверяли придворные слухи, он в самом деле носил серебряные доспехи и чувствовал себя настоящим рыцарем Грааля в эти ночи, которые, по мнению Пфистермана и министра-президента, проводились им в сладострастных ласках.
Пожирающий огонь в черных глазах Бьянки он принимал за чистое пламя воодушевления. Занятый всецело своими мыслями и образами, он не замечал лихорадочного румянца, вспыхивавшего на щеках молодой женщины всякий раз, как он смотрел на нее. Мечтая о том, как он создаст храм нового искусства, он в сотый раз просил ее спеть ему, спрятавшись за деревья, песню Эльзы.
Глаза Бьянки подернулись влажным блеском.
— Ваше высочество любит, по-видимому, только одно произведение этого маэстро. Всегда одно и то же.
— В сравнении с рыцарем лебедя все остальное не имеет для меня значения, — пробормотал он.
— Однако, — прошептала Бьянка каким-то странным, хриплым голосом, которого он раньше никогда не слыхал, — не следует пренебрегать и другими произведениями маэстро, в которых благодатным дождем проливаются чудеса любви. Сам маэстро рядом с Эльзой поставил и Венеру.
Альфред задумчиво, как будто не понимая, посмотрел на Бьянку.
— Венера, — повторил он тихо.
Становясь все смелее и смелее она схватила его за руку, которую он не отнимал.
— Да, герцог, — пробормотала она. — Для смертных грот Венеры нередко больше значит, чем святая гора Грааля. Разрешите мне пропеть в музыкальной комнате первый акт этой оперы?
Она тихо поднялась с мраморной скамьи, на которой они так часто сидели на берегу озера в зимнем саду. Он, как во сне, последовал за нею.
Он чувствовал себя как-то странно, как будто его манило что-то такое, чего он был осужден избегать всю свою жизнь. Но это что-то неотразимо притягивало его в эту минуту, как притягивает к себе бездонная пропасть.
Бьянка шла вперед по аллее, украшенной японскими цветами и ведшей в апартаменты герцога. Альфред следовал за ней. Через несколько шагов они были уже в голубой музыкальной комнате, в которой несколько недель тому назад струны того же инструмента пели под рукой маэстро «Песнь любви и смерти». Тонкая тетрадка, которую он подарил своему царственному другу, еще лежала на почетном месте.
Дрожащими руками Бьянка пробежала по клавишам.
— В гроте Венеры, — тихо сказала она про себя, и ее взоры обратились к задумчивому юноше, который опустился напротив нее на диван. Мысли его были далеко, и он думал не о ней, а о маэстро и о храме нового искусства.
Чарующие, сладкие звуки, каких он никогда еще не слыхал, заполнили комнату. Они захватили его грудь, он перестал дышать, они терзали его сердце, которое напрасно оборонялось против того, что несла с собой эта женщина в ее сверхчеловеческой борьбе за обладание мужчиной. Прочь чистота рыцаря Грааля, прочь святая песнь того, кто пришел защитить гонимую невинность. Что-то другое жило в этих звуках, что, однако, родилось в душе того же маэстро, который называл себя Агасфером, Молохом, быком Миноса.
Рыдания потрясли Альфреда. Он не мог понять, что происходит в нем. Словно какой-то волшебной силой тянуло его во власть этих могучих звуков, к той, которая, словно беснующийся демон, вцепилась в глубочайшие раны его сердца.
Вдруг все смолкло.
Случайно или намеренно, черные, как смоль, волосы Бьянки разметались. Словно плащ, дивный мягкий, как шелк, под которым нужно было скрыть это дуновение жизни и любви, они рассыпались вокруг ее стройной фигуры. Она встала и протянула к нему свои обнаженные руки. На ее открытой шее и белоснежной груди, которой он сегодня впервые залюбовался, сияло брильянтовое ожерелье, которое он подарил ей несколько недель тому назад в благодарность за прекрасные песни Эльзы.
«Чем же мне вознаградить ее за песни Венеры?» — как молния, блеснуло у него в мозгу.
Но мысль эта потухла. Этот час, когда воля плоти, влечение к женщине стало всемогущим — все стало одним искушением!
Их взоры, заражающие, ищущие друг друга, встретились. Она бросилась около него на диван. Пфистерман и министр-президент были забыты. Ее тело, полное крови и жизни, трепетало.
И однако он не схватил ее в свои объятия.
Как перед святой, стоял он перед ней на коленях и, рыдая, прятал свою голову у нее на коленях. Ее губы нашли его губы. Она осыпала его жгучими поцелуями, словно змеи, обвились ее белые руки вокруг его стройного тела.
— Герцог, герцог, — лепетала она в немом восторге.
А он не обнимал ее.
Холод уединенной вершины, на которой он стоял, сковал его.
Она встала и направилась к двери, за которой, как она знала, стояла кровать герцога — золоченая кровать одинокого герцога, о дивной работе которой говорил весь Кронбург.
С губ Альфреда сорвался крик.
Он в ужасе смотрел на нее.
Бледный, как полотно, встал он перед нею и молча, движением руки, он указал ей на дверь, ведущую к выходу из дворца.
Она поняла.
Все исчезло. Исчезла мечтательная дружба, которую он подарил одной ей. Для любви у него не было силы.
Она двинулась к выходу, зная, что никогда уже не вернется сюда, а он, рыдая, упал на пол.
VIII
Перед исповедальней Пфистермана в придворной церкви Всех Святых стояла на коленях женщина. По обширной церкви мистически разливался полупомеркший вечерний свет, выходивший неизвестно откуда.
Над богато украшенным и позолоченным алтарем, где сияла одиноко мерцавшая вечная лампада, на огромном кресте висело изможденное тело Искупителя. Золотые лучи заходящего солнца играли на шипах венка и на ране, нанесенной Богочеловеку копьем римского воина. На потемневшем уже от смерти лике светится кротость, всепрощение даже врагам как будто сияет из этих уже закрытых глаз.
К Нему возносит Бьянка Монтебелло свой подернутый печалью взор.
Церковь пуста. Она дождалась, пока ушли все.
Благоговение и раскаяние заставили ее повергнуться ниц перед образом Распятого и молиться до тех пор, пока не удалился последний из духовных детей Пфистермана.
Глаз исповедника давно уже заметил ее в числе богомольцев, ее, которая по целым неделям не бывала в церкви. Он почуял, что в этот вечер откроет тайну, которую решился уже сообщить своему другу, могущественному министру-президенту Бауманну фон Брандту. И эта тайна должна быть первым его шагом на трудной дороге к епископской кафедре в Кронбурге.
— Ты ищешь утешения церкви, дочь моя, — уловило ухо Бьянки голос исповедника. — Давно ты не приближалась к этому святому месту, которое одно может дать тебе отпущение и прощение грехов. Ты шла по пути блеска и удовольствия в роскошных залах герцогского дворца. Что ты имеешь сказать мне, дочь моя, от каких прегрешений плоти хочешь ты спасти свою бессмертную душу?
Словно легкое дуновение ветра, коснулся чуткого уха иезуита тихий голос Бьянки.
— Искушение плоти внесла я в душу чистого, — шептала ему в ухо молодая, чудной красоты женщина. Ее дыхание смешивалось с его, он плотно прислонил голову к решетке, которой почти касались ее уста.
— Творение нового маэстро, которым полна душа его, я хотела использовать в своих целях. Я пела песню Венеры тому, кто не хотел слышать ничего, кроме благословения рыцаря Грааля. Ему, который принимал меня за святую, за чистую, одушевленную искусством подругу и которая всем чувством своим стремилась только завладеть им для плотских наслаждений.
Исповедника бросило в жар при этих словах.
— Да, теперь я хочу поведать скорбь моей измученной души на ухо служителю моего Избавителя, которому в силу его сана дана власть отпускать грехи, и который слышит меня, как Сам Всеведущий. Перед этими очами, которые открыты, как очи Самого Всевидящего, хочу я обнажить раны души моей: со всей силой молодости одного его любила, того, который теперь навеки потерян для меня.
Пфистерман не смел прерывать исповеди. Он боялся, что она утаит от него что-нибудь важное, и решился предоставить ей высказаться.
— Грехом плоти началось, когда я впервые увидела его возле моей матери в доме министра-президента. Я притворялась, что я люблю этого нового маэстро и его творения, думая таким путем найти дорогу в его объятия. И однако я знала, что я не могу владеть им честно, ибо он мой государь и герцог. Мне посчастливилось. Он обратил свой сияющий взор на мою ничтожную личность, возвысил меня над сотней других придворных, и я стала участницей его высоких планов, поверенной его могучих мыслей…
— Каких планов? Каких мыслей?
Вопрос невольно сорвался с уст Пфистермана.
— О, вы их не знаете. А я, я, которая одна знаю их, я потеряла его навсегда по своей собственной вине. Может ли быть отпущен грех, когда чувственный и низкий человек приближается к святому?
— Дочь моя, сатана водил в пустыню самого Спасителя и там искушал его. Он ставил его на кровлю храма иерусалимского, но Спаситель не впал в искушение, ибо он был чист.
— Он также чист, — восторженно вскрикнула Бьянка, — а я проклята…
— Плотские грехи, дочь моя, мы можем прощать, ибо никто из смертных не свободен от них, чист только тот, кого влекли в пустыню и который за наши грехи был распят на кресте. Никто на земле не свободен от этого греха. И он тоже не заглушит голоса своей совести, и он придет, ибо он так же грешен, как и ты.
— Нет. Он не грешен. Он чист, как свет солнца, отец. Когда он увидел меня и мои желания, он выгнал меня. Я чувствую, что никогда не вернусь к нему, горячо любимому. Он изгонит меня от своего двора и с горечью будет вспоминать обо мне, ибо он верил в мою чистоту и думал, что нашел во мне помощницу для своего великого дела. Изумитесь вы, изумится весь мир, когда на вершине гор он построит храм новому искусству.
— Храм новому искусству?
— Да. А я не могу уже принять участия в его святом деле, ибо в порыве дикого желания я осмелилась наложить святотатственную руку на него самого. И только тогда, когда он оттолкнул меня, познала я все величие того, кем я владела и кого потеряла. Есть ли такой грех, отец мой, когда человек прикасается запятнанной рукой, с нечистым сердцем и греховными мыслями к помазаннику Божию?
— Ты должна выражаться яснее, дочь моя, — прозвучал голос исповедника. — Я не могу даровать тебе прощения грехов, пока не узнаю, что все это значит — его чистота, его миссия, его храм нового искусства. Он, конечно, государь и герцог этой страны, помазанник Божий, получивший корону милостию Божией… Конечно, конечно… Но что он святой… человек, который подобно другим подвержен плотскому греху…
— Ты ошибаешься, отец. Он получил миссию, как он сам говорил мне, когда мы в полном целомудрии проводили с ним ночи. Эта миссия совершенно иная, чем была у его отца и деда. Она даже больше, чем миссия герцога.
— Я не понимаю тебя, дочь моя.
— Я думаю, что необходимо узнать его самого, необходимо самому слышать его речи, как слышали их мы — я и маэстро.
— Какой маэстро?
— Создатель новой музыки, который между прочим написал и песню Венеры. Ею-то я и пыталась соблазнить герцога. Он хочет создать храм нового искусства. Высоко над городом должно подниматься это величавое здание из мрамора. От дворца к этому чудному созданию искусства пойдет новая улица. Здесь будет алтарь Прекрасному. Понимаешь ли ты меня?
— Ты слышала об этих планах от него самого, дочь моя?
— Да, я говорю об этом для того, чтобы очистить себя от греха перед ним. Укажи мне средство снова вернуть его чистую душу, дружбу, укажи мне такой путь, по которому я опять могла бы приблизиться к нему после того, как он со слезами изгнал меня от себя в глухую ночь!
— Сила благодатной церкви может отпустить тебе такой грех, слышишь ли ты? Я отпускаю тебе грех твоего вожделения, плотского вожделения твоего государя. Понимаешь ли ты меня?
Бьянка поднялась.
Ею овладело какое-то странное настроение.
Под высокими сводами придворной церкви стало уже совсем темно. Только от тела Искупителя, сделанного из слоновой кости, исходил слабый мерцающий свет.
Задумчиво шла Бьянка по оживленным улицам Кронбурга к дому своей матери. Вдруг ей пришло в голову, что она, быть может, изменила своему царственному другу.
Она остановилась. Ей казалось, что она должна спешить обратно к Пфистерману и умолять его не говорить никому ни одного слова из того, что она сказала под покровом исповеди.
Под покровом исповеди!
При этой мысли она вдруг успокоилась.
Он не посмеет ничего сказать. И все-таки ей было как-то страшно.
Вечером у министра-президента был прием.
Обещали прибыть герцог Альфред и князь Филипп.
Были приглашены и Бьянка с матерью.
После закуски его высочество изволил сесть за стол. Он был в каком-то странном, особенном настроении, и это не укрылось от Бауманна фон Брандта.
Во время обеда, он против обыкновения, не разговаривал ни с кем. Его глаза блестели как-то мрачно. При взгляде на Монтебелло, болтовня которой по расчету министра-президента должна была произвести перемену в настроении герцога, на его чело ложилась гневная тень.
Что он замышляет? Об этом ломали голову не только министр-президент, но и весь двор.
Во время обеда герцог подозвал к себе лакея и приказал ему сдвинуть со стола все цветы, которые были перед ним. Образовалась гора листьев и цветов, за которой его почти не было видно.
Музыка гремела без умолку. Инструменты заглушали разговор гостей. Альфред целый вечер не проронил ни одного слова.
После обеда в гостиной он едва открывал рот и лишь молча протягивал руку то тому, то другому.
Когда Бьянка подошла к нему с глубоким поклоном, он отвернулся и отошел от нее.
Министр-президент бросил испуганный взгляд на Пфистермана. Неужели он так ошибся в своем средстве?
Вечер кончился довольно рано. Около девяти часов неожиданно был подан экипаж герцога.
Стали расходиться.
Бауманн фон Брандт был в полном смущении, такой образ действий в его доме почти равнялся немилости.
Он тихонько поманил Пфистермана к себе и дал ему понять, чтобы он остался, когда все разъедутся.
— Знаете что, — начал он, когда они остались наконец вдвоем и сидели за бутылкой вина. — Заметили ли вы, что сегодня он не выказал Монтебелло ни одного знака внимания и благосклонности. Что бы это могло значить?
— Это значит, ваше превосходительство, что с его высочеством нельзя поступать, как с обыкновенным молодым человеком его возраста и положения. Пышной грудью тут ничего не добьешься, и я боюсь…
— Чего?
— Не решаюсь сказать.
— Говорите откровенно.
— Если вы этого требуете, хорошо. Я боюсь, что дни настоящего министерства будут зависеть от тех неслыханных вещей, которые замышляет его высочество.
— Какие неслыханные вещи? Вы, стало быть, знаете больше, чем я?
— Но тайна исповеди…
— Благо государства стоит выше тайны исповеди.
— Вы так думаете?
— Да… Того же мнения и епископская кафедра в Кронбурге… Его преосвященству идет уже восемьдесят первый год.
— Ваше превосходительство изволит забывать достоинство церкви.
— Мне кажется, я уже достаточно сказал вам. Итак, что вы знаете?
— Будьте настороже, ваше превосходительство. Раззолоченные молчаливые покои, зимний сад и озеро, по которому плавают лебеди, — все это кажется мне гораздо значительнее, чем скоропреходящие затеи мальчика, как вы еще недавно называли все это. Нам грозит огромная опасность.
— Огромная опасность?
— Да. Его высочество склоняет свой слух только к одному, который держит его в фантастическом царстве грез. Вы понимаете, про кого я говорю?
— Вы бредите, достопочтенный отец! Вы говорите об этом музыканте, об этом набитом дураке?
— Да, о нем. Если бы я считал вас за верующего христианина, я бы сказал, что этот дурак состоит на службе самого сатаны. Позвольте предостеречь вас, ваше превосходительство, будьте настороже. Недалеко то время, когда нам придется пережить удивительные вещи. Его высочество хочет выстроить для этого музыканта храм, а к нему проложить улицу, которая будет стоить миллионы. Он хочет сковать реку и перекинуть через нее мосты. Что вы скажете о таких мечтаниях мальчика, ваше превосходительство?
Бауманн фон Брандт сжал кулаки.
— Этого не будет. Мы еще пока здесь. Я потяну его за собой. Нужно гнуть молодые деревья, ваше преподобие.
— Если только они не сломаются, ваше превосходительство.
IX
Лето настало. Предстояло переселение герцогского двора из столицы в замок Турм. У директора театра фон Глаубаха дел было по горло: представление новой оперы было назначено Альфредом на последнее воскресенье перед отъездом из столицы.
Наконец наступил этот знаменательный день.
Уже несколько недель в Кронбурге и во всем королевстве только и речи было, что об этом музыкально-художественном событии.
В этот вечер в партере и ложах кронбургского театра собралась избранная публика со всей страны. Альфред вместе с маэстро был на генеральной репетиции. Декорации были написаны по его указаниям, и костюмы были изготовлены по его собственным наброскам.
Победа была полная.
Несмотря на то, что признанные знатоки музыки и критики морщили чело, несмотря на предубеждение театральных завсегдатаев против маэстро, которого герцог боготворил почти с увлечением мальчика, победа была полная. Уже после первого акта раздался гром рукоплесканий, после второго и в конце оперы рукоплескания превратились в бурные овации. Альфред блаженствовал: его вера в композитора одержала победу.
Словно какой-нибудь бог, стоял он в голубом мундире лейб-гвардейского полка со всеми орденами у барьера своей ложи, той самой, где он когда-то в полном уединении впервые услышал рыцаря с лебедем и принял на себя миссию св. Грааля. Возле него был его друг, которого он вынес из мрака отчаяния и неизвестности. Он кланялся из ложи тысячеголовой толпе, бесновавшейся в криках энтузиазма.
— Ты победил, Обновитель, — шепнул ему на ухо Альфред, в полном упоении.
После представления оба они долго сидели в герцогском зимнем саду, полные упования на светлое будущее этого дремлющего гения. Альфред был преисполнен своей миссией даровать миру новое искусство и его храм и развивал перед другом свою идею, которую он в часы благоволения приоткрыл Монтебелло.
Он разложил перед глазами маэстро план Кронбурга и чертежи, сделанные одним архитектором-художником.
— Прими за все, что ты сделал, — торжественно говорил он, — мою герцогскую, нет, королевскую благодарность. Смотри сюда. Посередине столицы я велю проложить триумфальную улицу в честь твоей победы и славы. Медью и мрамором она должна будет говорить о тебе будущим поколениям через сотни, тысячи лет. Действующие лица из твоих опер будут отлиты колоссальными статуями. Моя улица дойдет до реки… Я велю заключить ее в новое каменное одеяние, подобно тому, как ты заковываешь в звуки своей музыки диких зверей. А на той стороне, около высокого монумента, который воздвиг мой покойный отец во славу своего народа, будет стоять мраморный храм искусства. Прежде всего мое правительство потребует от сейма отвода места и денег.
Лучистые голубые глаза маэстро пожирали Альфреда, который стоял перед ним, стройный, как сосна.
— Как мне благодарить, ваше высочество, если осуществится все это и люди со всех стран будут приходить сюда в Кронбург, в этот огромный город, каждый год все новыми и новыми толпами. Мысль о моем уединенном храме у подошвы лесистых гор превращается в ничто перед этими гигантскими проектами, которые увлекут человечество по дороге к творениям будущего. Малодушный, я целыми неделями и месяцами в годы неудач был в отчаянии. Теперь надо мной взошло солнце вашей герцогской милости, а вместе с нею и звезда моей славы!
Охваченный всепокоряющей дружбой, Альфред бросился на грудь горячо любимого, боготворимого им маэстро.
— Скажи мне, — кричал он, — какими фигурами из твоих творений населить храм твоего нового искусства. Ты новый Гезиод и Гомер, дарующий Олимпу новых богов.
— Я работаю теперь над новым произведением, которым можно было бы открыть храм нового искусства? Но эта опера — еще слабый отголосок того, что дремлет в глубине и что я берегу для этого храма. Религия и поэзия, богослужение и сцена должны в этой опере слиться в одно, если человечество сумеет увидеть в венце моего творения мистерию собственного искупления. То, что рыцарь с лебедем дал почувствовать лишь чистой душе вашего высочества, то будет явлено в моем произведении всему народу.
— Грааль? — с расстановкой спросил Альфред.
Маэстро кивнул головой.
— Но то, что я хочу написать сначала, будет лишь возвеличением и защитой чистого искусства против его врагов. В центре действия я поставил благородного певца, произведения которого всем известны, но не могут возбуждать ни зависти, ни недоброжелательства, ибо на его стороне народ со своими лучшими представителями. Я поведу новое время через средневековой храм, потом через готику на залитый солнцем жизни луг, где народ, благословляя, стоит на коленях перед своим маэстро. Только этот озаренный народ осмелится идти со мною на высоту. Нагруженные сокровищами, погребенными на дне Рейна, мы поведем его через леса к хижине Гундинга. Я вижу своей душой, как несутся германские валькирии на своих буйных конях, а древние боги вступают в Валгалу по семицветной радуге под звуки моей музыки.
— Это будет достойным завершением! — воскликнул герцог.
— Нет, — отвечал маэстро. — Это еще не завершение, не очищение в высшем смысле слова моего нового искусства. Нет! Я не знаю где, но где-нибудь в далеких горных лесах немецкой земли стоит одинокая скала. Как свеча, поднимается она, прислонившись к несущимся к небу горам и господствуя над равниной и всей низменностью.
Альфред слушал с удивлением.
То, что рисовал маэстро, нисколько не походило на меловые горы его Гогенарбурга, где он провел свои юношеские годы, раздумывая в глубине своей юной души над своим царственным призванием.
— Что же это за скала? — вдруг спросил он. — Я знаю такую скалу в пределах моего герцогства.
— Нет, герцог, — последовал твердый ответ маэстро. — В действительности она не может быть там. Ее чистота слишком высока и нельзя осквернять ее человеческими руками. Она стоит одиноко в далеком царстве фантазии, под безоблачным небом искусства. И здесь, на этой скале покоится венец моего творения. Извилистые, как в лабиринте, пути открываются только чистому сердцем, грешному же они недоступны. На вершине этой скалы, герцог, стоит град св. Грааля. Удастся ли исполнить мне это, не напрасно ли мы строим храм нового искусства, — кто может сказать это теперь? Я хочу это сделать — и на сегодня довольно и этого.
— Ты хочешь это сделать и ты можешь сделать, — в восторге сорвалось с губ Альфреда. — Да, ты можешь это!
— Надеюсь, — отвечал маэстро слегка печальным голосом. — Но…
Долго смотрел он на царственного юношу, стройный образ которого как будто застыл в складках его голубого плаща. В глазах его как будто светилось пламя.
— Что ты смотришь на меня? — робко спросил Альфред. — Я терпеть не могу, когда на меня так смотрят.
— Я должен был сделать это, ваше высочество, — отвечал художник. — Мучительная мысль, которую я не могу скрывать от вас, даже рискуя навлечь на себя вашу немилость, овладела мной. Послушай предостерегающего голоса дружбы, герцог! Послушай того, кто больше всех из смертных чтит тебя!
— В чем же дело? — с испугом спросил герцог.
— Нет, не так ты должен спрашивать меня. Не с таким криком ужаса, не с таким пламенем в глазах!
— Говори, — сказал Альфред.
Маэстро молчал.
— Странно!
— Вы оказали мне милость, ваше высочество, и показали мне ваш зимний сад в первые же дни, когда я имел счастье приобрести ваше расположение! Теперь вы позволяете мне неожиданно бросить взгляд на ваши планы и желания. Меловая скала у подножия ваших гор пугает меня, герцог! Она может быть началом чего-то непонятного, недоступного.
— Она будет опорой моему граду св. Грааля.
Альфред сказал эти слова твердым тоном, как будто сердце его в эту минуту закрылось.
— Герцог, герцог, послушай меня! Еще никто из смертных не прикасался к истине, к тайне св. Грааля, не уготовав себе гибель. Вы вступаете на путь к Божеству. По вашим глазам, по вашему лицу я вижу, что вы замышляете нечто гигантское, неслыханное, сверхчеловеческое. Но еще не поздно! Одумайтесь! Пусть не скажут, что даже ваш лучший друг, питающий к вам безграничное доверие и уважение, не предостерегал вас! Оставьте эту мысль! Никто из смертных в действительности не видит ни белых лебедей, ни святого Грааля.
— А я хочу их видеть. Я уже видел их, маэстро!
То были слова упрямого ребенка, и тон их был ребяческий.
Маэстро собирался уйти.
— Могу просить, ваше высочество?..
Альфред утвердительно кивнул головой.
— И он, и он, — громко и горько зарыдал он. — И он оставил меня.
Солнце над светлым озером зимнего сада погасло. Альфред нажал кнопку. Вместо него появилась луна и осветила его одушевленное, вдруг осунувшееся, бледное, как полотно, лицо.
X
Уже несколько лет в Кронбурге издавалась небольшая газетка под заглавием: «Герцогство». Ее издатель, доктор Штейн, горячий местный патриот и католик, был доверенным лицом герцогского духовника Пфистермана.
Эту газету читали все слои населения. Люди с положением, желавшие считаться интеллигентами, не подписывались на нее открыто, но пробегали ее глазами втихомолку. Во всех пивных и кафе газета эта не выходила из рук и дешево продавалась во всех киосках и вокзалах. Стар и млад находили в ней удовольствие, ибо, кроме самых фантастических мнений самого издателя, выдающееся место занимали здесь городские и придворные сплетни.
Доктор Штейн, по наущению герцогского духовника сам того не подозревая, стал играть на руку министру-президенту и первый поднял бурю против фантастических проектов герцога.
В свойственном ему сильном тоне он написал статью, под заглавием: «Герцогство, вверенное рукам мечтателя», которая возбудила общее внимание.
Здесь довольно почтительно говорилось о юности и присущей ей мечтательности и впечатлительности герцога Альфреда. Но тем свирепее становился этот сахарный стиль, когда автор говорил о композиторе, который вызвал неисцелимую путаницу в голове юного монарха. Памфлет так и пестрел поповскими выражениями. Штейн называл великого художника колдуном, шарлатаном и обманщиком. Хуже всего было то, что в статье были не только намеки, но и совершенно верные подробности относительно планов Альфреда, который желает всеми средствами своей власти соорудить храм в честь искусства этого композитора и проложить улицу от сада своего дворца через реку до холма на той ее стороне.
Бауманн фон Брандт очень ловко устроил так, что номер газеты попал в руки герцога.
Альфред пришел в ярость. В первый раз после восшествия своего на престол он словно преобразился. Лакеи и придворные чины трепетали при одной мысли подойти к нему. Еще сегодня утром он едва не размозжил графином череп своему старому камердинеру Мертенсу, который выбежал от него с окровавленной головой, вне себя от страха и боли.
Теперь Альфред сидел в своем раззолоченном кабинете и, мрачно погрузившись в себя, думал и соображал, какие меры ему принять. Во главе всех его соображений стояла одна горькая мысль о том, что его предали. Каким образом могло случиться, что его сокровенные планы и намерения раньше времени стали достоянием гласности? Кто его выдал? Враги везде — в Кронбурге, на ступенях его трона, в самом сердце его королевства, везде, везде! Это было видно по всему тону этой хамской статьи, острие которой было обращено именно против него.
Маэстро предостерегал его. Что он подумает о нем, если сегодня и ему в руки попадет эта статья?
Кому приписать это вероломство, это нарушение секрета? Не может быть, чтобы тут был замешан архитектор, которому он поручил разработку своего великого плана!
И вдруг он вспомнил о женщине, вероломной женщине, которой он оказал свое доверие, которая так бесстыдно предлагала ему себя в музыкальной комнате. Монтебелло была единственным доверенным лицом его сердца. Это она из мести предала его в припадке бешенства первому встречному. За это она поплатится, поплатится смертью!
Жестокая тираничная черта его натуры, скрывавшаяся до сих пор под слоем преувеличенной сентиментальности, сразу выступила во всей своей силе.
Почему он не был Нероном и не мог раздавить тех, кто становится у него на пути. Эта зависимость, эти министры и сановники, с которыми он должен всегда совещаться, а подчас и спорить! О, он покажет им зубы! Он был способен на это, если только взял себе в голову провести то, что задумал.
— Храм и улица будут построены! — громко сказал он сам себе. Схватив золотой колокольчик, он позвонил и приказал позвать адъютанта, дожидавшегося в передней.
Не без опасения вошел Ласфельд в кабинет. Весть о графине, разбитом о голову камердинера, с быстротою молнии распространилась по всему дворцу.
— Передайте министру-президенту Бауманну фон Брандту приказание явиться ко мне сейчас же. Слышите, сейчас же, Ласфельд.
— Его превосходительство ожидают уже в приемной. Я должен был доложить о прибытии его превосходительства, но…
— Но… — глухо повторил Альфред.
— Ваше высочество….
— Живо, живо, — перебил его Альфред.
Ласфельд исчез.
Герцог большими шагами ходил по своему кабинету, когда в него вошел Бауманн фон Брандт.
— Садитесь, — услышал он повелительный голос Альфреда.
Министр тотчас же повиновался.
— Я должен выразить вам величайшее мое неудовольствие, — начал герцог.
— Ваше высочество… — льстиво и подобострастно заговорил было министр-президент.
— Да, величайшее мое неудовольствие, — повторил Альфред. — С каких это пор позволяется распространять путем печати оскорбления против главы государства, ваше превосходительство?
— Я не совсем понимаю, о чем ваше высочество изволит говорить.
— Читайте!
Словно ядовитую гадину отбросил от себя Альфред газету, которая полетела в лицо министру.
Бауманн фон Брандт сдержал свой гнев на такое обращение и якобы погрузился в чтение статьи, которую он и без того хорошо знал.
— Ну? — послышался голос Альфреда.
— Эта статья направлена вовсе не против вашего высочества. Она говорит только об опасности, которой ваше высочество, а за вами и вся страна подвергаетесь со стороны этого авантюриста.
— Вы смеете это говорить?
Словно раскатистый гром собирающейся грозы, поразил министра этот возглас. Изумленно смотрел он на лицо герцога, от которого как будто отлила до последней капли вся кровь.
— Вы заодно с этими господами! — кричал Альфред вне себя от ярости. — Это государственная измена!
Министр оставался спокоен и холоден.
— Я совершенно не понимаю вас, ваше высочество!
— Автора этой статьи выслать, а семью Монтебелло арестовать за государственную измену.
— Монтебелло? Что же общего между Монтебелло и автором этой статьи? — спросил, притворно удивляясь, Бауманн фон Брандт.
На одну минуту Альфредом овладело раздумье. В самом деле, может быть, этот автор почерпнул свои сведения из другого источника?
— Какие меры вы посоветуете мне принять? — вдруг спросил Альфред.
— Самые спокойные и хладнокровные, ваше высочество, — невозмутимо ответил министр-президент. — Не может быть и речи ни о незаконном и невозможном изгнании этого доктора Штейна, ни об аресте баронессы фон Монтебелло. Не знаю, какая может быть связь между ней и этой статьей.
— Что такое?
— Да, не может быть и речи ни о том, ни о другом. По законам герцогства, которым ваше высочество, насколько я помню, изволили уже присягать, каждый журналист может писать и печатать, что ему угодно, если только все написанное и напечатанное им не противоречит нашему порядку о наказаниях. А эта статья, как на нее ни смотри, не может считаться преступной.
— Он может писать, что ему угодно? Даже против своего герцога?
— Даже против своего герцога, если только он облекает статью в приличную форму. Авантюрист, шарлатан, обманщик — все это относится в статье не к вам, а к этому прославленному музыканту, все возрастающее влияние которого при дворе вашего высочества я сам наблюдаю со страхом и тоскою. Какое отношение имеет ко всему этому делу Монтебелло, я не знаю. Об этом можете судить вы один, ваше высочество.
При этих словах хитрая улыбочка скользнула по гладко выбритым губам министра-президента.
— Во всяком случае будет неловко и недипломатично давать почувствовать свою месть даме, которой ваше высочество перед всем двором оказывали свое милостивое внимание.
Что-то горячее, как кипяток, поднялось внутри Альфреда.
— Мы не понимаем друг друга, господин министр, — сказал он. — Да и никогда не понимали.
— Может быть, — холодно промолвил Бауманн фон Брандт. — Я ждал в приемной вашего высочества, — добавил он, — ждал, как последний из лакеев, надеясь, что вашему высочеству потребуется, быть может, мой совет. Наконец через фон Ласфельда меня позвали сюда. Для чего я здесь?
— Для чего вы здесь? Для чего же вы министр? Дайте мне совет, как мне поступить с этими государственными изменниками?
— Ваше высочество, вы делаете роковую ошибку, вы вступаете на ложный путь, на совершенно ложный путь, — повторял Бауманн фон Брандт серьезным, почти отеческим тоном. — Ваше высочество не должны бросать на ветер хорошо обдуманный совет вашего усердного и опытного в государственных делах слуги. Я видел старого слугу Мертенса.
Альфред вдруг зарыдал, как ребенок.
— Гнев ослепил меня, и я хочу просить у него прощения.
— Рана, которую вы ему нанесли, гораздо опаснее для вашего высочества, чем для этого честного слуги, поседевшего на вашей службе. Эта рана поражаёт самое сердце народа, к которому принадлежит этот человек. Угодно вам выслушать мой совет?
— Говорите!
— Удалите вы этого шарлатана…
— Что такое? Вы осмеливаетесь?
— Я говорю об этом музыканте, ваше высочество… Удалите его как можно скорее от двора, иначе я ни за что не отвечаю.
— Никогда!
— Ваше высочество, подумайте хорошенько! После нескольких часов зрелых размышлений вы, может быть, дадите мне более благоприятный ответ. Неужели эта статья говорит правду, и ваше высочество действительно замышляет нечто неслыханное, на что никогда не дадут согласия ни палаты, ни министр финансов, ни городское управление Кронбурга?
— Мой министр финансов, а не ваш, ваше превосходительство, мой министр финансов внесет предложение об ассигновании нужных для моих планов сумм, мой министр финансов будет защищать на основании моих соображений перед палатами этот проект и проведет его. Понимаете?
Но честолюбивый, мнящий себя всемогущим, министр-президент все еще не хотел понять его.
— Я должен предостеречь ваше высочество, — начал он снова. — Эта статья, навлекшая на себя неудовольствие вашего высочества, является симптомом. В народе идет брожение, и я не отвечаю ни за что. Следствием таких необычайных распоряжений может быть бунт, восстание, которое не только разразится на улицах Кронбурга, но не остановится и перед воротами дворца вашей светлости. Народ не пожелает жертвовать миллионы на осуществление раздутых идей этого музыканта. Народ не пожелает, — благоволите понять меня, как следует, ваше высочество.
Последним усилием воли Альфред овладел собою.
Он хотел дослушать до конца того, кого он ненавидел, ему хотелось знать, до чего дойдет его дерзость.
— Говорите спокойно до конца, господин министр, — повторял он.
— Я не накладываю нарочно мрачных красок, ваше высочество. Настроение широких общественных кругов мне хорошо известно. Уже одни представления этой оперы легли тяжестью в сто тысяч марок на ваш цивильный лист. Ночные представления для одного вас не встретили одобрения в обществе, а тут еще этот план…
— Каким образом этот план стал известен? Каким образом могли о нем проведать? — заскрипел Альфред зубами.
— Этого я не могу сказать, ваше высочество. Но такого рода план, который касается тысячи лиц, целого города, наконец целого государства, такой план не может остаться неизвестным.
— Изменники!
— Надеюсь, что ваше высочество не причисляете к числу их вашего преданнейшего слугу. Ваше высочество обдумаете на досуге и придете к убеждению в невозможности исполнения вашего неслыханного плана, пожелаете жить в мире со своим народом и не возьмете на себя ответственность за бурю восстания, которое разразится на тихих улицах столицы. Благоволите обдумать со всех сторон мой совет удалить как можно скорее от двора этого музыканта. Дело идет о спокойствии страны, ваше высочество, за которое я не могу ручаться. Умоляю ваше высочество вспомнить о судьбе вашего деда, который также вследствие скандала из-за театра должен был отказаться от короны в пользу вашего покойного отца!
— Довольно! Мой министр финансов в самом непродолжительном времени займется этим вопросом. Не задерживаю вас более.
Величавым жестом Альфред указал на дверь.
— Как прикажете понимать это, ваше высочество?
— Как вам будет угодно, ваше превосходительство.
Бауманн фон Брандт задрожал всем телом. Неужели он действительно так ошибся в этом юноше? Он не хотел этому верить.
— Как прикажете понимать? — пробормотал он еще раз.
— Я уже вам сказал, как вам будет угодно.
— Ваше высочество продолжаете держаться за этот фантастический план?
— Да, ваше превосходительство. Осуществление его будет первой задачей моего нового министра финансов.
Бауманн фон Брандт пошатнулся.
— Ожидаю сегодня же вашего прошения об отставке. Оно будет принято.
XI
Внезапное падение Бауманна фон Брандта, всеми считавшегося всемогущим, возбудило величайшее изумление во всей стране. Со всех концов столицы неслись невероятные слухи о каких-то планах и намерениях юного герцога и распространялись, как огонь на пожаре. Все сложившиеся отношения, казалось, вдруг перевернулись, как бы возвещая новый курс герцогского правительства.
Переселение двора в замок Турм, о чем уже было отдано распоряжение, было отложено на неопределенное время. Словно чреватая бедами непогода, налегла на Кронбург и всю страну упрямая воля юного герцога. В рядах наиболее видных чинов двора, которые получили свои должности еще при отце герцога, стали происходить крупные перемены, очевидно, вызванные капризным характером Альфреда.
Никто из тех, кто стоял близко к герцогскому двору, не чувствовал себя больше в безопасности и не знал, будет ли солнце герцогского благоволения светить для него завтра. Только самые смелые решались опереться на волю герцога, но они должны были поплатиться за это со временем.
Фон Ласфельд был единственным лицом, кто остался на своем месте. Этот бывший адъютант наследника теперь неожиданно приобрел доверие своего государя. С ним одним совещался Альфред целыми часами в кабинете, обсуждая составление нового министерства и намечая новых придворных чинов. В течение нескольких дней после падения министерства на столицу из гражданского и военного кабинета его высочества хлынул целый дождь новых назначений. И все это произошло нежданно-негаданно, настолько быстро, что даже сам герцог не успел ознакомиться с образом мыслей тех, кому он оказал почести. Он играл и распоряжался людьми, словно марионетками.
На место Бауманна фон Брандта был назначен по воле его высочества командир первого армейского корпуса генерал Галлерер. Известие о своем назначении, лично сообщенное ему герцогом, старый солдат принял, как приказ. Теперь правительство должно действовать по-военному! Так указал сам монарх! И старый генерал стал подбирать себе министров отдельных частей, словно людей, идущих в патруль.
— Они должны быть войском в руках вашего превосходительства, — сказал Альфред старому рубаке.
Министерство, которое он создавал себе, было в сущности тенью министерства, толпой чиновников без воли и сопротивления, которая могла противопоставить упрямой воле герцога слепое повиновение.
Пфистерман переживал дни величайшей тревоги. С падением Бауманна он не только лишился всяких надежд получить епископскую кафедру в Кронбурге, но и получил извещение через одного из придворных лакеев, что герцог более не нуждается в его услугах исповедника и что по приказанию его высочества на это место назначен другой. Директор театра фон Глаубах и гофмаршал граф Штос получили отставку. На место последнего был назначен командир герцогской лейб-гвардии. За ночь Кронбург получил нового начальника полиции в лице бывшего уланского ротмистра фон Заара. На него была возложена охрана принца на улицах Кронбурга. На людей, не посвященных в дело, первые его распоряжения произвели ошеломляющее впечатление. Было объявлено о высылке из пределов герцогства графини Монтебелло и ее матери на том основании, что они обе итальянские подданные. Стало известно также об аресте нескольких совершенно невинных номеров газеты д-ра Штейна вследствие возбужденного против редактора обвинения в оскорблении величества.
Во дворце князя Филиппа вдруг появился ординарец с собственноручным письмом герцога. «Переселиться в замок Лаубельфингель и избегать герцогской столицы», — таков был приказ.
Выезды герцога ознаменовывались для изумленных жителей столицы усилением полиции и появлением целых отрядов охраны. Его высочество носился по улицам столицы в закрытой карете, сопровождаемой двумя телохранителями сзади и спереди. Ездил он всегда крупной рысью, как будто кто-нибудь его преследовал. Начальник полиции фон Заар издал особый приказ по поводу выездов герцога.
«Все экипажи должны останавливаться, пока карета его высочества не скроется из виду», — гласил этот приказ.
Смотреть на такие сцены было довольно дико. Огромное движение на улицах Кронбурга вдруг, словно по какой-то невидимой команде, останавливалось. Каждый кучер давал при помощи хлыста знак другому, и таким образом все знали, что где-нибудь вблизи несется наглухо закрытая карета герцога. Он мелькал, словно молния. Словно злой дух, он носился с одного конца столицы на другой, распространяя на несколько минут панику и тишину на улицах, по которым он проезжал.
Все должны были знать и чувствовать, кто теперь царствует в герцогстве!
По личному приказанию Альфреда министром финансов был назначен камергер Вернер фон Лензинг. Герцог целыми часами работал вместе с ним в его покоях. Дело шло о постройке храма для любимого художника и проложении новой улицы к нему. Фон Лензинг был как воск в руках герцога, как Альфред сам рекомендовал фон Галлереру. Но даже Галлерер качал своей седой головой, слыша о чудовищном плане, который юный государь велел архитектору спроектировать, не считаясь ни с какими практическими соображениями.
«Должно быть сделано!» — вот единственный ответ, который давал герцог на все авторитетные технические возражения специалистов. В стенах министерства Лензинг знал свое дело.
Галлерер был всемогущ, но те, кто был призван им, плясали под его дудку и знали, что он только рупор его высочества. В случае надобности он готов был управиться и с ландтагом и добиться увеличения цивильного листа, но… при отпуске денег на осуществление герцогских планов нужно было согласие еще одной инстанции, а при том возбуждении, которое образовалось в столице против герцога, было более чем сомнительно, чтобы настроение этой инстанции совпало с желаниями герцога. Дело шло о полной перестройке большей части города. Городское самоуправление и жители Кронбурга, в высшей степени раздраженные последними распоряжениями, должны были подумать о том, следует ли отнестись с вниманием к планам герцога или нет. Об этот подводный камень все могло разбиться, если бы даже министерство и ландтаг оказались преисполненными усердия. По бывшим примерам еще нельзя было судить о том, до какого упорства может дойти герцог.
Чувствовалось брожение. Над Кронбургом и всем герцогством носились грозовые тучи. Все знали и чувствовали, что городское управление не замедлит дать герцогу отпор по этому делу в отместку за его поведение и необычайные распоряжения.
Хуже всего было, что этот тлевший огонек старались раздуть. Прежде всего тут был Бауманн фон Брандт, служивший теперь своими знаниями прессе. Как человек, не занимавший служебного положения, он не боялся подвергать распоряжения герцога и мероприятия нового министерства самой ожесточенной критике.
Газетные статьи день ото дня становились все смелее и смелее. Их читали и проглатывали тысячи, в воображении которых личность нового государя должна была слагаться очень некрасиво. То была кампания клерикально-иезуитской партии, к услугам которой были Штейн и Пфистерман. Этот последний явился источником, из которого можно было черпать сведения о качествах нового герцога.
Изгнанный по капризу из столицы, князь Филипп обдумывал в своем замке Лаубельфингель план мщения и тайно совещался с Бауманном фон Брандтом, который после смерти герцога Бернгарда самовольно вернул его в столицу. Теперь этот Бауманн стал чуть не ежедневным гостем смертельно обиженного родственника герцога.
Куда ни взгляни, в эти чреватые мрачными последствиями дни и недели все уже и уже становились петли сети, из которой воля герцога могла вырваться только каким-нибудь энергичным смелым деянием. Все то, чем Бауманн фон Брандт старался его напугать, теперь действительно осуществилось: благодаря своему грубому поведению, он сразу потерял любовь своего народа и своей столицы и утратил доверие граждан к мероприятиям правительства. С неслышным ропотом восстание уже выползало на улицы Кронбурга всякий раз, как герцогская карета проносилась, словно молния, среди внезапной мертвой тишины.
Пост директора театров, который занимал Глаубах, оставался еще не замещенным. Эту должность пока исполнял главный режиссер Ашер. Со времени исполнения новой оперы герцог перестал и думать о своем придворном театре. Занявшись проектом нового храма искусства, он как будто потерял всякий интерес к старинному почтенному зданию, которое было выстроено его предками.
При таких обстоятельствах наступал день рождения маэстро.
В этот день рано утром в его квартиру прибыл адъютант фон Ласфельд с собственноручным письмом герцога. Этим письмом маэстро назначался директором королевского театра и придворной музыкальной капеллы.
Какое-то тяжелое чувство шевелилось в душе адъютанта, когда он поднимался по широкой мраморной лестнице виллы, которую герцог приказал отвести для маэстро в Кронбурге.
Никто не ожидал его здесь.
Он должен был позвонить несколько раз прежде, чем ему открыли дверь. Появившийся откуда-то старый дворецкий сообщил герцогскому адъютанту удивительную вещь: несколько недель тому назад маэстро незаметно уехал из Кронбурга. Он будто бы выехал за границу и строго-настрого приказал держать в секрете его адрес.
Сильный страх овладел Ласфельдом. Как он осмелится передать герцогу такое известие, которое, несомненно, подействует на него удручающе? Моментально перед ним пронесся образ старика-лакея Мертенса, который однажды выскочил весь в крови из апартаментов герцога. Альфред разбил графин с водой о его голову.
— Нужно, конечно, держать это в тайне от всех, — повторял про себя Ласфельд. — Но вы знаете меня, я здесь по приказанию его высочества. Вам известен адрес маэстро?
Старик, которому было поручено стеречь виллу, сначала закачал было головой. Но Ласфельд, настойчиво уговаривая, успел, однако, выведать у него нужный адрес. Не разузнав о месте пребывания маэстро, бедный адъютант никогда бы не решился предстать перед своим государем.
— Он за границей, — промолвил наконец старик. — Прошу вас обождать.
И он принес клочок бумаги с точным адресом беглеца.
— Вот.
На радостях Ласфельд сунул в руку старика золотой и отправился в тяжелый обратный путь в герцогский дворец.
Нетерпеливо ждал его Альфред. Ему страшно хотелось знать, как принял маэстро новое доказательство его доверия и милости.
— Ну, — крикнул он Ласфельду. — Что сказал маэстро, где он теперь, не думает ли он явиться, чтобы лично поблагодарить меня?
Ласфельд побледнел.
— Что с вами?
— Ваше высочество, разрешите сказать вам всю правду?
— Ну?
Со страхом и нетерпением герцог вперил свой взор в лицо Ласфельда.
— Маэстро нет в Кронбурге…
— Нет в Кронбурге?
— Он бежал из пределов герцогства, ваше высочество!
Тяжелая чернильница из лапис-лазури, лежавшая на столе перед Альфредом, со страшным треском ударилась в стену, оставляя после себя черную полосу на вышитом золотом ковре.
— Негодяи! — вырвалось у герцога, который метался по комнате, как бешеный зверь. — Негодяи! Что они со мной сделали! Их нужно колесовать за это, отдать на четвертование!
Ласфельд был рад-радешенек, что гнев его высочества пал не на него, сообщившего такую вещь, и что государь верно понял, кто виноват в этом бегстве маэстро.
— Вам известно, Ласфельд, где он теперь, где он скрывается от этого неблагодарного города?
— Вот.
Ласфельд передал герцогу ту самую записку, которую он получил из рук старика.
— Обождите! — говорил Альфред, читая записку. — Подождите, Ласфельд.
Герцог долго подробно что-то обдумывал и наконец сказал:
— Да, да, так.
И позвонил в колокольчик.
— Позвать сюда камердинера Модлера.
— Слушаю, ваше высочество.
Прошло несколько минут.
Герцог не удостаивал Ласфельда ни словом, ни взглядом. Он подошел к окну и грозил кулаками своей столице, которую он теперь ненавидел.
Он смеялся про себя. Смеялся над караулом своего дворца, который как раз сменялся в эту минуту, смеялся над этими куклами, нити от которых он держал в своей руке.
Вошел Модлер.
— Уложите в чемодан все, что необходимо для поездки, Модлер. Я еду сегодня вечером.
— Слушаю, ваше высочество. Гофмаршальская часть уже…
— Я еду, поняли, сегодня вечером. При чем тут гофмаршальская часть?
— Но… придворный поезд…
— Я поеду на обыкновенном поезде, и горе тебе и всем, если об этом кто-нибудь узнает. Я могу поехать, куда мне угодно. Ты поедешь со мной, Модлер, и вы тоже, Ласфельд.
— Куда, ваше высочество?
— Это ты узнаешь на вокзале заблаговременно, а теперь ступай.
Модлер исчез.
— Вы должны быть здесь в восьмом часу, Ласфельд. Вы будете меня сопровождать. До вокзала я дойду пешком.
С минуту он что-то обдумывал, потом покачал головой. Казалось, им овладело что то вроде страха.
— С вами будет оружие, Ласфельд?
— Как прикажете, ваше высочество.
— Итак, до вечера.
И он снова подошел к окну и погрозил кулаком Кронбургу.
XII
Поездка Альфреда оказалась безуспешной. Он разыскал за границей любимого маэстро, но все его просьбы и уговоры не могли склонить оскорбленного артиста вернуться в Кронбург. Он упорно стоял на своем и твердил одно:
— Меня преследует судьба. Она с ожесточением гонится за мною по пятам и захватывает всех, кто приближается ко мне. Я предупреждал вас, ваше высочество. Позвольте мне в уединении истечь кровью от недавно нанесенных ран.
Альфред должен был уехать от него и через два дня вернулся ни с чем в Кронбург.
Дела здесь шли хуже, чем он ожидал. Враждебная ему партия широко истолковала его необъяснимое отсутствие.
В газете д-ра Штейна, которому хотелось отомстить за процесс об оскорблении герцога, появилась довольно злая статья, которую с нетерпением проглотили все в Кронбурге. Называлась она: «Герцогство, разыскивающее своего герцога».
Альфред замкнулся в себе. Целый день он проводил в полном уединении в роскошных покоях своего дворца, а ночи просиживал без сна в своем сияющем зимнем саду, всецело погрузившись в прекрасную мечту, от которой он никак не мог оторваться. Его упрямая воля упорно сосредоточивалась на одной мысли — проложить новую великолепную улицу и построить новый храм искусства.
Сессия ландтага была в полном разгаре. Хотя министру финансов и удалось провести законопроект об увеличении цивильного листа герцога, однако он не скрывал от себя, что, несмотря на это увеличение цивильного листа, игра еще только начинается.
Против герцога и его дружбы с маэстро, его расточительных планов восстала не одна газета Штейна. Во всей прессе об этом стали говорить совершенно явно. Личность маэстро весьма дерзко представлялась в карикатурах и памфлетах, которые грозили разрушить любимые планы Альфреда о будущности маэстро и его творений.
Лензинг отлично понимал всю тяжесть и непрочность своего положения при сложившихся обстоятельствах. Он имел продолжительные переговоры с министром-президентом фон Галлерером, но и тот не находил в себе мужества подготовить его высочество к тому, чтобы отказаться пока от своего плана и терпеливо выждать более благоприятного времени, когда успокоится общественное настроение. Он знал, что на все подобные предложения герцог ответит: нет.
Альфред был всецело во власти этой одной мысли. Он дал маэстро торжественное обещание и поручился своим герцогским словом. Поэтому вещи должны идти своим порядком, хотя бы это стоило отставки десяти кабинетам.
Разговоры о герцоге и его затеях можно было слышать каждый день во всех ресторанах и пивных. Кронбург разделился на два лагеря. В одном, который был поменьше, состояли энтузиасты нового искусства; в другом, большем, собрались все, кто противился всяким новшествам и в искусстве, и в других областях жизни. Тут же были и те, кто с появлением нового гения, озаренного королевской милостью, видели, что их собственные звезды клонятся к закату. Средние обыватели Кронбурга, от которых зависело уступить место для задуманной герцогом постройки и разрешить проведение новой улицы, охотно присоединились к противникам этих новых затей, которые казались все неудобнее и неудобнее.
Сидя вечерком за пивом, они читали друг другу свою придворную газету, в которой критики наперебой высмеивали музыку маэстро, как преступление против святого искусства, как порождение полоумного честолюбца… Это нравилось ремесленникам и купцам, которые играли главную роль в прениях в городском управлении. Их бросало в жар при мысли, что по капризу герцога придется бросить миллионы ради какой-то чисто идеалистической затеи. Каждому казалось, что он уже чувствует, как нажимает на него пресс.
Таким образом, благодаря герцогу, маэстро и его новая музыка сделались общественным событием не только Кронбурга, но и всей страны, задолго до того, когда городскому управлению действительно пришлось заняться рассмотрением проектов герцога. Приговор над этим гигантским делом, которое стало достоянием публики, благодаря нескромности Монтебелло, был уже давно готов в этих филистерских умах, пока Альфред все еще носился со своими планами и надеждами.
Под руководством фон Лензинга министерство финансов выработало законопроект, который возбудил большую сенсацию в среде городского самоуправления Кронбурга. Вопрос шел о том, склонно ли управление войти в рассмотрение плана герцога и согласится ли оно снести старый квартал, прилегавший к берегу реки. Все, конечно, понимали, что снос этого старого квартала означает начало осуществления герцогских затей в честь маэстро.
Альфред не находил себе покоя в тот день, когда рассматривался этот вопрос. Ему не сиделось в его апартаментах. Видели, как экипаж герцога раз десять промчался по самым старым улицам Кронбурга от дворца к городской ратуше, в большой зале которой происходило решающее заседание.
Альфред сгорал от нетерпения. Он в уме уже набрасывал телеграмму, которой хотелось осчастливить далекого маэстро. Несмотря на все препятствия, он все же не сомневался, что его великие планы осуществятся. Он не верил, чтобы осмелились бросить ему перчатку и поставить крест на всех его замыслах. Вследствие его молодости и присущего ему фанатизма он и понятия не имел о том, с каким упорным народом ему придется иметь дело.
Тем более сокрушителен был удар.
Городское управление отклонило шестьюдесятью шестью голосами против пяти предложение обсудить желание его высочества.
На министра финансов, который лично присутствовал на этом заседании, пала тяжелая задача сообщить герцогу о результате голосования, который уничтожал все его планы.
Выйдя из высокого подъезда ратуши, он стал искать взглядом герцогскую карету, которая стояла здесь целый день под охраной отряда полицейских. Но теперь ее не было и следа. На главном полицейском посту министру сказали, что его высочество, впав в нетерпение и гнев, изволил полчаса тому назад вернуться во дворец.
С тяжелым сердцем двинулся туда министр. Альфреда он застал в его рабочем кабинете. На столе перед ним лежал развернутый атлас проекта новой великолепной улицы и театра. Он так погрузился в рассматривание будущего сооружения, что почти не заметил министра, который после неоднократных попыток доложить о себе решился наконец войти сам.
Увидав наконец его, Альфред воскликнул:
— Это будет великолепно, Лензинг! Если представить себе этот храм нового искусства на зеленом холме, у подножия которого протекает шумная река, то это затмит памятник славы, воздвигнутый моему отцу.
Лензинг не знал, с чего начать.
Наконец он набрался смелости.
— Ваше высочество, — залепетал он, — в результате только что состоявшегося постановления городского управления этим прекрасным мечтам суждено, по-видимому, остаться мечтами.
Альфред побледнел.
— Какое же состоялось постановление? Какое постановление осмелились они принять? — кричал он, трясясь от гнева.
— Ваше высочество, соблаговолите выслушать вашего покорного слугу спокойно.
— Говорите, Лензинг, говорите скорей!
— Городское управление столицы вашего высочества постановило оставить предложения вашего высочества без рассмотрения.
Альфред громко рассмеялся в ответ.
Одну минуту министр боялся, не сошел ли герцог с ума.
— Ваше высочество! Ваше высочество! — пытался он успокоить его.
Вдруг Альфредом овладело ледяное спокойствие. Насмешливая улыбка скользнула по его гордым устам.
— Я никого не хочу принуждать к счастью, тем более это гнездо ворон Кронбург. Вот вам мой герцогский приказ! Идите и обнародуйте этот приказ в моей официальной газете для сведения Кронбурга и всей страны, но напечатайте так буквально. Понимаете? Буквально! Я не стану напрасно стараться превратить беотийцев в афинян. Я не хочу метать бисер перед свиньями, Лензинг. Вы можете напечатать это, если хотите. Поняли?
Он подошел к столу, схватил планы и разорвал их на тысячи кусков.
— Покорно благодарю мою столицу, — горько рассмеялся он. — Пусть она омужичится, если не хочет стать лучшей. Мое государство не будет иметь с нею ничего общего. Мы будем учиться управлять грозовыми тучами издали, из нашего одиночества.
Лензинг не верил своим ушам.
— Издали? — повторял он. — Что ваше высочество изволит подразумевать под этим?
— Подобно божеству, которое управляет грозовыми тучами и летом в душную жару поражает хижину виновного и невиновного. Я держал в руках хлеб и мясо и хотел раздать их. Но они оттолкнули меня с оскорбительной неблагодарностью. Как принял посольство старинный библейский царь?
— Ваше высочество разумеете…
— Скажите народу: мой отец наказывал вас лозами, я буду наказывать вас скорпионами. Кажется, так? Это золотые слова для моей страны. Скорпионы Кронбургу, молнии владыки из гремящих облаков, которые носятся недостижимо высоко над вашими головами. Передайте им это!
Он подошел к окну и стал смотреть на дворец.
Министр стоял, выжидая.
Потом он отвесил низкий поклон и удалился.
Он хотел бы подождать до утра, пока не успокоятся нервы его высочества.
Через минуту послышался резкий звонок герцога.
— Позвать гофмаршала! — быстро сказал он вбежавшему лакею.
Прошла добрая четверть часа прежде, чем явился новый гофмаршал камергер фон Лейтгофен, назначенный после падения Бауманна фон Брандта.
Был вечер. Его пришлось вызвать из итальянского посольства, куда он был приглашен на какое-то празднество.
— Вы готовы? — спросил гофмаршала Альфред, как только тот появился.
— К чему, ваше высочество?
— Ехать со мной.
— Ехать?.. Куда?
— Я уезжаю из Кронбурга сегодня ночью. И навсегда, господин гофмаршал.
— Ваше высочество…
— Что такое? Я вас спрашиваю: готовы ли вы ехать?
— Как прикажете, ваше высочество. Прикажете заказать придворный поезд? Куда изволите ехать?
— Нет. Я поеду в обыкновенном вагоне. Сегодня же ночью. В замок Турм. Приготовьте все, что нужно. Когда я могу ехать?
— Я должен по телеграфу дать распоряжения в замок Турм, ваше высочество. Переезд двора был объявлен уже несколько месяцев тому назад. Поэтому все готово. Необходимо только телеграфное распоряжение вашего высочества.
— Отлично. Позаботьтесь об этом. Отныне мы будем править из замка Турм. Поняли?
— Ваше высочество изволили задумать совсем и навсегда переселиться в замок Турм? А как же… священные традиции герцогского дома?
— Поняли вы меня или нет? Сколько времени я пробуду в замке Турм, это вас не касается, да и не может кого-либо касаться. Я переселяюсь в замок Турм и притом сегодня же ночью. Я отрекаюсь от Кронбурга. Довольно этого с вас?
— Совершенно, ваше высочество.
— Караул должен быть снят. Теперь десять часов. Около двух часов мы можем быть уже в Турме.
— Слушаюсь.
Лейтгофен вышел.
— Теперь закатилось солнце моей милости, — прошептал про себя Альфред. — Вернусь ли я когда-нибудь обратно?..
Через час в темную ночь герцогский вагон выезжал из столицы. С затаенной злобой покидал герцог свою неблагодарную столицу.
XIII
Замок Турм лежал на западном берегу голубого озера, которое тянется в горах среди сосновых лесов всего в нескольких часах езды от Кронбурга. Против него расположена старинная резиденция герцогов Лаубельфингель. Длинный, разбитый во французском стиле парк, засаженный буками и дубами, тянется по берегу озера и окружает старое простое здание, которое Альфред назначил для пребывания своему дяде, князю Филиппу.
Жаркий безоблачный июльский день царил над озером и парком. Из зеленых глубин герцогского парка неслись звонкие, как колокольчики, голоса двух девушек.
То были две дочери князя Филиппа от первого брака — двадцатилетняя принцесса Матильда-Маргарита и ее сестра Адельгейда-Эмма, которая была моложе ее на два года. Несколько лет тому назад, когда князь Филипп был еще в самых лучших отношениях с зятем, покойным герцогом Бернгардом, день рождения обеих принцесс весело справлялся всей столицей. Но когда он женился на его золовке Пауле-Александре, над этой боковой линией герцогского дома разразилось несчастие. Первая жена князя Филиппа, ухаживая за своей старшей дочерью, сама схватила дифтерит. Юная принцесса была спасена искусной операцией, которую ей сделал придворный врач, но мать, не достигшую еще и двадцати пяти лет, отнесли в тихий герцогский склеп. Целый год горевал князь Филипп по своей обожаемой жене. Потом он стал ежедневным посетителем придворного театра, и вдруг в один прекрасный день в столице разнесся слух, что князь Филипп, который при малолетстве герцога Альфреда мог иметь виды на престол, увлекся опереточной актрисой Юлией Беллино, отличавшейся изумительной красотой, и отдал ей свое сердце.
Герцог Бернгард старался всеми доступными ему средствами отвратить князя от мысли жениться на этой певичке. Но вдовец, мучимый чувством одиночества, упорно стоял на своем желании вступить с Юлией в морганатический брак. Герцог Бернгард, наконец, принужден был согласиться на это, но с одним условием. Князь Филипп должен был покинуть Кронбург и не возвращаться в него. После этого он уже не появлялся при герцогском дворе и жил вдали от столицы в качестве частного человека. Юлия Беллино стала называться госпожой фон Вальдау. Первое время после женитьбы князь Филипп жил в Париже и на Ривьере. Маленькие его дочери воспитывались у сестры его первой жены вместе с ее единственным сыном Альфредом. Мало-помалу князем овладела сильная тоска по родине. Но все его обращения, все его просьбы о разрешении вернуться в столицу остались безрезультатны. Только после смерти герцогини, которая никогда не могла простить того, что Юлия так быстро вытеснила ее сестру из сердца князя Филиппа, герцог Бернгард разрешил ему поселиться в пределах герцогства в замке Лаубельфингель. Отсюда его и вызвал в столицу Бауманн фон Брандт сразу же после смерти старого герцога, не спросив даже об этом нового герцога.
Неравный брак с госпожой фон Вальдау принес не много счастья герцогу. Юлия оказалась кокеткой. Привыкнув к театральным триумфам, она, став невесткой герцога, не могла отказаться от удовольствия покорять мужчин. Ревность и гордость князя Филиппа не могли долго мириться с этим. Через несколько лет князь по собственному желанию и по приказанию герцога разошелся со своей второй женой. О формальном разводе, по католическим церковным законам, не могло быть и речи. Госпожа фон Вальдау жила в Париже, а ее муж поселился вместе с дочерьми в отведенном ему замке Лаубельфингель.
И вот теперь его снова привело сюда падение министерства Бауманна фон Брандта и последовавший затем приказ герцога Альфреда.
Следуя примеру своего покойного отца, Альфред принял на счет своего цивильного листа расходы по содержанию скромного двора своего дяди и его дочерей. Матильда-Маргарита и Адельгейда-Эмма под надзором гофмейстерины, графини фон Шанцинг, довольствовались входившей в моду английской игрой в мяч. Они смеялись, шутили и не могли наиграться в эту игру, требующую большой грации и ловкости.
Обе были истинными отпрысками герцогского рода, славившегося своей вошедшей в поговорку красотой. Их сходство с двоюродным братом, красивым, как сам Аполлон, бросалось в глаза. В особенности была похожа на него старшая, Матильда-Маргарита, у которой, как и у Альфреда, были большие темные загадочные глаза и пышные, волнистые каштановые волосы. Адельгейда-Эмма казалась приветливее и любезнее своей сестры. Светлые голубые глаза придавали ее тонкому, обрамленному темными волосами лицу приветливое выражение и отнимали у него ту неприступность, которая заметна была у ее сестры.
— Что с тобой сегодня, ты не отразила ни одного шара! — вскрикнула звонким голосом Адельгейда.
— Не знаю, — отвечала старшая сестра. — У меня какое-то странное, пожалуй, даже печальное настроение.
— Печальное?
И Адельгейда рассмеялась серебряным смехом.
Графиня фон Шанцинг подошла с озабоченным видом к Матильде и спросила:
— В самом деле, ваше высочество чувствуете себя нехорошо?
— Наоборот, отлично, добрейшая графиня. Физически я чувствую себя превосходно.
— А в других отношениях?
— Говоря откровенно, Лаубельфингелю предстоят вещи, которые меня очень беспокоят, кроме шуток!
— Что вы хотите сказать? — продолжала допрашивать ее Шанцинг.
— Вы легко могли бы догадаться об этом и сами. Посетители, которые здесь принимаются, приводят меня в ужас.
— Какие посетители? Мне нет никакого дела до того, кто бывает у отца, — со смехом заметила Адельгейда. — Положительно не понимаю, в чем ты видишь опасность?
— Ты еще слишком молода, Адельгейда. Этот Бауманн фон Брандт предвещает опасность. Дня не проходит без того, чтобы его безбородое птичье лицо не появилось в залах замка или в аллеях парка! А ведь он уволен в отставку и в немилости у герцога. Его присутствие в Лаубельфингеле накличет беду для отца и для нас.
— С которых пор ты стала заниматься политикой? Это дело Альфреда и его министров.
— Ты слишком легко ко всему относишься, Адельгейда! Сверженный министр, которому хочется втянуть отца в Бог весть какие планы, не один. Сюда заглядывают и другие. Недаром же они приезжают сюда!
— Ты говоришь о кронпринце Карле, который приезжал сюда недели две тому назад? Конечно, он был здесь не без причины, не без цели.
Матильда вдруг густо покраснела.
— Кронпринц? Да, конечно… Я говорю и о нем… но…
— А про кого же еще?
— Меня беспокоит старый князь Лейхтенштейн.
— Да он годится нам в дедушки.
— Тем более это страшно. Ты понятия не имеешь о том, как обыкновенно пристраивают принцы своих дочерей.
— Перестань, пожалуйста.
— Да, именно пристраивают. Вчера отец мимоходом сказал, что поместья, которыми князь владеет в России, и богатства, которые ежегодно он получает от них, способны оздоровить финансы целого государства.
— Ну, если это сказал отец, то действительно стоит об этом подумать.
— Кроме того, и принц Карл бывал здесь не даром… Он глаз не спускал с нас обеих. Потом…
— Что потом?
— Потом о нем нет ни слуху ни духу. Переговоры, по-видимому, разбились о какие-то препятствия. Это ужасно — чувствовать себя предметом какой-то торговли.
— А разве ты чувствуешь себя им?
— Да. Вот уже года два-три, как я потеряла всякое спокойствие и уверенность. В каждом посетителе Лаубельфингеля я вижу покупателя.
— Фу, зачем ты называешь это так?
Графиня Шанцинг, которую начинал тяготить этот разговор, удалилась.
— Ты начиталась новейших книг, Матильда. Не следует выражаться таким образом.
— Почему же не следует? Может быть, ты воображаешь, что я испугаюсь этого имени, как оно ни противно. Хитрый дипломат, этот пройдоха Бауманн, не даром здесь. А о чем же может идти речь, как не о руке какой-нибудь из принцесс? Я нахожу это отвратительным. Всякий раз, как я вспомню об этом старом Лейхтенштейне, меня бросает в холодный пот.
— А когда ты думаешь о кронпринце Карле, тогда во что тебя бросает?
— Ты плохо воспитана, Адельгейда.
— Может быть, но зато, несмотря на свою молодость, правильнее понимаю вещи. Ты думаешь, я не заметила ваших взглядов. Ну, я жалую тебе княжескую корону. Она отлично пойдет к твоим каштановым волосам. Уступаю тебе влюбленного принца, ибо я…
И она вдруг смолка.
— Не бойся Лейхтенштейна, это нелепо и глупо.
— Собственно говоря, ты права. Чего я боюсь? Переговоры еще не кончены. Карл вернется. Перестанем вспоминать об этом старом Лейхтенштейне. Ну, а ты как?
— Я? Что ты хочешь сказать?
— Ты сказала, что…
— Разве я что-нибудь сказала о себе?
— Сказать, не сказала, а так намекнула, что ты уступаешь мне Карла и княжескую корону, ибо ты сама…
— Нет, нет! Ты жестоко ошибаешься. Я еще так молода. В княжеских домах соблюдается очередь, как у древнего Лавана.
— Ты хорошо помнишь библейскую историю!..
— Слава Богу, в течение десяти лет нам только ее и читали, и в восемнадцать лет трудно ее и забыть, как следует. Смотри, смотри!
Она взглянула на озеро и бросилась по дорожке герцогского сада, которым он отделялся от улицы.
Матильда быстро последовала за нею.
— Что там такое?
— Лебедь, лебедь!
По середине озера шел небольшой пароход, держа направление на крошечный островок, расположенный между Турмом и Лаубельфингелем.
— Кто это? — серьезно спросила Матильда.
Адельгейда напрасно старалась побороть свое волнение и скрыть от сестры то, что происходило в ее сердце при виде этого небольшого парохода.
Пароход приближался. Теперь его видно было ясно. Он назывался «Лебедь» и действительно имел форму лебедя. На носу красовалось позолоченное изображение этой любимой в сказках птицы.
— Он сам стоит на пароходе, Матильда. Он держит курс сюда.
— Не может быть! Он терпеть не может отца. Он опять выслал его из Кронбурга сюда. Не может быть. И если Карл… то виноват будет он.
Одну минуту казалось, что пароход действительно берет курс на Лаубельфинген, но вдруг он сделал крутой поворот и остановился у островка.
— Об этом острове рассказывают удивительные вещи, — начала опять Адельгейда. — С тех пор, как он поселился в замке Турм в полном одиночестве, словно какой-нибудь сказочный король, на острове, говорят, творятся удивительные вещи.
— Сплетни лакеев!
— Ну, нет. Он превратил весь остров в настоящий букет роз. Никто до него не был на этом острове. Он называет Турм и остров Замком роз. Кого-то он изберет в королевы роз, Матильда?
— Ты меня беспокоишь! Неужели он в самом деле так ненавидит отца?
— Он примирится с отцом. Он должен с ним примириться. Отец приходится ему ближайшим родственником. Это была вспышка гнева против Бауманна фон Брандта, а не против отца. Да ты не видела его моими глазами, и у тебя в голове все этот принц Карл!
— Ты думаешь? Нет, я смотрела на него и твоими глазами. Он красивейший мужчина в мире, но…
— Что но?
— Но такой ли он мужчина, как все прочие?..
— Что ты хочешь этим сказать?
— Какая ты глупая! Разве я могу сказать это сама! Я испытываю такое чувство, как будто он отделен от нас какой-то странной завесой. Это я испытывала в Кронбурге, когда он в театре зашел к нам в ложу, это я чувствую и теперь, здесь, когда его лебедь несется по озеру, словно корабль какого-то другого неведомого мира. Я уважаю его, мои глаза невольно ищут его и, как очарованные, следят за его прекрасной фигурой, но…
— Что но?
Маргарита понизила голос.
— Но что-то делает его для меня совсем другим, чем все остальные мужчины. Я не желала бы иметь его своим мужем, но и не испугалась бы так, как испугалась бы князя Лейхтенштейна. Он представляется мне… смейся, пожалуй… он представляется мне святым, непорочным. Он как будто не из мяса и крови, как мы все.
— Однако ты…
— Ты можешь называть меня смешной и тем не менее… Это редкое свойство из всех мужчин, которых я знаю, есть у него одного. Тебе известно, что он изгнал прекрасную графиню Монтебелло?
— Нет.
— А я знаю.
— Так скажи мне.
— За то, что она вздумала наложить на него свою руку, чего он никому не может простить, ибо считает себя богом.
— Но, Матильда, ведь Монтебелло не…
— Она сама княжеской крови. Да в такие предрассудки теперь уже не верят… Все мы люди-человеки. Только его одного отделяет от нас нечто такое, что трудно выразить словами, для чего я не могу придумать названия. И это будет его судьбой.
Адельгейда недоверчиво покачала головой. «Лебедь» шел уже к Турму.
XIV
В аллее каштанов, которая протянулась прямой линией от дома к берегу озера, появился лакей. Он быстро шел к обеим принцессам.
— Что вам нужно, Гольманн? — боязливо, почти испуганно крикнула Матильда.
— Его высочество просит вас в свои апартаменты.
— Меня одну, — прошептала Матильда и в испуге схватила руку Адельгейды.
— Что бы это могло значить? — прошептала она на ухо графине Шанцинг, которая тем временем подошла к ним.
— Не знаю сама, ваше высочество. Но вы должны поступать так же, как делают все другие принцессы, и не очень раздумывать.
Матильда рассмеялась принужденно.
— Вы правы, графиня, не следует очень раздумывать о жизни, в самом деле это не стоит труда. Говорить немного по-французски, уметь вести разговор и пристойно улыбаться — вот и довольно для принцессы, особенно для такой…
Она вдруг смолкла. Лакей, стоя в отдалении, почтительно ее дожидался. Она заметила, что он ждет ее с нетерпением: должно быть, князь Филипп очень торопится.
— Что приказал вам передать его высочество? — еще раз переспросила она.
— Его высочество приказал мне отыскать в парке принцессу Матильду и просить ее высочество безотлагательно пожаловать в его апартаменты.
— Иду.
И, быстро решившись, Матильда пошла к дому. Адельгейда, качая головой, посматривала ей вслед. Сестра какая-то странная. Вечно погружена в свои мысли. Наряды и балы не доставляют ей ни малейшего удовольствия. Все только книги и книги. Потом бешеная скачка на охоте через луга и леса. Это она, может быть, унаследовала от отца, который в молодости отличался на офицерских скачках.
Пока Адельгейда все еще смотрела на маленький белый пароход, приставший уже к замку Турм, Матильда входила в кабинет отца.
Князь Филипп, казалось, был в самом веселом настроении духа. Ему было лет под пятьдесят. Вошедшая в поговорку красота княжеской семьи сказалась и на нем. Но его пребывание с Веллино в Париже и на Ривьере, полное всяких приключений, наложило свой отпечаток на его лице. Жесткая складка около его красивого рта, по-видимому указывала, что он не умел беречь себя. Вечно бегавшие глаза, казалось, постоянно о чем-то спрашивали, и это больше всего не нравилось Матильде.
— Садись, — сказал князь дочери. — Я должен сказать тебе нечто в высшей степени важное.
Принцесса повиновалась.
Она предпочла бы стоять, предчувствуя, что она услышит нечто такое, на что ей придется возражать.
— Что же вы хотите сказать мне, ваше высочество?
Она нарочно выбрала это официальное название, которое обыкновенно не употреблялось при разговорах отца с дочерьми. Но какое-то чувство подсказывало ей, что в данном случае с ней решился говорить не отец, а князь.
— Мое сообщение не должно удивлять тебя. Ты в таком возрасте, что каждый день можешь услышать это. Чтобы покончить в двух словах, я объявляю тебе, что князь фон Лейхтенштейн просит у меня твоей руки.
Матильда молчала.
Такое предложение в самом деле не удивило ее.
Князь Филипп посмотрел на нее с изумлением.
— Ну, что же ты скажешь на это?
Матильда продолжала молчать. На ее лице лежало ледяное спокойствие.
— Князю Лейхтенштейну скоро будет шестьдесят лет, — сказала она наконец.
— Ему пятьдесят семь лет, и он отлично сохранился. Мужчина в расцвете сил, — заметил князь.
— И притом один из богатейших людей в Европе, — насмешливо прибавила Матильда.
— Это, конечно, не беда?
— Конечно, нет. Особенно если он в благодарность за получение моей руки примет на себя погашение долгов вашей светлости.
Князь Филипп вспылил.
— Прошу подобных вещей мне не говорить.
— Как вам угодно. Я тоже прошу не говорить мне подобных вещей.
— Что?
— Я не товар для старого светского жуира, хотя бы его имения в России стоили в десять раз больше, чем они стоят.
Князь Филипп старался сохранить спокойствие.
— В твоем возрасте и при твоем положении, дитя мое, люди не знают настоящую цену денег. Поэтому я прощаю тебя. Годовой доход князя Лейхтенштейна втрое больше цивильного листа его высочества герцога. Что ты на это скажешь? Князь поручил мне сказать, что сегодня днем он лично явится к тебе, чтобы просить у тебя твоей руки. Что же мне сказать ему?
— Скажите, что я не могу принять его предложение. Ты же знал, что ничего другого ты сказать ему не можешь.
Князю стоило большого труда сохранить спокойствие. Почти кротким тоном — он надеялся этим легче всего склонить упрямицу — он заговорил опять:
— Я знаю, дитя мое, что твое согласие на предложение князя Лейхтенштейна разрушило бы в тебе большие надежды и прекрасные мечты. Ты хотела бы вознестись выше, дитя мое. Князь не может дать тебе корону, зато у него огромное состояние, какого напрасно стали бы искать при европейских дворах.
— Деньги, деньги и только деньги! Бог знает, для чего они. И я должна быть их добычей! Нет! Нет!
Она порывисто встала и, как своевольный ребенок, затопала ногами по гладкому паркетному полу княжеских апартаментов.
— Ты будешь внимательнее к моим намерениям, если узнаешь дальнейшее, — послышался снова голос князя Филиппа. — Ни для кого не тайна, что между герцогским двором в Кронбурге и отцом кронпринца Карла шли переговоры, центром которых была ты. Его королевское высочество даже удостоил своим посещением замок Лаубельфинген. Его высочество приезжал смотреть невесту. Ну и, благодаря твоему братцу Альфреду, ничего из этого не вышло. В этом я уж не виноват. Я ведь не царствую, я не герцог, я не в состоянии пристроить свою дочь за королевского сына. И если его высочество король был так великодушен, что отказался от приданого, то твой двоюродный брат оказался слишком горд, чтоб дать на это свое согласие, а его министр финансов слишком жаден, чтобы снабдить меня деньгами, которые ты так презираешь. Вот как обстоит дело. Его высочество кронпринц не вернется сюда, ибо никто не решится предложить герцогу дать приданое его кузине из своих собственных средств. А я небогат, дитя мое, у меня только две прекрасные дочери, из которых одна очень непослушна. Я живу здесь в Лаубельфингене милостями моего племянника Альфреда.
— Потому, что ты не умеешь управлять собой, — последовал горький ответ дочери. — Ты проматываешь за границей то, что обеспечило бы тебе безбедное существование на родине. О, я знаю, что дети не должны говорить таким языком со своим отцом. Но мне известна причина, навлекшая на тебя неудовольствие герцога Бернгарда. По этой же причине недоволен тобой и герцог Альфред. Я, конечно, молчала бы об этом, если бы в данном случае дело шло не о моей жизни и счастье, если б меня здесь не продавали, как товар, как рабыню, белое тело которой так ценится на рынке.
— Ты слишком начиталась!
— Оставь свои шутки. Что касается кронпринца Карла, то тут дело вышло совсем иначе. Эго неправда, что он приезжал в Лаубельфинген с целью высмотреть невесту. Его привел сюда случай. Он ехал в Турм, к Альфреду. И вот он увидел меня… А твои переговоры появились на сцене значительно позднее! Соображения, которые ты мне привел, могут, конечно, заставить согласиться с тобой. Но вот мое последнее слово: я отказываюсь от предложения князя Лейхтенштейна, ибо я не позволю продавать себя, как это делается обыкновенно с принцессами. Вот это кольцо я приняла от кронпринца и буду носить его в воспоминание о нем.
— Это было, простым знаком внимания, и это кольцо ни к чему не обязывает. Но оставим это. Я дал слово князю Лейхтенштейну и сумею его сдержать.
— Вам не удастся это сделать.
— Увидим. Есть средства укрощать непослушных дочерей.
— Да, монастырь, но я смеюсь над этим. Тебе не удастся сдержать свое слово, отец. Возьми его назад, пока еще не поздно, пока ты сам…
— Что, пока я сам?
— Пока ты сам не окажешься в положении, еще более неприятном, чем теперешнее. Ты сам дал мне в руки средство для того, чтобы разрушить все твои замыслы.
— Тебе их не разрушить.
Князь Филипп встал. В его словах слышался уже гнев, к взрывам которого его дочери уже успели привыкнуть.
— Гневом ты сегодня не достигнешь ничего, — спокойно сказала Матильда. — Ничего. Альфред отказался дать свое согласие на мое обручение с кронпринцем Карлом. Ни один член царствующего дома не может ни жениться, ни выйти замуж без согласия царствующего герцога. Если я захочу, то Альфред откажется дать свое согласие и на мой брак с князем Лейхтенштейном!
Князь Филипп побледнел. Этого он не предвидел. Альфред, которого нельзя уговорить, который изгнал его из веселого Кронбурга сюда в Лаубельфинген и который живет теперь здесь в непосредственной близости, всего через озеро! Если он узнает, что он может сыграть с ними штуку, отказав в своем согласии на брак Матильды с князем Лейхтенштейном, то, конечно, он это сделает!
Что же будет с ним? Кредиторы преследуют его по пятам. А Лейхтенштейн соглашался уплатить его долги с тем условием, чтобы наградой ему была рука Матильды.
— Что ты хочешь от герцога, который ненавидит нас всех, тебя тоже, и который нас преследует и выслал из Кронбурга. Уже несколько недель сидит он в своем Турме, на расстоянии получаса езды на лодке и нескольких минут на пароходе, и до сих пор не нашел времени приехать сюда, сделать визит нам, родственникам. Да и мы не видали лакея, который пригласил бы нас явиться в Турм.
— Лакей еще успеет явиться.
— Ты сильно ошибаешься.
— Если я его позову, он будет здесь.
— Ты думаешь, дитя мое? Ты это говоришь серьезно? А если б на нас опять взошло солнце его милости, то мы не имели бы надобности в Лейхтенштейне и в других… Но я не верю в это, не верю. Герцог Бернгард никогда не прощал мне, потому что жена не позволяла ему примириться со мной, а ведь это была мать Альфреда. От нее он унаследовал старинную ненависть ко мне, дитя мое!
— Отец, ты не знаешь Альфреда. Только один человек знает его, но он теперь далеко, за границей герцогства.
— Про кого ты говоришь?
— Я не могу назвать его тебе. Ты не знаешь Альфреда. Министры тоже не знают его. Адельгейда тоже не знает и не понимает его и никогда не поймет. Но я его понимаю. В глубине моей души я чувствую какое-то родство с ним. Он будет моим оплотом, и никто не посмеет принудить меня выйти замуж, если он того не захочет.
Она стояла во весь рост. Князь Филипп с удивлением глядел на ее величавую фигуру.
Как блестели ее глаза, в самом деле напоминавшие глаза Альфреда.
«Неужели в самом деле она глубже, чем кто-либо другой при дворе в Кронбурге, понимает загадочную, но родственную ей душу герцога?» — пронеслось в его голове. Они были двоюродные брат и сестра. В их жилах текла одна и та же герцогская кровь. И когда он смотрел на дочь, ему стало казаться, что перед ним стоит в женском образе сам Альфред.
— Позвать его, отец?
— Каким же образом ты можешь позвать его, если он запрет перед тобой дверь своего Турма?
— Этого он не сделает и придет сам, если я его позову. Ты не можешь его призвать, не может этого и Адельгейда, не могут и его министры, но я могу, я одна! Видишь это, отец?
Принцесса вынула из кармана маленькую золотую вещицу и показала ее отцу.
— От него?
— Да. Этот золотой рог он подарил мне однажды вечером в ложе после представления «Рыцаря с лебедем». «Если я услышу звук этого рога, то я приду, Матильда, — сказал он мне при этом. — Но он должен раздаться только тогда, когда та, которой я его дарю, будет в нужде и опасности». Так он сказал и отдал мне рожок. Я позову его, если ты, отец, не оставишь меня в покое с этим князем Лейхтенштейном!
И она спрятала в карман золотой рожок.
— Все это ребячество, Матильда, глупости, оригинальничанье, на которое он так щедр. Я не хочу ради него отказаться от своих планов, которые хорошо продумал, — отвечал князь Филипп.
— Как хочешь. Он придет мне на помощь, ибо он мне обещал это в тот вечер.
И прежде, чем князь успел что-нибудь сказать, принцесса вышла из комнаты. Она спешила из дома в глубину зеленого парка. Адельгейды и графини Шанцинг и след простыл. Быстро сошла Матильда к озеру и, освещенная яркими лучами полуденного солнца, приложила к губам золотой рожок.
Протяжный жалобный звук, словно призыв, умоляющий о помощи, троекратно пронесся над синим озером в душном жарком воздухе летнего полдня.
Долгая пауза.
И опять этот протяжный троекратный зов понесся, словно ветерок, к замку Турм.
А вот опять — в третий раз.
И вдруг она ясно увидела, как там у замка Турм отвязывали веревки у парохода и как через несколько минут «Лебедь» пришел в движение.
Она осталась на берегу озера и ждала его.
XV
Маленький пароход быстро приближался. Матильда могла уже различить особенности устройства этого герцогского судна. Пароход служил только двигателем. Впереди у него был устроен особый челнок, который он подталкивал вперед. Казалось, как будто его везли три белые лебедя. Они были воспроизведены поразительно точно и казались живыми. Но удивительнее всего был самый челнок. На носу его была укреплена обнаженная золотая женщина, обвитая цепями из роз, на шее лебедей были золотые цепи, которые сходились в руке герцога-юноши.
Принцесса узнала его издали. Он стоял во весь рост в своем челноке. На голове его был шлем в форме лебедя, на плечах серебряные доспехи, полуприкрытые светло-голубым бархатным плащом.
Молодая девушка была смущена. Словно из другого сказочного мира явился к ней спаситель в образе герцога. Молча, в немом изумлении и беспредельном восторге смотрела на него Матильда.
Ближе и ближе подходил этот странный челнок. Принцесса стояла как вкопанная. Вот, наконец, челнок коснулся берега.
— В глубине моего уединения я услышал твой зов, Матильда, — сказал герцог. — Подойди.
И он сделал повелительный знак.
Принцесса, не успев опомниться и повинуясь его волшебной силе, его воле, встала рядом с ним в челноке. Пароход снова взял курс к середине озера.
Тут она вспомнила, что князь Филипп строго-настрого запретил ей покидать парк без графини Шанцинг. Ей представилось, как отец будет сердиться. Но, вспомнив о противодействии, которое она только что оказала его планам, и о цели, которую она перед собой поставила, она прогнала от себя страх.
— Куда ты везешь меня, Альфред? — тихо спросила она.
Альфред молча указал ей на одно место голубого озера, туда, где в голубом тумане и в блеске полуденного солнца чернел маленький, густо обсаженный деревьями островок.
Она не решалась расспрашивать его больше. В его безмолвном величии было что-то такое торжественное, что невольно втягивало ее магическою силой в круг его идей и представлений.
Почти бесшумно шел челнок, плавно и медленно подвигаясь вперед. Прошло четверть часа, пока пароход коснулся берега островка.
Одуряющий запах тысячи роз пахнул навстречу Матильде. Она почти не могла дышать.
Альфред подал ей руку.
В чаще прибрежных кустов и цветущих водяных лилий Матильда увидала зеленую, почти незаметную пристань и, держась за руку Альфреда, вышла на нее.
Сделав вперед шага два, она вдруг вскрикнула от изумления. Весь остров был покрыт тысячами роз, похожий на какой-то гигантский букет из самых дорогих цветов.
В одном месте он сиял пурпуром, в другом яркой желтизной, в третьем — мертвенно-бледной белизной.
— Изумительно! — прошептала Матильда.
Альфред не промолвил ни слова: он видел по глазам своей спутницы, как изумлялась она делу его рук и как она понимала это дело. Почти ласковым движением он показал на это цветочное царство и тихо прошептал:
— Сад моих роз.
Теперь только она поняла тот уединенный образ жизни, который он вел в этом саду. Пестрые бабочки порхали среди цветов, между деревьями прохаживались важные павлины. Целая стая их составляла настоящее население острова.
По верхушкам деревьев, которые окружали остров и ограждали его от всякого любопытного взгляда, порхали целые стаи белых голубей. То были крупные голуби, ослепительно белого цвета, без малейшей примеси какой-либо иной окраски. Альфред протянул руку, в которой он незаметно держал маленькую корзинку с маисовым зерном. Его окружила целая туча белых голубей. Каждый из них робко садился на его руку и клевал зерна.
Посередине острова стояла маленькая часовня, а возле нее — простая беседка. Перед ней и остановился Альфред.
— Ты звала меня, Матильда, — спросил он. — Ты в беде и опасности?
— Мне нужна твоя помощь, Альфред.
— Говори.
— В одной из моих книг я прочла странную историю, которая мне понравилась больше всего из того, что я прочла летом. Можно рассказать ее?
Альфред утвердительно кивнул головой.
Он сел на стоявшую перед беседкой белую скамейку и пригласил ее занять место рядом с ним.
— Это история орла и голубя. Вероятно, ты тоже знаешь ее.
— Нет.
— Ну, так позволь мне рассказать ее тебе.
— Пожалуйста.
— Вот она. Высоко в горах, на самых вершинах жил королевский орел. Все живые существа, особенно дикие голуби, старались избегать его, ибо он преследовал всех. Но вот в один прекрасный день его сразила пуля охотника. Рана его была не смертельна: пуля только разбила ему крыло. Тихо сидел он в одиночестве на вершине скалы, и прошло для него время, когда он мог совершать свои царственные полеты, превосходившие полеты всех других птиц. Зяблики и дерзкие воробьи теперь подходили бесстрашно к могучей птице и смеялись над ее величиной и надломленной силой. И только один белый дикий голубок чувствовал сожаление к раненому орлу. Он кружился в своем полете около уединенной скалы и мысленно нес орла все выше и выше к голубому небу. Его взгляд следил за голубем, и в пылу фантазии он воображал, что и сам он летает за ним. Но и у белого голубя были враги, которые подстерегали его. И вот, когда он в один прекрасный день, уставши от чрезмерного напряжения, спустился и сел на скалу рядом с раненым орлом, подкралась к нему лисица. Голубь спал и не подозревал об опасности, которая ему грозила. Тогда орел бросился со своими страшными когтями и клювом на хищника, убил его и спас белого голубя. Вот и все, Альфред. Твоей двоюродной сестре грозит страшная опасность. Захочешь ли ты спасти голубя, Альфред?
— Я обещал тебе помощь и сдержу свое герцогское слово, Матильда.
— Лисица уже протянула за голубем свою лапу, Альфред. Мой отец хочет продать меня ненавистному для меня старику. Неужели ты, глава герцогской семьи, допустишь это?
— Тебя хотят продать?
— Да. А я люблю кронпринца Карла, который несколько месяцев тому назад был в Кронбурге и посетил нас в Лаубельфингене. Он сватался за меня и подарил мне это кольцо. Орел, освободи белого голубя из лап хищника! Всю жизнь я буду благодарить тебя. И если они когда-нибудь ранят тебя и захотят схватить, как того орла, тогда голубь освободит и спасет тебя, а если не спасет, то будет твоей утешительницею, будет помощницей замыслов твоей фантазии.
Альфред, растроганный, взглянул на прекрасное лицо молодой девушки.
— Я знаю все, Альфред, — продолжала она. — Все зависит от тебя. Старик, хитрая лисица, протягивающая лапы к белому голубю, это богач, князь Лейхтенштейн. Он соглашается уплатить долги моего отца, а в награду получить меня. Ты можешь и имеешь право… счастье и любовь в твоих руках, Альфред, пусть опять воссияет солнце твоей милости над твоим дядей, моим отцом. Кронпринц Карл, я знаю, опять повторит свое предложение, ибо в первый раз оно разбилось о бедность моего отца и твою гордость.
— О мою гордость? Я не понимаю.
— Разве ты не знаешь, что ее высочество сама хотела дать приданое невесте своего сына, но что этот проект не решились тебе представить, так как дать приданое должен был бы ты, но твой министр финансов…
— Бауман фон Брандт, — процедил Альфред сквозь зубы. — Но дни его господства уже прошли. Об этом он мне ничего не говорил.
Герцог быстро поднялся со скамьи и беспокойно принялся ходить по узким дорожкам между кустами роз.
— Об этом он мне не говорил. Он не сказал мне, что здесь дело идет о тебе и о твоей любви. Речь была только о неслыханных притязаниях твоего отца на герцогскую шкатулку для погашения его долгов. Вот как меня обманывают. Но Галлерер поправит дело, положись на меня. Я сам напишу кронпринцу Карлу и его родителям. Я возобновлю прерванные переговоры. Это я тебе обещаю, Матильда. Клянусь золотым рогом, который я тебе дал и который я услышал.
— Благодарю, благодарю тебя.
Она схватила руку Альфреда, робко поднесла эту тонкую, бледную руку к своим губам и поцеловала ее с таким чувством, с каким целуют крест Спасителя.
Альфред почувствовал это.
— Итак, ты сделаешь это? — спросила она.
— Сделаю, клянусь моим герцогским словом.
И вдруг его охватил ужас.
Разве он не давал подобную же клятву маэстро? «Я построю этот храм, — прозвучало в его ушах, — хотя бы Кронбург»…
Но к семейным делам герцогской семьи эти кронбуржцы, к счастью, не имеют никакого отношения.
— У меня есть еще одна просьба, — продолжала Матильда, ободренная его милостивым отношением.
— Еще просьба?
— Да, от имени моего отца, но не по его поручению.
— Твой отец, князь Филипп, оскорбил память сестры матери женитьбой на авантюристке. Мой отец удалил его от двора, а этот прогнанный мною министр на свой страх, без моего согласия, вернул его в Кронбург.
— Я знаю все это! Но ваша покойная мать не считала за унижение воспитывать детей своей сестры, которые были как бы ее собственными, вместе с вашим высочеством. Мы все были еще детьми, когда скончалась твоя мать, которая была и нашей матерью, Альфред. Нас разлучили, и теперь мы почти не сохранили воспоминаний об этих днях общего детства.
— Когда смолк в Кронбурге серебристый смех моей матери, отец послал меня с воспитателем в уединенный Гогенарбург, а вас отдал обратно отцу.
— Да, помню. И мы рано познали тиски жизни, Альфред, пока не позволили наконец отцу жить в Лаубельфингене. Мне было уже восемь лет, когда я снова увидела синее озеро и родину, а сестре Адельгейде было шесть. За время пребывания на чужбине отец сделался ожесточенным человеком. Он единственный из братьев твоего отца и почти на тридцать лет старше тебя. Он не может примириться с тем, что ты живешь здесь в замке Турм и не удостоил до сих пор даже взглянуть на обитателей Лаубельфингена. Понимаешь ли ты меня, Альфред?
— Он единокровный брат моего отца, он от другой матери. К тому же я герцог!
— Именно потому-то и не должно быть предела твоей милости, как нет ее для милости Бога. Она должна быть неисчерпаема, как кровь святого Грааля, вечна, как долг рыцаря, который в своем призвании странствует по всей стране и сражается за преследуемую невинность.
— Как кровь святого Грааля, — повторил Альфред с воодушевлением.
Да, она понимала его, и была, вероятно, единственной из современников, из всех смертных, которой было доступно понять это!
— Ты права, Матильда, — сказал он. — Мне нужно примириться с твоим отцом, единственным братом моего отца. Я приеду.
— В самом деле?
От радости она захлопала в ладоши. Потом вдруг заговорила тихо:
— Альфред, чистая дева смотрит на лебедя, тоскует и думает.
Он улыбнулся, совершенно счастливый, но вдруг его глаза затуманились слезами.
— Я разбередила твою рану?
— Нет, нет! Она смотрит на лебедя! Я знаю, о ком ты говоришь, Матильда. Ты прекрасна, сестра твоя Адельгейда — кротка. Ее голубые глаза похожи на эти озера, которые я люблю больше сапфиров в моем перстне. Ты — газель, Матильда, ты — лунный свет, который стелется ночью по парку и этим волнам. Ах, да!..
Он громко вздохнул.
— Лунный свет, который наполняет все мои мечты и который никогда не схватить руками, которым никогда не будешь владеть, — это Адельгейда.
Он как будто забыл о присутствии Матильды и говорил сам с собой.
Принцесса встала.
— Ты приедешь?
— Приеду, приеду. Обещаю тебе.
Он проводил ее до берега. Прежде, чем проститься с нею, он открыл дверь маленького домика и сказал:
— Здесь я провел немало дней в работе и мечтах. Хочешь заглянуть сюда?
Она вошла.
То была простая небольшая комнатка, похожая на деревенскую гостиницу.
— Когда я бываю здесь, Матильда, — сказал герцог, — бремя моего пурпурового плаща спадает с меня, и я чувствую себя свободным и веселым.
У окна комнатки стоял небольшой письменный стол из черного дерева, украшенный золотом в стиле Empire.
— Здесь тебе удобно хранить свои книги, Альфред. У меня точь-в-точь такой же стол, и в ящиках его я прячу свои стихотворения.
— Ты пишешь стихи? Я не раз пробовал это, но не могу.
Он играл маленьким золотым ключиком, который лежал на столе.
— Пришли мне как-нибудь одно из твоих стихотворений, Матильда.
— Мне стыдно за мои скромные стихи и мне бы не хотелось вручать их тебе.
— В таком случае положи их в этот ящик, когда твоя лодка попадет к этим берегам. И я найду их здесь. Ни одна душа не узнает о них. Ты можешь класть в этот ящик письма и всякие сообщения, когда пожелаешь. Подобно раненому орлу и голубю, я буду мысленно с тобой, Матильда. Возьми этот ключ. Я прикажу сделать для себя точно такой же.
Она взяла у него ключ.
— Кроме того, возьми вот это еще.
И он подал ей печать из оникса.
— Ею ты будешь запечатывать всякую весточку от голубя, какая бы она ни была. Смотри, на ней изображен лебедь, который ищет голубицу святого Грааля. Никто не получал и даже не видел такой печати, кроме тебя. Письмо с этой печатью я всегда прочту, клянусь тебе в этом. Даже в смертный час!
Ключик и печать исчезли в кармане ее платья.
— Пароход без челнока доставит тебя обратно в Лаубельфинген. А я приеду потом. Теперь я останусь еще на острове и буду кормить своих павлинов.
Он дошел с нею до пристани. «Лебедь» взял курс на Лаубельфинген, а его рыцарь исчез среди розовых кустов уединенного острова.
XVI
У обывателей Лаубельфингена выдался бурный денек. Князь Филипп был вне себя. Матильда не явилась к обеду, который подавался в третьем часу дня. Отец думал, что она сердится и нарочно скрылась в своих комнатах, и послал к ней графиню Шанцинг с приказанием во что бы то ни стало привести в столовую непокорную дочь. Но графиня не нашла Матильду. Зная страстную, вспыльчивую натуру принцессы, отец и сестры испугались и ожидали какой-нибудь беды. Бедную графиню засыпали упреками за то, что она ушла вместе с Адельгейдой и не позаботилась присмотреть за Матильдой после ее размолвки с отцом.
Наконец князь Филипп узнал от одного из конюхов следующее: принцесса около половины третьего пришла с берега озера и приказала оседлать для себя любимую свою лошадь «Эмира». Он, как всегда, исполнил этот приказ, и принцесса поехала по направлению к югу, к горам.
При этих словах князь отбросил свой страх: принцесса ездила прекрасно. И если теперь в этот чудный летний день она летает где-то там, на раздолье, то, очевидно, не мрачные мысли владеют теперь ее душой.
Но гроза продолжала собираться над замком Лаубельфингеном, и не только на небе, где в самом деле часам к четырем стали громоздиться темные тучи.
К чаю приехал старый князь Лейхтенштейн. Он очень удивился приему, который встретил. Он вошел, держа в руках роскошный букет темно-красных гвоздик — любимых цветов принцессы Матильды.
Князь Филипп, который не считал еще, что его игра проиграна, стал давать уклончивые ответы, оправдывался тем, что князь прибыл в необычное время. Его старшая дочь чувствует себя не совсем хорошо и потому ушла к себе. Она простудилась, катаясь вчера вечером по озеру.
Князь Лейхтенштейн разочарованно улыбался.
— Не будем играть комедию друг перед другом, — сказал он. — Я не могу поставить ее светлости в вину, что в двадцать лет она отвергает руку человека, который годится ей в дедушки. Пусть даже этот человек — один из богатейших людей в Европе. Ведь не может же она нести ответственность за долги своего отца. Но я терпеть не могу всяких отговорок. Если в столь юном возрасте представится возможность надеть королевскую корону, то, конечно, такая гордая мечта извинительна. На мой вопрос о принцессе Матильде лакей сказал, что она часа два тому назад ускакала из Лаубельфингена на своей любимой лошади.
Князь Филипп поник было головой, но вдруг заявил:
— Я сумею образумить мою непослушную дочь.
— Нет, — отвечал князь Лейхтенштейн, — в этом случае я сам должен отказаться, ибо я не могу жениться на особе, которую принуждают любить меня.
Филипп в знак сожаления пожал плечами. Ему нечего было сказать на этот категорический отказ.
Князь Лейхтенштейн встал.
— Мне очень жаль, что вашей светлости придется подумать о других способах расплатиться с долгами.
И с этими словами он поклонился и вышел.
Князь Филипп тупо посмотрел ему вслед.
Он встал у окна замка, назначенного ему герцогом для жительства, и еще раз кинул мысленный взор на свою неудавшуюся жизнь. Все счастье с колыбели выпало на долю его старшего брата Бернгарда, а не на его. Тот наследовал и герцогскую корону, и большую часть герцогского состояния — ибо главным родовым имуществом был Кронбург. А он теперь весь в руках юного неприступного Альфреда. Ему нечего назвать своим, кроме долгов, кроме дочерей и кроме того немногого, что из милости дает ему для жизни герцог. А этот юный племянник, его государь, единственный сын и наследник его единокровного брата, этот глава герцогской семьи, сидел там в замке Турм в полном отчуждении от него. Его обиженная гордость не могла допустить и мысли, чтобы протянуть руку за помощью к этому пустыннику. Нет, скорее он продаст своих дочерей, чем он сделает хоть шаг навстречу этому упрямцу, который мнит себя Богом на земле.
У его отца он был в немилости. А теперь, благодаря драконовским законам, установленным для членов герцогского дома, и этот изгнал его из Кронбурга только за то, что друг его молодости Бауманн фон Брандт решился вернуть его в столицу. Теперь пал и последний министр его покойного брата, и Альфред распоряжался всем, как хотел. Приходится еще благодарить Бога за то, что новое место его ссылки находится здесь, на берегу родного озера, а не где-нибудь за границей.
В самом деле, как поступил этот герцог, мнящий себя всемогущим, с Бьянкой Монтебелло, девушкой из одной из самых знатных семей? Она сидит теперь в Риме, и он каждую неделю получает письма от этой несчастной, в которых она умоляет его добиться у Альфреда разрешения приехать обратно в Кронбург. Несчастная, красота которой всегда привлекала его внимание, и не подозревает, что он сам впал в немилость.
Вернется благорасположение Альфреда — и все опять пойдет хорошо. Да, Матильда, эта романтическая, восторженная, во всем так похожая на его племянника, была права. Королевская корона, которую держит в руках кронпринц Карл, еще не потеряна, если захочет вмешаться Альфред. Но как устроить это? Как, как? Неужели в самом деле через Матильду? Эта возможность блеснула для него лучом надежды на то, что герцог может заинтересоваться судьбою его старшей дочери, что романтическая история с золотым рогом, который Матильда ему показывала, может оказаться тем капризом, который может повлечь за собой огромные последствия для его семьи…
Между тем, над озером скопились черные тучи. Время от времени из них вылетала огненная волнистая молния. А Матильда унеслась на своем скакуне на юг, к темневшим горам. Страх снова овладел им. Ее все еще не было. Несомненно, она теперь схватит какую-нибудь болезнь, если ей придется вернуться промокшей до мозга костей. Но, может быть, она сделает так, как делала уже неоднократно, несмотря на его строгий запрет, и укроется в какой-нибудь крестьянской хижине, станет есть суп с этими простыми людьми у их домашнего очага и петь народные песни, аккомпанируя себе на цитре.
Как подойдет он теперь к этой странной девушке? Видно, что ее мать приходилась сестрой герцогу Бернгарду, а Альфред наглядно доказывает, что в этой семье всего можно ожидать.
На дворе бушевала уже буря. Волны озера, мирно дремавшие до сих пор в блеске полуденного солнца, теперь вспенились, как волны моря, противоположный берег которого, где был замок Турм и уединенный остров, теперь нельзя было узнать. Дождь лил ручьями.
Вдруг дверь отворилась, и в комнату вошла Матильда.
— Он приедет, — радостно воскликнула она.
Князь Филипп заготовил было суровые слова для непослушной дочери, но они замерли у него на языке. Дивное создание, стоявшее перед ним, которое он сегодня еще хотел было продать за красоту князю Лейхтенштейну, как будто преобразилось под влиянием всего виденного и слышанного.
— Он протягивает тебе руку примирения, отец. Он приедет сюда сегодня еще до захода солнца! Он торжественно обещал мне это.
— Неужели? — спросил наконец князь Филипп. — Не окажется ли это опять мимолетным герцогским капризом? Не обманываешься ли ты, дитя мое? Неужели он не попросил тебя через своих лакеев оставить замок Турм.
Матильда молчала. Она не знала, вправе ли она будет открыть тайну Острова роз, какое-то бесконечно-блаженное романтическое чувство подсказало ей, что она разделяет с герцогом эту сладкую тайну, что она одна видела то, что этот удивительный загадочный человек так заботливо скрывает от всех. Поэтому она просто сказала:
— Кузен Альфред внимательно выслушал меня, отец, и обещал приехать сегодня же.
Гроза над озером стала успокаиваться. Ярко пробивались первые лучи солнца сквозь темные тучи. Через гладкую, далеко раскинувшуюся поверхность озера от горы до горы перегнулась семицветная радуга.
Матильда стояла рядом с отцом у окна и восхищенным взором следила за зрелищем, которым ей не раз уже приходилось здесь любоваться, когда, бывало, гроза и непогода налетала с озера на тихую долину или ущелье гор.
— Моя родина — самая красивая страна в мире, — радостно вскричала принцесса. — Страна крутых гор, изумрудно-зеленых и сапфирово-синих озер, которые, как драгоценные камни, сияют в короне или перстне на белой руке Альфреда.
При этих словах князь Филипп вздрогнул.
— И ты, дочь моя! — сорвалось с его губ. — Я думал, кронпринц Карл…
— Не бойся, отец, ничего, — отвечала Матильда. — Я знаю Альфреда лучше, чем вы все его знаете. Я протягиваю руки, но на этот раз к людям, а не к богам.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Я не могу объяснить тебе этого, отец. Я только чувствую это в глубине моей души, и это чувство дает мне и бесконечное блаженство, и острую скорбь. Блаженство — при мысли, что я узнала его сердце, скорбь — от страха, что другие совершенно не знают и не понимают его и что в конце концов и он сам, и они будут раздавлены судьбой. Он обещал мне примириться с тобой, он готов возобновить переговоры с его величеством отцом кронпринца. Его бывший министр-президент — твой друг, отец, — обманывал его. И вот солнце опять сияет над горами и озером. О, как это великолепно, отец!
Она схватила князя за руку и вдруг вскричала:
— Торопись, отец. А я хочу предупредить Адельгейду. Смотри туда, видишь «Лебедь» взял курс на Лаубельфинген.
Князь схватил подзорную трубу, лежавшую на его письменном столе. То был в самом деле маленький пароход Альфреда. Он действительно пришел в движение и держал курс на Лаубельфинген.
— Через четверть часа, отец, он уже будет перед нами.
С этими словами Матильда бросилась из комнаты.
Князь Филипп принялся беспокойно ходить по своей комнате. Что-то будет! С какою целью он едет? Как он подойдет к нему?
Князь спустился вниз в большую приемную замка и решил ожидать здесь племянника. Едва принцессы успели окончить свой туалет, как вошел лакей и доложил:
— Его высочество и господин фон Ласфельд.
Князь и обе его дочери встали.
С глубоким поклоном Филипп тронулся навстречу юному родственнику, а Матильда и Адельгейда застыли в реверансе.
Альфред был в голубом мундире своей лейб-гвардии. В этот момент в нем не было ничего фантастического. Он расстался даже с любимым своим плащом из голубого бархата. Фон Ласфельд почтительно остановился у дверей, через которые прошел Альфред.
Герцог поспешил навстречу князю Филиппу и поцеловал его в обе щеки, как тогда, на аудиенции в Кронбурге. Потом он протянул руку обеим принцессам.
— Кузина Матильда, вероятно, уже сообщала тебе о цели моего прибытия.
Он дал знак адъютанту, который быстро удалился.
— Нам нужно заключить с тобою мир, дядя, — продолжал он. — Бауманн фон Брандт не стоит уже между мною и братом моего покойного отца. Я младший, и протягиваю вашей светлости руку примирения.
— Я счастлив вашей милостью, ваше высочество.
— Не надо говорить об этом, — прервал его Альфред. — Мы потом подробно переговорим о планах Матильды и о твоем положении. Могу я считать, что сегодня я приглашен к вам на обед?
— Это будет большой милостью для меня, ваше высочество, — снова сорвалось у князя.
Но Альфред уже направился к принцессам.
Он был очарователен и любезен, каким его никогда не видал князь Филипп. В Кронбурге его видели таким лишь немногие, а в Гогенарбурге один Ласфельд.
Адъютант появился снова. Альфред пожелал прогуляться по великолепному парку Лаубельфингена, в котором он однажды гулял, держась за руку отца.
Дорожки были еще мокры от недавнего дождя. Но герцог не обращал внимания на дорогие туалеты своих кузин, которые береглись в Лаубельфингене и надевались только в особо торжественных случаях. Князь Филипп просил освободить его от этой прогулки, так как ему необходимо было остаться в замке и распорядиться об угощении своего гостя.
Принцесса Матильда сейчас же завела разговор с Ласфельдом. Альфред с Адельгейдой шли впереди.
В отдалении, требуемом этикетом, их сопровождала графиня Шанцинг, а за нею шел лакей, который нес плащ его высочества и шали дам.
Так шли они под могучими буками Лаубельфингена, с которых еще падали капли недавнего ливня.
Перед чудным кустом жасмина Альфред остановился и долго стоял. В белых его цветках еще сверкали дождевые капли, из всех их чашечек неслось одуряющее благоухание.
— Как чудесны эти капельки в цветочных чашечках, — сказал он наконец. — Словно брильянты в коронных драгоценностях в Кронбурге, Адельгейда, которые я хотел бы возложить на твои белокурые волосы.
Девушка вздрогнула и тепло взглянула в темные глаза Альфреда.
— В самом деле ты бы хотел этого?
Некоторое время он молчал. При этом вопросе Адельгейды на его белое, прекрасное лицо легло облачко грусти.
— Ты не отвечаешь мне на мой вопрос, Альфред.
— Я подыщу для тебя ответ.
За буковыми и дубовыми стволами Лаубельфингена солнце тихо отходило на покой. Высокие деревья отбрасывали длинные тени на дорожку, по которой герцог и Адельгейда сегодня впервые шли вместе. Пятна света играли на белом мягком мхе деревьев. Сквозь темную зелень парка просвечивало далекое вечернее небо, по которому носились отдельные облачка, напоминавшие острова среди голубого озера.
— Эти пурпурные вечерние облака словно мысли любви и минуты счастья, — послышался усталый и тихий голос герцога. — Они промелькнут прежде, чем успеешь их хорошенько рассмотреть, Адельгейда. Это вестник умирающего дня, последний его привет людям. Солнце давно уже скрылось за горами, а они все еще плавают в голубом море эфира и не хотят потухнуть, как воспоминание обо всем великом и прекрасном не хочет уступить смерти, ночи, которая придет и настанет, непременно настанет внутри нас.
— Вы так не похожи на других, ваше высочество, — промолвила Адельгейда. — Так молоды и так одиноки.
Он остановился. Остановились и все другие. Адъютант и графиня Шанцинг стояли в почтительном отдалении.
Словно дрожь от какой-то внутренней боли прошла по стройной фигуре Альфреда.
— Об этом ты ничего не знаешь, Адельгейда, а я…
И в гневе он сжал кулаки.
— Я найду в себе силы возложить брильянты Кронбурга на твою белую шею.
И он дал знак возвращаться обратно в замок. Молча, полная серьезных дум, шла рядом с ним Адельгейда.
XVII
В лаубельфингенской гавани качался красивый старый челнок. Он сохранился еще с того времени, когда принцессы были детьми. С тех пор он был без употребления. По настойчивому желанию Матильды его теперь снова привели в порядок, тайно от князя и вопреки его запрещению. Придворный столяр, которому она поручила эту работу, дал ей торжественную клятву, что об этом никогда не узнает ни один человек.
В отдаленном уголке парка, где длинные зеленые ветви вязов и плакучих ив нависли над голубыми водами озера, стоял этот отремонтированный и заново покрашенный белой краской челнок. Матильда дала ему название «Жасминовый Куст».
Ее изобретательный ум обдумывал в течение этих недель, которые протекли после примирения герцога с ее отцом, новые пути и средства, при помощи которых она могла бы избавиться от надзора графини Шанцинг и общества Адельгейды. Все думали, что в тихие вечерние часы она занимается у себя в комнате чтением или работой, а на самом деле в это время открывались ворота замка Лаубельфингена и калитка в решетке парка и Матильда извилистой тропинкой спешила под вязами вдоль берега.
Альфред называл ее газелью. И, действительно, с легкостью газели прыгала она в челнок, отвязывала веревки, которыми он был прикреплен к берегу, и беззвучно плавала по ровной поверхности озера.
Мечтая о любви и дружбе, она скользила по озеру, едва слышно ударяя веслами, подвигаясь по тому самому месту, где вода блестела от заходящего солнца и поднимавшейся полной луны.
«Если твой челнок тайно пристанет к моему острову…», — она не могла забыть этих слов Альфреда.
И, положив в карман золотой ключик, который он ей вручил, она почти каждый вечер совершала эти романтические поездки по озеру. Ей казалось, что оно хранит какую-то неразгаданную тайну в своей сапфировой глубине.
Ее большие темные глаза мечтательно глядели на широкую поверхность озера, на горы на юге и холмы на севере, на замок Турм и наконец на уединенный остров с едва выдающимися очертаниями. Ей представлялось, что вот-вот где-нибудь покажется «Лебедь» и над озером раздастся усталый голос герцога.
Был тот час, когда день начинает мало-помалу переходить в ночь. Это время Матильда особенно любила для своих поездок. Тогда обыкновенно кончался ужин в замке, и отец на долгое время удалялся в свои комнаты, Адельгейда с графиней Шанцинг совершали последнюю прогулку, а она притворялась, будто сидит у себя и читает или пишет.
Сегодня ей посчастливилось. Со времени примирения с герцогом князь Филипп стал нередко заглядывать в Кронбург. Сегодня Адельгейда поехала вместе с отцом в театр. Графиня чувствовала себя нехорошо и в полной уверенности, что Матильда в своей комнате, отправилась на покой.
Тихо дремал замок среди темной листвы и аромата цветов. На берегу озера громко квакали лягушки, а над цветущими водяными лилиями, широко раскрывшими навстречу солнечному блеску свои чашечки, в последних лучах кружились мошки.
Матильда сошла наконец в челнок. Словно повинуясь судьбе, которая как будто правила рулем, она все ближе и ближе подходила к таинственному острову, скрывавшему райскую прелесть восточной сказочной страны и фантастические мечты царственного юноши. Странное дело — она не испытывала свойственного женщинам колебания, не знала девической робости. Ей было бы страшно встретиться в этот тихий вечер на этом тихом озере или на пышно поросшем цветами острове с кронпринцем или с князем Лейхтенштейном.
Но по отношению к своему кузену она не испытывала подобного чувства. Почему? Этого она не могла объяснить себе сама. Она чувствовала только одно — что он не может быть таким же человеком, как все другие мужчины.
Взошла уже луна, когда челнок подошел к острову. От замка Турм тянулись по воде длинные огненные полосы, но Остров роз был погружен в полнейший мрак. Только в окне садовой беседки светился тусклый огонек.
Матильде вдруг стало страшно. А что если она встретится с садовником Альфреда? Что он подумает о ней? Но она постаралась одолеть свой страх.
Прошло уже несколько недель, а в замке Лаубельфинген было не слышно об Альфреде. Адельгейда сделалась угрюмой и раздражительной, каждый день смотрела, не покажется ли «Лебедь», а когда наступал вечер, «Лебедь», действительно, появлялся, но брал курс по направлению к острову или к замку Турм, но никогда не к Лаубельфингену. Ничего не было слышно и о возобновлении переговоров с кронпринцем Карлом.
Челнок причалил к берегу в том самом месте, где в прошлый раз Альфред подал ей руку.
На острове залаяла собака.
Матильда в испуге отскочила назад. Но в эту минуту показался герцогский садовник и сиплым неприветливым голосом крикнул: «Кто там?»
Он шел прямо на нее с фонарем в руке и вдруг остановился, как вкопанный. Он привык к ночным посещениям герцога и был уверен, что и на этот раз приехал из Турма лакей, чтобы предупредить о прибытии герцога. И вдруг он увидел перед собой женщину.
Матильда вынула из кармана золотой ключик.
— Что угодно здесь вашей светлости? — смущенно забормотал узнавший ее садовник.
— Его высочество герцог на острове? — спросила она в смертельном смущении.
— «Лебедь» отплыл от острова часа два тому назад.
— Отперта ли дверь в комнату его высочества?
— Как всегда, ваша светлость. Его высочество может пожаловать на остров во всякое время дня и ночи. Поэтому дверь всегда должна быть отпертой. Очень часто его высочество приезжает сюда в глухую ночь, совершенно один. Иногда он велит предупредить о себе. Иногда я узнаю о его прибытии только по лаю собаки. Прикажете передать от вас какое-нибудь поручение его высочеству?
— Нет, — отвечала Матильда. — Видите этот ключ. Это золотой ключ от письменного стола его высочества. По его приказанию я должна положить в ящик стола пакет. Затем я возвращусь обратно. Посветите мне.
Садовник исполнил ее приказание, покачивая головой.
Матильда остановилась в маленькой комнатке перед столом и открыла тот самый ящик, который ей показал Альфред, и положила в него небольшое письмо. Она написала его не далее, как сегодня после обеда, и запечатала его печатью, на которой был изображен лебедь, плывущий за Граалем. Затем она пошла быстрыми шагами к берегу и, не оглядываясь, прыгнула в челнок.
Челнок отчалил от берега.
Матильда осмотрелась кругом. «Лебедя» нигде не было видно. Ночь была чудная, теплая, как-то сказочно освещенная полной луной. В замке Турм светились огоньки. Мягкий воздух нежно расстилался по серебряной поверхности озера и словно ласковой рукой гладил каштановые волосы молодой девушки. Дальше и дальше гнала она свой челнок. «Лебедь» теперь у южной стороны озера», — мелькнуло у нее в голове. Но вдруг ей представилось, что графиня Шанцинг уже проснулась и ищет ее, что князь Филипп с Адельгейдой уже вернулись из Кронбурга. Быстро и решительно стала она грести к Лаубельфингену. Замок приближался, и скоро показался укромный уголок под ивами, где она может причалить, не замеченная ничьим глазом.
Когда она, выпрыгнув из лодки, тихо дошла по безмолвному парку до замка, в Турме один за другим стали погасать огни.
— Он отправился теперь на покой, — тихо сказала она про себя.
Только полная луна и вечные звезды молча сияли над озером. Матильда хотела тихонько прошмыгнуть в дом. Несмотря на то, что ночь была довольно теплая, ей было холодно, а щеки ее пылали. На душе у нее было печально. Что так тянуло ее с неотразимой силой?
Ее взор еще раз скользнул с высоты дворца по поверхности воды. В серебристом свете едва видны были очертания острова, того загадочного острова, который как будто и не существовал в действительности. Едва поднималось над волнами то место, где было море цветов и маленький домик, письменный стол которого составлял теперь тайну ее души.
А что такое там?
На юге вдруг заблестел беловатый свет, совсем над поверхностью воды. Он все приближался и приближался, обогнул угол острова, появился опять и направился к острову. То был, конечно, «Лебедь».
Матильда простояла несколько минут без движения, вся превратившись в зрение. Пароход быстро шел вперед не тем медленным и как бы торжественным ходом, каким он шел на днях в Лаубельфинген. Фантазия подсказывала ей, что она видит даже рыцаря, который стремится к своему желанному острову мира.
Она бросилась в дом, и как раз в эту минуту одинокий герцог вступал на то место, где она была полчаса тому назад. Альфред был совершенно один. С ним не было ни лакея, ни рулевого, ни Ласфельда. Сегодня была одна из тех ясных ночей, когда фигура одинокого, беспокойного, чем-то терзаемого и гонимого герцога виднелась то на озере, то в замке Турм, то на острове. Такие ночи повторялись все чаще и чаще с тех пор, как он в полном одиночестве поселился в замке Турм и в гневе повернулся спиной к Кронбургу. Он сам не знал, что с ним делается.
Всякий раз, как заходило солнце и спускалась ночь, ему казалось, что ему нужно бороться за жизнь и свет, которые собираются покинуть его. А когда победоносное солнце снова поднималось над глубинами пропастей, он чувствовал себя усталым, измученным от этих ночных странствований. Тяжелый сон спускался на его веки, и жизнь, и солнечный свет исчезали.
Ужасна была его доля! Напрасно боролся он с нею. Хуже всего были эти летние ночи. В дождливые пасмурные дни его не так охватывало это боязливое чувство, этот необъяснимый страх перед чем-то неизвестным, чему никто не смел дать названия и что он сам с ужасом называл правильным названием лишь в часы душевного спокойствия.
Словно блуждающий огонек, носился по широкому озеру белый свет «Лебедя» в такие беспокойные ночи. Он то появлялся около Турма, чтобы сейчас же снова скрыться, то вспыхивал на юге, то около берегов острова, где исчезал окончательно в те минуты, когда герцог не мог выносить даже его сияния и хотел видеть лишь холодный свет луны.
Сегодня в эту лунную ночь он вступил на дорожку, которая вела от пристани вглубь острова, к домику, почти разбитый от усталости и печали. Около скамейки, на которой он еще недавно сидел с Матильдой, он бросился на траву, закутал свое дрожащее тело в голубой бархатный плащ и закрыл лицо руками. Он тихо рыдал. О чем? Едва ли он сам мог бы отдать в этом отчет. Над ним были вечные звезды, у его ног и вокруг него бесчисленные светлячки нежной летней ночи. Он лежал в море роз, которые он так любил. Их одуряющий аромат почти отнимал у него возможность думать, даже дышать.
Что творилось с ним?
Он не мог и не хотел видеть людей! Ему казалось, что его лакеи, его друг Ласфельд — все бросают на него взоры, горящие любопытством. Голос людей раздражал его. Их грубый разговор был ему несносен, их официальное почтение и титулы, которыми они величали его, были ему противны. Ведь он, герцог, чувствовал, что, быть может, он самый несчастный из людей! Он воображал, что в такие минуты он может любить только своих павлинов, этих красивых птиц, важно расхаживающих между кустами роз, лебедей, неслышно плавающих по волнам, белых голубей, которые, не зная устали, летали за своими предводителями, подобно его прекрасным мечтам. Только с их присутствием мирился Альфред, но не с людьми любопытными, допытывающимися, расспрашивающими! Что им надо от него?
В эти последние дни он пережил ужасную борьбу. Целыми днями он неподвижно лежал на своем голубом ложе в замке Турм, мучимый странными болями в затылке. А по ночам «Лебедь» со своими белыми огнями носил его в полном одиночестве по волнам озера, появляясь то вблизи гор, то около острова, то высаживая его в парке замка Турм.
Ах, он знал это, Адельгейда! Он хотел этого! Одно слово из его уст и, может быть, всему этому был бы конец! Он избавился бы от этих страшных пыток, от этих ужасных лунных ночей какого-то половинчатого существования, наступающего умирания, если бы Адельгейда покоилась в его объятиях.
Но тут вдруг им овладевал ужас, как тогда, в музыкальном салоне рядом с зимним садом, возле великолепной герцогской постели. Неужели и Адельгейда была только женщиной?
Матильда была для него покоем, Адельгейда — мукой.
И все-таки! Матильда могла его утешить, но не исцелить! Она любила кронпринца! Но дело не в принце, он сам герцог, и мог бы бороться за нее, но…
Он не хотел ее. Она не была для него женщиной, к которой его тянуло бы, относительно которой он был бы уверен, что для него не может быть лучшего выбора. Она не будила в нем эти несбыточные желания, не вызывала слез юноши и томления. С Монтебелло ему пришлось бороться и выдержать в глубине души жестокую борьбу, но с Матильдой — ничего подобного! Он хотел владеть Адельгейдой и не мог!
Альфред вскочил с места. Он бросился в тихую комнатку своего домика на острове. Она была освещена. Садовник, завидев с острова приближающийся «Лебедь», заранее зажег огонь.
В эту ночь он прежде всего вынул золотой ключик из кармана и отпер ящик письменного стола. Он так хотел найти здесь посылки Матильды, но каждый раз испытывал горькое разочарование: ящик был пуст!
Теперь он не верил своим глазам!
В ящике виднелось светло-голубое письмецо, запечатанное голубой печатью с изображением лебедя.
Дрожащими руками раскрыл он письмо и долго-долго перечитывал его.
«Голубка орлу.
Ты потеряешь Адельгейду, если будешь медлить. Разве ты забыл меня и мою просьбу?»
Он вдруг опомнился.
— Я хочу, хочу! — закричал он с острой болью.
И необычайным напряжением всех сил он принудил себя исполнить обещание, которое он давно откладывал, написать кронпринцу.
XVIII
В час, когда в Лаубельфингене подавали обед, явился по поручению герцога его адъютант Ласфельд и объявил, что его высочество пожалует к обеду. Князь Филипп, снова утративший все свои мечты и надежды и смотревший на примирение, состоявшееся несколько недель тому назад, как на один из капризов племянника, старался не обнаруживать перед дочерьми особой радости. Были приняты спешные меры к приему высокого гостя, от милости которого зависело благоденствие обитателей Лаубельфингена.
Прежде, чем прибыл сам Альфред, в Лаубельфинген привезли с острова целый транспорт цветов. Доставить их было поручено двум лакеям. Вместе с ними прибыл курьер в бело-голубом лейб-гвардейском мундире, который доставил письмо от герцога. Оно было написано Альфредом собственноручно, запечатано герцогской короной и было адресовано принцессе Адельгейде.
Дрожащими руками распечатала Адельгейда это письмо. Она предчувствовала, что в нем заключена судьба ее жизни, что в нем содержатся радость и горе ее дальнейшего существования.
Она прочла:
«Ваше высочество! Брильянты государственной сокровищницы нашего герцогства не дают покоя одному беспокойному человеку. В глубине цветов скрыт мой герцогский подарок. Ласфельд передаст, что сегодня я буду к обеду. «Лебедь» носится вдоль берега у Лаубельфингена. Бело-голубой флаг, выкинутый на пристани, будет указывать, должен ли он приставать, или нет.
Альфред».
Принцесса была одна в своих комнатах в тот момент, когда курьер вручил ей письмо Альфреда, а оба лакея поставили перед нею гигантский букет из роз с острова.
Когда явились эти посланцы герцога и она прочла его письмо, сердце у нее сжалось от какого-то странного чувства.
Она погрузилась в раздумье.
Письмо начиналось с упоминания о государственных брильянтах, а не о ней, не о нем и его любви. Как объяснить это? Неужели он прочел в ее душе, что для нее на первом плане был блестящий золотой трон в Кронбурге и герцогская украшенная брильянтами корона, а не он сам, этот прекрасный скорбный и возвышенный юноша, который предлагал ей вместе со своей любовью и все эти драгоценности?
Он сам называл себя «мучимым» и «беспокойным». Это было не похоже на язык герцога. То говорил одинокий страждущий человек, которого страсть лишала спокойствия. А затем это удивительно романтическое место: «Лебедь» носится около берегов Лаубельфингена. Почему опять этот лебедь, как нередко звали его и Матильда, и она сама, перенося это название с парохода на герцога?
Адельгейда вздохнула.
Когда она впервые увидала его в Кронбурге, окруженного блестящей придворной свитой, увидела не как герцога, а как красивого, величавого и более всех других привлекательного юношу, ей показалось, что она любит его. И вот неожиданно наступил с нетерпением ожидавшийся момент, когда приходится решиться. «Лебедь» носится около берегов Лаубельфингена!
Принцесса заперла дверь за курьером. Ей хотелось в этот час серьезного испытания остаться одной. Никто, ни отец, ни Матильда, ни графиня Шанцинг не должны были знать, в какой форме открылся ей он, всеми боготворимый и желанный для всех придворных дам!
Трижды перечитала она письмо. Только теперь ей бросилось в глаза странное место, которое она долго не могла понять, как следует: «В глубине цветов покоится мой герцогский подарок». Что он хотел сказать этим? Что значило это вычурное выражение? Что такое покоилось в глубине цветов?
Она подошла к букету и осмотрела его со всех сторон. Она раздвигала всюду цветы, но нигде ничего не находила. Внутри она заметила маленькую коробочку, которая была привязана к стеблям роз. Она отрезала ленту и открыла коробку одновременно с любопытством и с предчувствием чего-то тяжелого.
На голубом бархате лежала сверкающая брильянтами вещица. С первого взгляда Адельгейда заметила, что она должна была стоить несколько тысяч. То была брошка в виде лебедя. Тело птицы было сделано из крупных брильянтов, каких она еще никогда не видала в своей жизни. Шея и крылья были сделаны из более мелких камней. Над лебедем была герцогская корона из сапфиров и смарагдов. На ней была прикреплена буква А из жемчуга.
Чудный подарок привел было ее в восторг, но присутствие этого таинственного лебедя почти отняло у нее всякую радость.
Вдруг в коридоре послышался голос графини Шанцинг.
Ее, очевидно, искали. Она отложила в сторону письмо и подарок и поставила в угол букет. Затем она открыла дверь.
Вошла графиня.
— Его высочество прислал предупредить вашего отца о своем посещении. Этот визит будет иметь отношение к вашей светлости, — сказала она.
— Да, я знаю, — в смущении отвечала принцесса. — Нужно вывесить у моста, где пристают лодки, светло-голубой флаг, графиня. «Лебедь» носится около берегов Лаубельфингена.
При этих словах почти насмешливая улыбка пробежала у нее по губам.
— Я не совсем понимаю вашу светлость.
— Это очень просто. «Лебедь» носится около берегов Лаубельфингена, графиня. Это нетрудно понять. Поэтому, как желает герцог, необходимо поднять флаг.
— Насколько я знаю, он всегда поднимается, когда ожидают визита государя.
— Тем лучше, в таком случае.
Адельгейда подошла к окну.
— В самом деле, графиня, там уже развевается флаг. Меня об этом и не спрашивали. Отлично!
— Его светлость поручил мне сообщить вам, что его высочество будет к обеду сегодня. Его высочество, принимая в расчет все обстоятельства, имеет в виду одну определенную цель. Ваша светлость изволите догадываться об этом?
— Вполне.
— Его высочество ожидают к трем часам.
— Если флаг развевается, то он приедет раньше. Я его знаю. Что говорит моя сестра Матильда?
— Ее высочество сегодня особенно молчалива. Почему — это я не могу себе объяснить. У нее была вчера еще мигрень, и сегодня она проснулась позже обыкновенного.
— Благодарю вас. Я сейчас явлюсь, только приведу в порядок свой туалет.
— Прикажете прислать камер-фрау?
— Нет, не надо, графиня. Сегодня я буду одеваться одна.
Графиня Шанцинг удалилась с глубоким поклоном.
Адельгейда направилась в туалетную. Она чувствовала большую гордость, была несказанно горда этим знаком преклонения перед ней герцога.
Долго думала она, как ей одеться, чтобы возбудить его восторг и любовь.
Наконец она выбрала платье из светло-голубого атласа с открытой шеей и короткими рукавами. В темные волосы она вплела розы из букета герцога. Их же она приколола к поясу. Огромные брильянты, из которых был сделан лебедь, были единственным украшением, которое, по ее мнению, гармонировало с этим платьем.
В эту минуту флаги взвились на всех башнях замка Лаубельфинген. «Лебедь» не причалил к берегу. Придворный экипаж герцога выехал из Турма по дороге вдоль берега озера, направляясь к Лаубельфингену.
Одно из окон комнаты Адельгейды выходило во двор замка. Скрывшись за шторой, она видела, как он выходил из своего золоченого парадного экипажа, который он велел сделать для парадного въезда к Кронбург. Как и в первый раз, его сопровождал только Ласфельд.
В ознаменование сего великого дня он облачился в фельдмаршальский мундир. На голове у него была генеральская шляпа с развевающимися перьями. Светло-голубой мундир делал его фигуру особенно легкой и привлекательной. Герцогский брильянтовый орден сиял у него на груди. Его лицо, обыкновенно бледное, теперь как-то посвежело.
Пока он отдавал какие-то приказания Ласфельду и камер-лакею, Адельгейда не спускала с него глаз. Он окинул взором двор замка, вглядываясь в окна, как будто ему хотелось кого-то увидеть. Но Адельгейда нарочно держалась поодаль от окна. Его рост, лицо, взгляд — все это запечатлевалось в голове восемнадцатилетней принцессы, всецело погрузившейся в его созерцание. Этот высокий белый лоб, эти вьющиеся темные волосы, эти большие, сегодня светлые и твердые, а обычно загадочные, чем-то подернутые глаза, которыми так любовались женщины! Эти брови, словно проведенные рукой художника. Он был высокого роста: Ласфельд едва доходил ему до плеча, хотя и он был не низкого роста.
Адельгейда видела, как он исчез в подъезде замка. Альфред прямо направился к князю Филиппу, который немедленно принял высокого гостя.
— Милостивое внимание вашего высочества, — начал был князь.
Альфред сразу перебил его.
— Мы сегодня дядя и племянник, — мягко сказал он. — Несколько недель тому назад я заключил с вами мир. Теперь у меня есть к вам одна просьба.
— Просьба?
— Могу я надеяться получить из рук вашей светлости счастье моей жизни?
— Как прикажете понимать это, ваше высочество?
— Я прошу у тебя руки твоей дочери Адельгейды.
— Солнце вашей милости…
— Оставьте этот тон. Я обращаюсь к вам, как к отцу, и прошу у вас ее руки. Сегодня перед вами, дядя, стоит не герцог, а племянник, юноша, который хочет получить от вас свое счастье.
— А что скажет Адельгейда?
— Знак, который я просил ее сделать, уже виден на пристани твоего замка, дядя. Я знаю, что Адельгейда ждет меня с нетерпением.
— В моем согласии ты можешь быть вполне уверен. Больше я не могу ничего тебе обещать. Мои дочери…
Он вдруг смолк. Ему вспомнилось то энергичное сопротивление, которое ему оказала Матильда по поводу сватовства князя Лейхтенштейна.
— Могу ли я видеть твою дочь? — быстро спросил герцог.
Князь хотел было нажать кнопку звонка, чтобы попросить сюда графиню Шанцинг и через нее предупредить дочь. Но в эту минуту Адельгейда вошла сама.
Опьяненные красотой глаза Альфреда с восторгом остановились на ней. Его взгляд упал на брильянтового лебедя, которого он прислал ей и которого она теперь носила на груди. В этом внешнем знаке он усмотрел согласие на его просьбу.
— Кузина, — проговорил он. — Коронные брильянты ждут твоей белой прекрасной шеи.
Он вдруг забыл и о присутствии князя, и о своем официальном сватовстве, и о своем фельдмаршальском мундире. Он — герцог, перед которым все склонялось, теперь, не стесняясь присутствием князя, вдруг бросился перед нею на колени.
«Помоги мне, спаси меня!» — готово было сорваться с его губ. Но он не осмелился произнести эти слова. Они застряли где-то в самой глубине его сердца.
— Адельгейда! Адельгейда! — только и повторял он.
Она подняла его.
— Герцог, опомнитесь!
Она протянула ему руку. Он поднялся и встал рядом с нею.
— Благодарю тебя, благодарю тебя! — смущенно повторял он.
Князь Филипп удалился. Сватовство произошло не достаточно официально для него. Чтобы положить конец этой сцене, он велел позвать Матильду и графиню Шанцинг.
Альфред уже овладел собою. Достоинство снова вернулось к нему. Безумный порыв, которого стоило это сватовство его склонной к одиночеству натуре, отчаяние, охватившее его при виде этой девушки, которой он не надеялся владеть, теперь исчезли бесследно.
Гордо и величаво принял он поздравление Матильды, графини Шанцинг и Ласфельда. Его глаза как будто избегали много говорящих и благодарных взоров старшей принцессы. Ей, которая чувствовала почти так же, как и он, вдруг стало грустно, и в глубокой печали она опустила голову.
По приказанию Альфреда, Ласфельд подал ему небольшую коробку. Тут были обручальные кольца, которые Альфред несколько недель тому назад заказал в Кронбурге. Они, как две капли воды, походили одно на другое. Оба были украшены брильянтовой буквой А под герцогской короной — Альфред и Адельгейда.
Альфред торжественно надел одно из них на палец Адельгейде. Она наклонила свою прекрасную головку, и Альфред с внезапной решимостью запечатлел поцелуй на ее губах. Впервые его уста поцеловали женщину.
И Адельгейде показалось, что от поцелуя этого царственного юноши веяло холодом одиноких горных вершин.
Она содрогнулась, задрожала в его объятиях. Она дрожала за него и за себя. Светло-голубые глаза принцессы хотели утонуть в его взорах. Горячие слезы выступили на его больших глазах, они как будто подернулись флером и были неподвижно устремлены вдаль. Что он видел там?
Но он быстро очнулся.
— Адельгейда! — вскричал он голосом, в котором звучали слезы. — Верь мне, я люблю тебя.
— Я верю, Альфред, верю, — тихо отвечала она.
Но в глубине души она чувствовала, что и этот поцелуй, и эти уверения не имеют никакой силы.
Он предложил ей руку и просил князя Филиппа разрешить обеим дочерям совершить, в сопровождении графини Шанцинг, прогулку по озеру на «Лебеде», который успел уже причалить к Лаубельфингену.
— Как вам будет угодно, ваше высочество, — отвечал князь. — Обед, на который вы оказали милость пожаловать, начнется, если вы не имеете ничего против, в три часа.
Альфред уже не возражал против такого тона покорности.
Он снова чувствовал себя герцогом!
Ласфельд посмотрел на часы.
— Теперь без четверти два, ваше высочество.
Матильда и Адельгейда первыми вошли на пароход.
Альфред, Ласфельд и Шанцинг последовали за ними.
Само собою разумеется, «Лебедь» взял курс к Острову роз. Когда он причалил к берегу, Ласфельд и Шанцинг остались на нем, а герцог с обеими кузинами двинулся в глубь острова. Ему хотелось показать эту жемчужину своих грез своей невесте, той, которая должна будет жить с ним и утешать его.
«Здесь одуряющий аромат», — вот первые слова, которые она сказала. «Павлины — отвратительные птицы, я не люблю их», — вот вторая фраза. «Они кричат и приносят дождь. Слишком много птиц, и они загрязнят весь остров», — вот ее третье мнение.
Альфред остановился. Затем он молча повернулся и пошел назад к скрытой в цветах пристани.
Принцессы в изумлении двинулись за ним.
— Таким путем ты никогда не покоришь его, — испуганно шепнула Матильда сестре.
Адельгейда пожала плечами. Альфред погрузился в молчание, и «Лебедь» почти беззвучно плыл обратно к замку Лаубельфингену.
XIX
Замок Лаубельфинген словно преобразился. Идиллическое спокойствие княжеской резиденции сменилось оживленным движением, начинавшимся с раннего утра и продолжавшимся до поздней ночи. Герцог Альфред сдержал свое слово. Сношения с гофмаршалом короля, а затем и личная переписка между герцогом и королем действительно возобновились, и через несколько недель привели к желанной цели. Кронпринц сам прибыл в Кронбург и нанес оттуда визит в Лаубельфинген.
Альфред напрягал все свои силы. Были устроены парадные спектакли в придворном театре, парадные обеды, наконец празднество в самом дворце, закончившееся банкетом в зимнем саду. Ради королевского сына герцог, казалось, забыл свой гнев против столицы и ее упрямых граждан.
В одно прекрасное утро в официальной газете было объявлено о помолвках его королевского высочества кронпринца Карла с ее светлостью принцессой Матильдой и его герцогского высочества с принцессой Адельгейдой.
Министерство, двор и народ вздохнули наконец свободно. Словно черное облако удалилось наконец от герцога. В Кронбурге начали уже поговаривать, что юноша-герцог в своем уединенном замке Турм постепенно изнемогает в борьбе с какой-то тоской, подтачивающей все его духовные и телесные силы. Никому не хотелось верить этому.
Адельгейда по-прежнему жила с отцом в замке Лаубельфинген. Альфред покинул Турм так же внезапно, как внезапно когда-то приехал в него, когда потерпели крушение его планы создания храма нового искусства. Он вернулся в Кронбург и весь ушел в приготовления к своему бракосочетанию с Адельгейдой.
Художники и ремесленники, которых он велел позвать, познакомились теперь с ним с другой стороны. Как в первые месяцы своего царствования, когда предстояла борьба с Бауманном фон Брандтом, так и теперь герцог быстро и искусно решал все вопросы, связанные с устройством апартаментов будущей герцогини и со свадебными празднествами, которые были отложены на осень. Его до сих пор считали мечтателем, любящим одиночество романтиком. Теперь проявилось новое свойство его природы: он был настоящим мастером всяких церемоний и ритуалов. Странно было только то, что в этих вопросах он не спрашивал никого, даже свою невесту. Словно сказочный волшебник, он создавал все до последней мелочи.
День и ночь шли работы в парадных апартаментах будущей герцогини, причем никто, кроме самого герцога и лиц, которым была поручена отделка, не могли их видеть. Они должны были, словно созданные по волшебству, предстать в назначенный день перед ее глазами вполне готовыми. Его жена должна была принять их из его рук, как новое чудо.
Адельгейда насторожилась. Она была слишком умна и понимала, что вырвавшимися у нее замечаниями насчет Острова роз она задела его впечатлительное и легко уязвимое чувство. С этого времени принцесса была так нежна к нему, так очаровательно любезна и предупредительна, что первые недели, следовавшие за обручением, все считали ее самой счастливой не только из всех девушек, но и из всех смертных.
Альфред приезжал в Лаубельфинген каждый день. Его чудные лошади молочно-белой масти в несколько часов делали довольно значительный путь от Кронбурга до озера только для того, чтобы герцог мог приветствовать свою невесту, или пожать руку Матильде, или лично передать ей какую-нибудь понравившуюся ему художественную вещицу.
Благодаря этим «герцогским наездам», как в шутку называл князь Филипп визиты своего племянника, в Лаубельфингене всегда приходилось быть наготове. Приезжал не только Альфред. Очень часто появлялся по поручению герцога его адъютант Ласфельд — осведомиться о здоровье обеих сестер, придворные курьеры и лакеи с подарками и с письмами, причем герцог просил немедленно на них ответить. Однажды Адельгейда, смертельно уставшая к вечеру, решилась отложить до следующего утра ответ на приветствие герцога, которое сопровождалось букетом чудных орхидей.
В ту же ночь стучал в ворота заснувшего замка специальный лейб-курьер от его высочества. По приказанию герцога, он просил впустить его и передал, что герцог спрашивает, получила ли принцесса Адельгейда посланные им цветы.
Так шло дело изо дня в день. Адельгейда едва могла переносить эту необыкновенную любезность и преклонение. Каждое утро, в ранний час, когда молодые девушки покоились еще во сне, являлся гонец от герцога с какой-нибудь вещицей, изготовленной по собственноручному рисунку герцога. Каждую ночь — гонец от герцога с вопросом: благополучно ли доехали домой их светлости?
Адельгейда сделалась нервной: ее волновало это свойство ее жениха. Но она храбро переносила все это. Слова Матильды: «Таким путем ты никогда не привлечешь его к себе», — запечатлелись крепко в ее сердце. Она хотела и должна была привлечь его к себе, ибо она крепко решилась стать герцогиней.
Триумфы, которые ей пришлось испытать при появлении в публике рядом с ним, опьянили молодую девушку. Воспитанная в глубине гор и в уединении Лаубельфингенского озера, как дочь простого сельского дворянина, не видевшая блеска кронбургского дворца и не мечтавшая никогда о герцогском троне и блестящей короне, которую Альфред должен был возложить на ее белокурые волосы, Адельгейда, несмотря на глухой сезон в Кронбурге, не могла достаточно нарадоваться.
В тот самый день, когда гофмаршальская часть объявила о двойной помолвке, она, сидя рядом с герцогом в золоченом парадном экипаже, проехала через свою будущую столицу.
Тысячи людей усеяли улицы. Ей неслись навстречу громкие приветственные крики, каких она никогда в жизни еще не слыхала. В воздухе мелькали платки. Казалось, весь Кронбург, все герцогство сосредоточили на ней все внимание. Это очаровало ее, делало еще более счастливой.
Она бросила взор на сидевшего рядом с нею юношу, которому мужчины, казалось, завидуют, а женщины поклоняются, глядя на него широко раскрытыми глазами, — она помнила, что он принадлежит только ей, ей одной.
В это же время совершала свой въезд принцесса Матильда с кронпринцем Карлом. Но что такое был этот кронпринц, несмотря на свою королевскую корону, в сравнении с ним, который, казалось, превзошел мужскую красоту, который, будучи почти мальчиком, смело взял в свои руки бразды правления герцогства? Казалось, что над Кронбургом после нескольких недель пасмурной, дождливой погоды снова засияло солнце. Куда бы он ни повернулся, всюду курился перед ним фимиам. Казалось, народ готов бросать ему пальмы под ноги.
На балах, в придворном театре, в столице — всюду она появлялась рядом с ним. Ему больше всего нравилось, когда она бывала в платье серебряного цвета, которое облегало ее стройную юную фигуру, словно панцирь. Оно было с большим вырезом, и на шее она всегда носила великолепное колье своей покойной матери, которое ей подарил герцог Бернгард в день свадьбы своей единственной сестры.
Когда отворялась дверь придворной ложи или залы во дворце, и он вел ее под руку, и все взоры обращались на нее, как на улицах Кронбурга, тогда она чувствовала себя герцогиней!
— Настоящая невеста герцога! — сказал ей сам Альфред.
— Королева, императрица, — шептали угодливые языки придворных дам и камеристок.
Она слышала эти голоса и верила им, и в самом деле вообразила, что она самая красивая, самая величавая во всем королевстве. Счастье ее сестры Матильды превратилось ни во что в сравнении с ее счастьем: кронпринцу еще долго приходилось ждать короны, так как его отцу едва минуло сорок лет. Прелесть сестры могла увянуть, чудные темные локоны поседеть прежде, чем на ее голову будет возложена блестящая королевская корона.
Но она! Герцогиня, государыня целой страны, обожаемая тысячами, невеста герцога, чей образ, словно талисман, носили в своем сердце все женщины, начиная от служанки и кончая ею, обладательницей трона.
Пурпур, павший такой тяжестью на плечи Альфреда, показался Адельгейде, когда она впервые слегка прикоснулась к нему, волшебным плащом, который при помощи безграничного могущества вознесет ее, избранную из всех женщин, превыше всех земных забот и тревог, через моря и долы. Ведь эту корону он сам держал в своих руках, этот пурпур лежал на его плечах — и все это он клал к ее ногам.
Невероятные слухи о приготовлениях, таинственно сделанных Альфредом к свадьбе и к торжеству, какого не видали еще ни на одной свадьбе короля и даже императора, изумительные рассказы об отделке апартаментов для юной герцогини, в которые никому еще не удалось заглянуть, достигали и уединенного тихого Лаубельфингена и жадно подхватывались Адельгейдой. Ни одна женщина не пользовалась такою любовью, как она, ни одна не стояла рядом с тем, кто чувствовал себя земным богом. На всех выставках Кронбурга красовался ее портрет, его можно было найти во всех газетах и журналах. Не было ни одного листка, в котором в эти дни благословения, спустившегося на Лаубельфинген и герцогство, не было бы речи о ней!
А он… Изредка приезжал он в Турм и останавливался здесь на короткое время. Зато каждый вечер, а иногда и ночью останавливался его экипаж перед Лаубельфингеном. Казалось, он забыл и «Лебедя», и Остров роз, и голубое озеро, и жил опять в Кронбурге, занимался с министрами государственными делами, но большая часть его времени была посвящена ей, одной ей. Его занимала не только отделка апартаментов для будущей герцогини в эти дни дивного благоухания, когда ему удалось загнать в самые тайники своей души черный, неопределенный страх перед самим собой, перед своей слабостью. Свадебные торжества, ради которых был вытащен на свет Божий старинный, почти вышедший из употребления церемониал, были по его приказанию выработаны во всех подробностях, и художники, беспрестанно входившие и выходившие из его рабочего кабинета возле зимнего сада, были завалены всякими мелочами и могучим размахом его фантазии. Граверу, например, было поручено воспроизвести портрет Адельгейды с небывалой еще тонкостью, литография должна была воспроизвести это изображение в тысячах экземплярах, которые должны были раздаваться в день свадьбы по всем городам и деревням герцогства.
В небольшой мастерской, устроенной недалеко от зимнего сада, под руководством самого герцога работал над дивным произведением скульптор. То был бюст Адельгейды, настоящее чудо искусства из каррарского мрамора, предназначавшийся для князя Филиппа. Работа продолжалась несколько недель, пока наконец Альфред не признал, что скульптура удалась и стала замечательно похожа на оригинал. Как живое выступило из девственной белизны камня прекрасное лицо принцессы и ее лебединая шея. Этот камень художник, по приказанию герцога, сам выбрал на мраморных карьерах Каррары.
Этот бюст стал идолом герцога. Он был начат и окончен во дворце на его глазах. Никто, кроме него и художника, даже сама Адельгейда не видала его. Принцесса раза два позировала в Лаубельфингене для этюда, а далее художник работал уже по гравированному портрету.
Ключ от мастерской или святилища, как называл его Альфред, он носил всегда с собою. Он сам отпирал дверь скульптору, сам впускал и выпускал его оттуда. Мало-помалу появлялась здесь Адельгейда, этот идеал его чудных грез о женской красоте и неземной женской доброте и чистоте.
Мрамор все более и более притягивал Альфреда. Почему — этого он и сам не знал. «Колыбель моих скорбей, могила моего покоя», — проносилось иногда у него в голове, когда он прижимал свой горячий лоб к этому мертвому мрамору, не чувствуя себя в силах прижать к себе оригинал этого бюста. Днем и ночью в тягостные часы он боялся этой цветущей жизни, зная, что Адельгейда имеет право потребовать настоящей любви мужчины к женщине.
Беспокойно ходил он по комнатам дворца, по старым, уже отделанным, и по тем, которые еще приготовлялись для герцогини. На своих конюшнях он выбрал шесть белоснежных лошадей, которые приучались носить тяжелое украшение, которое им предстояло нести на себе в тот день, когда их запрягут в свадебный экипаж. Каждый день их медленно водили от дворца до церкви, так как, по словам шталмейстера, нужны были недели для того, чтобы приучить этих горячих животных двигаться так, как приказал Альфред. То были шесть настоящих арабских лошадей. Их-то и выбрал он для свадебного экипажа Адельгейды. Белые, словно снег на его любимых горах, они шли с гордо поднятой шеей на светло-голубых поводах, в золотой сбруе.
Вот чем он развлекался и как проводил большую часть дня. Вечером он несся к Лаубельфингену, — и с каждым днем все быстрее и быстрее — приветствовать Адельгейду, а затем наступала ночь, которую он обыкновенно проводил в ярко, как днем, освещенной мастерской возле почти законченного мраморного бюста. В такие страшные ночи он осыпал этот бюст горячими поцелуями, которыми он не смел целовать свою невесту, боясь вызвать в ней страсть. Его дрожащие руки лобызали мраморную шею и грудь. Целыми часами в вожделении и с болью в сердце смотрел он на эту удивительную красоту, а затем забирался в часовню, пристроенную к его спальне, и горячо молился перед изображением распятого Спасителя. Мрамор не давал ему сил мужчины, а цветущее тело невесты наводило на него ужас, который он не мог преодолеть, несмотря на все свои усилия!
«Как все это произойдет? Как?» — слышал он стонущий вопрос где-то внутри себя. Кто мог наградить его на его жизненном пути такой слабостью, его, почти всемогущего герцога?
С молодости он был воспитан в строгих правилах и в уважении своей церкви. Уже будучи герцогом, он склонился перед властью своего духовника Пфистермана, справлял все посты и праздники. В его спальне стоял русский складень византийского стиля — подарок русской императрицы его покойному отцу. Этот складень он любил более других. Он был с ним в Гогенарбурге и видел борьбу и страдания его детских лет. Вступив на престол, Альфред привез его в Кронбург с собой в карете.
Эти иконы изображали на золотом фоне победу плоти. На средней из них был изображен Спаситель на кресте, рана от удара копьем приковывала к себе внимание зрителя, на боковых створках было изображено побиение камнями св. Стефана и мучение св. Севастиана. Когда он был еще мальчиком, ему было жутко смотреть на этот складень. Жутко было ему и теперь, когда он поставил этот складень рядом с великолепной герцогской кроватью и лежал перед ним на коленях.
— Что же это? — громко вскрикивал Альфред. — Спаси меня. Дай мне найти в Адельгейде силу Твоего искупления! Огради меня от страха. Отец мой Небесный, ведь Ты видишь, что я хочу его побороть!
Но никто не отвечал ему сверху. Эта горячая молитва перед складнем не давала ему ни мира, ни спокойствия. Разве не учила церковь, к которой он принадлежал, о том, что нужно умерщвлять плоть свою для того, чтобы достигнуть высшей цели — чистоты? Не звал ли Грааль своего рыцаря прежде, чем он падет в объятия женщины, в залы его высокого замка?
Сомнения терзали его, и он молился и молился перед маленьким складнем, молился о том, о чем, по учению его церкви, нельзя было молиться, что, по словам ее священников, было плотским грехом и вожделением!
О, для чего его учили всему этому. Его хотели воспитать там в Гогенарбурге в смирении, а теперь из этого вышла слабость!
Гогенарбург! О, если бы у него нашлось мужество бежать туда от всего того, что его здесь удручало, от шума Кронбурга, блеска двора, от любви, страсти, которой у него не было, от самой Адельгейды? Нет, ему не дали времени, и в конце концов он не успел правильно познать себя, переоценил себя!
С каким сладострастным страданием играл он этими мучительными мыслями. Исчезнуть в горах, никем не замеченным, подобно рыцарю св. Грааля, который совершает свою миссию и которого белая голубка зовет в отечество!
«Совершает свою миссию!» — раздавалось у него где-то внутри. Разве у него была миссия? Что скажет на это Адельгейда, князь Филипп, Матильда, кронпринц, которого он ожидает к свадебным торжествам на несколько недель в Турм? Он должен оставаться, он должен выдержать все, несмотря ни на что.
Гогенарбург скрылся из его духовных очей. Вместо него вдруг вынырнули Кронбург и Турм, Лаубельфинген и озеро.
Он оттолкнул от себя складень. Во что бы то ни стало он должен был найти силу, в которой ему было отказано темной судьбой, загадкой неба.
Ему недоставало воздуха в раззолоченной спальне. Он распахнул ставни.
По верхушкам дворцового сада кралась вспыхнувшая на востоке заря.
Он победоносно поднялся. Как заря, и он хотел восторжествовать в своем сердце над темными силами ночи. Да, он хотел этого всеми силами своей воли и своей души.
XX
Наступила великолепная осень — чудный сентябрь, когда в полдень еще тепло, как летом, а рано наступающим вечером и посвежевшими ночами чувствуется мягкое дыхание уходящего лета. Великолепный парк замка Турм красовался тысячами оттенков и красок. Неподвижно, словно хорошо отшлифованный сапфир, лежало у его подножия Лаубельфингенское озеро. На юге гляделись в него огромные любимые герцогом горы. По утрам и вечерам их взлетевшие к небу вершины были окутаны душистым покрывалом из голубоватого тумана и золотистого блеска.
По приказанию Альфреда, для празднования бракосочетания обеих пар двор снова переехал из Кронбурга в Турм. Придворные садовники, присланные из дворца, уже несколько недель работали над украшением парка для предстоящих торжеств.
Пальмовые оранжереи герцогского садоводства в Кронбурге и даже замолкший и никем не посещаемый зимний сад в кронбургском дворце выслали сюда лучшие экземпляры экзотических своих культур. Теперь они красовались своей темной зеленью в передней части парка, недалеко от дворца, который имел прямо волшебный вид. Пышные южные растения, казалось, переплелись на пару дней с северными в общей красочной массе. Альфред каждый день обходил сам этот райский уголок. Дикий виноград, поднимавшийся до самой крыши замка между плющом, казался темно-красным. Любимые цветы герцога — японские орхидеи — еще не совсем распустились. На башенках замка развевались светло-голубые флаги, сияя в лучах осеннего солнца своей светлой приветливой окраской. На лужайках были расставлены группами пальмы и цветы — тысячи цветущих деревьев.
Альфред не пощадил даже роз своего опустевшего острова.
Огромный букет в несколько тысяч роз всех оттенков был поставлен на середине площадки, которая шла от террасы замка к берегу голубого озера. Задний фон для этой великолепной картины, созданной природой и искусством, образовал родной лес, блиставший всеми осенними цветами. Темный цвет сосен, сквозь которые местами просвечивало яркое золото берез, зелень дубов и буков, постепенно переходящая в цвет красной меди, ярко-красная окраска вязов и кленов, чахлая бледность чужестранных декоративных растений — все это тесно переплелось между собою, образовало картинку жизни, протягивавшей руки смерти.
Целыми днями работали садовники под личным руководством Альфреда. Внутри замка, на озере, на вершинах гор и на опустевших дорожках его Острова роз делались последние приготовления к великому дню.
На террасе замка герцог давал обед в честь своей невесты, кронпринца, Матильды и всей герцогской семьи. Обед закончился невиданным по великолепию праздником на озере. Вершины и долины этого чудного места должны были с наступлением ночи вспыхнуть тысячами огней. Об этом дне должен был заговорить весь Кронбург, все герцогство.
Благодаря энергии Альфреда, все было наконец готово. Приданое Матильды он великодушно принял на свой личный счет. Празднества и прием кронпринца также были отнесены на его счет. Жених его кузины, которую он уважал более всех, был для него дорогим гостем в его герцогских апартаментах замка Турм.
Тысячами стекалось на берег озера окрестное население, сотнями приходили сюда из Кронбурга и из других частей герцогства. Все деревни вдоль берега, все отели и гостиницы были переполнены, и когда, наконец, наступил торжественный день, весь берег Лаубельфингена был усеян тысячами зрителей, глядевших на замок Турм, на башне которого развевались вместе штандарты герцога и кронпринца. «Лебедь» стоял неподвижно у пристани и ждал того момента, когда герцог и его гости выйдут из комнаты, сядут на пароход и доставят из Лаубельфингена в Турм князя Филиппа и его двух дочерей.
Было около шести часов вечера. Солнце заходило на покой за темно-зелеными, покрытыми соснами горами. Огненным, раскаленным шаром катилось оно по безоблачному вечернему небу и бросало последние пурпурные лучи на голубое озеро.
Тысячи глаз искали того места, откуда должен был отправиться «Лебедь». Вооружившись биноклями и подзорными трубами, люди стояли у всех окон окрестных домов, сидели на всех крышах и балконах. Дома и избы окрестных селений разукрасились гирляндами цветов, на стройных сельских колокольнях развевались светло-голубые герцогские флаги.
Громко раздавались приветственные крики толпы. Перед балюстрадой замка Турм грянул громовой салют, а на юго-западной угловой башне замка, как раз напротив Лаубельфингена, взвился княжеский штандарт невесты.
По берегам озера разом зазвонили колокола всех церквей. Ветер относил их звон в Турм, и он достигал до слуха Альфреда, как умоляющий зов его народа.
Вот, наконец, появился и он в сопровождении кронпринца и великолепной свиты. За «Лебедем» стоял другой большой пароход, на котором поместилась свита. Альфред занял место на «Лебеде» только с кронпринцем и Ласфельдом.
Кронпринц был в светло-голубом мундире полка, шефом которого он был сегодня назначен. Альфред, в честь своего гостя, был в общегенеральской форме его государства. Непривычно было видеть его в этой незнакомой ни народу, ни окружающим его форме. Но и в ней он держался гордо, как герцог, как юноша, красоте которого не могло повредить никакое одеяние.
«Лебедь» вышел в озеро. Следом за ним шел другой пароход. Через четверть часа оба были уже у Лаубельфингена. Минут через десять оба парохода, взяв на борт «Лебедя» князя Филиппа и обеих принцесс, двинулись обратно в Турм.
Толпа, стоявшая по берегу, разразилась приветственными криками, увидев Альфреда и принцессу Адельгейду, которая стояла рядом с ним. Принцессу Матильду и кронпринца, в честь которых собственно и был устроен весь этот праздник, казалось, совсем забыли.
Пароходы подошли к Турму, когда стало уже смеркаться. Предстоял парадный обед в большой зале замка. Когда совсем стемнело, начался праздник на озере. Толпа терпеливо ждала часа полтора. Южные вершины гор уже засеребрились лунным светом. Полная луна поднялась в небе и обливала светом снежные моря гигантских массивов.
Возгласы восторга становились все громче и громче. Загорелась иллюминация замка Турм. Контуры герцогского замка вдруг выступили огненными линиями, и перед очами зрителей выступило все здание, как будто разом вырванное из мрака дворцового парка. По дорожкам Альфред приказал зажечь целый ряд маленьких огней, которые светились, как светлячки в Иванову ночь. Из раскрытых окон Турма неслись дивные звуки свадебного марша из «Рыцаря с лебедем». Играл оркестр лейбгвардейского полка. Затем пел тенор придворного театра.
Народ затаил дыхание. Сердца многих тысяч людей сегодня в самом деле неслись к ногам царственного юноши, желая счастья ему и его сияющей невесте.
Ночь спустилась на горы и озеро. Только бледная луна лила море серебряного света на тихо плескавшиеся волны, придавая Острову роз, горам, замку какой-то вид сказочных привидений.
Вдруг с вершин гор пахнул холодный ветерок — первое дыхание осени, легкий, едва уловимый поцелуй смерти.
На озере царило большое оживление. Сотни лодок, украшенные цветочными гирляндами и освещенные фонариками, сновали по всем его уголкам. Озеро стало похоже на какой-то зал, где танцевали сирены. Вокруг замка Лаубельфинген образовался целый огненный пояс. Этот замок царил высоко над дворцом на крутом обрыве. Развалины времен миннезингеров теперь были лишь отголоском былой поэзии, минувшего великолепия и величия.
На Острове роз вдруг вспыхнуло огромное электрическое солнце и, споря с месяцем, стало бросать снопы света на Лаубельфинген и Турм. С треском взлетела к небу ракета, давая знак к началу блестящего празднества.
На высоком балконе Турма появились обе помолвленные пары. Их сейчас же заметили, раздались бурные приветственные крики. Альфред раз двадцать подходил к балюстраде балкона и махал платком в ответ на приветствия. Адельгейда была в восторге. Забывая свое высокое положение, она обеими руками посылала народу поцелуи.
В ответ неслись громкие приветствия.
Альфред легким движением неудовольствия заставил ее опомниться. Его гордость не мирилась с этим.
Загремели пушки с башни Золлер, Турм его парк и замок осветились морем бенгальского огня. Все сияло то красным, то густо-зеленым огнем. Казалось, что герцог, его невеста, замок и двор, озеро и горы не существуют в действительности, что все это прекрасный волшебный сон, вызванный из глубины темной ночи на десять каких-нибудь мгновений и потухающий, как эти огни, казавшиеся сказочным царством.
Тысячи глаз видели его рядом с нею. Он стоял на большом балконе своего герцогского замка Турм. Эта картина была слишком красива для грубой действительности.
Фейерверк кончился. Тысячи глаз ждали только его. И действительно, никто не видел ничего подобного ни в Кронбурге, ни в Турме. Он напоминал о старинных днях прошлого века. Ради великолепия Альфред приказал зажечь целый город, как он выражался. Ракеты, римские свечи, огненные колёса, бураки разлетались по черному, как смоль, небу. Луна давно уже зашла за горы, как бы спрятавшись от фантастического мира Альфреда. Озеро и холмы были покрыты темнотою. По гладкой поверхности воды скользили лишь лодки, иллюминированные фонариками. Издали неслись жалобные звуки одинокого рожка. То играл серенаду в честь Адельгейды известный солист на корнет-пистони, служивший в оркестре гвардейского полка Альфреда. Оркестр, скрытый в кустах парка, отвечал ему, как будто издали.
Вдруг из озера забил чудный фонтан, освещенный бенгальским огнем всех цветов радуги. Сначала он был ослепительно-белый, как расплавленное серебро, потом стал огненно-золотым, ярко-красным и наконец синим и фиолетовым. Казалось, он забил из подземных глубин, из замерших глубин какого-то уже вымершего мира.
Альфред стоял теперь один с Адельгейдой на среднем балконе своего замка. Князь Филипп, Матильда с кронпринцем и их свита, боясь ночного холодка, удалились в замок и смотрели из окон. Остался только он. Он держал руку девушки и смотрел на это море света и красок, которые он, казалось, хотел впитать в себя своими восхищенными глазами.
Из бьющих вод фонтана вдруг посыпался огненный дождь. Светящиеся фонтаны были остановлены, и с палубы судна, которое беззвучно скользнуло по озеру, взлетел великолепнейший фейерверк. Это была заключительная картина праздника.
Десять тысяч ракет разом взлетели в воздух. Целый дождь разноцветных шаров и блестящих звезд упал в озеро, из этих огней и красок образовались огромные буквы имени, которое, как видение, стояло над замком, озером, горами, над жизнью и судьбою самого Альфреда. То было имя его невесты, словно демонами написанное огненными буквами в воздухе: «Адельгейда».
Имя принцессы было изображено удивительно сходно с той подписью, которою заканчивалось ее благодарственное письмо к герцогу.
Альфред весь превратился в зрение. Невеста хотела было благодарить его, но не могла произнести ни слова.
В эту ночь наступающей осени он прочел огненный знак своей судьбы и своего будущего. Его взгляд был прикован к потухающим искоркам, из которых слагалось это имя. Теперь они тухли, светились тускло, вспыхивали все реже и реже, становились бледнее и бледнее до тех пор, как имя, еще недавно так блестевшее, было развеяно жалобно звучавшим ветром и разлетелось пылью и золой над волнами озера, словно какое-то привидение, словно свет луны, обливающей серебром озеро и которым так хочется овладеть и который никогда, никогда не удержать.
Адельгейда вздрогнула.
Герцог рыдал рядом с ней.
Дрожь пробежала по его высокой фигуре. Она испугалась его.
— Что с тобой Альфред? — прошептала она.
— Погашено, погашено мраком ночи, — раздался около ее уха его голос, едва слышный от рыданий. — В эту черную ночь угасло то, что я представлял себе таким великим и прекрасным.
— Но ведь все было так великолепно, — пыталась она его утешить.
— Да, это было великолепно, Адельгейда, — сказал он печальным тоном. — Это был чудный сон! Этот замок, это озеро, эти мои горы, ты и этот праздник — как я всему этому радовался в течение нескольких недель. То был последний чудный сон на моем розовом острове!..
— Альфред, послушай…
Она приблизилась к нему с нежностью и лаской. Он взял ее за руку. Его рука была холодна, как лед. Его большие, широко раскрытые глаза, казалось, искали его огненное, уже потухшее счастье.
Вместе с Адельгейдой он вошел в парадный зал. Тысячи зрителей, которые терпеливо ждали конца фейерверка, видели, как герцогская чета исчезла в море света, хлынувшего из зала в темноту парка.
Через четверть часа лодки и пароход с гостями герцога отправились обратно из Турма в Лаубельфинген. В Турме огни стали медленно гаснуть. Тысячи зрителей, толпившихся на берегу озера, стали расходиться, возвращаясь в свои гостиницы и в свои жилища в Кронбург.
Кронпринц отбыл в отведенные ему апартаменты.
Только у одного окна замка стояла одинокая фигура. Она глядела через озеро на далекие горы на юге, через темный лес елей и сосен, росших на скалах, а не через Лаубельфинген, где была его невеста.
— Было чудно, хорошо, — тихо промолвил герцог. — А все-таки… не так хорошо, не так чисто, не так величаво, как величавы вы, далекие горы моего детства и юности. Ваши уединенные ущелья и долины, глубокие синие озера… Не то… Не то…
Долго стоял он глубокой ночью около этого уединенного окна. Его больше не знобило, казалось, он совершенно потерял ощущение начинающей холодить осенней ночи. Ему вдруг стало тепло и приятно. Стоя около всегда веселой Адельгейды, он чувствовал себя одиноким. Теперь же это чувство в нем исчезло.
Нежно блуждал его взгляд по поверхности озера, по холмам, останавливаясь на высоких горах на юге, где на крутой скале гнездится орел, а по отвесным крутизнам карабкаются серны и пастухи.
— Вы зовете меня, зовете! — сорвалось вдруг с его губ. — Зачем же зовете вы меня теперь, вы, чистые высоты, возвышающиеся над плоскостью городов, над всеми людьми и надо мной самим.
Взгляд его могучей фантазии пронизывал даль и темноту, и вдруг перед его взорами восстал горный хребет, густо усаженный первобытными соснами, который он столько раз проезжал в детстве на своем пони. Он как будто манил его к себе, соблазнял голосами, доступными лишь внутреннему слуху.
Печально взглянул Альфред на Лаубельфинген.
— Не верю, не верю, — зарыдал он. — Имя погасло, исчезло. Мой розовый сад и павлины, которые ей не понравились, «Лебедь», над которым она смеялась, розы, аромат которых ее раздражал… Не верю, не верю… Горы моей юности Гогенарбург, резиденция моих прадедов, озеро в глубине их… Там… и тут!
И он показал рукою к северу, где находился Кронбург, столица его страны, в которой он только страдал и боролся.
Тихо покачал он головою.
Еще раз посмотрел он на Лаубельфингенское озеро и на замок князя Филиппа, где лежали в грезах обе невесты, спасительный остров, созданный его фантазией, родина белой голубки и серебристого фазана.
Не людям, карликам равнин, не обывателям Кронбурга, приветствовавшим сегодня его криками только потому, что он, подобно другим, решил вступить в брак, не им понять его. Царство его не от мира сего!
Он почувствовал, как в нем появилось что-то сильное, его духовный взор увидал нечто такое, что он до сего времени не замечал и что заметил впервые только в эту чудную осеннюю ночь, стоя один-одинешенек у окна замка Турм.
Это празднество и эта ночь показались ему прощанием со своим прошлым.
Почему? — он этого не знал и сам.
На востоке занимался уже день, когда он лег в постель.
XXI
На следующий день кронпринц возвратился к своему отцу. Король спешно готовился к свадебным торжествам; эта свадьба была давнишним сердечным желанием его сына.
Бедность князя Филиппа и затруднения, которые создавало кронбургскому двору министерство Бауманна фон Брандта, затянули это дело, и молодому жениху могло наскучить бесконечное ожидание. Матильда прощалась со своим прежним любимым отечеством, с голубым Лаубельфингенским озером и горами, с домом и любимой своей лошадью Эмиром, с крестьянскими хижинами, в которых она любила отдыхать, со своей сестрой — отрадой ее короткой молодости.
Осенние туманы уже клубились на вершинах и на равнинах, когда она в сопровождении небольшой свиты села в герцогский вагон на маленькой станции Лаубельфинген. Поезд должен был доставить ее до границы герцогства, где ее уже ждал придворный поезд ее будущего тестя. Она должна была выйти в большом городе, лежавшем в низовье богатой реки и превосходящем Кронбург как по величине, так и по своему значению. Ей предстояло осчастливить могущественный народ, живущий на огромном пространстве.
Как-то тяжело было у нее на душе, как у человека, который из мягкой тени темно-зеленого леса вдруг попадает на ярко освещенную солнцем улицу.
Князь Филипп и графиня Шанцинг сопровождали ее. Она потребовала этого, так как это облегчало ей расставание с родиной. Адельгейда осталась дома. Никто не решался предложить герцогу отпустить невесту хотя бы на короткое время — пока не кончатся свадебные торжества ее сестры. Как и прежде, в Лаубельфингене то и дело, днем и ночью, появлялись придворные лакеи с какими-нибудь поручениями от герцога.
Пока поезд не тронулся, Матильда стояла на перроне станции Лаубельфингена. Отсюда открывался дивный вид на голубое озеро и горы, на замок Турм и на уединенный остров, к берегам которого ее челнок беззвучно причалил однажды ночью. Она любила кронпринца, брак с ним — был ее горячим желанием, и однако… при расставании с этой тихой долиной, которую романтический герцог в это, теперь уже прошедшее, время превратил в какую-то сказочную страну, у нее невольно сжалось сердце.
«Когда, как и в каком настроении увижу я вас опять? — пронеслось у нее в голове. — Залы Турма, павлины, остров, пароход — когда я увижу опять все это?»
Наконец она оторвалась от этой картины и страстно, порывисто обняла Адельгейду.
— Желаю тебе высшего счастья на земле, — сказала она. — Заставь его понимать себя, слышишь!? Он заслуживает, чтобы его поняли. Я почти завидую тебе.
— Я желаю тебе, Матильда, королевской короны. Будь счастлива.
Едва могли оторваться друг от друга обе сестры.
Князя Филиппа не было.
Обер-кондуктор уже два раза спрашивал, можно ли ехать, чтобы не опоздать с прибытием на границу.
Поезд тронулся. Матильда долго смотрела из окна вагона. Адельгейда махала ей платком. Ей было досадно, что упрямство герцога лишало ее возможности присутствовать на блестящей свадьбе сестры.
Свою свадьбу Альфред назначил в половине октября, в тот самый день, когда вступили в брак его отец и дед.
В Кронбурге он простился с Матильдой. Он приехал на вокзал в сопровождении своего адъютанта Ласфельда и поднес своей собеседнице на розовом острове букет голубых незабудок.
— Дети твоей родины, Матильда, — сказал он каким-то странным, дрожащим голосом, — говорят тебе последнее прости!
И с внезапно нахлынувшим чувством он тихо поцеловал ее в высокий лоб. Словно дыхание ветерка скользнул этот поцелуй по Матильде, словно лунный свет, дрожащий на волнах Лаубельфингенского озера.
— Не забывай, Матильда, о горном орле, — тихо прибавил он.
— А ты не забывай голубки на равнине, — отвечала она.
Матильда вошла в вагон. Альфред сам дал знак к отправлению поезда.
У него было такое чувство, как будто он сам отрезал острым ножом кусок собственного тела, как будто он сам отделил от себя нечто такое, что как бы срослось с ним. Долго смотрел он с огромного кронбургского вокзала вслед удаляющемуся поезду. Затем он сел в сопровождении Ласфельда в придворный вагон и вернулся в Кронбург.
В этот день, когда он простился с Матильдой, никто не мог его видеть. Галлерер, придворные чины, начальник кабинета, даже мастеровые, заканчивавшие отделку апартаментов будущей герцогини, даже художник, заканчивавший мраморный бюст, все они напрасно ждали его аудиенции.
Альфред сначала заперся в зимнем саду и тихо плакал. Самых лучших из его пальм не было. Со времени празднества в Турме они все еще стояли в прачечной замка. Ему стоило большого труда решиться послать их туда. Этим он как бы принес жертву Адельгейде. А между тем его невеста не сказала ему ни слова благодарности за то, что он превратил парк замка в тропический лес. А вот Матильда крепко стиснула его руку и громко выражала свой восторг.
Ему не хотелось оставаться в разгромленном зимнем саду, где родилась его царственная мечта возле маэстро и Монтебелло, которая так быстро и грубо разрушилась. Челнок с лебедем стоял у его ног. Целое лето никто не пользовался им.
В стеклянном зале был душный спертый воздух. Зимний сад теперь уже не нравился ему. Уже несколько недель не зажигалось здесь солнце. От искусственного озера несло плесенью, гнилью. Розы и лотосы его мечтательных затей завяли; пока он был в отсутствии, его зимний сад был, очевидно, в полном пренебрежении, и водяные растения, которые он так любил, мимо которых скользил в тихие ночи его челн-лебедь, понемногу начали загнивать.
Гнев охватил его. Он хотел было вызвать придворного садовника, указать ему на все упущения, объявить ему свою немилость и немедленно уволить его. Но потом он раздумал.
Ему стало страшно. Его голубка, Матильда, которая умела так хорошо понимать его чувства, с каждым часом удаляется от него все дальше и дальше! Миновали летние дни, в последний из них, самый яркий и незабвенный, огненными буквами воссияло имя Адельгейды. На равнину его жизни пал туман, закутавший и великолепное Лаубельфингенское озеро, и Турм с Островом роз. Прошло лето, ушло, пока следующая весна не ступит снова на зеленые холмы и не засыплет их цветами…
Весна после долгих зимних месяцев. Кто знает, что к тому времени будет с ним?
Альфред подошел к краю своего озера и попробовал вытащить из него завядшие листья лотоса и роз, но напрасно: их было слишком много, их стало слишком много за те месяцы, когда он не переступал порога своего зимнего сада. Много цветов погибло, много опало с тех пор, как он в гневе повернулся спиной к Кронбургу и напрасно умолял маэстро о возвращении. Но отмершие листья нельзя уже было вернуть к жизни, похороненные надежды нельзя воскресить, заглушенные желания нельзя оживить.
Под немногими пальмами, которые еще оставались здесь, он перешел на другую сторону озера и, как бы лаская, положил руку на шею лебедя… и быстро отнял ее: это дитя его фантазии также было чуждо жизни.
Краски, дерево, театр, словом, все, что он мог вызвать к жизни в эту минуту, с отчаянием представилось ему не чем иным, как косным отражением его могучих мыслей, его пылкого фантастического творчества.
Лебедь, которому он первое время радовался, как ребенок, теперь был холоден и мертв. Он снял с него свою руку, он уже не любил его. Теперь он был для него мальчишеской игрушкой, а не художественным произведением зрелого мужа, которое в своем мертвом материале скрывает жизнь.
А маэстро! Сколько недель, сколько месяцев он не слыхал о нем ничего! Может быть, он разочаровался в том уединении, в которое поставил себя за границей, может быть, он нашел других, более здоровых людей, на которых он оперся, может быть, он завоевал победу для себя и для своего дела один, без него, чье герцогское слово здесь так презрели?
Более здоровые люди! Почему они пришли ему на ум? Разве он сам не здоров? Он сам не знал этого. Страшные боли, которые он иногда чувствовал в затылке, — первые предвестники того, что должно было наступить потом, едва ли можно было назвать болезнью. Они приходили и прекращались, и он забывал о них.
Наконец он оторвался от созерцания своего зимнего сада, который теперь решительно не нравился ему. Ему хотелось взять себя в руки: ведь у него были обязанности, герцогские обязанности относительно этого города, относительно его страны и народа.
Он уже подошел было к двери, которая вела в его кабинет, уже хотел было позвать секретаря и распорядиться начать аудиенцию, как вдруг его с какой-то волшебной силой потянуло в мастерскую, где стоял еще не законченный бюст принцессы Адельгейды.
Любил ли он ее? Этого он и сам не знал. Что же так тянуло его к этому бюсту несмотря ни на что, несмотря даже на то, что она явно не могла ни понять его, ни оценить? Ее существо было чуждо ему. Она была день, светлое солнышко! На ее устах играла торжествующая улыбка молодости, а в голубых глазах отражалось небо сияющего счастья. А он был ночь, унылая ночь, которая избегает этого дня, которая не в состоянии ужиться со светом и солнцем и ищет глубокой тени и бледного сияния луны. Одно исключало другое, одно несло смерть другому. И однако он стремился к ней. Почему, зачем, каким образом? Он искал всеми фибрами своей души то, перед чем с тоскою и ужасом трепетало все его существо. Он дрожал, если она была близко. Под ее взором он чувствовал себя зверьком, которого бросают на съедение в клетку змеи, кроликом, которого дают на растерзание орлу.
И все-таки! Под ее взором он был как очарованный и чувствовал себя охваченным силою ее красоты и победоносной молодости, которая стремилась уничтожить его, такого слабого!
Он оставался при своем, ибо его поддерживала надежда — обманчивая, золотая надежда на то, что его глаза, которые заволакивала ночь, печаль грядущего, привыкнут в конце концов к блеску солнца, что она принесет ему с собой избавление от страданий теперешних дней и от грез теперешних ночей, в которые являлись к нему горные привидения и величавые гордые одинокие духи из царства, над которым он потерял уже власть.
При помощи ее и рядом с ней он хотел бороться, биться, побеждать! Он ждал луча ее солнца в своей бедной сумрачной жизни.
И вот он опять стоит перед мраморным бюстом, обнимает его, чего никогда не посмел бы сделать с живым его оригиналом, ниспосланным ему, и молится на него, молится так, как когда-то молился перед своим складнем.
— Адельгейда, спаси меня!
Но мрамор не дает ему ответа, не снисходит к его горячей мольбе, а у него не хватает духу с живой Адельгейдой. Он боялся дать ей заглянуть вглубь того, что делалось у него на душе, где сидели, раздирая ее, демоны! Нет! Нет!
Она, вероятно, отшатнется от него в ужасе, отвратить свои взоры от области ночи навстречу сияющему дню юности!
Его дрожащие руки охватывали холодный мрамор — воплощение его единственной кратковременной мечты о счастье, молодости, любви!
— Оставайся, оставайся со мною, — шептал он. — Побудь около меня, моя утешительница, искра света в пучине мрака, оставайся! Позволь мне смотреть на тебя хоть издали!
И он горячо поцеловал холодные уста статуи. Потом нежно накрыл ее покрывалом, которое обыкновенно накидывал для защиты своего незаконченного творения художник.
Наконец он пошел дальше. В кабинете секретарь доложил ему, что человек двенадцать ожидают его распоряжений. Теперь он уже окончательно овладел собою. Он дал аудиенцию, разрешил вместе с Галлерером и другими высшими чинами текущие государственные дела, сделал указания рабочим и работал, пока через высокое окно его кабинета не спустились к нему сумерки.
Свадебные торжества должны были продолжаться две недели. Потом князь Филипп возвращался обратно к себе.
Между тем наступала уже середина октября. Программа его бракосочетания была уже выработана, апартаменты Адельгейды готовы. Нужно было сделать выбор между днем и ночью.
XXII
Князь Филипп вернулся со свадьбы Матильды. Теперь он поселился на зиму с младшей дочерью Адельгейдой в старинном дворце Филиппсбурге, в котором жил его отец и в котором он жил сам до своей размолвки с его царствовавшим братом.
Столица готовилась к еще невиданному празднеству. Почти в течение целого столетия не было случая, чтобы вступал в брак уже царствующий герцог, обладатель короны и носитель короны. Ни одному из предков Альфреда не приходилось принимать бразды правления в столь юном возрасте. Все они были уже давно женаты, становились отцами семейств прежде, чем на их плечи падала тяжесть пурпуровой мантии.
Что же удивительного, что не только Кронбург, но и все герцогство с огромным нетерпением ждали знаменательного дня? По случаю объявленного бракосочетания Альфреда и Адельгейды министр юстиции уже заготовил указ об амнистии и поднес его на подпись герцогу. Двенадцать пар, беднейших в герцогстве, должны были соединиться в один день с герцогом, причем невесты получали роскошное приданое за счет личных средств герцога. Таково было распоряжение Альфреда.
Середина октября уже приближалась. Из всех частей герцогства, из высоких гористых местностей и из городов плодородной равнины — отовсюду присылались подарки герцогской чете, всюду чиновники и горожане спешили выразить свои верноподданнические чувства. Государи других европейских стран присылали пожелания счастья и дары; послы и представители иностранных дворов уже съехались в Кронбург. Архиепископ столицы набрасывал свою речь, которую должен был сказать на бракосочетании. По пути следования брачной процессии от дворца до старинной церкви св. Гавриила сооружались мачты. Они были обвиты гирляндами роз, а подножие было закрыто свежими ветвями горных сосен.
Альфред был ежедневным гостем во дворце князя Филиппа. Казалось, он совсем забыл и темно-голубое озеро, и прощание с Матильдой, и Остров роз, и замок Турм. Никто не мог и подумать, что делалось в это время у него на душе, даже сам князь Филипп, а еще менее Адельгейда, которая вся ушла в свое счастье и гордые надежды стать через несколько дней рядом с ним, в качестве государыни этой страны.
Во дворце все было готово к назначенному часу, как приказал герцог. Мраморный бюст Адельгейды был закончен, гравированная с него доска отдана для воспроизведения, белые, как снег, кони парадного экипажа невесты теперь уже терпеливо несли свой тяжелый головной убор и безукоризненно двигались размеренным шагом.
Церковь св. Гавриила превратилась в цветущий сад. Букеты цветов, специально выращенных к этому дню в герцогских оранжереях, стояли вокруг алтаря, перед которым должна была стоять на коленях герцогская чета и получить благословение на союз, который по учению ее церкви считается нерасторжимым на всю жизнь.
В каком-то особенном настроении, словно во сне, проходил Альфред в эти последние перед бракосочетанием дни по апартаментам, отведенным во дворце его будущей супруге. Они примыкали к его комнатам. В задней стене своего рабочего кабинета он велел пробить дверь, которая установила сообщение с так называемым флигелем принцессы, предназначенным теперь будущей герцогине. Не опьяненный счастьем, а скорее с беспокойством и тревогою бродил он среди этой неслыханной роскоши. Каждый предмет был помещен на свое место по его указанию, каждый день он делал все новые и новые распоряжения, то, что он приказал сделать вчера, сегодня уже не нравилось ему. Двенадцать комнат были отделаны его любимыми цветами — белым, голубым и золотом. Только спальня была матового темно-красного цвета. Соседняя туалетная была розового цвета, такого же, как розы с его любимого острова.
Ряд апартаментов герцогини начинался с комнаты лейб-гвардейского корпуса. Затем шла парадная зала, где дожидались придворные чины и светские дамы, затем комната для аудиенций ее герцогского высочества, кабинет, гостиная, закусочная и роскошная столовая. Синий и зеленый будуар отделяли ее от туалетной и спальни.
Альфред доходил обыкновенно до этих будуаров. Здесь он останавливался и стоял иногда четверть, иногда полчаса; его охватывала робость, и он быстрыми шагами спешил возвратиться в собственные апартаменты.
Боковая дверь в зеленом будуаре вела в спальню будущей герцогини. Здесь стояла парадная кровать, устроенная на французский манер, как делали в XVII столетии, с темно-красным балдахином из тяжелого шелка, богато расшитая золотом, с кистями и шнурами такого же цвета! Кровать была сплошь позолочена. Великолепный гобелен, рисунок которого был взят с одной помпейской стенной фрески, тянулся под балдахином в изголовье кровати. Он изображал раненого Адониса, падающего на руки Венеры.
Вот этой-то кровати, которая была изготовлена по его чертежам и указаниям, больше всего боялся Альфред.
Уже несколько дней он не мог переступить порог этой комнаты. А ведь очень небольшой срок отделял его от того момента, когда герцогский камердинер передаст подушку его высочества камерфрау, что будет знаменовать предстоящий первый визит его высочества в спальню его августейшей супруги.
Альфред старался заглушить в себе страх. Целыми днями он работал без перерыва с начальником своего кабинета, с гофмаршалом, который должен был снова повторять и перечитывать ему со всеми подробностями программу свадебных торжеств, с министрами и другими высшими сановниками.
Мелочи сильно занимали его. Однажды он в течение целых трех часов беседовал с начальником кухни по поводу меню ужина, который должен был быть подан светским дамам и кавалерам накануне дня бракосочетания. В другой раз столько же времени потратил он на разговоры со шталмейстером относительно лошадей для его экипажа, в котором он, согласно старинному церемониалу, должен был сопровождать принцессу-невесту до замка Эльфенхейма, откуда она должна была совершить свой официальный въезд в столицу.
Страшнее всего были для него эти длинные вечера начинающейся осени, которые он проводил со своей невестой в Филиппсбурге. Адельгейда в конце концов привыкла к тому, что от него нечего ждать нежности, что он только любезный и предупредительный жених. Она думала, что после свадьбы он победит свою застенчивость, спустится со своих неприступных высот. Она предоставила ему действовать, как он знает, и за его вежливую дружественность платила ему тем же. Она давно уже отвыкла задерживать его руку в своей руке дольше, чем это позволялось придворным этикетом, после того, как однажды он резким движением вырвал у нее свою руку. Низкие придворные книксены, которыми она встречала его тусклый поцелуй, которым он целовал ее в лоб, неизбежное «ваша светлость», которое он постоянно вплетал в разговор, — все это было свойственно его герцогскому положению и делало для него несносной обязанностью его пребывание на высотах одинокого трона.
Князю Филиппу все это очень не нравилось. Он, вполне насладившийся своей жизнью, смеялся над причудами своего племянника, которому судьба давала в образе поразительно красивой, веселой восемнадцатилетней Адельгейды такую жену, которой позавидовали бы тысячи, чего он с высоты своего герцогского величества, казалось, и не замечал.
Тем не менее князь Филипп был спокоен. Все, казалось, входило в свою колею. Матильда сделала блестящую партию. Вечера в княжеском дворце почти не отличались от вечеров в каком-нибудь богатом бюргерском доме. Обед здесь проходил лишь в присутствии графини Шанцинг и адъютанта Ласфельда, которого Альфред обыкновенно брал с собой. Прислуживал всего-навсего один лакей, затем князь, испросив разрешения своего племянника, удалялся в свои апартаменты, предоставив надзор за помолвленными Шанцинг, в том убеждении, что сдержанность, которую герцог проявлял в его присутствии, должна была иметь свои основания.
Приближался день свадьбы.
Однажды Альфред прислал в Филиппсбург Ласфельда сказать, что он будет к обеду.
Обед проходил в столовой. Альфред в этот день был разговорчивее. Он казался в хорошем настроении и даже пустился шутить со своей невестой, чего он обыкновенно избегал из страха нанести какой-нибудь урон своему герцогскому достоинству.
Князь Филипп, по обыкновению, хотел оставить парочку, как вдруг Альфред обратился к нему с неожиданным вопросом:
— Вы так много добра делаете для меня, дядя, что я напрасно ищу, чем вас отблагодарить. Я ломаю себе голову и не могу ничего придумать. Скажите мне, чем бы я мог вас порадовать?
— Дайте счастье моей дочери, ваше высочество. Вот единственное желание моего отцовского сердца, — быстро отвечал князь Филипп.
Лицо Альфреда омрачилось.
— Разве вы сомневаетесь в этом, дядя? — спросил он почти раздраженным тоном. — Я надеялся услышать от вас какую-нибудь просьбу, исполнением которой я мог бы доставить вам удовольствие.
— Вы в самом деле желаете этого?
— В самом деле.
— В таком случае помогите торжеству правосудия в вашей стране.
— Что вы хотите этим сказать?
— Я сейчас объясню вам. В царствование моего покойного брата, а вашего высочества — отца, по настоянию вашей матери, иной раз делалось не то, что надо…
— И что?
Эти слова звучали в устах Альфреда, как крик ярости и гнева.
— Вы изволили приказать мне обратиться к вам с какой-нибудь просьбой, исполнение которой может доставить мне радость, и я должен повиноваться этому приказанию. Неужели вы думаете, что вы можете исполнить мое сердечное желание, подарив мне какую-нибудь лошадь или лебедя?
Адельгейда, Шанцинг и Ласфельд бросали тревожные взгляды, видя, как лицо герцога густо покраснело.
Но он быстро овладел собою.
— Вы смеетесь надо мной, дядя, — с трудом промолвил он.
— Я совершенно далек от мысли смеяться над вашим высочеством: ведь в ваши руки я отдаю будущее и судьбу моей дочери. Я испытал уже, что значила немилость вашего покойного отца, и должен был проводить горестные годы вдали от Кронбурга, в изгнании. Я хотел только предостеречь молодость вашего высочества и решился сказать вам то, чего не посмел бы вам сказать ни один смертный. Ведь через несколько дней с вашей судьбой будет связана судьба моей дочери и моя собственная.
И светло-голубые глаза Филиппа бросили на дочь долгий нежный взгляд, от которого она давно уже отвыкла.
— Что же вы хотите сказать мне? — спросил Альфред, на этот раз повелительным тоном.
— То, на что не решится ни один смертный, ни один из министров и подданных вашего высочества. Никто ведь из смертных не поднимался так высоко, чтобы нельзя было пасть еще ниже. Запомните мои слова, герцог, которые решаюсь сказать я, отец вашей невесты, за несколько дней до свадьбы. Таким языком еще никто не говорил с вашим высочеством.
«Это о маэстро, о маэстро, — звучало внутри Альфреда. — Когда-то он сказал, что не смертному строить замок святого Грааля».
— Довольно, дядя, довольно! — с величайшим спокойствием сказал Альфред, охваченный воспоминаниями. — Вы неправильно думаете обо мне. Я могу и хочу услышать ваше слово, ваш совет, ваше мнение.
— Я начну со времени отставки министерства вашего покойного отца.
— Плуты, — загремел опять Альфред. — Что им нужно? Они…
— Они не виноваты. Бауманн фон Брандт заранее предвидел то, что действительно и случилось. Представители города не дали своего согласия на осуществление вашего плана. Ты уберег бы себя от многих неприятных часов, если б уступил этому опытному человеку, который знает народ! А ты! Повернулся спиной к Кронбургу и несколько месяцев жил, как в заточении, в Турме и на Острове роз. Для того, чтобы народ любил своего государя, он должен его видеть. Носитель короны не должен быть игрушкой своего настроения или каким-то заоблачным богом. У него есть свои обязанности, гораздо больше обязанностей, чем у частного человека, даже самого маленького, живущего на свою ренту. Вот что должен ты запомнить.
— Дальше. А что же насчет справедливости, которая улетучилась из моей страны?
— На ее место водворился произвол. Нельзя высылать из герцогства людей только потому, что они стали нам лично неприятны.
— Ты хочешь сказать, что этого не может сделать даже герцог.
— Даже и герцог. На нем это сильнее отзывается. Сильно отозвалось и на вашем покойном отце, отзовется и на вас. Вспомните о докторе Штейне, против которого подняли дело об оскорблении вашего высочества, вспомните о графине Монтебелло.
Альфред побледнел.
— Вы уж чересчур смелы, дядя, чересчур…
— Вы сами приказали мне. Отмените приказ об изгнании Монтебелло. Ведь это была вопиющая несправедливость.
— А вы, должно быть, заинтересованы в этом, — промолвил Альфред.
— Да, заинтересован, как патриот, которому не нравится, что его отечество спустилось до уровня страны, где царит произвол, именно спускается, падает, ваше высочество, ибо столпами государств, в том числе и этого герцогства, являются справедливость и свобода, и тот, кто их расшатывает, наносит государству непоправимый вред. Подумайте, ваше высочество, вы еще молоды, вы еще имеете возможность все исправить, если послушаетесь моего совета. И первым доказательством того, что вы хотите это сделать, что вы действительно хотите исполнить просьбу того, от кого, по вашим словам, вы получаете столько счастья, будет возвращение графини Монтебелло.
— Вы в заговоре с моими врагами, дядя, вы не знаете, чего вы просите, что вы делаете. За вашей просьбой скрывается сама Монтебелло… Вы знакомы с ней?.. Вы видались с нею за последнее время?
— Да, она была у меня в столице вашего свояка, она бросилась мне в ноги и умоляла о разрешении вернуться на родину. Вы сами в этом виноваты, герцог. Вы приказали мне высказать вам просьбу, исполнение которой меня действительно может порадовать. Прошу разрешить Монтебелло вернуться обратно. Этот знак справедливости будет обозначать начало новой эры вашего царствования, которое теперь, после обручения с Адельгейдой, вступает в новую стадию. Дни капризных настроений прошли, приблизились дни справедливости и свободы!
Альфред мрачно глядел перед собой.
— Пусть будет так, — сказал он наконец, — это ваша просьба, а я дал вам мое герцогское слово, что исполню ее. Пусть Монтебелло возвратится из-за границы. Хорошо ли вы поступили, дядя, этого я не знаю. Но я сдержу свое слово. Сегодня же ночью начальник полиции в Кронбурге получит соответствующее распоряжение. Мы поговорим с вами завтра, завтра! Я прошу подойти сюда ее светлость и Ласфельда.
Принцесса, графиня Шанцинг и адъютант, отошедшие во время разговора дядя с племянником, поспешили исполнить распоряжение герцога.
— Ваша светлость, — ледяным тоном сказал Альфред, обращаясь к Адельгейде, — позвольте пожелать вам спокойной ночи.
Он поцеловал ей руку, а она застыла перед ним в глубоком реверансе.
— Идем, Ласфельд.
— Ваше высочество… — заговорил князь Филипп.
— Ваше желание будет исполнено, князь, не сомневайтесь.
С этими словами Альфред вышел.
Перед дворцом князя Филиппа его ждал дворцовый экипаж.
Графиня Шанцинг и Адельгейда стояли, качая головой, у окна и слышали, как он уехал.
Вошел князь Филипп.
— Что у тебя было с ним? — спросила озабоченная Адельгейда.
— Я и сам ничего не понимаю, — отвечал тот.
Он чувствовал, что он опять попал в немилость у Альфреда. После событий последней недели, после того, как ему удалось заглянуть в душу племянника, этот раз и то, что неизбежно должно было последовать за ним, было освобождением для него и Адельгейды.
XXIII
На следующий день рано утром адъютант герцога фон Ласфельд уже стоял перед князем Филиппом. Ему было приказано лично передать князю собственноручное письмо герцога и немедленно привезти его ответ.
Князь Филипп раскрыл запечатанное герцогской печатью письмо и прочел:
«Ваша светлость любезный дядя!
Торжества, назначенные по случаю моего бракосочетания с дочерью вашей светлости принцессой Адельгейдой, сегодня ночью мною отменены через моего гофмаршала. Прошу разрешения вашей светлости отложить эти торжества на два года и ожидаю от вас соответствующих распоряжений.
Приказ о разрешении Монтебелло вернуться сегодня ночью послан мною в главное полицейское управление Кронбурга.
Пребываю к вам благосклонный. Альфред».
Когда князь прочел это письмо, несколько минут прошло в полном молчании.
Наконец фон Ласфельд сказал:
— Его высочество приказал немедленно привезти ваш ответ.
— Вы сейчас получите, — отвечал князь. — Могу я попросить вас подождать несколько минут в соседней комнате?
Он сам открыл дверь, ведшую в приемную, и просил адъютанта обождать его здесь.
Затем он вошел в свой кабинет и позвал камердинера.
— Попросите сюда ее светлость принцессу Адельгейду вместе с графиней Шанцинг.
Камердинер исчез. Князь Филипп принялся ходить большими шагами из одного угла комнаты в другой. Кулаки его были сжаты. Этого он не спустит. Этот племянник-герцог в своем безудержном капризе издевается не только над министерством и целой страной, но и над ним и его семейством. Слава Богу, что устроилось хоть с Матильдой. Он только этого и дожидался, чтобы действовать без помехи. Он никогда не относился серьезно к этому обручению с его дочерью. Слава Богу, что вчерашняя выходка и его нарочно придуманная просьба о возвращении Монтебелло своевременно выяснили положение.
Однако, что скажет Адельгейда, которая блаженствовала при мысли сделаться скоро герцогиней этой страны? Герцогиней и вместе с тем супругой этого невменяемого сумасброда, у которого, по-видимому, нет ничего общего с остальными смертными, населяющими эту землю.
О, Бауманн фон Брандт был слишком прав! Он, бывавший ежедневным гостем в Лаубельфингене, пока не вернулась туда герцогская благосклонность, всегда предсказывал ему это. Он всегда поддерживал взгляд, что Альфред при своем болезненном настроении когда-нибудь кончит очень худо. Теперь это как будто начинает сбываться. Какой позор, какой скандал перед всей страной, перед всей Европой! За несколько дней до бракосочетания герцог вдруг откладывает его на два года! Что это значит? Конечно, это начало неизбежного разрыва. Это была целая система. Постепенно отшатываться, прикрываться всякими предлогами, а затем неизменно свергать своих любимцев, которые уже не должны когда-либо попадать ему на глаза.
Так он поступил с Бауманном фон Брандтом, с Монтебелло, со своим духовником, с начальником театров Глаубахом! Так же он поступит, очевидно, и с ним и его дочерью. Пройдут два года, никто и не услышит потом о свадьбе его с его дочерью.
Нет, он должен предупредить его. Он должен будет узнать, с кем он имеет дело, кого он хотел одурачить так же, как дурачил других.
Вошла Адельгейда в сопровождении графини Шанцинг.
Судя по вчерашним событиям, она не ждала ничего хорошего. Она не спала всю ночь, и теперь имела усталый и болезненный вид.
— Грезы кончились, дорогая моя, — начал князь. — Прочти это письмо.
Адельгейда вздрогнула.
Шанцинг должна была поддержать ее.
— Позвольте мне сесть, папа.
И она опустилась на диван.
Буквы письма герцога прыгали у нее перед глазами. Наконец она поняла.
— На что же вы решились?
— Вернуть от моего имени твое слово.
Адельгейда испуганно взглянула на него.
— И…
— Неужели ты думаешь, что в моих жилах не течет гордая кровь нашего общего царственного предка? Что это такое — отсрочка на два года? Это начало разрыва, который он, по своему обыкновению, облекает в более мягкие формы.
— Неужели это так?
— Конечно.
— А страна, народ, столица, общественное мнение — весь мир будет винить меня одну. Это невозможно, в последний час!
— Выбрось из головы и его, и его причуды, — горько возразил князь. — У него все возможно, он ставит себя выше всех и всего — выше обязанностей, любви, дружбы, уважения, чести, наконец, герцогской присяги. Он идет через всех смертных. Никто не в состоянии удержать его, ни дядя, ни невеста. Даже и ты не можешь этого, Адельгейда.
Девушка громко зарыдала.
— Матильда, Матильда, что ты мне говорила!
Князь не обратил на это внимания.
— Господин фон Ласфельд ждет вашего ответа. Надеюсь, что моя дочь будет горда и даст его высочеству единственный возможный ответ на его письмо. Надеюсь, что моя дочь может в этом случае уполномочить меня действовать. Герцог желает получить немедленный ответ.
Адельгейда овладела собою.
Выпрямившись во весь рост, она встала около отца.
Гордость ее проснулась.
В течение этой недели она надеялась терпеливо перенести от него все — его капризы, его неприступность, постоянное беспокойство, когда его лакеи, не обращая на нее внимания, стучали у дверей Лаубельфингена и Филиппсбурга в любой час дня и ночи.
Отец прав. Только резкий разрыв, после которого уже ничего нельзя будет поправить, мог сказать миру то, что она хотела, только он один мог еще ее спасти! И на этот-то путь и надо было теперь ступить.
Князь Филипп заметил перемену в настроении дочери, которую произвела возмутившаяся в ней гордость, и поспешил ей на помощь.
— Поверь мне, даже с самым простым дворянином ты будешь счастливее, чем на троне с герцогом, который не признает другого солнца, кроме солнца своей милости. Прими быстрое решение, оно принесет тебе спасение. Некоторое время рана будет болеть, потом она закроется и зарубцуется. А затем время покажет, что этот разрыв был на твое счастье.
Ни слова не сказала Адельгейда.
Несколько недель минувшего лета, недель ее юной любви, которые теперь навсегда миновали, быстро промелькнули перед ее мысленным взором. Ее романтическое стремление к «Лебедю», который кружится около Лаубельфингена, посещение Острова роз, помолвка, его удивительный подарок, праздник на озере в Турме с горящими на воздухе инициалами ее имени, его поведение в Кронбурге, наконец, таинственность, с которой он делал приготовления к свадьбе, устраивая ее апартаменты, и которой он окружил изготовление бюста. Неужели Матильда была права, и в конце концов она, действительно, стала жертвой? Неужели он в самом деле не такой же мужчина, как все остальные, он, который, по словам сестры, считает себя Богом, он, на которого можно только взирать, но не вожделеть. Неужели она поплатилась теперь за то, что имела вожделение к нему?
Ее опять охватил страх, который она в последнее время все более и более испытывала перед ним. Да, отец был прав, тысячу раз прав.
— Я жду твоего ответа, Адельгейда. Его высочество требует немедленного ответа на свое письмо, и барон Ласфельд ждет его.
Адельгейда сняла с пальца украшенное брильянтами кольцо с герцогской короной и с буквой А, сделанной из жемчуга, и, не говоря ни слова, положила его на письменный стол отца.
— Еще одну минуту, — прошептала она.
Она была бледна, как смерть. Но в ее прекрасных голубых глазах не было слез. По ее плотно сжатым губам пробежала судорога.
— Подожди еще минуту, отец, а потом конец всему. Все падет на меня, я знаю это. Тот, кто стоял на солнце ослепительного дня, как я, тот не должен удивляться, что мир будет еще смотреть на него недели две. И мир отомстит мне. Он смешает с грязью мое имя и мою честь, да, да. А я не в состоянии даже буду защищаться. Но его ярость будет бесконечна. Да, отец, ты прав. Лучше поступить так. Терпеть больше нет сил.
Она направилась к двери.
— Куда ты идешь?
— Я уже сказала, подожди одну минуту.
Князь стал терпеливо ждать.
Через несколько минут Адельгейда вернулась с небольшим футляром в руках. В нем лежал «Лебедь». Адельгейда еще раз посмотрела на эту изумительную ювелирную работу, потом положила его в футляр и также оставила его на столе.
— Это гордость моего девичьего сердца, великая надежда в жизни — вот, что я отдаю теперь обратно в его руки. То был единственный день в Лаубельфингене, который никогда уже не повторится в моей бедной жизни. Солнце светило в мою честь, в честь меня высоко развевался штандарт на его дворце. То был сон, который еще не снился ни одной дочери какого-нибудь князя. В мечтах всех женщин этой страны он был чем-то большим, чем все другие смертные. По своей красоте и возвышенности он стоял высоко над всеми, недаром же Матильда называла его богом. Обливаясь кровью, я спускаюсь сегодня с высоты, высь которой, может быть, знаю одна я. Но я не жалуюсь.
— Неужели ты так высоко ценишь его, так высоко ставишь его над другими? — спросил князь Филипп, чрезвычайно удивленный.
— Да, отец. И я поняла его, хотя я другого закала, чем он, хотя я и не обладаю способностью Матильды смотреть на него, как на бога. Я надеялась, что им можно будет руководить. Но теперь уж поздно об этом говорить. То, что вы в гневе назвали герцогскими капризами, — это не то, это нечто другое. Подумайте сами! Восемнадцатилетним сказочным принцем он спустился с чистых высот Гогенарбурга, где его держала в одиночестве суровая воля его отца, в эту столицу. Царство красоты сияло во всем том, что за короткий срок — несколько недель нашего счастья — он успел сказать мне и, быть может, только одной мне. Его душа — это царство красоты, которая никогда не может понять нашего мира с его грубой чувственностью и расчетливым разумом.
Адельгейда вдруг ослабла и склонилась на руки графини Шанцинг.
Раздался тихий стук в дверь.
— Извините, ваша светлость. Но я рискую навлечь гнев герцога. «Немедленный ответ», — таков был его категорический приказ.
Князь Филипп сел за письменный стол, и, по желанию Адельгейды, написал герцогу следующее решительное письмо:
«Ваше высочество, любезный племянник! Ее светлость принцесса Адельгейда и я полагаем, что хорошо поняли желание вашего высочества. Как глава моего княжеского рода и как отец невесты, я всеподданейше позволяю вернуть вашему высочеству слово, которое вам дала ее светлость.
Пребывая всегда готовым исполнить приказания вашего высочества, остаюсь вашего высочества любящий дядя
Филипп».Князь запечатал это письмо княжеской печатью и передал его фон Ласфельду, который должен был доставить его в собственные руки герцога.
XXIV
Словно майский мороз, который губит все цветы и надежды, прошел по всему герцогству. Флаги на мачтах по via triumphalis были сняты, триумфальные арки разобраны. Гирлянды с Острова роз и темная зелень горных сосен исчезли.
Кронбург, наполнившийся было в ожидании радостного события гостями, опустел и затих.
В официальной газете герцогства на видном месте появилось лаконическое известие:
«Бракосочетание его высочества царствующего герцога Альфреда с ее светлостью принцессой Адельгейдой по взаимному соглашению отменяется».
Указ об амнистии тем не менее остался в силе, двенадцать пар, которым Альфред обещал выдать приданое в день своего бракосочетания, получили богатые дары из личных средств герцога.
Удушливый туман, рассеявшийся было прошлым летом на две недели, опять спустился на герцога, город и страну. Как и предсказала Адельгейда, по городу носились самые невероятные слухи по поводу разрыва высоконареченной пары и передавались из уст в уста.
Герцогский штандарт еще развевался на флагштоке дворца. Альфред еще оставался в Кронбурге, но его не было уже видно. Апартаменты, предназначавшиеся для Адельгейды, он велел запереть, ключ, который он раньше носил с собой, теперь был передан гофмаршалу.
Тяжелый отпечаток тайной скорби лежал на дворе и столице. Чувствовалось, что ближайшие дни принесут новый сюрприз.
Альфред сидел перед позолоченным письменным столом своего кабинета. В его больших черных глазах горел какой-то неприветливый огонек. Каждое движение, каждый звук, доносившийся до него снаружи, заставляли его вздрагивать. Он положил на руку свою голову с темной шевелюрой. Страшные боли, которых он так боялся и которые не посещали его уже несколько недель, сегодня опять сверлили ему затылок.
В кабинет робко вошел камердинер.
— Художник, которого ваше высочество изволили требовать.
Альфред очнулся как будто от тяжкого сна.
— Пусть войдет, — сказал он отрывисто.
Вошел пожилой человек с длинными белыми волосами, с несколько распущенной бородой, и низко поклонился.
— Ваше высочество изволили меня требовать?
— Подойдите сюда поближе.
Альфред кивнул лакею в знак того, что он может удалиться.
— Вы принесли с собою доску? — спросил Альфред.
— Она здесь, ваше высочество.
Дрожащими руками старик неуклюже вытащил из бархатного мешка медную доску и положил ее перед его высочеством на большой стол, стоявший возле его письменного стола.
Альфред встал.
Он устало подошел к столу и стал рассматривать произведение художника, перенесшего на медную доску красивые благородные черты принцессы Адельгейды.
— Еще не делали с нее оттисков? — продолжал расспрашивать Альфред.
— По приказанию вашего высочества изготовление оттисков было отложено на последнюю минуту.
— Отлично.
Последовала продолжительная пауза.
— Если уничтожить эту доску, то уже никогда нельзя будет получить оттиск с этого изображения. Поклянитесь, что вы не изготовили копии. Даете ли вы честное слово, что в вашем распоряжении нет какой-нибудь копии с этого изображения?
— В этом я могу дать клятву вашему высочеству.
— Отлично. Заведующий моей конторой дал вам достаточное вознаграждение за вашу работу?
— Королевское вознаграждение, ваше высочество, — последовал ответ.
— Вы довольны?
— Да.
— В таком случае отлично.
Гравер удалился.
Когда он вышел, Альфред запер дверь и стал глазами знатока рассматривать блестящую доску.
Портрет Адельгейды, когда-то вызывавший его восторг, смотрел на него с гравированной меди. Его живая фантазия перенесла эти черты с клише на оттиск, на котором только и можно было видеть, как следует, сочетание света и тени в их гармоническом взаимодействии…
Долго стоял Альфред перед этим портретом. Потом он медленно подошел к своему письменному столу, открыл в нем маленький шкафчик и взял оттуда пузырек с какой-то мутной жидкостью.
Капля за каплей падала едкая кислота на медную пластинку до тех пор, пока не исчезли нежные линии, пока едкий раствор, при помощи которого художник создал свое творение, теперь, наоборот, разрушил свою работу.
Только тогда, когда уже нельзя было различить ни одной линии, когда все было гладко и блестяще, Альфред поставил пузырек обратно.
— Вытравлено, стерто, — тихо сказал он и через внутренний покой направился ко входу в зимний сад. Он не удостоил его даже взгляда. В его руках был ключ. Он отворил им маленькую дверь, которая вела в мастерскую скульптора. Здесь стоял дивный бюст каррарского мрамора, на который он не позволял взглянуть ни одному человеку! Он оставался в том виде, как его оставил художник после окончательного удара резцом. Место, которое он предназначил ему на камине своего кабинета, было ничем не занято. Как часто смотрели бы там на него министры, придворные, лакеи. Альфред ревниво сжался при мысли, что это великолепное изображение истинно герцогской невесты, — его единственное достояние.
На бюст было наброшено сукно. Альфред снял его дрожащими руками и впился глазами в милое лицо и в великолепную грудь, которая столько недель была причиной его мучений и терзаний! Теперь все кончено! Все прошло и не вернется более. Оборвана последняя ниточка надежды, которая еще привязывала его к людям, к их радостям и взглядам на жизнь.
Горько рассмеялся он про себя.
Он воображал, что он способен победить, он, слабое существо, в глубине которого гнездятся страшные демоны, более сильные, чем вся его воля и энергия, чем вся его любовь к солнцу и свету…
А она!.. Она только мучила его! Что только он пережил в этой борьбе последних недель, которой нет названия, думая, что он обладает силой сочетать блеск солнца с сумерками своей души, связать веселый смех дня с жалобами вечера.
Она виновата во всех его страданиях, во всех его муках. Он ненавидел ее. Его лицо исказилось. Его благородные черты вдруг приняли некрасивое выражение, и из глубины этих удивительных глаз дьявольски сверкнуло что-то похожее на жестокость Нерона.
О, он мог отомстить за себя! Безнаказанно его нельзя мучить, нельзя смеяться над ним, нельзя попирать ногой его желания. Ему нельзя присылать обратно его герцогское слово!
Его руки ощупывали мрамор. Он был удивительно хорош, это было произведение искусства и вдохновения, какое редко удавалось художнику.
«Но и прекрасное, все то, что восхищает богов и людей, должно умереть, — глухо сказал про себя герцог. — Красота, надежды, любовь, Адельгейда и ее изображение — все, все!»
Он хотел поднять бюст, но он был тяжел. Герцог был молод и силен. В своей физической мощи он будет господином мертвого изображения, хотя в своей душевной слабости он никогда уже не сделается господином живого его оригинала!
Ему стало жарко и душно. Он распахнул окно, выходившее во двор его дворца. Там у подъезда гофмаршальского флигеля взад и вперед ходил часовой его гвардейского полка. Что скажет солдат? Словно огненный поток пробежит это по всей столице и по всей стране! Но его дьявольская жажда все уничтожать в этот момент была в нем сильнее всяких соображений. Он поднял бюст с подставки и еще раз посмотрел на него. Она была для него всем — его восторгом, его счастьем, его гордостью, любовью, страданием и пыткой, судьбой его юности… И все-таки!..
Мрамор был тяжел, и у него дрожали руки.
Он стал на окно и разжал руки, которые не могли удержать женщину.
Крик вырвался у него.
Тяжело ударился мрамор о жесткие плиты двора и со звоном разлетелся на тысячу кусков.
Часовой очнулся от своей задумчивости.
Из кордегардии выбежал дворцовый караул.
Альфред исчез в окне.
Счастье герцога, разбитое, валялось на глазах простых людей из народа.
Через час гофмаршал получил краткий приказ:
«Герцогский двор безотлагательно переносится на неопределенное время из Кронбурга в Гогенарбург».
XXV
Недалеко от замка Гогенарбурга, в стенах которого украшенных сказаниями шесть столетий тому назад Конрадин прощался со своей матерью Елизаветой, сестрой одного из отдаленных предков Альфреда, на высоте сотни метров над бурным пенистым ручьем, мчащимся по раздавшимся в этом месте скалам, вьется в тиши горного леса одинокая тропинка. Альпийские жители зовут ее охотничьей тропой. Тянется она до южного отвеса гор. Альпийские фиалки и альпийские розы растут здесь под ногами путника, перед которым после утомительного восхождения на вершины скал открывается несравненный вид.
В зеленой бесконечной глубине, далеко простираясь на север, дремлет равнина с ее деревнями и городками. Стражи герцогства и его границ поднимали на юге горные кручи, свои головы, с которых только на несколько недель в самый разгар лета сходили снег и лед. В голубом небе одиноко кружился королевский орел, уверенно описывая круги, да ловко и проворно карабкались дикие козы по почти отвесным скалам.
Шум водопада, который свергался отсюда в глубину расщелины, один прерывал возвышенную тишину. На покрывале его ниспадающих струй солнце играло всеми цветами радуги, отливая расплавленным серебром и золотом.
Отсюда хорошо видно замок Гогенарбург. Словно на зеленой пышной бархатной подушке лежит он в глубине со своими садами. Словно драгоценные камни в его короне, изумруд и сапфир, блестят отсюда оба великолепные его озера.
А там, на другой стороне долины, где постепенно сходятся горы и равнина, по ту сторону водопада, вдруг почти отвесно поднимается со дна долины огромная меловая скала в несколько сот метров высотой. На первый взгляд на ее вершине нет места, но если присмотреться к ней, то можно заметить, что на этой уединенной недоступной людям вершине может уместиться, как гнездо орла, жилище человека — замок, крепость, дворец. Он будет возвышаться здесь упрямо, одиноко, почти недоступно и будет далеко и грозно озирать свою страну. Позолоченный утренним солнцем он имел бы смелый вид, которому едва ли можно выдумать что-нибудь равное по красоте.
На вершину скалы должна была вести улица, извивающаяся змеею и обнесенная исполинской стеной. Здесь на вершине воздвигнется замок, хранитель и страж, свидетель его величия, окаменевшая мечта его фантазии.
Охваченный фантазиями и планами, одинокий Альфред каждый Божий день ходит из Гогенарбурга по этой тропе. Лютая зима, наступившая после разрыва с Адельгейдой, которую он провел почти в полном отчаянии в украшенных картинами покоях замка, всецело уйдя в свои фантазии и планы на будущее, теперь миновала.
Под поцелуями весны расцвела и распустилась в наступающем году тихая местность, где он провел свое детство.
На южном отвесе горной стены, как раз на том месте, откуда открывается далекий вид на Гогенарбург, его озера, на меловую скалу и где далекая равнина смыкается на севере с горами, стоит выветрившаяся от бурь каменная скамейка под изображением Божией Матери, укрепленным на древнем дубе.
Здесь Альфред замедляет ход, садится и, глядя на меловую скалу, погружается в свои гигантские мечты.
«В далекой стране, — думал он, — воздвигнется замок св. Грааля, цель моих желаний и помыслов, гордая мечта царственного величия, воплотившаяся одним словом моих уст в золоте и камне, королевский зал с троном Пречистого, на главу которого будет взирать сам Господь Бог и над которым будет кружиться белый голубь».
Вдруг он вскакивает. Нетерпение окрыляет его шаги. Но он стремился не в Гогенарбург.
Сегодня были здесь прибывшие из Кронбурга архитекторы, на которых по приказанию его высочества возложено было осуществление его великого плана.
Пройдут недели и даже, может быть, месяцы прежде, чем его министру-президенту фон Галлереру удастся добиться от сейма необходимого для этой постройки увеличения цивильного листа, прежде чем там, на вершине скалы и у подножия ее, будет положено основание будущего герцогского замка и улицы!
Как медлительны люди! И эти архитекторы!
Он поручил исполнение этой работы сразу троим, и каждый из них медлительнее и опасливее других.
Он непременно построит этот замок св. Грааля там, над гремящим водопадом, на уединенной скале, на краю равнины и гор. Через шумное ущелье будет перекинут мост, еще красивее, чем тот, который должен был соединять в Кронбурге герцогские сады с противоположным берегом реки.
За каменной скамейкой шумящий ручей углубляется в лес.
Альфред поворачивает здесь назад. Он идет между высокими елями по почве, усыпанной иглами и покрытой мхом. Она мягче и пышнее, чем великолепные ковры его Кронбургского и Гогенарбургского дворцов. Ничто не нарушает торжественной тишины среди древнего леса. Переливаясь, скользит золотой луч солнца между темно-красными стволами и отбрасывает колеблющееся отражение на тропинку.
— Как хорошо! — срывается с губ герцога.
Почти час идет он по ровной почве между стволами елей своей родины. В конце леса лежит небольшая деревенька Гогенвальд. Здесь тропа идет по берегу ручья, который бурным потоком изливается в далекое смарагдовое озеро.
Альфред любит это озеро. На южном берегу его поднимается крутая, почти недоступная гряда скал. Оно глубоко, его вода голубого цвета, чистая, как волны светлого эфира, как горный снег, ярко отражающийся в гладком зеркале.
В Гогенвальде герцог садится верхом. В стойлах деревенской гостиницы стоит его любимый конь Рустан. Хозяин гостиницы, его жена и дочь знают своего посетителя. Белокурая Христина каждое утро подает ему кружку свежей воды из горного источника и букет цветов, которые она сама набирает для него по краям горного обрыва.
Альфред носит костюм охотника, хотя он ни разу не мог принудить себя выстрелить по какому-нибудь невинному животному, обитающему в этих горах. На нем замшевые брюки, сапоги и куртка из зеленого бархата. Вместо голубого теперь у него светло-зеленый плащ. Его шляпа, с пучком подснежников, украшена драгоценной брильянтовой пряжкой — единственный знак его высокого положения, который он позволяет себе в этих горах.
Белокурая Христина, делая глубокий реверанс, приносит ему обычную кружку, потом втыкает цветы в его шляпу, которую он милостиво протягивает. Светло-голубые цветы, такие же почти как ее глаза, которые она едва осмеливается поднять на его мужественное прекрасное лицо.
Она знает, что он недоступен, этот строитель замка св. Грааля, его посланец и король.
Перед гостиницей деревеньки Гогенвальд, где обыкновенно дожидался герцога конюх, держа поводья Рустана, стоит старая липа, которой почти тысяча лет. Она, казалось, благоговейно прислушивалась, когда он приближался. Когда же он садился под ней и приказывал белокурой Христине принести себе хлеба и молока и сесть не рядом с ним, а поодаль, так, чтобы он мог ее видеть и любоваться ее юной красотой, — тогда липа начинала рассказывать. И он внимал ее лепету о далеких, безвозвратно ушедших столетиях.
Вдруг он вскакивал, подзывал конюха, бросался в седло и галопом мчался через Гогенвальд.
Крестьяне толпились на улицах, появлялись у окон и долго смотрели ему вслед.
Альфред скачет вдоль потока, все более и более углубляясь в лес, в котором стоят, как на страже, столетние великаны — дубы и сосны. Теченье ручья сопровождает его, оживляя лес — самый лучший, какой только есть у него в горах. Здесь и деревья совершенно иные, чем в других лесах. Благодаря сырости равнины, на них повисли длинные гирлянды мха. Словно давно исчезнувшие люди — мужчины и женщины, словно герои и героини давно минувших столетий, смотрят они из этой зеленой глубины, озаряемой меркнущими здесь лучами солнца.
Альфред приказал построить посередине леса хижину, в которой он отдыхает в полуденную пору. Он называет ее своим «уединенным убежищем». Никто не ждет его здесь. Однако в прохладные дни в камине пылает яркий огонь, в углу лежит вязанка еловых дров, которые он сам бросает в пламя. Около камина на столике придворный повар готовит заранее закуску. Пустынник завтракает здесь один. Затем он выходит из хижины, пускает Рустана пастись на траве в лесу или кормит остатками своего завтрака. Лошадь ест прямо из его рук, не отлучается далеко от хижины и, как собака, приходит на его зов.
Громко кукуют в лесу кукушки и отчетливо доносится до слуха воркование диких голубей.
«Королевский орел вершин, голубка равнины», — проносится у него в мозгу.
Он положил руку на шею лошади. Верное животное стоит рядом с ним, наклонив голову; оно любит нежное прикосновение мягкой, маленькой руки своего хозяина. Потом герцог бросается на траву, смотрит на голубое небо, на зеленое море и думает. Он мог бы построить и другую хижину в глубине этого сказочного леса!
Он снова возвращается в хижину и вскоре появляется с тетрадкой исписанных листков. Маэстро прислал ему их в Кронбург, а оттуда гофмаршальская часть переслала ему в его уединенное жилище.
Он читает и предается счастливым мечтам. Обеими руками хватает он золотисто-зеленый воздух леса, окрашенный листвою и солнечным светом, как будто он может его схватить!
Наконец он едет дальше через волшебный лес. Открывается лесная долина, давно затопленная лучами вечернего солнца. А кругом почтенный, молчаливый лес!
— Здесь это могло бы быть, — вдруг сказал он, — именно здесь. А не на скале, такой близкой к Гогенарбургу и к людям, не на вершине, которая так гордо взирает на равнину. Именно здесь, в лоне этого леса, непроницаемого, как сами первобытные леса древних германцев.
О, эти утра и полдни, насыщенные расплавленным светом, эти вечера, озаренные пурпуровыми лучами, эти ночи, наводненные серебряным светом луны! Великолепно здесь летом, великолепно и зимою, когда чистый снег горных вершин покрывает своим горностаевым плащом луга и леса, когда замолкает даже журчащий ручей, стиснутый железными объятиями мороза.
Дом, замок, небольшой и уютный, для него одного — вот что нужно. Бело-голубой, с золотом — как он любит. Из этой зеленой пропасти должны брызнуть шумящие фонтаны и водопады, чтобы утолить его жажду, освежить его горячий лоб. Статуи из белого мрамора в парке! Золотистые и темно-синие, зеленые и серебристые фазаны! Но тише, тише, чтобы они не мешали ему своими хриплыми голосами, как на Острове роз, чтобы они не напоминали ему об Адельгейде и о том, что она сказала про них! Тут должен быть рай, входить в который мог бы только он один. Здесь вот должен возникнуть грот, в глубине скалы, грот еще великолепнее, чем в зимнем саду в его дворце! Грот с синеватой водой и с настоящими живыми лебедями, а на заднем плане — картина мирного покоя и удовольствия, которую он напрасно ищет в грубой действительности повседневной жизни.
Он весь уходит в мечты. Там, в Кронбурге, они неутомимо работают над планами его замка св. Грааля на меловой скале. Старый Галлерер ломает себе голову, как добыть у ландтага миллионы, нужные для его государя. А он сам ушел теперь еще дальше. В глубине волшебного леса он построит для себя золотой дворец, где бы он мог погружаться в сладкие сны небытия, в нирвану, заставляющую его забыть все — страну и народ, трон и обязанности, Кронбург и министров, князя Филиппа и Адельгейду и наконец даже самого маэстро.
Празднество на озере ничто в сравнении с этим. Здесь, в волшебном лесу, будет волшебный сад, скрытый в нем от всех, затем волшебный замок с волшебным гротом, с которого, как с неба, будет падать вода и при мягком свете луны изливаться в мраморные бассейны. Из леса роз и апельсиновых деревьев приветливо кивают мраморные статуи. В темные летние ночи море благоухания будет врываться через высокое мраморное окно и обвевать его ложе из золота и драгоценных камней!
Золотой павлин, глаза которого будут сделаны из смарагда и изумруда, будет стоять в передней дворца, стены и колонны которого исчезают в царстве сказок и фантазий!
Великолепно будет здесь днем, но еще лучше ночью! Тысячи свеч будут лить свой кроткий свет между золочеными колоннами, которые он видит уже мысленно совсем готовыми. Фонтаны будут тихо журчать в парке, над темными вершинами которого взойдет полный месяц. Вода его грота будет отливать всеми цветами радуги — синим, красным, зеленым — словно рубины, бирюза, изумруд на герцогских регалиях в Кронбурге. И только тогда, когда он будет тихо скользить между живыми лебедями по темно-синим волнам такой окраски, которая никогда еще не встречалась в природе, только тогда он будет наконец счастлив!
Вдруг он вскакивает. Действительность охватывает его снова, и на белом коне он другим путем несется назад в Гогенарбург, боязливо избегая волшебного леса.
XXVI
Неожиданная новость из гор испугала Кронбург и всю страну.
С вокзала маленькой, расположенной около Гогенарбурга горной деревеньки герцог куда-то уехал, уехал без всяких приготовлений, в сопровождении лишь одного Ласфельда. Курьер, прискакавший в столицу, передал министру-президенту распоряжение герцога, чтобы государственные дела во время его отсутствия были сосредоточены в руках министерства.
Фон Галлерер не знал, что ему делать. О цели этого путешествия никто в Гогенарбурге ничего не знал. Даже сам фон Ласфельд не имел никакого представления о том, куда идет поезд, заказанный лично герцогом.
Бешеным темпом, далеко огибая Кронбург, мчался поезд к северу, к границе герцогства. За быстроту Альфред щедро наградил из личных своих средств машинистов.
Бурно восторженная душа Альфреда мечтала осуществить в несколько недель два гигантских замысла, исполнение которых на самом деле требовало многих лет: построить новый герцогский замок на меловой скале высоко над ревущим ручьем и соорудить герцогскую виллу на равнине недалеко от его волшебного леса.
Было яркое солнечное утро, когда герцог Альфред в сопровождении своего адъютанта прибыл на вокзал города Эйзенаха. Высоко поднимаясь над долинами и домами, его приветствовало великолепное средневековое сооружение, величайшее на немецкой земле. То был прообраз замка св. Грааля, который будет стоять в Гогенарбурге на вершине скалы, где он выбрал себе любимое местопребывание.
Словно художник и архитектор, Альфред целыми днями без устали ходил по Варгбургу, делая заметки и набрасывая чертежи. Замок св. Грааля также должен состоять из трех этажей, но он будет более роскошным, блестящим, более красивым и достойным и его, и св. Грааля!
Его собственное помещение в новом замке должно быть похожим на жилище старинных ландграфов, только выше, больше, светлее и великолепнее — такое, какого не имел ни один человек на обоих полушариях. Должна быть зала певцов с эстрадой, наподобие той, с подмостков которой Вольфрам и Вальтер приводили в восторг ландграфский двор далекого XIII века.
Да, из золота, лазури и белизны должны воздвигнуться в Гогенарбурге на почти недостижимой скале изумительные творения. Маэстро, его маэстро, оскорбленный кронбуржцами, отринутый друг его души, гений, указавший ему путь к светлым вершинам, должен ожить в своих творениях среди этих золотых колонн неслыханной роскоши! Внешний вид он заимствует у этого великолепного Вартбурга, но и только. Внутреннее содержание его творения должны дать маэстро и он сам.
Его дворец должен быть выше Вартбурга на четыре этажа и поднимется он над скалой. Там в горах никто не будет обращаться с речами, не будет никакого представительства, города Кронбурга, ни министерства, ни ландтага!
Галлерер сумеет добыть денег, он должен сделать это, хотя бы для этого пришлось заложить герцогство, которое он в глубине души ненавидел так же, как и населявших его лакеев.
Могучие ступени — штук сто — должны вести с башни в жилище, из окон которого он мог бы окинуть взглядом страну и господствовать отсюда над городами и селениями равнины, над озерами и скалами гор. Неслыханную внутреннюю роскошь этого жилища, мебель, картины, гобелены, предметы искусства, ковры, статуи — порождения его царственной воли — не должен видеть никто, кроме него одного. Никто по всей стране не должен строить чего-либо, что могло бы стать рядом с его замком. Даже этот Вартбург, с которого будет снят внешний план, не сравнится с ним!
Измеряя за эти несколько дней в сотый раз размеры Вартбурга, он уже представлял себе гордо поднимающиеся золоченые колонны нового герцогского замка. Ему мерещилось, как они вместе с маэстро будут украшать их! С этих стен его должны приветствовать Зигурд, носитель света, и его рыцарь с лебедем, который должен иметь черты его лица. Далее — Вольфрам и Вальтер, певшие здесь когда-то перед ландграфами, Ганс Сакс, мейстерзингеры, Тристан и Изольда и, наконец, сам Парсиваль и священный Грааль!
Вот его мечта. При взгляде на эту средневековую постройку Вартбурга в его фантазии поднялись образы первого творения маэстро.
Венцом этого идеального царственного жилища будет тронный зал. Под куполом этого зала будет стоять трон из золота и слоновой кости — трон чистейшего из королей под всевидящим оком Божиим и белого голубя, несущего с собой освобождение от ига грехов.
Этот тронный зал! Он должен быть его собственным творением, детищем его души. Расписанный потолок будет поддерживаться в нем мраморными колоннами. На нем будут изображены Бог Отец, Св. Троица, сидящая на престоле со всеми ангелами и святыми. Все это будет изображено в светло-синих тонах. Божья милость, давшая ему положение выше всех смертных, должна быть представлена в целом ряде картин и статуй этого единственного зала в его новом замке. Небо с изображением всевидящего ока и белого голубя будет сделано из золота и слоновой кости над его троном. Религия и его герцогский сан должны быть слиты воедино на стенной росписи зала. В качестве хранителей его трона должны стоять в нишах семь светлых добродетелей христианнейшего из всех королей, воплощенных в образе героев религии: милосердие и доброта, правосудие, храбрость, правдивость, мудрость и, наконец, божественная милость.
Так разрабатывал он все до мелочей. Из Вартбурга непрерывно давались указания в Кронбург строительному комитету герцогских дворцов — учреждению, вызванному к жизни прошлой зимой. Туда пересылались его приказания, чертежи, проекты и наброски.
Почти месяц пробыл Альфред близ Вартбурга, пока не изучил его во всех подробностях. Потом поезд помчал его и Ласфельда дальше на запад.
В одно прекрасное утро, позолоченное лучами осеннего солнышка, Альфред прибыл в Париж.
— Под строжайшим инкогнито, — последовал его решительный приказ.
Но портрет этого «красивейшего из королей» был распространен и во французской столице. Когда он стал по вечерам появляться в Большой опере и слушать прекрасное исполнение «Дон-Карлоса», «Миньоны», «Африканки», «Ромео и Джульетты», его скоро узнали.
Он обошел и тщательно осмотрел Тюильри, Лувр, Компьен. Могучий собор в Реймсе своим мистическим и династическим очарованием приковал к себе его впечатлительную душу. Наконец, в один ясный осенний денек он стоял перед дивным созданием Людовика XIV — Версалем.
Фантастические рассказы, связанные с возникновением в песчаной пустыне перед воротами Парижа этого творения короля-Солнца, более всего обворожили Альфреда, захватили все его помыслы, разбудили в нем фантастические представления о могуществе короля, о себе самом и своем герцогском величии. Здесь целую реку заставили течь по другому руслу. Тридцать шесть тысяч человек и тысяча лошадей были заняты земляными работами в садах, проложением дороги в Париж, устройством водопровода Ментенон.
Если бы он мог сделать что-нибудь подобное! Его замок св. Грааля и маленький герцогский замок в глубине волшебного леса были ничто в сравнении со всем этим! В короткое время этим королем королей были израсходованы на его изумительный дворец, его парки и фонтаны пятьсот миллионов франков. Что такое его маленькие планы в сравнении с этим гигантским творением, с этим истинно царским раем. Нужно было полмиллиона франков, чтобы только поддерживать этот дворец в течение года!
Благоговение и острое жало зависти, стыд за свою собственную слабость и ничтожность — вот чувства, волновавшие Альфреда, когда он в первый раз встретился с «могущественнейшим из могущественных на земле». Найдется ли где-нибудь в герцогстве место, где мог бы воплотиться второй раз такой царственный замысел? Удастся ли ему найти в себе силы и величие, волю и деньги, чтобы решиться вторично на такое неслыханное дело, которое исполнилось только однажды? Десять тысяч людей свободно находили себе жилище в этом дворце.
Двор, министры и дворянство Франции постоянно окружали здесь короля, который сумел вызвать к жизни целый мир роскоши и великолепия, наслаждений, празднеств, любви. Может ли он сделать нечто подобное? Где, в каком месте герцогства может возникнуть такой же дворец? Удастся ли ему сломить внешнего врага там в столице — побороть жадность ландтага и министров, и внутреннего — в своей душе, который постоянно гнал его от баснословной роскоши истинно королевского двора в уединенную тишь его горных лесов?
Найдет ли он силы?!.. Здесь, в Версале, перед воротами Парижа, в эти дни он чувствовал себя выше своих слабостей. Что такое были Кронбург, герцогство и его маленький мирок в сравнении с этим? В сравнении с ним, подражать которому, сравняться и даже превзойти которого вдруг стало самым сильным желанием герцога.
Уже на дворе замка Альфред остановился, как вкопанный. Золотая статуя короля-Солнца верхом, окруженная своими великими шестнадцатью государственными мужами, — это зрелище очаровало, захватило его!
Затем он вошел в позолоченные апартаменты короля, расположенные в нижнем этаже. Они должны послужить для него образцом, хотя бы для этого ему пришлось толкнуть герцогство на край гибели! Это было нечто невиданное, что трудно себе представить, что далеко оставляло за собой самые смелые полеты его фантазии.
Альфред пробыл в Париже несколько недель. Каждый день ездил он в Версаль. Зеркальная галерея этого дворца, виды парка, сам парк и фонтаны, взлетающие голубыми струями на высоту почти тридцати метров, — все это приворожило его к себе. Музей искусства всех времен и народов, сказочное царство красоты из золота, мрамора и красок — вот что такое покои короля и изумительные апартаменты королевы. А эти картины над позолоченными дверями и на стенах, изображающие победы этого «единственного короля» и его царственное положение над всеми обитателями земли!
Альфред опьянялся ими.
«Король правит самодержавно, сам собою», «государство — это я», «моя воля — высший закон», — так гласил изумленной земле посланник богов Меркурий на этих картинах и изображениях.
Найдет ли он в себе силы и величие стать таким вестником для вассалов и подданных своего герцогства?
Озаренный чувством королевского величия, никогда еще не испытанным им в такой мере, он все эти недели бродил среди раззолоченной роскоши. Королевство белой лилии одним ударом захватило его здесь, в этих чудных апартаментах Версаля, и мечта, которую он начал обдумывать перед воротами Парижа, казалась ему не по силам.
Мечта бурбонской лилии! Париж и Версаль в уединенных горах, фонтаны и парк Трианона где-нибудь там, где растут горные цветы и бегут под ногами быстрые горные ручьи! Родная страна, которую он знал, которую он любил больше всего, горы с их тихими долинами и озерами здесь стали исчезать из его фантазии! Он искал и искал!
— Еще не было брошено ни одной лопаты земли ни на меловой скале, ни над расщелиной дикого ручья, ни около его волшебного леса, а его подвижная душа была уже занята другим.
Миллионы, которых он требовал от Галлерера для начала постройки, еще не были даны ландтагом, а он здесь мечтает о новых постройках, неслыханных, которые должны оставить в тени и его замок св. Грааля, и его маленькую герцогскую виллу в тиши его волшебного леса. Как осуществится все это и где именно — этого он не знал и сам.
Но легкое предчувствие подсказало ему, что это должно быть огромным дворцом, вроде этого, на переднем его дворе будет стоять его собственная конная статуя. Всему этому он даст название «Герцогское озеро», ибо этот замок, как сказка, как видение, выплывал из голубых волн перед очами его фантазии. Фонтаны должны бить в гигантских резервуарах, переливаясь на чудном солнышке его горной страны, в серебристом волшебном свете луны в бессонные ночи. Над всем этим должна выситься золотая фигура Фортуны в несколько метров высотой.
Как и где все это явится? Он еще и сам не знал этого! Но здесь он уже знал одно — что это осуществится, что это должно осуществиться непременно. Король королей, чистый, как посланец св. Грааля, и в то же время похожий на того, чей дух выступает из неслыханной роскоши этих раззолоченных зал, как тот, который осмелился возвестить лежащему у его ног в пыли миру, что король самодержавен и управляет сам собою.
В нем он нашел, наконец, светлый прообраз. Его предки исчезли перед ним. В сравнении с тем, что он хотел сделать, они как-то съеживались вместе со своим Кронбургом: перед ним стоял теперь ореол короля-Солнца и его всемогущей воли.
XXVII
Мирная тишина окрестностей Гогенарбурга была вдруг нарушена. Альфред сам пожелал этого.
Ежедневно поезда привозили сюда тысячи рабочих, и грохот динамитных взрывов, при помощи которых в груди меловой скалы проводили новую улицу, заглушал шум падающих в пропасть обломков камней.
Министр-президент фон Галлерер сдержал слово, данное герцогу на аудиенции в Гогенарбурге незадолго до отъезда его в Париж. Ландтаг ассигновал на постройку герцогского дворца на первый раз пятнадцать миллионов марок. Таким образом можно было безотлагательно приступить к работам.
Расположенную у подножья Гогенарбурга деревеньку, все окрестные местечки и города нельзя было узнать. Они были похожи на лагерь, куда постоянно приливали новые и новые отряды из Кронбурга и разных частей королевства. Альфред торопил. То, что он одобрял на чертежах его строителей, должно было возникнуть как можно скорее. Но то обстоятельство, что для этого нужны были люди, которых он ненавидел, возбуждало в нем отвращение. Почему он не волшебник, почему он не может вызвать мановением волшебного жезла из голых скал его гор этот волшебный мир его фантазии?
Он решился примириться с этим. Нужно быть терпеливым. Даже ему! И король-Солнце в Версале должен был ждать, пока не закончилась вся эта постройка.
Герцогские покои в Гогенарбурге превратились в мастерскую царственного художника, в которой гений воли обдумывал свои грандиозные планы.
Отсюда шли его редкие распоряжения в Кронбург, в управление его частными делами, в гофмаршальскую часть, в министерство, в президиум ландтага.
Ни Галлерер, ни кто-либо другой из министерства, ни один чиновник или дворцовый чин не могли добиться приема. Все государственные и частные дела разрешались путем переписки, доставлявшейся особыми курьерами. Герцога могли видеть только архитекторы, художники, живописцы и ремесленники.
Его твердая воля, направленная на единственную цель — как можно скорее закончить постройку герцогского дворца и виллы, заставляла его оставаться здесь не только в течение нескольких месяцев, но и в продолжение целых лет.
Редко появлялся он в Кронбурге для приема какого-нибудь иностранного короля или на официальное торжество. Народ видел его лишь издали на военных парадах, при выступлении войск на маневры, на орденских празднествах и на религиозных церемониях.
Словно грозовое облако нависло над столицей! Он проводил здесь обыкновенно несколько часов, редко несколько дней, чтобы с быстротой молнии исчезнуть опять в свои горы, где со дня на день росли и росли творения его воли и его фантазии.
В эти годы он сиял довольством, ибо он чувствовал себя чужим, редким гостем Кронбурга и своего народа. А этот народ с изумлением смотрел на него.
Вокруг этого герцога, который жил в полном одиночестве на краю гор, рядом с которым не было ни одной женщины на земле, о жизни которого не только в Кронбурге, но и по всему герцогству рассказывали столько удивительных вещей, стала складываться своего рода легенда.
«Мы привыкнем к тому, чтобы управлять издали, подобно светлым облакам, которые скрывают в себе проклятие и благословение», — эти слова в связи с уединенным образом жизни окружили его личность неслыханным ореолом.
Всякий раз, как он на несколько дней или часов спускался со своих гор к людям в Кронбург, его появление производило такое впечатление, как будто он явился из другого мира. Словно какое-нибудь божество, спускался он с чистых высот, и все преклонялось перед ним! Предостерегающие голоса его советников и министров, которые они осмеливались поднимать в его отсутствие, теперь замерли сами собой при его лучезарном виде его красоты, еще не прошедшей молодости.
Словно бог, идет он в средневековом одеянии посередине церкви св. Гавриила в день орденского праздника. Вот он посвящает рыцарей ударом меча, идет за святейшим телом Короля всех королей, а народ кричит «осанна» и усыпает его путь цветами. Волны фимиама обвивают его всякий раз, как он является из своего уединения, пока он снова не исчезает, подобно прекрасной звезде, которая светит издали.
Никто не решался спорить с ним, никто не мог противостоять его поистине покоряющей силе и красоте. Народ, которому он в гневе показывал кулак, любил и боготворил его. Горные жители готовы были подложить ему под ноги свои руки, чтобы он, святой и непорочный, шел по ним. Это лишало его последней меры, чтобы судить о своей личности и знать границу своим желаниям.
Пятнадцать миллионов марок, которые ему в порыве великодушия ассигновал ландтаг на его гигантские постройки, были уже давно истрачены. Последовала вторая, затем третья, четвертая выплата в таком же размере, народ нес эти тяжести с легким ропотом, но все же нес. Ни один министр, ни один чиновник в герцогстве не решался противоречить категорическим распоряжениям герцога.
Его дело росло и росло… А вместе с тем росли и небылицы, которые рассказывали про него не только в герцогстве, но и во всем мире. Сияние славы и величия стало окружать его голову, не уступавшую по красоте самому Аполлону! В несколько лет он сделался самым знаменитым государем на земле, он, забившийся в уединение гор, вглубь недоступных равнин!
Горные крестьяне знали его. Они видели его ежедневно, и новости о нем переходили из уст в уста, доходили до Кронбурга, а оттуда распространялись по герцогству и по всему свету!
Говорили, что он появляется в этих горах летом и зимой в глубокую полночь, словно яркая звезда, нежданно-негаданно, едет в золотой карете, запряженной шестеркою белых, как снег, лошадей. Впереди несется форейтор, освещающий путь факелом. Затем это блестящее видение скрывается за ближайшим поворотом дороги в темных елях леса, оставляя в глазах тех, кому удалось его видеть, болезненное ощущение неожиданного быстрого счастья.
Он не говорил ни с одним сановником из тех, которые были при нем. Он обедал всегда один за золотым столом, который беззвучно поднимался из-под пола и так же беззвучно опускался обратно. Герцог удостаивал говорить только с каким-нибудь конюхом, садовником, крестьянские девушки приносили ему цветы, какой-нибудь уличный деревенский мальчишка нередко получал от него фиалку, чего не удостаивалась ни одна красавица при кронбургском дворе.
Говорили, что в глубокую полночь он выходил в лесу из своей золотой кареты, шел один-одинешенек по пушистому мху, который придворный садовник из Гогенарбурга предварительно украшал цветами из дворцовых оранжерей. Альфред доходил до блестевших при серебристом лунном освещении озер и ехал здесь в лодке по воде, в зеркале которой отражались одинокие гигантские скалы.
На потолке его одинокой спальни в Гогенарбурге были изображены солнце, луна и звезды. Ни одна женщина не переступала порога этой спальни. Мечтая о ней, он не спал целые ночи, пока солнце не всходило над чистыми высотами. Лишь под самое утро тяжелый сон падал на его отяжелевшие веки.
Днем он работал неутомимо. Курьеры так и летали с приказаниями и депешами в Кронбург. На листке, собственноручно исписанном герцогом, бывало не менее дюжины самых разнообразных и серьезных распоряжений. Вот приказ об открытии ландтага, вот одобрение проекта тронной речи, вот важная перемена в армии, почти равняющаяся по важности целой реформе, вот проект картины для будущего дворца, вот заказ французского романа, вот распоряжение о том, чтобы придворный курьер немедленно ехал в Париж и в двадцать четыре часа доставил ему фотографию средних ворот парижской salle de garde.
«Я желаю, чтобы мне были доставлены безотлагательно из всех придворных и городских библиотек сочинения, касающиеся Людовика XIV», и так далее.
Горе курьеру, который вызывал необузданный гнев Альфреда при малейшем упущении даже в самых мелких его распоряжениях. Неожиданно появлялся он в Кронбурге, и над головою министра-президента разражалась гроза его герцогского гнева.
Как молния, озарял он архитекторов, художников, рабочих, работавших над новым герцогским дворцом вверху или трудившихся там внизу, около волшебного леса, над герцогской виллой — точным воспроизведением Трианона.
Затем наступало некоторое затишье, в течение которого его не видал никто.
На Альфреда находили часы, когда он не мог видеть лица человеческого. Министры, являвшиеся на прием, становились за стеной. Фон Галлерер или начальник гражданского кабинета, не удостаивавшиеся видеть лица своего государя, лишь слышали его голос, доходивший до них как будто издали. Входя в покои герцога, слуги должны были надевать маски. Затем Альфред вдруг исчезал куда-то иногда на несколько дней, чаще на несколько недель, пока ему не удавалось с помощью своей железной воли преодолеть такой припадок человеконенавистничества.
На такие периоды Альфред приказал построить для себя охотничий домик над расщелиной у подошвы высокой скалы, на верхушке которой собирались облака. Он ненавидел охоту. Ни одно животное в лесах, ни одна птица в горах не пали жертвою его выстрела. Ибо горные животные для него были выше, чем люди там, на равнине. Но этот охотничий домик, в котором жил один-одинешенек старый лесник, был самым высоким, самым тихим и уединенным убежищем, где затихали его беспокойные мысли, убаюкиваемые сладкими снами прошлого, куда не проникал шум работ над дворцом и виллою.
В сопровождении лишь одного крестьянского мальчика из Гогенвальда Альфред одиноко бродил по прохладной, удивительно красивой и богатой световыми эффектами расщелине. Сначала дорога шла к деревенской гостинице, затем она спускалась все ниже и ниже между стремящимися к небу скалами, пока не доходила до подножия одинокого прохода. Здесь стоял охотничий домик герцога — свидетель самых тяжелых и самых возвышенных его часов, когда он боролся с демонами глубочайшей ночи.
Простой домик был скромно меблирован столами и стульями. Его спальня представляла по своей простоте разительную противоположность с раззолоченными апартаментами и роскошными кроватями в Кронбурге и Гогенарбурге. Комнаты домика были украшены драгоценностями, которые могли доставить эти уединенные высоты: букетами горных цветов, подснежников, рогами диких оленей и серн, которые были добыты не им, а его любившими охоту, веселыми, жестокими и жизнерадостными предками.
Здесь он запирался, здесь он держал и читал наиболее любимые свои книги: «Siede de Louis XIV» Вольтера, «Князь» Маккиавелли, данную ему маэстро рукопись «Парсиваля», Шиллера и драмы Корнеля и Расина.
По ночам он здесь сидел и читал. Дверь охотничьего домика, выходившая прямо в дикую горную расщелину прохода, была в это время открыта настежь, и до его уха долетали крики совы, зов сыча да томный рев горного оленя. В камине ярко пылал огонь, разведенный им самим. Вечные звезды двигались над одинокими горными вершинами, на которые не ступала еще нога человеческая.
Когда там внизу овладевало им отчаяние, надоедали приставания разных придворных чинов и министров, становились противны скрытые под масками лица его лакеев и служителей, раздражала медлительность архитекторов и голоса рабочих, доносившиеся сюда с новых строек, тогда он отправлялся сюда и находил здесь покой и тишину.
Здесь он мог снова сосредоточиться, заставить умолкнуть голос преисподней, здесь он проводил одинокие ночи на самом краю мира, соприкасающегося с оцепеневшими в вечном снегу горами.
Его взгляд падал прямо из кручи горного обрыва, который, казалось, поднимался в ночной мгле до самого неба.
Тихо проплывали наверху облака и звезды сияли над этим миром смерти. Они также были одиноки и, казалось, разделяли его судьбу. Целыми часами по ночам смотрел он на них до тех пор, пока в необъятной выси не загоралась заря, пока всемогущее солнце не давало наконец поцелуя суровой скале, возвышавшейся на краю обрыва.
Тогда он поднимался наконец. Он выходил из охотничьего домика и смотрел, как наступавший день боролся здесь в горах с демонами равнины. Клубы тумана неслись, словно кем-нибудь гонимые и подстегиваемые тени, через гребень холмов там в глубине. Они зацеплялись за скалы и останавливались в расщелинах, пока сами скалы, как будто в диком отчаянии, не разрывали их на куски, пока синева горного неба, похожая на матовые незабудки около Гогенарбурга, не становилась темнее и темнее пока золотые лучи солнца не пробивали наконец этих ночных туманов.
Эти лучи отражались в тысячах кристаллов, в миллионах капель, блестевших на лиственницах и соснах в глубине гор и на траве возле него.
Тут старик-лесничий, который никогда не должен был говорить с ним, приносил ему стакан парного козьего молока, кусок черствого хлеба, который он пек сам. Если он был в силах съесть это, то его воля и уединение гор еще раз заставляли замолкнуть жестоких демонов, поднимавшихся из глубины его души.
XXVIII
Поистине царственная мечта герцога стала действительностью. С беспримерной преданностью министерство, ландтаг и народ помогали своему обожаемому государю. Тратились миллионы за миллионами. Бюджет герцогства испытывал небывалую еще тяжесть государственного долга. Целые десять лет в тихих горах шла неутомимая работа по планам герцога и его архитекторов.
Герцогская вилла, эта позолоченная игрушка, второй Трианон в сказочной глубине волшебного леса, была окончена, дворец был готов, гроты построены, парки разбиты, фонтаны начали действовать.
На меловой скале, стоявшей на самой границе гор, гордо и смело возвышался, далеко глядя на стлавшуюся у его ног равнину, герцогский замок, истинное чудо строительного искусства. Он был готов только наполовину, но снаружи он производил впечатление вполне законченного. Над бушующей пропастью, метрах в ста от подошвы дикого ущелья, был переброшен легко и красиво мост, с которого можно было вполне видеть эту копию средневекового Вартбурга. Отсюда же открывался головокружительный вид на седую глубину чернеющей пропасти. Но внутри этого замка святого Грааля с его четырьмя этажами, с сотнями комнат, были готовы лишь апартаменты для жилья самого герцога, отделанные с неслыханной роскошью. В большой зале певцов с эстрадой, в тронной зале с Всевидящим Оком и фигурами христианских добродетелей работы еще производились, а между тем финансы сравнительно небольшой страны, видимо, истощались.
Но Альфред, словно подгоняемый каким-то демоном, толкал себя и других вперед и вперед. Он устроил теперь постоянное местопребывание свое в раззолоченных покоях виллы среди волшебного леса. Здесь бродил он в одиночестве, сопровождаемый лишь немногими верными служителями. Здесь сидел он целые ночи, словно какой-то сказочный король. Большую часть дня он спал или мечтал, лежа в раззолоченной постели, стоявшей на эстраде с золотой решеткой в залитой солнцем комнате. Поднимался он тогда, когда солнце уже заходило. Летний ветерок тянул прохладой с гор, гигантские фонтаны приводились в действие, цветы парков посылали ему свой одуряющий аромат.
Одиноко садился он за обед в золотой столовой, за золотым столом, на золотых блюдах. Безмолвно, не встречая ниоткуда приветствий, невидимая никем, пробиралась его высокая фигура через эти комнаты, залитые светом и золотом. Был отдан строжайший приказ, чтобы никто не попадался навстречу и не смотрел на герцога: ни адъютант, ни служитель без особого на то приказания.
В час сумерек Альфред входил в столовую. Здесь он садился на золотой стул, нажимал кнопку, и стоявший перед ним стол бесшумно опускался под пол. Он нажимал еще раз, и стол поднимался, с лихорадочной быстротой нагруженный в кухне всем, что он любил. Он съедал все поспешно, после чего стол с остатками еды беззвучно опускался.
Герцог подходил к окну. Со счастливой улыбкой на прекрасном лице он блуждал взором по фонтанам, по деревьям парка, по горам и глубокому лесу, где, казалось, исполнились наконец его давно желанные мечты.
Зажигались свечи, тысячи свечей. В их ровном свете золото, которым были отделаны комнаты, как будто согревалось, получало жизнь. Что днем имело тусклый и невзрачный вид, теперь преображалось. Вся эта своеобразная, воплотившаяся в золоте мечта получала в этом тихом свете какой-то сказочный вид.
Закутавшись в светло-голубой плащ, который он носил в своей юности, Альфред обходил весь дворец, комнату за комнатой, одну другой роскошнее. Так бывало каждую ночь в первый час после его ужина.
Нежно гладила его рука золотые предметы искусства и мебель, которую он особенно любил, и настоящее чувство счастья наполняло его грудь — это, по крайней мере, хоть это исполнено!
Со стен его приветствовали портреты тех, кто был изображен на стенах Трианона рядом с королем-Солнцем, свидетели иных, лучших, по его мнению, времен.
С ними вел он тайные разговоры, всецело погружаясь в дивный сон, будто бы и он стал здесь господином земли, абсолютным королем, который царствовал в силу своего собственного права.
Так медленно проходила ночь. Из-за гор показывалась бледная полная луна и лила свой серебряный свет на цветы и деревья парка, на серебристые струи фонтанов, которые, казалось, падали с неба. И плеску этих струй внимал одинокий герцог.
Облокотившись на окно, он всматривался в ночь своими большими черными глазами, искал сказочное царство силы и сверхчеловеческого величия, которое было не от мира сего. Даже золотая Венера, которой он в действительности не смел даже коснуться, живо улыбалась ему из-за зеленых ветвей деревьев его виллы.
Парк начинал оживать. Друзья и близкие Людовика XIV, галантные дамы минувшего века, казалось, гуляли по аллеям, подстриженным на манер Трианона, за этими боскетами из деревьев и кустов как бы слышался шепот. Он был король-Солнце. Одуряющий аромат несся от тысяч цветов герцогских садов. А там на вершине вековой липы ночной ветер легким дуновением рассказывал его чуткому уху историю о неслыханной мощи и сладком чувстве, гнаться за которым составляло его роковую судьбу.
Пришло время и для его волшебного леса. Лакей с маской на лице освещал ему путь факелом. Он уходил в самую глубь леса, который теперь ожил, — его оживляли карлики, эльфы, могучие герои германских сказаний. Путь вел его к хижине, а отсюда в тихое уединение его равнины, где он отпускал лакея.
Дверь этого маленького здания, где не одну ночь проводил он в смелых мечтах и жестоких страданиях, была открыта настежь. Как и в своем охотничьем домике у подошвы горной стены, но не такой радостный, он садился здесь, и тут его посещали Водан и Зигурд, Брунгильда и рыцарь лебедя, Тристан и Тор.
Большую часть своих одиноких, страшных ночей он мог проводить, погрузившись в чтение. Или он часами смотрел в лес, из мха которого гогенарбургский садовник сделал цветной ковер, из чащи которого медленно, одно за другим, выходили животные, которых он более всего любил, и, казалось, приветствовали царя уединения и пустыни, как своего владыку и защитника.
На крыше этой уединенной хижины висел серебряный колокольчик. Герцог сам звонил в него. Его чистый звон звал слугу, который должен был снова светить ему, когда он шел через волшебный лес.
Погрузившись в свои мысли, Альфред возвращался на герцогскую виллу. По крутым дорожкам парка он пробирался к гроту, в котором исчезал на целые часы. Чудо красоты открывалось его восхищенным глазам. Словно голубой сапфир блестела в гроте вода, озаренная каким-то волшебным голубым светом всякий раз, как он посещал этот уголок, устроенный из камней. Вход сюда был строго запрещен всем.
Как будто в неизмеримой глубине здесь царил темно-голубой свет, и двигались тихо серебряные лебеди, каких нет в действительной жизни. Альфред садился на трон из темно-красных кораллов. В спинке его была сделана кнопка, с помощью которой он мог менять игру цвета в фонтанах. Его грот мог освещаться во все цвета радуги. Движение руки, и новый мир с новым освещением поднимался перед его глазами, ненасытно ищущими света и красоты.
Когда искусственно возбуждаемые волны в бассейнах начинали шуметь, он, как Афродита, садился на раковину и сидел беззвучно, неподвижно, как царь вымерших глубин, как владыка царства теней. Задний фон этой грандиозной декорации составляла огромная картина: рыцарь в Герзельберге.
«Они могут спать в объятиях нежных белых обнаженных рук…», — вспоминалось ему, который не должен был знать любви.
Его фонтаны, волны, колонны грота — все было залито таким же темно-голубым светом, каким светились на берегах почти забытого Лаубельфингенского озера глаза Адельгейды. Весь грот был словно один гигантский сапфир, словно очи любимой, навсегда потерянной девушки, словно перья его великолепных павлинов, которых он так любил на своем Острове роз и которых она так ненавидела.
Вдруг картина изменялась. Вместо лазури — кроваво-красный свет, рубины в глубине воды, рубины, словно капли крови, падали сверху со скал на чувственную, блещущую плотью статую. Венера ожила, пустынник протягивал руки, готовясь обнять это цветущее тело, ставшее живым благодаря искусству художника и световым эффектам.
Минуты две она была жива в его фантазии, пока свод грота не потонул в темно-зеленом свете. Все как бы перенеслось в лес его родных гор. Этот свет действовал на небо, как золото солнца, пробивающееся сквозь майские ветви. Потом он погрузил все в страшный, ледяной, смертью веющий белый свет. Потухла жизнь в гроте, явилось царство смерти, все превратилось в лед. Настала словно одна из зимних ночей в горах, когда он, гонимый вперед фуриями, лишенный покоя, мчался в раззолоченных санях.
Но вот над этим подземным ледяным дворцом смерти и ужаса играла уже всеми семью цветами радуга. Альфред с ужасом бежал из грота от этого зрелища, придуманного его раздраженной фантазией. Скорее назад, в сады виллы, к порталу его белого дворца, под высоким навесом которого в стиле барокко ждал его золотой экипаж, запряженный шестью белоснежными лошадьми. Он не знал усталости. Такие ночи видели его лихорадочную подвижность, с которой он старался рассеяться, изгнать демонов пучины, мчаться вперед и вперед до самого утра, пока не всходило солнце и сон не падал ему на веки.
На башенке герцогской виллы бьет полночь. Форейтор в белом парике, в парадной ливрее времен короля-Солнца, вскакивает в седло. Факелы ярко вспыхивают, белоснежные кони готовы в дорогу.
Герцог садится в экипаж, которой мчится с быстротою ветра.
Через ближайшую деревню! Яростно заливались собаки, крестьяне бросались к окнам. Словно привидение, проносилась мимо золотая карета с белыми конями, красными лакеями, факелами и герцогом, который, глубоко забившись в мягкие подушки, пристально смотрит своими черными глазами в бездонную ночь — его друга и утешительницу, его победительницу и владычицу. Он предчувствует, что когда-нибудь она совершенно поглотит его навсегда. Он несется к озеру, которое он любит больше всего из всех горных озер.
Словно изумруд, лежит оно, темно-зеленое огромное. Великолепно оно в эту ночь, когда полная луна отражается на его волнах. Бешеная скачка продолжается сквозь волшебный лес его мечты. Белые арабские кони герцогского экипажа пролетают за несколько минут расстояние, на которое пешеход употребил бы по крайней мере полчаса. Озеро уже блестит в конце леса. Видна уже темно-зеленая его поверхность, а сзади, как фон картины, поднимается отвесная недостижимая гряда скал.
Весна, май! Мир живет и просыпается… все ликует и цветет… и он… выходит из своего золотого экипажа.
На берегу озера он с рыданием бросается на землю в лесу, из которого ему светят тысячи звездочек. Он не может их ловить, у него нет силы, жизнь и красота слишком сильны, слишком!..
Бесцельно и беспокойно скользит герцог в лодке по этому озеру. Вдруг в ночной тиши раздается его звучный голос: «Дальше! Дальше!»
Он бросается в экипаж, форейтор с факелом впереди, лошади трогают и несутся галопом. Он хочет быть в своем новом, еще недостроенном дворце в ту же ночь, пока не взошло солнце.
Лошади летят, а он, который так их любит, и не думает пожалеть их. Снова несутся они через спящую деревеньку, через Гогенвальд, мимо знакомой деревенской гостиницы. Белокурая Христина, которая уже в течение многих лет приветствует здесь проезжающего герцога, теперь уже не подает ему букета цветов. Дальше и дальше мчатся лошади!
Он хочет только бросить взгляд на смелое воплощение своей мечты. Наконец до его ушей долетает дикий рев потока в ущелье, наконец показывается скала, на которой стоит новая мечта герцога — его дворец.
Как сияет он при свете луны, этот замок Спасения и Искупления!
Кони с трудом поднимаются по широкой новой улице вверх на скалу.
Альфред подъезжает к замку. Тысячи огней вспыхивают разом. Изумительное освещение замка, о котором говорит весь свет, как бы приветствует его. Он не хочет входить сегодня в комнаты, которые кажутся ему святыми, он желает взглянуть лишь издали на чудесное творение святого Грааля. Сегодня он беспокоен, нет мира в его душе, его что-то гонит вперед, он бежит, как отлученный, которому запрещено переступать порог этих чертогов. И вот он забирается все выше и выше в горы, к мосту, который ведет через страшную пропасть над бушующим потоком. Отсюда он смотрит вниз на замок Искупления, залитый по его приказанию морем света.
Часами стоит на мостике этот герцог-пустынник, пока не догорит последняя из тысячи свечей, пока медленно не исчезнет из глаз величавая картина его дворца среди роскошного ландшафта его юности и из горных расщелин не явится серый робкий день.
Золотая карета несется обратно. Его манит на виллу роскошная кровать, в которой он будет искать убежища от страшного вида этого дня, где он будет мечтать и ждать, пока солнце не спрячется за горами и вечерние тени не лягут на виллу, когда снова зашумит вода в его фонтанах.
XXIX
Уединение его волшебного леса и его гор было неожиданно нарушено жалобой, поступившей к Альфреду из юго-западного угла его герцогства. Герцог отчетливо услышал этот настойчивый голос и весь превратился в слух. Словно указание судьбы, прозвучал для него этот волшебный голос! То был соблазн, которому он не мог не поддаться. Словно голос каких-то волшебных существ звучал издали и тянул его к себе.
У подножия его могучих гор, в том месте, где они вдруг соприкасаются с необъятной и болотистой равниной, лежало величайшее из его озер, «синее море», как его прозвал народ, видя, как исчезают его берега в утреннем тумане и в удивительном вечернем освещении. Беззвучно скользил одинокий челнок бедного рыбака по этой бесконечной, ярко блестящей на солнце поверхности воды, направляясь к поросшим соснами и буками островам.
Тысячелетняя история сделала святым и озеро, и его острова.
В начале здесь была священная дубовая роща времен древних германцев. В средние века на роскошном зеленом ковре возник здесь серый монастырь, стены которого не могли, впрочем, оказать никакого сопротивления диким шайкам хищных мадьяров. Место благочестия покрылось развалинами, дикой калиной зарос разрушенный собор. Только в средине XIII века монастырь снова возродился и достиг небывалого расцвета. На одиноком острове голубого озера появились монастырские постройки, здания для князей и прелатов, посередине возник новый, великолепный собор. Далеко разносились по поверхности воды медные голоса его колоколов.
Прошло несколько столетий, исчезло могущество епископа, исчез и монастырь. Его священные места потеряли значение, и теперь уже тянутся жадные руки скупщиков к чудным островам.
И вот окрестные обитатели подали жалобу.
Сокровищам красоты, уцелевшим остаткам тысячелетнего прошлого, грозит опасность. Только от одного человека можно было ждать спасения, и этим человеком был герцог. Умоляя о помощи, его подданные обратились прямо к нему. Перед его глазами вдруг раскрылась вся картина.
Одно название, о котором он давно мечтал и которое он, увлекшись постройкой нового дворца и виллы, почти забыл, но которое уже много лет сидит у него в голове, вдруг отодвинуло назад и замок св. Грааля, и его Трианон и овладело его мыслью и чувством: озеро герцога!
Среди бумаг, доставленных ему в уединенный волшебный лес из его кабинета в Кронбурге, он нашел прошение жителей окрестностей озера и немедленно распорядился, чтобы все острова Синего озера с их лесами были приобретены для него на его личный счет.
Словно крик спасения прокатилась эта новость по берегам озера. Рыбаки и окрестное население ликовали.
Прошло немного времени, и в одну прекрасную сентябрьскую ночь на уединенном постоялом дворе на берегу Синего озера остановился поезд придворных экипажей. Сопровождаемый камер-лакеями, несколькими художниками, взятыми со стройки нового дворца, и адъютантом фон Ласфельдом, Альфред покинул свой волшебный лес и приехал сюда, никто не знал, с какими намерениями.
Как там, в лесах, так и здесь, на берегу озера, мчался в глухую осеннюю ночь золотой экипаж, перед которым ехал с факелом форейтор.
Экипаж остановился на берегу тихой бухты, залитой ярким лунным светом. Здесь Альфред сел в лодку, отделанную золотом и голубым бархатом, и поехал к острову, который теперь стал его собственностью.
Много дней провел он там. В старинном замке монастырских властей он приказал устроить свою главную квартиру. Во время его прогулок по великолепным развалинам острова его сопровождали художники и архитекторы, а он все смотрел и мечтал!
И вдруг перед его глазами восстал идеал всех его царственных сооружений — то, что он видел у порога Парижа, гигантский дворец короля-Солнца, перенесенный на этот остров голубого озера.
Улыбка победителя скользнула по его лицу при этой грандиозной мысли.
— Король царствует самодержавно, — вполголоса произнес он.
Отсюда он отправился к себе в кабинет, который наскоро соорудили для него в одном из помещений бывшего монастыря, и отправил отсюда приказ фон Галлереру, управлявшему министерством финансов, — выпустить заем в сто миллионов марок для постройки нового дворца на Герцогском озере.
В тот же день герцогский курьер поскакал с этим приказом в Кронбург.
Альфред словно чудом преобразился. Вся его ненависть к людям, боязнь окружающих разом исчезла в нем, как только он спустился из уединенного горного леса на берег этою озера.
Вечером приехал Галлерер.
— Это невозможно, ваше высочество, — был его ответ. — Далеко еще не погашены долги, сделанные на постройку нового дворца и виллы.
— Невозможного на свете нет, — заявил герцог своему министру финансов, поседевшему на военной службе. — Это будет сделано, хотя бы для этого мне пришлось заложить все герцогство!
Фон Галлерер не нашелся, что ответить.
— Ну-с, господин министр, медлитель, человек, не знающий выхода, — издевался над ним Альфред.
— Ваше высочество изволите знать, что я преданнейший слуга престола, но сто миллионов… никогда ландтаг…
— Мне дела нет до ландтага, — закричал герцог. — Я хочу этого!
— В таком случае…
— Извольте исполнить это, господин министр.
— В таком случае…
— Я знаю, что вы хотите сказать. Я принимаю вашу отставку.
Фон Галлерер удалился.
Через четверть часа герцогский курьер скакал с Синего озера на станцию железной дороги.
Ему велено было передать собственноручное письмо герцога банкиру Гринбергу, богатейшему человеку в герцогстве.
На следующий день Гринберг уже стоял перед герцогом.
Альфред принял его с изысканной любезностью.
— Заем в сто миллионов, ваше высочество? — переспросил финансист. — Сто миллионов!
— Для самого герцога, — перебил его Альфред, которого уже охватило нетерпение. — Согласны вы или нет? Государственная казна, уважение страны, финансы всего герцогства — вот вам ручательство.
— Так стремительно, ваше высочество, даже без…
— Что такое это: даже без?
— Даже без согласия министерства?
— Государство — это я, — загремел Альфред. — Я даю вам мое герцогское слово.
— А каким образом добыть эти деньги, эту огромную сумму?
— Это ваше дело, — отвечал Альфред. — За этим я и позвал вас сюда. Вы должны знать сами. Галлерер этого не знал. Сотни миллионов находятся в руках иностранных капиталистов. Я хочу из этих сотен миллионов получить всего одну сотню. Здесь, посередине этого острова должен возникнуть новый Версаль — не более, не менее!
— Однако… сто миллионов!
— Дворец короля-Солнца поглотил их тысячу, а я требую от вас только сотню. Я назначу вас министром герцогства, если вам удастся в непродолжительное время осуществить этот заем! Понимаете?
— Можно попробовать в Австрии и Франции, в Америке и в Англии.
— Ваши источники меня не касаются, — леденящим тоном сказал Альфред. — Можете вы добыть сто миллионов марок или нет?
— Обаяние герцогского имени… величина страны…
— Можете вы или нет?
— Постараюсь.
Альфред милостиво протянул финансисту руку.
Гринберг удалился. Назначение его министром финансов, на которое ему намекнул герцог, совершенно ошеломило его. Он был собственником международного банка, имевшего свои отделения в Петербурге, Берлине, Вене, Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Он был связан и с миллиардерами Соединенных Штатов и с Гиршем, Ротшильдом, Блейхредером и Мендельсоном. В конце концов это значило с помощью финансовой знати вызвать к жизни гигантские замыслы этого герцога, о котором по всей стране рассказывают такие удивительные вещи! А он? Он может ведь стать всемогущим в этой стране, сделаться неограниченным владыкой кронбургской биржи. Стоит только достать денег для этого герцога.
Он попытается достичь этого, хотя подобный заем, о котором мечтал герцог, совершенно испортил бы финансовое положение герцогства, поглотил бы огромное состояние герцогского дома, В конце концов против неудержимого стремления Альфреда к тратам восстанет народ и страна.
Но он сам мог бы с большой выгодой ворочать миллионами на международном денежном рынке.
Нетерпеливо ждал Альфред ответа Гринберга. Великолепный Версаль уже стоял готовый перед его глазами, с шумящими фонтанами и невиданными доселе бассейнами. Золото, чистое золото! Еще больше, возвышеннее, великолепнее, чем настоящий Версаль, на который он смотрел опьяневшими от восторга глазами!
Гринберг достанет для него денег. Гринберг будет его новым министром финансов, управляющим состоянием герцогского дома. Он будет давать деньги на осуществление его планов, которые затмят всех владык мира и все их дела. Золото и золото должно озарить, как солнце, этот остров! И через эти будущие покои и апартаменты будет проходить он — новый, истинный владыка страны, какого еще никто не видал.
Как зеркало, светилась перед ним белая поверхность Синего озера. Отчего он раньше не подумал об этом единственном сокровище, об этом величавом озере своего далеко раскинувшегося герцогства!
В зеркале этого озера он уже видел законченную постройку нового Версаля, с которым не может сравниться ни один дворец на земле, не исключая и дворца короля-Солнца.
Альфред был в восторге. О том, с какою трудностью можно достать почти обещанные ему деньги, он не думал. Он весь ушел в мечты. Чистые высоты замка св. Грааля, мирное спокойствие волшебного леса, жуткая тишина его охотничьего домика на краю горного обрыва — все это было вдруг забыто.
Из окон бывшего жилища приора, в котором он теперь помещался, его взор блуждал по синеватой дали озера. В эти странные недели он, усилиями своей непреклонной воли, чувствовал себя почти здоровым и мог переносить присутствие людей и их голоса. То, что природа его горной страны давала ему даром, далеко оставляло за собой настоящий Версаль с его искусственными прудами, появившимися среди песчаной пустыни с таким трудом и с таким напряжением.
Прошла неделя с тех пор, как Гринберг по поручению герцога, отправился в Париж и Вену, а Альфред уже измучился от нетерпения. Сто миллионов! Как будто недостаточно его герцогского слова, чтобы получить эти деньги по мановению руки.
Достаточно топнуть, и из-под земли должно явиться золото, которым он зальет свой будущий волшебный дворец.
Да, этот дворец будет из одного золота, чистого золота, с сотнями зал и апартаментов — залы для герцога, для герцогини, апартаменты для свиты, для гостей, комнаты для служителей, для караула! Золотой дом, мрамор которого будет закрыт одеждой из драгоценнейшего из всех металлов.
Этот золотой дворец будет стоять среди парков невиданных еще размеров и великолепия. О громадности и царственном величии этого дворца будут с почтением говорить по всей земле.
От берега Синего озера до гигантского переднего фасада этого длинного здания будут вести широкие лестницы из белого мрамора. Все здание будет в один этаж, ибо несовместимо с достоинством герцога подниматься по лестницам. Двор будет вымощен плитами из мрамора, с фронтона будут приветствовать его статуи, роскошь дворца будет светиться в тысячах зеркал, и тихие бассейны у подножия его будут отражать эту невиданную еще людьми постройку!
Кроме всего этого — группы гигантских фонтанов, которые будут хранить блеск его имени, истинно царственную славу.
Такова была новая мечта Альфреда в эти дни.
XXX
То, что для фон Галлерера представлялось невозможным, удалось Гринбергу. Его связи облегчили ему путь. Международные денежные короли, до которых дошел слух о любви герцога к роскоши и страсти к тратам, охотно выслушали его. Одни в надежде приобрести влияние, получить орден, повышения, другие в том предположении, что в один прекрасный день герцогство будет вынуждено взять на себя уплату долгов своего государя.
Когда Гринберг привез столь благоприятные известия, Альфред был вне себя от счастья. Он обнял финансиста, поручил ему управление своими личными делами и сделал его министром финансов.
То же самое, что происходило вверху над ущельем и внизу у волшебного леса, началось теперь на тихом острове Синего озера, к развалинам которого никто не прикасался в течение целых столетий. Теперь тут работали тысячи прилежных рук. Появился новый дворец — «Герцогское озеро».
Архитекторы, разработавшие план и руководившие постройкой далеко еще не законченного нового дворца и герцогской виллы, уже не удовлетворяли Альфреда. Ему вдруг стало казаться мелким все то, что он сделал до сих пор, мелким в сравнении с тем, что должно было возникнуть теперь и отражаться в темно-голубых водах острова, который, казалось, нарочно был создан для этой цели.
Вид острова был довольно пустынный. Здесь валялся мусор, накопившийся столетиями, руины вспоминали о давно прошедших временах и ждали их возвращения.
Альфред опять жил в старинном замке и всецело погрузился в работу с вновь назначенным архитектором и его художниками.
Его пламенная душа стремилась вперед. Опять все шло для него слишком медленно. Одни предварительные работы по расчистке места, на котором должен был возникнуть будущий дворец из мрамора и золота, заняли несколько месяцев. Нужно было свести сначала леса, сравнять холмы прежде, чем думать о закладке нового дворца.
Эти огромные работы уже поглотили сотни тысяч марок. Но Гринберг не унывал. Его источники были, по-видимому, неистощимы; а герцог не спрашивал, откуда берутся эти огромные средства.
Спустя много месяцев, из которых сложились уже целые годы, покончили наконец с этими предварительными работами. Началась постройка самого дворца. Тяжело нагруженные барки, буксируемые небольшими пароходами, оживляли Синее озеро. Они везли дорогой строительный материал, из которого должен был воздвигнуть дворец Альфреда — мрамор и золото. С берега острова шла вглубь железная дорога. Этот беспрерывный подвоз материалов стоил огромных денег.
Альфред торопил. Со времени закладки дворца прошел уже год, передний фасад колоссальной постройки был уже выведен под крышу. После этого началось внутреннее украшение комнат. В это время рабочие заканчивали вчерне постройку двух боковых флигелей…
Через каждые две недели Альфред приезжал сюда лично, поселялся в старинном помещении монахов и опьяневшими от красоты глазами смотрел, как подвигается вперед его изумительная затея. А дворец рос и рос!
В темную ночь герцогский поезд вдруг появлялся у постоялого двора, расположенного в глубине леса, на берегу Синего озера. Здесь уже стоял наготове золотой экипаж, в который быстро запрягались белоснежные кони, и при свете факелов с быстротой молнии ехали дальше, к длинному мысу, далеко вдававшемуся в озеро.
Здесь стояла наготове герцогская лодка для переезда на остров. Колоссальный фронтон нового здания ярко отражался в серебряной воде, освещенный тысячами свечей.
Лодка с герцогом-художником скользит по воде. Громко шумят фонтаны, окна освещены бесчисленными свечами, зажженными в залах из чистого золота и мрамора.
Герцог вступает в свое новое царство через золотые двери, которые широко распахиваются перед ним, как по волшебству. Задумчиво поднимается он вверх по мраморной лестнице, устланной пурпуровыми коврами. Золоченый бронзовый павлин с глазами из сапфира и изумруда встречает его на лестнице этого изумительного здания, созданного его творческой фантазией. К его приему придворный садовник превратил лестницу в цветочный луг, но золотые стены, висящие на них картины, великолепие ее ступеней и перил, яркий свет тысячи светильников — все это затмевает цветы, делает их чем-то второстепенным.
После семилетней напряженной работы средняя часть дворца наконец готова. Теперь тысячи рук возводят боковые флигеля.
При появлении герцога они перестают работать. Ни один рабочий не должен попадаться ему на глаза. Его страх перед людьми, его ненависть к медлительным исполнителям его планов заставляют их держаться от него по возможности дальше. Комната за комнатой, зал за залом раскрывается перед ним, перед ним одним, сияя неслыханной роскошью, обнаруживая такие драгоценности, которыми не владел на земле ни один Крез.
Задумчиво проходит Альфред двадцать зал. Более десяти тысяч свечей освещают ему путь. Залы, одна другой богаче, великолепнее, открывались перед ним.
В большой зеркальной галерее он останавливается. Это венец его создания. Более тридцати люстр свешиваются с потолка, более сорока канделябров стоят в нишах. Зеркала отражают их свет, и кажется, что их здесь несколько тысяч. Галерея делается бесконечной, как бесконечная мечта истинно королевского величия, как то, что он задумал создать. Ибо дух его не знает и не будет знать покоя!
Его высокая, стройная фигура останавливается у круглого угольного окна стеклянной галереи. Он мечтает. Когда это будет окончено через несколько лет, что же дальше? Миллионы Гринберга неистощимы, должны быть неистощимы, а его творческая сила и гений не знают теперь никакой границы.
Одна за другой начинают гаснуть свечи, как в замке Грааля. В ночной тьме эта мечта из золота и мрамора исчезает из глаз герцога, и его необузданная фантазия снова принимается за работу.
По его знаку гигантские фонтаны останавливаются, свежий утренний ветерок пробегает по верхушкам деревьев острова. Луна зашла. Серый полумрак лежит на серебристой поверхности широкого озера.
Огромная гряда скал вырисовывается вдали, окрашенная пурпуровым светом. Утро победоносно поднимается над горными ущельями. С колокольни соседнего острова несется колокольный звон.
Альфред думает.
Великолепна была мечта — мелко и ничтожно ее осуществление, даже и это, начавшееся много лет тому назад и поглотившее столько миллионов, это чудо из чистого золота и мрамора, даже оно мелко и ничтожно, как вся его жизнь — это непрерывное искание и борьба за красоту.
Герцог одиноко стоит на берегу. Свежий утренний ветер треплет его темные волосы и освежает его высокий, белый, как мрамор, лоб. Большие черные глаза широко распахнуты, губы открыты и шепчут:
— Эта золотая мечта недостижимой роскоши и величия была так прекрасна!
Но нет здесь довольства, спокойствия, счастья, убежища от страха, которому нет названия. Ни здесь, ни в замке Грааля, даже ни на вилле!
Печально смотрит он перед собой. Как все это холодно и мертво! Этот мрамор и золото, эти картины его художников, вся эта мечта о королевском величии и власти — все холодно, мертво!
Внезапная дрожь, словно в лихорадке, охватывает его. Снова дают себя знать головные боли, давно уже не появлявшиеся. Он болен, несмотря на это бегство от самого себя в уединенные горы, несмотря на бегство от людей, несмотря на осуществление своей мечты из золота и мрамора.
Как могло случиться, что он, поддавшись увлечению и зову прибрежных обитателей, возымел мысль построить сказочный замок здесь, на этом острове, так близко от людей равнины и так далеко от его уединенных гор, в которых он жил, как горный орел на недосягаемой высоте?
Мирные веселые деревеньки жались на цветущем берегу темно-синего озера, блестевшего под лучами солнца. Люди весело шли по своим дорогам. Что нужно здесь ему, отшельнику, почти погрузившемуся уже во мрак ночи со своими грезами о неслыханной красоте и роскоши?
Никто не войдет в это царство красоты — за это он ручается… Да и он сам… сегодня, может быть, он здесь в последний раз, ибо он не от мира сего!
Он вдруг вспомнил о Лаубельфингене, об Адельгейде, о счастье, разбившемся о каменные дворовые плиты его кронбургского дворца.
Он запрет эти золотые залы и апартаменты и убежит обратно в горы, куда не посмеют следовать эти веселые, смеющиеся лица долины.
Вдруг ему пришло в голову другое.
Несколько недель тому назад в глубокую ночь он мчался в золотом экипаже, запряженном белоснежными конями, на запад. И вдруг перед его глазами открылась одинокая скала, еще выше, чем его замок Грааля, еще круче, еще недоступнее. Она упрямо возвышалась на равнине. На ее вершине виднелись развалины какого-то старинного замка.
Это орлиное гнездо будет отныне называться Скалой Герцога. Никто не проберется туда, никто не приблизится там к нему. Никто, никто! Там он будет в безопасности от своих врагов. О, у него враги есть!
Он решил завтра же утром переговорить с Гринбергом и сделать распоряжение архитектору относительно этой новой постройки.
Она должна быть крепостью, оплотом против всех тех, кто вздумает с какими бы то ни было целями приближаться к нему. Это должно быть чем-то недоступным, в этих стенах он должен иметь возможность расположить целую армию.
Он отлично знал, как на него смотрят, как за ним следят. Ему было небезызвестно, что многие его поступки и привычки считаются неподобающими. Вероломные слуги, которые льстят ему в глаза, разглашают все подробности его ночной жизни, безотлагательно сообщают в Кронбург о его привычках. Многие были удалены наобум, но и тем, которые остались на службе, он уже давно не доверял. А князь Филипп, возненавидевший его со времени его разрыва с Адельгейдой, и те, которые должны его ненавидеть — уволенный Бауманн фон Брандт, попавший в немилость Галлерер, Монтебелло, фон Глаубах, Пфистерман, испытавшие то же самое! Нужно быть настороже против них, нужно жить не по соседству с ними, в равнине, а на недосягаемой скале, в орлином гнезде, которое он построит на Скале Герцога в горах и которое принесет ему счастье.
Узкий двор замка будет запираться железными воротами. Там с несколькими верными друзьями можно будет оказать сопротивление целой армии!
Страшна пропасть, низвергающаяся у Скалы Герцога в равнину, и непобедимы окрестные скалы!
В эту-то пропасть он и столкнет своих врагов, если они решатся приблизиться к нему. А в один прекрасный день они непременно придут, чтобы испытать его силу и могущество. И тогда он сбросит их всех с высоты скалы и раздавит их!
Отчего он только сегодня подумал об этой опасности?
Ему стало страшно.
Все свечи в залах были потушены, и возвышенная мечта о величии, красоте, мраморе, золоте, великолепии и счастье снова погрузилась во мрак! А он опять вытолкнут, преследуемый фуриями.
Он опять подошел к окну. Парк лежал в глубоком мраке. Утром он тайно от всех переговорит с архитектором, чтобы он выстроил ему на скале неприступное убежище!
Фонтаны не шумят, не блестит золото. Он отдал распоряжение о том, что проведет сегодняшнюю ночь в золотой спальне нового дворца.
Ему опять стало страшно. Достаточно ли безопасен этот дворец? Не может ли кто-нибудь, по поручению князя Филиппа или Бауманна фон Брандта, тайком забраться сюда из Кронбурга?
И вдруг с дьявольской силой его поразила страшная мысль о том, что, несмотря на все свое могущество, он нигде не свободен от преследований!
Да, он непременно должен построить себе замок, который нельзя было бы взять, к которому не могли бы приблизиться изменники. Широкие извилистые улицы, проложенные для его золотой кареты в Герцогсбурге, были смешны. Смешно было и оставаться на этом озере, голубые воды которого были доступны любому рыбачьему челну.
От страха дрожь пробежала по его телу. Он не мог больше оставаться в золотом дворце, великолепие которого представлялось ему когда-то чудесной мечтой. Он должен бежать от преследователей, которые гонятся за ним по пятам, бежать от них и от самого себя.
Он немедленно садится в лодку. Он снова на материке, и белоснежные кони мчатся в горы.
XXXI
Альфред заперся в золотых палатах своего нового дворца Герцогсбурга над шумящими потоками ущелья. Конечно, дворец св. Грааля не мог предоставить такой безопасности, как замок на Скале Герцога, о котором он теперь мечтал. Однако меловая скала все-таки поднималась отвесно, почти неприступно, над равниной. Теперь к ее уединенной вершине могучими изгибами поднималась удобная проезжая дорога, которая, по его приказанию, была проложена в самой массе гор при помощи динамита.
Динамит!.. Он вдруг вздрогнул. Разве один из его камердинеров не рассказывал ему еще недавно, что значительное количество этого страшного вещества было украдено при постройке дороги и исчезло каким-то таинственным образом. Куда девался этот динамит? Что задумали с этим страшным разрушительным средством? Зачем было красть динамит?
А что, если его враги — князь Филипп, Монтебелло, уволенный Бауманн фон Брандт?.. О, у него есть враги в Кронбурге, да и по всему герцогству, это ему хорошо известно. Что, если динамит украли с единственною целью пустить его в ход против него, против его герцогской мощи и величия!
Он был один. Даже самому верному своему слуге, старому другу Ласфельду он велел сказать через лакея, чтобы он сегодня не попадался на глаза его высочеству.
Страх охватил его.
Никто не принимает в нем участия. Нет ни любви, ни дружбы… одна роскошь, пурпуровая мантия и трон из золота и слоновой кости, воздвигнутый в тронном зале под всевидящим оком Божиим.
И вдруг его охватил какой-то странный страх перед этим залом.
Что ему предсказал маэстро много лет тому назад?
— Ни один смертный не дерзнет построить замок для св. Грааля.
А он отважился.
Даже день, превращенный по его желанию в ночь, не дал ему на этот раз сна. Беспокойный, как Агасфер, внезапно охваченный страхом, что преследователи гонятся за ним по пятам, Альфред бежал из комнаты в комнату. Он не мог нигде сосредоточиться.
Комната адъютанта была пуста. Его строгий приказ заставил верного Ласфельда держаться вдали. В кабинете он остановился перед картинами, изображавшими приключения рыцаря Грааля. Того, как и его самого, преследовали, но тот нашел избавление у папы, и рис начал снова расти.
А он? Его не влекло уже в грот. Он напоминал ему грот в новом дворце, где он мечтал о неземной красоте, наслаждаться которой он оказался сегодня не в состоянии.
Что такое? Не послышались ли ему шаги, вдруг громко раздавшиеся в этих золотых залах, куда вход был строжайше запрещен для всех? Не ворвались ли туда под предводительством его дяди-князя Филиппа солдаты, возмутившиеся против него?
Как сумасшедший, бросился Альфред к окну. Ничего не было видно, он обманулся. И, однако, он так ясно слышал все, его ухо отчетливо уловило лязг оружия и хриплые голоса ворвавшихся людей. И ничего этого не было. Что это было за привидение среди бела дня, что за галлюцинация чрезмерно возбужденной фантазии? Он слышал голоса, которые не говорили, видел солдат, которых там не было, и отчетливо слышал лязг оружия?
Холод пробежал у него по спине. Что такое с ним?
Снова быстрым шагом прошел он по всем комнатам. Он уже не замечал ни картин, ни золота и его сверкающего великолепия. Перед алтарем, стоявшим в нише, он бросился на колени и пробормотал несколько бессмысленных от страха слов, но молиться он не мог. Его мозг был как бы выжжен, голова пуста, могучая фантазия истощилась.
И вдруг у него вырвался смех над самим собой и над царством сказочной красоты, которое он создал там в своих уединенных горах. Он танцевал в золотом зале, хлопая в ладоши. Затем вдруг остановился и долго стоял на одном месте. Как долго он стоял — этого он не знал. Проходили минуты, протекали часы, а Альфред все стоял, не двигаясь, смотря в пол, без мыслей, без чувств. Представление о самом себе, о мире, о людях, о своих планах, обо всем — как будто погасло у него в голове.
Наконец он пришел в себя.
Опомнившись, он позвонил. Теперь, должно быть, уже вечер. В золотых комнатах стало смеркаться. Он был голоден. Прошло не менее двадцати четырех часов с тех пор, как в последний раз он ел на поднимающемся столе в своем новом дворце.
Робко вошел служитель.
Увидев человека, Альфред громко рассмеялся. Что с этим малым?
У него на лбу ярко-красная печать.
То был его собственный приказ. Все головы, которым известны тайны его уединенной прекрасной и страшной жизни, должны носить на лбу печать, как герцогское письмо.
Альфред, не говоря ни слова, показал на столовую.
Слуга понял его и вышел.
Через пять минут он голодный сел за свой обед. Он ел без вилки и ножа, прямо руками.
Резче и резче выяснялись очертания событий, которые, словно туманные призраки, гнездились в его голове. Он стал опять думать — к удивлению ясно и логично, как он думал прежде несколько лет тому назад. Он снова овладел собой. Он пришел к заключению, что это он с голоду впал в такое странное загадочное состояние, состояние какой-то апатии и страшных галлюцинаций.
Он приказал позвать к себе фон Ласфельда.
Тот знал своего государя. Его нигде не было видно и тем не менее он незаметно для Альфреда был всегда около него наготове.
Малейшее промедление в исполнении приказания могло вызвать приступ жесточайшего гнева. Настроение герцога нельзя было учесть заранее.
— Какие дела сегодня, Ласфельд? — спросил его герцог.
Ласфельд одну секунду изумленно посмотрел на него.
Как он может быть спокоен и так владеть собою после того, что случилось утром, после всего того, что рассказывала прислуга нового дворца.
— Я спрашиваю, какие дела у нас? — услышал он вторично голос Альфреда.
— Все готово, все лежит в кабинете вашего высочества.
Альфред встал и пошел. Ласфельд двинулся за ним.
Герцог сел за свой письменный стол и пробежал телеграммы и отчеты, пришедшие за истекший день из Кронбурга.
— Изволите, ваше высочество, принять сегодня кого-либо? — спросил адъютант.
— Нет, никого, — вскричал герцог.
Его губы дрожали, ноздри раздувались от ярости.
— Я думал…
— Что такое вы думали?
— Его превосходительство министр финансов господин Гринберг…
— Гринберг?
Это имя поразило теперь Альфреда, как будто он слышал его сегодня в первый раз. Наконец он вспомнил, кто доставил ему миллионы на постройку Герцогштейна и о ком он совсем забыл.
— Гринберга, говорите вы? Я приму его. Подождите, Ласфельд. Пусть он пройдет в комнату адъютанта. Я не могу его видеть, но хочу переговорить с ним. Он должен говорить со мной через полуотворенную дверь, предупредите его, Ласфельд. Где он?
— Все будет исполнено, как изволили приказать. Он находится внизу в Гогенарбурге и уже три дня тщетно ждет аудиенции. Я сейчас предупрежу…
— Нет, нет! Он должен быть в адъютантской, понимаете, Ласфельд?
— Как прикажете, ваше высочество. Он находится в Гогенарбурге потому, что в Кронбурге не знают, что ваше высочество изволили переехать в Герцогсбург.
— И не должны знать. Как вы думаете, Ласфельд, могут солдаты моей армии взобраться на эту гору.
— А как вы сами полагаете, ваше высочество?
— Никак, позовите Гринберга.
— Но…
— Что вы медлите? — загремел голос герцога.
— Я всеподданнейше позволю себе возразить…
— Мне — никаких возражений!
— В ваших же собственных интересах. Его превосходительство давно не получал никакой милости. В целях достижения ваших желаний! Я позволю себе настоятельно просить принять его превосходительство лично и не разговаривать с ним через дверь.
Результат от этих слов получился самый неожиданный.
— Хорошо, я переговорю с Гринбергом с глазу на глаз, Ласфельд, — сказал Альфред совершенно спокойно. — Да, вы правы: в целях достижения моих собственных желаний.
— В таком случае, я сейчас уведомлю его превосходительство.
Фон Ласфельд удалился.
Альфред совершенно овладел собою. Он прочел письма, лежавшие перед ним на золотом столике, спокойно, одно за другим и делал, по своему обыкновению, пометки на полях.
Через несколько минут в сопровождении адъютанта явился Гринберг.
— Оставьте нас одних, Ласфельд.
Адъютант вышел.
— Садитесь, ваше превосходительство, — начал Альфред, — я должен сообщить вашему превосходительству нечто весьма важное. Вы знаете развалины на острове Герцогштейне?
— Нет, ваше высочество.
— Это ничего не значит. Я решил выстроить там новый дворец.
Министр изменился в лице. Это не укрылось от Альфреда.
— Ну-с, ваше превосходительство.
— Ваше высочество изволите видеть, что я совершенно изумлен. Оба дворца, там и на острове, еще далеко не закончены, а вы изволите говорить…
— Да, о новой постройке. Вы на то и министр и должны достать мне денег. Я закончу то, что уже начато, и начну новое, что я теперь проектирую.
Словно какое-то глухое рычание слышалось в сильном голосе герцога.
— Я не знаю, ваше высочество…
— Чего вы не знаете?
— Я не знаю, как ландтаг и народ внесет проценты за занятые миллионы, несмотря на повышение налогов, и вдруг…
— А мои личные средства, мой цивильный лист?
— Насколько я знаю, личные средства вашего высочества в настоящее время истощены.
— Истощены!
Это страшное слово прозвучало в ушах Альфреда, как крик боли.
— Что вы сказали? Истощены?
— Да, я сказал это, я должен был сказать это! Каждый день в гофмаршальскую часть в Кронбурге поступают счета, по которым нечем платить. К вашему высочеству начинают приставать, как к самому обыкновенному должнику.
— Что?! — загремел Альфред. — У кого хватит духа приставать ко мне, герцогу? Кто это смеет?
— Поставщики вашего высочества.
— Неблагодарные!
Альфред был вне себя. Крупная дрожь прошла по его телу. Он зарыдал, как дитя.
— Что же мне делать, Гринберг? Посоветуйте, помогите мне.
— Вашему высочеству в самом деле угодно выслушать мой совет?
— Да.
— Хорошо. Нужно вернуться в Кронбург, во дворец, приостановить все дальнейшие постройки. Истрачено уже несколько миллионов, и нужно сначала их заплатить.
— Вернуться в Кронбург? Никогда! Приостановить постройки? Никогда! Такова моя воля! Я герцог!
— Ваше высочество спрашивали у меня совета, и я повиновался вашему желанию! Так дальше не может продолжаться. Страна накануне финансового краха.
Альфред горько рассмеялся.
— Это говорите мне вы, взявший на себя обязательство из земли достать миллионы. Ха-ха-ха! Вы плохой финансовый гений. Я буду строить дальше. Будут выпущены новые займы, и я докончу все дворцы, поняли? Пусть продадут коронные драгоценности, пусть обратятся к иностранным дворам с просьбою о займе. Я отдам в залог герцогство, распущу армию, если без этого нельзя будет обойтись, но все-таки буду продолжать постройки. Нужно уметь доставать мне деньги! На днях в ландтаг будет внесено мною предложение об увеличении цивильного листа и об отпуске первого взноса в тридцать миллионов, для начала построек в Герцогштейне.
— В таком случае…
— Знаю, знаю! Я найду других! Я знаю, знаю! Хоть сегодня!
Гринберг отвесил глубокий поклон.
Альфред усмехнулся про себя.
— Кого же вы наметили себе в преемники, ваше превосходительство?
— Ваше высочество, во всей стране я знаю только одного человека, который способен привести ваши дела в порядок.
— Единственный человек?
— Да, ваше высочество.
— Кто же это?
— Я не решаюсь назвать здесь его имя.
— Я приказываю вам.
— Это Бауманн фон Брандт.
Альфред ответил:
— Никогда! — таким страшным голосом, которого потом министр никогда не мог забыть.
— Лучше пусть гибнет герцогство, чем он!
Аудиенция была окончена.
XXXII
Почти в то же самое время, когда министр Гринберг был уволен в отставку, в Кронбург прискакал курьер. Он направился в соединенное министерство и вручил там строгий приказ, чтобы долги, вызванные постройкою двух дворцов, были уплачены безотлагательно и чтобы в ландтаг внесено было предложение об отпуске дальнейших тридцати миллионов для герцогских построек.
Внизу энергичными, крупными буквами было написано: «Пребываю к вам неблагосклонный! Альфред».
Гринберг и его министры не знали, что делать. Они послали извещение князю Филиппу, который одиноко жил в своем Филиппсбурге с тех пор, как Адельгейда несколько лет тому назад вышла замуж за одного иностранного принца. Под председательством князя состоялось экстренное заседание придворных чинов и министров.
Вся столица пришла в невиданное до сих пор волнение. Газеты печатали длинные статьи и злые заметки о совершенно нелепом финансовом хозяйничанье герцога; невероятные слухи о его ночном образе жизни, о котором приходилось слышать из уст придворных слуг, распространялись во все стороны и передавались из уст в уста.
Ужас, предчувствие того, чего еще никогда не приходилось переживать, охватило всю страну.
Князь Филипп колебался и не мог решиться на что-нибудь. Он был единственным братом покойного герцога Бернарда, на нем, как на главе герцогского дома, лежала теперь обязанность принять нужные меры. Он же должен был принять вместо племянника бразды правления, и это обстоятельство значительно затрудняло его действия. Взоры страны и народа были устремлены на него, давно державшегося вдали от дел, а теперь вдруг ставшего центром всего.
Первое заседание прошло безрезультатно. Князь Филипп уклонялся, говоря, что нужно назначить комиссию и послать ее в Гогенарбург к его высочеству. Нужно всеподданнейше просить его отказаться от его планов, вернуться в Кронбург и там вести очень строгий образ жизни, чтобы мало-помалу погасить огромные долги.
Это щекотливое поручение было возложено, по желанию князя Филиппа, на личного секретаря герцога и двух придворных сановников.
Через двадцать четыре часа они вернулись в Кронбург ни с чем. Они не были приняты ни днем, ни ночью. Ворота нового дворца были заперты.
Князь Филипп решился на чрезвычайный шаг. Он обратился за советом к своему старому другу Бауманну фон Брандту, который стоял во главе правительства при его брате и которого Альфред с таким легким сердцем устранил от дел.
И вот этот человек, с лицом хищной птицы, наводивший страх на Матильду в Лаубельфингене, сидел лицом к лицу с князем в его Филиппсбурге.
— Ваша светлость приказали явиться? — спросил он.
— Я пригласил вас, ваше превосходительство, в качестве старинного советника моего покойного брата. Скажите, что делать?
— Ваша светлость желаете оставаться на почве конституции этой страны?
— Конечно.
— Хорошо. Конституция нашей страны гласит: если царствующий герцог по болезни или другим причинам не может исполнять своих обязанностей более, чем в течение одного года, то назначается регентство. Этим как раз разрешается настоящий случай. На вас, ваша светлость, лежит обязанность безотлагательно уведомить ландтаг через министерство и придворных о вступлении в силу закона о регентстве.
Князь Филипп невольно отступил шаг назад.
— Ваше превосходительство! — в испуге вскричал он. — А как же он?
— Он болен. Его образ жизни дает неопровержимое тому доказательство. Его стремление уединяться, страсть к роскоши и тратам, которая не соотносится с имеющимися средствами, показание дворцовых служителей, странное устройство его дворцов — все это дает достаточно поводов для того, чтобы ваша светлость могли выступить.
Лицо князя Филиппа сделалось бледно, как полотно.
— Вы говорите, что я должен, что я обязан выступить?
— Вы обязаны сообщить стране, что его высочество герцог Альфред, вследствие помрачения умственных способностей, по решению царствующего дома, министерства и придворных чинов устраняется от престола и что дела правления переходят в руки вашей светлости, как законного регента.
— А кто возьмет на себя ответственность за этот важный шаг? Кто знает, какие он будет иметь последствия?
— Я, ваша светлость, если вы мне дадите соответствующие полномочия. Одного освидетельствования состояния здоровья герцога будет достаточно в виду характера его заболевания.
— Ужасно… свидетельство… смертный приговор, хотите вы сказать! Есть у вас под рукой врачи, которые решатся объявить царствующего государя помраченным, врачи, у которых хватит духа низвергнуть с недосягаемой высоты любимца народа, его обожаемого герцога?
— Да, у меня есть врачи. Я проведу это дело, если ваша светлость немедленно объявите регентство и назначите меня вашим ответственным министром-президентом. Ибо только в качестве министра-президента я могу взять на себя ответственность за все.
— Нет, нет. Я не могу объявить регентство прежде, чем я не уведомлю моего племянника, законного государя этой страны.
— Вам так же мало посчастливится в Гогенарбурге, как и комиссии, ваша светлость. Вчера она вернулась в Кронбург ни с чем. Ее заставили простоять напрасно перед запертыми воротами его дворца. Хорошо еще, если вас не прогонят силой.
— Силой! Ваше превосходительство рисуете мне призраки революции.
— И с возможностью революции надо считаться, ваша светлость. Нельзя считаться только с одними горными крестьянами. Герцог должен быть устранен с престола и, как больной, передан в руки врачей. Иначе я ни за что не ручаюсь.
— Какой ужас! Нет, нет и нет! Это нападение из-за угла! Нет! Что скажет свет, что подумает Кронбург и горные жители? Нет, он должен оставаться герцогом, пока не узнаем о решении герцогской семьи, придворных чинов и министерства.
— Как прикажете, ваша светлость. Но я не ручаюсь ни за что. Я позволю себе дать вам еще один благой совет: как можно скорее привести гарнизон Кронбурга к присяге на ваше имя и распорядиться, чтобы он держался наготове… ибо… его высочество, в своем болезненном состоянии, способен на все!.. Измена! Революция! Я очень советую вам быть осторожным.
— Я соглашаюсь с вами. Манифест должен быть написан на основании врачебного освидетельствования и решения герцогского дома и министерства. Но ни под каким видом я не соглашусь действовать без официального уведомления моего племянника. Пусть будет, что будет. Он должен узнать об этом прежде, чем будет извещена страна. На кого бы мне возложить это поручение?
— Я предложил бы вашей светлости назначить, в качестве регента, особую государственную комиссию. Она могла бы состоять из министра-президента нового министерства, двух членов из придворных чинов, двух штаб-офицеров герцогской армии и, наконец, из врачей, которым будет поручено лечение герцога. Эта комиссия могла бы произвести освидетельствование его высочества, а затем перевезти его и заключить в какой-нибудь из дворцов.
— Это ужасно! — повторял беспрестанно князь Филипп.
Он подошел к окну и закрыл лицо обеими руками. Неумолимый Бауманн фон Брандт, который, по-видимому, уже давно обдумал этот ужасный план, казалось, не замечал его слез.
— Какой же дворец ваше превосходительство наметили для заключения, как вы выражаетесь, моего несчастного племянника?
— Можно, пожалуй, в Герцогсбурге… нет… его положение слишком опасно… на вилле… Нет, слишком далеко от Кронбурга… Позвольте… Для этой цели лучше всего был бы Турм, ваша светлость.
— А озеро, Лаубельфингенское озеро! — воскликнул князь Филипп, объятый смертельным страхом.
— Его будут внимательно стеречь. Слишком близко от Кронбурга, мне бы этого не хотелось, но и слишком далеко где-нибудь среди горных крестьян — тоже нежелательно. Турм как раз годится. До него легко добраться и вместе с тем он достаточно далеко от Кронбурга. Главный доктор и его ассистенты будут ответственны за него перед вами и мной, его жизнь должна быть неприкосновенна.
— И когда вы думаете осуществить все это?
— Безотлагательно, ваша светлость, сегодня же ночью. Прежде, чем учреждение регентства не будет свершившимся фактом, и прежде, чем отзыв моих врачей не будет безусловно не в пользу герцога, никто не должен даже догадываться об этом в Гогенарбурге, никто не должен знать об этом в Кронбурге.
— Уже сегодня ночью?
— Да. Он имеет обыкновение обедать около полуночи. Если я явлюсь с членами комиссии в Герцогсбурге часа в три ночи, то есть надежда, что он нас примет. Я прошу полномочий вашей светлости, как регента этой страны…
— Вы слишком торопитесь, ваше превосходительство. Он еще пока герцог.
— В силу этих отзывов, не слишком.
И с этими словами Бауманн фон Брандт вынул из кармана несколько бумаг.
— Это отзывы первых медицинских авторитетов нашего герцогства, данные под личною их ответственность, — произнес он, подавая бумаги князю Филиппу.
Тот углубился в чтение.
— Вы быстро обделываете дела, — горько сказал он, — очень быстро. Герцог Альфред всегда долго колебался подписывать смертный приговор, хотя преступление и было доказано, он не хотел умерщвлять кого бы то ни было, а вы…
— Мой благой совет остается только советом, ваша светлость. Пока еще зависит от вас и от членов государственного совета считать герцога Альфреда здоровым. Я только не понимаю в таком случае, для чего меня сюда вызвали. Назначьте министром Гринберга или еще лучше упросите герцога, чтобы он вернул ему свою милость. Последствием этого будет новый заем, разорение отечества и гибель герцога, предотвратить которую невозможно, по мнению моих медицинских авторитетов.
— Мне трудно понимать вас, ваше превосходительство.
— Согласен. Итак, все выяснено?
— Кроме формы.
— Что значит: кроме формы?
— С его высочеством будут обходиться, как с герцогом, а не как с больным, пока он не получит извещения о назначении регентства.
— Ваша светлость, очевидно, недостаточно осведомлены о характере этого заболевания.
— Что вы хотите сказать?
— Его высочество, по заключению врачей специалистов, не всегда болен.
— Не всегда болен? А что если вы… если мы… здорового… какой ужас!
— Я сказал «не всегда». Здоровое состояние духа уравновешивает в нем больное. Он думает логично, действует последовательно, он в состоянии принимать нужные меры, которые так же разумны, как меры здоровых людей. Он принадлежит к числу высокоодаренных государей, в некоторых вещах он прямо гений, умница, с которым нельзя обращаться, как с больным. Так говорят мои доктора!
— И на основании такого отзыва нужно совершить нечто неслыханное?
— Нужно это совершить, ваша светлость, в интересах целой страны, которая пришла на край гибели, благодаря болезненным наклонностям своего государя. Его склонность к уединению, его нежелание иметь дело с ответственными чинами правительства, своеобразность его обхождения с народом и слугами, припадки ярости, поездки в золотом экипаже, исчезновения в подземный грот или на эти покрытые льдом горы — все это достаточно говорит за себя.
— Но, может быть, это в конце концов причуды великого человека, которого положение ставит выше миллионов людей?
— Можно называть и так, ваша светлость, и тем не менее… Его мания величия, его страх преследования! Я не вижу другого спасения для страны. Соберите государственный совет, ваша светлость, и объявите регентство.
— Я прошу дать мне два часа на размышления. Потом я сообщу вашему превосходительству о моем решении.
Бауманн фон Брандт удалился.
Потрясенный князь Филипп опустился в кресло.
Долго сидел он перед своим письменным столом и думал. Должен ли он, смеет ли он, вопреки народу, миру, человечеству, самой истории, низвергнуть с высоты знаменитейшего из современных государей, перед которым преклоняются в прахе миллионы людей? Что из этого выйдет, чем все это кончится? Ненадежен казался ему Альфред, ненадежен народ и горные крестьяне, взиравшие на герцога, как на некое божество.
Он был истинный король в царстве духа, искусства, всего прекрасного в области высших человеческих благ, обожаемый женщинами, носимый на руках мужчинами, и вдруг… Следует ли доверять Бауманну фон Брандту?
Да, доверять ему нужно. В этот час отечество повелительно требовало от него этой жертвы.
Самый прекрасный, самый гениальный из людей последней четверти века должен был пасть со своей солнечной высоты, как Икар, предпринявший полет по следам колесницы божества.
Князь Филипп заплакал. Он плакал о своем племяннике. Чего только он не задумал, чего только не настроил! Какое сказочное царство красоты! И тем не менее!
И он отдал приказ о том, чтобы собрали совет, который должен был принять окончательное решение.
XXXIII
Тяжелые дождевые облака раннего лета нависли над изумительной постройкой нового дворца — Герцогсбурга. Словно фантастические туманные чудовища, приплыли они с запада, остановились на отвесных скалах высоко поднявшихся гор, над потускневшей поверхностью обоих озер и набросили на голову горных великанов причудливый убор. Уже три дня не было видно солнца. Непрерывно шел дождь. Лиственницы и сосны волшебного леса плакали тысячами капель слез. Молча, беззвучно, мрачно стояло огромное серое здание. Перед его крепко запертыми воротами взад и вперед шагали часовые с заряженными ружьями и с примкнутыми штыками.
— Не пропускать никого!
Таков был последний строгий приказ герцога, который он отдал Ласфельду.
В этот туманный день, который с трудом можно было отличить от ночи, по извилистой дороге, шедшей от деревни на вершину гор, приближалась к воротам дворца женская фигура. Чтобы защититься от дождя, она накинула капюшон своего платья на белокурую голову. Видимо, она пришла издалека, она приближалась медленными, усталыми шагами.
Наконец она достигла места, где стоял часовой.
— Стой! Нельзя идти!
Солдат загородил ей путь ружьем.
Она опустила капюшон, показалось свежее милое раскрасневшееся от возбуждения личико, обрамленное густыми белокурыми волосами, с огромными голубыми глазами.
— Я Христина, дочь содержателя гостиницы в Обервальде, — сказала она солдату. — Герцогу грозит опасность, я знаю это наверняка. Он знает меня, я поила всегда его коня и подносила ему букеты цветов. Пропусти меня!
— Проходи дальше, — упрямо сказал часовой. — Нам дан строгий приказ не пропускать никого.
— Нет, — твердым тоном возразила девушка. — Я уже несколько часов в дороге. Наш крестьянин Зепп, который служит на военной службе в Кронбурге, пришел к нам вчера вечером. Он уволен в отпуск на праздники, понимаешь?
— Ну? — спросил, заинтересовавшись, солдат.
— Он рассказывал в Обервальде, что герцога хотят схватить, что они уже двинулись в путь, что они добьются пропуска во дворец и силою овладеют герцогом.
— Неужели? — сказал солдат.
— Наш земляк знает это точно. Полки, стоящие в Кронбурге, получили приказ быть готовыми к выступлению. Только очень немногие, для отвода глаз, получили отпуск. Князь Филипп хочет занять престол. Это будет объявлено, а герцога куда-то увезут.
Часовой подошел к воротам и дал звонок.
Появился караульный офицер, которому Христина рассказала то же самое.
Офицер послал за фон Ласфельдом.
Через несколько минут адъютант явился. Он увел Христину в кордегардию.
Около одного из окон дворца была видна высокая фигура. Окно было открыто настежь.
— Ласфельд, — раздался голос Альфреда на тихом дворе.
Адъютант вошел вместе с девушкой.
Острый взор Альфреда тотчас узнал дочь обервальдского трактирщика. Целый ряд воспоминаний хлынул на него.
Он сделал знак.
— Позовите ко мне эту девушку, Ласфельд.
Белокурая Христина шла за офицером, ослепленная роскошью этих апартаментов, о которых столько говорили не только в Обервальде, но и повсюду в горах.
Наконец она очутилась перед герцогом.
— Христина! — вскричал Альфред и протянул ей руку. — Сегодня ты не принесла мне букета горных цветов!
— Нет, ваше высочество, дороги в горы теперь непроходимы. Я едва добралась сюда. Вместо цветов я сегодня принесла вам нечто, что доказывает мою преданность вам. Будьте настороже, ваше высочество, они хотят схватить вас.
Крик отчаяния и ярости вырвался у Альфреда.
— Они? Кто они? — загремел он.
— Князь Филипп, ваш дядя. Он хочет взойти на трон.
— Кто тебе это сказал, Христина?
— Наш земляк Зепп принес эту новость из Кронбурга. Тогда, несмотря на туман и ночное время, я сейчас же пустилась в дорогу. Будьте настороже, ваше высочество.
Альфред в отчаянии бил руками по воздуху. Он был вне себя. Что делать?
— Это возможно, это правда, Ласфельд, — бормотал он.
— Ваше высочество, я, право, не знаю… определенность, с которой эта девушка…
— Они явятся сегодня же, — повторяла белокурая Христина, — будьте настороже.
Альфред уже не слушал ее. Он даже не смотрел на нее.
— Государственная измена, — прохрипел он. — Измена герцогу, Ласфельд. Дайте мне совет, помогите мне!
С минуту Ласфельд оставался в глубоком молчании.
Тут герцог опять заметил Христину, которая стояла перед ним ни жива, ни мертва.
— Благодарю тебя, Христина, — сказал он. — Надо дать ей что-нибудь съесть. Слышите, Ласфельд.
— Слушаю, ваше высочество.
Ласфельд повел девушку в боковую дверь и приказал лакею накормить ее.
Когда он вернулся, Альфред сидел на своем золотом кресле перед письменным столом, погрузившись в свои мысли.
— Что мне делать, Ласфельд? — забормотал он опять.
— Ваше высочество, мой совет — воспользоваться временем. Если те, о ком говорит эта девушка, уже в дороге, то тут уже не простые слухи, порожденные вполне понятным опасением за безопасность вашего высочества. В таком случае время не терпит и надо действовать.
— Как действовать?
— Прикажите, ваше высочество, сейчас же приготовить поезд, и прежде, чем они подъедут ко дворцу…
— И…
— Поезжайте сейчас же в Кронбург, покажитесь вашей столице, князю Филиппу, министрам, членам совета и своим появлением рассейте все слухи, которые ходят насчет вашего высочества. Мне кажется, это единственный путь к спасению.
— К спасению? Почему вы сказали: к спасению? А кроме того — слухи… Какие такие слухи могут ходить обо мне? Что вы разумеете под этими слухами? Что я трачу деньги, что я строю дворцы, что для меня эти горы и их жители приятнее, чем Кронбург и его население? Да, это все знают. Что же еще про меня говорят? Что они хотят сделать со мной?
Большие глаза Альфреда были пристально устремлены на побледневшее лицо адъютанта. Ласфельд невольно отступил назад и сказал:
— Я не знаю, какие меры хотят принять против вашего высочества. Но, кажется, что-то затевается. Поэтому мой благой, да позволено мне будет сказать, дружеский и всеподданнейший совет — распорядитесь немедленно об отъезде в Кронбург и покажите там, что все то, что говорят о вас, неправда.
— А что говорят обо мне? Под страхом моей герцогской немилости приказываю вам дать мне немедленный ответ.
— Я не могу дать определенного ответа на этот вопрос, ваше высочество, ибо уже несколько недель я нахожусь безвыездно здесь, а не в Кронбурге. Но если верить намекам заграничных газет, которые иногда попадаются мне на глаза…
— Ну, что же там такое? — загремел Альфред.
— Конституция этой страны знает только одну причину, на основании которой возможно низложение царствующего государя. Вашему высочеству конституция наша известна — вы изволили присягать ей.
— Только одну причину?
И вдруг все стало ясно Альфреду.
— Они хотят объявить меня идиотом, Ласфельд, — закричал он. — Возможно ли это? Смеют ли они это? Кто в целом герцогстве осмелится на это? Пусть подадут мне вина! Что вам об этом известно, Ласфельд?
— Мне известно очень немного, ваше высочество. Я только знаю, что это по конституции есть единственный повод и…
— И?
— И что к числу советников князя Филиппа принадлежит уволенный министр-президент Бауманн фон Брандт.
Альфред вдруг рассмеялся.
— Верно! Бауманн фон Брандт. Я должен был приказать, чтобы ему перерезали горло. Лисиц, которые попадают в капкан, щадить нечего, это напрасная сентиментальность.
Адъютант в ужасе посмотрел на герцога.
Неужели он опять?.. В течение нескольких последних недель он был так тих и разумен. Днем он оживал, предпринимал далекие прогулки в горы, и мрачные демоны пережитой, по мнению Ласфельда, эпохи как будто отступили от него. И вдруг…
— Да, да, следовало перерезать горло этой лисице, — снова повторил Альфред. — Изменник, который злоумышляет против меня вместе с моим дядей.
— Что вашему высочеству угодно будет решить? Я жду немедленного приказа. Поезд в Кронбург… Стоит сказать одно слово начальнику станции…
— Нет, нет и нет! Мы их встретим пулями, мы дадим им достойный герцога ответ, друг мой.
Голос Альфреда звучал, как рев бури, которая клонит долу гигантские деревья его горного леса.
— Я не знаю, ваше высочество, не будет ли этот способ…
— О, замок достаточно крепок! Они даже не предчувствуют, как он крепок! А моя армия присягала мне! Горные жители, жандармы, пожарные окрестных деревень все должны сплотиться вокруг меня. Я сейчас напишу сам приказ. Посмотрим, насколько хватит смелости у этих изменников. Пошлите по телеграфу приказ ближайшему батальону, чтоб он выступил на защиту своего герцога и занял Гогенарбург и этот дворец.
— Распоряжение вашего высочества будет немедленно исполнено. Клянусь до самой смерти сохранять верность вашему высочеству.
— Верность до гроба, — сказал Альфред. — Благодарю вас, Ласфельд. Ни в горах, ни в этом дворце не найдется никого, кто бы нарушил эту верность. Я встречу их пулями. Мой замок неприступен и может пасть только путем измены.
Альфред ходил по раззолоченному кабинету, как будто он уже одержал полную победу. Здесь он издал приказ, чтобы его дворец заняли жандармы из окрестных местностей, а батальон был мобилизован.
— Они ошибутся, кронбургские лисицы и змеи, — шептал он.
Потом он подошел к окну. Стены этого дворца, сложенные из квадратных плит, взятых из его любимых гор, дадут ему надежную защиту, если только в этих стенах не найдется изменников. Не найдется изменников? Но разве он может быть уверен в них, начиная от Ласфельда и кончая последним конюхом, которому поручено чистить серебряные копыта его старого Рустана?
Да, да! Те, которые сидят в Кронбурге, ненавидят его, они не понимают его, да и не могут понять. Но верный его народ в горах, голубоглазый народ, для которого он был богом? Только по груде их трупов можно будет войти в замок, он уверен в этом!
Они принесут последние ружья из своих хижин, достанут последние топоры со своих дворов, поспешат из своих нор на его защиту и сложат в окопах свои головы за герцога! Он представлялся себе в этот день, в этот решительный час, настоящим героем, в первый раз — военным героем!
И его замок святого Грааля представлялся ему теперь неприступным для злых сил, живущих там, в глубине.
Они придут сюда, и он встретит их, как встречали своих врагов, изменников Нерон и Калигула, Иван Грозный и султаны османского царства. О, он так ждет их прибытия. Они должны узнать, кто царствует над этим золотым царством, кто повелитель этой задохнувшейся равнины.
— Узнают они горного орла!
И он смеялся от какого-то дикого сладострастия.
Он придумает для них такие пытки, каких не сумел еще придумать ни один государь и каких не придумает и после ни один из них. Он бросит их тела диким птицам своих гор, украсит стены замка венком из их окровавленных голов, вырвет еще при жизни их фальшивые языки и прикажет их жарить долго, долго на очаге своего дворца. Да, непременно. Пусть только они придут. Бауманн фон Брандт, этот человек с лицом хищной птицы, которого он ненавидел, вот он-то и придет! Он будет держать его в клетке, как дикого зверя, и будет его пытать, пытать каждый день, пока смерть от руки палача не покажется ему истинной милостью. Так он поступит со всеми теми, которые отважатся посягнуть на величие его личности, на его высокое положение, на него, помазанника Божия, государя, который царствует самодержавно!
— Ха, ха, ха! — громко рассмеялся он.
Он был один. И все-таки пусть они придут, здесь, в неприступном замке, он готов их встретить!
XXXIV
Решающее объединенное совещание министерства, государственного совета и врачей состоялось под председательством князя Филиппа. Бауманн фон Брандт добился того, чего хотел. Старательно собранный им документальный материал, отзыв четырех врачей, выдающихся авторитетов в своей области, наконец показания дворцовых слуг — все это не оставляло никакого сомнения в том, что герцог Альфред болен. Быстрый образ действий сделался теперь необходимостью, и тем не менее князь Филипп еще медлил!
Он не мог и не хотел решиться на страшный шаг, который, как он предвидел и предчувствовал, должен был повлечь за собой неисчислимые беды. Бауманн фон Брандт приезжал к нему несколько раз, и каждый раз получал от него ответ, что он хочет еще некоторое время подумать. Наконец он нехотя уступил.
Ответственные чины короны, несмотря на возражение Бауманна фон Брандта, решили, по желанию князя Филиппа, что официальный манифест о назначении регентства будет обнародован и вступит в силу только тогда, когда Альфред, как царствующий герцог, будет уведомлен с соблюдением всех формальностей обо всем том, что произошло в Кронбурге. По настойчивому приказанию князя Филиппа, должностные лица даже тех мест, которые лежат ближе всего к новому дворцу, не были поставлены в известность о решении нового правительства. Даже в Кронбурге народ не знал, в чем дело, предвидели только нечто небывалое. Сообщения иностранных газет и иностранцев, живущих за пределами герцогства, опровергались под давлением князя Филиппа и его советников самым решительным образом.
В общем, однако, князь Филипп следовал совету старого, испытанного советника короны Бауманна фон Брандта. Как уже назначенный регент, он предоставил ему портфель министра финансов и сделал его министром-президентом.
По предложению Бауманна фон Брандта была созвана особая государственная комиссия, которая должна была передать герцогу Альфреду бумаги от князя-регента и приняться за его лечение, возможно снисходительное, как выразился князь Филипп. Комиссия состояла из министра-президента, из членов государственного совета Штейнгейма и Лехфельда, юстицрата Эринга, старшего лейтенанта графа Вейсенберга, доктора и его помощников.
Благодаря нерешительности князя Филиппа, комиссия запоздала выехать на целый день.
Была беззвездная, дождливая весенняя ночь, когда кронбургский поезд с советниками нового правителя остановился на небольшой станции, лежавшей у Гогенарбурга.
Выйдя первым из вагона, Бауманн фон Брандт невольно вспомнил о том знаменательном дне, когда много лет тому назад он также выходил здесь из вагона, чтобы известить восемнадцатилетнего герцога о смерти его отца и о вступлении его на престол. Несколько лет прошло после этого и каких лет!
Словно сияющее солнце, появился на небе этой страны этот юноша, а теперь, по его предложению, он должен погрузиться в вечный мрак!
Ни слова не сказал министр-президент. Его жестокие черты, казалось, были высечены из камня, были неподвижны, не выдавали ни одной его мысли. Никто не мог бы дать себе отчет в том, что испытал Бауманн фон Брандт в этот страшный час последних счетов с тем, кто некогда одним росчерком пера сбросил его со ступеней трона. Испытывал ли он удовлетворение или печаль, месть или горе, радость или страдание?
Заранее приготовленные для членов комиссии экипажи быстро ехали в Гогенарбург под высокими деревьями, поникшими от дождя.
Ничто не шевелилось в эту темную, как смоль, ночь. Ветер затих. Тяжело обвисли мокрые ветви высоких вязов, обрамляющих дорогу, и как бы плакали тысячами слезинок. Нигде ни одного огонька. Жуткая тишина лежала над уединенной долиной, которую этот несчастный, но обожаемый герцог любил больше всех других в своем герцогстве. Деревеньки, расположенные у подножия Гогенарбурга, видимо, спали, и их верные жители и не подозревали, что предстояло их герцогу.
Бауманн фон Брандт довольно кивнул головой. Так будет лучше всего, если он в эту же ночь быстро и без шума совершит свое неслыханное дело.
Мрачная решимость виднелась на тонком лице придворного врача, авторитет которого служил последней инстанцией в вопросе о смертном приговоре над герцогом, и которому теперь приходилось нести ответственность за все то, что может произойти.
Медленно продвигались экипажи по улицам деревни. Никого не было видно в окнах. Казалось, маленькая деревенька находилась в волшебном сне. Иногда то тут, то там лаяли собаки, вскрикивал проснувшийся петух.
На маленькой колокольне деревенской церкви стали бить часы, и бой их дрожа расплывался во мраке ночи.
Было три часа утра. В Кронбурге рассказывали, что это самое удобное время для переговоров с герцогом.
Из волн тумана, который словно траурной пеленой окутывал в эту ночь вершины могучих гор, проглянули очертания огромного замка св. Грааля и старинной крепости Гогенарбурга. Какая-то дрожь благоговения охватила Бауманна фон Брандта при этом величавом зрелище.
Там вверху жил некто, стоявший выше всех смертных! Он и теперь еще стоит выше всех людей! А он! Как волк, как лисица, крадется он в эту темную ночь, чтобы его…
Все было темно в замке и в Гогенарбурге. Неужели в конце концов его неправильно осведомили о привычках Альфреда?.. Неужели он, как и все другие люди, спит в этот час в своей раззолоченной кровати и не предчувствует ничего?.. Не похож ли он на Макбета, который убил сон?
Ни одного огонька ни в замке, ни в Гогенарбурге! Члены комиссии вопросительно глядели друг на друга. Бауманн фон Брандт быстро отдал приказ сейчас же ехать по широкой извилистой дороге к замку.
С трудом потащились лошади, уже сделавшие большой путь, по великолепной дороге, ведшей наверх.
Посланцы князя Филиппа молча сидели в экипажах.
Наконец поднялись на вершину скалы. Экипажи остановились.
Бауманн фон Брандт вышел.
Навстречу ему двинулся часовой.
— Именем его светлости князя Филиппа, регента этой страны, приказываю дать нам пропуск. Мы должны передать его высочеству герцогу его собственноручное письмо.
Солдат молча порылся в кармане и показал министру-президенту приказ герцога.
«Под страхом смертной казни не пропускать никого, даже комиссию. Кто будет пробиваться силою, того расстреливать по законам военного времени. Альфред».
Бауманн фон Брандт вздрогнул, прочитав этот приказ. Однако он овладел собою и сказал часовому:
— Позови караульного офицера!
Солдат покачал головой.
— Под страхом смертной казни мне запрещено покидать пост.
Тогда Бауманн фон Брандт сам дернул за звонок, который шел от ворот замка в помещение караула.
В мертвой тишине раздался дребезжащий звук колокольчика.
И вдруг во всех золотых залах, на лестнице, на башне загорелись тысячи свечей. Служителям было приказано при малейшем шорохе в эту ночь осветить все здание, как днем.
Бауманн фон Брандт сделал шаг назад. Зрелище было изумительное, но, очевидно… тут ко всему были готовы.
Очевидно, в Гогенарбурге уже знали об отъезде и прибытии комиссии, которое он держал в тайне. Теперь приходилось быть настороже: тут могло произойти все. А князь Филипп настоял на том, чтобы отложить официальный манифест о назначении регентства. В глазах народа не он был царствующим государем, а этот, герцог!..
Караульный офицер подошел к Бауманну. Выслушав его, он с сожалением пожал плечами.
— Все то, что ваше превосходительство изволите говорить, может быть, и верно. Но мы не получали об этом никакого извещения из Кронбурга. Мы имеем строгий приказ его высочества расстрелять каждого, кто вздумает пробраться в замок хитростью или силою. И мы исполним этот приказ нашего царствующего государя, будьте в этом уверены. Поступить иначе значило бы быть предателем. По желанию его высочества, комендантом этого замка и главнокомандующим его гарнизоном состоит адъютант его высочества фон Ласфельд.
— А эта бумага от князя?
— Князь Филипп пока для нас частный человек, ваше превосходительство. Герцог — Альфред. Мы присягали ему, и нас никто от этой присяги не освободит. Мы исполняем нашу обязанность.
За воротами послышалось бряцанье оружия. Караул стал под ружье.
— Заряжай, — послышалась команда. Бауманн фон Брандт ясно слышал ее.
— В таком случае, мы вернемся в Гогенарбург, и вы получите из Кронбурга дальнейшие распоряжения.
Бауманн фон Брандт сел в экипаж.
Обратно ехали тою же дорогой, ехали, что называется, ни с чем. Что же теперь делать?
Что такое произошло? Все деревни вдруг пробудились от сна. Освещение дворца было для них знаком. Народ спешил из всех ущелий и долин.
В карету Бауманна фон Брандта ударился камень и разбил вдребезги оконное стекло. Бешено гнали вниз лошадей, чтобы, по возможности, спасти членов комиссии. Явились жандармы и пожарные окрестных местностей. Они были вооружены с ног до головы и усеяли горную дорогу, готовясь защищать герцога.
Толпы крестьян с ружьями, цепами, крюками и топорами, вилами и ножами покрывали всю долину.
— На жизнь и смерть за герцога! — гремел многотысячный крик в мертвой тишине гор.
Этот крик доносился до Бауманна фон Брандта и его спутников, как глас суда.
В бешеной скачке неслись вниз экипажи.
Сотни факелов и огней, которые принесли с собою горные жители, светились во мраке этой ночи. И Бауманн фон Брандт понял, что они решились охранять гнездо орла.
Комиссия нашла убежище в покинутой кордегардии Гогенарбургского замка. Деревенский староста старался водворить здесь спокойствие: нужно выждать, не следует прибегать к насильственным действиям. Из уст в уста передавался слух, что, по приказанию герцога, двинулся в поход целый батальон, который будет здесь через час. Он освободит герцога и перестреляет изменников.
На небольшой телеграфной станции в Гогенарбурге шла лихорадочная работа. Бауманн фон Брандт хотел известить обо всем Кронбург, но телеграммы его решительно не приняли. Станция была предоставлена в распоряжение только одного герцога.
Приказ о выступлении одного батальона, подписанный Альфредом и комендантом фон Ласфельдом, был действительно отправлен в ближайший гарнизон. Теперь телеграф работал, передавая в Кронбург манифест Альфреда. В нем князь Филипп обвинялся в государственной измене вместе с членами государственного совета, армия призывалась сплотиться вокруг герцога, народ вооружиться и стать на его защиту.
Таков был высочайший приказ.
Он был отправлен коменданту столицы, который от имени герцога должен был передать его армии, генеральному штабу и офицерам.
Наконец Бауманну фон Брандту удалось послать пешком в ближайший город своего кучера, переодетого крестьянином. Там он должен был дать телеграмму его светлости князю Филиппу, в которой вновь назначенный министр-президент просил о немедленном объявлении регентства.
Министр-президент и его спутники остались дожидаться утра в помещении кордегардии. Что-то оно им принесет! Кроваво-красное, оно медленно поднималось над горными пропастями.
В девятом часу в Гогенарбурге появился офицер герцогской лейб-гвардии в сопровождении конвоя и предъявил приказ:
«Комиссию арестовать и представить безотлагательно для казни в мой замок. Альфред».
А из Кронбурга по-прежнему никаких вестей, никаких распоряжений, на основании которых можно было бы действовать энергично и успокоить население, приготовившееся к смертному бою за герцога.
Бауманн фон Брандт побледнел, как полотно.
«Для казни!» Что если он в самом деле имеет дело с людьми, готовыми повиноваться этому сумасшедшему?
Между тем распоряжения впавшего в безумную ярость герцога сыпались градом.
Бауманна фон Брандта должны доставить ему живого, он будет замучен до смерти на его глазах. Врачей, которые осмелились на такое дело, он велит изжарить на своей придворной кухне живьем и будет кормить их мясом своих собак. К остальным он будет милостив и велит сбросить их в зияющую пропасть горных ущелий!
Лишь бы только солдаты были здесь и подоспел батальон, который он вызвал, а за ним и вся армия, которой он приказал через коменданта Кронбурга хранить непоколебимую верность ему.
Вооруженный с ног до головы, Альфред стоял в золотой столовой возле Ласфельда. Он будет сражаться — и одержит победу, отомстит врагам, выдумает ненавистным дьявольскую, еще невиданную казнь.
Офицер герцогской лейб-гвардии не хотел слушать никаких объяснении: Бауманн фон Брандт с двумя своими спутниками должны идти в новый дворец. Там в ожидании дальнейших распоряжений герцога они должны быть заключены в башню над воротами, остальные будут содержаться под военным караулом в кордегардии Гогенарбурга.
XXXV
Через короткое время караульный офицер снова явился в Гогенарбург. На этот раз все члены комиссии, как пленники, были препровождены под сильным конвоем в новый герцогский замок.
Равнина и дороги к замку уподобились военному лагерю. Все меловые скалы были заняты вооруженными людьми, готовыми по первому знаку герцога броситься на приезжих из Кронбурга и покончить с ними. Они находились в угрожающем положении.
Доктор и его ассистенты сильно струсили при этом зрелище.
Дворцовый караул принял их. «Впредь до дальнейших распоряжений герцога», — как им сказали, их заперли в ту же башню над воротами, где находился уже Бауманн фон Брандт. Все представления, сделанные в Гогенарбурге, не привели ни к чему, не помогло и предъявление подписанного князем Филиппом указа о назначении регентства. Население этих гор хранило непоколебимую верность герцогу, казавшемуся для них божеством в хорошие и плохие дни, который и теперь был еще для них непоколебимым божеством.
Беспокойно ходил Альфред в своих раззолоченных апартаментах. Он часто подходил к окну, его взгляд блуждал по дивной панораме, которую теперь заволакивала тучка тяжелого летнего дождя. Ему вспомнились дни волшебного счастья, величавого царственного уединения, в котором он жил, высоко над всеми смертными людьми, а теперь?
Нет, он одержит победу, его телеграфный приказ уже пошел в Кронбург. Ласфельд уже вызвал верный батальон из ближайшего гарнизона. Его солдаты явятся и займут этот замок, поднимется весь его народ и окажет сопротивление изменникам. Он соберется около него, своего герцога, если только и здесь, в горах, не найдется изменника.
И тогда горе врагам его!
Горе Бауманну фон Брандту и его авторитетам — арлекинам и паяцам, которые осмелились посягнуть на его герцогское величие и в угоду другим объявить его, помазанника Божия, больным! О, он встретил бы их штыками и пулями, если б уже был здесь батальон, которого он так нетерпеливо ждал.
Вошел адъютант фон Ласфельд.
— Ваше высочество!
— Послали ли вы уже манифест к моему народу и войску, Ласфельд, отправлен ли уже приказ батальону и депеша его королевскому высочеству кронпринцу?
— Ваши приказания уже исполнены, ваше высочество. Комендант Кронбурга объявит столице ваш призыв к соблюдению присяги. Ответ его королевского высочества также скоро будет у вас в руках.
— Отлично! Все идет хорошо! О, негодяи! Я велю зажарить их живьем на моей кухне и кормить собак этим лакомством, понимаете? А для Бауманна фон Брандта и этих его авторитетов, обезьян его превосходительства, я выдумаю такую казнь, о которой никто еще не слышал! Я запру этих обезьян в клетку и буду показывать их народу, как первоклассную редкость. Да, да, да, все это я сделаю, Ласфельд.
— Ваше высочество! Ваша самоуверенность и мужество делают вам честь, но…
— Что но?
— Вашему высочеству не следует в такой решительный час упускать из виду и благоразумие.
— Благоразумие?
— Да.
— Говорите, Ласфельд.
— Положение, которое заняли власти в Гогенарбурге, заставляет задуматься.
— Что это значит?
— Если я не ошибаюсь, начальник округа отправил в Кронбург телеграфный запрос.
— О чем? И почему?
— Мне сказал об этом по секрету один чиновник герцогского почтамта.
— Запрос о чем?
— Я не смею этого сказать, ваше высочество…
— Я приказываю вам, Ласфельд.
— Запрос о том, действительно ли дядя вашего высочества, князь Филипп, назначил регентство…
— Регентство?
При этом слове Альфред побледнел, как полотно.
— Регентство, Ласфельд? — повторил он еще раз. — Это значит, что в Кронбурге за моей спиной украли мою корону.
— Да, ваше высочество.
— Да…
С минуту герцог стоял, как окаменелый.
— И начальник округа спрашивал об этом… и если ответ из Кронбурга?..
— Если ответ будет получен в утвердительном смысле, тогда, ваше высочество…
— Тогда?..
Ласфельд молчал.
— Нужно повесить изменников, Ласфельд, и этого начальника округа. Понимаете, Ласфельд? Это мой приказ. Пусть дворцовый караул немедленно выведет всех членов этой проклятой комиссии на двор замка и расстреляет их сейчас же на моих глазах, так приказывает благоразумие, Ласфельд.
— Ваше высочество!
— Идите, торопитесь исполнить мой приказ. Впрочем, подождите. Не на моих глазах, нет, нет! Я не могу видеть кровь! Нет, нет!
Ласфельд удалился.
Что ему делать? Неужели герцог в самом деле объявил своим манифестом кровавое военное право? Неужели это было единственным средством? А те в Кронбурге?..
В глубоком раздумье шел он по двору замка, направляясь к помещению караула, чтобы посоветоваться с караульным офицером.
Войдя в кордегардию, он увидел начальника местного округа. У него в руках была телеграмма, гласившая, что собственноручный указ князя Филиппа о регентстве, скрепленный ответственными министрами, вступил в силу.
Слезы стояли в голубых глазах человека, передававшего ему эту телеграмму. Высокий Ласфельд вздрогнул всем телом и зарыдал, как дитя.
Герцог погиб. Это известие из Кронбурга возвращало свободу членам комиссии, освобождало и его самого, и гогенарбургских властей от присяги на верность и делало из них государственных изменников, если бы они исполняли распоряжения лишенного престола и объявленного душевнобольным герцога.
В эту тяжелую минуту Ласфельд понял положение вещей.
Вследствие этой телеграммы, по распоряжению начальника округа, который брал на себя всю ответственность, члены комиссии были освобождены из-под ареста. Сначала вышел Бауманн фон Брандт, затем его спутники. С ближайшим поездом они вернулись в Кронбург.
Только доктор и его ассистенты остались в Гогенарбурге и ожидали страшного часа окончательной развязки, которая теперь была уже не за горами.
Пока Альфред воображал, что его приказы будут исполнены, пока он посматривал, не покажутся ли на западе равнины блестящие каски и ружья батальона, идущего на его освобождение, измена уже совершилась в кордегардии его собственного замка. При помощи какого-то обрывка бумаги он был смещен с престола и отдан на произвол доктора и его ассистентов.
Он еще не знал ничего, но уже предчувствовал недоброе.
Тихо вошел Ласфельд.
— Исполнено мое приказание?
— Ваше высочество…
— Исполнено мое приказание?
— Нет.
— Нет? Изменник!
— Я снесу это оскорбительное слово, ваше высочество. Начальник округа освободил из-под ареста членов комиссии. Телеграмма…
— Ха-ха-ха! — загремел Альфред. — А мой батальон?
— Я боюсь, ваше высочество, что он прибудет не так скоро, как я полагал.
— Чего же вы боитесь?
— Я боюсь, ваше высочество, что из предосторожности командование вашим батальоном будет передано в Кронбурге корпусному командиру.
— Разве я не герцог?
— Не знаю, ваше высочество, герцог ли вы теперь.
— Что?
В отчаянии Альфред замахал обеими руками и стал рвать на себе волосы.
— Что вы сказали, Ласфельд? Что мне делать?
— Опаснее всего медлить, ваше высочество. В вашем распоряжении всего несколько часов. Спешите ими воспользоваться. Бегите за границу! Телеграмма кронпринца еще в пути, ищите убежища у его королевского высочества кронпринца и его супруги кронпринцессы Матильды!
Словно молния блеснула на бледном, как полотно, лице Альфреда при этом имени.
— Голубка равнины кружится вокруг горного орла, Ласфельд, — сказал он вдруг. — Впрочем, вы этого не понимаете.
— Я, действительно, этого не понимаю, ваше высочество. Бегите на территорию соседнего дружественного вам государства. До границы всего несколько часов. Умоляю вас. Ручаюсь вам моей жизнью, что я благополучно доставлю вас туда. Следуйте за мной верхом по охотничьей тропе, выйдете через задние ворота, бежим к пропастям, оттуда на виллу и дальше ущельем!
— Нет! Я хочу сопротивляться им!
— В таком случае спешите в Кронбург, покажитесь народу, покажите стране, что вы не то, за кого вас принимают.
— Нет! Нет! Батальон явится сюда, Ласфельд, и я буду защищаться. Замок достаточно крепок. Что такое?
Кто-то постучал в дверь комнаты. Альфред вздрогнул.
— Это они, Ласфельд, это они. Все изменяют мне.
Вошел лакей.
— Телеграмма вашему высочеству.
Дрожащими руками раскрыл Альфред депешу.
«Поезжайте в Кронбург, но сейчас же. Отстаивайте сами свои права. Слышите — ваши права, перед ландтагом вашей страны. Матильда будет недалеко от вас, на озере, около Лаубельфингена. Мы сделаем, что можем. Кронпринц Карл».
— Голубка защищает орла. Видите, Ласфельд, Матильда находится недалеко.
— И ваше высочество едете сейчас в Кронбург?
— Нет! Я встречу их пулями!
— А если батальон… Герцог, герцог!
— Идите назад, — послышался голос лакея.
— Что там такое?
В это время какая-то дама, одетая в черное платье и с вуалью, вбежала в комнату!
— Кто вы? Что вам здесь нужно? — закричал герцог, охваченный страхом и ужасом.
— Она пробежала мимо часовых, по ней стреляли, но не могли ее удержать. Она бросилась наверх и разыскала апартаменты вашего высочества… какая-то сумасшедшая… — оправдывался лакей.
— Что вам здесь нужно и кто вы? — снова спросил герцог.
— Я иностранка. Я живу в Гогенарбурге для лечения. Герцог, ваше высочество, спешите в Кронбург, покажитесь столице, пока еще не поздно. Врач со своими помощниками ждут только ночи, чтобы схватить вас! Я это знаю точно. Спешите в Кронбург и покажите стране, что вы еще герцог.
— Нет.
Альфред подошел к окну.
— Они должны подойти! Мой батальон должен прийти! Таков был герцогский приказ! Если они не придут, это будет государственной изменой. Нельзя найти трех сотен герцогских подданных, которые все вдруг стали бы изменниками, нет! Нет! Нет! Они должны прийти!
— Герцог, — заговорила опять закутанная вуалью дама, — спешите в Кронбург и положитесь на народ, разорвите сеть придворной лжи, выступите перед представителями герцогства, покажитесь ландтагу. Тогда они не посмеют!
— Нет! Нет! Нет!
Только это роковое слово и срывалось с уст Альфреда.
Он вышел из комнаты.
Он не мог видеть эту даму, он чувствовал перед нею какую-то слабость, как будто он готов был уступить ей.
Ласфельд отправился за ним по пятам.
— Послушайте, Ласфельд, — вдруг сказал он. — Нужно защищать замок до последней крайности, пока не подоспеет на выручку нам батальон. Но на всякий случай приготовьте мне яду. Живым они меня не возьмут, и в ящик я запереть себя не дам. Меня им не удастся запереть живым, Ласфельд. Клянусь своей жизнью.
— Но, ваше высочество, — пытался успокоить его адъютант.
— Нет, Ласфельд, никогда. Если мне изменит этот батальон, как изменил этот начальник округа в Гогенарбурге, как изменил князь Филипп и все министерство, тогда я приму яд. Если мне не дадут этого, я брошусь вниз с отвесной скалы в пропасть. Живым я не сдамся, даже если…
— Даже если?
— Даже если погаснет последний луч надежды! Разве вы не читали, что Матильда находится недалеко. Не вы ли говорили, или эта женщина, что они хотят отправить меня в Турм?
— Так говорила эта женщина. Ваше высочество, все, что я теперь делаю, я делаю только из любви к вам. Из Кронбурга пришел приказ задерживать все телеграммы и письма на ваше имя. Об этом четверть часа тому назад сообщил почтмейстер из Гогенарбурга. Но по моей просьбе он отдал мне вот это письмо. Я передаю его вашему высочеству с опасностью, что меня обвинят в государственной измене и расстреляют в Кронбурге.
Альфред понял.
Он схватил Ласфельда за руку и сделал то, чего не делал ни с одним из своих подданных: поцеловал его в щеку.
— За верность, Ласфельд.
Он раскрыл небольшой пакет, который ему передал адъютант. На нем была печать с лебедем, которую он когда-то, много лет тому назад, подарил Матильде на своем Острове роз.
«Письмо, запечатанное этой печатью, я прочту даже в минуту своей смерти», — пронеслось вдруг у него в голове.
И он стал читать:
«Голубка орлу.
Я нахожусь в гостинице в одной маленькой деревеньке на берегу Лаубельфингена. Они повезут тебя на наш берег, в замок Турм, следуй за ними. Дальнейшие известия получишь в том тайном месте, знаешь, на озере, где когда-то мой челнок тайно причалил однажды ночью. Служитель в Турме, старик Венцель, предан тебе. Отдай ему золотой ключ и жди! Матильда».
Радость прошла по лицу Альфреда.
— Вы оказали мне величайшую услугу в жизни, Ласфельд, — сказал он. — Я очень благодарен вам.
— Из любви к вам, ваше высочество, — сквозь слезы отвечал верный адъютант.
Альфред подошел к окну.
— Они идут сюда, Ласфельд они идут!
— Да, они идут, ваше высочество, — мрачно отвечал адъютант.
На повороте горной дороги в самом деле видны были светлые мундиры и блестевшее оружие.
— Да это не стрелки! — вдруг в ужасе воскликнул Альфред.
— Нет, ваше высочество, это караул, присланный из Кронбурга. Он сменит дворцовый караул, и ваше высочество превратитесь в пленника. Меня арестуют и, как государственного изменника, отправят в столицу. Не забудем этого часа, ваше высочество, что бы потом с нами ни случилось, будем ли мы в казематах Кронбурга или на Лаубельфингенском озере.
— Не забудем, Ласфельд.
Герцог и его адъютант протянули друг другу руки.
Они стояли у окна и смотрели, как караул князя Филиппа сменял караул герцога.
— Изменники сдают мой замок! — зарыдал Альфред.
И он не ошибся.
Священный замок Грааля быль занят войсками князя Филиппа. Герцог превратился в пленника.
Минуту спустя Ласфельд в сопровождении двух офицеров ехал в Кронбург, где ему было предъявлено обвинение в государственной измене.
— Голубка ждет, — мрачным тоном повторял про себя Альфред.
XXXVI
Мертвая тишина царила теперь в золотых покоях дворца, по которому беспокойно ходил взад и вперед Альфред. Ласфельд уехал, проходили часы, а он не возвращался.
Наконец герцог понял весь ужас своего положения.
Манифест о назначении регентства был объявлен всей стране, он сам заперт в этом уединенном дворце, охрана которого так бесстыдно была поручена его врагам, и отрезан от всего мира. Изменники-слуги — вот кто теперь окружали его непосредственно.
Какой неблагодарностью платят ему теперь те, кто в течение десятков лет боготворили его и носили его на руках!
А тут еще придет этот страшный человек, научный авторитет которого с холодным смехом бросил его с солнечной высоты его славы в жуткий мрак величайшего из человеческих бедствий, придет с ассистентами и помощниками, как палач, который тащит на плаху неспособную к сопротивлению жертву! Он явится! Явится непременно!
Герцог стал похож на какое-то привидение. В высоких зеркалах золотых колонн отражалась его печальная фигура, перед которой он сам содрогался. Его лицо сделалось белым, как у мертвеца, ни кровинки в щеках, черные волосы свисали в беспорядке на его высокий белый лоб, походка стала колеблющейся, а великолепные большие черные глаза, на которые любовались тысячи народа, светились каким-то неприятным огоньком.
Беспокойно из залы в залу ходил он своим неверным шагом. Он уже не видал золота, не видал великолепных картин на этих мраморных стенах, представлявших сцены из творений маэстро и вызывавших в нем когда-то в часы его страшного уединенного счастья такой восторг.
Он мог сосредоточиться только на одной мысли — на единственном страстном желании во что бы то ни стало, даже ценою его герцогской жизни, убежать от этого человека, осмелившегося на такое дело. О, как ненавистен был ему этот человек!
Он еще поплатится, что бы из этого ни вышло! Что если он теперь, сейчас, ускользнет от этого человека, наложив на себя руки? Тогда победа будет выиграна.
И вдруг ему блеснул слабый луч надежды — письмо Матильды!
Конечно, они были всемогущи, они могли бороться и с кронпринцессой, и с ее любовью, ради которой она решилась освободить его!
Он переходил от окна к окну. Его взгляд скользил по любимым горам, окутанным туманом в этот дождливый душный день, свидетелям его детства и юности, восходящей звезды его бесконечного царства красоты и величия. Он должен теперь навсегда проститься с ними, с голубыми горными цветами, с озерами, блеск которых сегодня сменился серым, тусклым, свинцовым колоритом.
В конце концов лучше теперь же и сразу положить всему конец. Кто знает, этим ли ограничивается то, что предстоит ему вытерпеть от Бауманна фон Брандта и его кукол?
Плохо было бы для доктора, если б он нашел здесь труп, если б замок в тот самый момент, когда он войдет в него, опустел, если б он принудил герцога этой страны к самоубийству на глазах всего мира.
Да, он так и сделает. А Матильда? Голубка хочет помочь ему, но ведь это слишком поздно после всего происшедшего! Нет, они не поймают его, им не удастся захватить его!
С каким достоинством умирали герои Рима и мудрецы древности, о которых он читал, о которых он мальчиком учил в Гогенарбурге! Но ведь и он способен умереть с венком роз на голове, с кубком вина в руке!
Он сам не мог дать себе отчета, сколько времени он беспокойно, в полном одиночестве проходил по золотым комнатам.
Когда он опять подошел к окну, спускалась уже ночь. Дождь лил тяжелыми потоками на великолепные, теперь совсем потонувшие в тумане горы его любимой долины. Это облегчало ему прощание с ними, на него нашло какое-то ледяное спокойствие, желание смерти, если б край его царственной мечты предстал пред ним в этот последний день во всей своей величавой красоте.
Бросить все — корону и пурпурную мантию, которую у него украли, эти замки с их сказочной роскошью, бросить последнюю сладкую мысль о надежде, отвергнуть даже любовь Матильды — единственной, которая оказалась готовой сохранить свою верность до гроба! Погрузиться в сладкую нирвану, войти в сладкую Валгаллу, где ждут его герои седой старины, столь ими любимые Вотан и Брунгильда, Зигмунд и Зигурд! Да, да!
С твердой решимостью он подошел к двери и позвонил.
Немедленно явился лакей.
«И этот был изменником, как все они были изменниками, — пронеслось в голове Альфреда при виде лакея, поседевшего на службе герцога. — Один только старик Венцель в Турме сохранил верность, как пишет Матильда. Ах, если б он ей верил, если б он доверял ей, не было бы теперь нужды делать это!»
Нет! Он не может перенести, чтобы этот палач Бауманн фон Брандт и его помощники из этого неслыханной роскоши замка Грааля потащили его в Турм! Нет, никогда!
— Принеси мне вина, — сказал он лакею. — Побольше, понимаешь? Замороженного шампанского. Надо быть веселым, братец, и смыть с себя заботы. Вина, вина!
Лакей вышел.
С четверть часа сидел Альфред, погрузившись в глубокое раздумье.
Наконец явился лакей и принес то, что ему было приказано.
— Чего ты примешал к вину, мой милый? Что тебе дал этот доктор? Скоро же он действует!
— Никак нет, ваше высочество, клянусь жизнью, ничего не подмешано!
— А ты сделал бы лучше, если б положил в вино чего-нибудь, что быстро помогает, понимаешь? Действует быстро и верно и облегчило бы мне страшный прыжок в бездну.
Слуга налил бокал вина, которое Альфред выпил с жадностью. Потом он вынул из стола золотой портсигар и закурил папиросу.
Быстро пил он стакан за стаканом игристое шампанское.
— Теперь принеси мне ключ от замка Турм. Довольно пить.
Молча исчез старый лакей.
Альфред ждал.
Не послышались ли ему шаги нескольких людей по мраморным лестницам замкового двора?
Что это?
Он тихонько открыл дверь.
— Ключ от Турма! — крикнул он.
Вошел слуга.
— Ключ от Турма затерян, ваше высочество, — доложил он, заикаясь, — его никак не могут найти.
— Лжец, — закричал Альфред, — подлый лжец, предатель, я задушу тебя. В молодости меня звали Геркулесом, я расправлюсь с тобой по-своему, да и со всеми другими. Я хочу, чтобы ключ от Турма был здесь, слышишь ты. Ключ! Вот тебе мой герцогский приказ!
Слуга поспешил отойти от него.
Герцогский приказ!
Альфред мрачно засмеялся. Он уже больше не… Филипп… а он — больной… не герцог… с ним можно поступать, как угодно.
— Ключ, — заскрипел он зубами в припадке дикого отчаяния, — ключ от Турма!
Слуга исчез.
Альфред сел за золотой стол в столовой. Бутылка с шампанским была наполовину пуста. Он поспешно вылил то, что осталось.
Вдруг папироса выпала из его дрожащих рук. На этот раз он не ошибся, на этот раз это не было галлюцинацией его чересчур раздраженных чувств. На мраморной лестнице дворца слышны были какие-то голоса. Кто это говорил и с кем?
Он поспешил к окну.
А что если он распахнет его, одним прыжком очутится на плитах дворцовой мостовой и разобьется вдребезги у ног этого предательского караула, как некогда разбился у ног дворцовой стражи в Кронбурге драгоценнейший бюст Адельгейды? Что, если он это сделает?
Окно было крепко закрыто. С трудом удалось ему открыть высокие его половинки, разбухшие от бывших все эти дни дождей.
Вдруг вошел лакей и доложил:
— Ваше высочество, ключ от Турма нашелся.
Альфред бросился к двери, которая вела в переднюю.
Страшное «ах!», которого нельзя забыть, вырвалось у Альфреда при виде того, что представилось его глазам. Согнувшись в низком поклоне, перед дверью столовой стоял этот ужасный, ненавистный человек, которому он в эту минуту желал смерти. Его сопровождал его ассистент и целый штат больничной прислуги. Все входы в замок, все двери, все лестницы были заняты этими людьми.
Трепещущий свет свечей, зажженных по приказанию герцога на лестнице, освещал теперь высокую фигуру Альфреда посреди всей этой более чем царственной роскоши.
Робко отошли все в сторону. Никто не решался прикасаться к нему. Несмотря на знаки доктора, приказывавшего схватить его, ассистенты в благоговении отступали. Даже в эту минуту он был недосягаем и он это чувствовал.
Еще раз сорвалось с уст герцога это ужасное «ах!»
— Прошу ваше высочество возвратиться в ваши апартаменты, — услыхал он голос врача. — Ваше высочество, это самая тяжелая для меня обязанность в жизни…
— Лицемер, — прошипел сквозь зубы Альфред. — Дальше, дальше! Произносите скорее ваш приговор!
— Это самая тяжелая для меня обязанность в жизни. Четыре авторитета дали отзыв о состоянии здоровья вашего высочества, и князь Филипп…
— Князь Филипп… да, я знаю.
— Принял регентство. Мне приказано сопровождать ваше высочество в замок Турм.
— Отлично. Едем в Турм.
— Если ваше высочество согласны, то экипаж будет готов в четыре часа.
— Что же будете там делать? — сорвалось у герцога. — Ну, идите, господин профессор и мудрец, идите. Здесь вам не место.
И он направился обратно в комнаты.
Доктор с ассистентами и двумя служителями следовал за ним по пятам.
— Не нужно, — сказал герцог. — Не нужно этого! Оставьте меня одного, это мне неприятно. Я ведь славился своей львиной силой, молодцы. Ну, профессор, идите со мной.
В золотой комнате дворца, где стояла великолепная кровать, украшенная белыми и голубыми страусовыми перьями, Альфред стал милостиво беседовать с доктором.
Но вдруг он впал в ярость.
— Как вы осмелились объявить меня больным? — закричал он. — Вы меня раньше никогда не видали и не исследовали.
Ответ доктора показался Альфреду заученными словами попугая.
— Не нужно! Почему же другие подвергаются наблюдению в течение целых месяцев. Например, преступники и подобные им люди. А я ведь герцог.
— Материал, собранный актами, вполне убедителен, он даже подавляет, — невозмутимо продолжал доктор.
— Отлично! Материал, собранный моим врагом Бауманном фон Брандтом! А как долго будет продолжаться ваше лечение, профессор?
— Ваше высочество, — отвечал доктор, — в конституции сказано, что если царствующий государь окажется неспособным к правлению более, чем в течение года, тогда назначается регентство. Следовательно, самый короткий срок — год.
— Благодарю вас. Это едва ли продолжится так долго, уверяю вас, профессор, но мы будем с вами добрыми друзьями. Итак, мы едем в Турм?
— Я уже имел честь доложить вашему высочеству приказание, данное мне князем Филиппом.
— Скажите, пожалуйста, профессор, почему вы не исполнили вашего дела быстрее и лучше? Поступите со мной лучше как с султаном! Для вас при ваших огромных научных знаниях это — сущие пустяки: отправить на тот свет человека, который становится в тягость! Но теперь, пожалуйста, выйдите из комнаты, мне неприятно ваше общество! Нам это удовольствие еще предстоит довольно часто, мы будем добрыми друзьями. А теперь идите! В четыре часа можно будет ехать. Я готов ко всему.
При этих словах Альфреда доктор поднялся и вышел со всеми своими ассистентами.
Альфред подал знак и служителям, но они остались.
— Как, впрочем, хотите, — сказал Альфред с гордой улыбкой. — Как хотите! Вы меня не стесняете. Перед лицом герцога вы — воздух, пар!
С холодным спокойствием Альфред лично занялся приготовлениями к переезду и отдавал распоряжения.
В четвертом часу, когда наступили уже сумерки, к высокому подъезду дворца подкатила четверка. Альфред сел в карету. Он, как всегда, ехал один в своем экипаже. У окна кареты ехал караул, на козлах, вместо герцогского лейб-гвардейца, сидел больничный служитель.
Лишь немногие вышли, плача, на величавую дорогу в Гогенарбург и долго смотрели вслед герцогской карете.
Сзади в коляске ехал главный доктор с ассистентами.
Дождь лил, как из ведра.
На повороте дороги Альфред отер рукой мокрые от дождя стекла в дверцах кареты и долго смотрел вверх на чудный замок-мечту и вниз на Гогенарбург, где прошли его детство и юность, которые никогда уже не повторятся, не вернутся!
Ехали целых десять часов.
Ни одного слова не сказал герцог.
Когда доехали наконец до южного берега Лаубельфингенского озера, пришлось переменить лошадей. Альфред попросил стакан воды, который принесла ему почтмейстерша. Он осушил его одним глотком и с дружеской благодарностью отдал его обратно женщине, которая знала его в расцвете его счастья. Легким кивком приветствовал он дачников, почтительно собравшихся на берегу озера, на этот раз серо-свинцового цвета. Затем карета повернула в восточном направлении и повезла Альфреда вдоль хорошо знакомого ему берега.
Через столько лет он опять увидел свое озеро в дождь и в каком положении!
— Адельгейда, Матильда! — беспрестанно проносилось у него в голове.
Ни одной горы не было видно. Нельзя было различить ничего на противоположном берегу. Не видно было ни Лаубельфингена, ни его острова, ни того места, где любовь идет на его освобождение, — ничего, ничего! Все серо и непрозрачно!
На ближайшей колокольне пробило полдень, когда четверка с герцогом въехала в парк замка Турм.
«Здесь это началось, — пронеслось у Альфреда в голове, — и здесь должно…»
Быстро вышел он из кареты и, несмотря на проливной дождь, обошел весь замок.
— Ничего не переменилось, все осталось по-прежнему, — тихо сказал он самому себе.
Среди слуг, собравшихся для приветствия герцога, он заметил старика Венцеля.
Альфред подошел прямо к нему.
— Это хорошо, что вы здесь служите, Венцель, очень хорошо, — заметил он.
С этими словами он вошел в замок.
XXXVII
При входе в замок саркастическая улыбка оживила до сих пор неподвижное, как мрамор, лицо герцога: все комнаты были меблированы словно для глупца.
— Недолго придется тебе стараться, господин профессор, — произнес он сквозь зубы.
Ручки у дверей и окон были отвинчены, так что их нельзя было открыть. В двери комнаты, которую Альфред когда-то сам украшал великолепными картинами и дивными предметами искусства, сделано было отверстие для наблюдений. Тяжелые предметы, о существовании которых он отлично знал, ибо он знал этот замок во всех подробностях и помнил их, были удалены.
В средней комнате первого этажа стоял стол, накрытый на три прибора.
— Возьмите прочь эти приборы, — сказал герцог стоявшему здесь слуге, — я хочу обедать один.
Короткий энергичный жест показал главному доктору, который явился было со своим ассистентом, какое серьезное значение придает Альфред этому приказанию.
— Со свитой, господа, или с прислугой, как желаете, но не со мной.
Главный доктор и его ассистент, вежливо поклонившись, удалились.
Осталось только двое слуг.
— Мне будет прислуживать старик Венцель, — приказал герцог.
Один из прислужников вышел, чтобы сообщить главному доктору об этом желании герцога.
— Отойдите оба в соседнюю комнату и наблюдайте за его высочеством и Венцелем через отверстие в двери. Впрочем, следует исполнять всякое желание его высочества. Так гласит приказ его светлости регента.
Альфред стоял у окна. Он смотрел вниз, на мокрый от дождя парк и ждал. Угнетающая духота грозового дня чувствовалась в затхлом воздухе комнаты. По своей привычке он хотел было открыть окно и вдруг вспомнил о невероятном деле, которое решились сделать с ним.
Альфред с силою сжал зубы. Прыжок из Турма в горную пропасть был бы лучше всего.
Вошел старик Венцель.
— Ваше высочество изволили требовать?
— Послушайте, Венцель, кто здесь главный повар?
— Брейтенберг, ваше высочество.
— Вы знакомы с ним?
— Он уже несколько лет служит в Турме. Он из одного местечка со мной, недалеко от Лаубельфингена.
— На него можно положиться?
— Он верен, как пес, вашей светлости.
— Не слыхали вы чего-нибудь о том, что эти господа, эти врачи на кухне примешивают что-то к кушаньям?
— Никак нет, ваше высочество.
Альфред повернулся. Его взгляд упал на отверстие в двери. Ему показалось, что один из служителей пристально смотрит на него.
Альфред вынул из кармана платок.
— Повесьте этот платок на двери, перед отверстием, Венцель!
— Я не смею, ваше высочество.
— В таком случае я сделаю сам.
Он взял вилку со стола и с силою воткнул ее сквозь платок в твердое дерево двери.
— Вот так. Я научу вас.
И он опять обратился к Венцелю.
— Теперь подавайте. Подойдите ближе. Мне нужно поговорить с вами, Венцель.
— Что изволите приказать?
— Знаете вы Остров роз, Венцель? — заговорил Альфред, быстро проглотив куска два.
— Ваше высочество, я много лет служил там. Старый садовник Вейльман…
— Он все еще там?
— Так точно.
— Вы знаете, стало быть, павильон на острове, в нем мой рабочий кабинет и стол…
— Я знаю, ваше высочество. Ключ к этому столу только у вас и у кронпринцессы.
— Совершенно верно, Венцель. Вы что-нибудь слыхали о кронпринцессе?
— Ее королевское высочество уже четвертый день изволят жить там, в гостинице, недалеко от Лаубельфингена.
— Отлично, отлично… Убирайте!
Он вдруг притянул к себе старого служителя и шепнул:
— Чтобы ни один человек не знал об этом, заклинаю вас, Венцель!
— Никто не узнает, ваше высочество!
Маленький золотой ключик очутился в кармане Венцеля.
— Откройте стол, Венцель. Вы знаете который — маленький стол из черного дерева, и принесите мне все, что найдете в его ящике.
— Что же я могу найти в ящике?
— Небольшой пакет с письмом.
— А как я передам его вам?
— Завтра к завтраку я закажу бутерброд. Подадите его мне вы, положите письмо между двумя ломтиками хлеба. Понимаете? Как будто письмо ломтик мяса.
— Слушаю, ваше высочество.
— Поняли!
— Совершенно.
— Когда наступит ночь, садитесь в лодку, как будто для прогулки по озеру или для ловли рыбы, по этакой погоде. Рыба клюет при такой погоде! Потом мчитесь на остров и в тиши ночной исполните мое приказание.
— Слушаю, ваше высочество.
— Это вкусно, я сыт. Теперь я хочу отдохнуть. Скажите, чтобы меня отвели в спальню.
Венцель ушел.
Тотчас же вошли два служителя.
— Я хочу отдохнуть, — высокомерно сказал им герцог. — Вы поможете мне раздеваться.
Альфред пошел вперед, направляясь в хорошо знакомую ему голубую спальню.
Служители шли за ним.
— Довольно одного. Я хочу еще бегать и двигаться.
Был пятый час, когда герцог улегся в постель. Сильное возбуждение предшествовавших дней, сильное напряжение силы воли и самообладания, с помощью которых он овладел порывами своей бешеной ярости, все это вызывало в нем сильную слабость.
Он впал в глубокий, свинцовый сон, без сновидений, который к утру стал беспокойным.
— Венцель должен прислуживать мне в постели, — приказал он, проснувшись. — Пусть он принесет мне бутерброд с белым мясом и чашку чаю.
Вошел один из служителей. Он хотел было помочь ему одеться.
— Не надо, братец, — вскрикнул Альфред, увидев входящего. — Я останусь в постели. Я пью чай всегда в постели. Не надо. Венцель сейчас все принесет.
— Он уже ждет в передней приказаний вашего высочества.
— Тогда пусть он сейчас же придет сюда.
Когда Венцель показался в дверях, Альфред заметил, что служитель сделал какое-то движение. Он схватил тарелку, на которой Венцель нес завтрак.
Альфред хотел вскочить и удушить этого человека, но одумался.
Ожидание смирительной рубашки, крушение всех его планов, невозможность отомстить тому, кто столкнул его с солнечной высоты в такое жалкое состояние, сделали свое дело. Он еще раз сдержал себя.
Предосторожность служителя оказалась, впрочем, излишней. Он захватил с тарелки только нож, который дворцовый повар положил вместе с хлебом. Он, очевидно, хорошо знал этих корифеев науки.
Может быть, после вчерашней непонятной и своевольной выходки, которую он себе позволил, был приказ главного доктора не давать ни ножей, ни вилок, а только ложки.
Венцель подошел к его постели и лишь слегка кивнул головой. Герцог понял его.
Наблюдавший служитель ушел в соседнюю комнату. Альфред явственно заметил, что он смотрит в отверстие в двери. Он взял хлеб с тарелки и как будто нечаянно уронил его на постель, но тотчас же поднял его и съел до последней крошки. Письмо незаметно упало между подушками.
Затем Альфред наскоро выпил чай и снова повернулся к стене, как будто ему хотелось спать.
Закрыв письмо обеими руками и притворяясь спящим, он стал читать:
«Голубка орлу.
Сегодня, когда станет смеркаться, между семью и восемью часами, в густом кустарнике на южном конце Турмского парка будет ждать небольшая лодка с зеленым фонарем. Удали всех, если можно и врача, постарайся достичь этого места и садись в лодку на другом берегу. Мои лошади будут ждать, оседланные и готовые отправиться в путь. Через два-три часа мы достигнем границы моей страны. Тогда ты будешь под покровительством Карла.
Матильда».
Когда он прочитал эти строки, на него нашло удивительное спокойствие. Он прикрепил это письмо к пуговице своей рубашки и скрыл его на своем теле.
Еще с четверть часа притворялся он спящим, затем быстро встал и дернул за звонок. Он уже был на ногах, когда вошли оба служителя. Он приказал им помочь ему надеть верхнее платье. Сегодня он пожелал надеть простой штатский костюм, который был для него заказан. Далее он приказал подать себе летнее пальто и мягкую фетровую шляпу с драгоценной брильянтовой брошкой, говоря, что он хочет прогуляться по парку.
Было одиннадцать часов утра, когда к нему явился, по его требованию, главный доктор со своей вечной улыбкой на лице.
Альфред пошел ему навстречу и протянул руку.
Согласно установившемуся церемониалу профессор ждал, пока герцог сам не заговорит с ним.
— Ну, как вам показалась поездка, господин профессор? — раздался наконец голос Альфреда. — Я великолепно себя чувствую, спал отлично, а бутерброд доставил мне истинную радость. Слышите, человек науки, истинную радость! Я проглотил хлеб и все, что в нем было, с волчьим аппетитом. Готовы вы отправиться на прогулку? Я хочу пройтись по парку. Если вы хотите идти вместе, буду очень рад. Мне очень хотелось бы поговорить с вами о вашей науке.
Доктор был чрезвычайно удивлен. Он вовсе не представлял себе своего пациента таким. Никакого угнетения, никакого следа меланхолии! Весел и возбужден, ясен и понятен! Впрочем, это бывает периодически.
— Я к услугам вашего высочества.
— Отлично.
Доктор ушел. Он отправился к одному из своих ассистентов и поручил ему послать немедленно князю Филиппу телеграмму следующего содержания:
«Здесь все обстоит отлично».
После этого он пошел с Альфредом. Он шел в почтительном отдалении от него, но Альфред сделал ему знак приблизиться. Парк был окружен жандармами, которым было строго приказано немедленно скрываться из глаз, как только они завидят герцога. Это, однако, не укрылось от Альфреда.
«Они могут затруднить исполнение моего плана», — подумал он.
В некотором отдалении от обоих гуляющих следовал еще служитель. Он как будто нес некоторые вещи для доктора — плед и подзорную трубу. Но Альфред знал истинные цели этого человека.
Герцог прервал разговор, с минуту постоял на одном месте и стал мрачно смотреть на этого человека.
Доктор понял.
Чтобы доставить ему удовольствие и, может быть, в надежде сделать его еще разговорчивее и веселее, доктор сделал знак, чтобы служитель не шел далее за ним. Затем они свернули с герцогом на одну из едва заметных лесных тропинок. Сторожа и служители не раз совершенно теряли их из вида.
— Пойдемте к берегу озера, профессор, — предложил Альфред. — Там есть скамейка, с которой открывается чудный вид. Правда, сегодня все тонет… тонет в дожде, профессор, а все-таки…
— Как изволите приказать, ваше высочество.
— Там мы можем спокойно болтать, профессор. Мне интересно узнать кое-что о вашей жизни и о вашей науке. В молодости мне говорили, что вы — большая величина, гений в вашей области. Вы еще можете увеличить свою славу, ведь вы еще человек не старый?
— Мне шестьдесят два года, ваше высочество.
— В самом деле? По виду вам этих лет дать нельзя.
Герцог пошел по узкой дорожке, которая шла прямо вниз, к берегу озера.
— Я еще могу бегать, как серна, профессор, несмотря на свою полноту, — шутил Альфред.
— Это удивительно, ваше высочество. А я уже едва ли в состоянии.
— Посмотрите… Мои руки еще сильнее, чем ноги.
Альфред бросил лукавый взгляд на тщедушную фигуру ученого.
— Вот скамейка. Сядем.
Оба сели.
— Ну, расскажите мне что-нибудь о вашей жизни. Каким образом вы стали таким знаменитым человеком, таким знатоком человеческой души и тела. На мой взгляд, это самое трудное дело.
Доктор почувствовал себя польщенным. С ним ведь говорил герцог, хотя и больной, но все же гениальный в некоторых областях.
— Я начал незаметным человеком, ваше высочество, много учился, много работал, пока не удостоился приглашения вашего покойного отца занять кафедру в кронбургском университете.
— Таким образом, можно изучить известные симптомы и безошибочно определять болезнь?
— Совершенно безошибочно, ваше высочество.
— Это удивительно! Если человек пишет оперу, если строит дворцы, если тихая ночь ему приятнее, чем шумный день, если он хочет лучше уединиться в глубине горного леса, чем оставаться в толпе глупых людей, то он болен! Удивительная наука, профессор! Вы — владыка на Божьем троне, вы редкий человек…
— Есть границы всему, ваше высочество.
— Отлично! Границы! Значит до этого пункта — он здоров; а после этого — болен. А вы сами-то, господин профессор, изучили эти границы и можете их указать?
— Тут много значит, ваше высочество, опытность, наблюдение, взгляд, изощрившийся на сотнях отдельных случаев.
— Понимаю, понимаю! Однако посмотрите, погода-то разгуливается. Держу пари, что после обеда будет солнце и вечером, когда наступят сумерки, мы можем опять совершить нашу интересную и поучительную прогулку на берег озера.
— К вашим услугам, ваше высочество.
— На то я и герцог. Посмотрите, как разрослись там прибрежные кусты с тех пор, как я в течение нескольких лет не был здесь. Профессор, там положительно можно спрятаться. Прежде здесь не было такой чащи. Кустарники с течением времени заросли травой. Нужно велеть скосить ее.
Взгляд герцога, по-видимому, не отрывался от свинцовой, однообразно серой поверхности озера. Но более внимательному наблюдателю бросилось бы в глаза, что этот взгляд постоянно устремляется на берег, на то место парка, где орешники, ивы и буки, водоросли и водяные лилии образуют почти непроходимую чащу.
— На что вы смотрите, ваше высочество? — спросил доктор.
— На озеро, господин профессор, на озеро. Я его люблю с детства. Здесь я провел большую часть моего царствования.
— Я знаю, ваше высочество.
— Мальчиком я был превосходным пловцом. Я не раз переплывал у Гогенарбурга холодные воды озера, профессор, и оставался здоров. Впрочем, это было так давно. Такие телесные упражнения, кажется, весьма полезны?
— Весьма полезны, ваше высочество, — подтвердил доктор.
— Это мне говорил мой лейб-медик в Гогенарбурге. Видите ли, профессор, великое искусство всегда остается одинаковым, практикуется ли оно простым деревенским врачом, или корифеем кронбургского университета. Следовательно, есть только одно средство, исцеляющее от всех болезней.
— Что вы подразумеваете под этим, ваше высочество?
— Да одно, к которому мы все должны будем прибегнуть, вы и я, герцог и профессор. Вот почему не очень-то я уважаю вашу науку.
С этими словами герцог встал.
Он пожелал возвратиться в замок.
— Пора завтракать, доктор. Приятного аппетита! Нужно наслаждаться, пока можешь. На завтрак есть свежая спаржа с гор и рыба из озера. Это очень вкусно, профессор.
Доктор покачал головой.
Герцог говорил так ясно, так разумно, и все-таки…
И в глубоком раздумье он пошел назад в замок.
XXXVIII
Время было после завтрака. В комнате Альфреда послышался звонок.
— Пусть Венцель принесет мне кофе, — сказал герцог вошедшему слуге.
— Слушаю, ваше высочество!
Большими шагами ходил герцог взад и вперед. За эти дни он усвоил себе особый род движения, который прежде не замечался у него. Он как будто делал гимнастические упражнения и время от времени широко раздвигал руки. Можно было подумать, что он хочет испытать силу своих мускулов.
Вошел Венцель, неся на серебряном подносе кофе.
— Достаточно ли крепким ты сварил его, старина? — спросил герцог. — Что поделывает придворный повар? Был этот ученый или кто-нибудь из его помощников на кухне? Мне нужно это знать.
— Никак нет, ваше высочество, повар, как всегда, приготовил кофе и налил в чашку на моих глазах.
— Отлично.
Венцель повернулся и хотел было идти.
— Останьтесь здесь, Венцель, я хочу поболтать с вами.
— Слушаю, ваше высочество.
— Вы давно уже служите в Турме?
— Этим летом исполнилось тридцать лет, как я здесь, ваше высочество.
— Так давно. Стало быть, вам около шестидесяти лет?
— В мае мне исполнилось пятьдесят девять лет, ваше высочество.
— Подойдите ко мне, к окну.
Старый Венцель приблизился к герцогу.
— Вы верны мне, Венцель?
— Ваше высочество!
На голубых глазах старого слуги выступили слезы.
— И умеете молчать, Венцель?
— Ваше высочество!
Альфред указал рукою на серую поверхность Лаубельфингенского озера.
— Умеете ли вы молчать, Венцель, как это озеро, которое навсегда хоронит в себе свои тайны?
Слуга не нашелся, что ему ответить.
Альфред подошел к двери, в отверстии которой ему показался глаз надзирателя, и стал к ней плотно спиной.
— Пусть теперь пошпионит.
— Венцель, — тихо начал он, — в случае, если здесь, в Турме, случится что-нибудь особенное, ужасное, страшное, передайте это письмо его светлости, теперешнему регенту этой страны. Понимаете?
— Вполне, ваше высочество.
Герцог быстро сунул письмо в руки слуге.
— Нет, вы откройте это письмо и прочтите, чтобы знать, в чем дело.
Дрожащими руками старик вынул из конверта герцогское письмо и прочел:
«Освободить невинно арестованного фон Ласфельда — вот мой последний герцогский приказ.
Альфред».
— Поняли хорошо?
— Вполне, ваше высочество.
— Теперь идите. Впрочем, позовите-ка мне ассистента этого владыки в царстве духа!
— Кого изволите звать?
— Ассистента этого доктора. Я хочу поговорить с ним.
Венцель вышел.
Альфред опять подошел к высокому окну и стал смотреть на озеро.
От далекого, как бы неземного сна его разбудил голос младшего врача.
— Ваше высочество изволили меня требовать?
— Да. Не хотите ли сыграть в шахматы? Мне ужасно скучно.
— С удовольствием.
Герцог подошел к позолоченному шкафчику, стоявшему в этой комнате.
— Много лет тому назад тут были шахматы, — сказал он. — Когда я жил еще здесь с моими родителями, вас тогда и на свете не было, милейший доктор, я тогда мальчиком все играл фигурами. Верно, тут они и есть. Сядем.
Герцог вынул из шкафа шахматную доску и расставил фигуры.
— Вы возьмете красные, доктор, а я буду играть белыми. Это будет игра между жизнью и смертью.
— Как прикажете понимать это, ваше высочество?
— Я разумею цвет шахмат. Ярко-красный — цвет крови, холодный белый напоминает собою труп. Ну, начнем.
— Шахматы — настоящая королевская игра, — заметил доктор. — Она и изобретена-то была для одного царя.
— Помните вы слова гетевского Геца?
— Какие слова, ваше высочество?
— Я разумею то место, где говорится о дворе епископа Бамбергского. Как он назывался?.. «Если б я был королем, я запретил бы эту игру в моем королевстве: она раздражает меня и это вечное «шах королю» — несносно!»
— Ваше высочество обладаете отличной памятью.
— Правда, правда… на хорошее и на дурное… Шах королю. Вот каково играть со мною.
Доктор сделал вид, как будто он не слышал последнего замечания.
Альфред поднял глаза от доски.
— Теперь ваша очередь, доктор. Как вы пойдете? Как вы выпутаетесь из этой дилеммы, как вы устроите шах королю?
— А вот как.
Доктор решился сделать ход.
Альфред рассмеялся.
— Нет, доктор, в Турме вы будете посрамлены.
Слово Турм он произнес с каким-то особым ударением.
— Здесь короля защищает башня.
— В таком случае, я — конем.
— Если у вашего коня такие длинные ноги… ха-ха-ха! Ваши офицеры тоже не годятся.
— Мои офицеры?
— Да, ваши и мои, доктор. Они не могут уже помочь своему королю, они бросили своего короля. Но башня защищает его и вашему коню не удастся напасть на него. Впрочем, оставим все это, мне скучно от этой игры. Поговорите со мной о чем-нибудь, доктор.
И с этими словами Альфред отодвинул шахматную доску.
Большие черные глаза герцога бросили на молодого врача лукавый взгляд.
— Тяжелое ремесло избрали вы себе, милый друг, — сказал Альфред.
— Любовь к науке, ваше высочество, интерес к моим пациентам.
— Да, да, да… Скажите, как вы думаете, позволительно дать неизлечимому больному, но действительно неизлечимому, последнее средство?
Врач с испугом уставился на него.
— Что вы хотите сказать, ваше высочество? Какое последнее средство?
— Средство, которое приносит покой, успокоение, — ледяным тоном возразил Альфред. — Дают же успокаивающее средство, какие-нибудь порошки, доктор. Вообразите, что доза без всякого умысла оказалась слишком велика. Если бы я был неизлечимым, я был бы очень благодарен врачу, который имел бы мужество дать мне такое последнее средство.
— Мы больше не будем играть?
— Ха-ха-ха! Вы уклоняетесь от ответа, врач души и тела. Здесь кончается ваша наука, как и наука корифеев!
— Ваше высочество!
— Будем играть дальше. Ну, теперь ваша очередь, доктор, шах королю.
Острым взором смотрел Альфред на доску.
— Королева могла бы в конце концов спасти его, доктор, — говорил он с горечью. — Впрочем, нет, уже слишком поздно. Он может надеяться еще на свою башню. Скажите, я вчера вас обоих обидел?
— Нас обоих? Кого, ваше высочество, изволите подразумевать?
— Вас и главного доктора. Вчера я отказался обедать с вами за одним столом.
Врач молчал и напряженно ждал, что из этого выйдет.
— Сегодня вечером я заглажу это, доктор, сегодня вечером, понимаете? Сегодня мы будем сидеть за одним столом, как трое друзей. Я сейчас распоряжусь об этом.
Герцог встал и позвонил.
— Пусть в столовой накроют стол на три прибора, — сказал он. — Пусть принесут также вина. Ведь это можно?
Этот вопрос звучал нескрываемой иронией в устах герцога.
— Ответственным лицом за лечение является главный доктор, ваше высочество!
— Я знаю! Я сумею переговорить с ним об этом. Главный врач не будет возражать против этого. Ведь мы будем обедать втроем. В замке есть запас рейнвейна, который он должен попробовать. Вот вино, так вино, доктор! Если бы я знал, что мне придется умереть, я и тогда велел бы подать его себе. А теперь я хочу отдохнуть часик-другой. Обед начинается в шесть.
По знаку герцога врач удалился.
Он поспешил прямо к главному доктору.
— Я должен предостеречь вас, профессор. С его высочеством происходит что-то неладное, в нем есть что-то непонятное, какая-то мрачная решимость, что-то продуманное, чего я очень боюсь!
Профессор только рассмеялся.
— Милый друг, вы еще недостаточно опытны в области тех болезней, какая у него. Я водил на помочах всех своих пациентов. Если вы будете соглашаться с их больными идеями, это их вполне успокоит. Если мы будем действовать наоборот и разумно, то придем к результату, совершенно противоположному тому, какого мы хотим. Я очень рад, что все идет так хорошо.
— Я предостерегаю вас, — еще раз сказал ассистент самым серьезным тоном.
Этот корифей в своем самомнении как будто был поражен слепотой.
— Пошлите в Кронбург второй бюллетень такого содержания: герцог в превосходном настроении и чувствует себя очень хорошо.
— Как вам угодно.
Ровно в шесть часов состоялся обед. Альфред был очень разговорчив и обворожительно любезен, как в свои лучшие годы. Он сильно налегал на кушанья и принуждал своих гостей брать еще.
Главный доктор согласился на бутылку шампанского.
— Ну, еще одну, — приказал Альфред.
Прислуживавший им надзиратель вопросительно посмотрел на профессора.
— Выпейте, господин профессор, выпейте, — настаивал Альфред.
— Я не могу много пить шампанского, ваше высочество.
— Сегодня оно не вызовет у вас головной боли, готов держать пари.
Главный доктор велел налить себе еще.
— В самом деле, шампанское превосходно.
— Оно происходит из страны моего августейшего друга, короля-Солнца, доктор. Выпейте еще. Если вы больше не хотите, то прежде, чем наступят сумерки, мы совершим с вами прогулку по парку, о которой мы условились утром. Я уже готов. А вы?
— Мы тоже готовы.
— Сначала выпейте, господин профессор, выпейте спокойно. Вино превосходно. Я вас подожду.
Главный доктор осушил свой стакан.
— За ваше здоровье и благополучие, ваше высочество!
— Я принимаю этот тост. Но не могу уже выпить за ваше здоровье. Больше нет ни вина, ни охоты! Вы готовы, доктор?
— К вашим услугам.
Герцог встал.
В передней слуга подал ему мягкую шляпу с брильянтовой пряжкой и легкое пальто и спросил:
— Прикажете нести за вами зонтик?
— Дайте зонтик сюда, — сказал Альфред.
Главный доктор сделал знак, и зонтик очутился в руках Альфреда.
К главному доктору подошел ассистент и что-то тихо стал говорить ему.
— А я думал, что вы уже готовы, профессор, — заметил Альфред.
Он слышал ясно, как тот сказал: надо, чтобы никто не сопровождал его.
Сатанинская радость пробежала по нему: «Провидение выдало его тебе!»
Молодой врач опять подошел к своему коллеге.
Альфред насторожился.
— Нет, пусть служители остаются, — послышался ему тихий голос профессора.
— В восемь часов я вернусь обратно вместе с его высочеством, — громко прибавил он.
— Да, в восемь часов, — повторил Альфред с каким-то особым выражением.
С этими словами он подошел к двери и вышел в парк, не оглядываясь.
Главный доктор последовал за ним.
— Идемте, профессор. Я уже готов и жду вас.
И они пошли в сумерки потемневшего от проливного дождя дня. Высокая фигура герцога первая исчезла в чаще леса.
Что произошло в поздний час этого сумрачного дня между герцогом и главным врачом на темных дорожках парка Турм и на берегу Лаубельфингенского озера — этого не знает никто. Лесная чаща и отяжелевшие от дождя листья прибрежных кустов покрыли все происшедшее вечной тайной. Увидел ли герцог маленький зеленый цвет надежды, о котором говорилось в письме принцессы Матильды, хотел ли он спастись вплавь через озеро, а главный доктор хотел помешать ему, и они оба нашли здесь свою смерть, или же герцог со своей львиной силой умертвил своего мучителя, который столкнул его с солнечной высоты в пучину ночи, — это вопрос, на который нет ответа.
На башне замка Турм пробило восемь часов. Ни герцог, ни доктор не возвратились.
Лихорадочное волнение охватило все то население замка, которое было ответственно перед Кронбургом за жизнь герцога.
Дождь лил, как из ведра, и было уже совсем темно. По распоряжению ассистента, обыскали весь парк, но напрасно. В десятом часу в Кронбург полетела телеграмма:
«Герцог и главный доктор ушли вечером гулять и до сего времени не вернулись. Парк обыскан».
Спустя полчаса один из лакеев нашел на берегу озера шляпу герцога с брильянтовой пряжкой. Через несколько минут прибыл другой с извещением, что в прибрежных кустах нашли шляпу и зонтик главного доктора и пальто герцога, все мокрое.
Ассистент и смотритель замка в отчаянии сели в лодку и двинулись на юг вдоль берега озера.
Вдруг смотритель глухо вскрикнул.
В нескольких шагах от берега были видны два трупа.
Смотритель соскочил в воду и с горячими слезами стал обнимать бездыханное тело герцога. Ассистент втащил в лодку труп своего коллеги.
Прибежали служители и надзиратель с факелами. Было уже поздно. Смерть обоих наступила несколько часов тому назад.
Тело герцога положили на постель в голубой спальне замка и покрыли его голубым шелковым одеялом, закрыв его почти до шеи.
Весть о страшной кончине герцога распространилась с необыкновенной быстротой по всем селениям и местечкам, расположенным на берегу озера, и наконец дошла до Кронбурга. Громко рассказывали, передавая из уст в уста, самые невероятные слухи, но определенного и верного не знал никто.
Медленно поднималось из горных глубин серое утро дождливого траурного дня. Церковные колокола как-то устало заговорили своими медными голосами и разносили по озеру печальную весть.
На крыше Турма герцогский штандарт опустился до половины флагштока.
Одной из первых появилась в комнате, где лежало тело герцога, Матильда.
Своей свите она приказала остаться у дверей голубой комнаты. На грудь почившего друга она возложила ветвь жасмина, сорванную ею среди прибрежных кустов.
Когда она вышла из голубой комнаты, ее можно было принять за сумасшедшую.
— Выпустите герцога из склепа, — кричала она пронзительным голосом, — он не умер, он только притворяется умершим, чтобы его отпустили на волю и больше не мучили.
Долго еще не могли успокоить кронпринцессу.
Через шесть дней с неслыханным великолепием тело герцога было предано земле. Тысячи дорогих венков были присланы в Кронбург со всех концов земли.
Но на самом гробе красовалась только одна ветка жасмина.
В потемневшем склепе церкви св. Гавриила в Кронбурге покоится тот, кто за блеск золота, сияние мрамора и царственную мечту об одинокой красоте поставил на кон и проиграл блестящую жизнь мощи и величия.
После его смерти много лет подряд в день св. Троицы спускалась к его каменной гробнице одетая в черное дама и часами оставалась здесь в молитве. Когда она уходила, в головах саркофага лежала всегда свежая ветвь жасмина, сорванная в парке замка Турм на берегу Лаубельфингенского озера.
Теперь она уже давно не была здесь. Да и никто не бывает. Все погрузилось в мертвую тишину.
Г. Ситон-Мерримен В бархатных когтях
Исторический роман
Перевод с английского
I В городе ветров
Река Эбро, как известно, или, по крайней мере, предполагается известным каждому, протекает через город Сарагосу. Эта река должна пользоваться безусловным вниманием современного поколения: она быстра и в то же время мелка.
На правом берегу ее высятся стены города. Левый берег низок, песчан и исчезает во время прилива под водой. Здесь настоящий клуб ящериц зимой и лягушек летом. Более низкий берег окаймлен тополями, и на нем местами виднеются поднявшиеся из воды участки земли, годной для обработки и разведения жесткого красного винограда, который и обитателей Арагонии делает жесткими.
Однажды вечером, когда луна уже стояла над собором, внизу вдоль реки шел какой-то человек, беспрестанно спотыкаясь о прибрежные валуны. Направлялся он, очевидно, к сараю, где расположена пристань перевоза через Эбро. Перевозочное судно было привязано к столбу. То был целый корабль с высокой кормой и носом, напоминавший корабли викингов, построенный доморощенным плотником, должно быть, по какой-нибудь картине. Привязанный стальным канатом, он мерно покачивался на воде, движимый сильным течением реки.
Незнакомец осторожно заглянул в обвитый диким виноградом сарай. Там никого не было. Он тихонько пробрался к судну, но и оно было пусто. Потом он осмотрел цепь, которой было прикреплено судно. Замка на ней не было. В Испании и до сего времени тщательно запирают окна, но оставляют открытыми двери. Для пытливого ума тут ключ ко всей истории великого народа.
Незнакомец выпрямился и стал смотреть на реку. То был высокий человек с чисто выбритым подбородком и твердо очерченным ртом. Во взгляде, который он бросил на Сарагосу, резко выделявшуюся на лунном небе, было что-то жесткое. Его поза и тяжелый вздох, казалось, говорили о трудном пути, который наконец-то пройден, намекали на то, что какая-то цель им уже достигнута или скоро будет достигнута.
Дон Франциско де Модженте сел на скамью для пассажиров, ожидающих парома, и, сдвинув назад шляпу, стал смотреть на небо. Дул северо-западный ветер — solano, дул так, как он делает это только в Арагонии. На мосту, видневшемся ниже перевоза, против этого ветра была устроена с одной стороны высокая стена: иначе в известное время года по нему не мог бы проехать ни один экипаж.
Ветер с ревом несся по Эбро, сгибая чуть не до земли тонкие тополя на низком берегу и гоня перед собой к Сарагосе целое облако пыли. Под порывами этого ветра вода в реке ходила пенными волнами, серебрившимися от лунного света. На небе виднелись облака, тяжелые и почти неподвижные. Они едва передвигались по направлению к луне. Это был не ветер, несущийся вверху, а сильная струя с холодных Пиренеев, вытесняющая горячий воздух с равнин Арагонии.
Тем не менее облака все-таки надвигались на луну и скоро должны были закрыть ее совсем. Дон Франциско де Модженте видел это и терпеливо сидел под трельяжем из виноградных лоз, наблюдая за их медленным ходом. Волосы у него были совсем седые, а лицо загорелое, коричневое. Странное это было лицо: его глаза имели какое-то выражение, которого обыкновенно не бывает у старых людей. В них светилось спокойствие деревенского жителя, которое нечасто встретишь в гостиных. Те, кому приходится иметь дело с природой, очень редко чувствуют себя спокойно в гостиной: им хочется поскорее выйти из нее на свет Божий.
Дон Франциско, казалось, одинаково хорошо знал и деревню, и гостиную. Морщины на его лице вовсе не были следствием той обязательной улыбки, которая так безобразит лица женщин, которым более уже нет надобности улыбаться. Его морщины были вызваны жгучим жаром арагонского солнца.
— Подождем, — тихо промолвил он сам себе по-английски, с сильным американским акцентом. — Я ждал пятнадцать лет, а она и не знает, что я приехал.
И он уселся, спокойно посматривая на реку. Город весь стоял перед ним со своим необыкновенным шпицем над собором и куполами других церквей, со своими башнями, четко вырисовывавшимися на лунном небе, — словом, все было по-прежнему, так же, как пятнадцать лет тому назад, когда он видел все это, так же, впрочем, как и сто лет тому назад.
Большое круглое облако подошло ближе к луне и стало ее закрывать. Соборные купола вдруг куда-то исчезли. Дон Франциско поднялся и пошел к перевозочному судну. Он шел, не стараясь заглушить свои шаги, и принялся отвязывать цепь, не стараясь делать это бесшумно: ветер ревел с такою силою, что в двадцати шагах ничего нельзя было слышать. Отвязав судно, он бросился на корму. Искусство, с которым он управлял рулем, показывало, что он прекрасно знал ремесло перевозчика и умел управляться с судном и в тихую погоду, и в ветер, при высоком уровне воды и при низком. Он, очевидно, усвоил с фотографической точностью все приемы еще тогда, когда мозг его был молод.
Судно двигалось по реке порывами, умело направляемое кормчим. Человек, стоявший на мосту в полумиле от этого места и следивший за ним, быстро двинулся в город. Другой, наблюдавший за перевозом из открытого окна высокого дома, возле Posada de los Reyes, загадочно улыбнулся и опустил свой бинокль.
Дон Франциско, казалось, нарочно избегал проезжать под мостом, где с копьем и фонарем стоял уцелевший от средних веков ночной сторож, внимательно поглядывая во все стороны. Новоприбывшего, очевидно, поджидали, несмотря на то, что последнюю часть своего путешествия он совершил пешком под прикрытием ночи.
Характерный для страны факт: днем Сарагосу стерегут у всех ворот сборщики податей, часовые, полицейские новейшей формации, а ночью улицы должна охранять горсть ночных сторожей, монотонно перекликающихся между собою, давая таким образом возможность преступному люду избегать их.
Дон Франциско тихонько подвел судно к пристани, ютившейся под высокой стеной набережной, прошел через прокопанный в земле коридор и по грязным ступеням стал подниматься в одну из узких улиц старого города.
Луна опять пробилась сквозь облака и лила свой свет на запертые решетками окна. Новоприбывший остановился и стал смотреть вокруг себя. Ничто не изменилось с тех пор, как он стоял здесь в последний раз. Можно было бы сказать, что здесь ничего не изменилось за целые пятьсот лет, если бы не виднелся сравнительно новый собор, которому было всего лет сто.
Дон Франциско прибыл сюда с запада и знал, как быстро меняется там жизнь. Несколько минут он стоял в раздумье, тяжело дыша зараженным воздухом плохо проветриваемого закоулка. Он прислушивался к крику ночного сторожа, замиравшему в воздухе по мере того, как сторож беззвучно удалялся на своих мягких подошвах, и долго смотрел на закрытые решетками окна. В воздухе царила тишина какого-то древнего мира.
И вдруг эта тишина была нарушена целыми пятьюдесятью колоколами, которые принялись отбивать часы.
Был уже час ночи. Услышав звук колоколов, дон Франциско досадливо тряхнул головой, как будто этот звон напомнил ему о чем-то таком, что и без того сидело в его голове. Колокола, казалось, окружали его со всех сторон: колокольни высились над городом во всех направлениях.
В узких переулках, куда редко залетал ветер, явственно слышался запах ладана.
Новоприбывший отчетливо знал дорогу и стал уверенно спускаться вниз, поворачивая все время налево, так что собор оказался между ним и рекой. Повороты эти он делал для того, чтобы избегнуть моста и Paseo del Ebro — широкой улицы, проложенной по набережной реки. В этих узких переулках было совершенно безлюдно. На Paseo было несколько старинных гостиниц, в которых останавливались погонщики мулов и другие важные господа, которые летом имеют обыкновение вставать и уезжать в любой час дня и ночи. На углу, в том месте где на Paseo выходит мост, ночью всегда стоит сторож, а днем — полицейский. Это самое оживленное и самое пыльное место во всем городе.
Франциско де Модженте перешел через широкую улицу и опять нырнул в темный переулок. Он обогнул новый собор и направился к другому, гораздо более обширному, к собору del Seo. Около него на набережной расположен дворец архиепископа. Далее стоял другой дворец, точно также выходивший фронтоном на Paseo del Ebro, а сзади примыкавший к целому лабиринту узких улочек и переулков. Дворец этот носил название дворца Саррионов и принадлежал одновременно отцу и сыну, носившим эту фамилию.
В этот-то дворец и направлялся, по-видимому, дон Франциско. Он осторожно прошел мимо огромных ворот архиепископского дворца и уже подходил к дворцу Саррионов, как вдруг легкий звук заставил его повернуться с такой быстротой, с какой это может сделать лишь человек, вся жизнь которого прошла среди опасностей.
Сзади него показались какие-то три человека. Они быстро бежали к нему на своих мягких подошвах. Прежде, чем дон Франциско успел поднять руку, из-за облаков показалась луна и заиграла своими лучами на их оружии. В одно мгновение дон Франциско оказался уже на земле, и три человека бросились на него, как кошки на мышь. Кто-то ударил его ножом, который прошел через него насквозь и со звоном ударился о булыжник.
Через минуту раненый лежал уже один-одинешенек. Его пыльные ноги резко белели в лунном свете. Трое нападавших исчезли так же быстро и бесшумно, как и появились.
Едва они скрылись, как в том же самом направлении, куда они убежали, показалась дородная фигура странствующего монаха-проповедника. Он шел быстро и, по-видимому, возвращался с требы в один из монастырских домов, расположенных в узкой улочке неподалеку от собора. Монах едва не упал, наткнувшись на распростертое тело дона Франциско.
— А! — воскликнул он ровным и спокойным тоном, — несчастный случай!
— Просто преступление, — отвечал раненый с цинизмом, который не могло разогнать даже приближение смерти.
— Вы серьезно ранены, сын мой?
— Да. Лучше не пробуйте поднять меня, хотя вы и сильный человек.
— Я пойду и позову кого-нибудь на помощь, — сказал монах.
— Бросьте, — коротко возразил раненый.
Но монах был уже далеко. Он вернулся чрезвычайно скоро в сопровождении двух мужчин, похожих на слуг, которых не удивишь ничем.
Вспомнив о своем облачении, монах стал поодаль. Пока слуги поднимали раненого на длинном и узком одеяле, он стоял, смиренно сложив руки, и молчал.
Раненого понесли, и монах поплелся сзади. Луна заливала ярким светом улочку и огромную лужу крови, черневшую на булыжной мостовой. В Сарагосе, как и во многих других городах Испании, муниципальные власти нанимают стариков, чтобы сгребать на улицах пыль в небольшие кучки. Эти кучки так и остаются на улицах до тех пор, пока их снова не разбросают на все четыре стороны дети, собаки или ветер. Этот обычай представляет пережиток средних веков, интересный для истории эволюции городского хозяйства.
Монах бросил вокруг себя быстрый взгляд и сразу нашел то, что ему было нужно: кучка пыли виднелась совсем рядом. Он запустил в нее свою загорелую коричневую руку и быстро забросал то место, где совершилась кровавая расправа, которой он едва не был свидетелем.
Потом, быстро оглядевшись, он пошел вслед за двумя слугами, которые уже успели исчезнуть за углом.
Улица, называвшаяся улицей св. Григория, была, конечно, безлюдна. Высокие дома по обе ее стороны были наглухо заперты. На многих балконах на железной решетке виднелась пальмовая ветвь — знак, что дом принадлежит духовенству. Здесь жило соборное духовенство, почивавшее уже сном праведных.
Поперек улицы св. Григория, господствуя над всеми зданиями, стоял дворец Саррионов, огромное здание, окна которого уходили в самое небо. Большую часть года он стоял совершенно пустой. Многочисленные его балконы были украшены железными решетками. Оконные амбразуры обнаруживали такую толщину стен, что ставни вместо того, чтобы раздвигаться, как у других домов, затворялись вглубь амбразуры.
Монах, очевидно, привык видеть этот дворец запертым на все замки. Осматривая быстрым взором окружающие дома, он не подумал взглянуть на него. Вот почему он и не заметил человека, сидевшего за вычурной решеткой балкона и мирно курившего сигару. Человек этот, очевидно, был свидетелем всего происшедшего и видел все от начала до конца. Он видел больше, чем монах и слуги. Он видел, как во время нападения дон Франциско уронил стилет, который в этой стране носит при себе всякий идальго. Он видел, как этот стилет упал в канаву на теневой стороне и остался там незамеченным. Он так и остался там, когда монах, раскачиваясь на ходу, уже завернул за угол улицы св. Григория.
II Эвазио Мон
Бывают люди, которые одним своим присутствием в комнате создают умственный центр тяжести, около которого беспокойно вращаются другие, чувствуя неотразимую силу их притяжения.
— Я знаю Эвазио с детства, — сказал однажды граф Саррион своему сыну. — Я стоял на самом краю этой бездны и достаточно смотрел в нее. И все-таки до настоящего времени я не знаю, что там на дне — золото или грязь? Я ни разу не ссорился с ним, следовательно, не мог этого выяснить.
Действительно, Эвазио Мон не ссорился ни с кем и потому стоял от всех особняком. В самом деле, ведь люди собираются в стадо большею частью только для того, чтобы ссориться или перемывать друг другу кости, как это делают женщины, величающие это «время препровождением в домашнем кругу».
Человек, смотревший из окна дома, стоявшего рядом с гостиницей «de los Reyes», и видевший в бинокль, как переправлялся через реку дон Франциско, был не кто иной, как Эвазио Мон.
Он следил за необыкновенными приемами импровизированного перевозчика, слегка пожимая плечами. Потом, положив бинокль, он улыбнулся — в его улыбке не было ни презрения, ни удовольствия. От этой улыбки на его лице образовались привычные морщины, которые наводили на мысль, что Эвазио Мон привык, а может быть, и искусственно научился улыбаться с молодости.
Помимо этой особенности, по лицу Эвазио Мона можно было сразу догадаться, что перед вами человек с полным самообладанием. А человек, способный властвовать над собой, обыкновенно способен властвовать и над окружающим миром, поскольку это входит в его намерения.
Было что-то особенное в голубоватых глазах этого человека, что говорило о том, что победа над самим собою далась ему не легко. Эти глаза были всегда полузакрыты. Волосы у него были почти красные, лицо — узкое и продолговатое, не из тех, которые свидетельствуют о природном добродушии. Среднего роста, с узкими плечами, он держался прямо и стройно. Круглый подбородок его был тщательно выбрит. На носу сидело золотое пенсне, которым он любил играть во время разговора, близоруким взглядом рассматривая его пружину или черный шнурок, на котором оно было прикреплено.
Душою и телом он, казалось, был еще молод. Однако Рамон Саррион сказал, что он знает его с детства, а это было в те времена, когда принцесса Христина была еще испанской королевой.
Мон еще не ложился спать, хотя на колокольне нового собора пробило уже половину первого. Прошло всего полчаса с того момента, как перевозное судно пристало к берегу, и Мон поглядел на часы, стоявшие у него на камине.
Он, казалось, ожидал дальнейших событий, которые должны были последовать за прибытием дона Франциско, которого он так хорошо выследил.
Этого продолжения не пришлось долго ждать: раздался мягкий стук в дверь, как будто кто-то стучал жирным пальцем. Мон пригласил войти. Дверь открылась, и в огромном черном четырехугольнике показалась высокая фигура монаха — того самого, который поспешил на помощь раненому путнику. Свет лампы упал на широкое и тяжелое лицо монаха и его узкий лоб, какой бывает у фанатиков.
Такое лицо не могло принадлежать умному человеку.
Мон протянул руку. Он знал, что послание будет не на словах. В ту же секунду из каких-то таинственных складок монашеского одеяния появилось письмо.
«Они дали маху: он остался в живых. Было бы лучше, если б вы пришли сами», — гласило письмо.
— Что вам известно о деле, брат мой? — спросил Мон, поднося письмо к свечке. Когда оно вспыхнуло, он бросил его в уже остывший камин.
— Очень мало, ваше превосходительство. Один из отцов, творивший молитву около окна, услыхал на улице шум борьбы и послал меня посмотреть, в чем дело. Я нашел на земле какого-то человека и, согласно данному мне приказу, не трогая его, пошел за помощью.
Мон задумчиво покачал головой.
— Не говорил ли чего-нибудь этот человек?
— Ни слова, ваше превосходительство.
— Вы умный человек, брат мой. Я пойду с вами.
Лицо монаха расплылось от этого комплимента в самодовольную улыбку, которая является обыкновенно тогда, когда глупость и старательность соединяются в одном мозгу.
Мон медленно поднялся с кресла и потянулся. Было видно, что он немедленно лег бы спать, если б мог действовать, как ему хотелось. Но надо было идти.
Пересекая улицу Дона Хаима, он слышал, как погонщик кричал на мосту на своих мулов. На улицах было еще довольно тихо, и окрики ночного сторожа, бродившего по околотку, слышны были далеко, на самой площади Конституции.
Закутавшись от ночной свежести до самых ушей, Эвазио Мон быстро дошел до улицы св. Григория и скрылся в незапертой двери, которая привела его на внутренний дворик, или patio, большего четырехугольного дома. Поднявшись затем по каменной лестнице, он постучал в одну из дверей, которая тотчас же открылась.
— Войдите, — промолвил открывший ее человек, седовласый священник с добродушным лицом.
— Он уже пришел в себя. Просит позвать нотариуса. Он умирает. Я думал, что вы…
— Нет, — быстро возразил Мон, — он узнает меня, хотя мы с ним не видались лет двадцать. Сделайте это сами. Переоденьтесь.
Он говорил, как имеющий власть, и священник в смущении мял в руках перепоясывавшую его веревку.
— Но я ничего не понимаю в законах, — заметил было он.
— Об этом я уже подумал. Вот два духовных завещания. Они написаны так мелко, что их почти нельзя прочесть. Вот это он должен подписать. Если это не удастся, то необходимо заставить его подписать другое. Вы видите, как они различаются между собой. У этого черточка идет слева направо, а у этого — справа налево. Я подожду здесь, пока вы переоденетесь. Если возникнет какой-нибудь непредвиденный случай, мы сумеем с ним справиться.
Холодно промолвив последнюю фразу, он принялся своими полузакрытыми глазами следить за священником, который снимал в уголке свое одеяние.
«Не пугайтесь, — казалось, говорил своим видом Эвазио Мон. — Я опытный лоцман и прекрасно знаю те воды, куда я вас веду.»
Рядом в маленькой комнатке умирал дон Франциско де Модженте. Он лежал полураздетый на узкой кровати. На столике около него стоял таз с водой и пузырек с лекарством. Видно было, что ему только что была оказана врачебная помощь. Но доктор уже ушел. Вместо него в комнате находились два монаха. Один из них, высокий и сильный, был тот самый, кто наткнулся первый на раненого.
— Нотариуса, — прошептал дон Франциско.
Он устремил вперед взгляд остекленевших глаз и быстро думал. По временам его лицо принимало удивленное выражение, как будто у него в мозгу мелькала какая-то мысль, мелькала вопреки его воле и сознанию, что ему нельзя терять ни минуты.
— За нотариусом уже послали, и он сейчас явится, — отвечал один из монахов. — Чем думать о нотариусе, обратите лучше мысль свою к Богу, сын мой.
— Не вмешивайтесь не в свое дело, — спокойно отвечал де Модженте.
Едва он успел промолвить эти слова, как дверь отворилась и вошел какой-то старик. В одной руке у него была связка бумаг, а в другой гусиное перо.
— Я нотариус… Вы посылали за мной… — сказал он.
В дверях, шагах в двух от умирающего, стоял Эвазио Мон. Нотариус взял столик и переставил его так, чтобы, глядя в лицо раненому, он краем глаза мог видеть и Мона.
— Вы хотите дать какие-нибудь показания или духовное завещание? — спросил нотариус.
— Показаний никаких не надо. Бесполезно… Ведь меня почти уже убили… Я сделаю распоряжение в другом месте.
И он рассмеялся горьким смехом.
— Духовное завещание… — продолжал он.
Нотариус обмакнул перо.
— Меня зовут Франциско де Модженте.
— Родом? — спросил нотариус, записывая.
— Из этого города. Вы, очевидно, не здешний, иначе вы знали бы это.
— Я, действительно, не из Сарагосы. Продолжайте.
— Из Сарагосы и Сант-Яго. Я оставляю большое состояние.
Один из молившихся монахов невольно сделал движение. Под коричневой одеждой нищенствующего монаха шевельнулась любовь к деньгам.
Франциско де Модженте умирал.
— Дайте мне подкрепляющего, — прошептал он, — иначе я не могу говорить.
Переведя дух, он продолжал:
— Есть еще духовное завещание, которое я сим уничтожаю. Я сделал его, когда еще был молодым человеком. Моей дочери Хуаните де Модженте я оставляю соответственную часть. Завещание же я хочу сделать в пользу моего сына Леона.
И, переждав, пока нотариус быстро водил пером по бумаге, он прибавил:
— На одном условии.
«На одном условии», — записал нотариус и нагнулся было вперед, но по знаку Эвазио быстро выпрямился.
— Чтобы он не вступал в духовное звание и чтобы ни гроша не уделял из моего состояния в пользу церкви.
Записывая это условие, нотариус сидел прямо, как палка.
— Мой сын в Сарагосе, — вдруг сказал умирающий изменившимся голосом, — я хочу его видеть. Пошлите за ним.
Нотариус взглянул на Эвазио, который покачал головой.
— Я не могу посылать за ним в два часа ночи.
— В таком случае я не подпишу завещания.
— Подписывайте, подписывайте, — заговорил нотариус, с недоумением глядя на дверь, за которой стоял Эвазио, — подписывайтесь сейчас, а завтра увидитесь с вашим сыном.
— Для меня, милый мой, завтрашнего дня не существует. Посылайте за моим сыном сейчас же.
Мон с неудовольствием кивнул головой.
— Хорошо, я сделаю так, как вы хотите, — сказал нотариус, которому, видимо, хотелось поскорее подняться и уйти в другую комнату, чтобы получить дальнейшие приказания Мона.
Умирающий лежал с закрытыми глазами и не двигался, пока не явился его сын.
Леон де Модженте был тщедушный человек, с белым и до странности закругленным лбом. Глаза у него были черные. Увидев отца в столь бедственном положении, он не обнаружил никакого волнения:
— А, — промолвил старик, — это ты. Ты похож на монаха. Уж не поступил ли ты в монастырь?
— Нет еще, — басом отвечал бледный молодой человек.
Эвазио Мон, наблюдавший за ним из дверей, улыбнулся. Казалось, все то, что скажет этот юноша, не внушало ему никаких опасений.
— Но ты хотел бы стать монахом?
— Это мое горячее желание.
Умирающий рассмеялся.
— Ты весь в мать, — промолвил он, — она тоже была полоумная. Иди-ка обратно спать, милый мой.
— Но я лучше останусь здесь и помолюсь за тебя, — возразил сын.
Он был слабый человек — единственный из всех, кто здесь присутствовал.
— Ну, молись, если хочешь, — отвечал отец, не делая даже усилия показать ему свое презрение.
Нотариус опять уселся за стол и, устремив глаза в потолок, казалось, припоминал, на чем он остановился.
— Вы, может быть, хотите оставить свое состояние, — заговорил он, — на какое-нибудь доброе дело?
Эвазио Мон закачал головой.
— Например… — начал было нотариус и конфузливо умолк. Он опять попал впросак.
Модженте, видимо, слабел. Он лежал неподвижно и пристально глядел вперед.
— В Сарагосе ли граф Рамон де Саррион? — вдруг спросил он.
— Нет, его здесь нет, — отвечал нотариус, предварительно взглянув в темный четырехугольник открытой двери. — Нет, его здесь нет. Не забывайте, однако, о завещании. Итак, вы хотите оставить ваше состояние сыну?
— Нет.
— Стало быть, вашей дочери?
Этот вопрос, казалось, был сделан не тому, кто лежал в постели, а тому, кто стоял в дверях.
— Стало быть, вашей дочери? — повторил нотариус смелее, — дочери?
Модженте кивнул.
— Пишите коротко и ясно, — сказал он тихим, но внятным голосом, — не прочитав все слово за словом, я не подпишу. А времени у меня немного.
Мнимый нотариус взял чистый лист бумаги и крупными буквами написал, что Франциско де Модженте оставляет все свое состояние единственной своей дочери Хуаните де Модженте.
Франциско де Модженте внимательно прочел бумагу и, поддерживаемый сильным монахом, подписал ее. После этого он затих и лежал так неподвижно, что мнимый нотариус, следивший за ним, вдруг опустился на колени и стал молиться за новопреставившуюся душу.
III За высокими стенами
В эти дни всеобщего развращения Сарагоса присоединила к себе пригород — первый признак того, что город разрастался. Однако тридцать лет тому назад Торреро еще не существовал, и ужасные сооружения из белого камня и известки, которые обезображивают в настоящее время этот холм к югу от города, еще не разрушали гармонию древней Испании.
Здесь на Монте Торреро стоял в старинные времена монастырь, превращенный ныне в казармы. Здесь же среди деревьев старых садов высится круглый купол церкви св. Фернанда.
Неподалеку, несколько выше, вьется Императорский канал, насчитывающий четыреста лет существования и до сих пор еще не оконченный. Начали его строить еще мавры, любившие поднимать чистую воду на высокие места. Затем предприятие это попало в руки испанцев, да так и осталось не оконченным, когда мавры ушли из Испании.
Обойдя монастырские стены, канал извивается вокруг бурого холма, явственно разграничивая зеленый оазис Сарагосы от внешней выжженной пустыни. Как раз на самой границе этого оазиса, сразу за каналом, стояло длинное и низкое здание монастырской школы «правоверных сестер». Здесь среди спокойных садов, весною покрытых цветами, а осенью отягощенных фруктами, жизнь то бушевала, то замирала, словно прилив и отлив, вызываемые влиянием отдаленной планеты. И планетой этой был Рим.
Община «правоверных сестер» была иезуитской корпорацией, и их монастырская школа то оставалась школой, то превращалась в целый монастырь, смотря по приливу или отливу. Первый отлив произошел в 1555 году, когда Испания изгнала иезуитов. Высший прилив был в 1814 году, когда Фердинанд VI из Бурбонского дома одновременно вернул иезуитов и восстановил инквизицию.
В 1835 году это длинное низкое здание в фруктовом саду было разграблено рассвирепевшим населением, и, говорят, не одна сестра была при этом убита. В 1836 году все монастыри и духовные общины подверглись сильному гонению со стороны министра королевы Христины Мендизабаля. А в 1851 году дочь Христины, королева Изабелла II, снова разрешила им обосноваться там, где они существовали и раньше.
Дорога, проложенная по берегу канала, была уже безлюдна, когда на большой дороге к югу от Сарагосы показался всадник, быстро повернувший к каналу. То был граф Саррион.
Он пробыл в Сарагосе всего сутки, не успели даже приготовить для него его дворец на Paseo del Ebro и графу пришлось довольствоваться двумя комнатами, выходившими на дворцовый двор. Теперь он, очевидно, направлялся к монастырской общине. В руках у него был кинжал прекрасной работы, тот самый, который накануне ночью из рук де Модженте упал в уличную канаву.
В сочной осоке, росшей по краям канала, звучно перекликались лягушки. Ниже, в фруктовых садах заливались соловьи, как заливаются они только в Испании. Был теплый темный летний вечер, почти совершенно безветренный. Среди аромата тысячи цветов, раскрывающихся почек и цветущих кустов чувствовался легкий запах застоявшейся воды, потревоженной лягушками, как бы приглашавший усталого и запыленного путника отдохнуть до утра в прохладных местечках под деревьями.
Граф Саррион ехал довольно медленно. Его сухощавая высокая фигура держалась в седле прямо, и эта посадка и его манеры, одновременно приветливые и холодные, притягивали к нему и вместе с тем держали каждого в отдалении. Само имя его отдавало чем-то арабским: маленький городок Саррион лежит в самом центре мавританского края, на берегах Валенсии.
Достаточно было взглянуть на лицо Рамона Сарриона и его сына, высокого смуглого Марка де Сарриона, чтобы прочесть на нем отпечаток старинного духа выжженных солнцем высот Хаваламбры, история которой начинается за много столетий до Рождества Христова, где какая-нибудь мусульманка забыла все ради любви к неукротимому, но утонченно-вежливому испанскому рыцарю из Сарриона и завещала своим потомкам глубокие, задумчивые глаза и невозмутимое самоуважение ее расы.
Волосы Сарриона уже серебрились. Он носил усы и бородку на французский манер и смотрел на окружающее острым, пронизывающим взглядом, словно орел. Сходство с орлом усиливалось еще его тонко очерченным носом. В молодости он, должно быть, был красавцем.
Подъехав к воротам монастыря, построенного солидно, с толстыми стенами, сквозь которые не мог заглянуть внутрь ничей любопытный глаз, он потянул поводья и стал прислушиваться, сидя неподвижно на привычном к этому коне. На часах колокольни церкви св. Фернанда пробило девять часов. Все было тихо кругом. За каналом тянулось голое поле. С левой стороны вид был закрыт монастырской стеной.
Саррион подъехал к воротам и позвонил. Он дернул за колокольчик только раз и стал ждать, став перед решеткой, отделявшей тяжелые деревянные ворота. За решеткой бесшумно отворилось окно и так же бесшумно закрылось. Чей-то женский голос спросил, кто он такой.
— Я граф Рамон де Саррион и непременно должен видеть настоятельницу сейчас же, — промолвил он в ответ и с терпением южанина снова уселся в седле поудобнее. Он ждал довольно долго, пока наконец открылись тяжелые деревянные ворота. Лошадь, подняв уши и посматривая кругом, осторожно двинулась во двор. Внимание всадника было привлечено двумя темными женскими фигурами, которые, пропустив его, налегли всей тяжестью своих тел на тяжелые двери, запиравшие ворота.
Саррион слез с седла и привязал лошадь к кольцу, которое было вделано в стену как раз около ворот. Все молчали. Обе монахини бесшумно задвинули тяжелые засовы ворот и, позвякивая ключами, пошли вперед, к монастырскому зданию.
В маленькой приемной посетителя попросили подождать. То была квадратная, почти пустая комната с одним окном, расположенным очень высоко от пола. На столе тускло горела небольшая лампа. Этот стол и три-четыре стула составляли всю меблировку комнаты. Побеленные известью стены были голы. Монастырская школа правоверных сестер не грешила языческим избытком гостеприимства, и в этой комнате посетители чувствовали себя лишь укрытыми от непогоды. В двери виднелся обычный глазок.
Не оглядываясь, Саррион опустился на стул с видом человека, которому окружающая его обстановка уже надоела.
Прошло несколько минут. Вдруг дверь бесшумно отворилась, и вошла монахиня. Она была высокого роста, и тень, падавшая на ее лицо от капюшона, делала ее глаза темными. Притворив за собою дверь и откинув капюшон, она подошла к Сарриону и, нагнувшись, поцеловала его. Освещенная теперь лампой, она поражала своим сходством с Саррионом.
В ее движениях и в манере держать голову была печать какого-то самоотвержения. Испанки более, чем всякие другие женщины, понимают свое призвание — любить и быть матерью. И сестра Тереза — в миру Долорес Саррион, казалось, перенесла всю свою любовь на брата.
— Хорошо поживаешь? — спросил Саррион, устремляя пристальный взгляд на ее серое и худое лицо.
Она с улыбкой кивнула головой, скользнув по нему глазами с тем вопросительным выражением, которое красноречивее всяких вопросов. Сложив руки и спрятав их в широких складках своих рукавов, она безмолвно стояла перед братом. Ее лицо опять скрылось в тени капюшона. Минутное проявление женственности и родственной привязанности уже прошло, и перед Саррионом опять стояла настоятельница, которую все так боялись.
— Ты, как всегда, один? — спросила она. — Когда уже наступила ночь, это не совсем безопасно, особенно для тебя, у которого столько врагов.
— Марко в Торре-Гарде, где я оставил его три дня тому назад. Снег тает, и рыбная ловля теперь чудесная. Приезжать сюда в такой поздний час не совсем удобно, это правда, но я по экстренному делу.
С этими словами он взглянул на дверь. Царившая во всем здании тишина, казалось, предрасполагала его к подозрительности.
— Я, разумеется, хотел прежде всего видеть тебя и знаю, что деловые разговоры как-то не идут к атмосфере этого священного места.
Она едва заметно мигнула веками, но ничего не ответила.
— Мне нужно видеть Хуаниту де Модженте, — продолжал граф, — я знаю, это у вас не полагается, но здесь ты все можешь сделать. Дело очень важное, иначе я не стал бы тебя просить.
— Она уже спит. Ведь они ложатся в восемь часов.
— Я знаю. Но ведь, насколько я припоминаю, у нее своя отдельная комната. Ты можешь разбудить ее и привести ее сюда. Никто не будет знать об этом, кроме тех, кто подглядывает в коридоре за монахинями. О, Господи! — продолжал он, пожимая плечами. — Эта таинственность угнетает меня. Я вовсе не привык действовать таинственно. Всем известен мой образ мыслей. А здесь я должен устраивать чуть не заговор! Итак, можно видеть Хуаниту?
— Хорошо.
Саррион рассмеялся и кивком головы поблагодарил сестру.
— Послушай, Долорес, — сказал он, — оставь нас одних, это может устранить некоторые затруднения, которые могут возникнуть в будущем. Понимаешь?
Сестра Тереза, уже направившаяся было к двери, обернулась и посмотрела на него. Ему не видно было выражение ее глаз, и он так и не знал, поняла она его или нет.
Может показаться странным, что сестра Тереза, несмотря на свою важность и достоинство, действовала очень быстро, ибо не прошло и пяти минут, как дверь приемной отворилась и в комнату вошла, запыхавшись, молодая девушка. Ей было лет шестнадцать или семнадцать. Войдя в комнату, она откинула одной рукой тяжелую темную косу.
— Я уже спала, дядя, — воскликнула она с беззаботным смехом, — и дежурной сестре пришлось чуть не стащить меня с кровати, чтобы разбудить. Я было думала, что случился пожар. Мы всегда ждем пожара!
Она продолжала приводить в порядок свое наскоро надетое платье.
— Я даже не успела надеть чулки, — продолжала она, ища глазами сестру Терезу. Но ее в комнате не было.
— О, сестра забыла прийти со мной сюда, — воскликнула Хуанита. — Это нарушение наших правил. Ведь мы не имеем права принимать посетителей сами, кроме отца или матери. Впрочем, это не моя вина.
Она продолжала смотреть то на Сарриона, то на дверь. Она была еще очень молода, а потому весела и беззаботна. Щеки ее, на которых еще были заметны следы подушки, напоминали персик, созревший в лучах ласкового южного солнышка. Глаза у нее были черные, блестящие, в них было еще много беззаботности и ребячества. Они, казалось, были созданы только для смеха, а не для слез и отражения мыслей.
Хуанита была воплощением молодости и простодушия. Чтобы найти такое незнание света и незнание людей, нужно обращаться или в монастырь, или к самой природе.
— Я приехал повидать тебя сегодня, потому что завтра утром я, вероятно, уже уеду из Сарагосы, — сказал Саррион.
— И наша настоятельница позволила нам повидаться! Не понимаю, как могло это случиться. Она и так вчера была очень сердита на меня: я, знаешь, всегда что-нибудь разобью.
И в отчаянии она простерла вперед свои руки.
— Вчера я разбила стоявшую в алтаре вазу и споткнулась об эту глупую статую св. Андрея. Есть какие-нибудь известия о папе?
Саррион с минуту колебался от неожиданности этого вопроса.
— Нет, — сказал он, наконец.
— Как бы мне хотелось, чтобы он вернулся сюда с Кубы, — с мимолетной серьезностью промолвила девушка, — теперь он, вероятно, уже седой? Мне нравятся седые волосы, — добавила она поспешно. — Я думаю, что это ему пойдет. Одна из наших девиц говорила мне как-то, что она не любит своего отца. Вот странно, не правда ли? Это — Миллагрос де ла Виллануэва, ты ее не знаешь? Когда-то мы были с ней подругами, все говорили друг другу. У нее волосы совсем красные.
Саррион невольно улыбнулся.
— А у тебя есть какие-нибудь известия от него? — спросил он.
— Я получила от него письмо в день св. Марка и с тех пор ничего о нем не слыхала. Он писал, что этим летом он собирается сделать мне сюрприз, и притом очень приятный. Что он хотел сделать? Ты не знаешь?
— Нет, — задумчиво отвечал Саррион.
— А Марк не с тобой? — весело продолжала девушка. — А! Он не решается проникнуть к нам за эти стены! Он боится монахинь! Я знаю это, хоть он и отпирается. Когда-нибудь на праздник я оденусь монахиней. Вот тогда и посмотрим! От страха он совсем с ума сойдет!
— Да, вероятно, — отвечал Саррион, глядя на нее, — скажи, пожалуйста, — продолжал он, немного помолчав, — знаешь ты этот стилет?
И он протянул ей стальной кинжал, который он подобрал в канаве на улице св. Григория.
Она взглянула сначала на клинок, потом на Сарриона. В ее глазах виднелось изумление.
— Конечно, знаю, — отвечала она, — этот стилет я послала папе в подарок к Новому году. Ты же сам выписал его из Толедо. Как он к тебе попал? Не обманывай меня. Говори скорее, он здесь? Он вернулся?
Не помня себя от любопытства, она положила обе руки на его пыльные плечи и смотрела ему прямо в лицо.
— Нет, дитя мое, он не вернулся, — отвечал Саррион, поглаживая ее волосы с какой-то необычайной нежностью, которая надолго осталась у нее в памяти. — Стилет, вероятно, был украден у него и вернулся опять в Сарагосу в руках какого-нибудь вора. Я поднял его вчера на улице. Я напишу об этом твоему отцу.
Саррион поспешил отвернуться, чтобы скрыть свое лицо в тени. Ему страшно было глядеть в эти черные блестящие глаза: он боялся, что она поняла, что телеграмма уже послана им на Кубу.
— Я приехал только спросить тебя, не слыхала ли ты чего-нибудь об отце, и осведомиться о том, как ты поживаешь. А теперь мне надо ехать обратно.
Она, стоя, посматривала на него, нервно дергая кружевную оборку своих рукавов. Она носила только лучшее, что производила Сарагоса, носила, не жалея ни платья, ни денег, как это всегда делают те, у кого их много.
— Мне кажется, что ты что-то скрываешь от меня, — промолвила она, опуская темные ресницы. — Тут какая-то тайна.
— Нет, никакой тайны тут нет. Спокойной ночи, дитя мое. Иди спать.
Взявшись за ручку двери, Хуанита вдруг остановилась и обернулась назад. Лицо ее было почти скрыто распустившимися волосами, которые падали до пояса.
— Это верно, что никаких известий об отце не было? — спросила она.
— Конечно, конечно, — забормотал дон Рамон. — Эх, если б это и было так, — грустно добавил он, когда дверь уже закрылась.
IV Счастливый случай
В тот же вечер граф Саррион сидел в небольшой комнате, служившей когда-то будуаром его жены, и при свете одинокой лампы писал письмо своему сыну. Покончив с этим делом, он немедленно отправил его с нарочным в свое имение Торре-Гарда, которое находилось на южном склоне Пиренеев, недалеко от Памплоны.
— Я слишком стар для этого, — говорил он сам с собой, запечатывая письмо, — тут нужен человек помоложе. Марко справится с этим, хотя он и ненавидит улицу. Тут своего рода охота, а Марко — страстный охотник.
На его зов явился слуга, загорелый сухой и весь в морщинах, — словом, типичный арагонец. Его одеяние, как и его лицо, было серого цвета. На нем были штаны до колен, коричневые чулки домашнего изготовления, платок, обмотанный вокруг шеи и головы, причем узел приходился над левым ухом. Внешность его была довольно дикая, но черты лица, если в них всмотреться, отличались тонкостью, и в глазах светился бойкий ум.
— Поезжай сейчас же в Торре-Гарду. Отвези это письмо и собственноручно передай его моему сыну. За тобой, может быть, будут следить и снарядят погоню. Понимаешь?
Слуга молча кивнул головой. В Арагоне и Наварре жители — народ неразговорчивый, настолько неразговорчивый, что, встречаясь с кем-нибудь на улице и здороваясь, они сокращают даже самое приветствие.
— Buenas, — скажут они и только.
— Ну, поезжай с Богом, — сказал граф.
Слуга бесшумно исчез из комнаты: в эту жаркую, сухую погоду никто из них не носит кожаной обуви.
Теперь Памплона соединена уже железной дорогой. Можно проехать туда и на почтовых лошадях. Но в то время, как и теперь, какое-нибудь важное письмо лучше было посылать с нарочным: власти до сих пор смотрят на железную дорогу подозрительно, видя в ней средство для распространения недовольных правительством. Каждый поезд и теперь еще осматривается на каждой остановке двумя стражниками.
На следующий день граф Саррион поднялся рано. Он знал, что Марко, наделенный инстинктами охотника и тем глубоким знанием чувств и действий других, даже животных, благодаря которому из человека получается или охотник, или вождь, уже не выпустит из рук ту маленькую нить, ведущую к происшествию на улице св. Григория, которая случайно оказалась у него в руках. Когда-то в молодости граф занимался политикой. Но, подобно тому, как старый моряк, утомленный борьбою с бурями, начинает в конце концов относиться к буре с некоторым презрением, так и он, пережив порочную монархию, продажное время регентства, затем бурю анархии и кратковременную смешную республику, стоял теперь в стороне от всего этого и с полупрезрительным равнодушием смотрел, как волны жизни одна за другой проходили мимо него.
На улицах Сарагосы его знали хорошо; он не раз наводил здесь справки о том, не видал ли кто-нибудь его старинного друга Франциско де Модженте, который собирался тайно вернуться в родной город, откуда он был изгнан в бурные дни царствования королевы Изабеллы. Де Модженте, вмешавшись в политическую жизнь Испании, попал в такое положение, что ссылка стала неизбежной и не могла быть заменена никаким другим наказанием, хотя друзья и враги одинаково хлопотали о его возвращении, если он подчинится известным условиям. Но не таков был де Модженте, чтобы подчиняться условиям.
Выпив свой утренний кофе, Саррион отправился на улицу св. Григория. Из дверей старого собора неслось громкое пение: там служили раннюю обедню. Какой-то запоздавший священник чуть не бежал в собор, чтобы получить право сказать, что и он отстоял обедню. Наоборот, нищие плелись к собору ленивой рысцой: исходя из философского убеждения, что милосердные благодетели могут подать им и после обедни, они не считали нужным являться на соборную паперть слишком рано.
Саррион скоро нашел место убийства, которое он видел накануне при свете луны. Вот здесь повернул этот человек — может быть, Франциско де Модженте. Вот здесь, около вечно открытых ворот необитаемого дворца он стоял, прижавшись спиною к стене и отбиваясь от нападения. Вот тут он упал. Вот с этого угла явился ему на помощь монах — обстоятельство довольно странное, так как церковь всегда была враждебна изгнаннику.
Саррион видел, что раненого понесли за угол улицы св. Григория и площади св. Бруно. По движениям тех, кто нес тело, Саррион сообразил, что они направлялись в дом, стоявший сейчас же за углом, против высокого здания епископского дворца.
Проследив мысленно каждый шаг этих людей, Саррион решился войти в заподозренный им дом. То было огромное здание, разделенное на множество мелких помещений. Раньше он никогда не обращал особого внимания на ворота этого дома. Подобно воротам других больших домов, они были высоки. За ними виднелась каменная лестница. Целый день они оставались открытыми, а лестница, очевидно, была в общем пользовании, о чем свидетельствовала накопившаяся на ней грязь.
Пока Саррион разглядывал двор, на лестнице показалась какая-то фигура. Зная, что он прекрасно известен всем в лицо, и не решаясь направиться в какое-либо помещение, на которые разделялся дом, Саррион остановился в воротах и стал ждать. Вглядевшись пристально в фигуру, спускавшуюся по лестнице, он узнал в ней своего старого друга Эвазио Мона, который, как всегда, улыбался и, казалось, готов был приветствовать всякого в это чудное солнечное утро.
Уже много лет не приходилось им встречаться. Их связывали дружеские отношения, завязавшиеся еще между их родителями. Эти отношения перешли и к ним по наследству, но личных симпатий, которые бы связывали, их, между ними не было. Когда они оба вышли из детского возраста, их пути разошлись и, хотя потом они и встречались неоднократно, тем не менее каждый шел своей особой дорогой. Саррион оставался светским человеком, Эвазио готовили в духовное звание.
— Не раз я спрашивал себя, почему это мы никогда не сталкивались с Эвазио Моном, — говаривал иногда Саррион своему сыну.
— Для того, чтобы столкнуться, нужно обоюдное желание, — подумав, отвечал Марко.
И это, быть может, было единственно правильным объяснением.
Саррион поднял глаза и с любезной улыбкой, но важно поклонился Эвазио. Оба сняли шляпы с какой-то преувеличенной любезностью.
— Вот не рассчитывал видеть вас в Сарагосе, — мягко сказал Мон.
Воспитание кладет на человека печать, неизгладимую на всю жизнь. Глядя на Эвазио, сразу можно было сказать, что он учился в семинарии, которой не забыл.
— Что это за дом? — спросил Саррион. — Я как раз шел туда.
Мон обернулся и легким жестом указал на эту груду камней и цемента.
— Самый обыкновенный дом, друг мой, такой же, как и другие дома.
— Кто здесь живет?
— Разная беднота. Как во всяком другом доме, народ, которому приходится помогать, но которого нельзя не презирать.
Он рассмеялся и пошел было вперед, направляясь, по-видимому, без всякой цели в сторону, противоположную от дома, который был, как и все другие.
— Презирать только потому, что он беден? — спросил Саррион, не обнаруживая ни малейшего желания следовать за Моном.
— Отчасти и потому, — согласился Мон, поднимая палец. — Ведь только дураки остаются бедняками в этом мире, друг мой.
— В таком случае, зачем же Господь Бог послал в мир столько дураков?
— Вероятно, потому, что мудрецов Ему не нужно.
Их разговор как-то вдруг оборвался. Несколько минут они стояли молча, поглядывая друг на друга.
— Если хотите, я скажу вам, зачем я иду в этот дом. Я ведь давно уже перестал интересоваться политикой нашей несчастной страны.
Мон сделал жест, как бы желая сказать, что Саррион поступил умно и что не стоит об этом и разговаривать.
— Вчера вечером на этой улице было совершено нападение на человека. То было делом обычных уличных головорезов, надо думать. Я все это видел с моего балкона. Вот с этого угла его видно.
Он повлек Мона на угол и показал ему на свой мрачный дворец, высившийся в конце улицы.
— Было темно, и я не мог рассмотреть всего, — продолжал он, невольно отвечая на вопрос, который волновал в это время его собеседника, мерившего глазами расстояние.
— Мне кажется, раненый был перенесен сюда. Я не успел ему на помощь. Прежде, чем я спустился, все исчезли.
— Это делает честь вашему доброму сердцу, что вы интересуетесь судьбой какого-то мазурика, к тому же, вероятно, и пьяного, ибо иначе он не рискнул бы бродить здесь в такой поздний час.
— О часе я не говорил.
— Я предполагаю, что это было поздно, — отвечал Мон с усмешкой. — Такие происшествия не бывают в раннее время. Впрочем, займемся лучше розыском вашего распутного protege.
И он быстро повернулся к дому и пошел вперед.
— Я имею основание думать, — продолжал Саррион, не спеша, двигаясь за ним, — что этот человек был мой старинный друг.
— В таком случае, Рамон, он должен быть и моим другом. Кто же это?
— Франциско де Модженте.
Мон остановился. На лице его появилось выражение самого искреннего удивления. А между тем его глаза под опущенными веками зорко смотрели по сторонам.
— Наш бедный, полоумный Франциско! — воскликнул он. — Вы имеете какие-нибудь известия от него?
Он задал этот вопрос равнодушным тоном, уже поднимаясь по лестнице.
Ответа не последовало: Саррион самым внимательным образом осматривал ступени лестницы.
— На ступенях капли крови, — сказал он. — Лужа крови на улице засыпана пылью. Засыпаны пятна и здесь. Но если пыль стряхнуть, их видно ясно.
Сняв перчатки, с которыми испанцы не расстаются, выходя из дому, Саррион обтер ими пыль.
— Да, вы правы, — согласился Мон, рассматривая пятна, — пойдем на разведку дальше. Я тут многих знаю, в этом доме. Тут все народ бедный. Из них я кое-кому помогаю как могу, когда приходится тяжело зимой.
Теперь он весь превратился в любопытство и старался всячески помочь своему другу. Он настаивал на том, что необходимо перерыть весь дом и опросить всех его обитателей.
Но все его поиски не привели ни к чему.
— Я, конечно, не называл фамилии этого человека, — начал он опять, когда оба они вышли на улицу. — Это не могло нам помочь. Боюсь, что вы сделались жертвой своей фантазии. Ведь Франциско теперь находится на Кубе, в Сант-Яго, и никогда не вернется сюда. Если б он был здесь, в Сарагосе, то уж сыну-то его это, конечно, было бы известно. Я видел третьего дня Леона де Модженте, и он ничего не говорил об отце. И незадолго до этого я говорил с Хуанитой. Мы как-нибудь расспросим Леона, но только не сегодня. Сегодня предполагается шествие паломников к раке Богородицы, и Леон, конечно, будет в нем участвовать. Он ведь наполовину монах, как вам известно.
Беседуя таким образом, они шли к улице св. Григория. В это время, как бы в доказательство того, как часто судьба выводит на чистую воду тех, кто думает ее обмануть, врата собора отворились, и из них вышел Леон де Модженте, щурясь от горячего солнца. Встреча была неминуема.
— Вот удача-то, — сказал Мон. — Это как раз Леон и есть.
Молодой человек уже заметил их и поспешил им навстречу. При солнечном свете он казался бледным и малокровным, как истый обитатель монастыря. Он смиренно поклонился Мону, но заговорил не с ним, а с графом Саррионом. Он, видимо, знал, что Мону неприятна эта встреча.
— Я не знал, что вы в Сарагосе, — проговорил он. — Случилась ужасная вещь. Убили моего отца. Два дня тому назад он тайно вернулся в Сарагосу. Здесь на него напали на улице и нанесли ему смертельную рану. Он умер, не приобщившись Св. Тайн.
— И умер в этом доме, — прибавил Саррион, указывая палкой на дом, из которого они только что вышли.
— Да-а, — несмело отвечал Леон, бросая быстрый взгляд на Мона. — Может быть, и тут. Не знаю. Он умер без покаяния. Вот что меня больше всего беспокоит.
— Да, конечно, — холодно бросил ему Саррион.
V Богомольцы
Эвазио Мон был великий путешественник. В восточных странах человек, совершивший путешествие в Мекку, имеет право присоединять к своему имени титул, который дает ему почетное место даже среди избранных.
Если бы этот обычай существовал в Испании, то Эвазио, без сомнения, получил бы тьму таких титулов. Он проделал почти каждое пилигримство, которое предписывала церковь. Много раз бывал он в Риме и мог рассказать, чем здешние раки святых отличаются одна от другой. Чудеса стали его специальностью.
Если женщине хотелось иметь сына, чтобы получить продолжателя рода, он мог посоветовать ей совершить мало кому известное паломничество в горы, которое редко не производило надлежащего действия.
— Поезжайте, — говорил он. — Съездите туда-то и помолитесь. Это самое лучшее. Воздух в горах восхитительный, а поездка развлекает ум.
И все действительно сбывалось. И, конечно, только профан читатель стал бы спрашивать, почему эти чудеса происходили всегда в окрестностях какого-нибудь популярного курорта.
Если кто-нибудь впадал в тоску, Эвазио Мон посылал его в длинное путешествие, куда-нибудь в веселый город, где люди, несмотря на свою набожность, могут находить развлечение по вечерам.
Все эти указания он давал не понаслышке. Он сам бывал во всех этих местах и сам, так сказать, испробовал их, и это заметным образом отозвалось на его здоровье, которым он наслаждался. В путешествиях этих он, видимо, не испытывал особых лишений, ибо на его белом лбу не было заметно ни одной морщинки.
Он, вероятно, видел на своем веку немало городов, но города приблизительно везде одни и те же. С многими, вероятно, сталкивала его судьба, но эти многие, потеревшись об него, как песчаник об алмаз, не оставили на нем никакого следа. Он был чужд всему тому, что ему приходилось видеть, ибо смотрел не на людей и города, а сквозь них, на что-то такое, что было в самой сердцевине их и на что всегда были устремлены его глаза.
Проживая в городе, в котором находилась такая святыня, как Богородица Соборная, явившаяся в видении св. Иакову, когда он путешествовал по Испании, Мон, естественно, интересовался пилигримами, которые стекались в сарагоский собор со всего света и которых во всякое время можно было видеть в соборе на коленях, озаряемых тусклым светом свеч на алтарной решетке.
Квартира Мона, жившего в высоком доме рядом с «Королевской гостиницей» на Paseo del Ebro, служила приютом для тех пилигримов, которые были покультурнее и приезжали издалека, откуда-нибудь из-под Варшавы.
У Эвазио Мона было немало друзей и среди простого народа, ютившегося где-нибудь в «Королевской гостинице», этой типичной испанской гостинице, или на постоялом дворе, где путешественник должен был считать себя счастливым, если все комнаты были уже заняты. Ибо тогда он мог, не нанося никому оскорбления, лечь спать где-нибудь на сеновале. Отсюда он будет слышать вечный звон колоколов и постоянные покрикивания на упрямых мулов. Отсюда ему будет видно, как сюда приезжают и уезжают какие-то люди, весьма дикого вида, видимо, из медвежьих углов Арагонии и даже Пиренеев. В любое время суток во двор въезжают огромные двухколесные телеги, влекомые четырьмя, шестью или даже восемью мулами и везущие плоды краев, более богатых растительностью, чем эта арагонская пустыня. Некоторые из них прибывают из других оазисов среди этой соленой и каменистой пустыни, которую когда-то покрывало внутреннее море; другие тащатся с севера, где высится Сиерра де Гуара, сливающаяся с гигантскими Пиренеями.
Многие из этих спутников направлялись прямо к дверям дома, где вел свою спокойную жизнь Эвазио Мон, и передавали ему какое-нибудь письмо или приносили ему вести на словах, стараясь не забыть их во время своего длинного пути по пыльной дороге. Словом, Мон, не будучи сам священником, был, кажется, известен любому из них. Письма и вести были обыкновенно от какого-нибудь священника из дальнего городка и гласили о том, что работа подвигается успешно и не следует терять надежду.
Иногда к нему заходили и духовные лица, сидевшие обыкновенно под навесом большой телеги или ехавшие на мулах. Обычно они появлялись в феврале, в годовщину чудесного видения, когда резное изображение Богоматери, водруженное в соборе, считалось более доступным для молитв, чем в другое время. Покончив с богомольем, они совершенно уверенно направлялись к дому, стоявшему около собора. Они знали, что тут им будут очень рады и их пригласят на завтрак или обед, на которых будет подано все, что только есть лучшего в городе. Это привлекало богомольцев тем более, что можно было повеселить свое сердце даже и в посту, не нарушая буквы церковных правил.
Мон так устроил свою жизнь, что во время сильной летней и осенней жары его в Сарагосе никогда не было — мудрая предосторожность, которая вознаграждалась его присутствием на других больших праздниках. Не трудно было заметить, что чудеса и другие события, привлекавшие богомольцев, случались обыкновенно как раз в такое время, которое было наиболее удобно для местных жителей. Таким образом, по традиции, шедшей из средних веков, для Сарагосы был отведен февраль, когда пребывание в городе было не лишено приятности, а, например, для Монсеррата — сентябрь, когда с гор дул приятный прохладный ветерок.
Эвазио Мон принадлежал, впрочем, к числу тех, которые считали более благоразумным избегать больших празднеств в Монсеррате и ездить туда на богомолье пораньше летом, когда богомольцев было немного и состав их был изыскан. В сентябре в здешний монастырь набиралось тысяч двадцать беднейшего в крае люда, превращая горы в местность для пикника, а само церковное торжество в ярмарку.
Мон никогда не знал, когда он тронется в это путешествие, и всегда делал свои приготовления к отъезду заранее, и его внезапный отъезд с ранним поездом через день после того, как он встретился со своим старым другом графом де Саррионом, изумил всех.
Он сошел с поезда в Лериде, пешком дошел от станции до города, но в гостиницу не пошел. Здесь у него был друг, дом которого всегда был открыт для него, и который жил недалеко от церкви в узкой, длинной улице, извивающейся почти через всю Лериду. В Наварре и Арагонии железнодорожное дело поставлено не так, как в иных странах. Здесь в сутки проходит обыкновенно один пассажирский поезд, и только между большими городами за последнее время число это удвоилось.
Был полдень, час сиесты, когда Эвазио Мон шел по узкой улице этого старинного городка.
Хотя солнце уже жгло порядочно и природа изнывала под его лучами, на улицах царило необычайное оживление: в тени сводов на углу рыночной площади, на мосту и на берегах реки, где невысокая стена была окончательно сравнена с землею, благодаря постоянному сидению на ней городской бедноты, — всюду небольшими группами стояли люди и о чем-то тихо говорили между собой. Не будет слишком смело, если сказать, что единственное спокойное лицо в городке было лицо Эвазио Мона, который продолжал двигаться вперед с той сосредоточенной улыбкой, которую английские диссиденты напускают на себя, чтобы намекнуть на свои христианские добродетели.
Обыватели Лериды — люди более земледельческие, чем их соседи-наваррцы, были, очевидно, чем-то встревожены. Время, в самом деле, было неспокойное. И такое состояние длилось в Испании уже более ста лет. Фердинанд VII, игрушка великого Наполеона, кумир всей Испании и один из самых мирных пройдох, которым Господь Бог когда-либо позволял сидеть на троне, оставил своей стране в наследство борьбу, которая начала уже приносить обильные плоды.
Ко времени нашего рассказа не только Арагония, но и вся Испания находились в самом несчастном положении, в котором никто не знает, чего в сущности он хочет.
С одной стороны была республиканская, демократическая Каталония, с другой — Наварра, выдрессированная духовенством лучше, чем сам Рим, где каждый мужчина был карлистом, а каждая женщина тем, чем ей велел быть ее духовник. На юге Андалузия требовала, чтобы ее оставили в покое и дали бы ей возможность идти своим собственным путем, ярко освещенным солнцем и равнодушным к славе великих наций. Что должна представлять из себя Арагония? Этого не знали и сами арагонцы.
Бурные были времена. В отдаленную, затерянную Лериду только что пришло известие, что две великие нации Европы вцепились друг другу в горло, но что произошло на берегах Рейна, было еще неизвестно политикам, спорившим на теневой стороне рыночной площади.
Бурные времена приближались и через Средиземное море. Создавалось тревожное положение и на Тибре, и, видимо, этой реке предстояло течь кровью еще до окончания года. Величайшая катастрофа, какую только приходилось переживать католической церкви, заключалась в том, что в Италии готовилась новая и притом светская столица. Все понимали, что вот-вот во Флоренции раздастся слово, которое заставит ватиканского владыку или оставить Рим, или вступить за него в борьбу.
Испания, ища для себя короля по всей Европе, заставила Францию и Германию броситься друг на друга.
Эвазио Мон знал о разыгравшейся в Эмсе сцене ранее, чем кто-либо другой на полуострове. Рано или поздно, но несомненно будет доказано исторически, что объявление Наполеоном III войны Германии было ускорено интригами католического духовенства: не нужно забывать, что Бисмарк был злейшим врагом иезуитов.
Мон догадывался, о чем беседовали между собою политики на рыночной площади. Испания все еще искала себе короля. Попробовали было устроить республику, но опыт потерпел полную неудачу.
Был еще Дон Карлос, прямой потомок брата короля Фердинанда, без церемонии согнанного им с престола. Почему же бы не быть королем и Дон Карлосу, если мы ищем короля?
Так говорили друг другу люди в пиренейских беретах. То же самое хотелось сказать им и Мону.
Когда стало уже темно, Эвазио, закутавшись от вечерней свежести до самого подбородка, снова вышел на улицу. Он направился к большому кафе на набережной и виделся там кое с кем из знакомых. На следующее утро он уехал верхом по большой дороге. Он держался в седле красиво, но без той легкости, которая дается любовью к лошади. Для него лошадь была только средством перевозки. И на других животных он смотрел с той же утилитарной точки зрения.
В каждой деревне у него оказывались друзья. Он первый принес точные сведения о войне людям, которые уже в течение столетия не имели мира. Рассказывая новости, трудно, конечно, удержаться от того, чтобы вместе с ними не высказать и своего собственного взгляда. И Эвазио Мон давал понять, что, по его мнению, представляется самый удобный случай покончить со всякими неприятностями.
Так он тихонько продолжал свой путь до самого Монсеррата. И везде, где ни проходила эта черная фигура с невозмутимо живым лицом, оставался дух беспокойства и волнения. К Эвазио Мону прислушивались везде и в отдаленных арагонских деревнях, и в оживленных каталонских городах, где ремесленники и рабочие уже подавали свой голос в государственных делах Испании.
Едва ли нужно говорить, что в каждом деревенском трактире, в каждой городской гостинице Мон прислушивался самым внимательным образом к тому, что говорилось кругом.
VI Тоже пилигримы
При первом взгляде на неуклюжую гору Монсеррата путешественник невольно спрашивал сам себя:
— Как это так вышло?
Гора была гранитная, хотя кругом гранита нигде не было. Стояла она совершенно одиноко, высоко поднимая свою корявую вершину к безоблачному небу. Казалось, что окрестности не имеют с этой горой ничего общего и что она составляет собою как бы обломок луны. Не удивительно, что в средние века эта гора сильно действовала на воображение тогдашнего человечества, заставляя его направлять свою мысль к Богу.
В этом-то небольшом городке, расположенном на коричневой равнине Каталонии, между Средиземным морем и громоздящимися Пиренеями, находится величайшая святыня Испании. Тысячи богомольцев стекаются сюда каждый год со всех концов земли. Если кто-нибудь захочет знать историю этого места, ему расскажут легенду, если он спросит о событиях, то услышит о чудесах. Если хорошенько заплатить, то вам покажут небольшую деревянную статую. Монастырь тоже имел свою историю: когда-то его занимали французы, сжегшие его дотла. Во всем остальном его история походит на историю Испании с ее метаниями во все стороны в тщетной надежде удовлетворить требованиям более просвещенного понимания религии и в то же время задержать неизбежный прогресс человеческой мысли.
В то время, к которому относится наш рассказ, в огромных монастырских зданиях жили только монахи, которые занимались преподаванием музыки и приемом богомольцев. За монастырскими воротами был довольно хороший ресторан, в котором могли столоваться приезжие. Обширные монастырские дома были приспособлены для помещения бедных и богатых, и там всегда можно было найти комнату с чистым постельным бельем, кровать и умывальник. Монахи держали небольшую лавочку, где можно было купить свечей, спичек и даже мыла, спрос на которое был, впрочем, очень невелик.
Эвазио Мон прибыл в Монсеррату вечером, добравшись сюда из маленького городка Монистроля в открытом экипаже. Был обеденный час и в неподвижном вечернем воздухе стояли кулинарные ароматы. Мон сразу направился в контору монастырской гостиницы, где получил простыню, наволочку, полотенце, свечку и ключ от своей комнаты, которая находилась в длинном корпусе здания Santa Maria de Jesu. Он отлично знал дорогу среди этих священных мест и обменялся дружеским кивком с дежурным по монастырю послушником.
Потом он поспешил через двор за ворота, чтобы присоединиться к богомольцам побогаче, которые сидели за столом в ресторане. При его появлении четверо из них подняли глаза от своих приборов и поклонились ему, после чего опять принялись за свою рыбу. Испания страна молчания, и там всегда рискованно вступать в разговор с незнакомым человеком, ибо нет такого предмета, из-за которого ее различные национальности не могли бы затеять ссору. Француз, например, везде остается французом и всякий политический спор всегда можно прекратить, упомянув об отечестве, за которое легитимист и республиканец всегда готовы умереть. Но испанец может оказаться арагонцем, андалузцем или валенсьянцем, а испанский патриотизм — цветок местной культуры и разного цвета.
Поэтому здесь люди, собираясь в каком-нибудь общественном месте, обыкновенно хранят молчание. За общим столом все сидят также молча, если только не окажется среди присутствующих какой-нибудь андалузец, который в Испании играет такую же роль, как гасконец во Франции: он вечно говорит и смеется, преисполнен чувства собственного достоинства, которое, однако, всегда готов принести в жертву на алтарь общественности.
За монастырским столом не оказалось андалузца, который мог бы с одной стороны служить соединительным звеном между людьми, уже знакомыми, а с другой — перезнакомить между собой тех, кто еще не был знаком. Таким образом, пяти лицам, сидевшим за столом, пришлось обедать в молчании, приличествующем их социальному положению. То были, очевидно, гидальго, настроенные, по всей вероятности, весьма набожно. Для проницательного наблюдателя, получившего космополитическое воспитание, в роде, положим, какого-нибудь атташе, всегда не трудно отличить в смешанном обществе национальность каждого. Однако на этих обедах между всеми обедающими было какое-то едва уловимое сходство, которое делало эту задачу довольно трудной. Это сходство крылось не только в одежде. Оно сказывалось в том, что все они тщательно старались, чтобы никто не обращал на них внимания.
Сделав церемонный поклон, Эвазио Мон углубился в поданное ему меню. Потом, подняв глаза и узнав человека, сидевшего против него, он улыбнулся и быстро кивнул ему головой. Затем он встретился взглядом с другим сотрапезником, сильным, толстым человеком, тяжело дышавшим во время еды. Оба быстро отвели друг от друга свои глаза и стали смотреть на маленького сморщенного человека, который сидел, забившись в кресло, и почти ничего не ел. Его морщинистое лицо и согбенная фигура как бы говорили за то, что ему знакомы и такие заботы, которые обыкновенно удручают только министров и королей.
Взглянув рассеянно на Эвазио, он опять погрузился в свои мысли. Сама манера его крошить хлеб и действовать ножом показывала, что ум его работает, как мельница. Он как бы забыл все окружающее и всех своих собеседников. Однако внимательный наблюдатель мог бы подметить, что все эти набожные богомольцы из Италии, Франции, из далекой Польши и соседней Каталонии явились сюда именно ради него и что они подчинены ему все.
Нелегкая, очевидно, была задача начальствовать над таким человеком, как Эвазио Мон! Да и остальные четверо, несмотря на свои любезные улыбочки, казались тоже людьми неподатливыми.
Когда подали десерт и сотрапезники скорее по привычке, чем для лакомства, задумчиво принялись за жареный миндаль, маленький сморщенный человек с видом рассеянного хозяина обвел глазами сидевших за столом и промолвил по-французски:
— Уже восемь часов. Через полчаса монастырские ворота закрываются. Нам некогда будет обсудить наши дела за этим столом. Не отправиться ли нам в монастырь? За монастырской стеной, недалеко от фонтана, есть скамейка…
С этими словами он поднялся, причем оказалось, что он порядочного роста. Все посторонились и дали ему дорогу. Кто-то даже отворил ему дверь, словно принцу. Но он даже не заметил этой любезности.
Монастырь стоял на крутом обрыве, приткнувшись к скале, словно огромное орлиное гнездо. Здания его не претендуют на архитектурную красоту и представляют собою как бы ряд казарм, выстроенных вокруг четырехугольного двора. Центральным зданием являлась, конечно, церковь, стоявшая у самого дальнего края этого четырехугольника. Здесь находилась чудотворная икона, пережившая столько превратностей и перемен. Пролежав больше полутораста лет в одном из монастырских подвалов, она привлекла к себе внимание тем, что стала по ночам издавать свет. Затем для вящей убедительности от нее стал распространяться аромат. Когда икону хотели перенести наверх, это оказалось неугодным Богу, и ее оставили на прежнем месте.
Корпус Santa Maria de Jesu имел то преимущество, что он стоял на внешнем углу четырехугольника. Таким образом, зданий против него не было, а разверзалась пропасть в три тысячи футов глубиной. На дворе журчал небольшой фонтан, а низкая в этом месте стена представляла удобное сиденье для богомольцев, которые в вечерние часы обменивались здесь отрывочными разговорами.
К этой-то стене и направился маленький сморщенный человек. Усевшись на нее, он знаком пригласил садиться и других. Если б кто-нибудь всмотрелся в их движения, то он, пожалуй, сразу пришел бы к заключению, что это четыре богомольца из высших классов общества, недавно познакомившиеся за общей трапезой.
— Я приехал сюда издалека, — начал маленький человек, говоривший по-французски с итальянским акцентом. — Я уехал из Рима в то время, когда святая церковь требовала содействия даже самых скромных своих слуг. Надеюсь, что наш добрый Мон нам сообщит нечто важное и ценное.
Услышав этот замаскированный упрек, Мон улыбнулся.
— Я тоже приехал сюда из… Варшавы, — сказал дородный человек, тяжело переводя дыхание, как бы для того, чтобы наглядно представить длину своего пути. — Будем надеяться, что на этот раз мы встретимся с чем-нибудь осязательным.
Он говорил весело, как француз. То был поляк — этот француз европейского севера.
Мон закурил сигару и слегка махнул спичкой в направлении говорившего, как будто для того, чтобы дать ему понять, что он понял шутку.
— С чем-нибудь большим, чем простые обещания, — продолжал поляк. — Да, да, мой друг. Ведь вы еще не взяли Памплоны, да не слышно что-то, чтобы и этот Бильбоа попал в руки карлистов. Каждый раз, как мы собираемся вместе, вы просите денег. Нужно же дать что-нибудь и нам за наши деньги.
— Я и дам вам целое королевство, — спокойно отвечал Мон.
И он наклонил голову вперед, чтобы посмотреть на поляка через свои золотые очки.
— Не республику ли где-нибудь на северном полюсе, — сказал поляк и залился смехом. — Впрочем, поживем — увидим.
— Вам нужны опять деньги, не правда ли? — спросил маленький сморщенный человек, который, по-видимому, был их главою, хотя и говорил меньше всех.
— Да, — отвечал испанец.
— Ваша страна обошлась нам в этом году довольно дорого, — заметил маленький человек, поблескивая своими бесцветными глазами и устремив взор вниз, как человек, который занят вычислениями в уме. — Вы вовлекли Францию и Германию в войну. Вы заставили Францию удалить ее войска из Рима и дали Виктору-Эммануилу случай, которого он так долго ждал. Вы заставили нервничать всю Европу.
— Теперь наступил момент воспользоваться этой нервозностью, — сказал Мон.
— С вашим неуклюжим дон Карлосом?
— Важен не человек, а дело. Не забывайте, что мы невежественная нация. А только невежественные или полуобразованные люди могут приносить себя в жертву во имя какого-нибудь дела.
— Жаль, что вы не можете подкупить дона Карлоса на наши деньги, — вставил поляк.
— Он нам пригодится еще. Надо смотреть в будущее. Многие погибли, благодаря своим успехам, именно потому, что они явились неожиданно. Не забывайте, что для церкви вовсе не нужно, чтобы короли были людьми способными.
— Но что же нужно для Испании? — спросил маленький человек.
— Этого Испания сама не знает.
— А этот принц, которого вы просили быть королем? Разве это не спица в вашей колеснице?
— Эта спица скоро совсем отпадет. Все убеждены, что он не протянет и десяти лет. Но он может не протянуть и десяти месяцев.
— Однако вам приходится считаться с ним. Этот сын Виктора-Эммануила умен и способен, и никогда нельзя сказать, что возникнет в этой голове.
— Мы уже считаемся с ним. Он честен, и этим все сказано. Ни один честный король не согласится царствовать в этой стране при ее новой конституции. Тут нужно Бурбона или женщину.
Быстрый бесцветный взгляд скользнул по лицу Мона.
— Стало быть, что-нибудь не особенно честное, — вставил поляк.
Никто не обратил внимания на эти слова.
— Когда мы собирались в последний раз, — заговорил маленький человек, — вы получили большие деньги и дали определенные обещания, если только память меня не обманывает.
Все молчали, прекрасно зная, что память за всю его долгую жизнь еще ни разу не обманывала его.
— Вы тогда говорили, что не будете больше просить денег до тех пор, пока не представите чего-нибудь осязаемого, скажем, взятия какой-нибудь крепости, подкупа какого-нибудь главного начальника или занятия области. Не так ли?
— Это правда, — отвечал Мон.
— Кроме того, — продолжал оратор, — с целью смягчить жалобы других стран, например, Польши, на то, что Испания получила больше, чем ей причиталось в общем деле, вы привели некоторые доказательства, что Испания, требуя помощи, готова помочь себе, совершив некоторое самопожертвование.
— Я сказал, что я не буду просить такой суммы, которую я не мог бы возвратить вдвойне, — отвечал Мон.
Маленький человек сидел несколько минут молча и только усиленно моргал глазами. Настала та полная тишина, которая бывает только на больших высотах и которая в Монсеррате так сильно действует на нервы, что многие не могут спать.
— Я дам вам любую сумму, если вы можете ее удвоить, — сказал он наконец.
— В таком случае я попрошу у вас три миллиона песет.
Все повернулись к нему и посмотрели на него с удивлением. Толстый человек тяжело вздохнул. С тремя миллионами песет в кармане он взялся бы создать Польскую республику.
Мон улыбался.
— За каждый миллион, который вы мне обещаете в будущем, я дам вам миллион наличными, — продолжал маленький человек. — Когда мы начнем?
— Дайте мне срок, — отвечал Мон, подумав. — Ну, скажем, месяцев через шесть.
В это время гулко ударил монастырский колокол, созывая на последнюю дневную службу.
Маленький человек поднялся.
— Идем, — сказал он. — Помолимся прежде, чем ложиться спать.
VII То или другое
Письмо графа Сарриона было вручено посланцем его сыну в собственные руки.
Горец исполнил данное поручение так, как ему было сказано. Узнав, что Марко предается любимому своему развлечению — ловит рыбу, он, постояв несколько минут на берегу, осторожно вошел в воду и, подойдя к Марко, не обращавшему ни на что внимания, тронул его за локоть.
Последний отпрыск рода Саррионов имел вид человека выдержанного и терпеливого. Взгляд его, как у всякого, кто имеет дело с природой, был спокоен, движения медленны, как у человека, видящего далеко впереди себя.
Посланец, передав письмо, стал в сторонке, поглядывая, как вода бурлила около его шерстяных чулок. Несмотря на различие происхождения, между этими двумя людьми чувствовалось своего рода братство. Так бывает, впрочем, всегда, когда люди живут на открытом воздухе, на широкой груди матери-природы.
Марко передал свою удочку посланцу. Сморщенное, словно каштан, от жгучего солнца лицо последнего осветилось радостной улыбкой.
— Вот, вот, — промолвил он, указывая на водоворот под старыми вязами. — Тут рыба крупная. Я ее сейчас подсеку.
Он осторожно пошел назад к берегу, на котором блестела ярко-зеленая, уже раз скошенная трава, и сел.
Марко долго читал письмо.
«Ты мне нужен, и я жду тебя в Сарагосе», — писал ему отец.
Вот и все.
«Марко явится и ему не нужно объяснять причины, — думал граф Саррион. — К тому же было бы опасно пускаться в объяснения».
И он был прав.
Река, в которой Марко с таким удовольствием ловил форель, была северным притоком Эбро, который в течение целого века непрестанно окрашивался кровью, и на правительственных картах отмечалось, что орошаемая им местность никогда не платит никаких налогов и не желает знать, какую форму носят королевские войска.
Торре-Гарда — длинное двухэтажное здание, стоявшее в глубине речной долины на вершине холма, в течение сорока последних лет редко когда стояло пустым. Вся долина этой реки, прозванной Волком, начиная от мрачных Пиренеев, стоящих словно часовой у ее истока, и до залитых солнцем равнин Памплоны, где Волк впадает в другую реку, — вся эта долина находилась в мирном владении Саррионов.
— Мы будем сражаться за короля, когда получим короля, достойного того, чтобы за него сражаться, — говорили жители этой долины. — Но за себя мы готовы сражаться, когда угодно.
Ходили слухи, что они в этом случае только повторяли то, что им подсказывали Саррионы. Ни один карлист не заглядывал сюда.
— Не стоит брать приступом эту Торре-Гарду, — говорили они.
— А пока вы не возьмете Торре-Гарду, вы не овладеете и Памплоной, — отвечали местные жители, прекрасно знавшие, что такое партизанская война.
Таким образом, долина реки Волк все ждала короля, за которого можно было бы сражаться, а пока что не платила податей, не испытывала никакой потребности в почте и чувствовала себя прекрасно.
Карлисты водились и здесь, на горах по обоим берегам реки. На северном конце долины лежал вечный снег, который и питал реку Волк во время летней жары. В другом, нижнем конце долины, где дорога была настолько широка, что могли разъехаться между собой два экипажа, нередко проходили патрули из Памплоны — этого оплота роялизма. Однако правительственные войска никогда не рисковали подниматься вверх по долине, которая походила на мышеловку, где карлистский кот из-за каждой скалы мог отрезать им обратный путь. Со своей стороны, и карлисты не решались спускаться вниз, где Волк, сжатый горами, стремительно катил свои волны; ибо в Памплоне, стоявшей отсюда всего миль на десять, было сорок тысяч гарнизона.
Такое положение дела вполне оправдывало предосторожности, с которыми Саррион послал письмо сыну.
Пока Марко читал письмо, перед ним стояла большая белая собака с одним рыжим ухом, что-то вроде отдаленной пародии на пойнтера, и, казалось, ждала, чтобы он прочел письмо и ей. Собака, как будто понимая, что она не пойнтер, старалась загладить недостаток своего происхождения необыкновенным любопытством и поспешностью, с какой она исполняла все приказания. Называлась она Перро и когда-то была подобрана на границе, где собак обыкновенно дрессируют для контрабандных услуг. Марко нашел ее умирающей от голода, далеко от этой долины. Сначала ее пристроили оберегать здания Торре-Гарды, но впоследствии, благодаря своей необыкновенной понятливости и терпению, она проложила себе путь и в людское общество.
Перро надоело смотреть на бурлившую воду, и он стал перед хозяином, как бы ожидая приказаний.
Марко никогда не разговаривал с этой собакой. Он был свидетелем, как Испания, благодаря излишней болтливости, подверглась полному унижению, и это зрелище раз навсегда отучило его быть разговорчивым.
Он редко когда говорил без надобности. Если ему надо было что-нибудь сказать, он говорил. Если такой надобности не было, он молчал. Такое свойство, конечно, очень неудобно для развития общественных отношений, и Марко оказался за чертой всякой политической жизни.
Кроме того, Марко Саррион был спокойным человеком. Немногие наблюдатели, которые умеют заглядывать вглубь, знают, конечно, что спокоен бывает только тот, у кого жизненные задачи приведены в соответствие с их силами и способностями.
Перро, с инстинктом, который так хорошо развивается в школе голода, ожидал, очевидно, не слов, а какого-нибудь действия со стороны своего хозяина. И действительно, ждать ему пришлось недолго.
Марко встал и тихонько пошел на холм, к Торре-Гарде, которой почти не было видно из-за сосен, росших на гребне холма. Он знал, что поезд из Памплоны в Сарагосу идет в двенадцать часов ночи. До железнодорожной станции было всего миль двадцать, что в Наварре считается совсем небольшим расстоянием. К ночи должна была взойти луна. Времени до отъезда было много.
На другое утро граф Саррион пил свой утренний кофе у открытого окна, когда Марко вошел в комнату покрытый еще пылью, налетевшей при переезде через Альканийскую пустыню.
— Я ждал тебя, — сказал отец. — Тебе сначала недурно было бы вымыться. Все тебе приготовлено в твоей комнате. Я сам хлопотал над этим. Когда будешь готов, приходи сюда. Мы выпьем кофе.
Саррион держался с сыном, как с гостем: в самом деле, Марко редко заглядывал в Сарагосу. При поразительном сходстве между ними отец был немного выше и стройнее. Зато на лице Марка отражалось больше силы. Казалось, во всяком деле на долю сына выпадало исполнять то, что задумывал отец. Присутствие отца заставляло вспомнить о дворе, присутствие сына — о лагере.
Граф Саррион прошел и через одно, и через другое и вышел в жизнь полуциником-полуфилософом.
— Славный солдат вышел бы из тебя, — говорил он сыну, когда тот, закончив свое образование во Франции и в Англии, приехал наконец в Торре-Гарду. — Но для честного человека теперь нет места в испанской армии. Честность в Испании валяется теперь в канаве.
И Марко последовал совету своего отца. Позднее он и сам убедился, что в это время в Испании не было хода честному человеку. Мало-помалу он заместил в долине Волка своего отца — этого непризнанного, но и ничем не ограниченного самодержца. Здесь, в этой долине, все были полны ожидания. Все добрые испанцы уже сто лет ждали, пока наконец минет гнев Божий.
— Мне нужно многое рассказать тебе, — сказал граф, когда Марко вернулся и с аппетитом принялся за кофе. — Я расскажу тебе все без всяких комментариев.
Марко кивнул головой. Граф закурил сигару и подошел к окну, выходившему на балкон, откуда была видна улица св. Григория.
— Четыре дня тому назад, — начал он, — ночью тайно вернулся в Сарагосу Франциско де Модженте. Кажется, он направлялся к своему дому. Но теперь это покрыто навсегда мраком неизвестности. Никто не знал о его возвращении, даже Хуанита.
Граф пристально и долго смотрел на сына. От него не укрылось, что при упоминании этого имени в глазах Марко мелькнула какая-то тень.
— На Франциско напали на улице, вот здесь, на углу улицы св. Григория, и он был убит.
Марко встал и тоже подошел к окну. Он, очевидно, был практичен и прежде, чем продолжать разговор, хотел лично видеть место, где был убит Модженте. Перро выбежал на балкон и, просунув свою плебейскую голову через решетку, тоже принялся смотреть вниз на улицу.
— Хуанита знает об этом? — спросил он.
— Да. Моя сестра Долорес сообщила ей об этом. Бедная девушка! Она только жалеет о том, что не удалось повидать отца, и не очень горюет о происшедшем. У нее сердце еще молодо. А молодости несвойственно убиваться от горя.
Марко молча сел опять на свое место.
— Не нужно забывать, — продолжал граф, — что она ведь его никогда не знала. Ее горе пройдет. Я видел из окна, как напали на Модженте. С этой стороны, как ты знаешь, нет выхода на улицу, и я должен был обходить дом кругом. Помочь ему было немыслимо. Я потом сошел вниз на улицу, но помощь уже явилась, и раненый был унесен… как ты думаешь, кем, Марко? Монахом. Я видел, как Модженте что-то уронил на мостовую. Я спустился на улицу и подобрал стилет, который Хуанита послала отцу в подарок в Нью-Йорк.
— Почему он не уведомил нас, что он возвращается в Европу? — спросил Марко.
— Об этом он сказал бы нам сам впоследствии. То обстоятельство, что на него напали на улицах Сарагосы и ограбили его ради денег, которые были у него в кармане, само по себе слишком просто и обыденно. Но почему к нему на помощь явился монах и унес его с собой в один из тех принадлежащих духовенству домов, которые, как грибы после дождя, стали появляться по всей Испании с тех пор, как иезуиты изгнаны из Испании?
— Он оставил духовное завещание? — спросил Марко.
Саррион обернулся и посмотрел на него с усмешкой.
Бросив свою сигару, он сел около маленького столика, за которым Марко продолжал еще утолять свой аппетит.
— Я плохо рассказал, в чем дело, — промолвил старший Саррион. — Ты сразу угадал, в чем дело. Модженте составил свое духовное завещание уже на смертном одре. Свидетелем был Леон Модженте.
— Стало быть, деньги он оставил…
— Хуаните. Из этого можно только заключить, что в момент составления завещания он колебался. Ведь он любил ее и не имел никаких причин желать ей зла. Я собрал уже кое-какие сведения, но их далеко недостаточно. Я телеграфировал на Кубу, прося сообщить сведения о состоянии Модженте. Вот ответ.
И он передал Марко телеграмму, в которой значилось:
«Три миллиона в английских бумагах».
— Вот жернов, который он повесил на шею Хуаните, — сказал Саррион, складывая телеграмму.
— Дать три миллиона в руки девушки, которая находится еще в монастырской школе и вся во власти этих «правоверных сестер», дать в то самое время, когда дело карлистов окончательно проваливается и иезуиты знают, что либо Дон Карлос, либо республика.
Граф с жестом отчаяния отбросил от себя телеграмму и продолжал:
— Ведь это значит связать ее по рукам и ногам и навеки бросить ее в монастырь. Мы не можем оставить ее в таком беспомощном состоянии. Не правда ли, Марко?
— Конечно, — тихо промолвил тот.
— Для этого есть только одно средство. Об этом я думаю день и ночь. Да, только одно средство, друг мой.
Марко задумчиво посмотрел на отца и ждал.
— Тебе надо жениться на ней.
VIII След
Саррион встал с кресла и опять подошел к окну, не глядя на Марко. Отец и сын общались между собою, как братья, и привыкли не распространяться слишком много о некоторых вопросах.
Одним из таких вопросов была Хуанита. Оба чувствовали себя не совсем ловко, когда приходилось говорить о ней.
Граф взглянул через плечо на сына. Тот, не поднимая глаз, заметил это движение и покачал головой.
— Ты качаешь головой? — спросил Саррион, всеми силами стараясь казаться веселым и беззаботным. — Чего тебе еще нужно? Она самая красивая девушка во всей Арагонии.
— Не в этом дело, — отвечал Марко, густо краснея.
— А в чем же?
Марко молчал. Чтобы выиграть время, старый граф закурил другую сигару.
— Выслушай меня, — сказал он наконец. — Мы во всем и всегда понимали друг друга, кроме вопроса о Хуаните.
Марко положил руки на стол и с легкой улыбкой взглянул на отца.
— Объяснимся насчет Хуаниты прежде, чем говорить о дальнейшем. Ты воображаешь, что у тебя на душе есть что-то такое, чего я не пойму. Я согласен, что сердце человеческое, старея, делается не так чувствительно и утрачивает тонкость чувств. Однако понимание таких чувств в другом, более молодом существе может и сохраниться. Тебе кажется, что следует предоставить Хуаните самой сделать выбор. Так ведь, кажется, полагается в Англии?
— Да, — отвечал Марко.
— На это я тебе скажу, что монастырское воспитание, — а это единственное воспитание, доступное девушкам в Испании, — делает ее непригодной для такого выбора.
— Дело тут не в воспитании.
— Конечно, все дело случая, — резко возразил граф. — А для девушки, воспитывающейся в монастыре, такого случая никогда не представится. Отец или мать, если они люди неглупые, сумеют сделать этот выбор гораздо лучше, чем девушка, внезапно перенесенная из монастыря в водоворот света. Но не в этом дело. Хуанита никогда не выйдет из монастырских стен, если мы не извлечем ее оттуда, даже против ее воли.
— Мы имеем право это сделать?
— Никакого права мы не имеем, — возразил Саррион. — Церковь держит ее крепко в своих тисках и не признает за нами никаких прав.
— Ведь Хуанита совсем еще ребенок и не знает, что значит жизнь.
— Именно, — воскликнул Саррион. — Это-то и дает им возможность осуществить свои планы с такой легкостью. Они могут постоянно, но незаметно оказывать на нее давление и в конце концов довести ее до мысли, что единственное счастье для нее — стать монахиней. Редкая женщина, да и из мужчин немногие, может быть счастлива, если окружающие постоянно будут твердить о том, что, живя здесь счастливо, тем самым готовишь себе осуждение в вечной жизни. Нам нужно взглянуть на это дело с точки зрения самой Хуаниты.
Марко опять взглянул на отца с улыбкой.
— Это не так легко, — промолвил он. — Я это испытал.
— Не следует отчаиваться, — многозначительно сказал Саррион. — Не забывай, что ее точка зрения может быть совершенно невежественная, и ее воззрения находятся под сильным посторонним влиянием. Взгляни на это дело и с точки зрения светского человека, подумай хорошенько и скажи мне, будешь ли ты считать себя счастливым, если будешь знать, что именно ты позволил Хуаните избрать, закрыв глаза, монастырь.
— О своем счастье я не думал, — кратко и просто ответил Марко.
— А о счастье Хуаниты?
— О счастье Хуаниты, да.
— В таком случае подумай еще раз и скажи, неужели ты думаешь, что Хуанита будет счастливее, если останется в монастыре? Неужели церковь может дать ей большее счастье, чем ты, ты, который дашь ей возможность вести образ жизни, предназначенный ей самим Господом Богом?
Марко молчал. Саррион и сам, по-видимому, не ожидал от него ответа.
— Разумеется, — продолжал он все тем же беззаботным тоном, — все это я говорю в том предположении, что ты ставишь на первом плане не свое счастье, а счастье Хуаниты.
— Ты не ошибся.
— И всегда так будет? — серьезно спросил старик.
— Всегда.
Наступило молчание. Потом граф вошел в комнату и, подойдя к сыну, положил ему руку на его широкие плечи.
— В таком случае, мой друг, — заговорил он, меряя шагами комнату и снимая перчатки, — будем действовать. Это тебе более по душе, чем разговоры. Пойдем сейчас к Леону. Он послужит для нас соединительной чертой в этом деле. У Хуаниты, кроме нас, нет никого в этом мире, но, я думаю, этого будет достаточно.
Леон де Модженте жил на Plaza del Pilar. Его отец, к которому он не питал особенной привязанности, щедро ссужал его деньгами, которые он тратил большею частью на церкви и монастыри. Это обстоятельство, в свою очередь, так поднимало настроение молодого человека, что из своей квартиры он сделал что-то вроде часовни и жил в атмосфере эстетических эмоций, которые он ошибочно принимал за святость.
Маркиз де Модженте только что вышел из дому. Слуга сообщил, что он направился через площадь, по всей вероятности, для того, чтобы помолиться в соборе. По совету слуги, оба Сарриона решили подождать его возвращения. Слуга, смахивавший на разбойника, предложил сходить за его господином.
— Кстати, я и сам помолюсь, — смиренно промолвил он.
— А вот вам кое-что для церковной кружки, — с улыбкой добавил Саррион.
— Клянусь Богом, — воскликнул он, когда они остались вдвоем, — тут так и чувствуется лицемерие.
Он обвел глазами стены и поднял брови.
— Хотел бы я знать, — продолжал он, — что думал умирающий Франциско, лежа в доме на улице св. Григория? Что он хотел, подписывая свое завещание. Он послал за Леоном. С первого раза видно, какой у него сынок — просто-напросто мул. Франциско, вероятно, сообразил, что оставить деньги ему значит оставить их церкви. А это значит, что они будут употреблены на дальнейшую разруху Испании и укрепление суеверий и невежества.
Рамон де Саррион был одним из тех испанцев и добрых католиков, которые всю вину за падение былого величия их страны возлагают на церковь.
— Я убежден, — продолжал старый граф, — что Франциско смутно догадывался, что он пал жертвою заговора. Все эти разветвления ясно показывают, что тут действительно был заговор. Из-за трех миллионов песет стоит похлопотать и о заговоре. Для Испании в наше время они имеют большую ценность. За сумму, гораздо меньшую, приобретались и губились целые королевства. Я убежден, что за ним следили еще на Кубе и о его возвращении знали заранее. Может быть, его вызвали сюда каким-нибудь подложным письмом. Кто знает? Во всяком случае, знали, что все деньги он завещал Леону.
— Мы спросим у Леона, какие причины заставили его отца переделать завещание, — предложил Марко.
— И он нам солжет.
— Но это его не спасет, — прошептал Марко со своей обычной задумчивой улыбкой.
— Я полагаю, — промолвил Саррион после некоторой паузы, — нет, я уверен, что Франциско в последний момент все состояние оставил Хуаните в надежде, что, быть может, оно перейдет со временем к тебе, и мне удастся вырвать ее из капкана, в который она попала. Ты знаешь, ведь он всегда мечтал о том, чтобы ты женился на его дочери.
На лице Марко мелькнуло какое-то жесткое выражение. Он молчал. Воцарилось молчание, которое прервал своим приходом Леон де Модженте.
Он как-то робко посмотрел на обоих гостей. В его бесцветных глазах виднелось полное отсутствие мысли, которое обыкновенно бывает у людей или чересчур поглощенных будущим, или не умеющих быстро понять настоящее.
— А я хотел писать вам, — сказал он, обращаясь к Сарриону старшему. — Я сегодня заказал заупокойную обедню в соборе. Мой отец…
— Буду, — коротко ответил Саррион.
— А Марко?
— Я тоже буду.
— Нужно сделать все, что можно, — заметил Леон с покорной улыбкой.
Марко, будучи человеком дела, а не слова, молча взглянул на него: для него было очевидно, что нескладный малый вырос теперь в нескладного человека.
Скрестив руки и опустив глаза, Леон уселся на кончике стула. То был монах-дилетант и, как все дилетанты, старался преувеличивать внешние проявления своего настроения.
— Что же, — спросил, наконец, Марко деловым тоном, — намерены вы что-нибудь сделать для обнаружения и наказания убийц вашего отца?
— Я еще не говорил об этом.
— С кем?
Леон взглянул на него с тревогой. Он, видимо, страдал оттого, что друг его детства так грубо приступил к этому деликатному вопросу.
— Это секрет.
Марко обменялся взглядом с отцом, который сидел сзади, подобно тому, как сидит старый следователь, предоставив допрос своему младшему товарищу.
— Вы известили уже Хуаниту о духовном завещании вашего отца?
— Я думаю, что для Хуаниты оно не представляет особого интереса. Она имеет свои деньги, а я свои. Отец, насколько я знаю, мог завещать ей лишь очень немного.
Марко опять переглянулся с отцом и поглядел на часы. По-видимому, он считал допрос оконченным и хотел как можно скорее перейти к делу.
Разговор повел теперь Саррион. Он учтиво, на испанский манер, выразил Леону свое сожаление и готовность помочь, чем может. Ему трудно было скрывать свое презрение к Леону, который, в свою очередь, чувствовал себя в большом затруднении. Кроме дела, по которому оба Сарриона явились сюда, между ними не было ничего общего. Да и об этом деле им трудно было беседовать, так как Саррион был гораздо более огорчен смертью своего друга, чем собственный сын его друга.
Гости поднялись с места и стали прощаться с Леоном, обещая быть завтра на заупокойной обедне. Хозяин интересовался только одной стороной этого дела, которая являлась для него совершенно новой. Не раз приходилось ему устраивать пышные церковные церемонии. Но заупокойная обедня была единственной церемонией, сулившей еще неизведанные религиозные переживания. И Леон волновался, как волнуется девушка перед своим первым балом.
Он рассеянно пожал руку гостям, считая в уме, сколько с ними будет завтра приглашенных. Он был очень озабочен предстоящей церемонией.
— Видел, — сказал Саррион сыну, когда они вышли на улицу, — видел, что сделал из него Эвазио Мон? Не знаю, расположен ли ты теперь уступить ему Хуаниту и ее три миллиона песет?
Марко не отвечал и продолжал идти, погрузившись в свои мысли.
— Я должен повидаться с Хуанитой, — промолвил он наконец после долгого молчания.
По глазам Сарриона-отца прошла мягкая улыбка.
— Не забывай, — сказал он, — что Хуанита еще ребенок. И ее ум сформируется не раньше, как года через три.
Марко кивнул головой.
— Не забывай, что опасность висит над головой и что Эвазио Мон не из тех людей, которые будут медлить, пока у них под ногами не вырастет трава. Помни, что мы не можем заставлять Хуаниту ждать.
— Я знаю, — коротко ответил Марко.
IX Дичь
На следующее утро Саррион отправился в монастырскую школу правоверных сестер, но через решетку в воротах ему сказали, что всякое сообщение монастыря с внешним миром на несколько дней прекращено, как это обычно делается в монастырях.
— Даже я, разговаривая с вами, должна буду принести за это покаяние, — произнес через ворота мягкий голос.
— В таком случае понесите уже сугубое покаяние, сестра, — сказал Саррион, — но ответьте на один вопрос. Скажите, здесь ли сестра Тереза?
— Сестра Тереза в Памплоне, а мать-настоятельница еще здесь в школе.
Как человек светский, Саррион умел вести разговор. Он знал, что если одна женщина начнет говорить про другую, то и целый конклав кардиналов не в силах остановить ее. Поэтому он подъехал поближе к воротам и оставался там, пока не получил кое-какие сведения.
Прежде всего он узнал, что его сестра отправлена в Памплону, где у сестер была другая школа, которой покровительствовало небогатое дворянство этого забитого духовенством города. Кроме того, ему дали понять, что по Хуаните де Модженте приказано творить особые молитвы, вследствие того, что при известии о смерти ее, к сожалению, еретического отца, ей овладел дух злобы и мести.
— Какими же средствами ее будут усмирять?
— Этого ни я и никто не может вам сказать. Однако я должна закрыть решетку.
И отверстие захлопнулось перед самым носом Сарриона. Так началось предпринятое им расследование, длившееся без результата целую неделю. Эвазио Мон был на богомолье, сестра Тереза в Памплоне. Неприступные врата монастырской школы оставались запертыми для всех.
Саррион отправился в Памплону. Ему хотелось повидаться с сестрой, но пришлось ехать назад ни с чем. Марко пошел по следу с осторожностью, которой его научила сама природа. Он не спешил и не выражал ни надежды, ни отчаяния. Но все яснее и яснее делалось ему, что Хуаните грозит действительная опасность. В конце концов, сделав несколько ловких шагов, он заставил своего противника сбросить маску. Препятствия, которые делали свидания с Хуанитой невозможными, едва ли, конечно, могли возникнуть случайно.
Марко долго воевал в Центральных Пиренеях с волками, медведями и кабанами, и это приучало его не поддаваться удивлению, когда охотник замечает у зверя не меньшую, чем у него, понятливость и хитрость. Такое чувство он испытывал и теперь. Он знал, что за ним следят и что о всяком его действии известно заранее. В результате, он только стал действовать упорнее и хитрее. Он знал, что Хуанита попала в цепкие руки.
От острого глаза Сарриона не укрылась происшедшая в Марко перемена. Беспомощное положение Хуаниты, казалось, вызвало в нем непреодолимое желание прийти ей на выручку.
В конце концов Марко нашел для этого случай. Не говоря ни слова отцу, он сам выработал подробный план действий.
— Завтра вечером в старом соборе будет служба, — заявил он однажды вечером только что вернувшись после долгих и утомительных разведок, — все девушки монастырской школы будут присутствовать на нем.
— Вот что, — промолвил Саррион, испытующе поглядывая на сына, — ну, а дальше?
— Моя тетка сестра Тереза, наверно, также будет там. Сегодня она вернулась в Сарагосу. Мать-настоятельницу, по произволению Божию, постигла желудочная болезнь. Служба назначена в семь часов. Вокруг собора пойдет архиепископ и будет благословлять народ. В соборе довольно темно. Когда двери откроют, произойдет давка. У меня под руками будет несколько человек — на улице, начиная от королевской гостиницы, которые, по моему приказанию, еще более увеличат смятение. Если ты мне поможешь, то мы можем отделить Хуаниту от других. Я отведу ее домой и постараюсь, чтобы в школу она попала в одно время с другими. Надеюсь, мы сумеем это устроить.
— Да, несомненно, — отвечал Саррион.
По обычаю всех заговорщиков, они засиделись до поздней ночи, обсуждая планы Марко, такие же простые и непосредственные, как и он сам.
Старый собор в Сарагосе — один из самых древних во всей Испании. По своей архитектуре он напоминает мавританскую мечеть, которая когда-то стояла на этом самом месте. Это огромное четырехугольное здание, тускло озаряемое окнами, расположенными в куполообразной крыше. В собор вели два главных входа, один с соборной площади, где находился фонтан, около которого в знойные дни собирались сарагоские философы и сидели, ничего не делая, от зари до зари. Другой вход, называвшийся главным, с характерной для Испании непредусмотрительностью был устроен со стороны узкой улочки, куда никто и не заглядывал.
Марко знал, что главный портал обыкновенно открывался при больших церемониях и для богомольцев, которые были полезны для церкви. Остальные, желавшие только помолиться Богу, должны были входить в собор и выходить из него через более доступные для публики двери со стороны площади. Он знал также, что монастырские школы расположатся на главной паперти которая днем служит плац-парадом для официально признанных нищих, у которых на шее надет номер и разрешение на прошение милостыни.
Когда Марко с отцом вошли в эти двери, собор был уже битком набит. В конце пологой лестницы, ведущей от паперти внутрь собора, над морем голов виднелся белый капюшон сестры Терезы. Там и сям среди черных мантилий мелькали белые капюшоны монахинь и голубые послушниц. Местами на фоне обожженных солнцем лиц бросались в глаза седые головы стариков. Вся толпа держалась тихо и почтительно. Если кто желал стать на колени, все давали ему место. Не было ни давки, ни раздражения.
Процессия с архиепископом уже вышла из левого крыла и медленно двигалась вокруг собора. Впереди шел хор, певший в унисон и вызывавший под крышей здания какое-то нелепое, неприятное эхо. За хором следовал человек в обыкновенном штатском одеянии, который как-то странно подыгрывал хору на гобое. Различая при тусклом свете двух свечей, которые несли по обеим его сторонам, лица своих друзей, он весело кивал им головою.
Время от времени процессия останавливалась и пела песнопения. Высоко над их головами им отвечал торжественно орган.
Архиепископ, впереди которого несли под шелковым балдахином Св. Дары, был облачен в шелковое красное одеяние, шлейф которого несли два мальчика. На руках у него были красные перчатки.
Когда приближались Св. Дары, народ становился на колени; потом поднимался, потом опять опускался, когда приближался архиепископ. Эти человеческие волны то вздымались, то опускались. Все пристально смотрели на тех, кто представлял собою символ католической религии. Архиепископ, проходя, призывал на народ благословение Божие.
Впереди него шел церковный прислужник в длинном и дурно расчесанном парике из льна, надетом криво и на бок. Он очищал дорогу своим жезлом и ударял им людей, которые не успевали дать архиепископу дорогу.
За ними шел хор, равнодушный ко всему, с холодными и жесткими, плохо выбритыми, как у инквизиторов, лицами.
Все время наверху гудел большой колокол. Казалось, вся атмосфера была насыщена его звуками.
Возле большой паперти по обеим сторонам архиепископского пути стояли рядами семинаристы в черных длинных одеяниях с темно-синими или красными капюшонами, — все унылые молодые люди с увядшими лицами и нездоровым видом. Сзади них расположилась группа монахов в грубых шерстяных одеяниях коричневого цвета, с выбритыми головами, на которых оставлялся только венчик из волос. Они казались очень веселыми, смеялись и шутили между собою, пока проходила процессия.
Сзади них на коленях стояли воспитанницы монастырской школы. Вокруг них была целая толпа. Хуанита была на одном конце их ряда, сестра Тереза на другом. Хуанита не оглядывалась: она была еще молода и как-никак обряд представлялся ей интересным. Она оглянулась назад через плечо в тот самый момент, когда архиепископ как раз поравнялся с нею, и вдруг вздрогнула: как раз сзади нее стоял на коленях Марко. Сестра Тереза, опустив капюшон, смотрела прямо перед собой. Трудно было сказать, видела ли она Хуаниту и мужчину, который стоял на коленях почти на шлейфе ее платья и который был не кто иной, как ее брат, старый граф Саррион.
Процессия медленно двигалась вдоль собора, оставляя за собой давку и тесноту. Народ, впрочем, стал уже расходиться: было поздно, а многие приехали издалека.
Главные двери, редко приходившие в движение, распахнулись теперь настежь. Толпа двинулась в темный собор. Хуанита оказалась около самых дверей. Она посмотрела кругом, и сестра Тереза кивнула ей головой в знак того, что она может открыть шествие. В этот момент Марко очутился рядом с ней. Около него как бы случайно толпилось несколько человек в балахонах. Марко оглянулся назад и сделал в сторону отца едва заметное движение головой.
Вдруг Хуанита почувствовала, что кто-то толкнул ее сзади, и в то же время перед ней странным образом открылся совершенно свободный проход. Она бросилась было вперед, но, оглянувшись со ступеней паперти, увидела, что она оттерта от своих товарок по школе. Между нею и ими стояли какие-то люди. Она хотела было сойти вниз, но Марко уже схватил ее за руку.
— Иди за мной, — промолвил он, — мне нужно поговорить с тобой. Не беспокойся. Возле сестры Терезы — мой отец.
— Как смешно! — прошептала она. — Торопись.
Через минуту они уже бежали по узкой улочке, где на углу свешивался на кронштейне единственный фонарь, мигавший на сарагоском ветре.
Первой остановилась Хуанита.
— О, Марко, я забыла! — вскричала она. — Нам нельзя идти. Мы попадемся навстречу омнибусу, который всегда приезжает за нами к службам.
— Сегодня он не приедет, — отвечал Марко, — кучер уже здесь и хочет предупредить сестру Терезу, что одна из его лошадей охромела сегодня и омнибус не приедет.
— Для чего ты это сделал? — спросила Хуанита, поглядывая на него своими блестящими глазами из-под развевавшейся на ветру мантильи.
— Потому что мне нужно поговорить с тобой. Мы можем пойти прямо к школе. У нас все предусмотрено.
— И мы можем идти по улицам и заходить в магазины.
— Конечно. Надо только закутаться хорошенько в мантилью.
— Марко, у меня нет денег. Одолжи мне.
— Изволь. Что ты хочешь купить?
— О, шоколада. Сколько у тебя денег?
И при тусклом свете уличного фонаря она протянула руку.
— Я куплю тебе шоколада сколько хочешь, — сказал Марко.
— Это очень мило с твоей стороны. Я рада видеть опять твое серьезное лицо. Я сижу без денег. Не понимаю, где застряли до сего времени мои карманные деньги.
Она весело засмеялась, но, обернувшись к нему, вдруг переменила тон.
— Я так несчастна, Марко. Мне не с кем поговорить. Ведь папа умер. Знаешь?
— Знаю, — отвечал он.
— Три дня тому назад, — продолжала она, — я думала, что я умру. А потом мне стало лучше. И боюсь, что не от молитвы, Марко. Конечно, я никогда не видала его. Другое дело, если бы это случилось с моим дорогим дядей Рамоном или с тобой.
— Благодарю, — промолвил Марко.
— Но я только получала от него письма и такие политичные. Я побранила Леона за то, что он такая тряпка и ничего не делает, чтобы разузнать, кто убил папу, и, в свою очередь, поразить убийцу. Мне так досадно, что я не мужчина. Вот лавка, Марко, а вот и шоколад на листах белой бумаги. Купим целый лист. Я заплачу при следующей получке.
Они вошли в лавку, и Марко закупил столько шоколаду, сколько только можно было спрятать под мантильей.
— Я принесу тебе еще больше, — сказал Марко, — если только ты скажешь, как мне к тебе пробраться.
Она уверила его, что это вовсе не так трудно, и посвятила его в тайну, известную очень немногим: в монастырской стене было отверстие, достаточно широкое, чтобы просунуть в него руку. Дыра эта находилась за прудом в глубине сада возле старинных, никогда не отворявшихся ворот.
— Во вторник, между семью и восемью часами жди меня, — сказала она, — я подойду к отверстию и просуну в него руку. Но как же узнать, что там будешь ты?
— Я поцелую тебе руку, — отвечал Марко.
— Хорошо, — медленно промолвила она, — вот забавная штука!
Они уже подошли к воротам монастырской школы и остановились за толстыми деревьями, выжидая, пока не подойдет вся школа. Вскоре послышалось обычное жужжание приближавшихся питомиц школы, похожее на шум ручья вокруг подводных камней.
Хуанита незаметно присоединилась к подругам. Сестра Тереза, глядевшая по-прежнему лишь впереди себя, казалось, не замечала ничего.
X Свидание
В монастырской школе на Торрерском холме посетителей принимали по вторникам. Льгота этого дня простиралась и на вечер, когда воспитанницам разрешалось гулять целый час по саду и беседовать между собой. Не нужно забывать, что в монастырях всякие разговоры считаются послаблением плоти и разрешаются лишь в известное время.
— Эти прогулки весьма полезны, — заметила однажды настоятельница Эвазио Мону, который состоял одним из светских директоров школы. — Легче следить, с кем у кого завязывается дружба.
Но мать-настоятельница, подобно многим чересчур хитрым особам, сильно ошибалась. Дружба между школьными подругами — это трость, колеблемая ветром, и из всего посева дадут ростки два-три зерна, да и то где-нибудь на укромной почве.
Однажды Хуанита гуляла с одной из подруг по саду, с нетерпением дожидаясь, когда на колокольне церкви св. Фернанда пробьет семь часов. Хуанита уже посвятила свою подругу в тайну шоколада, который должен явиться через отверстие в стене.
Сад при школе был довольно большой и тянулся вниз по склону холма. В нем было много фруктовых деревьев и кипарисов. В самом дальнем конце его, где находилось отверстие в стене, росла небольшая ореховая рощица, в которой неумолчно пели соловьи.
— Теперь уже около семи, пойдем потихоньку вот к тем деревьям, — сказала Хуанита.
Обе оглядывались с любопытством. В саду были только две монахини, важно прогуливавшиеся рядом и время от времени любовно поглядывавшие на своих веселых питомиц. Хуаните и ее подруге, как старшим, были предоставлены некоторые привилегии, и они могли гулять отдельно. К тому же у них не было наследников, а это обстоятельство заставляет относиться к людям иначе даже в монастыре, двери которого, казалось, должны запираться для всяких житейских дел.
Хуанита поручила своей подруге стоять на страже, а сама быстро побежала между деревьями. Отыскав отверстие, она засучила рукав и просунула в него руку. Эта рука, шаловливо перебирая пальцами, выставилась из цветов и зелени как раз около серьезного лица Марко. Он исполнил то, о чем они условились. С веселым смехом Хуанита быстро отдернула руку.
— Марко, — сказала она, — свертки не должны быть велики, иначе они не пройдут в отверстие.
— Я нарочно велел сделать их маленькими.
Но она, казалось, уже забыла о шоколаде: ее рука не появлялась.
— Я хочу поглядеть через это отверстие, — послышался ее голос, — я вижу что-то черное. А, теперь понимаю. Это твоя лошадь. Ты ведь верхом. Это арабская лошадь? Пожалуйста, подведи ее поближе к стене, чтобы я могла ее погладить.
И ее рука опять выставилась из цветов и гладила воздух.
— Желала бы я знать, узнает ли она мою руку? О, Марко, неужели никто не возьмет меня отсюда? Я терпеть не могу этого места. К тому же я и боюсь. Мне отчего-то страшно, Марко, и я сама не знаю, отчего. Все было хорошо, пока папа был жив. Я чувствовала, что в один прекрасный день он приедет и возьмет меня к себе, и все это пройдет.
— Что «все это»? — спросил Марко из-за стены.
— О, я не знаю. Это какой-то гнет, какая-то тайна, которую я не могу определить. Я не трусиха, ты это знаешь, но временами мне делается страшно, и я чувствую себя одинокой на свете. Есть еще, конечно, Леон. Но ведь ты знаешь, что он такое.
— Да, знаю.
— Как ты думаешь, Марко, можно ли остаться в миру и спастись.
— Конечно.
— А как об этом думает дядя Рамон?
— Так же.
— Какие хлопоты с этой душой! По крайней мере, с моей. Мне не позволяют говорить ни о чем другом.
— Почему же? — спросил Марко.
Он всегда терпеливо искал случая помочь и любил говорить о делах, в которые он мог немедленно вмешаться.
— Вероятно, потому, что я порочнее других. Все утверждают, что я только тогда могу спасти свою душу, когда сделаюсь монахиней.
— А тебе это не хочется?
— Мне этого никогда не хотелось. Жизнь, которую ведут монахини, кажется мне безмятежной, а все-таки нельзя отогнать от себя мирские призраки. Когда я выхожу отсюда, как, например, было в прошлое воскресенье, и вижу магазины, дядю Рамона, тебя, тогда монастырь мне становится противен. Вот теперь я глажу нежную морду твоей арабской лошади и чувствую, что я не могу быть монахиней. Я чувствую, что я должна быть в миру, должна завести себе лошадей и собак, летать по горам, а все остальное предоставить милосердию Божию.
Марко не отвечал. Опять в отверстии показалась рука.
— Где ты? — спросил голос Хуаниты. — Отчего ты не отвечаешь?
Марко взял ее за руку.
— Ты все раздумываешь, — смеясь, сказала она, — я знаю. Я видела, как ты раздумываешь, там, на берегу Волка, когда форель не хотела подниматься из воды и ты соображал, как лучше ее вытащить. О чем ты думаешь?
— О тебе.
— Ого! — засмеялась она. — Не следует относиться к моим словам так серьезно. Все, знаешь, со мной очень любезны, и я чувствую себя здесь хорошо. По крайней мере, мне так кажется. Где же шоколад? Пожалуй, ты съел его сам по дороге, — ты и твоя лошадь. Я всегда говорила, что вы один другого стоите, не правда ли?
В ответ он вложил ей в руку небольшой пакет, перевязанный ленточкой.
— Спасибо. Ты очень добр, Марко. Ты не говоришь, а делаешь. Что лучше?
— Я возьму тебя отсюда, если ты хочешь, — сказал Марко.
— Каким же образом?
И в ее голосе послышалось что-то звенящее.
— Неужели это действительно возможно? Скажи, каким же образом?
— Нет, этого я тебе не скажу, по крайней мере теперь. Но я могу это сделать, если тебе грозит превращение в монахиню помимо твоей воли.
— Каким же образом? — уже серьезно спросила она.
— Этого я тебе не скажу, пока не наступит время. Это секрет, а ты, пожалуй, и выдашь его на исповеди.
— Да, пожалуй, — согласилась Хуанита, — пожалуй, ты прав. Но ты придешь опять в следующий вторник?
— Да, непременно.
— Вот кстати. Чуть было не забыла. Я написала тебе письмо, на случай если бы нам не удалось поговорить. Где оно у меня? Вот, в кармане. Хочешь, я тебе его дам.
— Давай, давай.
Марко попробовал просунуть свою руку в отверстие, но это ему не удалось.
— Ага, — рассмеялась Хуанита, — я в лучшем положении, чем ты.
Марко тихо улыбнулся.
— Уезжай! Уезжай скорее! — вдруг испуганно зашептала Хуанита. — Милагрос зовет меня. Кто-то идет. Да, это сестра Тереза. И еще кто-то с ней. Синьор Мон. Это страшный человек. Он видит все… Марко, уезжай.
Марко не стал ждать. Письмо было уже в его руках. Он галопом взлетел на холм и пустил лошадь прямо в канал. Поднялся целый фонтан брызг, и лошадь быстро выбралась на противоположный берег.
Ехать каким-либо другим путем значило подвергать себя опасности быть замеченным из сада. А ведь в этом саду был Эвазио Мон!
И сестра Тереза, и Мон видели, как Хуанита вышла из-за деревьев и присоединилась к своей подруге, но, по-видимому, не обратили на это внимания.
— Кстати, — сказал Мон, — мы дошли до самого конца сада. Нельзя ли мне сократить свой путь и выйти через калитку, которая находится в конце сада.
— Через эту калитку никто не ходит, — отвечала сестра Тереза, — да и вряд ли желательно к ночи идти этим путем.
— О, меня никто не тронет. Я человек бедный, — с любезной улыбкой возразил Мон, — ключ от калитки с вами?
Сестра Тереза посмотрела на связку ключей, висевших у нее на поясе.
— К сожалению, нет. Я сейчас пошлю за ним.
И она подозвала жестом одну из монахинь, которая, казалось, смотрела совсем в другую сторону и тем не менее сразу заметила жест начальницы.
Когда принесли ключ, Мон с улыбкой смотрел через невысокую стену сада, рыская глазами за узкой тропинкой, которая вилась среди выжженных полей прямо к реке.
— Было бы, пожалуй, благоразумнее иметь этот ключ при себе, на случай надобности, — мягко заметил он.
— Я так и буду делать с этого дня, — виновато отвечала сестра Тереза. Первая добродетель монахини — повиноваться, и нет такого женского монастыря, который не находился бы под прямым и безусловным контролем мужчины, будь он простой священник, или, в исключительном случае, сам папа.
Через несколько минут в руках сестры Терезы очутилась вторая связка ключей. Она стала внимательно их рассматривать.
— Не знаю уж, который из них от калитки, — сказала она, перебирая ключи, — ведь он употребляется очень редко.
Мон бросил на нее острый взгляд. Однако губы продолжали улыбаться по-прежнему.
— Дайте их мне, — сказал он, — это ключи от буфетов, а не от калитки. Среди этих ключей только два дверных.
Он взял ключи и пошел вперед прямо к калитке, которая была скрыта за ореховым кустарником. Пока он проходил под их ветками, со всех сторон громко заливались соловьи. Хуанита, спешившая домой по другой дорожке, вдруг остановилась и стала с беспокойством оглядываться назад.
— Вот этот, кажется, — мягко сказал Мон, осматривая ключи.
Он не ошибся. Отворив калитку, он вышел за ограду и быстро захлопнул калитку, едва простившись с сестрой Терезой.
— Идите с Богом, сестра моя, — промолвил он, церемонно сняв шляпу.
Он ждал, пока сестра Тереза не заперла калитку. Потом он принялся исследовать почву на узенькой полоске земли, которая прилегает к монастырской стене. Но на выжженной, высушенной поверхности земли легкая нога арабского скакуна не оставила никаких следов. Мон осмотрел стену, но не заметил отверстия в стене: дикий шиповник закрывал его, как занавеской.
Между тем Марко объехал вокруг вершины холма и, повернув направо, выехал на большую дорогу со стороны Казы Бьянки и вернулся в Сарагосу широкой аллеей, известной под названием Monte Torrero.
Он направлял своего коня прямо под фонарь, подвешенный к деревьям, которые стояли против городских ворот Puerta de Santa Engracia. Тут он развернул письмо, которое ему передала Хуанита. Оно было написано карандашом на клочке бумаги, вырванном из тетради:
«Дорогой Марко, — писала Хуанита, — сердечно благодарю за шоколад. В следующий раз привези, пожалуйста, и миндалю. Милагрос очень его любит. А я очень люблю Милагрос. Благодарная Хуанита».
В словах было несколько ошибок.
XI Королевские приключения
Въехав в город, Марко увидел, что, несмотря на позднее время, на улицах толпятся кучки встревоженных людей. Нервы цивилизации были в большом напряжении в это время. Пал Седан. Париж был почти уже в осаде. Все, говорившие по-французски, думали, что не за горами уже и конец мира.
Папа лишился своей светской власти. Основы мира, казалось, заколебались под тяжелыми шагами истории, неумолимо шедшей вперед.
Никто не знал, что будет с Испанией. Казалось, этой стране, наследовавшей древнюю славу, предстояло упасть на самое дно пропасти. На Кубе бушевало яростное восстание. Погибали бесполезно тысячи людей. Гордость нации, самой гордой после Рима, была унижена вмешательством Северо-Американских Соединенных Штатов. Королевство без короля, Испания предлагала свою корону по всей Европе. На трон, как и на более мелкий пост, всегда, конечно, можно найти человека, у которого не будет ни таланта, ни даровитости. Но выдающиеся люди всегда оказываются уже занятыми. Им нечего дожидаться событий, чтобы выплыть наружу.
Об Испании говорили при каждом европейском дворе. Она вовлекла два народа в величайшую войну. Леопольд Гогенцоллерн получил бы испанскую корону, не вмешайся в дело Франция. Таким образом, Испания второй раз в своей истории приводила французскую монархию на край гибели.
Родственник английской королевы Фердинанд Португальский, из Кобургской семьи, отклонил предложение испанцев. Испания не могла ждать. Хотя Прим, через руки которого шли все дела, был твердым человеком, но ждать дольше было невозможно. Испании необходим был король, регентство становилось всем в тягость. В государственных кассах не было золота. Законодательные палаты превратились в простые говорильни. Здесь царствовало красноречие, но красноречие никогда ведь не создавало государств.
С полдюжины партий изливались в горячих речах. Но Испания, не имея дешевых газет, была глуха к этим речам. Ей говорили, что самым красноречивым оратором был Кастеляр, и она взирала на Кастеляра — маленького толстого человека с огромными усами и низким лбом — и твердила со вздохом: «Пусть нам дадут короля!»
Прим был лучше, это был человек на все руки, не умевший нанизывать красноречивые слова. Родом он был из Каталонии, где люди обладают твердым характером и ясным умом. Он знал себя и также твердил: «Пусть нам дадут короля!»
Одни кричали о доне Карлосе, другие об Эспартеро. Каталония заявляла, что она не может ужиться с Андалузией. Арагония предлагала собственного короля и собиралась перевешать Валенсию. В Наварре все были за дона Карлоса.
Когда Марко ехал по улицам Сарагосы, там открыто кричали, что годится только республика.
Он поехал прямо к себе, в свой мрачный дворец между собором и рекой Эбро. Отца не было дома. В коротенькой записке он извещал сына, что едет в Мадрид, где экстренно созывается совет нотаблей, и что Марко должен немедленно ехать в Торре-Гарду, где карлисты готовы поднять оружие за своего короля.
В ту же ночь Марко вернулся в Памплону, а на другой день уже ехал в Торре-Гарду по большой дороге, вившейся вдоль берега Волка. В своих владениях он скоро дал почувствовать свою железную руку, и народ, не желавший платить никаких податей ни королю, ни регенту, оставался спокойным в то время, когда по всей Испании царила анархия.
Прошла неделя. Мирная долина волновалась слухами, доходившими из Мадрида. По всей стране появились толпы недовольных, которые называли себя карлистами и поднимали свой голос в пользу дона Карлоса. Встретить солдата, который носил бы свою фуражку как следует, было в это время большой редкостью для северных городов Испании. Армия уже не знала своего хозяина, и испанские солдаты выражали это наивно и просто, нося фуражку задом наперед.
Марко не имел никаких известий от отца из Мадрида, но подозревал, что крикуны продолжают еще сохранять за собой власть. Почтовое дело в Испании в то время продолжало находиться в том же состоянии, в каком оно было в средние века. Почтовые чиновники и теперь во многих городах производят свои операции всего два часа в день. А во времена франко-прусской войны для северных провинций, где происходило брожение, почты, можно сказать, совсем не было.
В один прекрасный день, спустя неделю после своего приезда, Марко встал в три часа утра и до захода солнца проскакал шестьдесят миль. Ему хотелось сдержать данное Хуаните слово. Он не доверял железной дороге, которая в самом деле могла быть каждую минуту отрезана карлистами или роялистами. Он предпочитал ехать по большой дороге, где ему встретилось несколько приятелей из Наварры и два-три из долины реки Волка. По дороге ему пришлось наслышаться множества всяких слухов и сплетен. Казалось, маршал Прим был душой всего движения.
Ровно в семь часов Марко уже был на своем посту перед монастырской стеной. Ему пришлось ждать довольно долго, и он слышал, как часы на колокольне св. Фернандо пробили восемь. В этих южных широтах вечера что зимою, что летом одинаковы. В восемь часов стало уже совершенно темно, и Марко поехал дальше.
Как человек дела, он не очень поддавался своим чувствам.
«Конечно, Хуанита пришла бы, если б могла, — рассуждал он. — Но почему же она не могла сдержать своего обещания?»
Подъехав к главным воротам, он спросил, не может ли он видеть сестру Терезу, или Долорес Саррион, как она называлась раньше.
В это время монастыри были запрещены законом. К тому же его тетка жила и не в монастыре.
— Сестры Терезы здесь нет, — отвечал чей-то голос через решетку в воротах.
— Где же она?
Ответа не последовало.
— Уехала в Памплону?
Глазок в двери тихо закрылся.
Спокойно улыбнувшись, Марко повернул коня. Его лицо по-прежнему было твердо и решительно. Несмотря на то, что с утра он проскакал более шестидесяти верст, он держался в седле прямо.
Не трудно было понять, что Хуаниту отправили в Памплону, куда, очевидно, приказано было ее сопровождать сестре Терезе. В Памплоне еще уважали религию, и монах мог еще гордо нести свою бритую голову по обвеваемым ветром улицам.
Все знали, что Памплоне ежедневно грозила атака карлистов, у которых в городе было немало друзей. Но, конечно, бомбардировать его они не хотели, и Хуанита была здесь в такой же безопасности, как и во всяком другом городе. Поэтому Марко вернулся к себе в Торре-Гарду и снова взял в руки всю долину. Жатву уже собрали, и голода в предстоящую зиму ожидать было нельзя.
Выпал уже первый снег, а о Хуаните не было ни слуху, ни духу. Марко, впрочем, знал, что она вместе с сестрой Терезой проживает в Памплоне, в большом желтом доме на улице Dormitaleria почти напротив дверей собора, где беспрестанно и бесшумно снуют монахини и послушницы. Опустив глаза и бормоча молитвы, они спешат в собор, а оттуда опять по своим делам.
В ноябре Марко получил письмо от своего отца из Мадрида. Он писал, что Приму удалось восстановить порядок. Есть также надежды уладить и политические разногласия.
Король наконец найден, и, если он согласится принять корону, в Испании все пойдет хорошо.
Через неделю пришло известие, что королем Испании провозглашен Амадей Савойский, младший сын храброго Виктора-Эммануила.
Герцог Амадей Савойский был не из числа людей второго сорта. Он отличался храбростью, честностью и был настоящим джентльменом — все качества, которыми не блистал испанский трон, пока на нем сидели Бурбоны.
Саррион звал сына в Мадрид присутствовать при встрече короля. Умные люди всех партий понимали, что это лучшее разрешение тех затруднений, среди которых очутилась Испания, благодаря Бурбонам и придворным шептунам. Однако страна была в общем настроена мрачно и равнодушно.
— Нам нужен во всяком случае испанец, — заявляли те, кто еще недавно кричал: «Долой свободу!»
— Дайте нам денег, а мы дадим вам дона Карлоса, — шепотом говорили те, кто агитировал в пользу этого претендента.
Марко приехал в Мадрид к вечеру. Станция, как и поезд, была битком набита народом. Все, кому только было можно, приехали ко встрече короля.
Марко был очень удивлен, увидев на платформе своего отца среди тех, кто дожидался поезда с севера.
— Идем, — сказал Саррион, — выйдем через боковой выход. У меня здесь карета. По улицам пройти нельзя. Никто не знает, что делается. У Испании опять нет главы. Прошлою ночью его убили.
— Кого?
— Прима. Его застрелили, когда он ехал в карете, словно собаку в конуре. Их было пять человек, с ружьями. Теперь уже нельзя гордиться тем, что ты испанец.
Марко, не отвечая, пробирался за отцом через толпу.
— Он был каталонцем до самого конца, — начал Саррион, когда они сели в карету. — Несмотря на смертельную рану, он сам поднялся к себе, не желая пугать жену. Это был один из лучших у нас людей.
— А как насчет короля?
— Король должен высадиться сегодня в Картагене вместе со своей женой. Но без Прима он едва ли может удержаться. Все-таки он хочет попробовать. Нам нужно сделать все, что можно.
Карета осторожно двигалась по Puerta del Sol, которую, на памяти Сарриона, не раз приходилось очищать картечью. Да и теперь, казалось, одна артиллерия может восстановить здесь порядок.
— Да здравствует король! Да здравствует дон Карлос! — кричал какой-то бродяга и махнул шляпой, чуть не задевая улыбающееся лицо Сарриона.
— Не понимаю, — сказал он Марко, когда они отъехали от этого места, — почему это Господь Бог так покровительствует Бурбонам?
— А я не понимаю, почему Бурбоны не пользуются этим, — отвечал тот.
Отец и сын добрались наконец до своей квартиры. Их улица лежала высоко над городом. Здесь возле церкви св. Иакова Саррион останавливался неизменно, когда бывал в Мадриде.
Оправившись от дороги, Саррион посвятил сына в подробности той авантюры, на которую решил пуститься Амадей Савойский.
В свою очередь, Марко рассказал отцу вкратце о всем том, что за это время происходило в долине реки Волка. Он никогда не отличался разговорчивостью и сообщил только, что урожай хорош и что стоит чудная погода.
— А Хуанита? — спросил наконец Саррион.
— Она в Памплоне. Они не могли увезти ее так, чтобы я об этом не узнал. Она здорова и счастлива.
— Ты не писал ей?
— Нет, — отвечал Марко.
— Не нужно забывать, — продолжал Саррион, одобрительно кивая головой, — что мы имеем дело с самыми умными и самыми жадными людьми на свете…
— Я получил от нее письмо перед тем, как им ехать в Памплону. Оно написано довольно-таки неграмотно, — с улыбкой сказал Марко.
— Ну, и что же?
Марко не отвечал на этот вызывающий вопрос.
— Я пришел к тому заключению, что ты совершенно прав в своем подозрении. Они хотят присвоить эти деньги и с этой целью заставить ее сделаться монахиней. А там она должна будет подписать обычное завещание, в силу которого все земные богатства монахини переходят к ордену, в который они вступают.
— Ну, и что же?
— Как только мы заметим, что они близки к успеху, я сейчас же повидаюсь с Хуанитой.
— Несмотря на них?
— Да.
— Ну, а потом?
— Я объясню ей ее положение и растолкую ей, что из двух зол ей придется выбирать меньшее.
— Это одно из средств.
— Это единственное честное средство.
Саррион пожал плечами.
— Друг мой, — сказал он, — я не думаю, чтобы любовь или честность играли тут какую-нибудь роль.
XII В укрепленном городе
Не успел герцог Амадей высадиться в Картагене, как пришло известие об убийстве Прима. Человек, пригласивший его на престол и один умевший поддерживать порядок в Испании, был призван теперь к престолу Всевышнего.
— Всякой собаке — собачья смерть, — ядовито заметил маршалу один из депутатов за несколько часов до его убийства, когда Прим открыто заявил, что железной рукой задушит всякого, кто станет сопротивляться новому королю.
При таких-то обстоятельствах въезжал в свою столицу в снежный январский день 1871 года Амадей Савойский. Он высоко держал голову и твердыми, умными глазами всматривался в лица людей, которые не хотели приветствовать его кликами, словно в скрытые скалы, мимо которых ему приходилось вести государственный корабль.
Одними из первых приветствовали нового короля Саррионы. Проходя после приема через переднюю, они лицом к лицу столкнулись с Эвазио Моном, который ждал здесь своей очереди.
— А я и не знал, что вы тоже придворный, — воскликнул Саррион, как бы не замечая протянутой ему руки.
— Да я и не придворный, — возразил тот. — Я пришел сюда только для того, чтобы посмотреть, действительно ли я так постарел, что у меня уже нечему поучиться.
С любезной улыбкой он повернулся к Марко, но уже не решался протянуть ему руку. Тот молча прошел мимо. Мон, повернувшись, долго смотрел им вслед, как человек, который вдруг услышал военную тревогу.
— Судя по лицам, которые окружали нашего друга, деньги у него есть, — заметил Саррион, спускаясь по дворцовой лестнице, которая несколько лет тому назад была залита кровью.
— Это был генерал Пачеко, который отвернулся от нас, когда мы проходили мимо?
— Он самый. А почему ты спрашиваешь?
— Я слышал, что он будет назначен командующим армией на севере.
Саррион сделал гримасу, в которой было мало лестного для этого храброго солдата. Сойдя с лестницы, он встретил кого-то из знакомых и заговорил с ним. Говорил он по-французски: его собеседник был француз, некий Делэн, личность весьма темная, находившаяся будто бы на дипломатической службе и занимавшая в посольстве какое-то неопределенное положение. С ним был еще англичанин, дружески приветствовавший Марко.
— Что вы думаете о развертывающихся событиях? — спросил Саррион, обращаясь к англичанину.
— Мне кажется, что нужны только деньги и не очень много, чтобы дон Карлос стал королем, — поспешил ответить Делэн.
— А что делает в Мадриде Эвазио Мон? — спросил опять Саррион.
— Собирает и тратит деньги, — отвечал француз, пожимая плечами, как будто желая показать, что это дело его не касается.
Они вместе направились наверх, но не успели они подняться на несколько ступеней, как Марко, не повышая голоса, обратился к англичанину:
— Картонер!
Тот быстро обернулся. Марко бросился ему навстречу.
— Кто этот прелат с лисьим лицом? — спросил он.
— Это представитель Ватикана. Вы говорите про того, который стоит с Моном?
Марко утвердительно кивнул головой и спустился вниз.
— Мне лучше будет ехать обратно в Памплону, — сказал он отцу.
Поезд к северным границам Испании выходит из Мадрида вечером. В это время решительно никто не знал, можно ли будет получить билет во Францию.
Оба Сарриона в тот же вечер приготовились к отъезду. Они приехали на станцию рано и успели получить для себя отдельное купе. Марко стоял в проходе и смотрел на подъезд, из которого выходили пассажиры.
— Ты ждешь кого-нибудь? — спросил Саррион.
— Генерала Пачеко. Вот и он. Его сопровождают три адъютанта и взвод жандармов. Он держит голову высоко.
— А ноги у него все-таки прикованы к земле, — заметил Саррион, свертывая себе папиросу. — Ты хочешь пригласить его к нам?
— Да.
Генерал Пачеко был одним из тех солдат, которые всем обязаны своей наружности. Он носил огромные усы, закрученные вверх до самых глаз, и имел вид непобедимого завоевателя… дамских сердец.
Он сильно удивился, заметив графа Сарриона, который стоял на платформе, держа в одной руке шляпу, а другую протягивая ему.
— Вы поедете с нами, — сказал он.
Граф Саррион был одним из тех, кто всегда сторонился военной аристократии королевы Изабеллы. Вот почему генерал поспешил принять его предложение и обвел взглядом всех присутствующих, как бы желая убедиться, что это предложение произвело должное впечатление.
— Я нахожу, — начал Пачеко, садясь рядом с Саррионом и принимая от него папиросу, — что каждый новый успех в жизни создает мне новых друзей.
— И заставляет покидать старых, — заметил граф.
— О, нет, — хрипло захохотал генерал и сделал рукой покровительственный жест, как бы отгоняя самую мысль о такой измене. — Я только увеличиваю их число по мере того, как подвигаюсь вперед. Совершенно так же, как увеличивают люди свой капиталец, когда им улыбнется судьба.
И он с хитрой улыбкой на своем коричневом лице посмотрел на обоих спутников. Как человек, знающий людей, Саррион прекрасно знал, что такое оживление продлится недолго и что через полчаса наступит полоса меланхолии и сонливости.
— Тут все зависит от пищеварения. Сколько раз даже трезвые люди уверяли других в своей дружбе только потому, что хорошо пообедали.
Генерал, держа двумя пальцами папиросу, сделал жест, как будто хотел предостеречь своего собеседника насчет своей проницательности.
— Ведь все знают, — заметил он шутя, — что вы в душе карлист.
— Неужели?
— Уверяю вас. Но успокойтесь. Я думаю, что вы на правильном пути теперь.
— Будем надеяться.
— Деньги — вот что теперь нужно. Надо подойти к народу с руками, полными денег. Генерал откинулся назад и хитрыми глазами в морщинках посмотрел из-под своей расшитой галунами фуражки на обоих спутников.
Но темные глаза Сарриона быстро угадывали все хитрости этого стратега.
— Надо ковать железо, пока горячо, — медленно произнес он.
Он говорил загадочно, как человек, черпающий свою мудрость в народных пословицах. Оттого его слова могли иметь большой смысл, но могли и вовсе не иметь его.
— Вот и я то же говорю. Дайте мне месяца два, больше мне и не понадобится.
— Неужели? — спросил Саррион, поглядывая на него с удивлением.
— Два месяца и сумму денег, которую я назначу.
— Два месяца! Рим, знаете, был выстроен не в один день.
Генерал залился своим хриплым смехом.
— Ага, я вижу, что вы хорошо осведомлены обо всем. Теперь вы дали мне путеводную нить: Рим!
И великий гражданин-солдат снова откинулся на свое место и, видимо, был очень доволен собой.
— Дело, очевидно, сводится вот к чему, — начал он опять, — надо скорее получить санкцию Ватикана на принятие монашества одной молодой особой. Тогда деньги будут свободны, и все пойдет, как по маслу. А потом можно будет… скажем, убедить мою армию и… меня самого. Ватикан, конечно, согласится. Вот в чем дело, по моему мнению.
Он хлопнул себя по карману, как будто деньги были уже там, и закрыл глаза, как самый простой человек вроде какого-нибудь андалузского трактирщика, каким был его отец.
— Конечно, конечно, — поддакнул ему Саррион.
Действие хорошего обеда уже проходило. Поезд двинулся, и генералу Пачеко, видимо, не хотелось поддерживать разговор. Он попросил разрешения ослабить туго затянутый мундир и расстегнул вышитый золотом воротник, стягивавший его толстую шею. Через минуту он уже спал, не обращая внимания на пристальные взоры Марко, сидевшего в противоположном углу.
Генерал ехал в Сарагосу. Поэтому на другое утро они распрощались с ним на станции Каспэхон. Было очень холодно. По равнине дул сильный ледяной ветер, и снег густо покрывал землю.
— В Памплоне, должно быть, теперь не сладко, — пробормотал генерал, кутаясь в воротник своего пальто. — Не завидую вам. До свидания. Закрывайте плотнее дверь.
Станция была переполнена солдатами. Их остроконечные фуражки виднелись в каждом окне поезда. Едва рассветало.
Город Памплона стоял на холме, который опускался отвесно на северо-восток прямо на берег реки Арги. Этот светло-зеленый поток делал еще неприступнее стены, высившиеся вокруг города, словно скалы. Памплона справедливо считается самым неприступным городом в Европе. С юго-запада к ней тянется плато, через которое идет большая дорога от Мадрида и французской границы.
Станция лежит на равнине, по которой, как змея, вьется железная дорога. Пушки города господствуют как над станцией, так и над обоими берегами Арги.
Солнце уже подымалось, когда карета Сарриона медленно вползла в гору и загремела по подъемному городскому мосту. В центре города, на площади Конституции, бродили целые стада собак от одной кучи мусора к другой. Пожива их, видимо, была не велика, а то, что удавалось найти, вызывало не особенно приятные ощущения в желудке. Перро глядел на них из окна кареты довольно печально: ему, должно быть, приходили на память те дни, когда и он копался в таких же кучах сора.
У Саррионов не было своего дома в Памплоне. В противоположность большинству наваррских дворян, они жили у себя в имении, которое отстояло отсюда всего миль на двадцать. Всякий раз, как им нужно было побывать в Памплоне, они останавливались в гостинице на площади Конституции…
Сюда же направились они и теперь.
— Два месяца, — сказал граф, стараясь обогреться около печи, стоявшей в просто меблированной гостиной. — Они дали этому каналье Пачеко два месяца для того, чтобы сделать все приготовления… Хуаните надо сделать выбор теперь же.
— Они пойдут к вечерне в собор, — промолвил Марко. — Теперь в это время будет уже темно. Им придется пересечь улицу Dormitaleria, пройти через два монастырских двора и войти в собор через боковую дверь. Если Хуанита что-нибудь забудет и пойдет назад, я на несколько минут могу повидать ее в одном из дворов, на которых в зимнее время обыкновенно никого не бывает.
— Но как это сделать, чтобы она пошла назад?
— Это должна сделать сестра Тереза. Тебе нужно повидаться с нею. Не могут же воспрепятствовать тебе видеться с сестрою.
— Но захочет ли она помочь в данном случае?
— Захочет, — не колеблясь, отвечал Марко.
— Я тоже попытаюсь повидаться с Хуанитой, — сказал Саррион, закутывая горло шарфом. — Оставайся пока тут.
Он вышел. Памплона лежит на полторы тысячи футов над уровнем моря, и во время короткой зимы ее заваливает снегом.
Саррион пошел на улицу Dormitaleria, узенькую улочку, шедшую параллельно с городской стеной на восток от собора. Здесь он узнал, что сестры Терезы нет дома. Хуаниту тоже нельзя было видеть: она была в классе, и вызывать ее оттуда было запрещено. Саррион стал настаивать. Дежурная сестра пошла посоветоваться и навести справки: она не решалась сделать это собственною властью. Она не вернулась назад, а вместо нее вышел отец Муро, духовник школы. То был крепкий человек, и его лицо было бы не лишено приятности, если б он держался естественно и жил, как того требует природа.
Отец Муро выразил сожаление, что Саррион не может видеть Хуаниту. Это его не касается, говорил он, но он знает, что это не разрешается правилами. Потом он вспомнил, что он видел письмо, адресованное на имя графа Сарриона. Оно лежало на столе в комнате директрисы, где обыкновенно кладутся письма для отправки на почту. Он сейчас принесет это письмо.
Саррион взял письмо и тут же прочел его. На лице его блуждала доброжелательная улыбка: он знал, что отец Муро следит за ним глазами рыси.
— Да, — сказал наконец граф. — Это от Хуаниты.
Он сложил письмо и спрятал его в карман.
— Вам известно содержание этого письма, отец мой? — спросил он.
— Нет, сын мой. Откуда мне это знать?
— Да, в самом деле, откуда вам знать?
Саррион вышел. Отец Муро с большой услужливостью отворил ему дверь.
XIII В тисках
Вернувшись в гостиницу на площади Конституции, Саррион молча бросил перед сыном на стол письмо, которое ему передал отец Муро.
«Дорогой дядя, — писала Хуанита. — Пишу вам, чтобы предупредить вас о своем решении поступить в монастырь. Вы были всегда очень добры ко мне. Вот почему я и спешу сообщить вам об этом. Я знаю, вы согласитесь со мною, что этот шаг может только принести мне счастье в этом мире и в будущем. Ваша благодарная племянница Хуанита де Модженте».
Марко внимательно прочел письмо. Потом, порывшись у себя в кармане, вынул записку, которую ему передала Хуанита через отверстие в стене. Положив оба письма рядом, он стал их сравнивать.
— Почерк Хуаниты, — сказал он наконец. — Но слог совершенно другой. Да и слова написаны все правильно.
С решительной усмешкой он сложил оба письма и положил их к себе в карман. Саррион, куря около печки сигару, молча поглядывал на сына. Он знал, что судьба Хуаниты решена. На горе или радость, но она должна теперь выйти замуж за Марко, если б даже вся римская церковь восстала против этого брака. Он молча продолжал курить, греясь у печки. Он был умен и понимал, что теперь его дело сторона.
— Я думаю, — промолвил наконец Марко, — что нам необходимо повидаться с Леоном. Он ее опекун. Прибегнем в последний раз к этому средству.
— Ты хочешь предостеречь его?
— Да, — отвечал Марко, вставая. — Он, должно быть, здесь в Памплоне. Они ведь очень торопятся. Если получат разрешение из Рима, они, конечно, постараются ускорить события и захотят сразу сделать из Хуаниты монахиню. Для этого необходимо присутствие Леона. Они, очевидно, уже все подготовили и ждут только разрешения из Ватикана. Они собрались все здесь в Памплоне, здесь удобнее обделать это дельце, чем в Сарагосе, — удобнее, чем где бы то ни было в Испании. Они, очевидно, приказали Леону ждать здесь для того, чтобы можно было получить в нужный момент его формальное согласие.
— В таком случае идем и попробуем разыскать его, — сказал Саррион.
Площадь Конституции находится в самом центре города. Под ее колоннами расположились конторы бесчисленных омнибусов, которые связывают эту столицу Наварры с мелкими городами. Марко обошел все эти конторы. Среди коренастых погонщиков мулов у него было, очевидно, много друзей. Все эти люди в коротких штанах, чулках и безукоризненно чистых рубахах приветливо смотрели на него из-под своих беретов. Кучера дилижансов, только что прибывших из горных городков, перестали даже распрягать своих лошадей, чтобы поделиться с ним последними новостями.
Эти люди с мягким выговором и сдержанными манерами, столь похожие на своих древних предков, говорили с ним по-баскски. Некоторые высунули руку из-под одеяла, в которое каждый из них был закутан, чтобы поздороваться с ним. Другие ограничились коротким кивком головы. Люди из долины Эбро бормотали: «Buenas» — краткое приветствие, которое молчаливые арагонцы считают совершенно достаточным.
Марко, очевидно, знал их всех по именам. Он знал даже их лошадей. Перро, одинаково ласковый к богатому и бедному, свел знакомство с бродячими собаками, которые лежали на снегу, полизывая себе лапы. Как и его хозяин, Перро не был горд и широко смотрел на жизнь, считаясь со всеми ее превратностями.
С площади Конституции хозяин и собака направились по улице del Pozo Blanco, где ютятся шорники и седельники. Сюда обыкновенно приходят погонщики мулов покупать разноцветные дорожные мешки, которые так скоро выцветают на жгучем солнце. Сюда же является и гражданская гвардия за глиняными трубками. Здесь же кучер какого-нибудь важного человека может часами болтать с возницей с северных гор.
Под конец Марко направился по улице св. Игнатия к подъемному мосту через двойной ров, где работают канатчики, взглянув одним глазом на работу, а другим поглядывая на улицу. От этого они прекрасно знали всех проходящих и могли заменить любого часового.
За второй линией укреплений находилась площадь, обнесенная невысокой стеной. Здесь обыкновенно останавливались ехавшие на ослах или мулах женщины и слезали со своего седла, заваленного всякими мешками и корзинами. Это было место, где дамы приводили в порядок свой растрепавшийся от ветра туалет; а по вечерам собирались опять вместе, нагружали своих мулов всяческими покупками и наконец усаживались в седло.
И здесь у Марко оказались друзья и приятели, и ему сейчас же сообщили самые последние новости с Кубы, где у одной был сын, у другой муж, любовник или так называемый волонтер, нанимавшийся правительством для подавления восстания за сорок фунтов год. С Марко охотно болтали и старухи, и молодые женщины с классически правильными лицами и вьющимися волосами.
— Жаль, что здесь мало таких людей, как вы, сеньор граф, — сказала ему одна старая крестьянка. — Вы ведь не даете людям избивать друг друга, а заставляете стричь овец или собирать жатву. Будь они карлисты или роялисты, — важнее всего страна.
— Ведь только она и питает своих детей, — прибавила другая в фартуке.
Собрав нужные сведения, Марко вернулся к отцу.
— Леон здесь, — сказал он. — Он находится в подворье монастыря редемпционистов, которое стоит на полдороги к Виллабе. Сестра Тереза и Хуанита здоровы и живут в помещении школы на улице Dormitaleria. Мон был здесь несколько недель тому назад, но дня четыре как уехал в Мадрид. Ни для кого не секрет, что Пачеко за приличную сумму собирается со всей своей армией перейти на сторону карлистов. Он требует наличных денег и не довольствуется одними обещаниями. Карлисты уверены, что настал благоприятный для них час.
— Я тоже думаю, — заметил Саррион. — Герцог Савойский — сын Виктора-Эммануила, — этого не надо забывать. А сын человека, который разгромил папу, разумеется, придется не по душе здешней клерикальной партии. Нового короля убьют, Марко. Не позднее шести месяцев.
— Ты поедешь повидаться с Леоном? — спросил Марко.
— Да, доставлю себе это удовольствие, — со смехом отвечал граф.
Они выехали из города в час сиесты. Отправились они верхом. Снег уже растаял на дорогах, но холмы стояли еще белые. Много намело его и на стены укреплений, где образовался как бы новый естественный бруствер.
Спускаясь под гору, Марко обернулся в седле и стал смотреть на стены города. Саррион заметил это, взглянул на сына и на стены, но ничего не сказал.
На дороге в Виллабу находятся два старинных монастыря — огромные здания с высокими стенами. В каждом было по церкви, которая стояла отдельно от жилых зданий. Артиллерийские офицеры давно уже измерили все расстояния, и пушки города могли каждую минуту разнести вдребезги эти здания.
Марко дернул за веревку, качавшуюся по ветру около ворот одного из этих монастырей. Саррион между тем привязывал лошадей к столбу. Дверь отворил рослый монах. Увидев двух штатских в дорожных костюмах, он, видимо, был разочарован.
— Маркиз де Модженте здесь? — спросил Марко.
Монах махнул рукой в знак отрицания.
— Хотя бы он и был здесь, но теперь нельзя нарушать молитвенного уединения.
Он сделал было движение, чтобы затворить дверь, но Марко уже поставил за порог свою ногу в толстой обуви. Потом он уперся плечом в изъеденную временем дверь и, оттолкнув монаха, отворил ее настежь. Саррион последовал за ним и поспел как раз во время: благочестивая рука монаха потянулась уже к веревке от колокола.
— Нет, друг мой, звонить нет надобности.
— Вам нечего здесь делать, — возразил монах, зло посматривая то на одного, то на другого.
— Да и вам тоже, — сказал Марко. — Теперь ведь монастырей в Испании не существует. Садитесь на эту скамейку и ведите себя тихо.
Он повернулся и бросил на отца выразительный взгляд.
— Не беспокойся, — с улыбкой промолвил Саррион. — Я буду следить за ним.
— Где Леон де Модженте? — спросил Марко монаха. — Я не хочу беспокоить других.
Монах с минуту подумал.
— Третья дверь направо, — проговорил он наконец, кивая бритой головой по направлению длинного коридора, который виднелся за открытой дверью.
Марко вошел в этот тоннель. Его шпоры гулко гремели в пустом здании. Отсчитав третью дверь направо, он постучал в нее. Он по-своему был набожным и не хотел никому мешать в молитвенном уединении.
Дверь открыл сам Леон. Увидев перед собой Марко, он в удивлении отступил назад. Марко вошел в комнату, в которой почти не было никакой мебели, и затворил за собою дверь. На стене над кроватью висело несколько религиозных эмблем. Две-три книги лежали на столе. Одна из них была открыта. То было старинное издание Фомы Кемпийского.
Леон опустился на простую деревянную скамью и положил руки на открытую книгу. Потом, устремив свои слабые глаза на Марко, он ждал, пока тот заговорит.
— Я приехал, чтобы переговорить с вами о Хуаните, — сказал он. — Правда ли, что вы согласились на принятие ею монашества?
Леон, видимо, раздумывал. У него был вид человека, который разучил всю партию, но сбился с первого же такта.
— А вам какое до этого дела? — спросил он наконец.
— Никакого.
Леон сделал безнадежный жест рукой и с тоскою стал смотреть на свою книгу.
— Что же, дадите вы мне ответ или нет? — снова спросил Марко.
Леон покачал головой.
— Я приехал сюда, чтобы предостеречь вас. Я знаю, что Хуанита получила от отца в наследство значительную сумму денег. Я знаю, что дела карлистов идут нехорошо из-за недостатка денег. Я знаю, что иезуиты стараются раздобыть денег, где только могут. Дон Карлос ведь их последний оплот в Испании. Они, очевидно, хотят подобраться к деньгам Хуаниты. А это можно сделать, только принудив ее принять монашество. И я приехал, чтобы сказать вам, что я не дам им сделать это.
Леон взглянул на Марко и как будто что-то проглотил. Он не боялся Марко, но его пугало что-то другое.
— Вы иезуит? — спросил вдруг Марко, вперив свои взоры в это бледное морщинистое лицо.
Леон прерывисто вздохнул и не дал никакого ответа.
Марко быстро вышел из комнаты и притворил за собой дверь.
XIV В монастыре
Размышляя про себя обо всем виденном и слышанном, Марко и Саррион вернулись в Памплону.
Итак, Леон был иезуит. Тем хуже было для Хуаниты. Марко и без слов прекрасно понимал, что значит молчание Леона.
Саррион, со своей стороны, видел уже в Наварре все бедствия войны, которая длилась больше тридцати лет. Страна была разорена, мужчины перебиты, женщины доведены до нищеты. Война за дона Карлоса была всегда войной невежества и обмана против просвещения и прогресса народа. Не нужно говорить, на чьей стороне были все рясы.
Баскам обещали сохранить их свободу. Им будет позволено жить, как они всегда жили, и оставаться в сущности республиканцами, если они помогут воздвигнуть монарха над остальной Испанией. Все эти обещания давались иезуитами.
Саррион ненавидел иезуитов, вмешивавшихся в политику. Но такие иезуиты оставили о себе следы в истории, которые только теперь выходят на свет Божий.
Вильгельм Молчаливый был убит наемником иезуитов. Его сын Мориц Оранский едва не подвергся той же участи, причем убийца сознался и выдал своих сообщников-иезуитов. Трое иезуитов было повешено за покушение на жизнь английской королевы Елизаветы. Четвертый, иезуит Парри, был четвертован. Убийца Генриха IV, короля французского, Равальяк был также иезуит.
Иезуиты принимали деятельное участие в пороховом заговоре. Двое из них были казнены.
В Парагвае иезуиты подстрекали туземцев к бунту против Испании и Португалии. Папа Климент XIV был отравлен ими. Он подписал буллу об уничтожении ордена, последствием чего явилась aqua di Perugia 15 — медленно действующий и мучительный яд.
Рука иезуитов сильно чувствовалась и в наше время — на обществе ирландских фениев. О’Фарелль, покушавшийся в 1868 году в Австралии на жизнь герцога Эдинбургского, был иезуит.
Лучшее время для иезуитского ордена уже миновало, но общество еще продолжало существовать. В Англии и в других протестантских странах они прикрывались другими названиями. Все эти «редемпционисты», «братья христианского вероучения», «орден св. Павла Викентия» и т. п. были иезуитами.
После свидания с Леоном Марко отправился к себе в гостиницу. Ему нужно было сделать кое-какие дела. Саррион же поехал к большому дому, где помещалась монастырская школа. Через час он вернулся домой.
— Все идет хорошо, — говорил граф, сидя с сыном в маленькой гостиной, выходившей окнами на площадь Конституции. — В пять часов они пойдут к вечерне в собор. Будет почти темно в это время. И тебе надо будет ждать на одном из внутренних двориков около монастыря. Они пойдут этим путем. Хуанита вернется, как будто она что-нибудь забыла. Тут уж не зевай. Времени у тебя будет минут десять, не больше.
— Хорошо, — с решительным видом сказал Марко.
Он не боялся ни иезуитов, ни короля, ни дона Карлоса.
Он опасался только самой Хуаниты.
— Незачем спрашивать, кто пошлет ее назад. Но Хуанита не будет знать, что ты ее ждешь. Помни это и не испугай ее.
Стало темнеть, и Марко вышел. Вход на один из двух внутренних дворов, через которые надо было проходить к собору, находился как раз напротив дверей школы, около которой качался фонарь. На первом дворе фонаря не было: он мигал под аркой, разделявшей оба дворика.
Марко сел на одну из деревянных скамеек, которые были расположены вдоль стен четырехугольного двора. Ждать ему пришлось недолго. Двери школы открылись, и девушки, разговаривая и смеясь, потянулись по двору. Впереди шли две монахини. Сестра Тереза шла сзади всех, глядя прямо перед собой между двумя крыльями своего огромного чепца. Хуанита была в последней паре.
Марко встал и подошел к арке. Поднималась луна, бросая нежный свет на причудливые окна монастырской школы.
Вдруг Хуанита торопливо пошла назад. Увидев его силуэт, она инстинктивно закуталась в свою мантилью.
— О, Марко, — прошептала она, узнав его. — Наконец-то! Я думала, вы обо мне совершенно забыли.
— Скорее, — прошептал он. — Сюда, сюда. У нас всего десять минут.
Он взял ее за руку и поспешно отвел ее направо, в самый дальний угол четырехугольника, где было потемнее.
— Что такое? Десять минут? — спросила она.
— Это так нарочно подстроено. Я нарочно встретился с тобой. У нас десять минут, чтобы устроить…
— Что устроить?
— Всю вашу жизнь.
— Но нельзя же устроить целую жизнь в одно мгновение ока.
Она взглянула на него и рассмеялась. Молодость брала свое.
— Ты помнишь письмо, которое ты написала моему отцу о своем намерении принять монашество?
— Да, помню. Но это единственная вещь, которую мне остается сделать. Все убеждает меня в этом: каждая проповедь, которую я слышу, каждая книга, которую я читаю. Все мне советуют это. Но теперь, когда я опять вижу тебя, я не понимаю, как я могла это сделать. О, Марко, ко мне все так добры, кроме сестры Терезы. Она так нехороша со мной, она налагает на меня всяческие наказания.
Марко улыбнулся. Он знал, отчего сестра Тереза так жестока с Хуанитой.
— Они все так добры ко мне. У нас так считается, что для нас только и возможна духовная жизнь.
Вдруг она повернулась и положила ему на плечо обе руки.
— Марко, — прошептала она со сдерживаемым рыданием, — неужели ты ничего не можешь сделать для меня?
— Могу, — отвечал он. — Потому-то я и пришел сюда. Но нужно решаться теперь же.
— Почему же? — серьезно спросила она.
— Потому что отправлен уже гонец в Рим за разрешением тебе принять монашество. С этим делом спешат.
— Я знаю. Но отчего это?
— Им нужны твои деньги.
— Но у меня их нет, или очень мало. Так мне сказали.
— Это ложь.
— Не надо говорить так, — прошептала Хуанита со страхом… Это мне сказал отец Муро. А он — представитель Бога на земле.
— Какой он там представитель, — спокойно возразил Марко.
С минуту Хуанита собиралась с мыслями. Потом вдруг она топнула ногой по плитам двора.
— Не хочу быть монахиней, не хочу, — воскликнула она. — Я всегда чувствовала, что тут есть какая-то ложь во всем том, что они говорят. Кроме того, и ты, и дядя Рамон говорите совсем другое. И я вижу, что то, что вы говорите, понятно, просто и честно, что вы не вкладываете в ваши слова какого-то другого смысла. Марко, ты и дядя Рамон должны взять меня отсюда. Я сама не могу отсюда вырваться. Я связана по рукам и ногам.
— Мы тебя и возьмем, если ты согласна на это, — медленно произнес Марко.
Она быстро повернулась и впилась в него глазами: ее поразило что-то новое в оттенке его голоса.
— Что ты хочешь этим сказать? — спросила она. — У тебя такое странное и бледное лицо. Что вы хотите этим сказать, Марко?
— Мы можем освободить тебя отсюда, но ты должна выйти за меня замуж.
Она вдруг рассмеялась, но быстро смолкла.
— О, не шути так, — промолвила она. — Ведь дело идет о всей моей жизни.
— Я не шучу. Это не шутка, — твердо отвечал Марко.
С минуту они сидели в глубоком молчании. До их ушей долетало тихое пение в соборе.
— Прислушайся! — вдруг заговорила Хуанита. — Они ведь как в полусне и сами не понимают, что поют. Они потихоньку щиплют друг друга, чтобы не заснуть. Нет, я не хочу быть монахиней. Это решено. Марко, я скорее согласна выйти за тебя замуж, если уж это необходимо.
— Необходимо.
— Но они могут захватить все мои деньги!
— Нет, они уже пробовали это сделать. В наши времена им это уже не удастся. Единственная возможность для них завладеть деньгами, если ты откажешься от своей воли, станешь монахиней и завещаешь свое состояние ордену.
— Да, я это знаю, — сказала Хуанита.
Ее настроение продолжало подниматься. Веселость опять вернулась к ней.
— Хорошо, я выйду за тебя замуж, если без этого нельзя, но…
— Но?
— Это, конечно, будет лишь для виду, не правда ли?
— Конечно, для виду.
— Ты обещаешь?
— Обещаю.
Они сидели на ступенях древней часовни. Хуанита вскочила и стала смотреть через решетчатые окна, как бы желая узнать, во имя какого святого воздвигнута эта часовня.
— Ах, это часовня св. Варфоломея! — воскликнула она весело. — Хорошо, и он пригодится. Итак, ты дал мне обещание. Помни это. Нас слышал св. Варфоломей. Ты женишься на мне только для того, чтобы спасти меня от монашества. Мы будем ловить рыбу, карабкаться по горам, как бывало прежде, и дурачиться, как мы всегда дурачились по праздникам.
— Да, да.
Она ударила с ним по рукам, как это делают крестьяне в Торре-Гарде, когда хотят закрепить свою сделку.
— В конце этого коридора находится окно твоей комнаты, — сказал Марко. — Оно выходит на маленький дворик и совсем не высоко от земли. Приходи завтра к этому окну в десять часов вечера. Я буду там.
— Зачем?
— Затем, чтобы вступить в брак, — отвечал Марко. — Мой отец и я устроим все. Мы будем там оба. Если ты не придешь завтра вечером, я явлюсь на следующий день. Через полчаса ты будешь опять в своей комнате.
— Уже замужней?
— Да.
Он поднялся и встал перед ней.
— А теперь иди скорее в собор.
— А молитвенник сестры Терезы?
— Он у нее в кармане.
XV Церковь Богородицы в Тени
На другой день вечером небо было покрыто густыми облаками. Одно из них набросило густую тень на Памплону в то самое время, когда Марко занял свой пост в маленьком проходе между улицей Dormitaleria и ближайшим домом. Окно в конце коридора, где жили Хуанита, сестра Тереза и некоторые наиболее любимые ученицы школы, находилось не выше шести футов над землею.
Марко расположился как раз под окном и, вытянув руки, попробовал прочность оконной решетки. Хуанита, глядя в окно, могла заметить его руки и таким образом убедиться, что он уже здесь. Часы на городской башне пробили десять. Не успел замолкнуть последний удар, как начали кричать ночные сторожа. Город уже спал.
Было очень холодно. Марко отнимал от окна то одну руку, то другую и дул на них. Для Хуаниты он принес с собой пальто.
Пробило четверть одиннадцатого, а он все еще ждал. Вдруг кто-то в окне притронулся к его холодным пальцам. То была Хуанита. Она сбросила вниз пальто и влезла на подоконник.
— Марко, — прошептала она, стоя в открытом окне.
Он всунул свое плечо между двумя брусьями решетки, прикрепленными друг к другу под прямым углом. Потом он схватился за них руками и крепко нажал на решетку. Брусья заскрипели в своих гнездах: им было больше ста лет. К тому же ржавчина давно сломила их крепость.
— Вот, — сказал Марко. — Теперь можно пролезть.
Хуанита смеялась и в то же время дрожала от страха.
— Слушай, — шептала она, пролезая через решетку. — Дверь сестры Терезы открыта. Слышно даже, как она храпит.
— Скорей, скорей, — торопил Марко, соскакивая с окна.
Хуанита вдруг бросилась вниз. На одно мгновение ее густые, развевавшиеся волосы совсем ослепили его, но через секунду он уже поставил ее на ноги.
— Скорей, — повторял он, запыхавшись.
Он набросил на нее пальто и нахлобучил поглубже капюшон. Потом он взял ее за руку, и они бросились бежать по узкому переулку, выходившему на улицу Dormitaleria. На углу к ним присоединился поджидавший хозяина Перро и поскакал рядом с ними.
— Что это за пальто? — спросила Хуанита. От него пахнет табаком.
— Это мое старое солдатское пальто.
— И это мое свадебное одеяние! — заметила Хуанита, заливаясь смехом. — А Перро наш шафер.
Они круто повернули налево и через минуту очутились на безлюдных укреплениях, на которые падала тень от епископского дворца. Под ними было совершенно темно. Направо смутно белела река, шумевшая под мостом, словно море. Вдали на равнине поднимались Пиренеи, казавшиеся при лунном свете белой стеной. Под ними тянулись укрепления, бастион за бастионом, полуразрушенные, с выбоинами в валах.
— В этом углу масса снегу, — прошептал Марко. — Северный ветер забил им все укрепления. Я спущу тебя через стену прямо на него, а затем спрыгну сам. Ты ведь умеешь держаться за руку?
— Да, да, — быстро отвечала она.
В ее жилах текла хорошая кровь, и теперь перед лицом опасности она заговорила и забурлила.
— Я прыгну, как мы это делали в горах. Своей рукой я буду держаться за кисть твоей.
Они стояли на самом краю стены. Хуанита, став на колени, взглянула вниз, потом, обернувшись, она схватила его сильную руку. Затем без всяких колебаний, держась за руку, она скользнула вниз и повисла над клубившимся внизу мраком. Спуская ее, Марко сначала согнулся, потом стал на колени, наконец лег на стену, плотно прижавшись лицом к полу.
— Вперед! — крикнул он и выпустил ее из рук.
Хуанита мягко упала на кучу набившегося снега.
Через секунду Марко был уже около нее.
— Мой отец ждет нас на мосту, — сказал он.
Они выбрались на узенькую тропинку, извивавшуюся по берегу реки вдоль стен.
— Там ждет нас карета и священник.
Хуанита вдруг остановилась.
— Зачем я только пошла! — воскликнула она.
— Ты можешь еще вернуться обратно, — медленно произнес Марко. — Еще не поздно. Можно вернуться, если хочешь.
Но Хуанита только рассмеялась.
— И потом всю жизнь помнить, что я трусиха! Нет, благодарю покорно. Из трусих-то и делают монахинь. Нет, я хочу довести дело до конца. Идем. Идем и будем венчаться.
И, заливаясь смехом, она кинулась вперед.
Когда они вышли на улицу, луна сияла уже полным блеском. Тут они в первый раз могли хорошенько рассмотреть друг друга.
— Что с тобой? — вдруг спросила Хуанита. — Ты бледен, как смерть. Я не понимаю, в чем дело.
— Ничего, ничего, — отвечал Марко. — Нужно торопиться, скорее.
— Ведь это не доставляет тебе особых неприятностей, не правда ли? — спросила она, пристально вглядываясь в него.
— Нет, нет, — отвечал он.
В первый раз он сознательно сказал ей неправду. На самом деле, вся эта затея падала на него страшной тяжестью. Но она была слишком молода и не могла еще понять этого.
Около самого старинного римского моста, на большой дороге их ждала карета. Саррион вышел вперед, чтобы встретить беглецов. Хуанита бросилась к нему, поцеловала его и крепко схватила за руку.
— Я так рада видеть тебя, — сказала она. — Я теперь чувствую себя в безопасности. Ты знаешь, из меня чуть не сделали монахиню. О, эта ужасная сестра Тереза! Впрочем, извини меня: я и забыла, что это твоя сестра.
— Ну, какая же она мне сестра, — отвечал Саррион. — Кто принял монашество, у того уже не может быть родственных чувств.
— Нельзя порицать ее за это. Ведь вы не знаете, почему она стала монахиней.
— Совершенно верно, не знаю, — недовольно отвечал Саррион.
Они быстро направились к карете. Человек, ждавший их около открытой дверцы, снял шляпу. Свет луны падал прямо на его гладко выбритое лицо с высоким лбом.
— Это мой старинный школьный приятель, — сказал Саррион. — Он — епископ, — шепотом прибавил он.
Хуанита быстро опустилась на колени. Епископ, улыбаясь, положил ей руки на голову. Он казался лет на двадцать моложе Сарриона. С серьезной учтивостью он помог Хуаните сесть в карету.
— Это ваша собственная карета? — спросила Хуанита, когда все уселись.
— Да, из Торре-Гарды, а на козлах сидит Пьетро. Как видишь, ты находишься среди друзей, — отвечал Саррион.
— И Перро бежит рядом! — воскликнула Хуанита и высунулась из окна, чтобы подбодрить Перро.
Ее мантилья, развеваясь по ветру, била по лицу епископа, но тот терпеливо выносил это испытание.
— Здесь есть и грелки с горячей водой для ног! Вот славно! А то мои ноги совершенно промокли в снегу. Дядя Рамон, вы с Марко подумали обо всем. Это очень любезно, я так вам благодарна…
И она повернулась к епископу, как бы желая показать, что эта благодарность относится и к нему и что она не могла выразить ее прямо, так как не знает его имени.
— Один момент, на валах, я раскаивалась, что пошла, — доверчиво рассказывала Хуанита. — Но теперь не раскаиваюсь. Все будет хорошо для меня. Все это для меня только шутка. Но для вас это другое дело: такая холодная ночь! Я не понимаю, почему все так хлопочут обо мне.
— О вас хлопочет половина Испании, друг мой, — отвечал епископ.
— Из-за моих денег. Это другое дело. Но дядя Рамон и Марко — единственные люди, которые хлопочут только из-за меня самой. Понимаете?
— Понимаю, — скромно отвечал епископ.
Марко молча сидел в углу кареты. Хуанита пользовалась привилегией своего пола и говорила без перерыва. Но когда карета остановилась возле каких-то деревьев, смолкла и она.
Все вышли из экипажа. Луна ярко озаряла окрестность. Хуанита поправила свою мантилью и надвинула поглубже капюшон шинели. Этим и закончились все приготовления к свадьбе.
— Здесь нет ни церкви, ни жилья, — сказала она Марко. — Где мы?
— Церковь находится немного выше. Ее не видно в темноте, — отвечал он и повел вперед свою невесту.
На небольшом плато стояла крошечная церковь с окнами на бесконечную равнину, тянувшуюся к югу. Впереди нее росли на неравном расстоянии друг от друга двенадцать сосен. Тень от каждого дерева падала последовательно каждый час на определенный камень, укрепленный перед церковной дверью. Эти солнечные часы были устроены каким-то благочестивым человеком, давным-давно уже умершим.
Дверь в церковь была открыта, и священник в полном облачении уже ждал их приезда. Хуанита узнала в нем загорелого священника из Торре-Гарды. Он едва успел поздороваться с Хуанитой: надо было встречать следовавшего сзади епископа.
— Я зажег только одну свечу, — сказал он Марко. — Если б устроить освещение, то его могли бы заметить из Памплоны.
Епископ вместе со стариком-священником направился в ризницу, где мерцала небольшая свеча. Слышно было, как они разговаривали между собою шепотом. Саррион, Марко и Хуанита стояли около дверей. Лунный свет пробивался сквозь окна и тихо озарял внутренность церкви.
Вдруг Хуанита вздрогнула и схватила Марко за руку.
— Посмотри, — сказала она, указывая направо.
Там в темном углу стояла какая-то коленопреклоненная фигура. Сквозь темноту можно было заметить, что на плечах у нее что-то поблескивает.
— Это мой друг, офицер местного гарнизона, — успокоил ее Марко. — Должны быть два свидетеля.
— Но он погружен в молитву!
— Это бывает с ним не часто. Он командует постом в долине реки Волка.
Видя, что на него смотрят, офицер поднялся с колен и подошел к ним, звеня шпорами и огромным палашом. Он вежливо поклонился Хуаните, встал около Марко и замер.
Старый священник вышел из ризницы и зажег перед алтарем две свечи. Затем он повернулся и сделал знак Хуаните и Марко, приглашавший их подойти к решетке алтаря. Здесь уже стояли два стула. Потом священник опять ушел в ризницу и вернулся оттуда в сопровождении епископа в полном облачении.
Хуанита и Марко были обвенчаны. Епископ совершил весь обряд на память: читать он не мог. То был епископ-политик, прекрасно знавший свое дело. Он расписался с громадным росчерком в венчальной книге и на удостоверении о совершении брака и с поклоном подал его Хуаните.
— На что мне это? — спросила она.
— Передайте это Марко.
Марко молча положил бумагу в карман. Пока епископ разоблачался в ризнице, новобрачные вышли из церкви и остановились на небольшой террасе, залитой лунным светом.
— Что это за огни? — заговорила Хуанита.
— Это Памплона.
— А там на горах? — продолжала она, указывая на север.
— Это сторожевые огни карлистов, сеньорита, — вдруг промолвил офицер.
Никто, по-видимому, не заметил его обмолвки, и только старый граф строго посмотрел на говорившего, как бы давая ему понять, что название «сеньорита» теперь уже неуместно.
Вскоре епископ был уже около них, и вся компания двинулась вниз по извилистой тропинке. Епископ и Саррион должны были ехать ночным поездом в Сарагосу, а Марко с женой направились обратно в город.
Они благополучно добрались до улицы Dormitaleria и направились прямо в знакомый уже переулок.
— До завтра, — сказала Хуанита. — Все происшедшее мне кажется сном.
— Мне тоже, — серьезно отвечал Марко.
Он подсадил ее в окно. Хуанита сняла обручальное кольцо и передала его Марко.
— Мне оно теперь не нужно, — сказала она. — Я не могу носить его в школе.
Вдруг она рассмеялась и подняла палец.
— Послушай, как сестра Тереза продолжает храпеть. Между тем Марко успел вставить брусья решетки на прежнее место.
— Кстати, — спросила Хуанита, — как называется церковка, где мы венчались?
Марко ответил не сразу.
— Она называется церковью Богородицы в Тени.
XVI Матрасник
Путешественники в Испании почти не замечают, что ни одна страна в мире не придает такого значения предмету, на котором проходит почти треть человеческой жизни, именно кровати. В любом городе во Франции, Германии, Голландии нуждающемуся в услугах матрасника не будет большого труда разыскать его. Его легко найти где-нибудь на площади или под арками возле мэрии, где он пристраивается со своей мастерской на открытом воздухе. Исправляя и переделывая разные матрасы, он обыкновенно живет припеваючи. Около него почти всегда толкутся хорошие хозяйки: они вяжут свои бесконечные рукоделья и в то же время наблюдают, чтобы он клал обратно в тюфяк всю шерсть, которую он из нее вынул. В этой отсталой стране тюфяк обязательно переделывается по крайней мере раз в год, и матрасник здесь такая же необходимая вещь в домашнем хозяйстве, как метла или щетка на севере.
Нет такого королевского дворца, куда бы не приглашали его; нет такой скромной хижины, которая не пользовалась бы его услугами.
Матрасник — единственный мужчина, имеющий доступ в женские монастыри. Вот почему матрасник играет иногда важную роль. Это обыкновенно худой, вертлявый человек, похожий на тех, из которых на севере вербуются бандериллеросы, неизбежные при бое быков. Он является на работу рано утром и приносит с собой кривой нож за поясом, папиросы в кармане и две легкие палочки под мышкой. Все, что ему нужно, — двор и некоторая доза солнечного света.
Он очень ловко в одну минуту распарывает швы матраса и вынимает оттуда шерсть, до которой он никогда не дотрагивается голыми руками. Одна из палочек, подлиннее, которую он держит в правой руке, быстро описывает в воздухе большие круги и со свистом опускается на шерсть, унося потом с собой целую щепотку. Потом приходит в действие другая палочка, покороче; она снимает шерсть с другой, подбрасывает ее в воздухе, и бьет, и треплет ее со всех сторон, пока из нее не вылетит вся пыль. А в это время палочки, ударяясь друг о друга, выбивают отчетливый ритм, передаваемый у матрасников от отца к сыну.
Производится вся эта операция очень ловко. Приятно смотреть на быстроту движений матрасника: он вполне владеет своими палочками и может подбросить ими как одну ворсинку, так и целый тюфяк. Когда шерсти уже не остается в чехле тюфяка, матрасник усаживается отдохнуть где-нибудь в тени дерева и закуривает папиросу. Вот тут-то и можно поболтать с ним.
В южных странах такой рабочий всегда найдет себе слушателей, и дети обыкновенно приходят в восторг, когда он появляется во дворе. В монастырской школе общины правоверных сестер к его услугам прибегали аккуратно через каждые две недели, но, несмотря на эту частоту, его появление каждый раз вызывало общее возбуждение.
Матрасник был единственным мужчиной, проникавшим в школу. Отец Муро не считался мужчиной. И в самом деле, это духовное лицо во многих случаях проявляло качества, свойственные исключительно женщинам.
Памплонский матрасник был худой человек с большим кадыком, с острыми черными глазами, от которых ничто не укрывалось, несмотря на пыль, среди которой ему приходилось работать.
На него смотрели, как на своего, и считали его настолько безвредным, что ему разрешалось ходить по всему дому и по саду с высокими стенами. Монахини всегда остерегаются мужчин вообще, но питают полное доверие к тем отдельным мужчинам, с которыми им приходится иметь дело.
Воспитанницам школы разрешалось смотреть, как работает colchonero, особенно старшего возраста, вроде Хуаниты де Модженте или ее подруги Милагрос с золотисто-красными волосами.
Однажды Хуанита так пристально смотрела на матрасника, что его черные глаза с каждым взмахом палочек невольно поворачивались в ее сторону. Другим девушкам это зрелище скоро наскучило, и они ушли в другую часть сада, где солнышко грело сильнее и где цвели уже фиалки. Но Хуанита осталась.
Она не знала, что и этот матрасник был одним из друзей Марко.
Вдруг палочки перестали выбивать дробь с такою силою. Стало тихо, и Хуанита могла говорить свободно.
— Hombe, — спросила она, — знаешь ли ты Марко де Сарриона?
— Я знаю церковь Богородицы в Тени, — ответил он сквозь окружающую ее пыль.
— Может, ты передашь ему письмо?
— Сложите его поаккуратнее и бросьте на шерсть, — промолвил матрасник и вдруг забарабанил с прежней силой.
Хуанита стала рыться с кармане.
— Нет, нет, — быстро сказал матрасник, — я — кабалеро и не могу взять денег от дамы.
Хуанита направилась в глубину сада. Уходя, она незаметно уронила на кучу шерсти небольшую сложенную вчетверо бумажку. Палочки задвигались еще сильнее, шерсть полетела целыми клоками и быстро закрыла оброненное послание. Этого не заметил ни один пристальный взгляд, наблюдавший за воспитанницами из-за решетчатого окна.
Доставив Хуаниту обратно в монастырскую школу, Марко с отцом вернулись в Сарагосу. Они пользовались здесь известным влиянием, и в Сарагосе твердо поддерживались законность и порядок, не то, что в Барселоне, которая всегда была республикой и всегда обнаруживала склонность к волнениям и беспорядкам. Третий соседний город, Памплона, продолжала оставаться клерикальной и вела себя двусмысленно. Здесь Саррионов встречали не очень приветливо.
Вся Испания как бы замерла в ожидании. Убийство Прима потрясло всю страну. Король уже успел нажить себе врагов. Энтузиазм его давно пропал. Его новые подданные, со своей стороны, предпочитали бы, чтобы он лучше сделал несколько ошибок, чем оставался в ожидании чего-то.
В Испании уже поднимались разговоры о демократии и республике, и новый король едва сидел на троне.
— Нам остается только поддерживать порядок в нашем маленьком уголке, — говорил Саррион.
Поэтому он оставался в Сарагосе и широко растворял для всех двери своего обширного дворца. А в это время Марко беспрестанно носился то в Наварру, то опять вверх по долине реки Волка до самой Торре-Гарды.
Никто не знал, где в это время был Эвазио Мон. Париж пал. Появилась коммуна. Франция была ввержена в бездну унижения, и карлистские коноводы без всякой помехи плели свои заговоры в Байоне.
— Пока Мона нет, беспокоиться за Хуаниту нечего, — говорил Марко. — А вернуться в Сарагосу без того, чтобы я не узнал об этом, он не может.
Однажды вечером к дому Сарриона подкатил с папиросой в зубах обычный почтарь с севера, важно восседавший на козлах своего двухколесного экипажа, высокого, словно дом, и длинного, словно паровоз. В Испании почтальоны никогда не передают ни писем, ни посылок прислуге, а только лично адресату. Благодаря этому средневековому пережитку, самый скромный человек может видеть самую великую персону страны в любое время дня.
Саррион и Марко только что кончили обедать и еще сидели в обширной столовой, стены которой были обвешаны старинными портретами испанской школы и оружием.
Почтарь вошел, нисколько не смущаясь. Время было военное, а война есть великий уравнитель всяких социальных шкал. Он сдал свою посылку и сказал:
— Вы хотели знать о синьоре Моне. Он приехал в Памплону два дня тому назад.
Почтарь отказался от предложенного обеда и только выпил стакан вина, махнув по воздуху рукою в знак того, что он пьет за здоровье хозяев.
— Эвазио Мон теперь не оставит нас в покое, — сказал Саррион, когда почтальон вышел.
Едва успел он промолвить эти слова, как слуга ввел нового посетителя, также только что прибывшего с дороги и привезшего небольшой запачканный клочок бумаги. Он ничего не мог сказать об этом письме, молча поклонился и вышел. Это был уже человек новейшей формации — железнодорожный служащий, а потому и манеры его были лучше.
На письме адреса не было. На конверте красовалась большая сургучная печать, припечатанная пальцем — этой печаткой, данной человеку самой природой и не допускающей никакой подделки.
Марко разорвал конверт и вынул оттуда тонкий листок, на котором еще держалось несколько ворсинок шерсти.
«Мы едем обратно в Сарагосу, — писала Хуанита. — Я заявила, что не хочу быть монахиней, но они утверждают, что теперь слишком поздно и что я уже не могу брать назад свое решение. Верно ли это?»
Марко молча передал письмо отцу.
— Я бы хотел, чтобы все это происходило в Барселоне, — промолвил он, блеснув глазами.
— Почему?
— Потому, что тогда мы могли бы вытащить за уши всю эту школу и взять Хуаниту.
Саррион только улыбнулся.
— А, может быть, нас таинственно подстрелили бы из ближайшего окна при первой попытке к этому, — заметил он. — Нет, нужно сражаться гораздо более тонким оружием, чем это. Мон, очевидно, получил разрешение из Рима, но оно опоздало на несколько часов.
Он протянул обратно письмо. В большой слабо освещенной комнате воцарилось молчание. Успех в жизни часто зависит от нашей способности проникнуть в душу другого человека и разобрать, что там делается. Угадывать, конечно, могут многие, но немногим дано угадать правильно.
— Она не поставила числа на письме, — промолвил наконец старый граф.
— Нет. Но я знаю, что оно было написано во вторник. Именно в этот день матрасник бывает в школе.
Он снял с письма клочок шерсти и передал его отцу.
— Как раз в этот день Мон и возвратился в Памплону. Он начнет теперь действовать быстро. Быстрота действий и выдвигает его среди других. Быстрота и неутомимость.
С этими словами Саррион взглянул прямо в лицо сыну: тот тоже отличался быстротой действий, но не любил хлопотать из последних сил, как бы приберегая их на случай крайней надобности.
— Нечего меня подстрекать, — сказал Марко, поднимаясь. — Я сейчас переоденусь и поеду. В «Королевской гостинице» теперь много приезжих. Ночной дилижанс должен уже прийти. Если будут важные новости, я разбужу тебя по возвращении.
Было очень темно, и ветер так и завывал в долине реки Эбро. Весна была уже не за горами с ее «solano» и голубым небом. Луны не было. Но Марко отличался хорошим зрением.
На Пазео-дель-Эбро носились целые облака пыли. Перед «Королевской гостиницей», где останавливались экипажи, она лежала толстым слоем, вершка, по крайней мере, в четыре. Здесь стояли тусклые, старомодные экипажи, и длинные ряды мулов терпеливо дожидались, пока с них снимут их тяжелые хомута.
Первый же человек, который попался ему навстречу, сообщил, что Эвазио Мон приехал в Сарагосу, должно быть, вечером, ибо он ехал верхом и обогнал дорогою тяжелый дилижанс. Другой сообщил ему слух, будто карлисты прорвали уже линию между Памплоной и Кастехоном.
— Пойдите на станцию, — прибавил он. — Там вам все расскажут. Ведь вы человек богатый. А вот мне ничего не скажут.
На станции Марко узнал, что слух оказался верным. Телеграфист дал ему понять, что карлисты оттеснили правительственные войска от входа в долину Волка, которая теперь совершенно отрезана.
«Он, очевидно, воображает, что я еще в Торре-Гарде», — думал Марко, борясь на обратном пути с валившим с ног ветром.
Ему, видимо, везло. Как раз около него какой-то извозчик остановил своих измученных лошадей и спросил, не он ли граф Марко Саррион. Оказалось, что как раз этот кучер возил Хуаниту в Сарагосу, но не с сестрой Терезой, а с самой настоятельницей и двумя другими воспитанницами. Его отпустили на площади Конституции, где настоятельница наняла другой экипаж. Куда сказано было ехать, — он не слыхал.
Марко вернулся домой на рассвете. Ему не удалось найти второго извозчика, отвозившего Хуаниту, и таким образом открыть ее местопребывание. Зато он узнал, что со станции Памплона был заказан по телеграфу извозчик, которому было приказано выехать навстречу в четыре часа утра в Арагон. Узнал он также и о том, что телеграфное сообщение между Памплоной и Сарагосой прервано.
Карлисты не дремали.
XVII В гостинице «Два дерева»
На следующий день рано утром отец и сын выехали верхом из города и направились к Арагону по большой дороге. Несмотря на то, что эта дорога служила главной артерией Арагонии, на ней всегда лежал густой слой пыли в несколько вершков.
Ехали они не спеша. Экипаж, который они предполагали встретить, должен был выехать из Арагона, отстоящего отсюда на четырнадцать миль, в четыре часа. Дорога была одна, и разъехаться было немыслимо.
Было уже семь часов утра, когда они остановились отдохнуть в какой-то деревенской гостинице. Саррион слез с лошади и пошел заказать себе кофе, а Марко оставался на своем высоком черном коне, зорко поглядывая на расстилавшуюся перед ним дорогу. Долина реки Эбро в этом месте имеет совершенно плоский вид. Лишь по обеим сторонам ее поднимались обнаженные коричневые скалы, словно какой-то гигантский забор. К Сарагосе тянулась целая лента экипажей. Вглядевшись хорошенько, Марко сквозь пыль заметил вдали большую старомодную карету. Когда она стала подъезжать ближе, видно было, что она вся занесена пылью. Запряжена в нее была пара тощих арагонских лошадей, каких обыкновенно можно было нанять на любой дороге.
Кучер, по-видимому, узнал Марко и, улыбаясь, притронулся рукою к шляпе. Потом он круто повернул к гостинице, где, очевидно, назначена была передышка перед тем, как одолеть последнюю часть пути.
Перед глазами Марко в карете мелькнул белый чепец. Пригнувшись к лошади, он увидал сестру Терезу, которая смотрела на гостиницу в противоположное окно кареты и не заметила его. Быстро объехав экипаж, он соскочил с седла и отворил дверцу кареты. Но сестра Тереза не собиралась выходить. Она высунулась из кареты, хотела что-то сказать и вдруг узнала племянника.
— Как, это ты! — воскликнула она.
Ее лицо вдруг вспыхнуло. Она была в монашестве уже много лет, но до сих пор не могла отрешиться от земных чувств, чтобы всецело сосредоточиться на небе.
— Да, это я.
— Как ты узнал, что я буду здесь проезжать?
— Угадал! — отвечал Марко, придерживая язык за зубами. — Ты, вероятно, не откажешься выпить кофе. Мы уже заказали его. Выходи и обогрейся, пока лошади будут отдыхать.
И он повел ее к гостинице.
— Что ты говоришь? — спросил он, обернувшись на пороге.
Ему показалось, что она что-то шепчет про себя.
— Я говорю: слава Богу!
— Почему?
— Я говорю: слава Богу, что у тебя такой ум и такое мужественное сердце.
Когда они вошли в комнату, Саррион, ловкий и юношески стройный в своем дорожном костюме, разводил огонь. Увидев сестру, он быстро пошел ей навстречу. Сестра Тереза молча поцеловала его. В их отношениях было всегда что-то недоговоренное, что-то такое, что заставляло их молчать.
— Кофе на столе, — сказал Марко. — Нам нельзя терять время.
— Марко хочет сказать, — значительно произнес Саррион, — что нам нельзя откладывать дело в долгий ящик.
— Он прав, — отвечала монахиня.
— В таком случае поговорим откровенно, — продолжал Саррион. — Конечно, мы не должны упускать из виду ни твоих обетов, ни твоего положения, — прибавил он, пожимая плечами. — Мы не поссорим тебя с твоим духовником. Да и Хуаниту тоже.
— О Хуаните думать нечего. Духовника выбрала ей я сама.
— Где она? — спросил Марко.
— Здесь, в Сарагосе.
— Зачем?
— Не знаю. Я уже две недели не видела ее. Я только случайно узнала вчера вечером, что ее привезли в Сарагосу вместе с другими воспитанницами, которые прошли шестимесячное испытание и должны сделаться послушницами.
— Но ведь Хуанита к этому не готовилась?
— За нее могут сказать что угодно.
— Но ведь никто не имеет права этого делать, — шутя сказал Саррион. — Да если б она и стала послушницей, она всегда может отказаться от пострижения.
— Есть такие ордена, — отвечала сестра Тереза, медленно помешивая кофе, — которые гордятся тем, что никогда не выпускают от себя послушниц.
— Извини меня за настойчивость, — продолжал Саррион. — Я знаю, что ты предпочитаешь лучше говорить вообще, чем о ком-нибудь в частности. Скажи, пожалуйста, разве Хуанита действительно имеет желание принять монашество?
— Так же, как… — запнулась сестра Тереза.
— Вероятно, желание очень небольшое, — прервал Марко, выглядывая в окно.
— И все другие, которые уже поступили так, — докончила сестра Тереза.
Саррион рассмеялся и вдруг переменил тему разговора, довольно щекотливого для монахини и людей, которые всей Испании были известны, как лидеры так называемой антиклерикальной партии.
— Давно ты видела нашего друга, Эвазио Мона? — спросил Саррион.
— Только что. Он едет за мной.
— За тобой? Я слышал, что он отправился из Памплоны в Сарагосу вчера.
— В Арагоне мне говорили, что он в дороге, у него сломалось колесо и он задержался в Кастехоне.
— Ага, вот в чем дело! — воскликнул Саррион, поглядывая на Марко, караулившего у окна.
— Тебе и самой пришлось, вероятно, спешить из Памплоны. Я слышал, что железнодорожное сообщение прервано карлистами.
— Повреждения уже исправлены. Моя поездка была не из приятных. Главное дело в том, что я приехала.
— А зачем ты приехала? — вдруг спросил Марко.
— Затем, чтобы предупредить, если можно, большую ошибку. Хуанита не побоялась угроз и отказалась наотрез.
— И что же?
— Теперь пустят в ход более хитрые средства, — прошептала монахиня.
— Ты хочешь сказать — обман. Перетолкуют ее слова как-нибудь иначе. Ты намекаешь на то, что ее завезли сюда обманом и обманом же заставят принять постриг. О, не качай головой! Ведь против церкви я ничего не говорю. Я сам добрый католик. Но тут дело не в церкви, а в политике. А в политике нужно бороться тем же самым оружием, какое пускает в ход противник. Мы ведь только политики, — закончил Марко.
— Все? — спросила сестра Тереза, взглянув на него своими глубокими глазами, в которых отражался сначала мир, а потом уж небо.
Марко, не отвечая, отвернулся к окну и опять стал глядеть на дорогу.
— Тут дело все во взаимных услугах, — весело вставил свое слово Саррион. — Иногда церковь пользуется политикой, а иной раз и политика прибегает к услугам церкви. И в то же время они при каждом удобном случае делают выпады друг против друга. Мы не отдадим Хуаниту монахиням. Она, может быть, и пригодилась бы для церкви, которая воображает, что так будет лучше для ее счастья. Но мы на этот счет другого мнения… Мы…
Он вдруг оборвал свою речь и, расхохотавшись, протянул руки, как бы прося о прощении: сестра Тереза давно уже подняла руки к тому месту, где у нее были уши, и крепко прижимала ими свой белый чепец.
— Я ничего не слышу, — промолвила она. — Ровно ничего.
Видя, что брат перестал говорить, она отняла наконец руки и стала молча пить кофе. Марко по-прежнему стоял у окна, откуда ему на несколько миль была видна дорога, тянувшаяся по равнине.
— Что бы ты стала делать по приезде в Сарагосу, если б не встретилась с нами? — спросил он тетку.
— Я отправилась бы в дом Саррионов и сообщила бы тебе или отцу, что Хуанита теперь не под моим надзором и что я не знаю, где она.
— А потом?
— Потом я отправилась бы к Торреро, — продолжала она, — куда сейчас и тронусь. Там я узнаю, в котором часу и в какой церкви произойдет сегодня церемония.
— Церемония, в которой Хуанита будет участвовать только в качестве зрительницы?
Сестра Тереза кивнула головой.
— Это не может случиться без тебя?
— Нет. Необходимо также, чтобы здесь был Эвазио Мон. Одна из будущих послушниц — его племянница и, по-возможности, родственники в этих случаях всегда должны быть налицо.
— Да, я знаю это, — заметил Марко. Он, очевидно, изучил этот вопрос основательно. — Эвазио Мон задержался в дороге, и это дает нам время составить план действий.
Сестра Тереза вопросительно посмотрела на Марко, который не спускал глаз с дороги.
— Ты, пожалуйста, не беспокойся, Долорес, — весело сказал Саррион. — Подобного рода дела улаживаются между политиками в Испании довольно мирно.
— Я уже перестала бояться с тех пор, как увидела Марко у гостиницы, — отвечала она.
— Твои лошади готовы, если ты не устала, — заговорил Марко после некоторой паузы. — Мы поедем назад в Сарагосу кратчайшим путем.
— Повторяю тебе, что беспокоиться нечего, — опять сказал Саррион-старший. — Мы покончим это дело с Эвазио Моном совершенно миролюбиво и сегодня же возьмем Хуаниту из школы. Наш друг Пелигрос уже ждет у нас дома ее прибытия. Марко устроил все дело, как следует.
И он сделал быстрый жест рукой, как бы желая сказать, что дело кончено бесповоротно.
— Здесь тебе нечего делать, тетя, — промолвил Марко, не отрываясь от окна. — Не теряй время. Вот мили за три показался какой-то экипаж.
Сестра Тереза заторопилась и быстро покинула гостиницу. Вслед за ней двинулись и оба Сарриона. Вернувшись в Сарагосу, они заперлись в своем мрачном дворце и стали ждать известий от сестры Терезы. Ждать им пришлось недолго, и тот самый извозчик, который узнал Марко на дороге в Арагон, принес записочку, на которой было написано: «№ 5, улица de la Merced. Будут ждать».
— А другой экипаж, который мы видели на дороге, прибыл? — спросил Марко. — Экипаж, в котором ехал кабальеро?
— Нет еще, — отвечал извозчик. — Мне говорил один человек, проходивший по дороге, что с ним произошло второе несчастие, как раз у самой гостиницы «Два Дерева», где их превосходительство изволили кушать кофе. Ничего особенного, но все-таки это задержало их, по крайней мере, на час. Не везет этому кабальеро.
Говоривший серьезно взглянул на Марко, который ответил ему таким же серьезным взглядом. Они были словно родные братья, сыны одной и той же природы, к которой они любили обращаться, борясь с ее ветром, жаром, холодом, холмами и реками, читая в облаках, в ночном и предрассветном мраке тысячи ее секретов, о которых горожанин и не подозревал.
— Ступай с Богом, — промолвил Марко.
Кучер исчез. Пробило уже двенадцать часов.
— Идем. Нам необходимо побывать в доме № 5 по улице de la Merced, — сказал Марко отцу. — Ты знаешь этот дом?
— Да. Это один из тех многочисленных в Сарагосе домов, которые стоят пустыми. Это старинный дом, принадлежавший когда-то духовенству. Его разграбили в царствование Христины.
Он подошел к окну и выглянул на улицу. Впервые за много лет были открыты окна в доме Саррионов, которые заняли комнату, выходившую окнами на Эбро.
— Ого, ты уже заказал экипаж! — воскликнул граф, увидев около ворот кучера.
Старые ворота дома были открыты настежь.
— Да, — отвечал Марко, каким-то сдавленным голосом. — Надо будет привезти Хуаниту.
XVIII Делатели истории
Дом № 5 на улице de la Merced до сих пор стоит пустым, подобно многим домам в Сарагосе, и глазу прохожего представляется лишь темная каменная масса с решетчатыми окнами, в которых пауки протягивают свои сети. В больших городах Испании почему-то всегда можно встретить немало пустых домов.
Дом № 5 на улице de la Merced, как большинство монастырских зданий, имел свою собственную историю. На круглых булыжниках, которыми выстлан его широкий двор, до сих пор виднеются черные пятна, где, как рассказывают любопытным туристам, сторожа, оставленные охранять такие нежилые дома, обыкновенно варили себе обед на костре, раздувая его пальмовыми листьями. В действительности эти черные пятна совершенно другого происхождения. Это следы тех костров, на которых рассвирепевшая чернь Сарагосы, разграбившая городские монастыри, сжигала монастырское имущество.
Саррионы вышли из экипажа на углу улицы, в тени, отбрасываемой каким-то высоким домом. Хотя снег еще держался кое-где на холмах кругом Торре-Гарды, но солнце в полдень начинало уже порядочно припекать. Дом № 5 оказался наглухо закрытым. На его огромных окнах лежал слой пыли, и пауки беспрепятственно протягивали здесь свои сети. Дом был необитаем уже в продолжение лет сорока.
Марко попробовал открыть дверь, но это было так же трудно, как проломить стену. Это была настоящая монастырская дверь, без всякой щелочки, так что через нее не проникла бы и муха.
— Тут никто не живет, — сказала какая-то старуха, проходившая мимо. — Он стоял пустой, когда я была еще девочкой. На нем лежит проклятие. Здесь произошло убийство нескольких святых отцов.
Саррион поблагодарил ее за сообщенные сведения и пошел дальше. Марко краем глаза посмотрел на пыль, лежащую возле дома.
— Здесь останавливались два экипажа. Вот здесь, около этой небольшой двери, которая на первый взгляд ведет в соседний дом.
— Это старинная уловка, — с улыбкой заметил Саррион. — Мне приходилось видать такие двери и раньше. Их немало на улице святого Григория. Сидя на балконе нашего дома, я не раз замечал, как кто-нибудь входил в один дом, а через минуту выглядывал из окна соседнего.
— Мон еще не приехал, — продолжал Марко, не спуская глаз с дороги. — Его везет одноглазый Педро, а у его лошади подковы совсем круглые.
— Нам незачем дожидаться его. Риск слишком велик. Ведь все может совершиться и в его отсутствие.
— Да, — согласился, подумав, и Марко. — Ждать нам нечего.
Не успел он произнести этих слов, как на углу улицы показалась карета.
— Едут, едут, — промолвил Марко и увлек своего отца в какие-то ворота.
В самом деле на козлах кареты сидел человек, которого звали одноглазым Педро, а лошади оставляли после себя совершенно круглый след в пыли.
Из кареты вышел Эвазио Мон. Он расплатился с извозчиком и, по-видимому, щедро дал ему на чай, ибо одноглазый Педро прежде, чем положить деньги в свой кошелек, еще долго считал их.
Мон постучал в дверь палкой, с которой он никогда не расставался. Дверь тотчас же отворилась, пропустила его и быстро захлопнулась.
— А, он стучал таким же манером, как тогда, на улице святого Григория, — воскликнул весело Саррион. — Просто и понятно.
И он постучал точно таким же образом по перилам лестницы, к которой они подошли.
— Попробуем сделать то же, — продолжал он. — Попробуем постучать в дверь так же, как Эвазио Мон. Подождем только, пока он от нее отойдет.
Прождав минуты две, они снова направились на улицу de la Merced. Был час завтрака, и на улицах не было ни души. Они подошли вплотную к двери, через которую исчез Эвазио Мон.
— Слышишь! — шепотом сказал Марко отцу.
Из глубины пустого дома слышались заглушенные звуки органа. Казалось, они неслись по каким-то длинным коридорам.
— Насколько я припоминаю, — сказал граф, — здесь есть довольно большая церковь во дворе, который находится как раз против этой двери.
Медлить было нельзя, и Саррион, постучав условным образом, отошел от двери, так что тот, кто отворит ее, должен будет раскрыть ее широко и даже выйти на улицу, чтобы узнать, кто стучал.
За дверью послышались шаги. Она осторожно отворилась, и из-за нее высунулась голова того самого дюжего монаха, который помогал переносить раненого Франциско де Модженте на улице святого Григория. Увидев Саррионов, он бросился назад и хотел было захлопнуть за собой дверь. Но оба Сарриона уже успели схватиться за нее, и Марко удалось просунуть в нее свое плечо. Они навалились изо всех сил на дверь и почти притиснули монаха к стене.
Видя, что ему с ними не справиться, монах бросился бежать по коридору, тускло освещенному затянутыми паутиной окнами. Марко бросился за ним, а Саррион встал у двери. На повороте коридора монах поскользнулся и, видя, что ему не сладить с Марко, принялся кричать. Марко бросился на него, как тигр, и зажал ему рот. В борьбе они тяжело упали на землю.
Монах был сильнее и тяжелее. Сначала Марко был смят и оказался под ним. Но прежде, чем Саррион подоспел на помощь сыну, тот уже выскользнул из-под своего противника и сильно ударил его головой об пол. Это был обычный прием горцев в борьбе и обыкновенно кончался смертью жертвы. Но монаха спас его толстый капюшон. Саррион быстро прижал монаха к земле, а Марко вскочил на ноги, обтирая кровь, струившуюся из рассеченной губы. Монах не поколебался бы положить его на месте, если б только мог. Южная кровь быстро бросается в голову, а первобытные боевые инстинкты никогда не умирают в сердце южанина.
— Он не убит? — запыхавшись, спросил Марко.
— И слава Богу, что не убит, — смеясь, отвечал Саррион. — Идем в церковь.
И прислушиваясь к далеким звукам органа, они бросились вперед по тускло освещенным коридорам. Между ними и церковью было, очевидно, несколько закрытых дверей, ибо до них доносились лишь более громкие и сильные ноты. Одолев последний коридор, они выбежали на широкий внутренний двор, густо поросший травой. Посередине его был колодец с железной решеткой, сплошь закрытый зеленью.
— Церковь здесь, но дверь в нее заделана, — сказал Саррион, указывая на заложенную дверь.
Но Марко быстро отыскал другую, которая из окружавшей двор галереи вела назад, как раз по тому направлению, по которому они явились сюда. Войдя в коридор, они должны были сразу же круто повернуть назад. Такие повороты нарочно устраивались ловкими архитекторами, чтобы заглушать звуки.
— Это ход на хоры, к органу, — прошептал Марко.
— И, вероятно, в церковь.
Они отворили дверь. Перед ними была другая, обитая войлоком. Марко толкнул ее: звуки органа стали так громки, что почти оглушали их.
Они оказались перед самой церковью, как раз у органа.
Сделав несколько шагов, они сначала остановились в темном углу. Им было слышно, как дышал человек, игравший на органе. Потом Марко пошел вперед и скоро они были уже в самой церкви, слабо освещенной горящими свечами. В воздухе, который, казалось, вибрировал с каждым звуком органа, стоял тяжелый запах ладана.
Церковь была довольно узка и длинна. В западном ее конце, кроме Марко и его отца, никого не было. Да и их совсем не было видно из-за купели, резная крышка которой поднималась к потолку, словно колокольня. В некоторых местах резьба была сломана и, очевидно, стала жертвою костров на дворе. Невдалеке от них на коленях на голом полу стояла целая группа. Наверху сквозь изломанную решетку хор виднелось довольно много лиц, у алтаря служили два священника.
— Вот Хуанита, — прошептал Марко, указывая на хоры.
Девушка, стоявшая возле нее на коленях, горько плакала. Но Хуанита стояла прямо, и ее тонкий профиль отчетливо вырисовывался на фоне освещенного свечой пространства. В повороте ее головы было что-то энергичное и сильное.
Недалеко от нее среди молящихся виднелась неподвижная фигура сестры Терезы. Она смотрела прямо перед собою. Рядом с ней можно было разглядеть согбенную фигуру Леона де Модженте. Сзади него со склоненной головой стоял Эвазио Мон. Со своего места он мог отлично видеть Хуаниту и, по всей вероятности, наблюдал за нею.
Церковь была устлана старыми истоптанными циновками из травы, как это везде делается по побережью Средиземного моря. Это давало возможность Саррионам бесшумно двинуться вперед. Ближе всего к ним стоял на коленях Эвазио Мон, но и он не слышал их шагов.
В этот момент Хуанита, повернув голову, вдруг заметила их, и Эвазио Мон видел, как она вздрогнула. Он быстро повернулся в ту же сторону: рядом с ним в полутемноте стоял Саррион, а с другой стороны Марко, державший платок у губ.
Эвазио Мон быстро сообразил положение вещей и с заранее приготовленной улыбкой обратился к Сарриону:
— Вы хотели меня видеть?
— Я хочу взять отсюда Хуаниту де Модженте и притом как можно скорее, — шепотом отвечал Саррион. — Нам не хотелось бы нарушать службу.
— По какому же праву, друг мой? — спросил Мон, сладко улыбаясь.
— А вот спросите об этом моего сына.
Мон, не говоря ни слова, повернулся к Марко. Тот поднес к самым его глазам удостоверение о своем браке, подписанное самим епископом.
Мон покачал головой, словно это его сильно огорчило, и, продолжая мягко улыбаться, сказал:
— Это не имеет законной силы, друг мой.
Но, взглянув на лицо Марко, он сразу почувствовал, что ему лучше попробовать разубедить каменную стену, чем его.
Служба продолжалась своим чередом, и с хор лились голоса, поднимаясь и опускаясь, словно морские волны. Служба была простая, лишенная тех театральных эффектов, которые были введены церковью потом, для укрепления слабых душ.
Хуанита оглянулась и увидела, что Мон со сладкой улыбкой на губах стоит на коленях между двумя мрачными фигурами, которые высились по обеим его сторонам, и ей стало смешно.
Наконец Мон встал с колен и остановился в нерешительности. Марко указал ему рукою на Хуаниту. Служба прервалась сама собой, и воцарилось молчание, прерываемое только рыданиями девушки, стоявшей на коленях возле Хуаниты.
Опять громко заиграл орган. Мон вдруг ожил и, подойдя к Хуаните, дотронулся до ее плеча и сделал ей знак идти за ним. Оба священника у алтаря делали вид, что они ничего не знают. Сестра Тереза, погруженная в молитву, смотрела прямо перед собой. Служба возобновилась.
Под предводительством Сарриона все двинулись из церкви в коридор. Хуанита, взглянув на Марко, молча кивнула ему головой на Мона и сделала вслед ему веселую гримасу. Марко тихо шел сзади нее.
Выйдя в коридор, Мон устремил пристальный взор сначала на Хуаниту, потом на Марко: его разбирала досада.
— Это не имеет законной силы, — тихо повторял он, — без особого разрешения.
В ответ Марко вручил ему вторую бумагу, внизу которой виднелась круглая печать Ватикана. Это было обычное разрешение на вступление в брак несовершеннолетней.
— Очень рад, очень рад, — забормотал Мон, заглядывая в бумагу.
Саррион повел всех дальше по коридору. Монах все еще ожидал на изъеденной червями скамейке, прислонившись к стене и закрыв голову руками.
— Он немного ушибся, — просто сказал Марко. — Он вздумал преградить нам путь.
Мон проводил их до входной двери. Потом, ни слова не говоря, он крепко запер ее за ними и вернулся назад в церковь, раздумывая по дороге о том, какие мелкие факты дают иногда истории народа совсем другой оборот. Ибо, выдержи монах нападение Саррионов, будь в двери такая же решетка, как на улице de la Merced, дон Карлос Бурбонский, может быть, надел бы на себя корону Испании.
XIX Кузина Пелигрос
Хуанита была одета в обыкновенную форму воспитанниц монашеской школы: на ней было черное платье и черная мантилья. Поэтому она пошла по улице, не привлекая к себе внимания.
Щеки ее пылали, а глаза блестели от возбуждения. Она шла под руку с Саррионом.
— Как хорошо, что вы пришли, — сказала она. — Я знала, что могу положиться на вас и ничего не боялась.
Саррион улыбнулся и взглянул на Марко, которому пришлось преодолеть все препятствия и который теперь спокойно шел рядом с нею, стараясь закрывать платком разбитую губу.
Хуанита шла между ними и взяла их обоих под руку.
— Вот так, — говорила она со смехом. — Теперь я от всего в безопасности, от всего решительно. Не правда ли?
— Конечно.
Хуанита шла между Саррионами, едва касаясь ногами земли.
— Что ты так смотришь на меня? — вдруг спросила она Марко.
— Ты как будто выросла?
— Конечно, выросла, — серьезно отвечала она.
Она остановилась и вытянулась во весь рост.
— Я на целый вершок выше, чем Милагрос, но она толстеет не по дням, а по часам. Наши девицы уверяют, что она скоро будет похожа на сестру Терезу, которая так высока, что стоит на коленях, а кажется, будто она на ногах. Эта глупая Милагрос всегда плачет, когда ей говорят это.
— Милагрос хочет стать монахиней? — рассеянно спросил Саррион.
Его мысли были заняты совсем другим.
— Боже сохрани! — вскричала Хуанита. — Она говорит, что она выйдет замуж за военного. Не знаю почему. Она говорит, что ей нравится, когда бьют в барабаны. Я ей, бывало, говорила, чтобы она купила себе барабан и наняла бы себе барабанщика. Она очень богата, знаете. Ведь не стоит из-за этого выходить замуж за военного, а?
— Конечно, не стоит, — отвечал Марко, к которому собственно и был обращен вопрос.
— Барабанный бой может ведь и надоесть. Вот как нам надоедает читать молитвы в школе. Я уверена, что она еще подумает прежде, чем выходить за военного. Мне бы этого не хотелось. Впрочем, я забыла…
И она с лукавым видом опять подхватила под руку Марко.
— Ты знаешь, я и забыла, что мы женаты. Впрочем, я ни капли не раскаиваюсь в этом. Я так рада, так рада, что удалось уйти из этой школы. Я ее ненавижу. Я всегда так боялась, что, несмотря ни на что, они сделают из меня монахиню. Вы и не знаете, что значит чувствовать себя беспомощной и в опасности. От этой мысли просыпаешься ночью и жалеешь, что не умерла.
— Ну, теперь все это миновало и умирать незачем, — успокоил ее Марко.
— Наверно?
— Наверно, наверно.
— И я уже никогда более не вернусь в школу? И они не имеют надо мной никакой власти — ни сестра Тереза, ни сестра Доротея, ни сама мать-настоятельница? Вы знаете, ее зовут всегда «матушка». Мы ненавидим ее. И все это теперь прошло.
— Да, — отвечал Марко.
— Как я рада, что я вышла за тебя замуж, — убежденно объявила Хуанита. — И теперь не надо уже бояться сеньора Мона с его сладкой улыбочкой? — продолжала допрашивать Хуанита.
— Конечно, не надо.
Хуанита вздохнула с облегчением и откинула свою мантилью.
— Он всегда только и говорит «да» и «нет». Но каким-то образом выходит так, что и этого довольно.
Они повернули за угол, где их дожидался экипаж. Это была одна из тех тяжелых карет, которые целыми годами стояли без дела в сарае дома Саррионов и употреблялись только в торжественных случаях. Лошади были из Торре-Гарды, и кучер, и лакей в ливрее приветствовали Хуаниту с той свободой, которая всегда царствует в их краю.
— Это парадный экипаж?
— Да.
— Для чего?
— Для того, чтобы везти тебя домой.
Хуанита быстро впрыгнула в карету и уселась молча. Лакей, захлопнув дверцу, дотронулся рукой до своей шляпы, приветствуя этим не Саррионов, а ее. Хуанита ответила приветливой улыбкой.
— Куда мы едем? — спросила она.
— В дом Саррионов.
— Его отворили после стольких лет? Для кого?
— Для тебя.
Хуанита высунулась из окна, посматривая кругом блестящими глазами. Она не задавала более никаких вопросов, и все доехали до дома Саррионов молча.
Пелигрос уже поджидала их.
Пелигрос приходилась родственницей Саррионам. Казалось, она делала огромное одолжение миру тем, что она существует. За это мир был обязан, в свою очередь, давать ей комфорт и оказывать всяческое уважение.
— Старинные фамилии, — говорила она, — теперь вымирают.
При этих словах она вытягивала вперед руки и складывала их на груди, как бы давая понять, что обществу унывать нечего: она еще существует. От людей, ниже ее стоящих, она требовала полнейшего к себе уважения. Ее руки не могли заняться чем-нибудь и в продолжение одного часа. Она была невежественна и ленива. Но она была светской дамой и притом из рода Саррионов.
Пелигрос проживала обыкновенно в Мадриде в небольшой квартирке, которая представлялась ей центром всей общественной жизни.
— Сюда являются для того, чтобы спросить моего совета в вопросах этикета, — говаривала она.
— Наша Пелигрос, — заметила однажды Хуанита, выслушав целую лекцию о том, как нужно заботиться о своих руках, — отмежевала себе особую область.
— Где и стоит, как пугало, — добавил Марко, не любивший пускаться в разговор.
Такова была особа, ожидавшая приезда Саррионов. Она была вызвана Саррионом из Мадрида и приехала сюда за его счет. Расходы по ее путешествию были немалые. Подобно многим, кому приходится жить на средства других, Пелигрос старалась смягчить горечь чужого хлеба, усердно намазывая его маслом за чужой счет.
Когда карета загрохотала по мощеному двору, Пелигрос, конечно, не вышла навстречу прибывшим. Такой поступок мог бы унизить ее в глазах прислуги, которая, надо ей отдать справедливость, прекрасно видела пустоту, которая таилась в этой важной барыне. Она торжественно уселась в гостиной, сложив руки на коленях, и приготавливалась произнести заранее приготовленное приветствие новоприбывшим. Ей было уже сообщено, что Саррион находит необходимым взять Хуаниту де Модженте из монастырской школы и принять на себя ее опекунство, которое должно было еще раз доказать старинную дружбу между Саррионом и Франциско де Модженте.
Пелигрос приняла близко к сердцу то обстоятельство, что Хуанита, в критический момент жизни, нуждается в хорошем примере. А по ее убеждению, ни один человек в Испании не мог представлять лучшего примера, чем она, сеньорита Пелигрос де Саррион.
Итак, она сидела в гостиной, облаченная в черное шелковое платье и вся пропитанная снисходительностью ко всякому, кто имеет несчастие не принадлежать к роду Саррионов.
Между тем Перро влетел уже в переднюю и приветствовал Хуаниту огромными прыжками, от которых плохо пришлось ее мантилье.
Множество картин и оружия по стенам дворца поразили Хуаниту: она никогда не была в нем внутри.
— Неужели это все Саррионы? — спрашивала она, поглядывая на старинные портреты. — Какая свирепая компания! Вот этот с острым шлемом, это, должно быть, крестоносец. А что это за шлем висит под портретом? В нем большая выбоина. Но он, наверно, ответил на этот удар, как следует? А? Дядя Рамон, как вы думаете?
— По всей вероятности, — отвечал граф.
— Я хотела бы быть Саррионом, — сказала Хуанита, посматривая на оружие загоревшимися глазами.
— Да ты и есть одна из Саррионов, — серьезно заметил граф.
Хуанита остановилась и через плечо взглянула на Марко, который шел сзади и не принимал участия в разговоре.
— Я и забыла, — промолвила она.
И, словно вспомнив о лежащей на ней обязанности, она вздохнула и стала опять подниматься наверх. Увидав застывшую в своем величии Пелигрос, Хуанита сразу развеселилась и бросилась к ней.
— А, Пелигрос, — воскликнула она, хватая ее за обе руки. — Только подумай! Я вырвалась из школы. Нет больше наказаний, нет больше ни арифметики, ни грамматики!
Сеньорина Пелигрос поднялась не спеша, стараясь сохранить свое достоинство, которое, по ее мнению, могло оказывать облагораживающее влияние на мир. Но Хуанита не считала нужным скрывать своего восторга, от которого подвергалась такой опасности мантилья почтенной дамы, и, схватив ее, пустилась танцевать какой-то дикий танец, от которого Пелигрос едва не задохнулась.
— Не нужно больше ходить к ранней обедне в шесть часов утра! — кричала Хуанита, выпустив из своих объятий Пелигрос. — Неужели вы всегда ходите к ранней обедне?
— Нет, — важно отвечала Пелигрос. — Таких вещей не требуется от дамы.
— Слава Богу! В таком случае я не раскаиваюсь, что я уже выросла. Сейчас я сделаю себе настоящую прическу. Дайте мне, пожалуйста, пару булавок.
Она бросилась к мантилье Пелигрос и вытащила из нее пару булавок, несмотря на отчаянное сопротивление бонтонной дамы. Потом она заложила венком на голове свои тяжелые косы, сбросила мантилью и, смеясь, остановилась против Пелигрос.
— Вот я! Совсем взрослая! Выше вас! Она знает нашу шутку? — вдруг обратилась она к Сарриону.
— Нет.
— А вы знаете, что я вышла замуж, — заявила Хуанита, храбро становясь перед Пелигрос.
— За кого же? — вяло спросила хранительница светских приличий.
— Как за кого? За Марко!
В ответ Пелигрос только тяжело вздохнула и закрыла лицо своими белыми руками.
В эту минуту в комнату вошел Марко. Но он не обратил внимание на Пелигрос: ее белые руки играли такую выдающуюся роль в ее повседневной жизни, что они были всегда на виду.
— Твои платья были упакованы как следует в школе, — сказал он, обращаясь к Хуаните. — Сестра Тереза привезла их с собой из Памплоны. Ты найдешь их в своей комнате.
— О, о! — застонала Пелигрос.
— Что такое? В чем дело? — деловито спросил Марко. — Что с ней?
— Я только что сказала ей, что мы поженились, — весело вскричала Хуанита. — Ты, по-видимому, сконфузил ее, упомянув о моих платьях. Этого не надо было делать, Марко.
Пелигрос вдруг поднялась и направилась к двери.
— Я пойду, — сказала она. — Я распоряжусь, чтобы вашу комнату привели в порядок. Никогда еще мне не приходилось быть в таком смешном положении в доме истинного гидальго.
— Зато мы можем быть здесь и счастливы, и веселы. Не так ли? — говорила Хуанита, бегая вокруг нее и стараясь обнять ее прямой, как палка, стан. — Вам нечего здесь конфузиться. Ведь Марко и я — мы поженились только для вида!
Дверь за ними закрылась, едва пропустив последние слова Хуаниты.
— Видишь, — сказал граф сыну, — видишь, она совершенно счастлива.
— Теперь — да, — возразил тот. — Но наступит день, когда она найдет, что это, может быть, и не так.
Вскоре Хуанита вернулась обратно. Саррион был один.
— А где же Марко? — спросила она.
— Он пошел отдохнуть.
— Словно какой-нибудь рабочий.
— Да, словно рабочий. Он не спал всю ночь. Ты была гораздо ближе к монашеству, чем ты думаешь.
Хуанита переменилась в лице. Подойдя к окну, она остановилась перед ним и долго смотрела на улицу.
— Когда мы едем в Торре-Гарду? — вдруг спросила она. — Я терпеть не могу городов и толпу. Я люблю запах ели и терновника.
XX В Торре-Гарде
Река Волк берет свое начало в вечных снегах Пиренеев. Она течет к зеленой равнине Торре-Гарды среди безлюдного величия наименее известных в Европе гор, отклоняемая туда и сюда в своем скалистом ложе и подкрепляемая то там, то сям шумными ручейками, летящими вниз из каменных ущелий.
Здесь по обеим сторонам реки раскинулась деревушка, а над ней, на возвышенности, окаймленной каштанами и соснами, стоял дом Саррионов. Зимою воздух был насыщен смолистым запахом дыма, шедшим из его труб. Летом теплое дыхание сосен спускалось вниз по горам и смешивалось с более холодным ветром, от которого шевелились кусты терновника.
В самом низу зимой и летом, утром и вечером, днем и ночью неумолчно бурлил Волк, прозванный так за вечное ворчание своих волн, зажатых ущельем в миле от деревни. Обитатели долины могли бы порассказать тысячи случаев о капризном течении своей реки и твердо верили, что ее голос предостерегает всех, кто умеет его понимать, о всяких переменах погоды. Старухи были убеждены, что этот голос говорит и о таких вещах, которые одинаково интересуют и принца, и крестьянина — об удаче и неудаче в человеческом сердце. И в самом деле, река меняла свое настроение, вероятно, без всякой видимой причины: казалась иногда веселой в мрачную погоду и уныло журчала, когда ярко сияло солнце и на деревьях пели птицы.
В ясную летнюю погоду вода в ней делалась иногда на несколько дней густой и желтой. Это значило, что где-нибудь от таяния снега в нее обвалилась земля. Иногда Волк мчал множество всяких обломков, мертвые тела утонувших овец, лисицу, волка, а иной раз и горного медведя. Это показывало, что лавиной в него снесло какой-нибудь горный лес. Многим приходилось видать в реке столы, стулья, иногда крышу дома, бревна, застревавшие потом между быками старого моста пониже деревни.
В Торре-Гарде говорили в шутку, что Волк — роялист, ибо в первую карлистскую войну он сражался за королеву Христину, поглотив целую роту инсургентов в том месте, где, казалось, ребенок мог совершенно безопасно перейти вброд, но на самом деле не мог бы переправиться на другой берег ни один всадник.
Дом Саррионов в Торре-Гарде не отличался особой стариной, хотя, несомненно, стоял на том месте, где была когда-то древняя сторожевая башня. Он был построен во дни Фердинанда VII, когда французская архитектура покорила весь мир. То был длинный, низкий дом в два этажа. Каждая комната нижнего этажа выходила окнами на террасу с фонтаном, по бокам которого стояли серые каменные урны, местами обросшие мхом.
Каждая комната верхнего этажа выходила окнами на широкий балкон, шедший вдоль всего дома и защищенный от дождя и полуденного солнца далеко выступающим навесом. Дом был построен из серого камня, которым так богаты склоны Пиренеев и который пластами лежит в горных долинах. Остроконечные башенки по углам дома были покрыты зеленой черепицей, которую так любили мавры. Ветер, снег и дождь окрасили всю Торре-Гарду в серо-зеленый цвет, на фоне которого резко выделялись четыре кипариса, прямо стоявшие на террасе, словно часовые, наблюдающие за долиной.
За домом поднимался поросший соснами склон горы, где снег долго лежал летом. А над этим склоном высились скалы и крутые обрывы, оставшиеся после сползших вниз камней. В самом верху сиял, как корона, вечный снег.
Сильный голос можно было услышать с террасы дома и в долине, где рос и вызревал табак, и на высотах, где не было никакой растительности. Дом, казалось, висел между небом и землей. В течение трех месяцев оставались заколоченными его зеленые ставни, как вдруг в один прекрасный день деревенские обитатели, подняв взор кверху, увидели, что окна открыты и в доме появилось движение.
У Саррионов было немало дел, которые задерживали их в Сарагосе, и Хуаните пришлось довольно долго ждать, пока исполнится ее желание дышать опять запахом сосны и терновника.
Казалось, никто не обращал внимания на необычный брак, совершенный в церкви Богородицы в Тени. Эвазио Мон, знавший о нем больше, чем кто-либо другой, только улыбался и помалкивал. Леон де Модженте замкнулся в своем собственном «я», которое принадлежало больше тому свету, чем этому.
— Леон, — весело заметила как-то Хуанита сеньорите Пелигрос, — хочет сделаться когда-нибудь святым. У него так мало чувства жизнерадостности.
И действительно, он, очевидно, совершенно не понимал светлых взглядов Хуаниты на жизнь.
— Ты можешь напускать на себя торжественный вид и твердить о великой ошибке, сколько тебе будет угодно, — объявила она брату. — Но я знаю, что у меня никогда не было желания стать монахиней. В конце концов все будет хорошо. Так говорит дядя Рамон. Я не знаю, что он под этим подразумевает. Но он всегда говорит, что все должно кончиться хорошо.
И она покачала головой с тем знанием света, которое дается только женщинам. Оно может уживаться в том же сердце с невежеством и в то же время оказаться драгоценнее всяких знаний, которые мудрецы вложили в свои книги.
По делам Хуаниты приходилось вести дело с множеством разных адвокатов. Своим полудетским почерком она смело подписывала свое имя на каких-то бесчисленных документах.
У испанцев есть пословица, которая советует не пить воды в темноте и не подписывать бумаги, не прочтя ее. И Марко прочитывал Хуаните всякий документ, который ей надо было подписать. Она старалась отделаться от этого, как можно скорее, и смеялась над Марко, который упрекал ее за то, что она не старается даже вникнуть в смысл этих документов.
— Не стоит беспокоиться обо всем этом, — оправдывалась она. — Ведь дело идет все о деньгах. Я понимаю это. А вы, мужчины, только и думаете о деньгах. Не хочу и говорить о них.
— Когда-нибудь они и тебе пригодятся.
Хуанита, держа перо в руках, вдруг стала серьезна и взглянула на него.
— Что ты все говоришь мне «когда-нибудь» да «когда-нибудь», словно хочешь заранее принять меры предосторожности против этого «когда-нибудь»? — спросила она, поблескивая глазами.
Марко не дал никакого ответа.
Наконец все формальности были кончены, и они могли ехать в свою Торре-Гарду. События развивались в Испании очень быстро, и о необычном браке Хуаниты скоро почти совсем забыли. Не получи она большого наследства, никто не обратил бы и внимания на этот случай. Большинство угадывало, впрочем, в чем было дело, и каждый судил о Саррионах с точки зрения своих политических убеждений, порицая или восхваляя их сообразно своему заранее составленному кодексу. Были, однако, немногочисленные люди, стоявшие на самом верху, которые понимали, что Саррионы предотвратили большую опасность.
Уступая просьбам Саррионов, сеньорита Пелигрос согласилась некоторое время вести их дом в Сарагосе и в Торре-Гарде. Жизнь ее протекала в бурные времена, и тем не менее она была убеждена, что карлисты, как и сами небеса, для дам делают исключение.
— Никто не посмеет оскорбить меня, — говорила она, с непоколебимым видом скрещивая руки на груди.
Она сильно недолюбливала железные дороги, подозревая в этом способе передвижения проявление демократического духа, хотя и до сего времени контролер на испанских дорогах появляется в вагоне первого класса не иначе, как держа шляпу в руках, а железнодорожное расписание приспосабливаться к какому-нибудь превосходительству, которое еще изволит кушать кофе в буфете.
Вот почему сеньорита Пелигрос с удовольствием рассталась с поездом в Памплоне, где их уже ждал экипаж из Торре-Гарды. Для Сарриона и Марко подали верховых лошадей. Под деревьями за станцией их дожидался небольшой отряд войска. Командовавший им офицер выехал вперед и поклонился Хуаните.
— Вы не узнаете меня, сеньорита, — сказал он. — Вы не забыли церкви Богородицы в Тени?
— Теперь я вспоминаю вас, — отвечала она, здороваясь. — Вы еще молились, когда мы приехали.
— Да, сеньорита. Почему же и не помолиться?
То был простой человек, близкий к природе и Богу.
— Не сомневаюсь, — продолжала Хуанита, пристально глядя на него, — что святые услышали ваши молитвы.
— Марко писал мне, — сказал офицер, — и просил дать ему конвой, чтобы проводить вас через опасную полосу. Поэтому я позволил себе явиться сюда самому. Я ведь вроде сторожевой собаки при входе в эту долину, сеньорита. А раз вы будете в долине Волка, вы будете в полной безопасности.
Пока они разговаривали, подъехал Саррион и объявил, что все готово к отъезду. Сеньорита Пелигрос сидела с вытянутым лицом и поджатыми губами. При первом же удобном случае она, не обращаясь ни к кому, заметила, что дамы не должны говорить с мужчинами с такой свободой и фамильярностью, что для поощрения какой-нибудь шутки в этом случае достаточно слегка улыбнуться, смеяться же прилично лишь тогда, когда шутит какая-нибудь пожилая персона. Не даром сеньорита Пелигрос воспитывалась в школе приличий, какой теперь уже не существует.
— Но ведь это друг Марко, — попробовала объяснить ей Хуанита. — Кроме того, это человек очень милый.
Мужчины ехали все вместе впереди кареты и телеги с багажом. Путешествие обошлось без приключений. Солнце уже садилось на безоблачном небе, когда они достигли входа в долину.
Для сеньориты Пелигрос не было высшего счастья, как видеть себя центром общества и стержнем, вокруг которого вертятся все события. Она величественно кивнула капитану Занете, когда тот, проводив путников, подошел к ней проститься.
— Марко хорошо сделал, что запасся этим конвоем, — сказала она так, что он мог ее слышать. — Он, очевидно, сообразил, что я, привыкнув жить всегда в Мадриде, чувствовала бы себя несколько нервно в такой глуши.
Хуанита была утомлена, но они были почти уже у цели. Спорить с Пелигрос ей не хотелось: есть глупцы, которых люди охотно оставляют в их глупости, потому что она безвредна. Марко и Саррион ехали рядом молча. Время от времени им попадался навстречу какой-нибудь крестьянин, поджидавший их на дороге. Он подходил к кому-нибудь из них и тихо что-то говорил. Дорога стала круто подниматься в гору. Ехали шагом. Мерный шаг лошадей, тихий вечерний час, усталость от путешествия — все это располагало к созерцанию и молчанию.
Когда Марко помог Хуаните и Пелигрос сойти с экипажа на довольно высоких рессорах, Хуанита была так утомлена, что и не заметила кое-каких нововведений. Когда-то она проводила праздники в Торре-Гарде и довольствовалась той скромной обстановкой, какая тут была. Но теперь Марко прислал сюда модную мебель, и на террасе стояли новые кресла. Спальня Хуаниты, находившаяся в западном углу дома, рядом с огромной комнатой, где поместился Саррион, была обставлена заново.
— Какая прелесть! — восклицала Хуанита.
Когда все в ожидании обеда собрались в гостиной, Хуанита нежно взяла под руку старого графа.
— Какой ты хороший, что велел так убрать мою комнату! Она такая светлая, такая чистая. Она мне так понравилась. О, нечего улыбаться! Ведь ты знал, что я люблю? Не правда ли, Марко?
— Знал, знал, — отвечал Марко.
— Кроме того, это единственная комната в целом доме, которая была заново отделана. Я заглянула и в другие, заглянула и в твою казарму, в конце балкона. Я догадалась, для чего Марко взял себе эту комнату.
— Для чего же?
— Для того, чтобы видеть внизу долину. Для того, чтобы Перро, который спит на балконе, достаточно было только поднять голову, чтобы видеть других сторожевых собак, которые находятся там внизу, за десять миль отсюда.
После обеда Хуанита открыла, что в гостиной имеется новый рояль в придачу к тем легким и удобным креслам, каких не знали наши деды. Пелигрос заявила было, что они совсем не нужны и даже вредны, так как располагают к лени. Это, однако, не помешало ей усесться в них как можно комфортабельнее. Хуанита присела к роялю и стала разбирать какой-то вальс.
Мужчины вышли покурить на террасу. На западе уже показывалась бледная новая луна, обещая после своего захода темную ночь. Марко и его отец курили молча, прислушиваясь к шуму реки, бурлившей от снега в ущелье.
Вдруг на террасе появился слуга и доложил, что какой-то посланец желает вручить ему письмо. По испанскому обычаю, письмоносца пригласили войти и лично передать письмо адресату. То был странствующий точильщик. Он объяснил, что письмо это ему дал какой-то человек, которого он встретил на дороге и у которого захромала лошадь.
Письмо было от Занеты. Наскоро карандашом он писал, что между ним и Памплоной замечены значительные силы карлистов, и предлагал Марко прибыть вниз, чтобы узнать подробности.
Марко быстро встал и отбросил сигару.
— Ничего не говорить никому об этом, — сказал он, бросая взгляд на освещенные окна гостиной. — Завтра к завтраку я вернусь. Мое отсутствие, вероятно, и не будет замечено.
Скоро послышался стук копыт, заглушаемый шумом реки. Хуанита, вся в белом, вышла на террасу. Минуты две, пока ее глаза не привыкли к темноте, она стояла, не двигаясь. Потом она рассмотрела Сарриона и другое пустое кресло. Обыкновенно, стоило только ей показаться, как сейчас же к ней подходил Перро с серьезным видом и останавливался перед ней в ожидании ласки. На этот раз его не было.
— Где Марко? — спросила она, садясь на пустое кресло.
— За ним прислали из долины. Он уехал.
— Уехал! — повторила, как эхо, Хуанита, быстро вставая.
Подойдя к каменной решетке, окружавшей террасу, она перегнулась и стала смотреть вниз в темноту.
— Я слышал, как он переехал через мост, — спокойно сказал Саррион.
— Он мог бы проститься со мной.
Саррион тихонько повернулся в кресле и посмотрел на нее.
— Он, вероятно, не хотел, чтобы о его отъезде стала говорить Пелигрос, — заметил он.
— Со мной-то он все-таки мог бы проститься!
И, облокотившись на серые камни, она продолжала вглядываться в зиявшую в долине темноту.
XXI Хуанита растет
Арабский конь Марко добирался до Памплоны за двенадцать часов. То была сильная лошадь, привычная к долгам путешествиям. Но Марко выбрал для себя другую — постарше, подешевле и более привычную к ночным экскурсиям.
Ему хотелось непременно вернуться к завтраку, и он не особенно щадил лошадь. Люди, которым приходится жить в тревожные времена и изо дня в день глядеть в лицо смерти, вскоре проникаются философией, которая состоит в том, чтобы бестрепетно принимать вещи так, как их устроит Господь Бог.
После нескольких месяцев терпеливого выжидания и выслеживания, помимо всяких опасностей, Хуанита была наконец водворена в Торре-Гарду, и этого для Марко было довольно.
Он подгонял свою лошадь. Хотя он вообще был осторожен, но на этот раз осторожность как будто покинула его: он ехал быстрее, чем следовало бы, в виду опасной дороги и темноты.
На южных склонах Пиренеев весна начинается рано. Ночь была теплая. Дождя не было уже в течение нескольких суток. Пыль лежала на дороге густым слоем, заглушая стук подков. Волк ревел, сжатый своим каменистым руслом. Дорога, недавно проложенная для экипажей Саррионом за его собственный счет, была небезопасна. Она вилась по отвесному левому берегу реки, и на некоторых ее участках с гор беспрестанно падали на нее камни. В других местах почву подмывало бурное течение реки. Словом, эта дорога постоянно требовала внимательного наблюдения и ремонта. Но Марко проехал по ней всего несколько часов тому назад, и с того времени погода не изменилась.
Он знал опасные места и ехал здесь осторожно. В трех милях от деревни река входит в ущелье, и в этом месте дорога идет под отвесными скалами. Участок этот не представляет никакой опасности, ибо здесь не падают сверху камни. Зажатая в невидимых с дороги теснинах, река рычит здесь, как дикий зверь. Оттого реку и назвали Волком.
Лошадь Марко прекрасно знала дорогу. Ехать тут было даже легче: дорога отходила дальше от левого берега реки, и края ее были обозначены на известном расстоянии белыми камнями. Лошадь была даже слишком осторожна. Ночью всадник мог всецело предоставить ей решение вопроса о том, где можно ехать рысью и где нельзя. Марко знал, что его старая лошадь всегда спускается вниз по самому удобному склону. Достигнув перевала, она пошла крупной рысью. При повороте с холма он хотел остановиться, хотя и знал, что спуск будет не особенно труден.
Марко пришпорил лошадь и быстро помчался вперед. Но не прошло и минуты, как лошадь вдруг упала, больно ударившись головой о дорогу.
Марко был сброшен с седла и упал в нескольких шагах от лошади. Это было самое узкое место на всей дороге, и сознание этого пронеслось в уме Марка, как молния. Ударившись о белый камень, стоявший на границе дороги, он услышал, как треснула его ключица, сломавшись, словно сухая палка. Не успел он уцепиться за камни, как его перебросило за край дороги, прямо в пропасть, где в темноте ревела река.
Одна рука была у него цела, с нее была только содрана кожа. Пальцы ее крепко впились в повода. Лошадь делала неимоверные усилия, чтобы подняться на дороге, а Марко висел над пропастью, содрогаясь от каждого ее движения. Наконец лошадь дернула его с особенной силой и почти вытянула на край дороги, где Марко удалось кое-как зацепиться одной ногой за росший из-под камня куст. В свою очередь, он также тянул к себе своею тяжестью лошадь, которая подходила все ближе и ближе к пропасти, рискуя упасть в нее каждую минуту.
В мозгу Марко быстро мелькнула мысль, что он должен остаться в живых во что бы то ни стало. Только он один мог спасти Хуаниту в бурные времена, которые готовились наступить. Единственной мыслью его была мысль о Хуаните. И он боролся за свою жизнь с той ловкостью и быстротой понимания, от которой и зависит всякий успех.
Со всей силой своих железных мускулов он потянул за повод. Он успел выпрыгнуть на дорогу, но стянул лошадь в пропасть. Падая, она сильно брыкалась и ударила его задней ногой в спину. Ему показалось, что она переломила ему хребет.
Задыхаясь, он прополз на то место, где только что была лошадь. Он не терял сознания, но понимал, что он близок к этому. Перро возбужденно бегал кругом, обнюхивая следы лошади. Добежав до края дороги, собака наклонилась над пропастью, и на фоне окружающей пустоты Марко явственно видел ее тощее тело. Выпустив повода, он ухватился окровавленными пальцами за придорожный камень и лишился сознания. Радостный лай был последним звуком, который он слышал.
Хуанита легла в постель очень усталой и с час проспала тем беспробудным сном, который дает молодость и крепкое здоровье. В обыкновенное время она проспала бы так всю ночь. Но тут она неожиданно для самой себя проснулась в полночь. Физическая усталость уже прошла, но отдохнувший мозг еще не сознавал того, о чем она думала. Мысли целой толпой ворвались уже в ее голову и окончательно разбудили ее.
Ей припомнилась звенящая тишина, царившая в Торре-Гарде и нарушаемая лишь рокотом реки. Хуанита подняла голову и стала прислушиваться: совсем близко от нее раздался какой-то звук. Ходил кто-то на террасе под самым окном.
Это вернулся Перро.
«Стало быть, — подумала Хуанита, — скоро должен вернуться и Марко».
В дремоте она опустила голову на подушку, ожидая, что вот-вот раздастся шум, означающий возвращение Марко.
Заснуть ей, однако, не удалось. Перро начал скрести лапами по террасе, переходя от окна к окну и как бы отыскивая вход. Хуанита невольно стала прислушиваться к его движениям, ожидая, что он начнет визжать. И действительно, спустя минуту-другую, Перро издал какой-то глухой, жалобный звук. Хуанита вскочила с постели и открыла окно: ведь собака и Марко, который, как ей показалось в полусне, уже вернулся, того и гляди разбудят уставшего Сарриона.
Перро услышал, как она открывала окно и, повинуясь ее шепоту, перестал шуметь и остановился перед ней, не спуская с нее глаз и помахивая хвостом. Но через минуту он опять испустил тот же жалобный звук.
Хуанита отошла от окна и стала искать свои туфли и капот. Свечу ей зажигать не хотелось. Потом она направилась по балкону к комнате Марко, которая находилась на противоположном конце дома. Перро шел рядом с нею по нижнему балкону.
Окна Марко были закрыты, а это значило, что его здесь нет. Когда он бывал дома, его окна оставались открытыми круглые сутки летом и зимой.
Хуанита направилась к комнате Сарриона, которая находилась рядом с ней. Окна у него были полуоткрыты. Она отворила одно из них настежь.
— Дядя Рамон, — прошептала она.
Саррион спал крепко. Хуанита вошла в комнату, большую, но мало меблированную. Разыскав кровать, она тронула старика за плечо.
— Дядя Рамон, — сказала она, когда тот проснулся. — Перро вернулся домой, но один.
— Это ничего, — успокоительно отвечал Саррион. — Его, очевидно, отправил домой Марко. Иди, ложись спать.
Хуанита послушалась и тихонько направилась к открытому окну. Здесь она остановилась.
— Послушай, — сказала она Сарриону. — Перро что-то беспокоится и визжит. Поэтому-то я и разбудила тебя.
— Он всегда визжит, когда нет Марко. Прикрикни на него, чтобы он успокоился, и ложись спать.
Хуанита решила последовать этому совету и оставила дверь и окна по-прежнему полузатворенными. Но Саррион уже не мог заснуть и стал прислушиваться. Перро все еще продолжал ходить по нижней террасе, испуская время от времени какой-то жалобный звук.
Саррион не выдержал и, поднявшись, зажег свечу. Был час ночи. Он быстро и бесшумно оделся и со свечой в руке спустился вниз. Конюшни находились возле самого дома, надо было сделать всего несколько шагов по направлению к склону горы. В этом уединенном местечке, из которого есть только один выход в мир, замки и задвижки не составляют необходимой принадлежности жизни. Саррион отворил дверь дома, где жили с семьями кучера, и вошел.
Через несколько минут он вернулся к конюшням в сопровождении того самого кучера, который привез сюда Хуаниту и Пелигрос. Общими силами они выкатили карету и вывели пару лошадей. Затем при свете фонаря запрягли их.
Покончив с экипажем, Саррион тихонько вошел к себе за шляпой и пальто. Он захватил с собой также винтовку Марко, стоявшую в передней, и положил ее на сиденье. Кучер сидел уже на козлах, громко зевая без всякого стеснения.
Усевшись в карету, Саррион взглянул вверх. На балконе, возле самой комнаты Марко, стояла Хуанита и молча следила за ним. Перро выскочил уже за ворота и готовился показывать путь.
Саррион вернулся скоро. Перро не был гением, но то, что он знал, он знал хорошо. Он показывал дорогу и привел экипаж как раз к тому месту, где на белевшей от пыли дороге лежал Марко. Темная фигура на краю дороги и склонившийся над нею Перро были видны совершенно явственно.
Когда карета вернулась, Хуанита встретила ее у ворот. Она зажгла в гостиной лампу и держала в руке фонарь, который она отыскала в кухне. Слуг она не будила и вышла навстречу одна. Ее густые волосы так и развевались по ветру.
Подойдя к карете, она подняла свой фонарь.
— Убит? — с каким-то странным спокойствием спросила она.
Саррион не отвечал сначала. Он сидел в углу кареты, поддерживая голову Марко на своих коленях.
— Не знаю, насколько сильно он расшибся, — промолвил он наконец. — Проезжая по деревне, мы разбудили аптекаря. Он служил в армии и понимает кое-что в медицине…
— Сеньорита, подержите лошадей, — сказал кучер, слегка отстраняя Хуаниту, — а мы перенесем его наверх.
В голосе этого человека было что-то такое, что навело ее на мысль, что Марко уже мертв. Пришлось ждать около лошадей минут десять. Когда наконец кучер вернулся, Хуанита не стала его расспрашивать, а быстро бросилась в дом.
В комнате Марко старый граф зажег уже лампу. Его сын неподвижно лежал на своей постели. Закусив нижнюю губу, Хуанита быстро взглянула на него. Его лицо было покрыто кровью и пылью. Одна рука, окровавленная, лежала на его груди; другая, как-то неестественно прямо, была вытянута вдоль туловища.
Увидав ее, Саррион хотел что-то сказать ей, но она предупредила его.
— Не уговаривай меня уйти. Я хочу остаться здесь.
Потом она схватила губку и тарелку с водой. Саррион хлопотал около воротника Марко, стараясь как-нибудь его расстегнуть. Вдруг он переменил свое намерение и отвернулся.
— Расстегни ему воротник, — сказал он. — А я пойду вниз и принесу теплой воды.
Он взял с собою свечу. Хуанита осталась одна с Марко.
Расстегнув воротник, она нащупала пальцами какую-то веревочку, висевшую у него на шее. Хуанита поднесла лампу поближе. На веревочке висело ее обручальное кольцо, которое она носила так недолго и отдала ему в окне ее комнаты в Памплоне.
Ей хотелось развязать узел шнурка, но это долго не удавалось ей. Тогда она схватила с туалетного столика ножницы и перерезала ее. И быстро сунула к себе в карман. Кольцо она надела себе на палец.
Когда Саррион вернулся в комнату, она осторожно и ловко разрезала ножницами рукава пострадавшего.
— Знаешь, дядя Рамон, — заговорила она. — Я уверена, что он непременно поправится. Бедный Марко!
Саррион бросил на нее пристальный взгляд, как будто бы ему послышались какие-то новые нотки в ее голосе. Этот взгляд случайно упал на ее левую руку.
Саррион не сказал ни слова.
XXII Несчастный случай
Марко пришел в себя на рассвете. Возвращение сознания свидетельствовало о его крепком здоровье. Он скоро получил возможность двигать своими членами, открывать глаза и радовался сознанию, словно проснувшийся от тяжелого сна ребенок.
Открыв глаза, он очень удивился, увидев перед собой Хуаниту, которая сидела рядом с его постелью и наблюдала за ним.
— Наконец-то! — воскликнула она и встала, чтобы дать ему лекарство, которое стояло тут же на столике.
Мебель из комнаты была вся выставлена: в ней было чисто и просторно, как в больничной палате.
— Не надо поднимать голову, я сама ее подниму, — сказала Хуанита.
И она ловко подняла ему голову и с веселым смехом опять опустила ее на подушку.
— Вот так. Это единственная вещь, которой хорошо обучают в монастырях.
Не отрываясь от больного, она записала на листочке бумаги время, когда он пришел в себя.
— Я буду спать от этого лекарства? — спросил Марко.
— Да.
— И скоро я засну?
— Это зависит от того, насколько свеж у аптекаря запас медикаментов. По всей вероятности, через четверть часа. Этот аптекарь просто карлик и притом какой-то нечесаный. Но он удивительно вправил тебе ключицу. Теперь тебе остается только одно — лежать спокойно. Я думаю, ты доволен, что волей-неволей тебе придется просидеть спокойно недельки две-три. Теперь шесть часов, — продолжала Хуанита, приводя в порядок столик с лекарствами и не глядя на него. — Не надо ворочаться и глядеть на часы. Если тебе что нужно, то, пожалуйста, скажи мне. Вы с дядей Рамоном все еще воображаете, что я девочка. На самом деле я уже стала взрослой. Я выросла в одну ночь, как гриб. Дяде Рамону я велела ложиться спать.
Она села около изголовья кровати.
— А Пелигрос даже и не будили, и она так и не выходила из своей комнаты. Завтра утром она, конечно, будет говорить, что она не спала всю ночь. Настоящая светская дама не может спать крепко. Слава Создателю, что она не выходила из своей комнаты. Есть такие люди, которых лучше бы и не было в минуту суматохи. Ты когда-нибудь сам поймешь, что во время кризиса едва найдется два-три человека, присутствие которых было бы желательно.
И она подняла три пальца, чтобы показать, как мало таких лиц, но вдруг, словно вспомнив о чем-то, быстро опустила руку. Но этого было довольно.
Марко успел заметить кольцо, и глаза его заблестели. Хуанита отвернулась к окну и погрозила ему пальцем, словно она совершила какую-то нескромность. В ожидании, пока лекарство проявит свое действие, она тихонько говорила с ним, не давая говорить ему самому. Аптекарь, напугавший ее словом «сотрясение», поехал в Памплону за доктором, наказав ей строго-настрого, чтобы Марко, придя в себя, не волновался и лежал совершенно спокойно.
— Прежде, чем я засну, я хочу повидаться с отцом, — произнес Марко, теребя одеяло.
Хуанита повернулась к нему, но подошла и не стала оправлять одеяло.
— Лежи смирно, — сказала она. — Зачем тебе его видеть? Опять что-нибудь о войне?
— Да.
Хуанита на минуту задумалась.
— В таком случае вам лучше повидаться, — сказала она. — Я сейчас пойду за ним.
С этими словами она вышла на балкон. Саррион сидел здесь в большом кресле, ожидая рассвета.
— О чем ты здесь думаешь, глядя на горы? — весело спросила его Хуанита.
— О тебе, — отвечал он, мягко оглядывая ее. — Я слышал шум ваших голосов и поэтому я знаю, что Марко уже пришел в себя.
— Он хочет видеть тебя. Очнувшись, он был очень удивлен, что видит около себя только меня.
В ее голосе послышалась легкая нотка обиды.
— Ведь аптекарь говорил, что ему нужен полный покой, — сказал Саррион, вставая.
Хуанита ввела графа в комнату больного. В то время, как на лице Сарриона явственно отражались следы бессонной ночи, Хуанита была свежа, как утро.
— Он еще не спит, — заговорила она. — А у вас какой-нибудь секрет? Вероятно, секрет. Ведь у вас их так много.
И она со смехом посмотрела на того и на другого. Но они оба промолчали.
— Мне уйти? — вдруг спросила она Марко, как будто хотела этим показать, что от него-то она должна получить прямой и ясный ответ.
— Да, — промолвил больной, не пытаясь даже чем-нибудь смягчить свой ответ.
Хуанита направилась к двери и с решительным видом затворила ее за собой. Саррион, нахмурившись, посмотрел ей вслед. Ему, видимо, хотелось, чтобы сын взял свой отказ обратно.
О чем говорили отец и сын, осталось для нее секретом.
Оправившись настолько, что он мог уже владеть своими чувствами, Марко стал пристально наблюдать за Хуанитой, ловя каждый ее взгляд. Инцидент с обручальным кольцом не имел, по-видимому, никаких последствий, и его можно было бы считать проявлением обычной у женщины страсти к новостям и нарядам. Не обманывался только Марко, учившийся наблюдательности у самой природы и животных. Он терпеливо и не торопясь собирал свои наблюдения. Хуанита встревожила было его, говоря, что она уже выросла. Но вскоре он убедился, что она только так говорит: по-прежнему она была весела и беззаботна насчет своей будущности, как настоящий ребенок.
Все эти наблюдения он, однако, держал про себя. И за отцом он посылал вовсе не для того, чтобы говорить с ним о Хуаните.
— Лошадь подо мной не упала, а была свалена, — сказал он. — Через дорогу была протянута проволока.
— Когда я приехал туда, ее уже не было.
— Стало быть, ее уже сняли. Я ее видел сам и даже задел за нее ногой.
Саррион задумался.
— Дай-ка мне записку, которую тебе прислал Занета, — сказал он.
— Она в кармане моего пальто, которое висит за дверью. Напрасно я поспешил с этой поездкой. Теперь я убежден, что не Занета прислал мне эту записку.
— Конечно, это писал не он, — подтвердил и Саррион, рассматривая записку у окна.
От утреннего света на его смелом узком лице явственно выступили все морщинки и гусиные лапки.
— Что же это значит? — спросил он наконец, складывая записку и кладя ее опять на прежнее место, в карман.
Марко с усилием приподнялся: ему уже хотелось спать.
— Я полагаю, что это дело рук Эвазио Мона, — произнес он.
— Никто другой в долине не решился бы сделать такой вещи, — согласился с ним Саррион.
— Если бы это сделал кто-нибудь из долины, то он пронзил бы меня ножом, пока я лежал на дороге. Но это было бы уже убийством.
Он коротко рассмеялся и замолк.
— А руки в бархатных перчатках не должны быть при-причастны к убийству, — заметил Саррион. — Но они еще не отказались от своих планов. Нам нужно следить за собой.
— И за Хуанитой.
— Я считаю ее в числе нас самих, — быстро добавил Саррион, услышав ее голос в коридоре.
Постучав в дверь, она вошла. Около нее извивался Перро.
— Долго же вы говорили о ваших секретах, — заговорила она. — А Марко нужно спать. Я привела с собой Перро, который хочет его видеть.
Перро, вследствие своего низкого происхождения и невоспитанности, готов был уже броситься к постели, где лежал его хозяин, но Хуанита крепко держала его.
— Не забудь, что ты здесь находишься только благодаря Перро. Если б он не вернулся назад и не разбудил бы нас, ты и до сих пор еще лежал бы на дороге.
Саррион заметил, что в своем рассказе о том, что случилось, она тщательно выгораживает себя. Ей как будто не хотелось, чтобы Марко знал, что Перро разбудил именно ее и что она-то и подняла тревогу.
— Какой-нибудь иезуит, идя по дороге, мог наткнуться на тебя, — продолжала она, обращаясь к Марко, — и сбросить тебя в пропасть. Это было нетрудно сделать.
Марко и Саррион переглянулись друг с другом. Хуанита поймала этот взгляд.
— Ты еще не знаешь, Марко, как они ненавидят тебя. Если бы ты был еретиком, то и тогда они не могли бы ненавидеть тебя сильнее. Я это знала, потому что отец Муро нередко говорил об этом на исповеди. Он не раз задавал мне разные вопросы о тебе, спрашивал, кто твой духовник, ходишь ли ты на богомолье. Я отвечала, — стой смирно, Перро! — что ты никогда не ходишь на богомолье и постоянно меняешь своего духовника.
Она не без труда вывела Перро из комнаты и вернулась, запыхавшись.
«О ней решительно некому позаботиться», — думал про себя Марко.
— Но отец Муро, — продолжала Хуанита, — сама простота и потому делал это очень плохо. Говорят, ему приказали делать это иезуиты, и потому он делал все кое-как. Его никто не боялся. Это святой человек и, наверно, попадет прямо в рай. Он не иезуит и боится иезуитов, как и другие…
Она замолчала и стала спускать шторы, чтобы смягчить свет загоравшегося дня.
В ее голосе звучало что-то, похожее на сдерживаемый гнев.
— Кроме Марко, — добавила она через плечо.
— И за это он теперь должен спать, пока не придет доктор из Памплоны, — заключила она.
Потом она вышла из комнаты сказать слугам, которые уже начинали свое дневное дело, чтобы они не шумели. Когда она вернулась в комнату, Марко уже спал.
— Доктор, вероятно, не приедет еще долго, — шепотом проговорил Саррион, стоя у окна. — Он слишком стар, чтобы ездить верхом, а экипажа у него нет. А отыскать другой, который согласился бы ехать так далеко и в такой ранний час, довольно трудно. Поэтому тебе не мешает воспользоваться теперь благоприятным случаем и заснуть.
Но Хуанита только покачала головой и рассмеялась.
Саррион не стал ее уговаривать и повернулся было, чтобы выйти из комнаты. Он уже взялся за ручку двери, как вдруг кто-то постучал в нее. То был слуга Марко.
— Доктор, — кратко доложил он.
В передней стоял человек среднего роста, измученный и усталый. На его лице лежали следы, которые не уничтожаются и не углубляются от времени, следы голодания. Тридцать лет тому назад он испытал на себе всю тяжесть первой карлистской войны и едва не умер с голода в Памплоне.
Саррион пожал ему руку и ввел в комнату больного.
— А! — воскликнул он, увидев Хуаниту. — Так это вы ухаживаете за вашим супругом?
Хуанита промолчала.
— Как долго он спит? — спросил доктор, наклоняясь к постели больного.
Вместо ответа Хуанита подала ему запись, которую он быстро пробежал опытным взглядом.
— Надо подождать, пока он проснется, — сказал доктор, обращаясь к Сарриону, — я его осмотрю слегка, пока он спит. Но беспокоиться, по-видимому, нечего. Это самый сильный человек во всей Наварре.
Усевшись около больного, он взял лекарство, прописанное деревенским аптекарем и, понюхав его, одобрительно кивнул головой. Потом он обвел глазами комнату, в которой царил полный порядок, словно в образцовом госпитале.
— Сразу видно, что у больного хорошая сиделка, — заметил он.
На его лице, покрытом морщинами, мелькнула легкая улыбка. Но Хуанита не ответила на его шутку и только посмотрела на него серьезными глазами.
— Я приехал сюда так скоро только благодаря любезности одного знакомого, — снова заговорил доктор, обращаясь на этот раз к Сарриону. — Мои лошади вчера были совсем без ног от усталости. Пришлось идти отыскивать других в Памплоне. В базарный день это не так то легко. Вдруг на площади Конституции я встретил ехавший экипаж. Его владелец, должно быть, сообразил, что я спешу, и пришел мне на помощь. Узнав об этом происшествии, он изменил свое намерение и решил провести несколько дней в Памплоне, а экипаж предоставил в мое распоряжение. Я мало знаю этого человека, но он мне говорил, что он ваш друг. Он из Сарагосы.
— А! — сорвалось у Сарриона, слушавшего этот рассказ с заметным вниманием.
— Он назвал себя Эвазио Моном, — продолжал доктор.
Марко, как будто тоже расслышав это имя, беспокойно зашевелился во сне.
В комнате воцарилось молчание.
XXIII Тонкий разговор
В течение целых двух недель Хуанита оставалась во главе всего управления в Торре-Гарде. Марко поправлялся довольно быстро. Его сломанные кости срастались, словно надломленные ветви молодого дерева. Ушибы и синяки подживали сами собой.
С восстановлением сил возвращалась и энергия. Больной, впрочем, все время общался с людьми. Многие приходили из долины, чтобы осведомиться о его здоровье. Некоторые присылали письма с выражением своего соболезнования. Некоторые уходили из имения с видом полного удовлетворения. Некоторые, наиболее цивилизованные, выпив в кухне стакан красного вина, поручали слуге доложить о их визите.
— Скажи, что был Педро с мельницы.
— Скажи, что заходил Фома с тремя пальцами.
— Заходил осведомиться Короткий Нож, — объяснял третий, постукивая по столу оружием, от которого получил свое прозвище.
— Далеко вам было идти? — спросила как-то Хуанита этих визитеров.
— Семьдесят миль по горам, — последовал ответ.
— Все твои друзья приходят осведомиться о твоем здоровье, — сообщила Хуанита Марко, — все это настоящие разбойники и невольно заставляют вспомнить о полиции. В долине, должно быть, нет ни мыла, ни цирюльников.
— Это все славный народ, хотя их наружность, действительно, может внушать страх.
— О, я нисколько не боюсь их! — воскликнула Хуанита, таинственно улыбаясь. — Зато кузина Пелигрос чуть жива от страха. Как она меня бранила за то, что я разговаривала с ними с террасы! Это разрушает пьедестал, на котором всегда должна стоять настоящая дама. А как ты думаешь, Марко, я стою на пьедестале или нет?
И она лукаво посмотрела на него сквозь складки своей мантильи. Она, очевидно, вызывала Марко на разговор, но он остался нем.
— Если они придут опять, — сказал он наконец усталым голосом, — то я хотел бы их видеть.
Но Хуанита уже успела переговорить на этот счет с аптекарем, и было отдано строгое распоряжение не допускать никого к больному. В конце концов пришлось, однако, уступить Марко, который быстро поправлялся.
Первым был допущен в комнату больного Короткий Нож. Это был простой человек, от которого пахло овечьими шкурами, но который был одарен таким же тактом, как и сильные мира сего. Он нисколько не смутился, войдя в комнату, и снял свой берет с гладко остриженной головы лишь тогда, когда заметил Хуаниту. Кивнув Марко, он, нисколько не смущаясь, опять надел его на голову.
— Это вы изволили недавно петь баскскую песнь там в горах? — спросил он, обращаясь к Хуаните. — Вы говорите по-баскски?
— Я не могу говорить так хорошо, как Марко, но во всяком случае понимаю этот язык.
— Ну, он наш, — промолвил баск, кивая головой в сторону больного, — вы знаете песни, которые женщины долины поют своим детям? Я не могу пропеть их вам, у меня нет голоса. Я могу петь только для горных козлов. А вы знаете, они очень любят музыку. Когда я пою, они становятся вокруг меня и слушают. Но если вы когда-нибудь будете в горах, моя жена споет их вам. У нас, слава Богу, детей довольно, и песни помогают укладывать их спать.
Считая, что он уже достаточно побеседовал с Хуанитой, Короткий Нож обратился к Марко и заговорил с ним по-баскски.
Хуанита вышла на балкон и, опершись на железную решетку, стала смотреть вниз, в долину. Она ясно видела, что Марко употребляет всевозможные уловки, чтобы удалить ее от себя, и старается найти для нее какое-нибудь занятие в другом месте.
— Ты не должен оставаться без меня, — заметила она ему однажды, — я вовсе не имею желания совершать прогулки с Пелигрос. Во время прогулки она только и думает, что о своих башмаках и платьях. Если уж я пойду гулять, то пойду с Перро. Впрочем, я вообще не намерена отлучаться.
Тем не менее она иногда исчезала. Попытки Марко найти для нее какое-либо дело в ином месте как-то вдруг прекратились. Хуанита обыкновенно сидела в гостиной, под комнатой больного, и посвящала много времени музыке.
Скоро она пристрастилась к народным песням басков, которые считались годными только для простонародья. Голос у нее был не сильный, но очень приятный, низкого тембра, так что казалось, будто поет какая-то много жившая и страдавшая в этом мире женщина. Она очень скоро освоилась с музыкальной манерой этих песен — перескакивать речитативом от слова к слову, манерой, оставшейся после мавров.
— Когда ты поправишься, — сказала она как-то Марко, — ты, вероятно, опять начнешь ездить верхом в долину и обратно?
— Да.
— А твои бесконечные наблюдения за карлистами?
— Они иногда приносят большую пользу, насколько я знаю.
И вот теперь, когда она стояла на балконе, эти разговоры припомнились ей с особой ясностью.
До нее долетали отдельные слова Марко. Он говорил о своих планах, о том, что он будет делать, когда можно будет опять сесть в седло. И в ее глазах отражалась какая-то мягкость и глубина, которую можно наблюдать у газели, когда она устремит на вас свой серьезный и задумчивый взор.
Вдруг внизу послышался стук копыт. От деревни ехал какой-то всадник. Ее глаза привыкли видеть в горах на огромное расстояние. Она быстро повернулась и вошла в комнату.
— Едет еще посетитель осведомиться о твоем здоровье. Синьор Мон.
От нее не укрылось, как вспыхнули черные глаза Марко.
Сарриона не было дома. Он рано утром уехал в одну из окрестных деревушек. Весть об этой поездке, может быть, уже дошла до ушей Эвазио Мона. Сеньорина Пелигрос предавалась отдыху, в расчете сохранить свои силы на вечер. Она принадлежала к числу тех неудачливых людей, которых никогда не бывает в тот самый момент, когда они нужны.
— Он не должен входить в эту комнату, — холодно сказала Хуанита, — я приму его внизу.
Эвазио Мон предстал с самой приветливой улыбкой.
— Я так рад, — начал он, — что Марко поправляется. Я узнал об этом несчастии в Памплоне. У меня выдался свободный денек, и я решил нанести визит.
Он посмотрел на нее, но счел лишним объяснить, относится ли этот визит к ней, как к новобрачной, или только к больному Марко.
— Ради одной вежливости не стоило совершать такой длинный путь, — отвечала Хуанита, которой ничего не стоило в случае надобности изобразить на своем лице такую же приветливую улыбку.
— Это не простая вежливость, — с серьезным видом продолжал Эвазио Мон, — я знал Марко с детства и постоянно следил за его успехами на жизненном пути, не всегда, впрочем, с легким сердцем.
— Это очень любезно с вашей стороны. Но зачем же следить за тем, что доставляет неприятность?
Мон быстро рассмеялся, желая показать, что он умеет понимать шутку.
— Нельзя забывать своих друзей. Нельзя и не огорчаться, когда они погружаются…
— Во что? — спросила Хуанита, направляясь к столу, где слуга уже поставил кофе.
— В политику.
— А разве заниматься политикой — преступление?
— Нет, но это занятие ведет к преступлениям. Впрочем, не будем говорить об этом, — вдруг перебил он сам себя, делая жест рукой, который показывал, что эта тема ему не особенно приятна. — Вы, как видно, чувствуете себя счастливой, — продолжал он, оглядывая ее с видом добродушия.
Эвазио Мон был человек быстрых жестов, но медленной, обдуманной речи. Он, по-видимому, всегда хотел сказать больше того, что заключалось в его словах.
Хуанита бросила на него быстрый взгляд. Откуда он знал, что она счастлива, и как он дошел до этой мысли? Ведь Марко, действительно, весь предался политике, о которой он, вероятно, говорит там наверху и в эту минуту. Намек Мона попал в цель.
— Леон очень беспокоился о вас, — продолжал ровным спокойным голосом Эвазио.
Это было, впрочем, совершенно не похоже на Леона, который не беспокоился ни о чем, кроме своей души. Но Хуанита не обратила на это внимания.
— Почему же?
— Ему очень не нравится, что и вы вовлечены в политику, — мягко отвечал Мон.
— Я? Каким образом я могу быть вовлечена в политику?
Мон пожал плечами и опять сделал жест, как бы желая показать, что он против своего желания поддерживает этот разговор.
— Да, — промолвил он как бы про себя, — мы живем в практическое время. Будем же практичны и мы. Он предпочитал бы, чтобы вы вышли замуж по любви. Впрочем, переменим этот разговор, дитя мое. Как поживает Саррион? Надеюсь, он в добром здоровье?
— Это очень любезно со стороны Леона, что он так заботится обо мне, — твердо сказала Хуанита, — но я могу позаботиться о себе и сама.
— То же самое говорил ему и я, — мягко заметил Мон, — я говорил ему — Хуанита уже не ребенок. Марко — честный человек и не станет ее обманывать. Он, вероятно, предупредил ее, что этот брак — дело политики, что тут и думать нечего о любви.
Мон пристально посмотрел на свою собеседницу, и Хуаните вдруг пришло на память, что так именно и говорил ей Марко. Мон угадал верно.
— С таким состоянием, как у вас, — продолжал он со смехом, — можно сделать или уничтожить любое дело. Ваше состояние, может быть, и окажется причиной вашего несчастья, кто знает?
Хуанита рассмеялась, желая показать, что эти слова она считает шуткой.
— Однако состояние принадлежит мне, — заметила она, сверкнув глазами, — и я предпочитаю, чтобы оно досталось Марко, а не церкви.
Эвазио Мон мягко улыбался.
— Конечно, конечно, — тихо сказал он, — вот это я и говорил Леону, и сестра Тереза согласна со мной. Но ведь могли быть и другие перспективы, и вашего состояния не получил бы ни Марко, ни церковь, а оно осталось бы у вас, как того и хотел ваш отец, мой старинный друг.
— Каким же образом оно могло бы остаться у меня? — спросила Хуанита, любопытство которой было уже возбуждено.
Мон пожал плечами.
— Папа мог бы уничтожить ваш брак одним росчерком пера, если бы захотел.
Он замолчал и из-под опущенных век пристально смотрел на нее.
— И насколько я знаю, он этого и желает. А чего желает папа, то нужно исполнять, если хочешь оставаться добрым католиком.
Хуанита улыбнулась. Она, видимо, не считала нужным соглашаться с папской непогрешимостью в делах сердца, и Мон понял, что он вступил на ложный путь.
— Я вдался в сентиментальность, — заговорил он с легким смехом, — мне хотелось бы, чтобы каждая девушка вступала в брак по любви… Мне хотелось бы, чтобы на любовь смотрели, как на нечто священное. Но, видимо, я уже становлюсь стар и отстаю от духа времени. Кажется, это Саррион?
Он встал и направился к двери. Он был прав. Саррион только что вернулся домой. Чувство гостеприимства завещано испанцам еще арабами. Мон проехал немало миль, и Саррион почти был рад его видеть.
XXIV Буревестник
Покидая комнату, Хуанита слышала, как Саррион спросил своего гостя, завтракал ли он, а тот отвечал, что еще не имел для этого времени. Она пожала плечами. Она ненавидела его, и ей было приятно думать, что он страдает хотя бы от голода. Что такое голод в сравнении с разбитым сердцем?
Она была спокойна и сосредоточена. Несмотря на свою веселость и как бы легкомыслие, она, как это нередко бывает, обладала решительным характером. Она решилась покинуть Торре-Гарду и Марко, который женился на ней только ради денег. Прямолинейность всегда является отличительной чертой людей решительного характера. Они смотрят только вперед и с таким упорством и вниманием, что не видят никакого бокового пути, а только одну дорожку, которая должна привести их к намеченной цели. Хуанита решила вернуться к сестре Терезе, опять в монастырскую школу на улице Dormitaleria. Ни карлисты, ни путешествие по беспокойному краю ее не пугали.
Хуанита схватила свое пальто и собрала все деньги, которые могла найти. Она не отличалась особой аккуратностью, и деньги приходилось извлекать отовсюду: из футляров от драгоценных вещей, из разных кошельков.
Марко еще продолжал разговаривать о политике со своим горцем, когда она мелькнула мимо его окна. Саррион и Эвазио Мон перешли в столовую, где к ним присоединилась Пелигрос. Она отнеслась к Эвазио Мону с величайшим почтением, зная, что он на короткой ноге с самыми влиятельными людьми.
Хуанита сообразила, что теперь самое удобное время для ухода: через полчаса она может быть уже на полдороге к Памплоне.
Окна гостиной были открыты. С минуту она посидела на подоконнике, потом бросилась в комнату и кое-как написала записку, которую адресовала на имя Марко. Положив ее на стол и перекинув плащ через плечо, она пустилась вниз к деревне, держась узкой дороги, вившейся зигзагами. Не доходя до деревни, она нагнала какой-то извозчичий экипаж, шажком спускавшийся под гору.
Экипаж был старомодный, на высоких узких колесах.
— Куда ты едешь? — спросила Хуанита извозчика, который снял свою шляпу и как будто поджидал ее.
— Я еду обратно в Памплону, сеньорита. Я возил багаж сеньора Мона. Сам он передвигается по горам пешком. Рассчитываю кого-нибудь подсадить до Памплоны. Не задаром бы возвращался.
Такая удача была довольно странна. Положим, что Хуаните всегда везло, и она была одной из тех, на долю которых всегда выпадают разные маленькие удачи. Такой же удачей сочла она и встречу с извозчиком. Она не радовалась ей и не удивлялась.
Такие мысли приходили ей в голову, когда она проезжала по маленькой горной деревушке.
— Что такое? Как будто гром или пушка? — спросил Эвазио Мон, сидевший еще в столовой за простым, но сытным завтраком.
— Клерикальные уши едва ли могут распознать пушки, — шутливо отвечал Саррион, — это не пушки, это кто-то проехал по мосту в деревне.
Мон кивнул головой и углубился в свой завтрак.
— Вид у Хуаниты счастливый и довольный, — заметил он, немного помолчав.
Саррион промолчал. Эту манеру не отвечать он заимствовал у Марко, зная, что в словесной войне она иной раз действительнее всяких слов.
— А как по-вашему?
— Конечно, вы правы, Эвазио.
Саррион все старался разгадать, зачем этот буревестник клерикальной политики пожаловал в Торре-Гарду. Его приход никогда не предвещал ничего доброго. Иезуит не любил рисковать, не любил театральных эффектов, но неутомимо и, не покладая рук, работал на пользу того дела, за которое взялся.
— Я не той стороны, которая выигрывает, но я уверен, что я на правильном пути, — заявил он однажды публично. Эта фраза обошла в свое время всю Испанию.
Покончив с завтраком, Эвазио стал говорить об отъезде и спросил, может ли он видеть Марко, чтобы поздравить его с избавлением от опасности.
— Этот случай должен послужить ему уроком не ездить по ночам. Долго ли до беды в этих горных теснинах.
— Конечно, — медленно проговорил Саррион.
— Я спрошу сиделку, можно ли войти к нему, — сказал Эвазио, вставая из-за стола.
— За ним ходит Хуанита. Я сейчас спрошу ее, — отвечал хозяин, без церемонии оглядывая все столы как бы для того, чтобы убедиться, не осталось ли где-нибудь на них письма или записки, которую Мон мог бы прочесть.
Войдя в комнату Марко, он увидал, что тот встал уже с постели и одевался с помощью слуги и горца. Быстрым жестом он указал отцу на открытое окно, через которое Эвазио Мон мог слышать каждое восклицание.
— Хуанита уехала, — сказал Марко отцу по-французски, — прочти эту записку. Это, конечно, его дело.
«Я знаю теперь, — писала Хуанита, — почему ты боишься, чтобы я не выросла. Но я уже выросла и поняла, зачем ты женился на мне».
— Я знал, что это произойдет рано или поздно, — продолжал Марко, осторожно продевая в рукав сломанную руку. Он был спокоен и сосредоточен, подобно человеку, над которым давно висела страшная опасность. Наконец эта опасность разразилась и невольно принесла с собой чувство облегчения.
Саррион молчал. Быть может, и он предвидел этот момент. Девушка — это закрытая книга. Никто не знал, что было написано внутри ее, в самом сердце Хуаниты.
— Она, очевидно, могла уехать только через долину, — продолжал он по-французски, который по матери был ему родным языком, — она, вероятно, уехала к сестре Терезе. Это он уговорил ее как-нибудь бежать. Направить ее в другое место он бы не решился.
— Я слышал, как проехал по мосту какой-то экипаж, — сказал Саррион, — он тоже слышал и спросил, что это такое. А через минуту он заговорил о Хуаните. Стук колес, по-видимому, напомнил ему о ней.
— Это значит, что он и подослал экипаж. Он, должно быть, ждал ее в деревне. Все, что он предпринимает, всегда бывает удивительно организовано. Сколько времени прошло с тех пор, как ты слышал этот стук?
— Около часа, а может быть, и больше.
Марко взглянул на часы.
— Он, конечно, принял все меры, чтобы ее довезли благополучно до Памплоны.
— В таком случае, куда же ты собираешься? — спросил Саррион, видя, что сын старается надеть пальто, без которого он никогда не ездил в горах.
— Еду за нею.
— Ты хочешь привезти ее обратно?
— Нет.
Марко задумчиво посмотрел в окно, откуда виднелись поросшие соснами вершины гор.
— Нет, — повторил Марко, — нет, если только она сама этого не пожелает. Уведи его, пожалуйста, из столовой в библиотеку, пока я не пройду. Скажи, что на веранде слишком жарко. Я поеду за ней и, по крайней мере, удостоверюсь, что она доехала до Памплоны благополучно.
Саррион рассмеялся.
— По крайней мере, можно будет извлечь хоть какую-нибудь пользу из него. Ведь он уверен, что ты лежишь в постели, а на самом деле ты будешь сидеть в седле.
— Он скоро догадается об этом.
— Конечно, а в это время…
— Да, — с улыбкой сказал Марко, — в это время…
С этими словами он вышел из комнаты. На пороге он остановился и через плечо посмотрел назад. В его глазах блестел гнев.
Саррион поспешил на веранду занимать своего нежданного гостя.
— Кофе нам подали в библиотеке. Здесь на солнце очень жарко, хотя теперь еще март!
— А какова резолюция Хуаниты? — спросил Мон, когда они уселись и закурили сигары.
— Резолюция не в нашу пользу, — отвечал Саррион, — решено ни в каком случае не допускать вас к Марко.
Мон вытянул руки, словно готовясь принять то, что и сам он считал неизбежным. Он был философом.
— Ага! — засмеялся он. — В такого рода делах дамы всегда имеют решающий голос. А Хуанита теперь стала настоящей дамой. Это видно: она начинает уже подавать свой голос.
— Да, — отвечал Саррион, едва усмехнувшись, — она начинает подавать свой голос.
С чисто испанской вежливостью Саррион предоставил в распоряжение Мона весь свой дом на случай, если он захочет провести ночь в Торре-Гарде. Но Мон отклонил это предложение.
— Я перелетная птица, — говорил он, — и к вечеру мне опять нужно быть в Памплоне. Благодаря вашему гостеприимству, я теперь хорошо подготовился к обратному путешествию…
Вдруг он замолчал и, прислушиваясь к чему-то, вопросительно посмотрел на окно. Саррион тоже насторожился. До него доносился стук копыт лошади: Марко был уже на мосту.
— Никак опять пушки? — со смехом спросил он.
— В самом деле я что-то слышал, — отвечал Мон.
И, быстро поднявшись, он подошел к окну. Саррион двинулся вслед за ним, и оба остановились друг против друга у окна. В этот момент через горы до них донесся какой-то слабый, но низкий звук.
— Я, кажется, был прав, — сказал Мон чуть не шепотом, — там начали свое дело карлисты, и я, как человек мирный, должен спешить под охрану городских стен.
Через несколько минут он уже сидел в седле и тихонько ехал по долине Волка вслед за Хуанитой, не зная, что между ним и ею движется Марко Саррион.
XXV Военная тревога
Экипаж Хуаниты выехал из долины реки Волка на равнину, когда солнце стало уже садиться. От нее не могло укрыться, что извозчик не обращает никакого внимания на своих лошадей. Вместо того, чтобы смотреть на дорогу, он постоянно повертывал голову вправо, рыская глазами по равнине и голым коричневым холмам.
Наконец он остановил лошадей и, повернувшись на козлах, поднял вверх палец.
— Слышите, сеньорита? — спросил он, смотря на нее горящими от возбуждения глазами.
Хуанита поднялась и стала прислушиваться, обернувшись лицом, как и извозчик, к западу. Звуки походили на гром, только были короче и отрывистее.
— Что это такое?
— Проклятые карлисты! — со смехом отвечал извозчик, тыкая кнутом по направлению к горам. — Видите вы темное пятно на дороге? — продолжал он, натягивая опять вожжи. — Это войска из Памплоны. Опять начинается.
У ворот города стояла целая толпа народа. Экипаж должен был остановиться возле деревьев у стены, чтобы пропустить войска и пушки, грохотавшие по склону. Люди смеялись и перекликались друг с другом. Офицеры, бодро сидевшие на своих конях, по-видимому, думали только о том, чтобы не повредить как-нибудь своих пушек.
Около кордегардии за вторыми воротами пришлось опять дожидаться. Извозчик был из Памплоны, и часовые его хорошо знали. Но они не знали его пассажирку и послали за офицером.
— Сеньорита Хуанита де Модженте, — пробормотал, увидев ее, офицер, сильный с проседью человек, куривший папиросу. — Я помню вас, когда вы были еще в школе, — продолжал он, отвешивая ей поклон. — Извините, что вас задержали. Пропустить сеньору де Саррион!
Хуанита добралась наконец до маленькой скудно меблированной приемной монастырской школы правоверных сестер.
В этом сумрачном доме не было, по-видимому, никаких перемен.
— Мать-настоятельница в настоящее время на молитве, — прошептала привратница.
Это была обычная формула: монахиня должна была всегда находиться на молитве. Хуанита улыбнулась, услышав эти привычные для нее слова.
— В таком случае я подожду, — сказала она, — но не долго.
И она фамильярно кивнула головой привратнице, как бы желая показать ей, что с ней нет надобности прибегать к профессиональным хитростям.
Оставшись одна в этой мрачной комнате, Хуанита стала ждать и, незаметно для себя, погрузилась в размышления.
Здесь, в стенах монастыря все было спокойно, все, казалось, носило отпечаток какой-то таинственности. При ближайшем знакомстве это чувство скоро уступало место другому — однообразной скуке. Эта монастырская таинственность может интересовать только того, кто стоит снаружи.
Каждый камень этого безмолвного дома был известен Хуаните, и ей стал казаться тесен весь распорядок этого дома.
— Им нечего там делать, — сказала она как-то раз Марко в шутку. — Вот они и поднимаются ни свет, ни заря.
Ей всегда казалось, что монастырь самое верное и мирное убежище от житейской борьбы. Но теперь, когда она опять вернулась на прежнее пепелище, ей пришло в голову, что лучше было бы остаться в миру и даже принять участие в этой мирской борьбе, если уж это неизбежно. Но природа наделила ее гордым и крепким сердцем. Нет, она предпочтет остаться здесь на веки, чем возвращаться к Марко, который осмелился жениться на ней, не любя ее.
Дверь приемной открылась, и на пороге показалась сестра Тереза.
— Я приехала обратно, — сказала Хуанита, — я покинула Торре-Гарду и хочу принять монашество.
Она испытующе посмотрела на сестру Терезу, стоявшую неподвижно, как статуя.
— Таким образом, я опять к вам, — продолжала Хуанита. — И опять в монастырь.
— Нет, — твердо и спокойно промолвила сестра Тереза.
— Но я приехала именно для этого. Мать-настоятельница…
— Мать-настоятельница уехала в Сарагосу. Вместо нее я.
Кровь Саррионов заговорила в сестре Терезе: на ее бледных щеках показался румянец, глаза вспыхнули и ярко горели под нависшим чепцом. Она приказывает и требует повиновения — вот что сквозило из каждой черты ее лица, из каждой складки ее платья, вдоль которого, казалось, бессильно повисли ее бледные тонкие руки.
Хуанита молча смотрела на нее. Ее щеки горели, голова откинулась назад, руки сжимались в кулаки.
— В таком случае я отправлюсь куда-нибудь в другое место. Но я не понимаю вас. Вы всегда хотели, чтобы я сделалась монахиней…
Сестра Тереза подняла руку и прервала ее слова.
Привычка к повиновению так сильна, что люди готовы скорее идти на смерть, чем изменить ей. Этот жест Хуанита знала хорошо: его боялись в школе.
— Думай хорошенько, — произнесла сестра Тереза. — Думай прежде, чем говорить подобные вещи.
— Да, да, — настаивала на своем Хуанита. — Если вы и не уговаривали меня словами, зато вы употребляли все средства, чтобы склонить меня к монашеству, хотели сделать так, чтобы мне не было другого выбора.
— Думай, что говоришь. Не впутывай меня в такие дела.
Хуанита замолчала. И вдруг с фотографической точностью в ее голове пронеслись воспоминания о тысячах разных случаев из ее школьной жизни.
— Хорошо, — заговорила она. — В таком случае вы сделали все возможное, чтобы я возненавидела это монашество.
— Вот как! — прошептала сестра Тереза с улыбкой.
— Стало быть, вы не хотели, чтобы я стала монахиней, — продолжала Хуанита, подходя к ней ближе и впиваясь глазами в ее лицо.
Но это лицо было непроницаемо и твердо, как камень.
— Отвечайте же! — воскликнула Хуанита нетерпеливо.
— Не все годятся для монашеской жизни, — обычным поучительным тоном заговорила сестра Тереза. — Я знала многих, которые потом жестоко страдали только потому, что ложно поняли свой долг. Я слышала, что из-за этого иногда разбивалась целая жизнь. Двух таких людей я знаю сама.
Хуанита, нетерпеливо ходившая взад и вперед, остановилась и посмотрела на сестру Терезу. Комната уже погрузилась в вечерний сумрак. Монастырская тишина действовала угнетающим образом.
— А вы сами годились для монастырской жизни? — неожиданно спросила Хуанита.
Ответа не последовало.
Хуанита вдруг опустилась на стул. Она явилась в монастырь голодной и усталой, и ей стало дурно. Серый сумрак, царивший в этих стенах, казалось, намекал на жизнь, лишенную всяких надежд.
— Желала бы я знать, кто этот другой, — прошептала Хуанита.
Вдруг она вскочила с места и порывисто поцеловала сестру Терезу.
— Я всегда боялась вас, — заговорила она со смехом, который изумил ее саму.
Потом она опять опустилась на стул. В комнате стало совсем темно, и лишь окно белело серым четырехугольником.
— Я так голодна и так устала, — промолвила Хуанита слабым голосом, — но я все-таки очень рада, что приехала сюда. Я не могла и часу оставаться в Торре-Гарде. Марко женился на мне из-за денег. Деньги нужны были для каких-то политических целей. Без меня их нельзя было достать — вот меня и втянули.
Она тяжело облокотилась обеими руками на стол и взглянула на сестру Терезу, видимо, ожидая, что она издаст восклицание удивления и ужаса. Но та стояла неподвижно и безмолвно.
— Вы это знали? — спросила Хуанита изменившимся голосом. — Вы, стало быть, тоже участвовали в заговоре, как и дядя Рамон и Марко? Может быть, вы и придумали все это, чтобы я вышла замуж за Марко?
— Если ты спрашиваешь меня, то я отвечу тебе, — промолвила наконец сестра Тереза. — Я полагала, что ты будешь гораздо счастливее замужем за Марко, чем в монастыре. Таково мое мнение, таково же мнение и других. Есть немало девушек, которые…
— Вот как! — страстно воскликнула Хуанита. — Кто, например?
— Я говорю вообще, дитя мое.
Хуанита взглянула на нее подозрительно.
— Я думала, что вы разумеете Милагрос. Он однажды сказал, что находит ее очень красивой и что ему нравятся ее волосы. Они совершенно красные, это всякий знает. Кроме того, ведь мы уже обвенчаны.
Она опустила голову на свои сложенные руки — школьная привычка, вернувшаяся к ней под влиянием знакомой обстановки.
— Мне все равно, что со мной будет, — устало сказала она. — Я не знаю, что мне делать. Как жаль, что папа умер, а Леон — такой глупец. Вы знаете, какой он.
Сестра Тереза по-прежнему стояла безмолвно, ожидая решения Хуаниты.
— Я так устала и так голодна, — промолвила она. — Мне бы хотелось чего-нибудь съесть. Я заплачу.
— Хорошо. Тебе дадут кушать.
— Позвольте мне также остаться здесь, хоть на сегодня.
— Нет, этого нельзя, — отвечала сестра Тереза.
Хуанита взглянула на нее с изумлением.
— В таком случае, куда же мне деваться?
— Поезжай обратно к мужу, — раздался тот же спокойный, неумолимый голос. — Я могу отвезти тебя к Марко. Отвезу сама.
Хуанита гневно рассмеялась и затрясла головой. В ней было немало энергии, которая заставляла ее бороться до конца, преодолевая утомление и голод.
— Вы, конечно, можете распоряжаться здесь всем, но я не думаю, чтобы вы могли выкинуть меня на улицу.
— В исключительном случае я могу сделать и это.
— Вот как! — пробормотала Хуанита, не веря своим ушам.
— Теперь такой случай и есть. А теперь прочти вот это.
И она положила перед Хуанитой бумагу, которую в темноте нельзя было прочесть. Потом она подошла к камину, где стояли два подсвечника и стала зажигать свечи.
Пока спички разгорались слабым фосфорическим светом, Хуанита равнодушно смотрела на бумагу, на которой было что-то напечатано.
— Это объявление о введении осадного положения, — промолвила сестра Тереза, видя, что гостья не изъявляет особого желания ознакомиться с ним. — Оно подписано генералом Пачеко, который прибыл сюда сегодня с большими силами. Ожидают, что завтра утром Памплона будет уже окружена. Окружение, конечно, будет затяжное, и легко может возникнуть голод. Каждый домохозяин должен составить список всех тех, кто находится под его крышей.
Он не имеет права впускать к себе посторонних. Вот почему и я не могу принять тебя.
Сестра Тереза поставила свечи на стол, и Хуанита могла теперь прочесть объявление сама. Это был краткий документ чисто военного характера. Но Памплона не раз уже видала подобные вещи и прекрасно знала, что они значат.
— Не забывай этого, — сказала сестра Тереза, складывая бумагу и пряча ее в карман. — Я пришлю тебе сюда что-нибудь поесть.
Она вышла из комнаты, оставив Хуаниту раздумывать о том, что, как ни старайся иногда устраивать свою жизнь, история целого народа вдруг врывается в историю отдельного лица и идет в ней гигантскими шагами.
Какая-то монахиня принесла поднос с закусками и молча поставила его на стол. Хуанита знала ее отлично, и она, конечно, знала историю Хуаниты, ибо на ее набожном лице вдруг сложились какие-то складки, свидетельствующие о глубоком разочаровании.
Хуанита принялась с большим аппетитом утолять голод, не замечая, что еда была самая простая. Она закончила свой обед прежде, чем сестра Тереза успела вернуться и, сама того не замечая, поставила все обратно на поднос, как это обычно делалось в столовой школы. Потом, отворив окно, Хуанита стала прислушиваться. Гром войны отчетливо доносился до ее ушей. Отдаленный грохот пушек указывал на приближение карлистов. Вблизи слышны были рожки, сзывавшие людей. По улице Dormitaleria раздавался тяжелый топот людей, бежавших в разные стороны.
— Ну, — заговорила сестра Тереза, — что же ты решила делать?
Хуанита, не оборачиваясь, продолжала прислушиваться к звукам войны.
— Неужели это действительно карлисты? — спросила она.
— Конечно. Ведь они готовились целую зиму.
— И Памплона будет окружена?
— Вероятно.
— А Торре-Гарда?
— Торре-Гарда, — отвечала монахиня, — вероятно, уже взята. Карлисты решили овладеть ею во что бы то ни стало. Ведь это ключ к долине, где происходит сражение.
— В таком случае я возвращаюсь в Торре-Гарду, — промолвила Хуанита.
XXVI У брода
— Двух монахинь пропустят куда угодно, — говорила сестра Тереза, ведя Хуаниту в свою келью, которая находилась в верхнем коридоре. Она достала для Хуаниты монашеское одеяние, которое должно было служить им паспортом и давало возможность ходить по городу, перебраться через границу и даже проникнуть на поле сражения.
Сестра Тереза была права: у городских ворот, где стояли часовые, их экипаж пропустили совершенно свободно, кивнув головой кучеру.
Стояла темная, безлунная ночь. Довольно сильный ветер, дувший с Пиренеев на более теплые равнины Испании, срывал надувшиеся уже почки деревьев, которыми была обсажена дорога за городом.
— Я догадываюсь, — вдруг сказала сестра Тереза, — что сегодня в Торре-Гарде был Эвазио Мон.
— Да.
— И пока ты ехала сюда, он остался там.
— Да.
— В таком случае мы встретимся с ним по дороге, — сказала сестра Тереза.
В ее голосе послышалось беспокойство. Она встала в экипаже и что-то тихо сказала кучеру на ухо. То был здоровый, почтенный человек, услугами которого пользовались главным образом клерикальные круги благочестивой наваррской столицы. С ним можно было говорить по секрету.
Отдаленные выстрелы уже смолкли, и полная тишина царила над пустынной равниной. Здесь не было видно ни одного деревца, где могли бы спрятаться птицы и пошелестеть ветер. Лошади бежали легкой рысцой. Хуанита, обыкновенно довольно разговорчивая, смолкла: казалось, ей нечего больше сказать сестре Терезе. Кучер, вероятно, слышал их разговор, вследствие чего, а, может быть, и по другой причине сестра Тереза была молчалива.
Подъехав к холмам, они очутились в более пересеченной местности и с раздражающей правильностью то поднимались по дороге, то начинали опять спускаться. Хуанита внимательно смотрела на верхушки гор, поросшие соснами.
— Ты видишь что-нибудь? — спросила ее сестра Тереза.
— Нет. Отсюда ничего нельзя разглядеть.
— Там, на склоне горы, как будто виднеется церковь.
— Это церковь Богородицы в Тени, — коротко ответила Хуанита и погрузилась в молчание. Она вспомнила, как поразило ее это название, когда она впервые услышала его от молодого офицера.
Кучер повернулся на своем сидении и как будто старался подслушать, о чем они говорят. Он, видимо, беспокоился и беспрестанно поворачивал голову в разные стороны. Наконец, когда лошади поднялись на вершину холма, он совсем обернулся к ним.
— Вы не изволите ничего слышать? — спросил он.
— Нет, — отвечала сестра Тереза. — А почему ты спрашиваешь?
— Сзади нас кто-то едет верхом из Памплоны, — отвечал он с напускным спокойствием. — Он поехал в обход и теперь как раз перед нами. Я слышу, как он едет.
И он слегка прикрикнул на лошадей, чтобы придать им ходу. Экипаж подъезжал к долине реки Волка, и в темноте слышно было, как ревели его бурные воды. Дорога шла по самому краю его западного берега на расстоянии десяти миль вплоть до того места, где, не доходя Торре-Гарды, она переходит через мост на солнечную сторону, на которой лепится деревушка под развалинами старинного замка, давшего ей свое название.
Лошади шли теперь шагом, и кучер, чтобы показать свою храбрость и беззаботность, тихонько напевал про себя какую-то песенку. Вдруг на вершине одного из холмов вспыхнул огонь, и громкий ружейный залп почти оглушил и лошадей, и кучера. Хуанита в эту минуту случайно смотрела на вершину холма, и ей видно было, как огонек сверкнул извилистой линией, словно змея, шмыгнувшая в траву. В одну минуту экипаж повернул обратно, и лошади помчались опять вниз с холма. Кучер правил ими стоя. Покрикивая на лошадей, он с необыкновенным искусством правил ими, ловко огибая повороты дороги. В то же время он громко выражал свои чувства, облекая их в такие выражения, от которых кузина Пелигрос упала бы в обморок.
Хуанита и сестра Тереза поднялись со своих мест и смотрели назад. При свете выстрелов они заметили, что какой-то человек, пригнувшись к шее лошади, карьером мчится за ними, стараясь скорее миновать опасную полосу.
— Слышали, как засвистели пули? — в волнении спросила свою спутницу Хуанита. — Звук был такой, как будто ветер загудел в телеграфной проволоке. О, как бы я хотела быть мужчиной! Я была бы солдатом!
И она возбужденно засмеялась.
Между тем кучер остановил лошадей. Он тоже громко рассмеялся.
— Это войска, — сказал он. — Они вообразили, что мы карлисты. Но кто это сзади нас, сеньоры?
Он перегнулся назад и быстро повернул экипажный фонарь, так что свет от него упал как раз на нового спутника.
Всадник остановил лошадь и вошел в область лучей. Фонарь светил довольно ярко.
Вдруг Хуанита испустила крик, который не забудет до конца жизни ни один из тех, кто его слышал.
— Это Марко! — кричала она, прижимаясь к сестре Терезе. — И он проехал через это, через это!..
— Никто не ранен? — произнес голос Марко.
— Никто, сеньор, — отвечал узнавший его извозчик.
— А лошади?
— Целы и лошади. Будь они прокляты, они чуть было не перестреляли нас всех. Эти войска приняли нас за карлистов.
— Нет, это не войска, а карлисты, — возразил Марко. — Войска отступили дальше в долину, где и окопались. Послали в Памплону за подкреплениями. Карлисты засели здесь, чтобы устроить ловушку этим подкреплениям. Ваш экипаж они приняли за орудие.
Извозчик почесал себе голову и ругнул хорошенько карлистов.
— Сегодня нельзя проехать в долину, — объявил Марко. — Вам надо вернуться в Памплону.
— А ты что будешь делать? — твердо спросила Хуанита.
— Я пойду пешком в Торре-Гарду, — сказал Марко по-французски, чтобы извозчик не мог его понять. — Здесь есть в горах тропинка, которую знают два-три человека.
— Дядя Рамон в Торре-Гарде? — так же отрывисто спросила Хуанита.
— Да.
— В таком случае я пойду с тобой, — заявила она, уже открывая дверцу экипажа.
— Отсюда будет шестнадцать миль по крутым горам, — пояснил Марко. — Последний переход можно сделать только днем. Мне придется блуждать в горах целую ночь.
Хуанита открыла дверцу и смотрела, как он садился на свою высокую черную лошадь.
— Если ты возьмешь меня с собой, то я от тебя не отстану, — сказала она по-французски.
Сестра Тереза молчала. С тех пор, как подъехал Марко, она не проронила ни слова.
Едва оправившись от болезни, Марко не годился для такого путешествия. Он, очевидно, сильно устал. Хуанита догадалась, что Марко следовал за их экипажем от самой Памплоны и, не найдя войск там, где он предполагал их найти, он помчался дальше, чтобы выяснить причину этого, и незаметно проскользнул сквозь линии карлистов. Представлялось весьма сомнительным, чтобы Хуанита могла совершить пешком путь до Торре-Гарды. В окрестностях было неспокойно. Везде сильно таял снег. И со стороны раненого и молодой девушки было бы безумием идти в Торре-Гарду через проходы, занятые неприятелем.
Сестра Тереза молчала по-прежнему. Марко неподвижно сидел в седле. Свет от фонаря не достигал его лица и освещал только Хуаниту, стоявшую среди пыльной дороги в одеянии монахини. Молчание Марко как бы указывало на его согласие, и можно было подумать, что он только дожидался, когда Хуанита выйдет из экипажа.
Войдя в полосу света, Марко вынул из кармана какую-то бумажку и стал ее развертывать. Хуанита узнала записку, которую она оставила в гостиной Торре-Гарды. Расправив бумажку, он положил ее на запыленный кузов экипажа и написал на ней карандашом несколько слов.
— Поезжай обратно в Памплону, — сказал он извозчику тем повелительным тоном, который сохранился лишь кое-где в Европе от феодальных времен. — Во что бы то ни стало. Понимаешь? Если по дороге встретятся подкрепления, передай эту записку командиру. Непременно передай и притом в собственные руки. Если не встретишь войск, отправляйся немедленно в дом коменданта Памплоны и передай эту записку ему. Наблюдайте за тем, чтобы он исполнил это, — добавил он тихонько, обращаясь к сестре Терезе.
Извозчик стал уверять, что только одна смерть может помешать ему исполнить поручение.
Марко раздумывал. Нужно было сообразить и решить сейчас же тысячу вещей. Ему ведь предстояло вернуться в долину реки Волка, которая была отрезана от всего мира двумя армиями, смертельно ненавидевшими друг друга.
Это молчание было прервано спокойным и тихим голосом сестры Терезы:
— Где Эвазио Мон? — спросила она.
Марко ответил веселым смехом.
— Он попался теперь в долине, — произнес он по-французски. — По крайней мере, мне так кажется.
Стрельба прекратилась так же внезапно, как и началась. В долине воцарилась глубокая тишина, прерываемая только шумом реки.
— Ты готов? — спросила сестра Тереза извозчика.
— Да.
— В таком случае, трогай.
Она, по всей вероятности, кивнула головой Марко и Хуаните, но те в темноте не могли этого видеть. Словами она с ними не прощалась. Экипаж тронулся, и Марко и Хуанита остались одни.
— Некоторое время мы можем ехать верхом и переедем через реку несколько выше, — сказал Марко.
Ему, по-видимому, в голову не приходило, что следовало бы прежде всего объясниться. Хуаниту охватило самое могучее возбуждение — возбуждение битвы.
— Мы поедем поближе к карлистам? — поспешно сказала она.
Кровь загорелась в ее жилах, и по ее голосу ясно было слышно, что она охвачена нетерпением.
— Придется, — отвечал Марко. — Придется переезжать реку как раз под ними. Надо подвигаться бесшумно. Нельзя разговаривать даже шепотом.
И с этими словами он подвел свою лошадь к одному из больших камней, которые лежали на краю дороги, чтобы было видно, где начинается обрыв.
— Я могу подать тебе только одну руку, — сказал он. — Можешь ли ты сесть на лошадь с этого камня?
— Сзади тебя? Как мы делали, когда я была еще маленькой?
Как большинство испанцев, Марко вырос в седле, Хуанита тоже не боялась лошадей: она вскарабкалась на широкий круп лошади и, обхватив Марко обеими руками, уселась, как в дамском седле.
— Если мы поедем рысью, я упаду, — со смехом шепнула она.
Они скоро съехали с дороги и стали спускаться к реке по крутой узкой тропинке, которую можно было различить только потому, что на ней не было в изобилии росших кругом кустов. Через брод тропинка вела к хижине, которую из вежливости называли фермой: земли при ней едва ли можно было насчитать и акр.
Почва была мягкая, мшистая и, благодаря шуму реки, неслышно было, как лошадь осторожно спускалась вниз. Через несколько минут они достигли воды, и лошадь храбро пошла вброд. На другом берегу Марко шепнул Хуаните, чтобы она слезла с лошади.
— Вот ферма. Лошадь я оставлю здесь в сарае.
Он также слез с седла.
— Подождем здесь несколько минут. Поднимается луна. Может быть, карлисты побывали и здесь.
Небо стало светлеть. Через минуту-другую месяц выглянул из-за резко очерченных вершин холмов и залил долину красноватым светом.
— Нет, все идет хорошо. В хижине все спят. Из-за шума реки они, должно быть, не слыхали стрельбы. Тут мои друзья. Они нас накормят и дадут тебе другую одежду. В этой нельзя идти.
— О, — со смехом заметила Хуанита, — я теперь надела монашеское платье, а его снимать уже нельзя.
И она протянула руки к своему развевающемуся капору, как бы желая защитить его от нападения.
Вдруг Марко обернулся, обхватил ее больной рукой, а здоровой зажал обе ее руки. Потом он быстро сорвал с ее головы капор и бросил его в реку. Накрахмаленный полотняный убор быстро закружился в ее волнах.
Хуанита продолжала смеяться, но Марко не отвечал на ее веселость. Она вспомнила, что однажды она уже угрожала Марко надеть монашеское платье, вспомнила и совет Сарриона не делать этого, так как это может встревожить его.
Оба молчали довольно долго.
— У тебя только одна рука, но зато какая сильная, — сказала наконец Хуанита с напускной веселостью.
И она украдкой посмотрела на него из-под своих длинных ресниц.
XXVII В облаках
Марко привязал свою лошадь к дереву и направился к хижине. В ней, казалось, не было ни запора, ни решеток. Существование этого брода знали немногие, да и река Волк пользовалась дурною славой, и это спасало хижину. Дверь растворилась настежь при первом же усилии, и Марко вошел внутрь. В очаге тлели еще дрова, и в закопченной от дыма хижине стоял какой-то кислый запах.
Марко окликнул хозяина по имени. В соседней комнате кто-то завозился. Слышно было, как чиркнули спичкой. Через минуту дверь открылась, и в ней показалась старуха, державшая над головой лампу.
— Ах, это вы, — сказала она. — И ваша жена здесь! Что вы делаете здесь в такой час?.. Карлисты?
— Да, карлисты, — отрывочно отвечал Марко. — По дороге нам нельзя проехать. Мы отослали экипаж назад и пойдем пешком через горы.
Старуха подняла руки и затрясла ими в знак своего ужаса.
— О, — вскричала она, — возврата для вас нет. Но я знаю вас. Если вы захотите, то пройдете, хотя бы на вас падал дождь скал. Но ваша жена! Вы и не знаете, какой это ребенок с блестящими глазами. Садитесь, дитя мое. Я сейчас дам вам все, что могу. Я одна в этом доме. Все мужчины ушли в долину рубить дрова, да кстати взглянуть, что стало теперь с нашими хижинами там на горах.
Марко поблагодарил ее и объяснил, что им нужно только поставить куда-нибудь лошадь.
— Мы идем в долину сегодня же ночью, — сказал он, — и там, очевидно, встретимся с вашим мужем и сыновьями! А на рассвете поспешим в Торре-Гарду. Но нам нужно платье и платок какой-нибудь из ваших дочерей. Сеньора не может идти в этом платье, оно слишком тонко и длинно.
— Мои дочери… — начала было старуха, умоляюще складывая руки.
— Славные девицы, — со смехом перебил ее Марко. — Они известны всей долине.
— Они не дурны, — согласилась и мать, — но все же это капуста в сравнении с цветком. И, однако, мы можем укрыть цветок в капустных листах.
И она громко рассмеялась своей собственной шутке.
— Займитесь же этим, пока я буду привязывать лошадь, — сказал Марко.
Он вышел из комнаты. До слуха его донеслись слова старухи, что Хуанита потеряла свою мантилью, пока они пробирались в темноте сквозь деревья.
Пока он привязывал лошадь, Хуанита переодевалась, и из хижины неслись веселые крики и смех. Хуанита выросла среди этого народа и умела ладить с ним не хуже, чем он сам.
Вернувшись в хижину, Марко нашел свою жену готовой к дальнейшему пути.
— Я говорила сеньоре, — объясняла старуха, — чтобы она не особенно рассматривала нашу хижину. Я не была в ней уж месяцев шесть, а мужчины, вы знаете, что это такое. Они не лучше собак, право. В сарае у нас найдется довольно сена и сухих веток терновника, и вы можете устроить себе мягкую, хорошую постель и соснете часика два-три. А я дам сейчас вашей супруге чистое одеяло. Смотрите, оно совсем чистое. Никто из нас им и не накрывался, — простодушно добавила она.
Марко взял одеяло, а Хуанита поспешила утешить хозяйку, говоря, что она всегда спит отлично и прекрасно вздремнет и теперь на сене. Старуха заставила их выпить кофе и подала свежеиспеченный хлеб.
— Он может приготовить для вас отличный завтрак, — прошептала она, указывая Хуаните на ее мужа. — Он такой же, как и мы сами. Это всякий скажет вам в долине. Большой барин должен уметь и приготовить себе завтрак.
Хуанита и Марко двинулись в путь. Местность была освещена каким-то желтоватым светом убывающей луны. Марко шел впереди, показывая дорогу по тропинке, которую едва можно различить среди скал и обрывов. Раза два он останавливался и молча помогал Хуаните переходить через опасные места. Разговаривать было нельзя.
Часа два медленно поднимались они в гору. Вдруг невдалеке раздался лай собаки. Марко понял, что они уже недалеко от хижины.
— Кто здесь? — спросил чей-то голос.
— Марко де Саррион, — отвечал Марко. — Не надо зажигать огня.
— Да и свечей у нас здесь нет, — со смехом отвечал голос.
Разговор велся по-баскски.
Хуанита сильно устала и присела на камень. Появились три человека: отец и два сына, все низенькие, коренастые, молчаливые. Они встали перед Марко и стали разговаривать с ним односложными словами, как это бывает между друзьями. Потом они принесли сена и сухих веток терновника. В сарае, устроенном из четырех бревен и крыши, они устроили постель для Хуаниты и натыкали кругом нее свежих веток, чтобы защитить ее от ветра.
— Звезды вам будут видны, — сказал старик, стряхивая одеяло, которое Марко принес с собой из хижины. — Хорошо смотреть на звезды, когда засыпаешь. Словно святые сторожат вокруг.
Через несколько минут Хуанита, свернувшись под одеялом, уже спала, словно усталый ребенок. Сквозь сон ей слышались голоса Марко и крестьян, беседовавших в полуразрушенной хижине.
Заря едва занималась, когда Марко разбудил Хуаниту.
— Я едва успела соснуть минут десять, — жалобно сказала она.
— Ты спала три часа, — возразил Марко тихим голосом, каким, казалось, только и можно было говорить при наступлении зари. — Я приготовил кофе. Иди, выпей.
Хуанита нашла около себя ведро с водой и сохранившийся от прошлого года кусочек желтого мыла, тщательно очищенный со всех сторон ножом. Нашлось и чистое полотенце.
— Я теперь понимаю, что делает мужчин цыганами, — сказала она, присоединяясь к Марко, который хлопотал около костра, разложенного у самой двери хижины. — Теперь я всегда буду относиться к ним дружелюбно. Они иной раз спускаются прямо с неба к людям, которые спят в душных домах и умываются теплой водой.
При воспоминании о том, как она умывалась, ее слегка бросило в дрожь, и она залилась веселым смехом.
— Где же наши хозяева? — спросила она.
— Один отправился в Памплону, другой понес записку офицеру, который командует подкреплениями, высланными Зенетой. Третий пошел вниз за матерью, которая должна печь здесь целый день хлеб. К вечеру здесь будет уже целая армия.
Хуанита молча смотрела, как Марко старался раздуть огонь с помощью испорченных мехов.
— Я полагаю, что ты об этом и думал все время, пока мы поднимались сюда сегодня ночью, — сказала она.
— Ты угадала.
Хуанита слегка нахмурилась: ей как будто не хотелось верить этому.
Совсем рассвело. Верхушки холмов окрасились розовым цветом. По долине стала разливаться слабая теплота, ночной холодный воздух падал вниз в виде тумана.
— О чем ты думаешь? — вдруг спросил Марко свою жену, которая неподвижно следила за его действиями.
— Я думаю о том, как хорошо, что ты привык жить вне дома, — отвечала она с беззаботным смехом.
Крестьяне уже пригнали на горные пастбища своих коров, и в хижине молока было сколько угодно. Марко приготовил завтрак.
— Педро в особенности наказывал мне дать тебе чашку с ручкой, — говорил он, наливая кофе из старого, помятого кофейника.
За завтраком, скудным и однообразным, они не разговаривали. Хуанита решила, что пришел наконец момент, когда необходимо объясниться, хотя Марко этого объяснения и не требовал. Они теперь были одни, одни в целом мире, потому что даже коровы отошли от них прочь. Собаки также ушли в долину за своими хозяевами. Она знала каждую мысль Марко и никогда не чувствовала к нему страха. Чего же ей бояться теперь?
— Марко, — заговорила она, — отдай мне письмо, которое я написала тебе в Торре-Гарде.
Он порылся в кармане и, не глядя, отдал ей первый попавшийся ему под руку кусок бумаги. Хуанита развернула его. Это была записка, которую она когда-то просунула ему через стену монастырской школы в Сарагосе. Она и забыла о ней, а Марко все время хранил ее при себе.
— Это не то, — серьезно сказала она и отдала записку обратно.
Марко тряхнул головой, как бы досадуя на свою оплошность. Он обыкновенно был очень аккуратен в делах. Порывшись, он протянул ей половинку ее письма, которое оказалось разорванным надвое. Другая половинка с донесением попала, очевидно, в Мадрид в военное министерство. Хуанита уже приготовилась в уме к объяснению. В этот момент она чувствовала себя госпожой положения.
Она медленно разорвала письмо на мелкие кусочки и бросила их в огонь.
— Ты знаешь, почему я вернулась назад? — спросила она, не замечая того, что этот вопрос вовсе не входил в план атаки.
— Нет.
— Потому, что ты никогда не делал вида, будто бы ты ухаживаешь за мной. Если б ты это сделал, я никогда не простила бы этого тебе.
Марко не отвечал. Он медленно поднял глаза, думая, что она, вероятно, глядит куда-нибудь в сторону. Но ее глаза как раз встретились с его, она вздрогнула и сделала невольное движение, как будто желая отодвинуться от него. Его лицо вспыхнуло румянцем, быстро, впрочем, потухшим. Через минуту она по-прежнему неподвижно сидела около костра и глядела на огонь.
Вдруг она встала, быстро подошла к краю плато, на котором стояла избушка, и остановилась здесь, вперив глаза вдаль, за горы.
Тем временем Марко занялся приведением в порядок вещей хозяина избушки, ставя их на то самое место, откуда он их взял. Потом он принялся мешать огонь и выбрасывать из костра тлевшие головешки.
Хуанита через плечо наблюдала за ним с каким-то загадочным упорством. Под ее длинными ресницами блестела улыбка — улыбка торжества и нежности.
XXVIII Бархатные перчатки
Дальнейший путь они совершили без всяких приключений. Прежняя жажда приключений, приводившая их в эти горы, когда они были еще детьми, казалось, появилась опять, и они чувствовали себя товарищами. Хуанита была рассеяна и карабкалась по горам без обычной своей ловкости. В одном месте она сделала неправильное движение, отчего сорвался и полетел вниз по склону огромный камень.
— Будь осторожней, — почти резко сказал Марко. — Ты не думаешь совсем о том, что делаешь.
Хуанита выслушала замечание с необычной для нее кротостью и стала осторожнее при подъеме на крутую гору, где снег уже подтаял от утреннего солнца. Мало-помалу они добрались до высшей точки долины — овальной груды камней и снега, из которого, казалось, не было никакого выхода. В самом низу, у подножия склона, пройти который, казалось, было вовсе нетрудно, лежал труп какого-то человека.
— Это какой-то карлист, — объяснил Марко. — Несколько дней тому назад мы слышали, что они хотели отыскать себе другую дорогу в Торре-Гарду. Эта долина — настоящая ловушка. Дорога в Торре-Гарду вовсе не здесь, а весь этот склон покрыт льдом. Смотри, около него лежит нож. Это он хотел высечь во льду ступени. Нам надо идти в эту сторону.
И он поскорее повел Хуаниту прочь.
В девять часов они прошли последний откос и остановились как раз над Toppe-Гардой. Перед ними была долина реки Волка, вся залитая солнцем. Дорога лежала в долине, словно желтая лента на широкой груди матери-природы.
Через полчаса они достигли сосновой рощицы, откуда уже было слышно, как на террасе лаял Перро. Скоро собака бросилась им навстречу, а за нею показался и Саррион, который, по-видимому, нисколько не удивился возвращению Хуаниты.
— Тебе безопаснее было бы остаться в Памплоне, — сказал он, бросив на нее острый взгляд.
— Я и здесь в полной безопасности, — отвечала Хуанита, в свою очередь взглянув на него.
Саррион стал расспрашивать сына, как его плечо и не слишком ли он устал. Вместо Марко отвечала Хуанита, давая гораздо более обстоятельные ответы.
— Вот что значит хороший уход, — промолвил Саррион, беря Хуаниту под руку.
— Тут дело не в уходе, а в его крепком здоровье, — отвечала она, бросая пристальный взгляд на Марко.
Тот, впрочем, этого не заметил и по-прежнему продолжал смотреть вперед.
— Дядя Рамон, — обратилась Хуанита к Сарриону, когда час спустя они сидели вдвоем на террасе, — дядя Рамон, приходилось вам когда-нибудь играть в пелоту?
— Каждый баск должен уметь играть в пелоту.
Хуанита кивнула головой и погрузилась в задумчивое молчание: казалось, она что-то обдумывала про себя. По временам относительно Сарриона и самого Марко она принимала какой-то покровительственный тон, как будто бы ей было известно многое такое, что было скрыто от них, и для нее открывался доступ в такие сферы жизни, которые были закрыты для них.
— Вообразите себе, — заговорила она наконец, — относительно этой игры следующее: что в этой игре вместо мяча приходится перебрасывать женщину. Разве для нее не естественно полюбопытствовать, что из этого выйдет дальше? Можно даже спросить, не имеет ли она даже права знать это?
— Совершенно верно, — согласился с нею Саррион, быстро сообразивший, что Хуанита ищет решительного объяснения. В такие моменты женщины говорят всегда решительнее и откровеннее.
Он закурил сигару и легким жестом отбросил далеко от себя спичку, как бы желая этим показать, что он готов ее выслушать.
— Почему Эвазио Мон хотел, чтобы я стала монахиней? — спросила Хуанита в упор.
— Потому, что у тебя три миллиона песет.
— Если б я стала монахиней, то церковь присвоила бы эти деньги себе?
— Иезуиты, а не церковь. Это не одно и то же, хотя люди и не всегда отдают себе отчет в этом. Присвоить твои деньги хотели иезуиты. Им хотелось ввергнуть Испанию в новую междоусобную войну, которая была бы горше всех, уже пережитых нашей страной. У нашей церкви есть, конечно, враги: Бисмарк, англичане. Но у нее нет более ожесточенных врагов, чем иезуиты, ибо они преследуют свои собственные цели.
— А как относитесь к ним вы и Марко?
— Разумеется, мы против них, — сказал Саррион, пожимая плечами.
— А я, стало быть, изображаю собою мячик, которым вы перебрасываетесь?
Саррион взглянул на нее сбоку. Вот момент, которого всегда боялся Марко!
Саррион тщетно ломал себе голову над вопросом, почему она завела этот разговор с ним, а не с Марко. Хуанита сидела молча, не спуская глаз с отдаленных гор. Саррион украдкой взглянул на нее и заметил, что на ее губах играет слабая улыбка сожаления, как будто она знала что-то такое, чего он не знал. Он собрался с духом и сказал:
— Да… пока мы не выиграем партию.
— А вы выиграете?
Саррион опять посмотрел на нее. «Почему она не говорит прямо?» — спрашивал он сам себя.
— Во всяком случае, сеньор Мон не знает, когда он будет разбит, — сказала Хуанита.
Воцарилось молчание. Где-то вдали затрещали выстрелы: в горах, очевидно, завязалась схватка.
— Говорят, что он очутился в долине, как в ловушке, — снова заговорила Хуанита.
— По всей вероятности.
— Стало быть, он явится опять в Торре-Гарде?
— Может быть. Храбрости ему не занимать.
— Если он вернется сюда, я хочу поговорить с ним.
Уж не хотела ли она сама объявить Мону, что он разбит? Недаром Эвазио утверждал, что решающий голос всегда принадлежит женщине.
— Во всяком случае, — заговорила Хуанита, мысли которой, по-видимому, опять направились на игру, — во всяком случае вы играете очень смелую игру.
— Вот почему мы и выиграли ее.
— А вы не замечаете, чем вы рисковали?
— Чем же?
Хуанита повернулась и гневно взглянула ему прямо в лицо.
— О, вы об этом, очевидно, не догадываетесь. Вероятно, не догадывается и Марко! Ведь вы могли погубить жизнь нескольких человек!
— Но ведь мог погубить их и Эвазио Мон, — резко отвечал Саррион.
Хуанита отскочила назад, как фехтовальщик, получивший удар.
Саррион откинулся на спинку кресла и бросил потухшую сигару. Он сразился с Хуанитой на той почве, которую выбрала она сама и ответил ей на вопрос, который она не могла задать ему из гордости.
Как и предвидел Саррион, Эвазио Мон вернулся в Торре-Гарду. Было уже темно, когда он явился. Неизвестно, знал ли он о том, что Марко нет в его комнате. Он вообще о нем не спрашивал. Слуга провел его прямо на террасу, где сидели Хуанита и кузина Пелигрос. Саррион был у себя в кабинете и вышел на террасу после, когда Мон уже прошел мимо его окна.
— Мы все оказались в осаде, — начал гость с обычной кроткой улыбкой, садясь в кресло, которое ему величаво предложила кузина Пелигрос.
— Нам с вами, сеньорита, — сказал Мон, обращаясь к Пелигрос, — здесь делать нечего. Мы люди мирные.
Кузина Пелигрос махнула рукой в воздухе в знак согласия.
— Я должна исполнить свой долг, — заявила она с решительным видом, сквозь который проглядывал страх.
Хуанита молча смотрела на Сарриона, ожидая, когда он на нее взглянет. Поймав удобную минуту, она мигнула ему, чтобы он увел кузину Пелигрос и оставил их вдвоем с Моном.
— Вы переночуете у нас? — спросил он Мона.
— Нет, друг мой, очень благодарен вам за приглашение. Я питаю надежду пробраться ночью через линию стрельбы в Памплону. Я вернулся только для того, чтобы предложить свои услуги и проводить дам до Памплоны.
— Вы думаете, стало быть, что Торре-Гарда будет осаждена? — беззаботно спросил Саррион.
— Ничего нельзя знать заранее, друг мой. Ничего нельзя знать. Мне кажется, что перестрелка приближается.
Саррион рассмеялся.
— Вам только и слышатся пушки.
Мон повернулся к хозяину и меланхолично посмотрел на него.
— Да, Рамон, мы всю жизнь только и слышали пушки!
В этих словах, кроме очевидного, был еще какой-то другой, тайный смысл, понятный только Сарриону. На одну минуту его лицо просветлело и смягчилось.
— Велите подать нам кофе, — обратился он к кузине Пелигрос. — Велите, пожалуйста, подать нам его в библиотеку.
Маленькими шажками, какими умели ходить в тридцатых годах, Пелигрос направилась в дом. По тогдашнему этикету, Мон снял шляпу и наклонил голову в ее сторону.
— Кстати, — промолвил Саррион и, не докончив фразы, направился за нею.
Хуанита и Эвазио Мон остались на террасе одни. Хуанита сидела как раз против него в садовом кресле. Кроме него, было только то, на котором сидела Пелигрос. Эвазио, взглянув на Хуаниту, подвинул его к себе и сел. Из-под очков, на которых отражались последние лучи заходящего солнца, он пристально смотрел на свою собеседницу.
Он, очевидно, ждал, пока заговорит Хуанита, но та упорно рассматривала кончик своей туфли. И, очевидно, тоже ждала, пока заговорит Эвазио. Оба они молчали, словно дуэлисты, выбирающие себе оружие. Мон, по-видимому, боялся, как бы самое острое не досталось Хуаните.
Тщательная тренировка научила его быстро проникать в мысли другого. Но Хуанита сбивала его с толку.
— Я говорил только из дружбы к вам, когда предлагал проводить вас до Памплоны, — начал наконец Мон.
— Я знаю, что вы всегда говорите, как друг, — спокойно отвечала Хуанита, — как мой друг, а не Марко, конечно.
— Но ваши друзья в то же время и друзья Марко, — произнес Мон насмешливым тоном.
— И его враги в то же время и мои враги, — отозвалась Хуанита, глядя прямо перед собой.
— Конечно. Это условие ведь входит в число брачных обязанностей.
Мон поспешил рассмеяться своей шутке, не забыв, перед этим бросить взгляд в окно. Но их никто не мог слышать.
— Но почему я должен быть врагом Марко Сарриона?
Хуанита сразу перешла в наступление.
— Потому, что он перехитрил вас и женился на мне.
— Из-за ваших денег…
— Да, из-за моих денег. В этом вопросе он поступил, как честный человек, могу вас уверить. Он предупредил меня, что этот брак есть дело политики.
— Он вам сказал это? — спросил в изумлении Мон.
Хуанита кивнула головой и опять стала смотреть на свою туфлю, покачивая ногой. В углах ее рта бегала какая-то загадочная улыбка. Казалось, она понимала то, чего Эвазио, несмотря на свою прославленную мудрость, понять не мог.
— И вы поверили ему? — спросил опять Мон, смутно догадываясь, что значит эта улыбка.
— Он сказал мне, что это единственное средство спастись от вас и от монашества, — сказала Хуанита, не отвечая на его вопрос.
— И вы поверили ему? — повторил опять Мон.
Он сделал это напрасно. Хуанита обернулась к нему и спокойно промолвила:
— Да.
Мон пожал плечами с покорным видом человека, которого преследуют несчастья и который и дальше не ожидал ничего хорошего.
— В таком случае нам и говорить не о чем, — беззаботно сказал он. — Вы предпочитаете оставаться в Торре-Гарде. Пусть так. Но я свое дело сделал и предостерег вас.
— Против Марко?
Мон опять пожал плечами.
— В ответ на ваше предостережение, — медленно заговорила Хуанита, — я скажу вам, что Марко никогда не делал ничего такого, что было бы недостойно испанского дворянина, а лучшего дворянина в мире не существует.
Мон повернулся в своем кресле и с какой-то странной усмешкою посмотрел на свою собеседницу.
— Вот и видно, что вы влюблены в Марко, — сказал он.
Хуанита переменилась в лице. Ее глаза вдруг загорелись гневом.
— Я не боюсь ни ваших слов, ни ваших дел. Со мною Марко, а он всегда одерживал верх, когда вы вступали с ним в борьбу. Марко умнее и сильнее вас.
Мон медленно растягивал перчатки своими белыми и гладкими руками.
— Разница между вами вот в чем, — продолжала Хуанита. — Вы носите перчатки, а Марко берет жизнь голыми руками. Вы хотите перехитрить его, но это вам не удастся. Ищет ум, а находит сердце.
Мон встал и остановился против нее вполоборота, так, что она могла видеть только его профиль. И в эту минуту ей стало жалко его, и эта жалость испортила ее победу.
Мон медленно пошел по террасе к открытому окну библиотеки. Через него слышно было, как гремели чашками и блюдцами. Хуанита долго потом не могла забыть молчания, в котором прошел мимо нее Эвазио.
Через минуту он уже громко разговаривал о чем-то в библиотеке и смеялся.
В Торре-Гарду он приехал верхом, и Саррион при отъезде провожал его до конюшни. Оба они были очень моложавые для своих лет. Вообще на севере испанцы отличаются худощавостью и бодрым видом. Саррион подставил ему под ногу руку, и с его помощью Мон легко очутился в седле.
— Хуанита уже не ребенок, — сказал он, взглянув вверх на террасу. — Надо надеяться, что она будет счастлива. Это ведь дается не многим.
Саррион ничего не ответил.
— Мы люди не слабые, — продолжал Мон тихо. — Ни я, ни вы, ни Марко. Но поверьте мне, у Хуаниты в мизинце больше силы, чем во всех нас. У нее решающий голос, amigo, у нее!
И, махнув на прощанье рукой, он тронулся в путь.
XXIX Железная рука
На следующее утро Хуанита поднялась очень рано. Весь дом еще спал, но она знала, что Марко уже вернулся: на террасе, перед раскрытым окном библиотеки спокойно лежал Перро, греясь на утреннем солнышке.
Хуанита вошла в библиотеку и нашла тут Марко. Он писал письма. На столе сзади него лежала карта долины реки Волка.
— Ты все пишешь письма, — сказала она, — ты начал писать еще на дверце нашего экипажа и до сих пор все пишешь.
— Я могу пригодиться своим знанием долины, — возразил Марко и, бросив на нее быстрый взгляд, опять принялся за дело.
— А я нисколько не устала после наших приключений, — заговорила она опять, — а между тем я почти не спала ночью. Усталый у меня вид?
— Нисколько, — отвечал Марко, не поднимая глаз.
— Какой мне сон приснился… Я видела его так ясно, что даже не знаю наверно, был ли это сон. Может быть, и в самом деле я поднялась с постели очень рано, когда луна как раз начинает касаться верхушек гор, и выглянула из окна. Вся терраса была занята солдатами. Они стояли ряд за рядом, словно какие-то тени. В конце, под моим окном стояла группа людей. Было здесь несколько офицеров, один — словно генерал Пачеко, с таким же жирным смехом. Другой был похож на капитана Занету, того самого, который тогда молился в церкви Богородицы в Тени. Помнишь? Были еще какие-то два штатских, похожих на тебя и дядю Рамона. Не правда ли, какой странный сон, Марко?
— Да, действительно, — со смехом отвечал он.
Она стояла перед ним и пристально и серьезно смотрела на него.
— Будет битва?
— Да, похоже на то.
— Где?
Он указал пером на долину.
— Как раз около моста, если все пойдет так, как задумано.
Она вышла на террасу и стала смотреть на мирную долину, сверкавшую в лучах утреннего солнца. Тонкая струйка дыма голубоватым столбом поднималась уже над хижинами лежавшей внизу деревни. Овцы скликали по склонам гор своих ягнят.
Хуанита вернулась к окну и стала около него. Ее щеки пылали.
— Сделай для меня одно одолжение, — проговорила она.
— С удовольствием.
Он поднял перо, но продолжал по-прежнему смотреть на бумагу.
— Если здесь произойдет битва или вообще какая-нибудь схватка, побереги себя. Было бы ужасным несчастием… для дяди Рамона, если б с тобой что-нибудь случилось.
— Хорошо, — серьезно отвечал ей Марко, — я буду беречь себя.
Хуанита все еще стояла у окна.
— А ты всегда держишь свое слово?
— Почему же мне его и не держать?
— Конечно, ты слово свое сдержишь, конечно. Твое обещание — это скала, которую ничто не может сдвинуть с места. Итак, ты не возьмешь обратно своих слов?
— Нет, — просто отвечал Марко.
Завтракали в Наварре в час. К этому времени Марко и Саррион всегда бывали дома. В долине, казалось, царило полное спокойствие.
— Я уверена, — говорила кузина Пелигрос, сидя за столом, — что перестрелка приближается. У меня очень тонкий слух. Вообще у меня все чувства в высшей степени развиты. Выстрелы приближаются, Марко.
— Это Занета, отстреливаясь, медленно отступает со своим маленьким отрядом, — проговорил Марко.
— Зачем же он это делает? Ведь должен же он знать, что в Торре-Гарде находятся женщины.
— Женщины не принимают участия в войне, — сказала Хуанита.
Едва она сказала это, Марко, поглядев на часы, встал и вышел из комнаты. Хуанита последовала за ним.
— Марко, заговорила она в передней, плотно притворив за собой дверь столовой, — можешь ты мне сказать, когда именно начнется битва?
— Занета отступит к мосту часам к трем. Неприятель, очевидно, тронется вслед за ним.
— А ты где будешь?
— Я буду с Пачеко и его штабом на холме сзади мельницы Педро. Ты увидишь небольшой флаг на том месте, где будет Пачеко.
Тонкий слух кузины Пелигрос не обманул ее. Перестрелка была слышна очень близко. За мостом долина делает поворот налево, и на холмах над этим поворотом можно было уже разглядеть неправильную линию дымков.
Через несколько минут из-за угла показалась на дороге темная масса отряда Занеты. Он добрался до моста раньше, чем ожидал Марко. Люди бежали, поднимая целое облако пыли, словно стадо овец. Через каждые сажен двадцать они останавливались и давали залп. Издали они были похожи на игрушечных солдатиков. Они отступали в полном порядке, и треск залпа раздавался через правильные промежутки времени. На мосту они остановились. Казалось, они хотели удержаться здесь, и, будь у них артиллерия, они, без сомнения, удержали бы за собой это узкое место.
Теперь уже видно было, что отряд был очень невелик и не мог рисковать людьми, штурмуя гористые позиции неприятеля.
Перестрелка на время стихла. Карлисты поджидали, пока их отряды стянутся с гор на дорогу.
Саррион и Хуанита стояли на террасе, внимательно следя за всем, что происходило внизу.
— Пачеко хороший генерал? — спросила Хуанита.
— Отличный.
Саррион не счел нужным распространяться далее.
— Они обманули меня, — вспомнились ему слова Пачеко, которые он слышал от него всего несколько дней тому назад. — Мне обещали изрядную сумму, во всяком случае достаточную сумму. Однако, когда наступило время, деньги не были доставлены. Чрезвычайно неприятное положение, но я как-нибудь сумею из него выбраться.
— Оставаясь, конечно, лояльным, — заметил со смехом Саррион, и на этом их разговор кончился.
Хуанита смотрела через долину по направлению мельницы Педро. Никакого флага там не было. Долина, казалось, была совершенно спокойна: ни штыков, ни сабель не было видно, несмотря на яркое солнышко.
На мосту приближения карлистов ожидала небольшая кучка людей. Через минуту густой массой показались и они, усеивая собой дорогу и боковые холмы. Кусты казались живыми от них. Они дали залп, и холмы покрылись беловатой дымкой. Войска роялистов на мосту тоже дали залп и побежали прямо на дорогу. Некоторые сбросили с себя ранцы. Один или два из них остановились и, постояв немного, легли на дорогу, как утомленные дети. Другие побежали по сторонам дороги и здесь сели.
Между тем карлисты продолжали наступление. Последние ряды их уже огибали поворот дороги. Передовые части были уже за мостом, и для отряда Занеты можно было отступать только в Торре-Гарду. Солдаты были уже у подножия откоса, на вершине которого стоял дом. Хуанита и Саррион явственно различали их командира, который шел сзади отряда с саблей в руке. Шел он большими, размеренными шагами, словно пастух за своим стадом.
Солдаты стали подниматься в гору. Занета занял позицию на камнях, нависших над холмом. Он стоял там на цыпочках и караулил мост. Последний эшелон карлистов вступил уже на него. Хуанита следила за ними расширившимися от возбуждения глазами. Саррион кусал себе нижнюю губу. Глаза его горели.
Когда карлисты перебрались через мост, Занета взглянул по направлению к мельнице Педро и стал махать белым платком, высоко поднимая руку. Между деревьями, которыми была окружена мельница, показался небольшой флаг.
Кузина Пелигрос, несмотря на свои тонкие чувства, спустилась на террасу взглянуть, что делается. Из предосторожности она надела вязаные перчатки и открыла свой зонтик.
— Что значит весь этот шум? — спросила она.
Но Саррион и Хуанита, казалось, не слышали ее. Они следили за маленьким флагом, который тихо спускался в долину.
Люди Занеты были уже так близко от террасы, что можно было слышать их голоса.
— Мост, мост! — воскликнул Саррион, задыхаясь, — взгляни на мост!
Дым в воздухе еще не рассеялся и скрывал то, что происходило на мосту. Люди бегали там, поблескивая на солнышке штыками.
— Пушки! — воскликнул Саррион.
Не успел он произнести это слово, как вся долина содрогнулась до самой своей глубины. С реки как будто грянул гром и раскатился по холмам. И в то же время зеленые откосы гор покрылись дымом, словно ватой.
Хуанита видела, что Занета все еще стоял на своем месте с саблей в руке, а его люди собирались вокруг него. Потом он что-то громко закричал и повел их опять вниз. Пробежав шагов десять, он упал во весь свой рост, затем опять поднялся и во главе своих солдат ринулся вперед.
С воем пронеслась снизу пуля, и звон разбитого стекла показывал, что она попала в окно дома. Кусты в саду как будто вдруг ожили и зашумели. Саррион поспешил оттащить Хуаниту от перил.
— Нет, оставь меня, — гневно сказала она.
— Не могу, я обещал Марко беречь тебя, — возразил Саррион, обхватывая ее руками.
Они быстро прошли в библиотеку. Кузина Пелигрос была уже здесь. Она сидела на качалке, сложив руки на манер христианской мученицы ранней эпохи.
— Никогда мне не приходилось испытывать ничего подобного, — заметила она строгим тоном.
Саррион встал у окна, не подпуская к нему Хуаниту.
— Через несколько минут все это кончится, — сказал он, — хороший будет им урок!
Гром продолжался. Пелигрос, с ее тонким слухом, зажала уши руками, не забыв выдвинуть напоказ маленький палец — кокетство, казавшееся неотразимым ее поколению.
Вдруг перестрелка, словно по мановению волшебного жезла, прекратилась.
— Ну, вот и кончено, — сказал Саррион, — они получили свой урок.
Он взял шляпу и вышел из комнаты.
Хуанита тоже вышла на террасу, но оттуда ничего не было видно: вся равнина была затянута дымом, поднимавшимся кверху желтыми клубами. Она раскашлялась от этого воздуха и, кашляя, вошла опять в библиотеку.
— Хуанита, — торжественно начала кузина Пелигрос, — я запрещаю вам выходить из этой комнаты. Я не желаю быть одна.
— В таком случае позовите вашу служанку, — терпеливо отвечала Хуанита.
— Куда ты хочешь опять идти?
— Я пойду с дядей Рамоном вниз, в долину. Там, должно быть, сотни раненых. Я могу кое-чем помочь им…
— Я запрещаю тебе идти туда. Этого только и можно было ждать от Марко. Вот как он относится к тем, кого судьба ставит под его покровительство! Его прямая обязанность была бы защищать Торре-Гарду.
— Я здесь хозяйка, — отвечала Хуанита, едва взглянув на Пелигрос.
Эти слова имели, должно быть, двойной смысл, ибо, едва она успела затворить за собою дверь, как Пелигрос разом поднялась с качалки.
Хуанита выбежала из дому и пустилась вниз по извилистой дороге, которая шла к деревне. От дыма у нее перехватывало дыхание; весь воздух был, казалось, насыщен серой. Трудно было допустить мысль, что кто-нибудь мог остаться в живых в эти адские минуты.
Впереди нее спешил туда же Саррион. Вдруг она радостно вскрикнула: по откосу галопом мчался Марко. Увидев отца, он на всем скаку остановил лошадь. Пока он слезал, Хуанита была уже около них.
Лицо Марко было совершенно серо и забрызгано кровью. В глазах сверкала отчаянная решимость. Вся его фигура как бы говорила, что он видел нечто такое, чего он никогда не забудет.
— Эвазио… — запыхавшись, произнес он.
— Убит?
Марко кивнул головой.
— Надеюсь, не ты это сделал? — резко спросил Саррион.
— Нет. Его нашли между карлистами. С ними было пять или шесть попов. Его признал Занета, который сам ранен. Он был еще жив, когда Занета подошел к нему. «Проиграна игра», — сказал он и с этими словами умер.
Саррион повернулся и тихо пошел обратно к дому. Хуанита, по-видимому, забыла о своем намерении идти вниз и помогать раненым.
Лошадь Марко, настоящая арабская, тряслась и тянула за повод, который он намотал себе на руку. Нетерпеливо оглядываясь назад, он бросил поводья, которые быстро схватила Хуанита. Медленно и спокойно она повела лошадь домой, не говоря ни слова.
Первым заговорил Саррион, которого они нагнали.
— Бедный Эвазио! — промолвил он, обращаясь к Хуаните, — ему никогда не везло. Несколько лет тому назад он было покинул орден, чтобы жениться на одной даме. Но она думала или, может быть, ей так было внушено, что она должна устроить свою жизнь иначе…
И он пожал плечами.
— Я знаю эту историю, — вдруг сказала Хуанита.
XXX Решающий голос
В углу маленького кладбища в Торре-Гарде виднеется небольшое четырехугольное возвышение: это могила, в которой похоронены были четыреста карлистов. Говорят, еще больше их было унесено течением реки в море.
Генерал Пачеко дал им урок в устье долины, где они оставили сильный отряд на позициях, казавшихся неприступными с фронта. Этот отряд должен был задержать подкрепления, посланные на выручку маленького отряда Занеты. Но этот отряд был атакован генералом с тылу и почти весь уничтожен. Этому делу Пачеко обязан той славой, которая до сих пор держится за ним в Испании. «Большой, но жестокий генерал», — говорят про него испанцы.
К заходу солнца все было по-прежнему спокойно в Торре-Гарде. Войска так же незаметно покинули долину, как и явились в нее. Потери их были очень невелики, и с полдюжины раненых было оставлено в деревне. Остальные ушли опять в Памплону. Список раненых карлистов был тоже очень мал. Генерал Пачеко любил двигаться быстро, терпеть не мог задерживаться из-за перевязочных пунктов и раненых. На то он был и «великий» генерал.
Кузина Пелигрос не вышла к обеду: у нее слишком расходились нервы.
— Я знаю, что такое эти нервы, — продолжала Хуанита, объявив, что место Пелигрос останется незанятым, — не беспокойтесь о ней: она съест немного супу, да и от других блюд не откажется.
После обеда кузина прислала служанку сказать, что ей теперь лучше и что она хотела бы видеть Марко.
Вернувшись с этого свидания, он нашел отца и Хуаниту в гостиной. Лицо его было серьезно.
— Теперь ты сам убедился, что с ней ничего серьезного нет, — сказала Хуанита, следя за выражением его лица.
— Да, — рассеянно отвечал он, — ничего серьезного.
Он не садился, но продолжал стоять с озабоченным видом, смотря на огонь в камине, от которого все чувствовали себя особенно уютно на такой высоте, как Торре-Гарда.
— Она не хочет оставаться здесь, — сказал он, наконец, и собирается уезжать завтра.
Саррион слегка рассмеялся и перевернул газету, которую держал в руке. Хуанита читала какую-то английскую книгу с помощью словаря, в который, впрочем, не заглядывала, когда Марко был где-нибудь поблизости.
— Пускай ее едет, — медленно и отчетливо произнесла она, отрываясь от книги.
Наступило неловкое молчание. Хуанита чувствовала, что ее лицо покрывается краской.
— Ничего другого не остается, как отпустить ее, — заговорил Марко с принужденным смехом, — с ней теперь беспрестанно будут повторяться эти припадки. Она хочет ехать в Мадрид.
— Вот как!
— Она хочет, чтобы ты тоже ехала с нею, — вдруг выпалил Марко.
— Это очень мило с ее стороны, — холодным и ровным тоном сказала Хуанита, — ты знаешь, что я терпеть не могу эту кузину Пелигрос.
— Стало быть, ты не желаешь ехать с нею в Мадрид?
Поглядывая на огонь, Хуанита, казалось, взвешивала все доводы за и против этой поездки.
— Нет, благодарю, — промолвила она наконец.
— Ты знаешь, — пустился объяснять ей Марко каким-то странным голосом, в котором чувствовалось возбуждение, — ты знаешь, я боюсь, что после всего происшедшего мы наживем себе плохую славу в Испании. И без того все говорят, что мы просто разбойники. Трудно будет выписать сюда кого-нибудь.
Хуанита ничего не отвечала. Саррион по-прежнему внимательно читал газету.
— Мне нужно уехать в Сарагосу, — произнес он вдруг из-за газеты, — может быть, Хуанита сжалится над моим одиночеством?
— Ужасно жалко уезжать из Торре-Гарды, когда наступает весна, — заметила Хуанита, — вы не находите этого?
Обращаясь к Сарриону, она глядела, однако, на Марко. Оба они, видимо, чувствовали себя неловко и не знали, что сказать.
Глаза Марко как-то даже потускнели. Хуанита же держала себя холодно и сосредоточенно, чувствуя себя госпожой положения.
— Знаешь, — начал опять Марко, — я всегда думал только о твоем счастье. Поступай, как найдешь нужным.
— А я всегда готов подписаться под тем, что говорит Марко, — подтвердил Саррион.
— Я знаю, ты у меня добрый, — воскликнула Хуанита, отбрасывая книгу и вскакивая с места, — я иду спать.
Она поцеловала Сарриона и быстрым легким жестом пригладила свои пепельные волосы.
— Спокойной ночи, Марко, — сказала она, проходя в дверь, которую он открыл для нее.
И, не глядя на него, она дружески кивнула ему головой.
На следующее утро кузина Пелигрос уехала из Торре-Гарды.
— Я умываю руки во всем этом деле, — говорила она, делая заученный жест.
Так, впрочем, и осталось неизвестным, умывала ли она свои руки от Хуаниты, или от карлистов. Когда ее служанка уселась в экипаж сзади нее, она вздохнула и ничего не ответила Сарриону, выразившему надежду, что ее путешествие совершится благополучно.
— Я распорядился, чтобы до самой Памплоны, вас сопровождали два стражника, сказал Марко, — впрочем, теперь везде спокойно. Пачеко водворил тишину.
— Благодарю вас, — жеманясь, ответствовала Пелигрос.
Она почему-то считала, что в присутствии домашней прислуги настоящей даме не полагается быть естественной.
Экипаж тронулся.
Вскоре после ее отъезда Саррион с сыном выехали верхом в деревню. Здесь был другой путешественник, которому выпало на долю отправиться в далекое путешествие, откуда нет возврата. Саррион нашел его в доме деревенского священника: там на смертном одре лежал человек, с которым он когда-то играл в детстве, и с которым он никогда не ссорился, несмотря на разницу их взглядов. Эвазио Мон даже после смерти старался быть всем приятным и лежал в темной комнатке скромного домика, улыбаясь.
— Я хочу отнести цветы на его смертное ложе, — сказала Хуанита, — когда все обитатели Торре-Гарды сидели после обеда на террасе, — теперь я все простила ему.
Марко сидел в стороне, около самой решетки, покачивая ногой и искоса посматривая на Хуаниту.
— Ты, действительно, уже простила его? — спросил он, пристально глядя ей в лицо своими черными блестящими глазами, — мне кажется, покойника легко забыть, но простить…
— Я простила его не тогда, когда он был убит.
— А когда же?
Хуанита улыбнулась и покачала головой.
— Этого я тебе не скажу, — отвечала она, — это тайна, оставшаяся между Эвазио Моном и мною. Когда я положу цветы на его гроб, он поймет, в чем дело, насколько мужчины вообще способны понимать.
Она не стала распространяться дальше на эту тему и сидела молча, задумчиво поглядывая на долину. Саррион сидел несколько поодаль, окруженный целым облаком табачного дыма.
— Обед будет сегодня в семь часов, если вам все равно, — отрывисто сказал он, вставая.
— А в чем дело?
— Я уезжаю в Сарагосу.
— Сегодня вечером? — быстро спросила Хуанита и смолкла.
Марко сидел не шевелясь. Саррион закурил другую сигару и как будто забыл ответить на вопрос Хуаниты. Та вспыхнула и закусила губы. Повернув голову, она смерила его с ног до головы, стараясь прочесть что-нибудь на этом гладко выбритом лице, которое считалось одним из красивейших во всей Испании. Ей предстояло решение ее судьбы — теперь или никогда. И она решилась.
— В семь часов, — сказала она, — хорошо, я пойду и распоряжусь.
До обеда она успела побывать у смертного одра и помолиться в соседней маленькой церкви об упокоении его души. На террасу она потом не выходила, и Саррионы до самого вечера не видали ее.
За обедом старик Саррион был необыкновенно весел, и Хуанита быстро вошла в его настроение. Он говорил о Сарагосе, как будто она была через дорогу, и мечтал, как он будет ходить по городским улицам, пока не наступит жара, от которой равнина Арагонии делается совершенно необитаемой.
— А вот Марко — другое дело, — говорил он, — Марко должен оберегать долину и не может уехать отсюда даже на несколько дней.
Когда настало время отъезда, Хуанита собственноручно закутала старика в меховой воротник и застегнула пуговицы его пальто. Несмотря на свои шестьдесят лет, граф никогда не ездил в закрытом экипаже.
Стояла темная, безлунная ночь.
— Тем лучше, — заметил Марко, — если лошади не будут ничего видеть, они не будут и бояться.
Сидя на передней скамейке открытого экипажа, Марко проводил своего отца вниз до того места, где когда-то был подъемный мост.
Хуанита осталась в дверях, резко выделяясь на фоне освещенной комнаты. Она долго махала отъезжающему рукой.
У подъемного моста Марко простился с отцом. На этом месте они расставались, по крайней мере, сотню раз. Из Памплоны до Сарагосы был только один поезд, и оба они не раз ездили с ним. Но на этот раз прощание носило какой-то особый характер, и они даже не сказали друг другу тех обычных при прощании слов, которые от долгого употребления потеряли свой первоначальный смысл.
Саррион взял вожжи, выглянул из мехового воротника, в который закутала его Хуанита, и, кивнув сыну головой, исчез в ночной темноте.
Марко медленно пошел назад. Когда он вернулся домой, все огни были потушены. Слуги ушли спать. Был уже одиннадцатый час. Только в его кабинете, окно которого так и осталось незакрытым, горела лампа. Он погасил ее и, взяв свечу, пошел наверх в свою комнату. Но он не остался в ней, а вышел на террасу, которая шла вокруг всего дома.
Через несколько минут экипаж его отца должен был въехать на мост с тем глухим грохотом, который показался Эвазио Мону пушечными выстрелами.
Поднялся ветерок, и свеча, которую Марко поставил на столик возле окна, стала оплывать. Он задул ее и снова вышел на темную террасу. Он знал, что кресло стояло около самого окна, сел в него и стал прислушиваться в ночной тиши, дожидаясь, пока загремит на мосту экипаж.
Вдруг послышался стук раскрываемого окна, и Перро, лежавший у его ног, поднял вдруг морду и стал нюхать воздух.
В противоположной стороне дома по террасе пробежала широкая полоса света. Это вышла Хуанита, которой тоже захотелось послушать, как застучат по мосту колеса экипажа.
Марко наклонился и стал ласкать Перро, который догадался, что нужно лежать смирно. Хуанита подошла к решетке и, постояв немного, вернулась к окну, закрыв собою полосу света.
Несколько секунд оба ждали в полном безмолвии.
Внизу тихо рычала река, и вдруг сквозь ее шум донесся гулкий грохот моста. Саррион был уже на той стороне.
Хуанита вошла в комнату и погасила свою лампу. Ночь была теплая, и от сосен шел сильный хвойный запах, какой у них бывает только весной. Сильно пахли и кусты терновника. Временами доносился откуда-то запах фиалок.
Вдруг Перро беспокойно зашевелился и вопросительно посмотрел в лицо хозяина. Марко инстинктивно обернулся. Сзади него стояла Хуанита.
— Марко, — спокойно сказала она, — ты помнишь, это было давно, давно, еще в монастыре в Памплоне, когда я была еще ребенком… Ты тогда дал одно обещание. Ты обещал никогда не вмешиваться в мою жизнь.
— Да, помню…
— Я пришла…
Хуанита вдруг смолкла и, сложив руки на груди, вышла вперед и повернулась к нему лицом.
— Я пришла, — начала она опять, — чтобы освободить тебя от этого обещания. Не потому, что ты плохо соблюдал его, нет…
Она вдруг оборвала свою речь и весело рассмеялась.
— Я просто не хочу этого сама.
Ее глаза, привыкнув к темноте, впились в его лицо. Простояв секунду перед Марко, она вернулась к месту, где он обнаружил ее присутствие в начале их разговора.
— Кроме того, ты дал еще другое обещание, Марко. Ты сказал, что мы женимся только для виду, как бы для шутки.
— Да, помню, — немедленно ответил Марко, не оборачиваясь к ней.
Вдруг он вздрогнул и замер в своем кресле: она положила ему на голову свои руки и тихо-тихо погладила его волосы, словно птичка коснулась их крылом. Потом ее пальчики спустились ему на лоб и нежно, но крепко закрыли ему глаза. То была напрасная предосторожность во мраке ночи. Она низко наклонилась к нему через кресло, и ее волосы, темные, как ночь, словно занавес, упали ему на лицо.
— Это была глупая шутка, — прошептала она, — и я не хочу продолжать ее более…
Прим. Joe-Jim
До тех пор Марончелли, Мунари и я делали надеялись, что мы еще увидим свет, увидим вновь нашу Италию, наших родных, и это было предметом рассуждений полных желания, сожаления и любви.
Так в тексте.
ШПИЦ
шпица, м. (нем. Spitze). То же, что шпиль во 2 знач.
Значение слова Шпиц по словарю Даля:
Шпиц
м. немецк. шпиль на здании, островершек, остряк, стрела.
1
Кто вернет бедняжке ее счастье?
(обратно)2
Здесь непереводимое созвучие слов. В подлиннике: «Matto, e non Mad»? — Прим, перев.
(обратно)3
Так называлось помещение прокураторов св. Марка во время Венецианской республики. — Прим, перев.
(обратно)4
И говорит своим ученикам: непременно придут соблазны; но горе тому, чрез кого придут! Лучше ему, привязав к своей шее мельничный камень, ввернуться в пучину морскую, чем ввести в соблазн одного из этих малодушных.
(обратно)5
В просторечии венецианцы говорят siora вместо signora и sior вместо signor. — Прим, перев.
(обратно)6
Анджиола.
(обратно)7
Молодой венецианки-тюремщицы.
(обратно)8
Все обнимаем тебя от всего сердца.
(обратно)9
Tremerello — трус.
(обратно)10
Император Юлиан — богоотступник. — Прим, перев.
(обратно)11
Buzzolai — венецианское печенье, нечто вроде пирожков. — Прим, перев.
(обратно)12
Sotto i piombi. Собственно «под свинцами», т. е. в самом верхнем этаже, под свинцовой крышей. Тюрьмы в этом этаже потому и называются просто: i piombi — свинцы. — Прим, перев.
(обратно)13
Боже мой, Боже мой, ужели Ты оставил меня?
(обратно)14
В подлиннике: sul tavolaccio (следовало бы сказать sulla tavolacela). Выше было сказано, что арестанты спали на голых досках. Примеч, перев.
(обратно)15
Перуджинская вода.
(обратно)

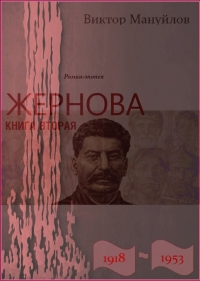





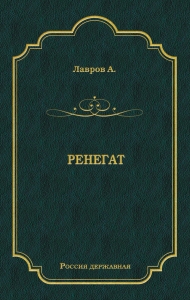
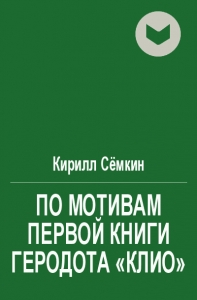

Комментарии к книге «Пеллико С. Мои темницы. Штильгебауер Э. Пурпур. Ситон-Мерримен Г. В бархатных когтях», Сильвио Пеллико
Всего 0 комментариев