Мария Воронова Сестра милосердия
Глава 1
Элеонора проснулась с давно забытым предчувствием счастья. В прежней жизни бывали такие дни, когда она знала – должно случиться что-то очень хорошее. Обычно ничего не происходила, Элеонора понимала, что не будет и сейчас, но все же весь день провела с этим детским чувством. Скупой на похвалы профессор Знаменский, с которым она отстояла сложнейшую операцию по удалению осколка из плевральной полости, вдруг заметил:
– С вами сегодня было необыкновенно приятно работать!
– Благодарю вас, – она сделала реверанс. Это получилось машинально и вызвало мимолетную неловкость. Хирурги отвели глаза, а Элеонора притворилась, будто страшно занята инструментами.
Но эта оплошность не испортила ей настроения. Она почти физически чувствовала, как в крови у нее пульсирует радость. Бледный-бледный апрельский вечер ласкал ее лицо теплым ветерком. О, это всего лишь аромат приближающейся весны… Под его коварным влиянием в сердце распускаются бутоны надежды, чтобы потом оказаться прибитыми заморозками действительности!
– Ничего не будет! – строго сказала себе девушка.
Но радость, редкая гостья, не спешила покидать ее сердце… И, пока шла домой, Элеонора чувствовала, что люди оборачиваются ей вслед.
Элеонора на секунду остановилась и зажмурилась от странного чувства нереальности происходящего. Вдруг сейчас она откроет глаза и окажется… где? В дортуаре Смольного? Или в брезентовой палатке полевого госпиталя?
Или, напротив, сном была ее прежняя жизнь пансионерки Смольного института?
Она рано осиротела и не знала родителей. Первые годы, которые помнила плохо, росла в семье тетушки, а потом поступила в Смольный институт. За душой у девушки ничего не имелось, кроме титула княжны, поэтому получить хорошее образование было крайне необходимо.
Элеонора поймала свое отражение в тусклом оконном стекле и улыбнулась. Дело было не только в ее бедности. К сожалению, она не блистала красотой, что умаляло и так достаточно призрачные шансы на удачное замужество. Институтки поддразнивали ее, говорили, что она похожа на индейца, и Элеонора нехотя признавала, что доля истины в этом наблюдении есть. Порой классные дамы напоминали ей о том, что девушке необходимо следить за собой: мол, если она задумается, у нее становится слишком суровое выражение лица, которое может быть превратно понято.
Словно в насмешку ей достались прекрасные каштановые волосы, настоящее богатство, и необыкновенно тонкая талия. Но чтобы заслужить репутацию красавицы, этого было явно недостаточно.
Кроме непривлекательной внешности Господь, увы, наделил ее острым умом, Элеонора шла первой по всем дисциплинам. Она готовилась к поприщу классной дамы, но тетя взяла ее в свой дом по окончании курса, считая своим долгом хотя бы попытаться найти для племянницы хорошую партию. Ну а коль не выйдет, что ж…
Казалось бы, судьба ее была предрешена, но Элеонора неожиданно сблизилась с тетиным мужем, известным хирургом Петром Ивановичем Архангельским. Он тоже расположился к племяннице и мало-помалу пробудил в ней интерес к медицине. Она поступила на курсы сестер милосердия, а чтобы быстрее овладеть профессией, по протекции дяди пришла в самое сердце Клинического института, в его операционную. Ее взяла под свое крыло Александра Ивановна Титова, старшая сестра операционного блока, бессменная помощница Петра Ивановича, и обещала научить девушку всему, что знает и умеет сама.
Знакомство с Титовой состоялось в институте. Элеонора думала, что их представят друг другу как полагается, в доме Архангельских, за обедом или простым визитом, но Ксения Михайловна наотрез отказывалась принимать у себя простолюдинку, какой бы верной помощницей мужа та ни была. «Если уж приходится водить знакомство с подобными людьми, главное – всегда соблюдать дистанцию», – поучала она племянницу.
Вспоминая это, Элеонора невольно улыбнулась. Как смешно и беспомощно выглядели теперь эти незыблемые прежде правила! Но тогда, впервые попав в операционную, она согласилась с теткой и дала себе зарок держать дистанцию настолько большую, насколько это возможно. Это была совсем другая среда, совершенно другие люди, и Элеонора сначала ужаснулась нравам своих новых коллег. После чопорной вежливости и безукоризненных манер смолянок доктора и сестры показались ей настоящими чудовищами. Особенно один, любимый ученик Архангельского, Константин Георгиевич Воинов.
Элеонора улыбнулась. О, как же она была молода и наивна! Воинов, еще совсем молодой человек, считался опытным доктором. Он приехал с фронта в отпуск и сразу объявился у своего учителя и благодетеля. Константин Георгиевич был подкидышем, рос в приюте и, вероятно, стал бы рабочим, если бы не заболел и не попал в Клинический институт. Петр Иванович вылечил его, а мальчик раз и навсегда влюбился в медицину и с тех пор уже не отходил от профессора Архангельского. Петр Иванович помог юноше выучиться и потом с удовольствием передавал ему все свои знания. Наверное, он привел бы его в семью на правах приемного сына, если бы не яростное сопротивление жены. Она терпеть не могла Воинова, называла не иначе как «парвеню» и говорила, что если такой дурно воспитанный человек подлого происхождения по какому-то недоразумению выучился на доктора, то это еще не значит, что нужно принимать его в обществе. Пусть лечит мужиков! «Он и лечит мужиков. На полях сражений!» – отвечал Петр Иванович, убедившись, что жена его не слышит.
Стыдно вспомнить, но сначала Элеонора полностью разделяла мнение Ксении Михайловны. Этот молодой человек, сильный, стремительный, с хищным лицом и жестким взглядом зеленых глаз, пугал ее настолько, что она побаивалась находиться с ним в одной комнате. Она постоянно ожидала от доктора какой-то полошности и была настороже. А самое ужасное сотояло в том, что Воинов прекрасно видел ее страх и жалел ее – мол, она слишком молода и невинна для поприща сестры милосердия.
Константин Георгиевич решил использовать свой отпуск для работы с наставником: перенять новый опыт, да и просто вспомнить, что хирургия – это не только огнестрельные ранения. Каков же был ужас Элеоноры, когда Александра Ивановна назначила ее помогать молодому доктору на операциях! Худшего испытания она представить не могла, но отступать было не в ее характере. Когда она увидела, как бережно Воинов обращается с пациентами, как старается им помочь, как умеет собраться в критической ситуации и вырвать у судьбы тот единственный шанс из тысячи, предубеждение ее рассеялось.
Обычно перемены в человеке совершаются незаметно, исподволь. Он живет, погруженный в свои заботы, и лишь случайно замечает, что стал выглядеть иначе и совсем по-другому думает о многих вещах.
С ней было не так.
В тот день они закончили плановые операции и сели готовить материал. В Смольном Элеонора считалась одной из лучших рукодельниц и сейчас освоила искусство приготовления марлевых шариков и салфеток без малейшего труда. Александра Ивановна один раз показала ей необходимую последовательность движений, и у Элеоноры дело пошло быстро и аккуратно. Кажется, она немножко разочаровала этим остальных сестер, которые называли ее «белоручкой», не слишком заботясь, слышит она их или нет.
Работа была механической, и между сестрами завязывался разговор, тягостный и пошлый, в основном касающийся мужей и возлюбленных. Иногда Александра Ивановна внушительно кашляла, сестры с неудовольствием поглядывали на Элеонору и замолкали, но после небольшой паузы беседа возобновлялась в том же духе.
Элеонора старалась не вслушиваться. Это была совсем другая жизнь, другой круг, и если следовать совету Ксении Михайловны и соблюдать дистанцию, то эта пошлость никогда ее не коснется.
Приготовление салфеток было обязательным для всех сестер, но Элеонора решила, что попросит Титову сажать ее где-нибудь отдельно от других, так чтобы ни ей не пришлось слышать эти душные речи, ни сестрам сдерживаться.
Вдруг раздался характерный стук распахнувшейся двери в операционное отделение и сразу вслед – грохот колес по коридору.
Александра Ивановна отложила марлю и выпрямилась.
– Саша! Открывай операционную быстро! – кричал Воинов.
Титова выбежала из материальной комнаты, Элеонора последовала за наставницей.
– Быстро, быстро! – повторял Воинов.
Он распахнул дверь в ближайшую операционную, схватил на руки лежащее на каталке тело и перенес его на операционный стол.
– Давай, Сашенька, милая, времени нет совсем!
Не произнеся ни слова, Титова открывала биксы с бельем и инструментами.
Подумав, что времени на классическую обработку рук не будет, Элеонора словно по наитию взяла склянку со спиртом и полила на руки Саше, Константину Георгиевичу и молодому ординатору, прибежавшему вместе с ним.
Коротко кивнув, Воинов растер спирт по рукам и молниеносно нырнул в стерильный халат, который ему подала Саша.
Тем временем Сашина помощница, полная женщина средних лет, одна из немногих кто искренне симпатизировал «белоручке», налаживала внутривенное вливание физиологического раствора и готовилась дать эфир.
– Что здесь, хоть в двух словах? – отрывисто спросила Саша, подавая Воинову корнцанг со спиртовой салфеткой для обработки операционного поля.
– Падение с высоты. Внутреннее кровотечение, а что именно, сейчас узнаем, – быстро обработав поле, Константин Георгиевич выбросил корнцанг в таз и взял скальпель.
Тут в операционной возник профессор Крестовоздвиженский:
– Что вы творите, доктор!
– Что? Хочу остановить кровотечение!
– Тут же все ясно, коллега. Пациент, как говорится, уже убит, но еще не умер. Зачем вы идете на фатальную операцию, которая ничем не поможет этой несчастной?
Неужели это женщина? Элеонора впервые набралась храбрости и посмотрела на то, что лежало на операционном столе, прикрытое стерильным бельем. Да, женщина, причем молодая и, кажется, красивая… Но как страшно было ее лицо! До этого Элеонора присутствовала только на простых вмешательствах, и пациенты выглядели совсем иначе. Да, недуг накладывал свой отпечаток на их внешность, многие были бледные, или, наоборот, желтушные, истощены или болезненно отечны, но такого она не видела никогда раньше. На лице этой девушки лежала тень смерти, это было видно совершенно ясно. Элеонора не смогла бы сказать, в чем тут дело и почему ей стало жутко, но живой человек так выглядеть не мог.
Воинов тем временем сделал разрез на животе девушки.
– Я действую по принципу Пирогова, – буркнул он, не глядя в сторону профессора, – когда больше нечего терять!
– Ах, доктор, доктор, – Крестовоздвиженский покачал головой, – вечно вы устраиваете какие-то авантюры за пределами здравого смысла и даже гуманности…
Но Воинов его больше не слушал, полностью сосредоточившись на операционном поле. Когда он вошел в брюшную полость, Элеонора с ужасом заметила, как кровь, скопившаяся внутри, медленно переливается через края раны и по операционному белью стекает на пол. Почувствовав, что теряет сознание, она приказала себе собраться. Сейчас каждая секунда на вес золота, каждое движение, и она должна сделать все, что может, а если ничего не сможет, то хотя бы не мешать!
– Черт, не могу найти источник! Полный живот крови! Саша, давай салфетки все что есть!
Элеонора побежала в соседнюю операционную и принесла большой бикс с салфетками.
Она еще совсем неопытная сестра, и толку от нее мало, но пусть Титова видит, что она здесь и готова выполнить любое ее распоряжение.
Встав в углу, она вытянулась в струнку, сжала кулачки и стала молиться, чтобы у Воинова все получилось. Краем глаза она заметила, что профессор все еще стоит на пороге со скептической усмешкой, насколько можно понять выражение лица, когда оно наполовину закрыто хирургической маской, и не делает никаких попыток помочь Воинову.
– Есть!!! – крикнул Константин Георгиевич. – Зажим в руку!
Через минуту в таз полетел какой-то синий сгусток.
– Разрыв селезенки, – сказал Воинов гораздо спокойнее, – ну, кажется…
Он принялся салфетками осушать брюшную полость и осматривать все органы, чтобы проверить, только ли в селезенке дело или повреждено что-то еще.
– Пот со лба! – приказала Саша, и Элеонора быстро подскочила к Воинову и одним движением отерла ему лоб. Ту же операцию повторила для ассистента и для Саши.
– Гемостаз есть! – Константин Георгиевич перевел дыхание. – Сейчас капайте ей как можно больше физиологического раствора. Проверьте там, поднимается ли давление хоть немного, а мы начинаем обратный ход.
– Все будет хорошо, Константин Георгиевич, – сказала Сашина помощница, – хорошо что взялись, не послушали маститых профессоров.
– Рутинная, в сущности, операция, – хмыкнул Воинов, принимая от Саши иглодержатель, – первую спленэктомию выполнил Жюль Пеан еще в 1867 году, а мы тут сомневаемся, стоит делать или не стоит. Особенно если альтернатива понятно какая.
Набравшись смелости, Элеонора посмотрела на пациентку. Она все еще была очень бледна, но уже не страшной мертвенной белизной.
Когда Воинов начал ушивать кожу, в операционную снова заглянул Крестовоздвиженский.
– Пока жива? Удивительное дело, – едко заметил он, – особенно если учесть, что девушка хотела покончить с собой. Что ж, если артериальное давление держится, возможно, ее планам и не суждено будет сбыться. Но исходно дело представлялось совершенно безнадежным.
Воинов рассмеялся:
– Когда надежда есть, невелика заслуга победить…
Девушку увезли в палату послеоперационного наблюдения, а Элеонора осталась помочь Саше навести порядок.
Рассудив, что Титова очень устала на операции, она сказала, что сделает все сама, пусть Саша скорее идет отдыхать. Наставница не стала возражать, расцеловала Элеонору в обе щеки и со словами «умница ты моя» побежала по своим делам.
Элеонора провозилась больше часа, прибирая операционную со всей тщательностью, на какую была способна.
Проверив каждый уголок и напоследок окинув все помещение придирчивым взглядом, она отправилась в кабинет Титовой доложить о выполнении задания.
Открыв дверь, она увидела только Константина Георгиевича. Он стоял у окна и курил в форточку.
– Элеонора Сергеевна? – сказал он, не оборачиваясь. – Что, досталось вам сегодня? Испугались?
Она кивнула, забыв, что Воинов на нее не смотрит.
– Что поделать, милая Элеонора Сергеевна, такая у нас служба. Бывают такие моменты, а бывают еще и хуже, – последний раз глубоко и жадно затянувшись, он погасил папиросу и обернулся к ней. – С этой девушкой, думаю, обойдется. Окажись на ее месте мужчина, шансов действительно не было бы ни одного, но женщины, слава богу, более совершенные существа.
Он вдруг очень простым жестом взял ее за локоть, и продолжал:
– Так и живем… Трудные победы пополам с горькими поражениями. Я бы хотел посоветовать вам выбрать какое-нибудь другое поприще, но вы так замечательно держались!
– Что вы, Константин Георгиевич! Я просто наблюдала, и все, – Элеонора мягко высвободила свою руку.
– Не скажите! Вы были очень полезны нам, а ваше остроумное решение по обработке рук… Не исключено, что на благоприятный исход повлияло именно это. Мы бы с Сашей начали обработку по Альфельду, потеряв на этом кучу времени! А вы не растерялись, такая молодец!
Благодарно улыбнувшись, она перевела взгляд на его руки. Рукава халата были закатаны, обнажая сильные предплечья с рельефно выступающими мышцами, а сами кисти оказались неожиданно небольшими, изящными, с желтыми от йода кончиками пальцев. Эти руки сейчас вытащили человека из лап смерти, подумала Элеонора и поняла, что отныне будет доверять Воинову безгранично.
Константин Георгиевич был не только талантливым хирургом, но и превосходным учителем. Спокойно и тактично он помогал ей осваивать премудрости работы операционной сестры, а она старалась не оплошать. Как же счастлива и безмятежна она была в те дни, выйдя из замкнутого мирка Смольного института! Началась новая, настоящая жизнь, а будущее казалось невероятно интересным…
Видя, как юная сестричка сближается с доктором Воиновым, Александра Ивановна сочла своим долгом предупредить ее, мол, Константин Георгиевич пользуется репутацией ловеласа и распутника, и репутация эта более чем заслужена. Поэтому Элеоноре следует быть с ним очень осторожной.
Такое предостережение позабавило княжну Львову. Что ж, нельзя требовать от Титовой тонкости натуры, она просто не может понять, что происхождение и воспитание не позволяют Элеоноре «заводить интрижки», тем более с простолюдином. Каким бы хорошим человеком ни был Воинов, он ей не ровня. О, как же потом судьба наказала ее за эту самоуверенность…
После этого разговора ей на минуту стало неспокойно. Вдруг Константин Георгиевич действительно испытывает к ней чувства? Имеет ли она тогда право работать с ним? Может ли пользоваться его поддержкой? К счастью, вскоре выяснилось, что Воинов влюблен в дочь Архангельских, красавицу Лизу.
Ей пришлось стать поверенной этого романа, о чем до сих пор вспоминалось с каким-то темным чувством. Лиза вскружила Воинову голову, несколько раз встречалась с ним наедине, и Элеонора гнала от себя мысли о том, что происходило во время этих встреч.
Почему-то она была уверена, что роман этот закончится браком, представляла, в какой ужас от зятя придет Ксения Михайловна, но Лиза вдруг вышла замуж за промышленника Воронцова. Более прекрасной партии трудно было себе представить, ничего удивительного, что она предпочла миллионера нищему доктору.
Константин Георгиевич ничем не показывал своей сердечной боли, но Элеонора понимала, как он страдает, и от всей души сочувствовала ему.
В то время она сама полюбила и знала, как это тяжело и больно…
Она вдохнула воздух, в котором аромат молодой листвы уверенно пробивался сквозь тяжелый городской запах. Так не хотелось идти домой, там она окажется совсем одна среди четырех стен, а вечные склоки соседей по коммуналке за дверью только подчеркивают одиночество. Когда она поступила в госпиталь, ей дали крохотную комнатку в квартире, населенной разным сбродом. Она ничего не рассказывала про себя соседям, но те сразу определили, что она «из бывших», и не упускали случая ей мелко напакостить или просто напомнить, что время ее прошло. Что, впрочем, не мешало им обращаться к Элеоноре за медицинской помощью.
Она вышла на набережную Фонтанки и остановилась возле чугунной решетки. Черная маслянистая вода медленно текла, отбрасывая на гранитные плиты солнечную тень своих волн… Чуть подальше росла старая ива; перекинув через ограду свой узловатый ствол, она тянула к воде ветви в молодых, но уже седых листьях…
Теперь, когда мир рухнул, когда ветер войн и революций разметал людей по свету и когда остались только воспоминания, она почему-то все время думает о Константине Георгиевиче, а мыслей о своей любви избегает. Почему?
Может быть, потому, что эта любовь оказалась совсем не такой, как ей мечталось в Смольном? Потому, что ради этой любви она сделала то, чего совсем не хотела делать, то, что было противно ее натуре?
Элеонора полюбила поручика Алексея Ланского с первого взгляда, как только увидела. Был такой же весенний день, такая же солнечная погода, воздух полнился любовью и надеждой… И она была такая же светлая и радостная, как весенний денек, и смело отдала свое сердце этому красивому молодому человеку.
Алексей ответил ей взаимностью, но предложение делать не спешил. Элеонора, в мечтах уже нарисовавшая себе и скромную церемонию венчания, и семейную жизнь, и материнство, изводилась, мучилась и ничего не понимала. Наконец, они объяснились, Алексей признался, что так же беден, как и она, и просто не имеет права жениться, особенно теперь, когда идет война и он может быть убит. Оставить Элеонору молодой вдовой с младенцем и без ясных перспектив было бы слишком безответственно с его стороны. Надо подождать, сказал Алексей.
Это объяснение совершенно уничтожило Элеонору. Неужели он не видит, как она его любит? Неужели не чувствует в ней сил вынести любые испытания ради него? Главное – быть вместе перед Богом и людьми, тогда все под силу. Не страшны ни бедность, ни лишения. А если, не дай бог, Алексей погибнет, она достойно воспитает его сына, он во всем может на нее положиться.
Неужели он считает, будто она такая же легкомысленная, как Лиза, и деньги имеют для нее хоть малейшее значение?
Со стороны решение Алексея выглядело благородным и самоотверженным, она пыталась себя убедить, что так оно и есть, но против своей воли чувствовала привкус предательства…
Ей было очень тяжко, и, окончив курсы Красного Креста, Элеонора поступила в подвижной фронтовой госпиталь, начальником которого был Константин Георгиевич. Он долго сопротивлялся, не хотел ее брать, но Элеонора сказала, что все равно уедет, не с ним, так с кем-нибудь другим, и Воинов покорился.
Они служили плечом к плечу, переживали вместе все тяготы фронтовой жизни. Воинов спасал самых безнадежных раненых, и Элеонора ему помогала, как могла.
Он работал как проклятый, иногда не спал трое суток подряд, но всегда находил для нее слово одобрения. Как ей теперь было стыдно за свои мысли о том, что он «не ровня»!
Элеонора восхищалась им, его ежедневным подвигом, тихим героизмом, когда он совершал почти невозможные вещи для спасения солдат и в то же время вел себя так, будто не делает ничего особенного.
Может быть, если бы она раньше поняла величие этой натуры… Но когда в редкие свободные минуты Константин Георгиевич садился возле печки и, держа в ладонях кружку с очень крепким чаем, смотрел на тлеющие угли, Элеонора понимала, что он думает о Лизе и тоскует по ней. Как знать, может быть, надеется на встречу… В такие моменты приходилось напоминать себе о том, что она любит Алексея Ланского и обещала хранить ему верность.
В мерцающем свете керосиновой лампы тени на стенах палатки казались огромными и пугающими, и так уютно было думать, что за брезентом – темнота и звездное небо…
Элеонора беззвучно молилась, чтобы Господь хранил Алексея, чтобы они соединились, когда кончится эта война.
Очнувшись от молитв и мечтаний, она ловила на себе взгляд Константина Георгиевича, спокойный и добрый, и верила, что все сбудется и они будут очень счастливы. Ей рисовались замечательные картины будущего, прекрасное лето, сирень и кружевные зонтики, жизнь на дачах в соседних домиках, Воиновы и Ланские… Вот они с Алексеем сидят на веранде, у нее на руках малютка, и тут возле калитки появляются Константин Георгиевич с Лизой, машут им, приглашая на прогулку.
А между тем в мире происходили перемены такие страшные, что Элеоноре было трудно в них поверить. Может быть, в Петрограде жизнь менялась более явственно, а у них были все те же заботы, все те же раненые. В войсках падала дисциплина, образцовые солдаты вдруг начинали вести себя совершенно недопустимо, и Воинов запретил Элеоноре отлучаться из госпиталя без сопровождения.
Потом она заболела тифом, и Константин Георгиевич, не слушая возражений, отправил ее домой, под крылышко Ксении Михайловны. Если бы он только знал, что дома давно уж нет, гнездо разорено, и Архангельские живут у Александры Ивановны…
Элеоноре просто фантастически повезло получить место старшей операционной сестры в госпитале. Теперь ее вряд ли приняли бы на такое хорошее место, с ее-то происхождением!
И Ланской… Элеонора вздохнула. Когда она вернулась из госпиталя и обнаружила, что в доме тетушки живут совершенно чужие люди, которые то ли не знают, то ли не хотят говорить, где можно найти Архангельских, девушка совершенно растерялась.
И, ни на что не надеясь, она отправилась на Васильевский остров, где жил Ланской. Казалось, ей станет легче, если она просто постоит рядом с его домом. Но в его окнах горел свет, и Элеонора с замирающим сердцем поднялась к нему, готовая снова увидеть чужие равнодушные лица.
Но случилось чудо, и ей открыл Алексей! «Какое удивительное везение, что ты меня застала, – сказал он, целуя ее, – послезавтра я должен ехать к себе в часть. Проходи скорее!»
Она была так счастлива, что Алексей здесь, жив и по-прежнему ее любит! Все остальное не имело никакого значения, они уцелели в этой страшной войне, чтобы быть вместе. Господь соединил их, иначе как объяснить, что они встретились?
Она совсем не хотела того, что произошло потом, и теперь вспоминала свое падение со жгучим чувством стыда. Может быть, лучше бы не было этой последней встречи? Они любили друг друга, Алексей уходил, может быть, на верную смерть, и она должна была соединиться с ним не только душой, но и телом. В тот момент ей казалось правильным, что она отдает то, что берегла для него, и ничего не требует взамен.
Но это сделало ее любовь тягостной, какой-то нечистой. Она все так же молилась за Алексея, так же ждала от него известий, но появилась в душе какая-то червоточинка, чувство презрения к себе.
Ради любви ей пришлось переступить через себя, сделать то, что она ни при каких обстоятельствах не хотела делать, то, чему противилось все ее существо. Если бы Господь благословил нас, он послал бы мне дитя, думала она, малютка стал бы мне утешением, памятью о любимом. Но нет, грех совершен напрасно.
С реки вдруг подул холодный ветер, Элеонора заметила, что небо тускнеет, а вода стала совсем черная и матовая, как бархат. Поздно, пора домой, к своему одиночеству. От Алексея давным-давно нет вестей, наверное, уже и не будет. Может быть, удалось бежать из страны? Дай бог, если так! Дай бог…
Больших операций сегодня не предвиделось, но Знаменского попросили сделать дренирование у больного гнойным плевритом. Раскладывая необходимые инструменты, Элеонора улыбалась под маской. Дренирование было первой операцией, на которой ей доверили подавать самостоятельно. Как она боялась, пока в операционную не зашел Константин Георгиевич с таким убедительным видом, что страх тут же исчез. Как все же ей необыкновенно повезло с наставниками! Александра Ивановна Титова, после рафинированной атмосферы Смольного показавшаяся Элеоноре простой и распущенной женщиной, со временем стала почти родным человеком, научила ее всему, что знала сама, и мягко оберегала от ошибок и ударов. А Воинов… как знать, если бы он тогда не ободрил ее, не дал понять, что она обязательно справится, достигла бы она таких успехов? Смогла бы поверить в свои силы? Ведь можно получить прекрасную подготовку, но в ней не будет ровно никакого толку, если ты не веришь в себя!
Чем дальше время уносило их последнюю встречу, тем чаще она вспоминала Воинова. Когда долго ничего не знаешь о близком человеке, в памяти всплывает то одно, то другое, но всегда есть какой-то момент, или ситуация, или фраза, ставшая чем-то вроде визитной карточки. Для Элеоноры такой «карточкой» было поразительное умение Константина Георгиевича носить воду на коромысле. Странно, гораздо чаще они проводили время в операционной или за осмотром раненых, но стоило ей подумать «Воинов», как в памяти всплывала его стройная фигура с коромыслом на плечах. Носить воду для госпиталя было обязанностью санитаров, но Элеоноре нужна была вода и для себя, и Воинов всегда помогал ей, если был свободен. Бормоча «ах, я страшно спешу, спешу, спешу», он мчался к колодцу, набирал ведра и бежал с ними обратно к палатке совершенно особенным мелким шагом, так что вода не выплескивалась из болтающихся на коромысле ведер. Это зрелище противоречило всем законам физики и потому завораживало.
Воинова совершенно не смущало, что он, начальник госпиталя, бегает, как мальчишка по мелким поручениям.
Было еще одно воспоминание, которое Элеонора хранила в тайниках души как фамильную драгоценность. В минуты особенно сильной грусти и безнадежности она закрывала глаза и словно переносилась в тот серенький февральский день…
Поступила большая партия раненых, так что они с Константином Георгиевичем не выходили из операционной. Почти сутки они провели на ногах, освежаясь глотком воды, пока санитары уносили одного раненого и укладывали на стол другого. Обычно Элеонора старалась быть внимательной к солдатам, разговаривала с ними, но тут все лица слились в один сплошной поток, она словно оглохла, не слышала жалоб и стонов, стояла, как автомат, послушно выполняя все распоряжения Константина Георгиевича. Лишь ближе к вечеру он вывел ее из палатки. В накинутых на плечи тулупах они стоя съели по куску хлеба. Элеонора искоса смотрела на Воинова, в спускающихся сумерках его лицо казалось злым от усталости. Он молчал, хмурился, и ей вдруг показалось, что Константин Георгиевич недоволен ее работой, что предпочел бы видеть на ее месте опытную сестру, а не романтичную дурочку, которая считает, что совершает героический поступок, а у самой не хватает даже душевных сил сочувствовать раненым как должно.
Быстро доев, они вернулись к работе. Чтобы делать все как следует, Элеонора сосредоточивалась на ранах, совершенно не думая о человеке, который лежит на операционном столе и полностью зависит от Воинова и ее действий. «Я черствая и жестокая», – думала она с горечью.
Наконец помощь была оказана всем пострадавшим. Врачи разошлись, санитары под ее руководством сделали уборку и тоже ушли. Она осталась в палатке одна.
Теперь трудно было представить, что еще час назад здесь кипела работа, страдали люди… Стало темно и холодно, все звуки стихли, и Элеоноре вдруг показалось, что она совсем-совсем одна на земле. Это было не страшное, а скорее какое-то свободное чувство, будто стоит ей откинуть легкую брезентовую дверь и оттолкнуться от истоптанного, в кровавых пятнах снега, как она полетит в вечность и пустоту, где нет ни страданий, ни горя, ни одиночества.
Улыбаясь этим странным мыслям, она привычно занялась инструментами. Их надо было тщательно вымыть и простерилизовать, чтобы завтра докторам было чем работать. Кто знает, как сложится день завтра?
Захлопотавшись, она не заметила, как вошел Воинов.
– Устали, Элеонора Сергеевна? – спросил он мягко. – Разрешите, я помогу вам?
– О, вы только все запутаете! – сказала она с улыбкой, которую он, верно, не заметил в полумраке. – Прошу вас, отдыхайте, вы и так сегодня трудились сверх человеческих возможностей!
– А вы? Вы все время были рядом со мной, не так ли?
Она покачала головой:
– Я всего лишь выполняла ваши приказы, а это совсем другое дело.
Не слушая ее, он стал складывать чистые инструменты в большой стерилизатор.
– Видите, я ничего не путаю, – засмеялся Воинов, – не так я безнадежен, как вам кажется… А вы покамест выпейте чай.
Он показал на огромную железную кружку, которую принес с собой и поставил на столик с медикаментами. Элеонора присела на табурет, с наслаждением обхватила горячие бока ладонями, вдохнула поднимающийся от чая парок и только в этот момент поняла, как же она замерзла!
– Там еще кусок рафинада в бумажке я принес, съешьте скорее, а то упадете в обморок, – сказал Константин Георгиевич не оборачиваясь. – Вот я смотрю на вас, Элеонора Сергеевна, и удивляюсь: откуда столько силы и стойкости в хрупкой девушке?
Она промолчала. Положила в рот кусок сахара и зажмурилась от наслаждения. Ах, если бы Воинов обучался в Смольном институте, он бы не удивлялся ее выносливости. Умывание ледяной водой в любую погоду, хождение с палкой за плечами, чтобы осанка стала идеальной, и прочая и прочая… Детство, проведенное в суровых условиях, прекрасно подготовило ее к фронтовой жизни.
Может быть, рафинад, или горячий чай, а вернее всего, доброта Воинова неожиданно растрогали ее, так, что на глазах появились слезы, и Константин Георгиевич, как раз закончив укладывать инструменты, заметил это в темноте.
– Ну что такое? Что? – он вдруг опустился перед ней на корточки, положил свои ладони поверх ее рук, сжимавших кружку, и заглянул ей в глаза. – Не плачьте, прошу вас! Если бы я только мог передать вам всю свою силу, если бы только мог!
Константин Георгиевич покачал головой, и Элеонора улыбнулась сквозь слезы.
– Это горячий чай виноват, – сказала она.
– Да-да, я так и подумал.
Он поднялся, достал носовой платок и каким-то очень простым и естественным движением промокнул ей глаза, а потом вдруг порывисто и в то же время осторожно притянул ее голову так, что щекой она оказалась прижата к его животу.
– Милый мой солдат! Вы никогда не сдадитесь, я знаю. Но если бы вы разрешили мне отправить вас домой…
– Нет, Константин Георгиевич, – буркнула она. То, что происходило сейчас, конечно, совершенно недопустимо, но так хорошо было прижиматься к нему и чувствовать тепло его ладони на своей макушке. – Разве я не справляюсь? Неужто вы хотите избавиться от меня?
– Вы сами знаете, что никто не сможет превзойти вас в мастерстве. Я счастлив, что вы рядом, но еще счастливее был бы, зная, что вам не грозит никакая опасность. Что вы дома, под крылышком Архангельских, здоровы и спокойны и не убиваете себя непосильным трудом. Я молюсь за вас, чтобы с вами ничего не случилось, но, видит бог, это такая ненадежная защита…
– Это самая надежная защита, – Элеонора собралась с силами и мягко отстранила его руку.
Отступив, Константин Георгиевич засмеялся своим низким глуховатым смехом:
– Сомневаюсь, что Господь слушает такого греховодника, как я. Так что, Элеонора Сергеевна, не слишком уповайте на силу моих молитв! Ах, если бы это было в моей власти, сделать вас самой счастливой…
– Я счастлива сейчас, – неожиданно призналась она и, вдруг поймав острый взгляд Воинова, торопливо продолжала: – Я счастлива, что приношу пользу, что я на своем месте. Это ведь счастье, правда?
– Да, счастье. – он помолчал, а потом весело спросил: – Так не поедете домой?
– Нет, не поеду.
– Что ж, тогда заканчивайте здесь и бегите скорее отдыхать.
«Если бы я мог передать вам свою силу!» – сказал тогда Константин Георгиевич, и теперь Элеонора всякий раз, вспоминая о нем, чувствовала, что у нее действительно прибавляется сил!
Подали пациента, и Элеонора тряхнула головой, отгоняя воспоминания. Будет ужасно, если она, замечтавшись, сделает ошибку, тем более в ходе такой простой операции. Элеонора была очень собранной сестрой и все же за работой все время думала о Воинове. Как бы он сделал разрез, какое бы ободряющее слово нашел для больного…
Дома ее ждал прекрасный обед – суп из целой картофелины и ржаной сухарь.
Чем скуднее становился паек, тем больше значения Элеонора придавала сервировке стола. Так казалось, что еды немножко больше.
Она достала полный столовый прибор и расправила салфетку на коленях. Перед тем как начать обедать, немножко помолилась. Этот обычай, усвоенный ею в Смольном институте, почему-то был не принят в семье Архангельских, на фронте ели как придется, а теперь она снова к этому вернулась.
Поначалу она молилась своими словами, но потом проговорила «Отче наш», и на душе стало легче. И Элеонора взяла за правило каждый день вспоминать по молитве, которых в Смольном институте было выучено великое множество.
– …не оставь меня грешную и не отступи от меня за все грехи мои, – тихонько говорила Элеонора, как тут ее прервал дверной звонок.
Девушка прислушалась: если кто-то есть в кухне, то и откроет дверь. Это все равно не к ней.
Элеонора не считала возможным приглашать к себе гостей. Во-первых, просто неприлично, чтобы живущая одиноко девица «принимала», а главное, квартира была так густо заселена, что Элеоноре было просто неловко перед соседями посягать на и без того скудное пространство.
Она закончила молитву, и несколько секунд царила прекрасная тишина, но тут в дверь постучали.
– Сами открывайте своим гостям, – прошипела бледная акушерка Солодкая, но Элеонора не ответила.
На пороге стоял Алексей Ланской…
Возможно ли? Не сон ли это? Сердце колотилось как сумасшедшее, а все вокруг виделось, словно в радужном тумане. Алексей стоял, кажется, улыбался, а Элеонора не могла даже увидеть его лица. Стало нечем дышать, и не верилось, что это все происходит наяву.
Сколько раз она представляла себе их встречу! Сколько раз видела Алексея во сне…
Он шагнул к ней, обнял крепко, но от волнения она не чувствовала любимых рук. Такое долгожданное и такое внезапное счастье! Все слова куда-то исчезли, кажется, она забыла даже собственное имя… И только чувствовала, как глаза наполняются слезами, а она совсем не хотела плакать.
– Дорогая, что ты… – Алексей ласково целовал ее. – Не плачь, не плачь! Все хорошо, я вернулся!
Элеонора отстранилась, пытаясь хоть немного сосредоточить взгляд и рассмотреть любимого. Это получилось с большим трудом, и Элеонора так и не смогла понять, сильно ли Алексей переменился. Просто любимый, вот и все.
Он был в штатском и вдруг показался ей, привыкшей видеть Ланского в мундире, немного чужим.
Наконец ей удалось справиться с волнением. Молодые люди снова крепко обнялись, губы их слились в поцелуе.
Боже, она ведь стала забывать вкус его поцелуев… Почти не помнила тепло его ладоней и ту нежность, с которой он обнимал ее. И как она слушала стук его сердца, склонив голову ему на грудь…
– Алексей, как ты меня нашел?
– Ты же оставила свой адрес на моей старой квартире. Там теперь живут совсем другие люди, так странно… Я даже удивился, что они вспомнили о твоей записке.
Элеонора вздрогнула, подумав, на какой тонкой ниточке висело ее счастье. Не надеясь на человеческую память и обязательность, она оставила свои координаты везде, где Алексей мог бы ее искать: на прежней квартире Архангельских, в Клиническом институте, даже всунула бумажку с адресом профессору Крестовоздвиженскому, притворяясь, что не замечает его недовольства. И все же как хорошо, что нынешние жильцы квартиры на Васильевском оказались ответственными людьми!
Опомнившись, Элеонора усадила Ланского обедать, радуясь, что у нее есть чем его покормить. Сама она не смогла бы проглотить ни кусочка. Он, смеясь, отнекивался, тянулся к ней, но Элеонора с напускной строгостью отводила его руки.
И чувствовала почти физическое наслаждение, глядя, как он ест… В Смольном их учили домоводству: как готовить изысканные кушанья, делать запасы на зиму и экономно вести хозяйство. Элеонора знала, что все прочат ей участь старой девы, с грустью разделяла эту точку зрения и поэтому не слишком увлекалась домоводством, хотя и учила предмет на отлично, чтобы не потерять звание первой ученицы. Теперь у нее вдруг открылся странный талант – из скуднейшего набора продуктов она стряпала вполне съедобные блюда, изумляя даже такую искушенную хозяйку, как Ксения Михайловна.
А этот суп особенно удался…
– Правда, вкусно? – спрашивала она, а Алексей только восхищенно закатывал глаза, и не было в ту минуту счастливее людей на земле!
Выйдя в кухню заварить чай, она без сил опустилась на табурет. Все еще не верилось, что это происходит с ней, слишком быстрая и внезапная перемена. Еще утром она была одинокой девушкой, тоскующей о без вести пропавшем женихе, и вдруг одна секунда, и все изменилось! Это было так трудно принять, что, возвращаясь с чаем, Элеонора секунду помедлила перед дверью, опасаясь, что сейчас она откроет, а в комнате никого нет…
Но Алексей сидел за столом и внимательно смотрел, как она наливает чай.
– Морковный? – улыбнулся он, кивая на чашку.
– Копорский! – гордо ответила Элеонора. – Мы с Ксенией Михайловной сами собирали. Она меня научила, что лес – большое подспорье! Мы осенью с ней набрали и ягод, и грибов… – Элеонора осеклась. Давно подмечено, что люди, встретившиеся после долгой разлуки, часто говорят о всяких мелочах. – Алексей, расскажи же о себе!
Он пожал плечами:
– Это печальная и скучная повесть для любимой женщины. Не хочу тебя огорчать.
– И все же… Расскажи, я слишком люблю тебя, чтобы ты меня щадил.
– Моя судьба ничем не отличается от судьбы большинства русских офицеров, – Алексей поморщился, – разброд и шатание в войсках, потом этот позорный Брестский мир… Потом я попал в Новочеркасск к Алексееву. Ну, а потом моя часть перешла на сторону красных, мне едва удалось бежать.
Элеонора изо всех сил стиснула его руку.
– Я мог бы перейти вместе со своей частью, – криво усмехнулся Алексей, – этим ордам нужны кадровые военные, на одной жажде крови много не навоюешь. Некоторые мои товарищи так и сделали.
– К сожалению, так поступают многие, – вздохнула Элеонора, – даже я, если вдуматься. Я ведь служу в госпитале.
– Дорогая, это совсем другое дело. Ты всегда была слишком строга к себе.
– Господи, какое счастье, что ты вернулся! Ты же насовсем? – с замиранием сердца спросила она. – Ты не должен возвращаться в армию?
– Сейчас такое время, что никто ничего не должен, – грустно заметил Ланской, – наверное, мне, как русскому офицеру, следует пробираться к своим и биться до последней капли крови… Но, Элеонора, чем больше я думаю, тем меньше вижу в этом смысла. Воевать за счастье народа с ним же самим?! Господи, да этот народ, который чуть не расстрелял меня за то, что я не хотел вместе с ним грабить и пьянствовать, пусть он живет как хочет и сам ищет свое счастье! Народ-богоносец… Ты бы видела, какие вещи он творит… Свинство, пакость!
Она молча смотрела на Алексея. Бог знает что ему пришлось пережить…
– Раньше мне все было ясно. Я – русский офицер и защищаю свое отечество от врага. Выполняю святой долг. А теперь, после этого предательского мира, я марионетка в чужих руках, ничего больше. За Русь святую, как бы не так! Даже в Белой армии, там такой клубок темных интересов, что я не понимаю, если отдам жизнь за родину, принесет ли это ей пользу или наоборот. Монархию не вернешь, а все эти прохиндеи, большевики, меньшевики, кадеты – между ними разницы гораздо меньше, чем они думают.
Элеонора украдкой вздохнула. Она очень переживала, узнав о расстреле царской семьи, тоскуя по Николаю Второму, Александре Федоровне и детям так, словно они были ее родными.
Она несколько раз видела императрицу, когда та приезжала в Смольный на Рождество, и даже была ей представлена, как лучшая ученица. Бережно храня в памяти улыбку Александры Федоровны, обращенную лично к ней, Элеонора не могла представить себе, что теперь эта женщина похоронена где-то в общей могиле. А безвинно убитые дети! Элеонора знала, что, как бы человеколюбива, как бы разумна ни оказалась власть большевиков, она не сможет искупить этого страшного преступления.
Вдруг показалось, что они разговаривают слишком громко, но она сразу устыдилась этой малодушной мысли.
– Ну хватит об этом! – решительно воскликнул Алексей, поднимаясь. – Мы снова вместе, вот что важно. Я так скучал по тебе, дорогая! А ты? Столько не виделись, я уж боялся, что ты меня забыла!
– Господи, что ты говоришь! Я жила только мыслями о тебе… Когда у меня почти не оставалось надежды, что ты вернешься, я вспоминала, как мы были вместе, и мне становилось легче.
Алексей притянул ее к себе:
– Ох, как же я скучал! Если бы ты знала, сколько счастливых минут подарили мне мысли о нас с тобой! Сколько раз я представлял, как упоительно пахнут твои волосы…
Они встали возле окна, глядя в густые весенние сумерки. Электричества снова не было, дома высились темными слепыми громадами, лишь кое-где сочился слабый свет керосиновых ламп. Внезапно зарядил дождь, прибив обычный городской шум, быстро разливающиеся лужи весело кипели под крупными каплями. Стена воды словно отрезала их от остального мира, сделала происходящее там далеким и не важным. Главное то, что они теперь вместе – два любящих человека.
Сегодня за этой стеной дождя ничего нет. Они, взявшись за руки, словно на миг заглянули в вечность… «И покинув этот мир, мы соединимся вновь, как сейчас», – вдруг подумала Элеонора и прижалась к Алексею крепко-крепко.
Его руки обвились вокруг нее нежным и теплым кольцом, щекой она почувствовала грубую ткань его рубахи. От Ланского пахло ветром скитаний.
– Больше не надо разлук… – прошептала она, истово надеясь, что Господь слышит ее сейчас.
Его ласки становились все смелее. Элеонора на секунду замерла. Но разве сейчас время думать об условностях, боже мой… Они чудом остались живы, и рука Господа соединила их!
Думать иначе – просто ханжество и жеманство.
И она упала в его объятия…
Глава 2
Алексей быстро уснул, а Элеонора все не могла унять волнение. Неужели это все? Кончились муки ожидания и неизвестности, и наступило счастье. Так быстро, что она пока не поняла этого.
Теперь они вместе и смогут преодолеть все – голод, гонения, что угодно.
Когда соединяются любящие люди, их сила возрастает не вдвое, а стократ!
А то, что произошло между ними сейчас… В следующий раз оно произойдет уже совсем по-другому. И будет не тягостной уступкой, а чем-то совсем-совсем другим! Настоящим слиянием душ.
Мысль повернула в практическое русло. Предстоящее дежурство очень кстати, эту ночь они проведут врозь, как настоящие жених и невеста. Утром она пойдет на службу, а вечером будет несколько свободных часов, и они с Алексеем навестят Архангельских, испросят благословения. Заодно попросит Сашу быть подружкой невесты. Сейчас такое время, что пышная свадьба – просто дурной тон, но обряд есть обряд!
Она не тревожилась, что Ксения Михайловна откажется благословлять. Когда-то тетя была категорически против Ланского, но это было еще в прошлой жизни. Сейчас все изменилось, изменилась и сама Ксения Михайловна. Она стала гораздо добрее к племяннице… Нет, не так. Она и раньше была добра, строго перебила себя Элеонора, просто держала дистанцию, как и следует между воспитанницей и опекуншей. Сейчас мы на равных, я чувствую, что стала ей другом, несмотря на разницу в возрасте. Тетушка очень обрадуется завтра – девушка улыбнулась своим мыслям, – она так переживает, что я выйду за кого-то из «этих плебеев», а тут настоящий русский офицер.
Он мог бы перейти к красным! – от этой мысли у Элеоноры пересохло во рту. О, она бы все равно приняла Алексея, но все же как хорошо, что он этого не сделал! От избытка чувств Элеонора прижалась к любимому, он, не просыпаясь, потянулся к ней губами.
…Сон все не шел, мысли текли какие-то простые и мелкие, совсем не подходящие ее счастью. Где они будут венчаться, в какой церкви? И следует ли регистрировать гражданский брак? Это не принято в их кругу, но в том обществе, где ей приходится вращаться, не будет ли их союз воспринят как простое сожительство? Правда, сейчас это в моде, но Элеонора не собиралась уподобляться женщинам, исповедующим теорию «стакана воды».
Потом она подумала, что сейчас, если придерживаться одних фактов, невольно последовала этой теории, и покраснела. На грех мастеров нет…
Почему же у нее такие мелкие мысли? Может быть, она просто слишком счастлива, и если самозабвенно переживать это счастье, сердце не выдержит? Наверное, это как автоклав (недавно Элеонора, преодолев сопротивление начальства, которое считало, что новые методы – непозволительная роскошь в голодное время, внедрила автоклавную стерилизацию инструментов и операционного белья и очень этим гордилась), если давление слишком возрастает, то пар тонкой струйкой сбрасывается через специальный клапан.
И она дала волю суетным мыслям, раздумывая о том, что ей надеть в церковь, чтобы понравиться Алексею, и не заметила, как заснула.
С наступлением весны в госпитале перестали топить, и теперь в просторных залах операционного блока было холоднее, чем на улице. Не то чтобы очень холодно, но промозгло.
Элеонора вышла в коридор. Там яростно делал зарядку доктор Калинин.
– И-раз, и-два! – командовал он себе, приседая в диком темпе. У нее закружилась голова от этого зрелища.
– Николай Владимирович!
– И-раз! – Калинин выпрямился, шумно выдохнул и улыбнулся, открыв ряд крепких, но неровных зубов. – Слушаю вас, Элеонора Сергеевна.
– Прекратите, пожалуйста! – Элеонора невольно улыбнулась ему, заметив, как напряглись колени молодого доктора в предвкушении приседаний. – В операционной не полагается заниматься спортом.
– Да я только согреться! – смех Калинина звучал неподобающе громко, но ей вдруг тоже стало весело.
– И все же, – она старалась говорить строго, – не полагается.
Калинин заметил, что «микробы, чай, не разлетятся», но приседать перестал.
Это был доктор из так называемых «кухаркиных детей». Благодаря усердию и природным способностям он получил образование, но манеры его оставались далеки от совершенства.
Калинин заглянул ей в глаза:
– Элеонора Сергеевна, а вы будете?
– Если вы спрашиваете, буду ли я на вашей операции, то нет. Не волнуйтесь, я назначу вам опытную сестру.
– Но это моя первая аппендэктомия!
– Я знаю и уверена, что вы справитесь блестяще.
– Пожалуйста!
Хлопнула дверь, и в коридоре появился Знаменский с планом операций на следующую неделю.
– Послушайте, Калинин! Будьте хоть немного аккуратнее! А то не поймешь, то ли доктор рецепт написал, то ли электрокардиограмма снята!
– Кардиограмма – что вы, откуда! – Калинин широко ухмыльнулся. Он обладал поразительной способностью отводить упреки, даже справедливые. – Роскошь по нынешним временам. Потом, сейчас свобода слова, а у меня – свобода букв!
– Я могу пойти еще дальше и объявить в госпитале свободу от вас, – сказал Знаменский сурово, пряча улыбку. – Что, доктор, уговариваете Элеонору Сергеевну встать с вами на аппендэктомию?
Это обращение вдруг неприятно царапнуло. Всех врачей Знаменский называл по имени и отчеству, а бедного Николая Владимировича – доктор Калинин или просто доктор, невольно подчеркивая разницу в, как теперь говорят, «социальном происхождении». Это вдруг показалось Элеоноре несправедливым. Калинин очень умный и способный врач, а чтобы овладеть профессией, ему пришлось преодолеть неизмеримо больше трудностей, чем детям из благородных семейств. А маститые доктора обращаются с ним свысока, и, если бы не революция, никогда бы Калинину не подняться выше земского врача!
– Хорошо, я помогу вам, Николай Владимирович, – неожиданно для самой себя сказала она, – только если вы не будете тянуть. Я сегодня не могу задерживаться.
– Надеюсь, мой дорогой, вы оцените эту честь, – буркнул Знаменский, – спасибо, Элеонора Сергеевна, теперь я спокоен за больного, а то без пригляда доктор Калинин такое натворит, что господи помилуй.
Элеонора засмеялась:
– Николай Владимирович опытный хирург! Я уж так, на счастье.
– Да, всем известно, что у вас необыкновенно легкая рука. Боюсь показаться старым брюзгой, но вижу тут проявление не высших сил, а высшей квалификации. Что ж вы стоите, доктор? Скорее подавайте больного, пока Элеонора Сергеевна не передумала!
Калинин умчался, а Элеонора пошла в операционный зал проверить, все ли готово. Что ж, все на месте, только очень холодно. Сейчас бы поприседать по методу Калинина! Но нельзя… Она знала, что с началом операции забудет о холоде, полностью сосредоточится на пациенте. На фронте в такие минуты она даже не слышала разрывов снарядов…
Хуже всего пациенту, хоть и говорят, что охлаждение во время операции полезно. Но человека и так знобит от волнения, а тут еще и мороз в операционной! И Элеонора решилась на святотатство – использовать одеяла. Не шерстяные, разумеется, байковые, и перед каждым использованием прожаренные раскаленным утюгом, но все равно это вопиющее нарушение санитарного режима.
– Элеонора Сергеевна, – Знаменский вошел в операционную вслед за ней, – что случилось?
– Ничего.
– Правда? Но сегодня ваши глаза так сияют! Меня так и тянет выглянуть в окно и проверить, действительно ли там все как так, как обычно.
– Все так…
– Разве? Вы уж простите старого дурака за прямоту… Я всегда считал вас удивительной девушкой, но сегодня вы светитесь прямо-таки неземным светом.
Она тихо улыбнулась, опустив взгляд. «Нет, ничего не случилось».
Просто завтра она придет на службу и тихо, буднично объявит, что вышла замуж. И Знаменский будет подтрунивать: «Ах, вот оно в чем дело!» А доктор Калинин отпустит какую-нибудь грубоватую шутку и первый захохочет своим плебейским смехом, от которого у всех почему-то улучшается настроение.
И сестры порадуются за новобрачную, даже те, кто ее недолюбливает. Ведь жизнь продолжается, несмотря ни на что.
Знаменский вот удивился, что она радуется жизни, когда все так плохо. Да, наступили страшные времена. Жестокое время, когда ты в одночасье можешь лишиться всего, что у тебя есть, а то и самой жизни. Но есть одно, что никто отобрать не может, – это любовь. Этот бесценный дар остается с тобой навсегда, и он важнее всего остального, даже самой смерти.
Элеонора посмотрела в окно. В по-весеннему бледном небе висело огромное белое облако. Оно было похоже на великана, готовящегося поглотить город. Дул небольшой ветер, облако двигалось быстро и как-то деловито.
И на Элеонору вдруг снизошло удивительное ощущение счастья. Пронзительная минута, когда она поняла: все, что происходит вокруг, – это нужно и правильно; и горе, и разлука, и смерть – это тоже счастье. А жизнь – краткий миг, когда ты видишь, часть чего ты есть…
Ей вдруг показалось, что Алексей не слишком рад визиту к Архангельским. Нет, не может быть! Просто он волнуется, это совершенно естественно.
Элеонора надеялась, что Ланской все решил, пока она была на службе: договорился в церкви и в отделе регистрации браков. Правда, там теперь, кажется, не нужна предварительная запись, просто приходишь с документами, и все. Но надо хотя бы узнать, где это находится и часы работы.
Она едва не поддалась разочарованию, узнав, что он ничего не сделал. Но Алексей прошел трудный и опасный путь, ему нужно время, чтобы прийти в себя.
Будь она на его месте, разумеется, первым же делом бросилась бы готовить свадьбу, но мужчины устроены иначе. Ничего, Ксения Михайловна с удовольствием возьмет практическую сторону дела в свои руки, улыбнулась Элеонора. Она обожает подобные вещи.
Не исключено, что завтра утром у меня будет настоящее свадебное платье! – она с нежностью подумала о своей энергичной и властной тетушке.
Ах, если бы только она не была в тот день такой счастливой и уверенной! Если бы заметила, как нехотя Алексей идет с нею к тетке! Если бы правильно поняла его молчание…
Им открыла Александра Ивановна. Кажется, она не очень обрадовалась непрошеным гостям, потому что замешкалась в дверях.
В Сашиной жизни произошли удивительные перемены, какие обычно бывают только в сказках. Зимой из скитаний вернулся Шварцвальд, причем вернулся самым неожиданным образом. Он перешел на сторону большевиков! Когда Петр Иванович рассказал об этом, Элеонора не поверила, решив, что дядя разыгрывает ее или просто шутит. Но нет. Новая власть, получив лежащую в разрухе страну, отчаянно нуждалась в специалистах, а барон, безусловно, был великолепным организатором и блестящим эпидемиологом. Он умел вникнуть в суть проблемы и найти остроумное решение. Элеонора помнила, как прекрасно и слаженно работал Клинический институт под его началом. В то время ей не с чем было сравнивать, но многие доктора, перешедшие в институт из других мест, говорили, что нигде больше нет такой приятной атмосферы для работы.
Элеонора не знала подробностей того, как Шварцвальд принял такое решение и кто составил ему протекцию, но теперь он снова занял пост директора института, параллельно войдя в состав разных комиссий. Обычно клиницисты недолюбливают организаторов, но от сотрудников госпиталя она слышала о бароне только хорошие отзывы. Даже Знаменский признавал, что его программа борьбы с испанкой позволила избежать многих жертв.
Вернувшись в Петроград, Шварцвальд сразу женился на Саше. Была в этом какая-то горькая ирония, что революция, отобрав у барона все, подарила влюбленным настоящее счастье.
И Александра Ивановна жадно, вопреки всему наслаждалась этим счастьем…
Она столько лет была любовницей барона, родила ему двоих детей, которые успели вырасти, прежде чем их мать обвенчалась с их отцом. Но барон был представителем старого рода, а Саша – простолюдинка, да еще и считающаяся замужней. Элеоноре как-то случайно пришлось стать невольной свидетельницей их объяснения, и она, хоть была в то время совсем юной и неопытной девушкой, тем не менее поняла, что это великая любовь.
И все же при прежнем порядке барон не решался на брак с разведенной дамой из самых низов. А теперь то ли мировоззрение его действительно переменилось, то ли перенесенные страдания сделали его мудрее, но он наконец соединился с любимой женщиной.
Когда барон вновь стал директором института, Саше пришлось уйти со службы, муж и жена не могут работать в одном учреждении на руководящих должностях, поэтому она с головой окунулась в роль хозяйки дома.
– Ксения Михайловна с Петром Ивановичем уехали, – сказала Саша неприветливо.
– Как? Куда? – у Элеоноры подкосились ноги. Она слишком хорошо знала, что это может значить. – Их что… взяли?
Последнее слово она произнесла одними губами.
– Нет. Нет, дорогая, не бойся, – смягчилась Саша, видя ее отчаяние, – они просто уехали.
– Но куда?! Саша, пожалуйста…
– Если вернутся, они сами тебе расскажут, а нет, так тебе и знать не надо!
Резкий тон подруги напугал Элеонору еще больше. Она крепко стиснула руку Алексея. Что случилось? Почему Саша говорит загадками?
– О, какие приятные гости! – барон вышел в прихожую и добродушно приобнял жену, отодвинув ее с порога. – Проходите, дорогие мои! Элеонора, э… Алексей Владимирович, если не ошибаюсь… Милости просим.
От волнения Элеонора еле нашла в себе силы поздороваться.
– Саша, прошу тебя, скажи, где Архангельские? И почему они ничего мне не сказали?
– Мне кажется, Сашенька, Элеонора имеет право знать, – негромко произнес барон, – Петр Иванович с женой уехали на съезд Королевского хирургического общества в Лондон. Ну что ж вы стоите? Проходите скорее, будем пить чай.
Элеонора была так ошеломлена, что не нашла предлога отказаться.
У Шварцвальдов были гости, судя по громким голосам и насквозь прокуренной гостиной, люди того круга, в котором теперь приходилось вращаться бедному барону.
Шла яростная дискуссия о политике. Если бы Саша была настоящей великосветской дамой, она бы знала, что разговоры о политике – дурной тон, и направила бы беседу в другое русло. Все же какая удивительная штука – любовь, соединяет совсем разных людей…
Шварцвальд представил их собравшимся, но Элеонора выделила только двоих – молодую даму, мрачные глаза которой странно не вязались с кукольно-красивым личиком, и широкого плотного мужчину средних лет. Остальные слились в серую безликую массу.
Алексей ввязался в разговор, а она приняла свою чашку с желудевым кофе и стала думать. Надо же, Архангельские уехали в Лондон! Понятно, что они не вернутся. Там Лиза, да она просто не отпустит родителей. Слава богу, что у них получилось соединиться с дочерью. И нужно радоваться, раз им так повезло, а не обижаться, что дядя с тетей ничего ей не сказали и не простились с ней. Боялись, что она донесет? Или, наоборот, что у племянницы начнутся неприятности, когда они не вернутся? А может, просто забыли о ней в предвкушении встречи с родной дочерью? Каковы бы ни были эти причины, она не имеет права сердиться! Это низко и недостойно, Архангельские всегда были к ней добры.
Получается, теперь некому выдать ее замуж за Алексея… Саша? Вот она хлопочет, подливает чай своим гостям, а на Элеонору даже не смотрит.
Шварцвальда теперь почти нигде не принимали, и трудно сказать, что послужило более веской причиной – его переход к красным или женитьба на простушке.
И Саша завоевывала то общество, которое было ей доступно.
Элеонора обвела взглядом гостиную. Барону вернули его старую квартиру, они с Сашей и детьми со дня на день переедут, Архангельские останутся в Англии. Ей больше не придется здесь бывать. Дом, в котором столько всего пережито, станет чужим…
Она так остро почувствовала одиночество, что взяла Алексея за руку и крепко стиснула. Он удивленно повернулся к ней, но сразу вернулся к разговору.
– Правильно говорит товарищ Ленин: или вошь победит социализм, или социализм победит вшей! – горячилась девушка с мрачными глазами. – Особенно в войсках! Мы не можем позволить себе потери еще и от сыпного тифа. Борьба должна быть такой же ожесточенной, как с классовым врагом.
Шварцвальд вдруг улыбнулся Элеоноре, наверное, вспомнил, что она болела сыпным тифом.
– Действительно, очень обидно, – сказал он мягко, но все прислушались к нему, – вот человек, венец творения, всемогущий царь природы. А потом вдруг заражается испанкой, например, и все. Конец. Бесконечно великое уничтожается бесконечно малым.
Элеонора поняла, что это намек на Свердлова, санкционировавшего расстрел царской семьи, и погибшего недавно от испанки. Правда, среди докторов ходили упорные слухи, что в его смерти виноваты организмы несколько крупнее, чем вирус гриппа. Якобы его избили до смерти рабочие. Но Элеонора не интересовалась ни жизнью, ни смертью пролетарских вождей. Чем грандиознее становилось творимое ими зло, тем более ничтожными людьми казались они сами. И ненавидеть их… слишком много чести!
Она совсем не таким представляла себе этот вечер. Казалось, родные станут радоваться за нее, а теперь Саша не обращает внимания на них с Алексеем.
– А я много о вас слышал, – плотный человек передвинул венский стул и сел рядом с нею. – Николай Васильевич вам предлагал должность главной сестры института, если не ошибаюсь?
– Нет, не ошибаетесь.
– Что ж не пошли? Я вижу, вы человек серьезный.
– Во-первых, это было бы кумовство. Все знают, что мы очень близки с Александрой Ивановной. Кроме того, я недостаточно подготовлена для этой работы.
– Ах, моя дорогая, – засмеялся человек. Элеонора вспомнила, что его зовут Сергей Антонович, – человек совершает великие дела именно тогда, когда он недостаточно подготовлен.
Она дежурно улыбнулась, не зная, как отвязаться от собеседника. Думала, ей поможет Алексей, но тот увлекся общим разговором. С эпидемиологических проблем беседа перешла на роль искусства в современной жизни. Но в разговоре по-прежнему лидировала товарищ Катерина, девушка с мрачными глазами. Чем банальнее были ее суждения, тем резче и категоричнее она высказывала их.
А Сергей Антонович все расспрашивал ее о службе в госпитале и о том, как она была на войне. Элеонора отвечала так скупо, как только позволяли приличия, и считала минуты до ухода.
Но, когда она наконец поднялась, ее ждал новый удар. Сергей Антонович вызвался довезти ее до госпиталя, а Алексей почему-то не возразил ему. Он ввязался в жаркую дискуссию о современной поэзии. Зачем? Стихи либо находят отклик в твоем сердце, либо нет, и спорами тут ничего не изменишь. Элеонора не увлекалась поэзией, и ее потрясло, как много в этой области знает Алексей и как хорошо декламирует, сдержанно и точно передавая смысл стихотворения.
И как-то так вышло, что Ланской оставался в гостях, а ее провожал Сергей Антонович. Алексей нежно простился с ней, мол, в автомобиле ей будет гораздо приятнее, чем идти пешком в такую даль. Кажется, его не смущало, что она остается наедине с незнакомым мужчиной.
Элеонора кинула Саше отчаянный взгляд, надеясь, что старшая подруга защитит ее, но та ответила лишь многозначительной улыбкой.
Смысл ее был вполне ясен – Сергей Антонович слишком влиятельный человек, и если он предлагает подвезти, нужно соглашаться, чтоб не было неприятностей ни у нее самой, ни у хозяев дома.
Ах, если бы Саша была настоящей баронессой! Она бы ни за что не допустила этой поездки. С другой стороны, Элеонора сама нарушила правила, явившись в гости в сопровождении молодого человека. Жених или не жених, а это дает повод смотреть на нее косо и избавляет Сашу от забот об ее добродетели. Ах, скорее бы уже пожениться, чтоб не было таких двусмысленностей.
Помощь неожиданно пришла от Шварцвальда. Извинившись перед гостями, он сказал, что проводит Элеонору сам. Мол, ему необходимо проветриться от папиросного дыма.
Лиза не понимала, что все позади и авантюра Макса удалась. В его плане виделось столько препятствий – просто не верилось, что они будут преодолены. Во-первых, приглашение на конгресс. Разумеется, Королевское хирургическое общество было бы очень радо видеть Петра Ивановича Архангельского в числе участников, но никому в голову не могло прийти, что для этого нужно делать официальный запрос. Обычно достаточно было личного приглашения.
Но вот ходатайство было отправлено, и оно не затерялось, пришло по назначению и было удовлетворено.
И настал день, когда Лиза встречала родителей! Она до последней минуты не верила, что это происходит в самом деле, и волновалась так, что Макс не пустил ее на вокзал.
Она осталась дома (на время конгресса они переехали в Лондон вместе с детьми) и бестолково металась по огромной квартире, запрещая себе верить, что сегодня увидит папу с мамой.
И когда раздался звонок, она сама побежала открывать, чувствуя, что сердце сейчас разорвется.
Она едва их узнала! На пороге стояли двое стройных молодых людей с живыми, резкими лицами. Куда делась степенная стать мамы и папина дородность! Только серый дорожный костюм Ксении Михайловны был прежним, да и тот почти вдове ушит.
Увидев ее растерянность, родители разом обняли дочь. Она прижималась к ним, все еще не веря, и плакала, и смеялась, и никак не могла их отпустить.
И Лиза вдруг подумала, что они ведь действительно молоды! Матери еще далеко до пятидесяти, а у отца юбилей был только в прошлом году. Они вовсе не замшелые древности, которые приехали доживать свой век под крылом у дочери. Впереди еще много дел!
– Господи, господи, – только и повторяла она, всхлипывая, – как же я соскучилась! Мы теперь всегда будем вместе?
И мать крепко-крепко обнимала ее, потому что не было слов выразить переполнявшую их любовь.
Только Максу удалось их разнять, и то не сразу. Он занес чемоданы, показал Архангельским их комнату и предложил освежиться с дороги. Распорядился подать обед через час, хотя это было Лизиной обязанностью.
Девочки спали, и решено было их не будить, но Ксения Михайловна не утерпела, заглянула в детскую и вышла со слезами на глазах.
– Какие красавицы, – умилялся Петр Иванович. Он хотел держать сразу обеих внучек на руках, но потерпел неудачу и расположился с девочками на ковре у камина, разрешая им ползать по нему и всячески терзать. Казалось, он абсолютно счастлив, Лиза даже немного приревновала. Сама она прижалась к матери, положила голову ей на плечо, и ничего другого было не нужно. Как она могла раньше ненавидеть мать и злиться на нее? Лиза горько раскаивалась, сердце болело, но это была правильная боль.
– Детки – вылитый отец.
– О нет, – засмеялся Макс, – потакая моему отцовскому тщеславию, вы очень расстраиваете меня. Надеюсь, они пойдут в Лизу. Я-то не слишком удался.
– А вот и нет. У вас, Макс, абсолютно правильные черты лица. Носик, например, гораздо изящнее, чем у супруги. У нас в роду ни у кого не было идеальных носов, – засмеялась Ксения Михайловна, – и у Петра Ивановича, к сожалению, тоже.
– Глядя на Лизу, так не о чем жалеть, – Макс подмигнул жене.
– Я тоже очень рада, что дочь не похожа на меня, – вдруг сказала Ксения Михайловна, – в роду Львовых никогда не было очень красивых женщин. Я даже в юности не была хороша собой, как и моя дорогая племянница Элеонора. Лизе просто повезло.
– Вы наговариваете на себя, – галантно возразил Макс, – и на Элеонору тоже. Насколько я помню, она очень мила.
– Но не так, как это нравится молодым людям! Ей нужно выходить замуж, а как? Женихов почти не осталось. Сердце кровью обливается, когда я думаю, что она останется старой девой. Не скрою, раньше я боялась за нее, особенно когда она отправилась на фронт… – Ксения Михайловна тихонько вздохнула. – Только теперь, когда мы вместе пережили все эти ужасы, я по достоинству оценила ее благородство!
Лизе вдруг стало грустно. Какой-то червячок шевельнулся в душе, зависть – не зависть, но что-то очень на нее похожее. Неужели Элеонора стала родителям ближе, чем она сама? Мама так восхищается ею, вдруг она и полюбила ее больше, чем Лизу, которая стала совсем обычной женщиной и жила так, что у нее просто не было случая проявить сильные стороны своей натуры?
Она посмотрела, как отец играет с внучками на светлом пушистом ковре, как ровно, уютно потрескивая, горит огонь в камине… Как он отражается в глазах мужа, счастливых и немного печальных. Что ж, пусть они совсем разные с сестрой. Элеонора – свет, а она, Лиза – тепло. Каждому свое, и нельзя сердиться.
– Не такие уж и ужасы, – вдруг проворчал с ковра Петр Иванович. Лиза удивилась, что он их слышал, отец казался полностью поглощенным девочками. – Я знаю, ходит много слухов про нашу действительность. Некоторые из них совершенно адские, а некоторые не соответствуют действительности. Вы не слишком-то пугайтесь.
– Дорогой мой, – вскинулась Ксения Михайловна, но он жестом остановил ее.
– Я не буду отрицать то, чего не знаю, но и не могу говорить о том, чего не было, – произнеся эту несколько туманную фразу, Петр Иванович встал. – Тебе не кажется, Лиза, что детям пора спать?
Она вызвала няню, та увела упирающихся девочек.
– Петр Иванович, – подал голос Макс, – в наших кругах говорят такое, что просто не верится. Мозг отказывается все это принимать. Но потом думаешь, что нормальный человек такое сочинить тоже не может, значит, получается, это правда.
– Да, многое правда. Но я могу говорить только о том, что произошло с нами. Да, нас выселили из дома, отобрали все имущество, но мы живы и здоровы. Знаем, что ты в порядке, а что еще нужно? Барахло – да не жалко, все эти бриллианты, столовое серебро, оно ж мертвое все! Родные люди, дети рядом… Руки-ноги целы, голова на месте, новый день – вот в чем счастье! Нет, дорогие, вы меня поймите правильно, – рассмеялся отец, глядя на озадаченную физиономию Макса, – я не в восторге от нового правительства и от всех этих потрясений. Я просто хочу сказать: как бы ни была трудна жизнь, она все равно лучше смерти. А теперь, когда мы с тобой, Лиза, так нам просто грех жаловаться.
Лиза понимала, что отец успокаивает ее, не хочет, чтобы она мучилась, думая о тех страданиях, которые им пришлось пережить. Голод, лишения, а главное – страх. Вернее, беззащитность. Знать, что в любую минуту тебя могут «забрать», держать в тюрьме или убить… И нет правил, которые позволили бы тебе избежать этого.
Как сказала сегодня мама, с приходом большевиков поговорка «от сумы и от тюрьмы не зарекайся» обрела совершенно новый смысл.
Слава богу, все позади, думала Лиза, без сна лежа рядом с мужем. Родители теперь рядом, а бог даст, скоро эта безумная власть падет. Макс говорит, шансов удержаться у них не так и много. Все вернется, и наступит день, когда они все поедут в Петербург. Дочери увидят город, в котором родились все их предки…
Вдруг Лиза вспомнила доктора Воинова. Он так непрошено и резко вторгся в ее мысли, что она даже растерялась и покосилась на мужа, спит ли, не заметил ли, как она вздрогнула.
Она ведь почти забыла о нем… О том восторге, который он для нее открыл…
Если бы она решилась выйти за него замуж, у нее была бы совсем другая судьба. Не такая спокойная и благополучная, а, наоборот, полная испытаний. Как знать, хватило бы у нее сил их преодолеть? Но зато у нее не было бы сейчас неловкого чувства, что она отсиделась в сторонке и уклонилась от предназначенной ей ноши.
Лиза прижалась к мужу, он что-то пробормотал и обнял ее, не просыпаясь. Родной, уютный… Он так же не похож на Воинова, как Элеонора не похожа на нее саму.
Им с Костей было очень хорошо вместе. Он был прекрасным любовником, страстным, нежным и… И чужим, безжалостно закончила мысль Лиза. Он всегда оставался мне чужим, даже в момент высшего единения. Так что нечего жалеть.
Глава 3
Дежурство выдалось на редкость хлопотным, она не прилегла ни на секунду, но Элеонора была этому даже рада. После бессонной ночи у нее почти не осталось сил волноваться и нервничать.
И все равно она переживала, почему Алексей позволил ей уйти от Саши в сопровождении этого чертова большевика! Слава богу, Шварцвальд защитил ее доброе имя, но Алексей должен был сделать это сам!
Почему-то сердце грызла еще какая-то неясная обида на Александру Ивановну, смутное чувство, в котором Элеонора не хотела давать себе отчета. Саша выстрадала и в полной мере заслужила нынешнее свое счастье, но… Кажется, теперь у нее совсем не находилось сил для нежности к прежней воспитаннице, да и вообще все на свете стало для нее не важным.
Она очень надеялась, что Алексей зайдет за ней на службу и они отправятся регистрировать брак, но его не было, и Элеонора побежала домой.
Комната была пуста…
Ни записки, ничего. Только «сидор» Алексея подтверждал, что его возвращение не было сном.
Где он, куда ушел? А вдруг его взяли? – от этой мысли Элеонора похолодела. В их огромной коммунальной квартире кто только не живет… Вполне могли донести куда следует.
Она опустилась на кровать, стиснув лоб ладонями. Нет, нет, нельзя об этом думать! Мало ли какие у него дела.
Несмотря на все разумные доводы, что Алексей ищет работу или пошел повидаться с кем-нибудь из старых друзей, холодный страх не отпускал ее.
Элеонора так волновалась, что не могла ничего делать, ни порядок наводить, ни готовить. Все валилось из рук.
Вспомнив, что не спала ночью, она решила прилечь. Во сне время летит незаметно, а когда проснется, Алексей будет уже дома. Но ничего не вышло, она смотрела в потолок, а сердце колотилось как бешеное.
Он вернулся в десятом часу вечера, Элеонора бросилась в его объятия и сразу устыдилась своих страхов. Как не стыдно быть такой мнительной!
– Дорогой, как мы теперь поступим? – спросила она, когда они, скудно пообедав пшенной кашей, приступили к чаю.
– Прости?
– Я думаю, просто пойдем и повенчаемся, вот и все. Пусть это будет событие только для нас двоих, правда?
Алексей поставил чашку на стол.
– Видишь ли, любимая, – начал он мягко, – я думаю, нам не стоит пока этого делать.
– Этого чего? – она все еще не понимала.
– Венчаться!
Время словно замерло на секунду, а потом с размаху ударило ее в лицо.
– Ты… Повтори, пожалуйста, кажется, я тебя не поняла, – у нее все еще оставалась тень надежды.
– Элеонора, прошу тебя, не делай трагедии на пустом месте. Я всего лишь считаю, что сейчас не время венчаться. Это формальность, и пока лучше обойтись без нее.
– Формальность? – ей было так больно, что сердце разрывалось. О, лучше умереть, чем переживать эти минуты. – Самое важное в жизни для тебя формальность?
– Послушай, мы вместе, и это главное! Я вернулся к тебе, я с тобой, что еще нужно? – горячился Алексей. – Зачем подвергать себя лишней опасности ради пустого обряда?
– Без этого пустого обряда я стану падшей женщиной, – она удивилась, как глухо звучит ее голос.
– Ой, не усложняй! Все изменилось, сейчас другая жизнь, другие законы, другая мораль. Никто не посмотрит на тебя косо.
– Да, всего лишь я сама себя возненавижу…
– Милая, я все понимаю. Но рассуди сама… Мне нужно устраиваться на службу, тебя тоже могут перевести на более высокую должность. Будучи у Шварцвальдов, я слышал, что это почти решенный вопрос. Нам дадут анкеты, и что нам придется в них писать, если мы поженимся? По сути, донос друг на друга. Зачем это нужно? В первую очередь тебе зачем муж – белый офицер?
– Опомнись, что ты говоришь, – простонала она, – я люблю тебя, я ждала тебя все это время, и сердце мое с тобой! Кто бы ты ни был, я не откажусь от тебя!
– Я тоже, любимая! – Алексей взял ее за руки. – Мы соединились наконец и всегда будем вместе, но зачем оповещать об этом власть, которую мы не приемлем? Достаточно, что мы с тобой уверены друг в друге. Сейчас очень тяжелые времена, Элеонора, власть в руках подонков, а на благородных людей идут страшные гонения. Мы должны затаиться, должны выживать любой ценой.
– Если мы будем выживать любой ценой, то перестанем быть благородными людьми.
– Ах, не играй словами.
– Это не слова. Ты хочешь, чтобы мы просто жили вместе? Чтобы я была твоей любовницей? Это невозможно, Алексей! Просто невозможно.
– Не любовницей, а фактически женой. Мы просто обойдемся без формальностей. Сейчас такое время, что все нас поймут, и Бог, и люди.
– Такое время, что, наоборот, надо себя соблюдать! – воскликнула она. – Алексей, мне трудно это объяснить… Понимаешь, когда заходит солнце, люди зажигают свечи, и тьма не наступает.
Она смотрела на него, умирая от любви, но понимала, что все кончено. Мир обращался в пепел, а сама она – в камень.
– Я не могу продолжать этот унизительный разговор, – сказала она спокойно, – последний раз прошу тебя, одумайся. Иначе между нами все кончено.
– Любимая, это я тебя прошу! Я ведь забочусь о нас обоих, если мы сейчас поженимся, с нашими-то биографиями, то медовый месяц проведем в ЧК, причем порознь. Подождем немного. Мне кажется, скоро все переменится, Юденич идет на Петроград. Эта безумная власть падет, и мы сразу же обвенчаемся.
– Довольно! – каждое его слово жгло ее, словно кислота. – Замолчи. Если мы не женимся, мы должны немедленно расстаться. Уходи, пожалуйста!
– Куда же я пойду? Мне некуда идти.
– Хорошо, останься до утра. Я переночую на службе, но когда вернусь, прошу, чтобы тебя здесь не было.
Элеонора схватила жакетик и убежала.
Выскочив на улицу, она глубоко вдохнула холодный ночной воздух.
Если бы она осталась дома хоть минутой дольше, она бы закричала.
Боль была почти невыносимой, будто в сердце воткнули раскаленный прут, а она не могла его выдернуть. Надо терпеть…
Это был не просто холодный удар судьбы. Сейчас рана была заражена гноем предательства, и она будет болеть и дергать очень долго, а вернее всего, не заживет никогда.
Можно еще все исправить, достаточно поверить, что Алексей прав. Убедить себя, будто опасность действительно так велика. Решить, будто их любовь выше условностей, а брак – просто пережиток прошлого, как говорят теперь. Будто, не связанные обязательствами, они только крепче станут любить друг друга, зная, что связывает их настоящая любовь и желание быть вместе, а не ложный долг и пустые клятвы.
Не так уж трудно убедить себя в этом, особенно когда твоя душа кричит – уступи! Любой ценой, любым способом облегчи мои муки, убери этот раскаленный прут, убивающий меня!
Браки совершаются на небесах, а не на земле… И Алексей не так уж преувеличивает, точнее, говорит чистую правду. Сейчас нужно сообщать в отдел кадров обо всей своей семье, это верно, а ничего хорошего с точки зрения новой власти они друг о друге написать не могут.
Венчаться – тоже риск, если кто-нибудь увидит и донесет.
Любому человеку с неподходящей биографией стало жить опасно, а женатому – опасно вдвойне. Новая власть придумала совершенно удивительную практику – за грехи жены забирать мужа и наоборот.
Алексей любит ее и хочет, чтобы они были вместе, чтобы жили, а не погибли в ЧК.
И так хочется согласиться с ним! Бежать назад, в его объятия. Обменяться клятвами в вечной верности и решить, что этого достаточно.
И кто ее упрекнет? Архангельские уехали и никогда не узнают, что она пала. Саша… Ей будет приятно узнать, что благородная княжна так же грешна, как и она сама.
Элеонора остановилась. Несмотря на поздний вечер, на улице было очень оживленно.
Проезжающий трамвай был туго набит, люди торопились по своим делам, пробегали мимо нее, толкали… На секунду у Элеоноры возникло чувство, будто она заброшена сюда из какого-то другого мира и впервые в жизни видит эти пыльные стены домов, окна, уходящие под тротуар, нарядно-красную коробку трамвая и людей, таких разных… Вот они идут, кто-то мрачный, кто-то наоборот. Человек в толстовке и с вытертым добела кожаным портфелем, может быть, спешит по делам, а может, торопится домой, к стакану чая в серебряном подстаканнике. Юноша с девушкой идут, взявшись за руки. Они молчат, даже не улыбаются. О чем они думают? Или этот пожилой человек с эспаньолкой. Есть ли у него семья или он совершенно одинок и сам гладил свой костюм, безуспешно пытаясь скрыть, что тот стал ему сильно велик?
Страна переживает великие и страшные перемены, но каждый проживает свою собственную жизнь. Бог дал человеку высшее сокровище – свободу воли, и нельзя из страха отказываться от нее.
Вернуться к Алексею и зажить с ним как любовница? Каждую минуту ожидая, что он уйдет, когда станет опасно? Скажет, что они должны расстаться ради ее же спасения, и исчезнет… Какую боль испытает она тогда? Стократ сильнее, чем сейчас, или, наоборот, облегчение, ибо каждый лживый поцелуй Алексея будет больнее, чем удар ножом?
Их жизнь будет ложь!
В каком-то смысле брак действительно условность, и беда совсем не в том, что, не связанный обязательствами, Алексей в любую минуту оставит ее одну. Она не искала в их союзе никаких выгод, никакого облегчения своей участи.
Элеонора была готова к любым невзгодам, даже к смерти, лишь бы только они стали «плоть едина». И когда они первый раз были вместе, это было правильно. Смерть притаилась тогда совсем рядом, готовая выскочить из-за любого угла и забрать или ее, или его, или их обоих. Тогда это было правильно – соединиться, впечататься друг в друга, чтобы потом хранить в сердце всего любимого целиком, если уж не получится пройти жизнь вместе с ним… Тогда это было действительно не важно, она стала любовницей любви.
Теперь ей предстоит стать любовницей страха.
Проходя мимо, люди задевали ее, с раздражением думали, что за странная женщина застыла посреди улицы. Нужно решать, возвращаться ли. Боль пройдет, а к стыду она привыкнет. И ночь, которой она не стыдится сейчас, станет воспоминанием распутной девки.
Господи, как же больно! Если она сейчас откажется от Алексея, душа просто не выдержит этой боли и умрет… Но если останется – сгниет заживо!
Ради любви можно пережить все, только не унижение.
Элеонора шагнула в сторону госпиталя. Это был трудный и болезненный шаг, но за ним последовал второй.
Она шла, хоть каждый шаг будто отрывал кусок от ее сердца.
Дежурил доктор Калинин, он как раз закончил операцию и записывал ее в журнал. Элеонора хотела проскользнуть незамеченной в маленький закуток возле автоклавной. Там стояла кушетка, и сестры частенько ночевали на ней, особенно зимой, когда дома было так холодно, что приходилось оставаться в пальто.
Благодаря предыдущей ночи на дежурстве она чувствовала, что сможет уснуть. Хоть во сне, хоть ненадолго избавиться от боли.
А если бы он погиб? Ей было бы больнее… и легче! Ее любовь, ее душа осталась бы жива, а не издыхала бы сейчас в муках унижения, как бродячая собака.
Так тяжело узнать, что ты отдала душу, да и тело недостойному человеку. Что твой герой – не герой, любовь – не любовь, да и ты – не ты.
– Элеонора Сергеевна, здравствуйте! – Калинин симпатизировал ей, и сейчас засмеялся от удовольствия, что ее видит. – А вы разве дежурите? Ой, что с вами?
Николай Владимирович поставил в журнале большую кляксу, и Элеонора удивилась, почему ее это огорчило.
– Ничего, все в порядке. Просто у меня дома соседи… Решила, спокойнее переночевать здесь.
– А почему у вас лицо такое опрокинутое? Что случилось, милая Элеонора Сергеевна? Кто-то умер?
– Я.
– Что?
– Ох, простите. Никто, слава богу.
– Тогда что? Заболел? Вы скажите, я помогу!
Она думала, что разучилась плакать. Но дружеское участие Калинина вдруг лишило ее самообладания, она почувствовала, как глазам становится горячо… Чтобы не расплакаться, она сильно закусила губу и покачала головой:
– Нет, ничего. Все здоровы, – еле удалось прошептать, но слезы покатились по лицу, а она не могла их остановить.
Калинин был простой и невоспитанный парень, но он сделал вид, будто не заметил ее слез!
– Ну, раз никто не умер и все здоровы, то жизнь продолжается, – сказал он задумчиво, – остальное – это мелкие неприятности, я как врач говорю.
Она на секунду отвернулась, вытерла слезы и улыбнулась. Бог знает каких усилий ей стоила эта улыбка.
– А давайте я вас чаем напою! – продолжал Николай Владимирович, как ни в чем не бывало. – У меня есть немножко самого настоящего чая.
Элеонора покачала головой.
– Давайте, давайте! Чаем, конечно, горю не поможешь, но от всяких штучек судьбы это лучшее лекарство, по себе знаю. Особенно если с сахаром, а у меня как раз есть.
– Николай Владимирович, вы так хлопочете обо мне, между тем ничего не случилось. Все в порядке.
– Знаю, знаю! Пусть это будет взятка, ладно? Чтобы вы еще раз потом встали со мной на операцию? Пожалуйста! Вы когда помогали мне на аппендиците… Я так раньше никогда не оперировал! Это было как волшебство, я другого слова не найду.
Она кивнула и почувствовала, что натянутая улыбка становится искренней.
Черт возьми, она не погибла! Она может дышать!
У нее есть дело, которое она любит. Она нужна людям, нужна больным, нужна доктору Калинину, который теряется без ее подсказок, нужна сестрам, которых может научить всему, что умеет сама.
А счастье… Да бог с ним, слишком тяжело оно дается.
Она вздохнула. Боль никуда не делась.
Больно, значит живой! – говорил доктор Воинов солдатам, когда в госпитале не хватало лекарств.
И он был прав.
Глава 4
Она еще надеялась, что Алексей одумался. Что малодушие, овладевшее его сердцем, пройдет, и он встретит ее дома.
Элеонора даже помолилась украдкой, чтобы Господь укрепил его душу.
Но Ланской ушел, когда она вернулась домой, там было пусто. Исчезла его шинель без знаков различия, исчез «сидор», и даже запах папирос испарился без следа. Будто Алексея здесь не было и ей приснилось и счастье, и отчаяние.
Однако ложиться в постель, где они были вместе, Элеонора не могла. Она подарила кровать соседке, а сама устроилась на полу, на тощем тюфяке.
А сон не шел к ней и на полу, мучительные воспоминания, как они были вместе с Алексеем, не отпускали.
Элеонора почти переселилась на работу, кушетка за автоклавной стала ее постоянным ложем, благо с наступлением весны желающих ночевать на службе резко поубавилось.
Она работала, как сумасшедшая, набрала еще больше дежурств и подавала на сложных операциях, даже когда была свободна. Во время работы она забывала обо всем.
Но через неделю Знаменский выгнал ее, приказав три дня не появляться на службе. Мол, загоняя себя таким образом, она приносит не пользу, а вред.
С этим было трудно не согласиться.
День она промаялась дома, надеялась отоспаться, но ничего не вышло, как она и предполагала. Сон покинул ее, кажется, навсегда.
Элеонора боялась засыпать, ибо в эти минуты приходили самые горькие мысли, а просыпаться резко, будто от толчка, было еще хуже.
Сидеть дома – невыносимо, а пойти некуда. Недавно появилось новое развлечение – кинематограф, но Элеоноре оно совсем не понравилось.
Вдруг ее навестила Саша.
Шварцвальды переезжали, барону вернули его прежнюю квартиру на территории института. По прежним понятиям это была холостяцкая квартира, но по нынешним временам трех комнат на четырех человек считалось более чем достаточно.
Саша пригласила ее на новоселье.
– Будут только самые близкие друзья, – сказала она и, смутившись, добавила: – Сергей Антонович тоже будет. Он мне, кстати, замечал, что очень хотел бы тебя видеть.
– Тогда я, пожалуй, не приду. Поздравлю вас в неофициальной обстановке, если позволишь.
– Элечка, послушай меня! Сергей Антонович – очень влиятельный человек, и мы очень ему обязаны. Страшно подумать, что было бы с Николаем, если бы не помощь Кострова.
– О! Это и есть сам Костров? – фамилия была на слуху, но в подробности Элеонора, естественно, не вникала.
– Да, моя дорогая, это он и есть! А ты просто не хочешь знать, что он не только очень важный чин в правительстве, но и хороший человек! Ты считаешь, что раз большевик, значит дьявол, но это не так! Совершенно не так!
Саша горячилась, значит, не верит в то, что говорит, отметила Элеонора хладнокровно.
– Он давно знает о тебе, еще заочно. Николай рассказывал о твоих подвигах, он тоже восхищается тобой, просто у меня не было случая сказать тебе, – тараторила Саша, – и он очень, очень жалеет, что ты отказалась перейти на мою должность. Ты была бы идеальной главной сестрой.
– Сашенька, я слишком молода, никто не поверит, что меня назначили за истинные заслуги. Начались бы всякие грязные сплетни, а я этого не хочу.
Александра Ивановна с досадой махнула рукой:
– А всегда сплетни, привыкай. И чем ты чище, тем они грязнее. В любом случае приходи. Такое знакомство будет тебе очень полезно.
Элеонора выпрямилась на стуле:
– Полагаю, Костров рассчитывает на иное знакомство.
– Ну да, ты ему понравилась! Но он же взрослый человек и прекрасно видит, что с тобой нельзя просто… Ну, ты понимаешь. Он не женат, и ничего плохого, если он за тобой немного поухаживает.
Поухаживает…
– Эля, он хороший человек. Не какой-то там оголтелый. Они с Николаем знакомы давно, вместе ездили на эпидемию чумы в Маньчжурии в десятом году.
– Так он врач? – удивилась Элеонора.
– Нет, конечно! Был обычным делопроизводителем, но Николай тогда заметил его способности. А Костров тоже оценил мужа по достоинству. Шварцвальду ведь пришлось бороться не только с бактерией чумы, но и с косностью наших чиновников, что гораздо хуже. Еле удалось выбить разрешение на вакцинацию, правительство долго сопротивлялось, и знаешь почему? Потому что автор вакцины – иудей! Я не говорю о том, что этот иудей, Владимир Хавкин, родился в Одессе, и если бы ему позволили работать в России, то вакцина была бы нашей, нам не пришлось бы закупать ее в Англии.
Элеонора пожала плечами:
– Он мог креститься.
– А он не хотел! Ты бы приняла иудаизм ради работы? А почему он должен? Вот и уехал в Швейцарию! Николай говорил, что эта потеря сравнима с потерей части территории страны. Когда знаешь такие вещи, перестаешь считать революцию порождением ада.
Не хотелось ссориться, поэтому Элеонора промолчала и пошла в кухню за кипятком. У нее был маленький примус, мощности которого вполне хватало для ее скромных потребностей, она вообще старалась занимать в квартире как можно меньше места.
Саша сетует, что евреям не разрешали работать, где они хотят. Ну да, ужасно, когда ты не волен в своих убеждениях и должен предать их ради того, чтобы заниматься любимым делом. Это страшная несправедливость. Но разве сейчас иначе? Разве ты можешь исповедовать любую веру? Нет, стало только хуже. Саша спросила, приняла бы она иудаизм ради службы. Не такой уж праздный вопрос, если подумать. Людям постарше еще позволяется «политическая незрелость», а с молодых спрос особый. Придумали какой-то «комсомол», к ней уже подъезжал фельдшер Шура Довгалюк, мол, образцовая сестра, все берут с нее пример, а она до сих пор не в комсомоле. В любой момент скажут: или вступай к нам, или пошла вон. Только уехать придется не в Швейцарию, а несколько севернее. На Соловки.
Чайник уютно зашумел. Элеонора поискала глазами рукавичку. Да, вот она, валяется на соседском столе, и снова опалена. Бесцеремонные соседи часто хватают ее вещи, пользуясь тем, что она никогда не скандалит. Брать рукавичку стало противно, и она взяла ручку через полотенце.
– Саша, я очень хочу поздравить вас с новосельем, – мягко заметила Элеонора, подавая подруге дымящуюся чашку, – но, боюсь, мне не следует поощрять Кострова. Так я не приду, и он обо мне забудет, а иначе… Он потребует то, что я не смогу ему дать, и тогда он сильно разозлится. И на тебя в том числе.
– А на меня-то за что?
– Ну как же! Прости за резкость, но ты получаешься сводней.
Саша поджала губы:
– Интересно рассуждаешь. У меня приличный семейный дом.
– Вот именно. И в приличных домах не приводят одиноких девушек по просьбе мужчин.
– Н-да? – хмыкнула Саша. – А как же ваши великосветские балы и приемы?
– Не знаю, я никогда там не была, – Элеонора улыбнулась, стараясь шуткой смягчить разговор, – дорогая моя Сашенька, ты ведь не должна принимать всех этих людей! Они всего лишь деловые партнеры барона, пусть он сам их принимает у себя в кабинете, если это нужно. Совершенно нет необходимости устраивать эти вечера и сближаться с ними больше, чем этого требует служба Николая Васильевича.
– Почему же? – по проступившему на щеках румянцу видно было, что Саша рассердилась. – Почему я не должна их принимать? Недостаточно благородное общество? А ты не забыла, что я сама не из благородных? Все твои аристократы нос воротят от меня, даже Архангельские. Уж куда там, голубая кровь, а я для них ничтожество последнее! Пока их пригрела, кормила-поила, когда их вышвырнули на улицу, так Сашенька-Сашенька, а как я вышла за Николая, так губы стали поджимать. Прислуживать им хороша была, а в баронессы Шварцвальд рылом не вышла!
Элеонора протянула руку, желая остановить подругу, но та гневно отмахнулась:
– Николая не принимают, ах, женился черт знает на ком да перешел к красным! Преступление, можно подумать! А почему Николаю предложили должность? Разве потому, что он гад и предатель? Нет! Потому что, пока они бездельничали, состояния свои проматывали, он трудился как каторжный и принес много пользы стране и людям! Уверяю тебя, если бы твоим любимым аристократам предложили, так они бы помчались задрав штаны еще впереди барона, только вот они никому не нужны, поэтому и бесятся!
– Мне кажется, ты немножко неправильно воспринимаешь…
– Черта с два! Высшее общество, подумаешь! Чем оно так уж прекрасно? Принимало изящную позу, сидя на шее у народа? Вот мы теперь и посмотрим, особенные они или нет, когда им придется жить так же, как простым людям. Я тебе так скажу, Элеонора. Пусть мои гости недостаточно изысканное общество для тебя, но это хорошие люди, которые всего добились собственным трудом, как и я. И я скажу, чтобы тебе понятно было: это аристократия нового общества. Мы с Николаем всю жизнь работали и завоевали право быть среди этих людей. Не по праву рождения, не из-за денег, а только по своим заслугам. Мы слишком много перенесли и заслужили право жить, и я не собираюсь от этого отказываться из-за замшелых предрассудков!
Элеонора только кивнула. Что тут возразишь? Она чувствовала, что все это неправильно, но не могла сформулировать ответ даже для себя, не то что для воодушевленной революционной моралью подруги.
– И ты могла бы их отринуть, ведь тоже всю жизнь своим трудом жила! Переходи к Николаю на мою должность, ты прекрасно справишься. Я помогу, если что. Нужно пользоваться возможностями, которые открывает новая власть, а не рыдать об утраченном.
– Я и не рыдаю.
– Ну и молодец. Все же приходи к нам на новоселье, присмотрись к Сергею Антоновичу. Я тебе точно говорю, он порядочный человек, что плохого, если я, как старая мамаша, хлопочу о выгодной партии для тебя?
– Саш, но он в отцы мне годится, – засмеялась Элеонора.
– Милая моя, ты должна смириться, что нравишься зрелым мужчинам. Только умудренный жизнью человек способен оценить твою прелесть. Помнишь, за тобой ухаживал какой-то старый граф, и мой барон, кстати, от тебя без ума, я даже ревную. Тебе, мне кажется, тоже интереснее с умными людьми, чем с молокососами. Присмотрись, может, что и получится. Не буду скрывать, нам сейчас очень нужно расположение Кострова. Архангельские уехали, а Николай-то за них поручился, что вернутся! Если бы не его хлопоты, шиш бы их пустили на этот конгресс. Видишь, какие благородные твои дядя с теткой, милостиво дозволили Николаю устраивать их дела. Оказали такую честь, не побрезговали! А то, что у нас будут крупные неприятности, им дела нет! Или они считают, что для нас, недостойных, честь страдать ради их счастья?
Элеоноре вдруг стало очень тоскливо, почти физически трудно слышать Сашин голос. По-житейски она права, но, боже мой, какая это грязная и скучная правота.
Или это намек? Мол, раз твои родственники подвели моего мужа, искупай их вину, сойдись с могущественным большевиком…
Но это же Саша! Саша, которая терпеливо учила ее, благодаря которой она стала лучшей операционной сестрой в Петрограде! Которая подарила ей первое рабочее платье! Которая приютила у себя Архангельских и делилась с ними каждым куском хлеба! Которая всегда помогала ей и утешала ее…
Она просто очень измучилась. Долгожданное счастье досталось ей слишком тяжело.
Две недели конгресса пролетели очень быстро. Лиза была счастлива, как никогда в жизни, купаясь в лучах родительской любви. Утром муж отправлялся в Сити по делам, папа – на научное заседание, а они с мамой оставались нянчить девочек.
– Господи, какое счастье! – как-то воскликнула Ксения Михайловна. – Я могу больше не воспитывать ни тебя, ни внучек! Могу просто любить…
Добросовестно отсидев утреннее заседание, Петр Иванович частенько сбегал после перерыва, и от этого школярского поступка просто неприлично молодел, становясь действительно больше похожим на гимназиста-прогульщика, чем на маститого профессора.
Он очень любил дочь, но истинными королевами его сердца стали все-таки внучки. Вся любовь мира, возведенная в квадрат, и то будет мало, говорил Макс.
Иногда Лиза думала, почему родители не оформляют документы на жительство, но сразу прогоняла эти мысли. Максу лучше знать, вероятно, он все уже устроил. Кончится конгресс, и они все вместе поедут в Грэндж, родители отдохнут, опомнятся после страшных испытаний. А потом… Да все что угодно! С его опытом и репутацией отец украсит любой госпиталь! А если не захочет работать, еще лучше! Гонорары от издания монографий позволят родителям чувствовать свою независимость, Лиза знала, что для них это очень важно.
Словом, будущее виделось ей в спокойных, светлых тонах.
Каким же ударом стало известие, что родители собираются обратно в Россию!
Лиза сначала не поверила, посчитала это неудачной шуткой и искренне рассмеялась:
– Папа, не пугай меня, я уже не маленькая!
Но лица родителей оставались серьезными.
Они собрались у Макса в кабинете, как обычно поздними вечерами. Топили небольшой камин, играли в карты или просто смотрели на тени, отбрасываемые огнем на каминный экран. Вели тихие, неспешные разговоры, делились воспоминаниями. И вдруг такое известие.
– Но это невозможно, – сердце забилось как сумасшедшее, – просто невозможно! Вы погибнете…
– Что ж… Империи рождаются, живут и умирают, и долг гражданина умереть вместе со своей страной.
– Петр Иванович, оставь этот пафос! – досадливо воскликнула Ксения Михайловна и обняла дочь. – Ты готов и сам мучиться, и всех измучить! Лиза, милая, будь моя воля, я бы осталась!
Мать крепко обняла ее, а Лизу затопила боль предстоящей разлуки. Неужели есть что-то важнее, чем быть вместе?
– Действительно, Петр Иванович, – вступил Макс, – вы врач и ученый с мировым именем, не пропадете здесь. И, к слову, принесете гораздо больше пользы людям и науке, чем если вернетесь в Россию, где вас унижают, заставляя пользовать всякий сброд.
– Это высшее призвание врача, пользовать всякий сброд, – буркнул Петр Иванович, – не буду скромничать, я действительно неплохой хирург, именно поэтому я нужнее там. Именно в России мои знания необходимы, а здесь таких, как я, полно!
Ксения Михайловна отвела Лизину руку, встала и подошла к окну, делая вид, что разглядывает вечерний лондонский пейзаж, прибитый к земле плотным туманом. Значит, все это время они спорили, поняла Лиза. Мама так хотела остаться с нею и делала вид, что останется, чтобы не омрачать радость известием о скорой разлуке. И до последней минуты надеялась, что муж передумает… Лиза тихонько заплакала.
– Не надо, пожалуйста, – отец протянул ей руку, – не рви нам сердце, ведь сейчас мы еще вместе.
– Папа…
– Действительно, Петр Иванович, – Макс открыл ящичек с сигарами, мужчины закурили, – эти ваши пациенты, которым вы так нужны, что готовы к разлуке с семьей… Они ведь не просят вас им помогать.
– Совершенно точно! – резко заметила Ксения Михайловна. – Это Петру Ивановичу приходится доказывать, что он достоин лечить больных, а не разгребать снег! Благодарности от этих плебеев ждать не приходится. Ладно гонораров, я уж за тридцать лет привыкла к его бескорыстию, но и обычной человеческой благодарности тоже нет! Зачем метать бисер перед свиньями?
– Затем, что такая судьба, – отец добродушно усмехнулся, выпустил дым, и Лиза подумала, как же мало она знает его. – Вы, Макс, уехали, так как у вас были деловые интересы. Лиза последовала за мужем, это совершенно естественно. Так сложилось, что вы не можете вернуться, это тоже судьба, ни о каком предательстве тут речи быть не может. У вас маленькие дети, их нельзя подвергать опасности. Ну а мы с Ксенией Михайловной принадлежим больше прошлому, чем будущему. И должны быть рядом с нашим прошлым.
– Если уж философствовать, дорогой тесть, то все мы живем в настоящем.
Петр Иванович грустно покачал головой:
– Мы просто не можем остаться. За нас поручился Шварцвальд, нельзя подвести его.
– Неужели он не понимал, что вы не вернетесь?
– Понимал. И сказал, что готов к такому повороту.
Мать тяжело вздохнула:
– Лиза, мы не можем нарушить слово. Будь я одна, смогла бы ради тебя, а Петр Иванович – нет. И когда ты станешь взрослее, ты поймешь, что это тоже ради тебя и ради девочек.
– Не плачь! Еще неизвестно, долго ли продлится это безумие. Надеюсь, в конце лета все решится, к власти придут нормальные люди, и мы сможем ездить друг к другу в гости, сколько захотим.
Мать прижалась щекой к ее мокрой щеке:
– У нас впереди еще целый день! Давай проведем его радостно.
– Да, Лизонька… – отец взял ее за руки, совсем, как в детстве. – Я сердцем чувствую, мы расстаемся ненадолго.
– А если нет? – всхлипнула она.
– А если нет, то дети все равно рано или поздно теряют своих родителей, – тихо сказал Петр Иванович, – поэтому в случае чего у тебя будет одно преимущество – ты будешь думать, что мы живы.
Глава 5
Элеонора долго раздумывала, идти ей к Шварцвальдам или не стоит. Гости будут все больше того пошиба, после визита которых хозяйки пересчитывают столовое серебро, да и праздник какой-то странный. Барону милостиво возвращают его исконную собственность, чему тут радоваться? А тут еще Костров… Судя по тому, что он спрашивал о ней у их партийного активиста Шуры Довгалюка, вечно ошивающегося в горкоме, интерес его не угас. Теперь весь госпиталь знает, что Элеонора водит знакомства с партийными бонзами, а это совсем нехорошо. Те, кого она уважает, получили повод ее презирать, а остальные – завидовать.
С другой стороны, Саша ее наставница и подруга и, похоже, единственный близкий человек на этом свете, ведь Архангельские уехали. Разве правильно отталкивать ее из-за неподобающих знакомств? Допустим, она не придет, Саша ее, конечно, простит, но прежней открытости между ними уже не будет.
Если уж на то пошло, аристократический мирок, частью которого она себя считает, тоже не очень-то привечает ее. После отъезда Ксении Михайловны с Петром Ивановичем она не получила ни одного приглашения. Все как раньше: без красоты, состояния и связей она никому не интересна. Ты сама виновата, сразу возразила себе Элеонора, ни с кем не сблизилась, с девушками тебе было скучно, а молодые люди… Да, они тебя не замечали, так ведь ты и не старалась их привлечь. Смирись с тем, что ты больше сестра милосердия, нежели аристократка, и не чуждайся таких же сестер, как ты сама.
И только она решила идти, даже связала в подарок прелестную накидку для кресла, как Саша внезапно навестила ее сама. Вид у старшей подруги был понурый и слегка виноватый.
– Как хорошо, что ты пришла, – улыбнулась Элеонора, – располагайся, будем пить чай.
– Нет, спасибо, – Саша крутила в руках свою модную шляпку, переделанную, очевидно, из старого котелка барона. Даже в голодные времена эта женщина ухитрялась выглядеть элегантно, частью благодаря природной грации, а в основном за счет умелых рук и изобретательности. Элеонора, увы, была совершенно лишена этого дара. Аккуратность – вот главная характеристика ее внешнего облика.
– Чем же мне тебя угостить?
– Ничего не надо, я по делу. Хотела сказать… Черт, как неудобно, – замялась Саша, – но все равно придется. В общем, Элечка, если ты решила не ходить к нам, так и не ходи. Я пойму.
– Нет, что ты! – Элеонора была очень тронута. – Я, наоборот, приду и прошу тебя не обижаться на мой… снобизм, что ли.
Саша поморщилась, как от зубной боли, и опустилась на стул, безжалостно комкая шляпку:
– Дело не в тебе. Я так и знала, что ты передумаешь, верное сердечко. Просто… Ладно, ты все равно бы узнала! Твой бывший жених сошелся с этой Катькой, и она притащит его с собой. А вам, как я понимаю, встречаться не с руки.
Сначала Элеонора подумала, что ослышалась. Потом – что Саша ошиблась и считает ее бывшим женихом кого-то другого.
– Ты хочешь сказать, Алексей Ланской ухаживает за товарищем Катериной?
Саша засмеялась:
– Во всяком случае, он с ней живет, а уж ухаживает ли, я не знаю.
Эта пошлая шуточка очень больно ударила Элеонору. Да нет, это не может быть правдой. Просто смешно. Русский офицер и эта большевичка с мрачными глазами, люди из разных миров.
– Не переживай, я думаю, эта любовь ненадолго. Катька у нас сторонница свободных отношений. Хотя в наше время это называлось иначе, – едко сказала Саша. – Постоянно лекции читает девчонкам, мол, раньше они были рабынями рабов, а теперь – гуляй сколько хочешь. Но, знаешь ли, революция революцией, а себя соблюдать тоже надо.
Стало так тоскливо слушать эту убогую мораль! Элеонора невольно подумала, на какой тонкой нитке держалось ее счастье. Если бы они не пошли к Архангельским в тот вечер, Алексей не узнал бы Катерину, не влюбился бы в нее… Да полно! Разве это любовь? Просто она открыла ему глаза на то, что с женщинами возможны гораздо более приятные и менее обременительные отношения, чем брак. Если бы не тот вечер, Алексей бы женился на ней. И она стала бы счастливой новобрачной. Но как долго бы продлилось это счастье?
Слава богу, что все получилось именно так! Если человеку суждено предать тебя, пусть он сделает это как можно раньше.
– Саша, ты слишком хорошо меня знаешь, чтобы предполагать, будто я способна устроить скандал, верно? Ну а для этой дамы, если я правильно понимаю суть свободных отношений, провести вечер с бывшей возлюбленной своего любовника тоже не составит труда.
Саша вымученно улыбнулась:
– Так-то оно так, но все же не хотелось бы ее злить. Она для нас очень нужный человек.
– А я нет? – засмеялась Элеонора.
– Ты тоже, но пойми правильно, ты своя, родная. А она та еще штучка! В партии чуть ли не с детства, героиня Гражданской войны. Вроде бы должность скромная, всего лишь парторг института, но она что-то вроде богини у своих большевиков. Дверь ногой открывает в любые кабинеты. Сама понимаешь, очень не хочется злить такую фигуру. Вдруг сам Ланской что-нибудь отчебучит, когда увидит вас вместе, уверенности-то в нем нет, после всего, что он намутил.
– Хорошо, я не приду, – быстро оборвала Элеонора. От Сашиных пошлостей у нее начала кружиться голова. – Давай, моя дорогая, все же попьем чаю?
У тяжелых и радостных дней есть одно общее свойство – они проходят. Время бежало в хлопотах и заботах, и только увидев пожелтевшие листья на деревьях, Элеонора поняла, что лето прошло.
У нее почти не было времени грустить. В мае началось наступление Белой армии на Петроград, и поначалу казалось, что падение большевиков неизбежно. Все замерли в ожидании, в аристократических кругах только и было разговоров о победе Юденича. Элеонора же сутки напролет проводила в госпитале: его мощностей не хватало для помощи всем раненым. Доктора в буквальном смысле жили на работе, неунывающего Калинина забрали на передовую, хирургов не хватало, поэтому Элеонору определили в гнойную операционную. Вообще гнойная и «чистая» хирургия, это как христианство и ислам: нельзя исповедовать и то и другое, хоть суть одна и та же. Врач, вскрывший гнойник или обработавший гнойную рану, временно становится парией и не может появиться в чистой операционной до следующего дня. При полном штате хирурги обычно работали попеременно то в чистом, то в гнойном отделении, не пересекаясь, ну а когда она служила в подвижном госпитале, большинство больных отправлялось в тыл до того, как у них начинались нагноения, а если все-таки до этого доходило, то ими занимались в конце дня, когда была сделана вся остальная работа.
Теперь, когда все силы были брошены на прием раненых и больных, Элеонору посчитали достаточно опытным специалистом, чтобы она управлялась в гнойной операционной без врача. Она чистила страшные раны, промывала раздутые воспалительным процессом культи, удаляла гниющие участки мышц и костей, стараясь не слышать стонов раненых и не смотреть им в лицо, а в голове крутилась мысль: неужели стоит платить такую цену? Неужели все это нужно?
Пусть бы не было никакого наступления, никакого подвига и святого дела, лишь бы все эти юноши были живы и здоровы…
Она совсем не думала о том, что это бойцы Красной армии, враги, люди, стоящие на стороне зла. Они были просто ее пациентами, и Элеонора всей душой сочувствовала им.
Правда, иногда у нее просыпалась совесть. Ах, не здесь она должна сейчас быть! Не отсиживаться во вражеском тылу, а помогать тем, кто воюет за правое дело. Ведь линия фронта совсем близко, нужно пробираться к своим.
Но какие-то непонятные ей самой соображения удерживали ее от этого шага. Это была не трусость, нет. Может быть, женский стыд или чувство ответственности за свой родной операционный блок. Если она уедет, все развалится, это совершенно точно.
Мешала и родственная обязанность перед Ксенией Михайловной. В положенный срок Архангельские вернулись из Англии, чрезвычайно удивив всех. Шварцвальды были шокированы, а барон так и вовсе расстроен: неужели он недостаточно ясно дал понять Петру Ивановичу, что тот ничем не обязан ему за поручительство?
Петр Иванович говорил, что все равно не смог бы жить на чужбине, и, собственно, когда же быть патриотом, как не в тяжелую для родины годину. Что главное не общественный строй, а земля и люди. Элеонора подумала и решила, что тоже не смогла бы жить в эмиграции.
Они делали вид, что все хорошо, и бодрились, но у обоих был потухший взгляд людей, утративших надежду.
Особенно плох был Петр Иванович. Ксения держалась службой и светской жизнью, она, как и прежде, была стержнем их маленького островка, оставшегося от прежнего мира, наносила визиты, принимала, взбадривала отчаявшихся, подкармливала голодных и прочее. Именно она нашла для Элеоноры дело, позволившее той не чувствовать себя дезертиром. Некоторым раненым офицерам удавалось перейти линию фронта и добраться до жен и матерей. Но обратиться за медицинской помощью им было некуда, врачей теперь обязали сообщать в ЧК обо всех случаях огнестрельных ран. И бесполезно было протестовать против этого позорного правила, придуманного полицейскими властями во времена Парижской коммуны. Умолчавший об огнестрельной ране неизвестного происхождения рисковал головой.
Пострадавшие офицеры находились дома на нелегальном положении, и Элеонора ходила в эти семьи якобы в гости, а на самом деле обрабатывать раны. И Ксения Михайловна, даже в такое тяжелое время пекущаяся о приличиях, ходила вместе с ней. А потом приноровилась и сама стала очень ловко делать несложные перевязки, когда Элеонора не успевала всех обойти. Наверное, это была их родовая черта – в горе загонять себя работой до бесчувствия.
А Петр Иванович после службы приходил домой и покорно ждал свою половину из «тайных рейдов милосердия», как он это называл. Лицо его, прежде доброе, но волевое, теперь словно обмякло, он выглядел растерянным ребенком.
Как-то Элеонора забежала к ним, когда Ксении Михайловны не было дома, и поразилась, насколько дядя стал беспомощным. Он хотел угостить ее чаем, но не смог даже разжечь примус. Начал искать заварку и на полпути забыл, что ищет.
Элеонора задержалась возле комода, на котором стояли большие фотографии Лизы и девочек. Петр Иванович перехватил ее взгляд:
– Если бы ты знала, как я их люблю! – воскликнул он с такой силой, что у Элеоноры сжалось сердце.
Вдруг собственные переживания насчет Ланского показались ей фальшивыми, словно ненастоящими. Разве можно сравнивать ее детскую истерику с горем родителей, навеки разлученных с дочерью и внучками? Как не стыдно ей было думать, что у нее самое горькое горе на земле, погружаться в бездну отчаяния только из-за того, что ее сказочные фантазии не сбылись?
Однако, строго сказала себе Элеонора, ты влюбилась в прекрасного рыцаря, а грешила с обычным мужчиной из плоти и крови, к тому же, кажется, подлецом!
Тоска по Алексею вдруг прошла, уступив место гораздо более мучительному чувству – чувству стыда. Как могла она грешить, решив, что ей позволено больше, чем другим? Любовь не искупает позор…
Благодаря Ланскому она стала падшей женщиной. Нельзя больше лукавить перед самой собой, пора назвать вещи своими именами. Она – грешница, а за то, что считала себя выше греха, – грешница вдвойне.
Теперь ей могут помочь только самые лучшие помощники человека – труд и молитва.
После того как Саша переехала к Шварцвальду, у Архангельских появился новый сосед. Кто бы вы думали – Костров!
Элеонора оторопела, увидев его в общей кухне по-домашнему, с белоснежным вафельным полотенцем на шее и взъерошенными мокрыми волосами.
Увидев ее растерянность, Костров внезапно быстро улыбнулся ей, сверкнув острыми татарскими глазами, так неподходящими его широкому спокойному лицу. Элеонора вдруг все поняла о нем и перестала бояться. «Ты мне нравишься, – сказала эта улыбка, – и я вижу, что тоже тебе нравлюсь, хоть ты не хочешь это знать. Не волнуйся, я не буду ничего портить».
Для Архангельских это было гораздо лучше – один именитый сосед, чем парочка пролетарских семейств, с их вечно пьяными отцами, горластыми хозяйками и невоспитанными детьми. Сергей Антонович был человек культурный и приятный в общежитии, а главное, его почти не бывало дома.
Ни Архангельские, ни Элеонора все лето не встречались с Сашей. Хотелось бы думать, что виной тому колоссальная занятость на службе, но все знали, что это не так. Саша явно сторонилась Петра Ивановича с супругой. Казалось бы, возвращением из Англии она доказали свою благонадежность и преданность родине, но… Возможно, она боялась, что Петр Иванович снова о чем-нибудь попросит барона. Или женским чутьем понимала, что чем полнее она отлучит мужа от прежних знакомств, тем лучше он адаптируется в новой среде.
Элеоноре почему-то было противно идти к подруге. Ах, нельзя быть баронессой и одновременно лебезить перед всяким сбродом! Да и не в этом дело… Просто Саша одним своим видом напоминала об истории с возвращением Алексея, которая с течением времени казалась ей все более некрасивой.
Но судьба почему-то никак не давала ей выпутаться из этой истории. Наступил июнь. Белая армия стояла под Лугой и Гатчиной, до Петрограда было рукой подать. Каждый день ждали решительного рывка и перемены участи всей страны, а Элеонора с тоской думала о том, какими кровопролитными будут уличные бои.
Шварцвальд носился по всему городу, разворачивал госпитали и эвакопункты. Побывал и у них в госпитале. Элеонора едва узнала в этом стремительном и резком человеке добродушного барона. Степенный Знаменский бегал за ним, как мальчик, не понимая его отрывистых вопросов, зато для Элеоноры это не составило ни малейшего труда. Отвечала она так же лапидарно, поэтому для сторонних слушателей их диалог казался бредом сумасшедших.
– В сутки?
– До двадцати.
– Одновременно?
– Четыре.
– Материал?
– Неделя при максимальной.
– Боевых единиц?
– Шесть и восемь.
– Медикаменты?
– Сутки при максимальной.
– Всем не хватает. Хлороформом не обеспечу, за спиртом пришлете курьера в управление. Под вашу личную ответственность.
– Поняла.
Николай Васильевич ничем не показал, что знаком с Элеонорой и даже испытывает к ней некоторую слабость. Это Элеоноре очень понравилось, как и то, что барон не стал произносить никаких вдохновляющих речей. Он собрал коллектив, и все уже настроились слушать про грядущую победу, Шура Довгалюк организовал жиденькую овацию, но речь Шварцвальда продолжалась ровно пять минут. При начале боевых действий в городе, сказал барон, опытные врачи направляются на сортировку пострадавших, в перевязочных кабинетах разворачиваются операционные для легкораненых, терапевты ассистируют на операциях, а опытные сестры дают наркоз, пока таковой имеется. Очень сухо призвал всех не бояться и носить повязки с красным крестом. Пострадавший видит, к кому ему обратиться, а потом, во всех армиях докторов стараются щадить и не убивают без крайней необходимости.
– И самое главное, – сказал Шварцвальд в заключение, – ни при каких обстоятельствах не поддавайтесь панике. Знайте, паникеры – первые кандидаты под расстрел.
В общем, Элеоноре понравилось, как работает барон. В прежние времена она его плохо знала, но считала неким «свадебным генералом» и думала, что он занимает свой пост не за истинные заслуги, а только лишь потому, что его род финансировал строительство института и дотировал его вплоть до семнадцатого года. Впрочем, институт до революции работал как часы, барону просто негде было проявить свой талант организатора.
Глава 6
Следуя чрезвычайно толковым указаниям Шварцвальда, Элеонора готовила операционную к работе в условиях театра боевых действий. Она до смерти надоела перевязочным сестрам, вызывая их на занятия, чтобы показать, как помогать хирургу и какие инструменты следует использовать во время первичной обработки раны.
Спрашивала за каждый метр бинтов, за каждую каплю хлороформа. У нее и в прежние времена невозможно было выцыганить спирту, не то что пить, даже пробку понюхать, а теперь она стала маниакально подозрительна в этом вопросе. Зная, что обо всех хранителях этого целебного вещества ходят слухи, будто они разбавляют его и «толкают» на черном рынке, она заставляла Знаменского и Шуру Довгалюка, как представителя партийного контроля, ежедневно под роспись проверять ее запасы. У нее все было готово для приема раненых, и она надеялась, что хватит всем – и белым, и красным.
Но к середине лета Юденича отбросили от Петрограда, в августе красные взяли Псков… Возвращение прежней жизни становилось все призрачнее. Петр Иванович так проводил грубые медицинские аналогии: мол, если пациент умер, то ничего не поделаешь.
А в госпитале Элеонора внезапно столкнулась с товарищем Катериной.
Это было неожиданно. Она все время с тяжелым чувством стыда и досады вспоминала Ланского, но почти забыла женщину, разлучившую их. Она даже не сразу узнала ее в короткостриженом существе в солдатской полотняной рубахе.
Катерину привезли к ней на перевязку. На тонкую нежную шею в грубом вороте было больно смотреть, а нога оказалась совсем плоха. Опытным глазом Элеонора сразу определила флегмону голени, и сама Катерина тоже выглядела неважно. Худая, зеленая, с тенями под глазами, значит, у нее сильная интоксикация.
Ее посмотрел Знаменский. Он долго щупал больную ногу, проводил зонд, причем Катерина держалась очень мужественно во время этих болезненных манипуляций. Профессор, хмурясь, читал историю болезни, изучал температурный лист. Вердикт его был ужасен – готовить к ампутации. Катерина побледнела, а Элеонора почувствовала вдруг болезненный укол жалости. Как это – отнять ногу у молодой энергичной женщины?
– Доктор, вы лучше знаете. Делайте, если это необходимо, – глухо сказала Катерина.
– Не думаю, что смогу найти сегодня хлороформ, – выпалила Элеонора и удивилась своему вранью, – а без анестезии… Отложим до завтра, я что-нибудь придумаю.
– Уж постарайтесь! Ногу все равно не сохранить, а всякое промедление только ухудшает течение болезни.
– Ничего, я потерплю. Надо так надо.
– Зачем же? Надеюсь, Элеонора Сергеевна раздобудет все необходимое к завтрашнему дню, а пока я назначу вам вливание физиологического раствора.
Когда Катерину увезли в палату, Элеонора, украдкой перекрестившись, подступила к своему профессору.
– Простите, но нельзя ли так устроить, чтобы пациентку посмотрел мой дядя, профессор Архангельский?
– Это еще зачем? Тут классический случай.
– И все же, пожалуйста. Мы с ней хорошие друзья…
Господи, когда же она научилась лгать?
Знаменский пожал плечами:
– Дружба не всегда спасает.
– И все же. Простите мое бахвальство, но я фронтовая сестра и немного разбираюсь в огнестрельных ранах. Вы приняли правильное решение, мой доктор в подвижном госпитале, уверена, вынес бы такой же вердикт, но, может быть, мы не видим какого-то другого пути.
– Спасая ногу, мы можем погубить жизнь этой девушки.
– Согласна. Но все же… Ведь ампутированные конечности не отрастают заново.
– Ох, Элеонора Сергеевна… Только ради вас! А если серьезно, я не могу возражать, когда пациент просит консультации другого специалиста перед таким ответственным решением. Думаю, это только затянет дело и подарит Катерине ложную надежду, но я не возражаю.
Она побежала к Архангельским, но не рассчитала время. Дядя с тетей были еще на службе, ей открыл Костров. Он встретил ее в гимнастерке с расстегнутым воротом и с полотенцем, пропущенным через ремень вместо фартука.
– О, какой приятный сюрприз, – у Сергея Антоновича была такая улыбка, что Элеоноре пришлось напомнить себе – это большевик, причем испытывающий к ней недостойные чувства, – проходите, я накормлю вас обедом.
– Спасибо, я не голодна.
– Ну это вы, положим, сочиняете. Сейчас в Петрограде нет сытых людей. Проходите, не стойте в дверях.
Он энергично вытер руки о полотенце, и Элеонора невольно загляделась, как перекатываются мышцы под смуглой кожей. Кисти тоже были очень хорошие, крепкие, но изящной лепки.
Она вошла в кухню. Благодаря усилиям Ксении Михайловны в ней поддерживалась почти стерильная чистота, невзирая не острую нехватку мыла. Как-то тетка обмолвилась, что готовит для соседа, мол, ей проще сварить на его долю, чем отмывать кухню после неумелых кулинарных изысков одинокого мужчины. Ясно, что Костров, по уши занятый на работе, не возражал.
А сейчас он вдохновенно кашеварил, и порядок в кухне выдавал опытного повара.
– Получил дополнительный паек, – похвастался Костров, – и решил угостить Архангельских. Все же какие удивительные люди ваши родные! Ну садитесь, товарищ Львова, вам первая тарелка.
Он снова вытер руки и взял половник. Не слушая возражений, усадил Элеонору за свой кухонный стол, чистый и пустой.
– Хлеба, к сожалению, нет. А это называется салма.
– Звучит интригующе.
– Ну да, – Костров подал ей ложку и засмеялся, – в оригинале это должен быть суп с бараниной и лапшой, но в данном блюде нет ни того ни другого. Просто в детстве нам варили суп черт знает из чего и называли его салма. Как же хорошо, что вы пришли! Я ненавижу есть один.
Костров сел рядом и энергично заработал ложкой.
– Очень вкусно, – искренне заметила Элеонора.
– Спасибо. А на сладкое у нас будет копорский чай с сахарином.
– Неслыханная роскошь.
– Чем, как говорится, богаты. Шварцвальд мне, кстати, докладывал о вас. Говорил, что единственная операционная, за которую он абсолютно спокоен, – ваша. Вам бы учиться пойти, товарищ Львова. Действительно, вступайте в комсомол, мы вас направим учиться в институт, и через пять лет будете вы превосходным организатором медицинской службы! Николай Васильевич говорит, что у вас настоящий талант, а у него, поверьте, глаз наметан, иначе он не имел бы таких достижений. В любом деле самое главное – люди. Разбираешься в них – разбираешься во всем, а нет, так ничего и не выйдет. Вы ешьте, ешьте!
– Спасибо.
«Салма» показалась Элеоноре божественной. Она считала себя мастером похлебок и супов «из колбасной палочки», но до Кострова ей было далеко. И дело тут было не в горкомовском пайке. В тарелке плавали те же продукты, что и у нее. Пшено, перемороженная картошка и сушеная морковь.
От добавки она категорически отказалась. Нельзя злоупотреблять гостеприимством, кроме того, от непривычно большой порции горячего (дома приходилось экономить, на дрова и керосин для примуса вечно не хватало, и Элеонора не разогревала свои обеды) она чувствовала себя словно пьяной.
– Сергей Антонович, я все силы отдаю работе и, надеюсь, приношу людям пользу, – заявила она, – но происхождение мое самое незавидное по нынешним временам, и я, признаться, не разделяю ваших убеждений. Мне не нужна карьера в том мире, который вы строите. Наоборот, я принадлежу к миру, который вы уничтожили.
Элеонора говорила, сама не понимая, что заставляет ее дерзить Кострову. Желание быть самой собой? Или неловкость от его мужского интереса? А возможно, смутное убеждение, что она могла бы в него влюбиться… Если бы не родилась княжной и не стала потом падшей женщиной. Этот мужчина был абсолютно чужд ей по духу и убеждениям, но в нем чувствовалась какая-то добрая сила.
И может быть, если бы она все еще имела право любить… Но теперь путь честной жены для нее закрыт навсегда, она обречена на одиночество.
Элеонора украдкой вздохнула. Ланской оказался недостойным человеком, но она любила его чисто и самозабвенно, как уже никого и никогда не полюбит. Если прибегнуть к пошлым метафорам, то лепестки ее юности облетели, не дав плодов, осталась сухая, но крепкая ветка.
– О чем задумались, товарищ Львова? – весело спросил Костров, ставя перед ней стакан чаю. – Я вижу, что вы благородных кровей, но вы наш человек и можете принести больше пользы, чем иной фанатичный коммунист.
– Я делаю все, что могу, – сухо повторила Элеонора, – оставьте мне хоть право думать так, как я считаю нужным.
Сергей Антонович, не спрашивая, положил ей в чай изрядную порцию сахарина и энергично размешал.
– А хотите, расскажу, как я рос? – вдруг спросил он и, не дождавшись ответа, стал рассказывать, глядя мимо нее, будто беседуя сам с собой. – Мы жили в маленьком городке, в собственном доме… Одно название, что дом. Все покосилось, просело, скрипело… Мы, дети, сами двери не могли открыть. Нас было четверо детей живых, еще трое померло до того, как я родился. Отец не мог найти работу, чтобы нас прокормить, подался на заработки в Казань и пропал. Убили, может, или просто умер, неизвестно. Я, впрочем, его совсем не помню. Мать осталась с нами одна, хваталась за любую поденщину. Ну а поскольку образования у нее не было, оставался только тяжелый физический труд, она не выдержала такой нагрузки и умерла тридцати лет от роду.
– Сочувствую, – тихонько сказала Элеонора, а про себя подумала, что отец товарища Кострова был, верно, обычный пропойца.
– Спасибо, но маму я тоже почти не помню. Так, отдельные картинки, такие яркие, что, думаю, это скорее мои фантазии, чем воспоминания. В общем, нас отдали в приют. Что это было за место, господи! Кровати без постельного белья, кишащие клопами, щели такие, что улицу видать… Кормили нас примерно так, как я сегодня вас угостил. Правда, черного хлеба давали вдоволь, а белый – два раза в год, на Пасху и Рождество. При этом мы все работали, даже самые маленькие. Девочки – белошвейками, а мы в столярной и переплетной мастерской. Школа – церковноприходская, дальше, в реальное училище принимали только тех ребят, кто показал отличные оценки. О гимназии речь вообще не шла, туда бедноте был вход заказан. До сих пор удивляюсь, как это мне повезло… Я настолько хорошо учился, что отцы города сообща оплатили мое обучение в университете.
– Что ж, вы хорошо их отблагодарили, Сергей Антонович, – усмехнулась она.
– Во-первых, я всегда возражал и возражаю против террора! Это перегиб, и скоро он закончится. Но справедливость, знаете ли, дело трудное, – Костров достал папиросы и, спросив ее разрешения, закурил, – оно не могло так больше продолжаться, это убожество, нищета. А самое страшное знаете что? Невежество и унижение народа! Можно быть нищим и голодным и при этом счастливым, как мы с вами. Как ваш дядя. У него все отобрали, он забыл, когда ел досыта, но он живет насыщенной и интересной жизнью. Вот в чем дело-то, дорогой товарищ Львова, вот в чем смысл революции.
Костров крепко затянулся папиросой. Элеоноре хотелось сказать какую-нибудь колкость, но она промолчала.
– Вы же умный человек, товарищ Львова. Приходите к нам, нам очень нужны такие люди! Собственно, люди – это все!
Она неопределенно улыбнулась. Что-то надо было возразить, но Элеонора знала – ее крайне незрелый в политическом отношении ум не сможет подобрать нужных слов. Отрицание нового порядка настолько само собой разумелось, что она никогда даже не давала себе труда размышлять о причинах этого отрицания.
Положение спас вернувшийся со службы Петр Иванович. Одним лишь движением бровей он исчерпывающе разъяснил племяннице, что думает об ее предложении. Ах, эта докторская солидарность, она зачастую ставится выше жизни больного!
– Дядюшка, дорогой мой! Я доложила Знаменскому, что хочу просить вашей помощи, вся вина будет на мне!
– Ладно, ладно, – проворчал Архангельский, – ты знаешь, что я не могу тебе отказать. Как я понимаю, консультация нужна сегодня.
– Да, пожалуйста!
Сообразив, что речь идет о Катерине, Костров бесцеремонно вмешался в разговор.
– Я пойду с вами! В такие минуты человек не должен быть один. Нет, ну какая зараза, ничего никому не сказала. Мы думаем, она просто лечится после ранения, а оно вон как!
Костров стремительно собирался.
Они отправились пешком, благо до госпиталя недалеко, а все трое были хорошими ходоками. Сергей Антонович заметил, что отказался от причитающейся ему служебной машины, и задал темп. В результате Элеонора представила Знаменскому несколько запыхавшегося и раскрасневшегося профессора.
– Уф, Александр Николаевич, вы простите старого дурака… Вы же знаете, я вам доверяю всецело. Но эта моя племянница, скверная девчонка, она из меня веревки вьет!
– Охотно верю, мы все у нее по струнке ходим. Что ж, пойдемте, посмотрим больную.
Обменявшись такими иносказательными верительными грамотами, профессора направились в палату Катерины. Элеонора сопровождала их.
Палата была огромной, на двадцать человек. За зиму этот зал отсырел, краска на потолке пошла трещинами, и стены потускнели. В раковине капает вода, а в углу стоит полотняная ширма с толстыми от частых покрасок ножками. За ней кто-то сейчас умирает…
Костров скромно сидел возле койки товарища Катерины. Ему дали санитарский халат, который он накинул задом наперед, и завязки болтались, придавая ему несерьезный, очень молодой вид.
«Боже, а почем рядом с ней нет Алексея? – запоздало подумалось Элеоноре. – Кто она ему – жена, любовница, не важно. В такую страшную минуту он должен быть рядом и держать ее за руку, он, а не партийный товарищ!»
По указанию Петра Ивановича Элеонора сняла повязку. Сергея Антоновича хотели выгнать из палаты, но Катерина попросила, чтоб он остался, и Архангельский настаивать не стал. Он внимательнейшим образом осмотрел ногу:
– Как же вас угораздило, дитя мое? – сказал он мягко.
– Да шрапнелью зацепило! Выезжала на передовую, и вот! – Катерина улыбнулась.
– Ну ничего, ничего! Мы с коллегами сделаем все необходимое для вашего выздоровления. Не волнуйтесь!
Дядя вдруг очень нежным жестом погладил Катерину по стриженой голове и вышел в коридор, увлекая за собой Знаменского и Элеонору. Костров увязался за ними сам.
– Альтернативой ампутации представляется фасциотомия и широкое дренирование, если в костях нет деструктивных явлений, – отрывисто произнес Архангельский, – как вы думаете, Александр Николаевич?
– Согласен. Но необходим наркоз. И для ампутации он тоже будет необходим, если это лечение не даст эффекта. А две дачи хлороформа пациентка не перенесет. Между тем ранняя ампутация удалит источник интоксикации и послужит залогом быстрого выздоровления. В борьбе за ногу мы можем потерять больную.
– Вы скажите, если что-то нужно, я достану, – ввязался в разговр Костров.
Профессора только отмахнулись.
– Она слабая, истощена. Пониженного питания. Ничего удивительного, что на таком фоне нагноилась осколочная рана. Учтите вот еще что: работа в гнойном очаге может спровоцировать инфекционно-токсический шок…
– Это все совершенно верно, но больно уж она молодая. Да и красивая, не будем лицемерить. Ну куда она на костылях? Давайте попробуем.
– А давайте спросим у Кати, – вдруг сказал Костров, – это ее нога и ее жизнь, пусть она сама решает.
Вернулись в палату.
– Делайте, как нужно, – спокойно сказала Катерина.
– Катя, давай попробуем так. Я достану любые лекарства.
– Товарищ Костров! Ни в коем случае! Мы не имеем права брать больше того, что даем народу! Товарищи профессора, делайте, что положено. Ампутация если, что ж, так тому и быть. Как говорится, долгие проводы – лишние слезы.
– Можно спирт, – заметила Элеонора, – я дам. Внутрь и соответственно.
– Да, коллеги, верно! – Знаменский улыбнулся. – Под спиртом сделать фасциотомию, и повязки со спиртом же наложить. А завтра посмотрим, если будет эффект, то продолжим перевязки с гипертоническим раствором или по ситуации, а нет…
Петр Иванович предложил добавить спирт и в противошоковый раствор для внутривенного вливания. Профессора сошлись на том, что операция неизбежно вызовет кризис, поэтому Катерине потребуется индивидуальный пост. Элеонора вызвалась подежурить. Костров заявил, что тоже останется.
Знаменскому было явно не по себе от присутствия такого именитого гостя, хотя Сергей Антонович и держался очень просто. Элеонора так вообще забыла, что он член Революционного комитета обороны Петрограда, а не просто обеспокоенный родственник.
Катерина отказалась от отдельной палаты – мол, перед болезнью все равны, – но, предвидя хлопотную ночь, Элеонора решила после операции положить ее в перевязочной.
Пока готовили операционную, пока Элеонора обустраивала в перевязочной кушетку, вспомнилась собственная болезнь. Когда она заразилась тифом на фронте, решила, что непременно умрет, но тогда приближение конца почему-то совсем ее не испугало. Воинов нес ее на руках куда-то, словно в тумане она видела его лицо, потом оно погасло, и она подумала, как хорошо, что тепло его рук и стук его сердца – последнее, что она чувствует на пути в вечность…
Очнулась Элеонора в головном госпитале спустя долгое время. Вероятно, она не могла провести в полном беспамятстве целый месяц, наверное, приходила в себя на короткое время, пила и что-то ела, но ничего не сохранилось в ее голове.
Зато первая картинка, которую она увидела, очнувшись, – старая тумбочка, крашенная белой масляной краской, и стакан с очень грязной водой, – врезалась в память навсегда.
Она лежала, еще не понимая, что победила болезнь, и даже немножко жалея, что очнулась. По-настоящему Элеонора пришла в себя, только когда ее навестил Константин Георгиевич.
Он остановился в дверях, улыбаясь, в накинутом поверх мундира белом халате, словно обычный посетитель. Зеленые глаза сияли на обветренном лице, от него веяло жизнью и какой-то особой мужественной силой, так что Элеонора смутилась и натянула одеяло до подбородка.
Вспоминая, она чуть ли не наяву ощутила ту жаркую волну стыда, охватившую ее, когда косынка упала с обритой головы…
Глава 7
Оперировал Петр Иванович, Знаменский присутствовал. Элеонора давно не работала с дядей и стала забывать, что он не только ее дядюшка, но и превосходный хирург, один из лучших в России, а то и в мире. Это было заметно даже при таком, казалось бы, несложном вмешательстве, как вскрытие флегмоны.
Катерина держалась очень мужественно. Сто граммов чистого спирта, данные ей в качестве единственно возможного обезболивающего, не слишком помогали. И тут мастерство Архангельского, умение угадать скопление гноя и вскрыть его одним точным движением, не прибегая к болезненному ощупыванию и зондированию раны, оказалось очень важным.
Пациентка не кричала, не плакала и уехала из операционной в превосходном настроении. Только оказавшись в перевязочной, рассердилась и стала проситься в палату. К соседкам, с которыми успела подружиться и которые нуждаются в ее агитации за освобождение женщин больше, чем в лекарствах.
Костров просто просиял, решив, что все обошлось, но Элеонора знала, что успокаиваться рано. Петр Иванович так и вовсе был недоволен и решил остаться на ночь.
– Я принял это решение и должен идти до конца, – тихо сказал он в ответ на увещевания Знаменского, – а вас, Сергей Антонович, если вы не идете домой, попрошу послать кого-нибудь, предупредить Ксению Михайловну, иначе она будет сильно волноваться. С недавних пор в Петрограде можно пропасть не только в жарких объятиях продажных женщин.
Как и полагали профессора, блеск в глазах Катерины и ее оживление оказались предвестниками лихорадки. Она крепилась, увидев, как Элеонора делает приготовления для инъекций, фыркнула и заявила, что это ей все не нужно, она прекрасно себя чувствует. И тут же затряслась в ознобе. Температура поднялась до сорока, девушку колотило так, что Кострову пришлось прижимать ее руку к постели, пока Элеонора вводила иглу в вену.
Потом озноб прошел, Катерине стало жарко, Элеонора обтерла ее водой с уксусом. Пациентке явно полегчало, она заявила, что чувствует себя совсем здоровой и не понимает, почему все прыгают вокруг нее.
Петр Иванович тоже приободрился и решил выкурить папироску. Только он ушел из перевязочной, как Катерина упала в подушки. Лицо внезапно посерело, Элеонора схватилась за пульс. Так и есть, нитевидный. А рука совсем холодная…
– Скорее, верните! – крикнула она Кострову, а сама рванула дверцу шкафчика с медикаментами. Нужно приготовить впрыскивание камфары! И глюкоза, глюкоза!
Масляный раствор никак не хотел набираться в шприц, почему только она не подогрела ампулу заранее?
Ей часто предлагали учиться дальше и стать врачом. Сначала на курсах Красного Креста, а потом Знаменский и все остальные доктора, с которыми ей приходилось работать. Пожалуй, в медицинский институт ее не агитировали только собственный дядюшка и доктор Воинов, которые считали, что женщина хорошим хирургом стать никогда не сможет, а терапевт – слишком дурацкая специальность, чтобы ею овладевать.
Элеонора понимала, что умна и ее интеллекта хватит для учебы в институте. Но мысль, что от ее решения будет зависеть человеческая жизнь, была невыносима. У каждого врача есть свое кладбище, и Элеонора не чувствовала, что готова им обзаводиться.
Смерть товарища Катерины будет на ее совести. Из ложного сострадания она оспорила решение прекрасного врача. А Петр Иванович… Кто знает, какую тактику он избрал бы, если бы Элеонора не просила его во что бы то ни стало попытаться спасти ногу? Возможно, пресловутая «коллегиальность» не так плоха и спасла больше жизней, чем погубила…
Но сейчас не время для угрызений совести! Нужно четко и быстро делать все возможное.
Иногда в острые моменты Элеонора начинала видеть все словно со стороны.
Высокое стрельчатое окно перевязочной, в которое заглядывает уже по-осеннему бурая ночь, хрупкая женщина на кушетке, она кажется совсем потерянной, будто таящей среди простыней и белого мрамора, которым облицованы стены.
И в углу Костров, лицо его как пятно, клякса жизни среди этого стерильного предсмертного мирка.
Несмотря на инъекцию камфары, Катерина потеряла сознание.
Петр Иванович распорядился ввести еще один флакон физиологического раствора и следом повторить камфару. Потом сделать эпинефрин, и если эффекта не будет, то все кончено.
– Вы бы шли отсюда, Сергей, – сказал он Кострову, – ей-богу, не до вас.
Тот покачал головой:
– Перед смертью она придет в себя. Пусть хоть я буду рядом.
Элеонора позвала постовую сестру, та приготовила грелки, которыми обложили Катерину. Пульс на руке едва определялся, повторили камфару.
Сестра из терапевтического отделения принесла две ампулы глюкозы, целое состояние.
Заглянул дежурный врач, положил на стол эпинефрин и порошок хинина, который был совершенно не нужен.
Никто не навязывался, не путался под ногами, но у Элеоноры возникло странное чувство, что вся дежурная смена страстно желает выздоровления этой девушки.
Она пыталась измерить давление, но ничего не вышло. Где-то на тридцати послышались то ли Катины сердечные тоны, то ли эхо ее собственных.
Но Петр Иванович медлил с эпинефрином. Можно слишком сильно подстегнуть сердце.
– Пока надежда еще есть, – повторял он.
Так прошла ночь. Катерине ввели просто неслыханный объем физиологического раствора, в четыре часа, пик активности блуждающего нерва, Петр Иванович все же назначил эпинефрин, правда, половину обычной дозы и подкожно.
И вот наступил момент, когда Элеонора поймала пульсовую волну! А тонометр показал восемьдесят и сорок. Не бог весть сколько, но это уже артериальное давление!
К семи утра Архангельский объявил, что с инфекционно-токсическим шоком удалось справиться.
И все трое обменялись глупыми улыбками.
– Все же странные вы люди, доктора, – сказал Костров, – товарищ Львова нас, большевиков, не любит, вы, Петр Иванович, тоже не в восторге от новой власти… И ночь не спите, спасаете своего идеологического противника.
– Для врача люди делятся на здоровых и больных, – буркнул Петр Иванович, – здоровые пусть себе живут, как хотят, а больных мы лечим независимо от их цвета.
– Вы говорите прямо как начальник нашего полевого госпиталя, – улыбнулся Сергей Антонович, – он всегда повторял: вы воюете друг с другом, а я воюю со смертью. Вы мне не помогаете, потому что не знаете как, а я к вам не лезу, потому что не понимаю зачем. Никогда оружие не брал в руки, хоть большой личной храбрости был человек.
Элеонора слушала вполуха, думая, как бы выгнать Кострова и спокойно поменять белье товарищу Катерине. Но она знала, что после пережитого волнения на многих нападает болтливость. Потом ей пришло в голову, что впереди рабочий день и неплохо бы освободить перевязочную. Пусть Петр Иванович решит, можно ли переводить пациентку обратно в палату…
– …благородия отступали, побросали своих раненых, наши, естественно, хотели по законам военного времени распорядиться, а доктор не дал. Под расстрел встал, а не дал.
– И расстреляли?
– Слава богу, нет.
– Хорошо.
Тут Катерина открыла глаза, и все захлопотали вокруг нее.
И только когда ее устроили в палате, положив ногу на шину Белера, и выпроводили Кострова на поиски усиленного питания для больной, Элеонора подумала, почему Ланской так и не появился. Катерина тоже не спрашивала о нем. Едва придя в сознание, она уже разглагольствовала на всю палату о свободе женщины.
– Не хотите слушать меня, послушайте Маркса, – вещала Катерина, – В отношении к женщине как к служанке общественного сладострастия выражена та бесконечная деградация, в которой человек оказывается по отношению к самому себе! Ну разве можно сказать лучше? Для свободного человека возможны только свободные отношения, а жизнь по принуждению я не признаю. А вы что скажете, товарищ Львова?
Товарищ Львова тяжело вздохнула:
– Я никогда не считала себя служанкой общественного сладострастия.
Катерина негодующе фыркнула и тут же без сил упала в подушки. Элеонора машинально поправила ее постель и поставила стакан с водой так, чтобы Катерине было удобнее к нему тянуться.
– Лежите тихо. Вы еще слишком слабы для митингов.
Лишь следующей ночью, проснувшись, будто от толчка, она подумала: Ланской не появился, потому что он ушел к Юденичу и, наверное, убит.
Она встала, выпила воды, пытаясь справиться с грызущей сердечной болью, словно заглянула в черную пропасть своего грядущего одиночества.
Красная армия отбила наступление, теперь ей никогда не узнать о судьбе своей первой и единственной любви. Погиб он или отступил вместе с армией? И если погиб, то где похоронен? Она могла бы иногда приходить на его могилу, время выветрило бы горечь предательства… И с течением времени она стала бы думать, что разлучила их смерть, а не измена.
Ей стоило большого труда удержаться и не спросить у Катерины о судьбе Ланского. А та быстро шла на поправку. Первые три дня ее привозили к Элеоноре в гнойную операционную, но потом рана настолько очистилась, что достаточно стало обычных перевязок.
Помня наказ Петра Ивановича об усиленном питании, Костров приносил какие-то продукты, Катерина скандалила, отказывалась есть больше того, что ей положено, он клялся, что достает все на черном рынке, она честила его, что поощряет спекулянтов… Спорщики сходились только в одном – разрешать их конфликты обязана Элеонора.
Наступать на ногу было невозможно, и Катерина раздобыла где-то хитростью костыли. Пройдя на них до конца палаты, она упала в обморок. Примчался разъяренный Знаменский, пообещал устроить ее в психиатрию и привязать к кровати до полного выздоровления, если пациентка не понимает человеческого языка.
Элеонора пыталась объяснить, что хорошее самочувствие – это еще не гарантия выздоровления, что если Катерина будет нагружать ногу, то может развиться аррозионное кровотечение, которое уж точно можно остановить только ампутацией. Куда там! Ей все было интересно знать, Шура Довгалюк целыми днями торчал в ее палате, гонцы из Клинического института приносили горы документов.
Она так вникала в партийную работу, ведущуюся в госпитале, что пожелала присутствовать на одном из общих собраний и даже взяла слово.
Так и вышла к трибуне – на костылях и в больничном халате.
Уклониться от собраний удавалось не всегда, и Элеонора выработала в себе умение отключаться, пропускать мимо ушей все речи. Но вдруг ей показалось, что Катерина назвала ее фамилию. Она навострила уши. Нет, не послышалось:
– Я лично обязана жизнью товарищу Львовой! И вижу, что она болеет душой не только за меня одну, а за всех нас, больных и раненых! Это, товарищи, прекрасный пример, что нельзя оценивать человека только по его классовому происхождению. Кто знает, скольких не удалось бы спасти, если бы мы отказались от такого ценного работника только потому, что она – княжна?
Сердце сжалось. Катерина неслась дальше, разглагольствуя, что к каждому человеку надо подходить индивидуально, руководствуясь не его происхождением, а той пользой, которую он готов принести своей стране, но Элеонора не слушала ее.
Понятно, она хотела как лучше. У этой пламенной большевички и в мыслях не было, что Элеоноре удалось скрыть свой титул. Наоборот, она решила, что ее речь повысит престиж старшей операционной сестры. Как говорится, простота хуже воровства.
Оставалось только надеяться, что никто не придал значения этой проговорке. Но такое маловероятно.
Элеонора больше расстроилась оттого, что ее уличили во лжи, а не оттого, что вскрылась правда. К репрессиям она давно была готова.
Вопрос, а как, собственно, Катерина узнала об ее происхождении, пришел ей в голову только поздно вечером. Неужели рассказал Ланской? Но зачем?
На душе было смутно, и только шуточка Калинина, вернувшегося с передовой прежним грубоватым оптимистом, отчасти вернула ей душевное равновесие.
– Так вы княжна? Ну надо же, – весело хмыкнул он, – теперь понятно, откуда в вас этот абсолютизм! Но раз титулы упразднены, нечего о них вспоминать!
Глава 8
Стояла замечательная золотая осень, Элеонора не помнила, чтобы видела раньше такую красоту. Вбирая в себя тепло осеннего солнца, листва желтела и краснела самым удивительным образом, будто на город накинули яркий платок. Клены в госпитальном сквере шелестели разноцветными листьями, которые плавно и медленно опадали на землю, а там шуршали под ногами, будто рассказывая свою историю на непонятном языке.
В редкие свободные часы Элеонора ходила гулять, то в Таврический сад, то в Летний. Иногда просто стояла на набережной возле Медного всадника, жмурясь и подставляя лицо под солнечные лучи.
Она думала, что это, вернее всего, последняя осень ее жизни, и благодарила Бога за то, что пора эта столь прекрасна.
Это была не только очень красивая, но и очень страшная осень. Все словно затаились, затихли, уступая голоду. Почему-то этой осенью он стал особенно жесток. Многие умирали. Теперь изъятие ценностей становилось по-настоящему трагичным. Чекисты забирали те остатки золота, на которые можно было купить продуктов на черном рынке, ведь по скудным карточкам, которые к тому же получали только работающие, было не так просто выжить.
Если в прошлом году Элеонора чувствовала себя просто голодной, то теперь поняла, что от голода больна. У нее кружилась голова, кровоточили десны, стала подводить память.
Она крепилась, старалась держать себя в руках, зная, что голод в крайней стадии может победить человека, подмять его личность, и толкнуть на дикие и отвратительные поступки. Нормы выдачи хлеба сокращались, и Элеонора взяла за правило не съедать весь паек, обязательно откладывать хоть корку хлеба, хоть чайную ложку крупы на самый черный день.
Ей стало по-настоящему страшно, когда она узнала о выходке нескольких сестер. Мучимые голодом, они забрались в рентгеновский кабинет и съели почти весь барий, смесь белого цвета, по виду похожую на сметану, что применяется для исследования желудка. Слава богу, обошлось без последствий для здоровья, но это был поучительный пример, насколько голод может лишить человека разума и самоконтроля.
Откуда-то в город стали просачиваться слухи, что Юденич снова готовит поход на Петроград. Говорили совершенно невероятные вещи, якобы американцы и Красный Крест закупили уже огромное количество продовольствия и накормят жителей Петрограда сразу после его освобождения.
Ксения Михайловна ручалась за достоверность этих сведений, шепотом рассказывая племяннице, будто сказку, о запасах муки, бобов и сала.
Впрочем, для Архангельских победа Юденича в первую очередь значила воссоединение с дочерью. Петр Иванович воспрянул духом и постоянно рассказывал Элеоноре, что скоро увидит внучек.
С недавних пор крамольные разговоры можно было вести без опаски. Всех коммунистов перевели на казарменное положение, Костров дома не появлялся.
Элеонора не верила слухам, считая их порождением отчаяния. Может быть, Красный Крест действительно закупил продукты и каким-то образом передаст их голодающим детям… Неплохо было бы еще получить лекарства в больницы, запасы совершенно иссякли, а пополнения все нет.
Она работала как сумасшедшая, несколько операционных сестер заболели, так ослабли, что не могли ходить на службу, пришлось взять на себя их обязанности. Уставала так, что не могла думать ни о чем, кроме работы. И это к лучшему, иначе можно сойти с ума от туманных обещаний и ложных надежд.
Однако как-то раз в начале октября, выйдя из госпиталя, она вдруг заметила, что город изменился. Как-то притаился, ощетинился, словно зверь перед атакой.
Она вдруг увидела горы мешков с песком, заколоченные фанерой окна магазинов…
Мимо промаршировал отряд рабочих. Они были в штатском, но с оружием.
Проехала машина, грузовик. В кузове набились солдаты, увидев Элеонору, они стали ей махать своими странными остроконечными шапками и кричать: айда с нами!
Пришлось свернуть в ближайший переулок.
На лестнице она столкнулась с соседкой. Та, в мужском полупальто, пуховом платке и грубых рукавицах, вдруг взяла ее за локоть и предложила пойти вместе строить укрепления. Якобы за день работы дают целый фунт хлеба, а иначе все равно мобилизуют.
Элеонора покачала головой. Фунт хлеба – это очень заманчиво, но она не может рисковать руками. Малейшая царапина или мозоль выведет ее из строя, и операционный блок останется без сестер.
Ее отпустили из госпиталя всего на сутки, помыться и поспать. Этим она и занялась, в смутном раздражении от того, что в городе происходят какие-то очень важные события, а она об этом ничего не знает.
Только утром узнала от соседей, что белые взяли Ямбург и движутся к Петрограду.
«Ну, теперь-то уж город будет взят, – подумалось ей, – элементарная логика. Если военачальник планирует наступление сразу после неудачи, значит, он учел все ошибки и отменно подготовился».
Несмотря на то что свободное время у нее было до вечера, Элеонора решила бежать в госпиталь. Там наверняка разворачивают дополнительные мощности, и без нее просто не обойтись.
Да, долг зовет, но Элеонора почему-то медлила. Она пила желудевый кофе, потом, когда дневная норма вышла, цедила кипяток.
Она просто сестра милосердия, но служит большевикам… Помогает врагам, когда настоящие герои нуждаются в ее помощи.
Не предательство ли это? Не служит ли постулат, что сестра милосердия обязана помогать всем без исключения, невзирая на политические убеждения, национальность и прочее, всего лишь красивой отговоркой?
Может быть, нужно уйти из госпиталя? Какое там «может быть»! Это необходимо, она ведь лечит врагов, у раненых белогвардейцев нет никаких шансов попасть в госпиталь, звери-красные расстреливают их на месте.
А она работает на них, да еще и гордится, когда ее хвалят. Вспомнилась история со спасением ноги Катерины, и Элеоноре стало мучительно стыдно. Она просто хотела помочь молодой девушке, было невыносимо думать, что такое красивое тело будет навсегда искалечено. Со стороны это наверняка смотрелось так, будто она хочет подлизаться к властям, войти к ним в доверие и выслужить себе какие-нибудь блага.
Позор, позор и предательство.
Но что мне было делать, Господи? Лучше всего – погибнуть, ибо сейчас, среди голода и разрухи, во время бесчинств красных негодяев, когда людей берут в заложники и расстреливают безо всякой вины, сама жизнь уже предательство.
В их густонаселенной квартире никогда не затихала жизнь, и погруженная в свои размышления Элеонора не обратила внимания на шаги в коридоре.
Вдруг к ней постучали.
Она открыла дверь, и ноги подкосились. Возможно ли? На пороге, совсем как тогда, весной, стоял Алексей.
– Входи, – сказала она, взяв себя в руки.
И поняла, что все совсем иначе. Сейчас не весна, а осень, и она так изменилась, что Алексей тоже кажется ей совсем другим. Чужим, посторонним.
Просто красивый молодой человек с пустым лицом.
– Что-то случилось, Алексей? – спросила она холодно. – Требуется моя помощь?
– Нет-нет, что ты! – он потянулся к ней, Элеонора отступила. – Ты стала такая красивая! Тебе даже голод к лицу.
– Спасибо. Прости за прямоту, но лучше, если ты сразу скажешь, что тебе нужно.
– Ты.
– Прости?
– Мне нужна ты. Я так часто думал о тебе, Эля!
Алексей снова попытался обнять ее, но Элеонора твердо отвела его руки.
– Все кончено, Алексей.
– Эля, послушай… Хотя бы ради нашего прошлого, ты ведь так любила меня! Это же не могло пройти бесследно.
– Предательство – лучшее лекарство от любви, Алексей.
– Прости, прости! Я был растерян тогда…
– Это уже не важно.
– Но я действительно хочу быть с тобой!
– А как же товарищ Катерина? – не удержалась Элеонора.
– О, это было так… – Алексей поморщился. – Не стоит говорить об этой девке.
Невольно вспомнилось мужество Катерины, когда ей угрожала ампутация. Да, она враг, в борьбе за свободу человека вообще и женщины в частности позволяет себе лишнее, но она не девка и не заслуживает пренебрежительной ухмылки Ланского.
– Я служу в Смольном переводчиком, – вдруг сказал Алексей, – и узнаю новости из первых рук.
– Поздравляю.
Он оглянулся, зачем-то выглянул в коридор и сказал тихо, почти ей на ухо:
– Скоро здесь будут наши. Все вернется на круги своя… Пять-десять дней, не больше.
– Не представляю, почему ты решил именно со мной поделиться этими известиями. Мы расстались, и я не хочу возобновлять наше знакомство.
– Эля, Эля! Опомнись, дорогая! Я все время думаю о тебе, ты лучшее, что было в моей жизни.
– Вот как? – она взялась за ручку двери. – Понимаешь, жизнь – это не базар, где можно попробовать все и выбрать лучшее. Пожалуйста, избавь меня от необходимости слушать твои пошлости. Я не верю тебе и не люблю тебя, а обсуждать то, что давно закончилось, не вижу смысла. Уходи.
Она открыла дверь и равнодушно смотрела, как Алексей уходит.
Его визит оставил тягостное впечатление, лучше бы он не приходил.
Неужели она любила его так, что пожертвовала женской честью ради этой любви? Неужели все взлеты и падения, радости и отчаяния ее души были из-за этого ничтожного человечка?
Он будто красивая игрушка, забытая под дождем. Из-под слоя краски проступает обычная деревяшка, и чары рассеиваются.
Возможно, он действительно тосковал по ней. Но почему тогда пришел именно сейчас, когда советская власть висит на волоске? Надеется, что Элеонора поможет ему устроиться в новом обществе благодаря своим связям среди аристократов?
Да нет, не может он быть настолько подлым и расчетливым. Вероятно, просто не решался прийти, а тут такая новость! Прекрасный повод, чтобы вернуть прежнюю любовь. Или еще проще. Алексей понимал, что на свободные отношения она никогда не согласится, а возвращение прежней власти сделает их брак безопасным, вот и пришел.
Как бы то ни было, любая из этих причин унизительна для нее.
Но может быть, она бы его приняла… И сердце снова наполнилось бы любовью, если бы он пришел как герой. Она бы простила, что он не готов рисковать жизнью ради любимой женщины, если бы он шел на смерть ради России.
Если бы он перешел к Юденичу!
Но Ланской, русский офицер, удовольствовался ролью обычного служащего, мелкого клерка.
И в критический момент, когда решается судьба страны, он пошел не к своим, воевать за правое дело, а к женщине…
Он избежал даже мобилизации в ополчение!
Любовь оказалась миражом, который растаял, оставив ей всю тяжесть совершенного греха.
Может быть, следовало вернуть Ланского? Выйти за него замуж и искупить свой грех? Может быть, это Господь послал ей Алексея, чтобы она стала честной женой?
Мысль эта так напугала ее, что Элеонора энергично покачала головой. Нет, это неправда! Она согрешила, легла в постель с мужчиной без брачных уз, то есть является падшей женщиной, и никакое запоздалое венчание не отменит свершившегося факта.
Можно простить того, кто тебя предал, но никак нельзя довериться ему, а что такое брак, как не высшая форма доверия?
Жизнь с трусом и предателем – слишком большая плата за грех.
Ну да, она впадает в гордыню, сама назначая себе наказания. И презирает Алексея, будучи ничуть не лучше него. Тоже плывет по течению, проклинает дьявольскую власть, а сама ничего не делает ради ее свержения.
Оправдывает себя высокопарными лозунгами о милосердии для всех, но это годится только для невзыскательной совести.
Хватит трусить! Нужно идти к своим.
Элеонора оделась потеплее, а немногие оставшиеся вещи собрала в сидор. Туда же уложила неприкосновенный запас продуктов. Под руку попались вещи Воинова: портсигар и часы. Она хотела взять их с собой, но, помедлив, оставила в ящике буфета.
Навела в комнате порядок и присела на стул, как перед долгой дорогой. Скорее всего, она больше сюда не вернется. Посмотрела на серый потолок, выцветшие обои… Она никогда не ощущала это место своим домом – так, временное пристанище. Уходить отсюда на смерть было не жалко и не страшно.
По дороге в госпиталь ей постоянно встречались вооруженные колонны. Ополченцы в штатском, с красными повязками на рукавах или с бантами на груди выглядели с оружием нелепо, плохо держали строй и пели.
Вдруг Элеонора заметила, что мимо нее маршируют совсем дети. Сердце сжалось: нет, не может быть! Но хоть большинство ребят были рослыми, их выдавали по-юношески пухлые лица, или совсем гладкие, или с нежным пушком на верхней губе, который явно еще не знал бритвы.
Потом прошли красноармейцы, с суровыми лицами, в выцветшем обмундировании, видно, опытные бойцы. Они буднично, привычно держали строй, специально не чеканя шаг, но, если закрыть глаза, казалось, это суровый бог войны отбивает ритм.
Ей хотелось думать, что это идут враги, но сердце откликалось только глубоким сочувствием к людям, идущим на встречу со смертью. Элеонора украдкой перекрестила их.
В госпитале царила привычная суматоха, во дворе стояло несколько санитарных машин.
Она не без труда нашла Шуру Довгалюка и сказала, что хочет на передовую.
– Не морочь мне голову, Львова! Мы без тебя как без рук.
– Шура, я серьезно! Тут у меня все налажено, Эльвира с удовольствием меня подменит, вы даже не заметите. Я очень люблю свой оперблок, но когда такие дела… У меня есть боевой опыт, я нужна на линии фронта.
Проворчав, что у него и без нее куча хлопот, Довгалюк сказал, что Калинин сейчас идет на сборный пункт, и она, если хочет, может к нему присоединиться. Он будет безумно рад такой компании.
– Или меня жди, я завтра иду, только дела сдам.
Она покачала головой и пошла за Калининым.
– Не вздумай ничего из оперблока выносить, – крикнул ей вслед Шура, – на сборном пункте все получишь.
Они устроили лазарет во дворце Палей. Там пряталось много мирного населения, женщины, дети, ведь деревянные дома, в которых жило большинство, не могли защитить от артиллерийского огня.
Элеонора была как в тумане. Бои за Детское Село, как оно теперь называется. Давно ли прогулка в Царскосельском парке считалась одной из высших наград для воспитанниц Смольного института?
Под надзором классных дам, в нарядных пелеринках, они чинно прохаживались по аллеям, загадывая желания. Считалось, если встретят кого-то из царской семьи, то желание сбудется.
Теперь здесь у всех только одно желание – выжить.
Обе стороны вели плотный, почти шквальный огонь, раненые поступали сплошным потоком. О какой-то серьезной помощи не было и речи, перевязать, остановить кровотечение и отправить дальше по этапу. Прибежал какой-то командир, судя по суконному пальто, из рабочих, и накричал, чтобы раненые не скапливались в лазарете, а как можно скорее отправлялись в тыл.
– Горячий выдался денек, – повторял Николай Владимирович, – ну да ничего.
Когда снаряд разорвался слишком близко от их убежища и от ударной волны упали настенные часы, Калинин даже не вздрогнул:
– Вот тебе и раз! Как мы теперь записки под жгут писать будем? – спокойно спросил он.
А Элеонора подумала, что стены дворца не такая уж надежная защита, и заставила всех его обитателей спуститься в подвал.
Вслед за мощным взрывом наступило относительное затишье. Ну что ж, пора сделать то, ради чего она сюда прибыла.
Достав из сумки повязку Красного Креста, хранившуюся у нее еще с той войны, Элеонора с помощью пожилой дамы, которая лучше всех сохраняла спокойствие, закрепила ее на рукаве и взяла сумку.
Ей было страшно. Стены дворца вдруг показались надежным убежищем, и так не хотелось выходить под дождь из пуль!
Всего несколько минут, сказала себе Элеонора, за несколько минут перейти две улицы, и ты среди своих. Не бойся. И не медли. Чем дольше ты колеблешься, тем больше шансов, что твоя пуля найдет тебя.
Сказав пожилому санитару, чтоб отдохнул, она вместо него пойдет за ранеными, Элеонора вышла на улицу.
Прячась за домами, она пробиралась к переднему краю, на звуки выстрелов. Улочки, такие чистые и нарядные в прежней жизни, стояли дыбом. На домах и деревьях были ясно видны следы от пуль, скамейки, решетки и даже плиты мостовых были выворочены и пошли на строительство баррикад. Элеонора растерялась. Во время уличных боев, когда стреляют из-за угла, как понять, где свои, где чужие?
Но не станут же русские офицеры стрелять в женщину, сестру милосердия…
Под прикрытием каменного фундамента она перешла на соседнюю улицу. Тут лежало несколько мертвых. Мимо, пригнувшись, пробежало несколько красноармейцев, Элеонора двинулась за ними. Добежав до баррикады, они быстро заняли огневую позицию, сухой треск выстрелов усилился.
Она не успела ничего понять, как к ней подполз раненый. Пуля по касательной задела голову.
– Помогай, сестрица! – весело гаркнул он.
Она машинально сделала перевязку, заметив, что лучше товарищу отправиться на медицинский пункт.
– На том свете уж схожу, а пока некогда.
Насколько Элеонора смогла понять, белогвардейцы занимали двухэтажный каменный дом напротив, а красные хотели их оттуда выбить или, по крайней мере, блокировать.
Сколько тут, метров десять? Успею добежать. Это три секунды максимум. Никто не поймет, что я делаю, а я уже буду у наших. Сразу спрячусь за парапетом, там меня пули не достанут, а объяснить благородным людям, кто я такая, не составит труда. Не примут же они меня за красную шпионку!
Раз, два, три!
Она вскочила, побежала, но сразу мощным ударом была сбита с ног.
Вот и все…
Она часто слышала, что пулевое ранение воспринимается как сильный удар, а боль приходит потом.
Но это оказалась не пуля. Ее сбил с ног и закрыл собой немолодой красноармеец, она видела его густые, с сильной проседью усы очень близко от своего лица:
– Ты что, девка? – спросил он весело. – Ты погоди на рожон переть, помереть успеешь!
Тут из переулочка появилось двое раненых, в грудь и в голову. Пришлось вести их во дворец, к Калинину.
Поздно вечером с санитарной машиной прибыл маленький, заросший до глаз черной щетиной комиссар и сказал, что решено оставить Детское Село. Эта машина – последняя, так что если раненых много, пусть доктор решает, кого в нее сажать, кого отправлять пешком, а кто остается.
Что ж, это военная медицина.
Николай Владимирович очень разумно распорядился наличными ресурсами, но восьмерых тяжелых пришлось оставить. Они не были безнадежны, просто шансов выжить у них было меньше, чем у других. Слава богу, все они были в забытьи, не пришлось объяснять, что их покидают на верную смерть.
За время службы в госпитале Элеонора наслушалась россказней о зверствах белогвардейцев. Естественно, это была грязная пропаганда, в которую нормальному человеку стыдно верить.
Белые офицеры не будут пытать и мучить раненых, попавших к ним в плен, но ведь они не будут их и лечить! А страдания, причиняемые повреждением брюшной полости, тяжелее иных пыток.
– Я остаюсь, – тихо сказала Элеонора.
– Что вы придумали? – она никогда раньше не слышала от Калинина такого сердитого тона. – Боитесь занять чье-то место в машине? Так идите с частями на марш, только не оставайтесь. Беляки вас не пощадят.
– Голову оторвут или что похуже! – засмеялась Элеонора, неожиданно вспомнив слова, которыми пугала ее Ксения Михайловна перед отправкой на фронт.
– Вот именно.
– Бросьте! Я в штатском, при мне нет никаких изобличающих документов. Собственно, их вообще нет, не позаботились выдать. Я просто местная жительница, вот и все. Раненых тоже можно раздеть и убрать их красноармейские книжки. Сойдут за случайных жертв уличных боев, если повезет.
– Это вряд ли. Элеонора Сергеевна, – Калинин схватил ее за руку, – как же я вас оставлю тут?
– Да очень просто! Вы врач и нужны тем, кого еще можно спасти, а я сестра милосердия и должна помочь умирающим. Кроме того, я ничем не рискую, в отличие от вас.
– Что ж, тогда прощайте! Даст бог, скоро увидимся, – Калинин порывисто обнял ее и вскочил на подножку уже тронувшегося грузовика.
Элеонора помахала ему вслед и вернулась во дворец. Пока шла эвакуация раненых, большинство местных жителей разошлись по домам, она осталась с умирающими одна.
Наступившая вдруг тишина испугала больше, чем грохот боя. Что ждет ее и этих людей, за судьбу которых она приняла ответственность?
Сначала Элеонора хотела вывесить на дворце флаг Красного Креста, чтобы раненые белогвардейцы видели, куда идти, но потом поняла, что это будет предательством по отношению к тем, кто тут остался.
Если открыто признать, что здесь был медпункт красных, то выдать их за случайно пострадавшее мирное население никак не получится.
Раненых перенесли в полуподвальное помещение, в мирное время, очевидно, служившее кухней. Тут стояли большие каменные и чугунные плиты, потолок был закопчен. В углу находилась неприметная дверь, Элеонора заглянула туда и поняла, что она ведет в погреб. Она подумала, не стоит ли спрятать раненых там, но сразу отказалась от этой мысли. Погреб будет первым местом, куда заглянут победители в поисках продуктов. Элеонора проверила, не осталось ли что-то из обмундирования, что может выдать принадлежность к Красной армии. Не зная, чем помочь, аккуратно обтерла от пыли и пота лица.
Один немолодой боец пришел в себя и попросил пить. Ему нельзя было, как раненному в живот, но Элеонора подумала: зачем к мучениям умирающего добавлять еще и жажду, – поэтому дала ему несколько глотков.
Это ее враги. Но она обещала Калинину позаботиться о них и останется с ними до конца.
Она проверила свои запасы. Калинин оставил немного морфия на самый крайний случай и несколько бинтов. Это все, чем она располагает.
Но какая все же страшная тишина…
Когда же белогвардейцы наконец займут город? Скорее бы уж нашли ее саму и ее подопечных, любая определенность лучше этой томительной неизвестности.
Тут земля словно бы глубоко вздохнула.
Элеонора не успела понять, в чем дело, как раздался новый глухой удар, и со стены с оглушительным звоном упал медный таз для варенья.
Артиллерия, поняла Элеонора. Но зачем?
Здесь они были в относительной безопасности. Только если прямое попадание…
Она поднялась в холл. Хрустальная люстра под высоким сводчатым потолком раскачивалась и тревожно звенела, подвески падали с нее, будто летний дождь.
Элеонора с трудом толкнула тяжелую дубовую дверь и выглянула на улицу. Там бежали люди с окаменевшими от страха лицами. Совсем близко что-то тяжело свистнуло, и она увидела, будто в замедленном сне, как верхушка клена падает на землю, взмахнув красными листьями, словно огненным крылом.
– Сюда, скорее сюда! – изо всех сил крикнула она и замахала руками. – Господа, пожалуйте, по лестнице вниз. Места хватит!
Всего во дворце нашли убежище человек сорок, большей частью женщины с детьми. Элеонора усадила их, повторяя, что здесь они в безопасности, и как бы ни был страшен артиллерийский огонь, долго он не продлится.
Элеонора боялась духоты и открыла все заслонки в плитах. Архитектор должен был предусмотреть, что в кухне постоянно горят плиты и работает много людей, и спроектировать хорошую вентиляцию.
Запас воды был, слава богу, достаточным, полный бак литров на восемьдесят. Судя по тому, что вода немного затхлая, наполнен он давно, но привередничать нечего.
– Во утюжат! – вдруг негромко сказал пожилой раненый. – Но ты не бойся, дочка. Снаряд два раза в одну воронку не попадает.
– Да, один и тот же снаряд в одну и ту же воронку…
– Видишь, ты сама все знаешь, – засмеялся раненый и тут же поморщился от боли.
– Лежите тихонько, – посоветовала Элеонора и снова поднесла к его губам кружку с водой.
Сознание, что она ничем не может помочь раненым, было очень тягостным. Как там говорил Костров? Тяжело умирать в одиночестве. По крайней мере, эти раненые, если хоть ненадолго придут в себя, увидят свою сестру милосердия и не поймут, что их оставили погибать.
Странно было думать, что отсюда рукой подать до широкой дубовой аллеи, где воспитанницы всегда кормили белочек.
Всего несколько десятков метров, и четыре года назад… Солнечный осенний день, опавшие листья покрывают землю охряным ковром, а старые дубы причудливо сплетают свои узловатые ветви…
Элеонора поднимает с земли веточку и заглядывается, какие красивые желуди… Блестящие коричневые бочки и уютные шершавые шапочки. Она вспоминает, как в младших классах они с задушевной подругой Анечкой Яворской сотворили целый мир из желудевых человечков и упоенно играли в свою сказочную страну, пока классная дама не выбросила безжалостно «этот мусор». А потом Анечка умерла от туберкулеза, и больше у Элеоноры не было близких подруг.
Белки в этой аллее совсем ручные, достаточно было положить на ладонь орешек (наставницы специально раздавали им орешки перед прогулкой) и протянуть руку к стволу дуба. Несколько секунд ожидания, и по старой, в трещинах коре деловито спускается белка. Смешно поводит носом, неуловимым движением хватает орех и карабкается вверх.
Пройдя по этой аллее и неохотно расставшись с белками, воспитанницы попадали в парк Екатерининского дворца.
Гулять по его дорожкам было увлекательно и невозможно таинственно!
Элеонора улыбнулась, вспомнив себя в то время. Она жила, будто в предчувствии чуда, и была влюблена в мир.
Воспитанницы гуляли чинно, парами. Встречая кого-то из обитателей дворца, девочки делали реверанс. Мужчины отвечали обычно коротким кивком, а дамы милостиво улыбались.
Иногда на дорожке появлялись всадники, классные дамы окликали воспитанниц, требуя посторониться, а наездники сбавляли скорость и аккуратно проезжали мимо.
Так Элеоноре случилось встретить одного из молодых великих князей. В парадном мундире, на прекрасном вороном коне, он очень медленным шагом миновал строй воспитанниц, улыбаясь и шутливо отдавая девушкам честь.
Потом сразу перешел в галоп, и Элеонору поразила непринужденная грация, с которой он держался в седле, человек и конь, казалось, составляли единое существо.
И она по уши влюбилась, нет, не в князя, а в саму эту царственную посадку, в мундир с эполетами и немножечко в красоту придворных дам…
Как же счастлива она была тогда, да и потом, когда полюбила Алексея Ланского. Пусть он оказался недостойным человеком, но сердце ее билось тогда в полную силу, а помыслы были чистыми и самоотверженными. Этого ощущения чуда у нее никто не отнимет!
Может быть, если она останется жива, Господь сподобит ее полюбить снова…
Впрочем, и то и другое маловероятно, подумала она, ощутив, как мощные стены вздрогнули. Снаряд разорвался совсем близко.
Но все же без любви человек словно наполовину мертв. После унизительного поступка Ланского она и считала себя наполовину мертвой. А вдруг это не так? Вдруг сердце еще способно возродиться? Пусть это будет любовь без взаимности…
Новый взрыв напомнил ей, что сейчас не самое подходящее время мечтать о любви.
Она предложила отвести детей в погреб, там безопаснее. Дала всем воды. К сожалению, в шкафах не нашлось совершенно никакой еды, и у беженцев тоже ничего с собой не было. Элеонора прикинула, что ее запаса хватит, только чтобы один раз накормить детей, но пока никто не просил есть.
Осторожно поднялась разведать обстановку. Люстра в холле лежала на полу, во входной двери зияла огромная дыра, очевидно, пробитая осколком. Элеонора выглянула. Людей не было видно, ни мертвых, ни живых.
Снова наступила тишина. Она медлила, стоя в посеченном артобстрелом холле.
Вдруг вспомнила, что хозяин этого дома был расстрелян чекистами в январе в ответ на убийство в Германии каких-то видных коммунистов, она не запомнила их имен. В затерянном где-то городке Алапаевске шестью месяцами раньше погиб его сын. Ксения Михайловна рассказывала ей об этом удивительном молодом человеке, которого красные готовы были отпустить, подпиши он только отказ от отца. Но юноша не пошел на это унижение и после ссылки и тюрьмы был сброшен в шахту вместе с другими членами царской семьи.
Почти никого из блестящих кавалергардов и прекрасных дам, которых она встречала на прогулках в Царском Селе, не осталось среди живых.
Чудесный мир, в котором она готовилась жить, безжалостно уничтожен мрачной и грязной силой, вырвавшейся, кажется, из самого ада.
Эта сила принесла много горя, но пришло время, и она отступает. Россия возродится… Не сразу, нет. Предстоит много труда, но, одолев большевиков, они одолеют и все остальное – разруху, голод, болезни.
Она прислушалась. Тишина. Кажется, артиллерийская дуэль кончилась, значит, скоро наши войдут в город.
Ее вдруг испугала предстоящая встреча. Удастся ли отстоять ее раненых? Какое решение примут разгоряченные боем офицеры? Вдруг они, зная о чудовищной жестокости красных, тоже не склонны щадить их?
Ирония состоит в том, что ей придется защищать своих врагов, возможно, ценой собственной жизни. Странно, несправедливо, но другого пути нет.
– Спаситель мой, – прошептала она, – Ты положил душу свою, дабы спасти нас, Ты заповедал и нам полагать души свои за други наша и за ближних наша. Радостно иду я исполнить святую волю Твою и положить жизнь свою за царя и отечество. Вооружи мя крепостью и мужеством на одоление врагов наших и даруй мне умереть с твердой верой и надеждой вечной жизни в Царствии Твоем. Мати Божья, сохрани меня под покровом Твоим. Аминь. Господи сил, с нами буди, иного бо разве Тебе помощника в скорбех не имамы…
Эти с детства затверженные слова придали ей сил.
– И да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бежит от лица Его ненавидящий Его, – закончила она в полный голос.
В переплете окна светила необычайно яркая, крупная луна. Диск ее был перекрещен ветками, обрамлен острыми зубьями осколков стекла, чудом удержавшихся в раме.
Казалось, это смотрит равнодушный дьявольский глаз.
Элеонора спустилась к своим подопечным. Все раненые были живы, хотя двое очень плохи.
Один из них метался в сильном жару, Элеонора положила ему на лоб смоченное в холодной воде полотенце.
Который теперь час? Далеко ли до рассвета? Впереди еще несколько часов неизвестности, ночью войска не будут входить в город.
– Думаю, до утра ничего не произойдет. Давайте попробуем поспать. Хотя бы уложим детей.
Вместе с несколькими молодыми женщинами они прошли в жилую часть дворца и принесли одеяла, подушки, все, что удалось найти.
Устроили детям что-то наподобие постели, и две дамы, по виду гувернантки, очень ловко уложили их. Элеонора раздала детям сухари из своего запаса.
Простые, но полезные дела всегда были для Элеоноры лучшим лекарством от тревожных размышлений.
Как только наступило затишье, все оживились, стали переговариваться, но Элеоноре не хотелось ни с кем сближаться. Она только вежливо улыбалась и, разобравшись с детьми, сразу вернулась к своим раненым.
Села в уголке, прислонилась к стене, почувствовав спиной ее холод, и погрузилась в воспоминания.
О чем хочется думать в эти тяжелые, может быть, последние часы жизни? Элеонора дала памяти полную волю, пусть сама найдет, что принесет ей успокоение.
Странно, но первым человеком, о котором она подумала, оказался доктор Воинов. Их первая совместная операция… Вот он обрабатывает руки и ободряюще улыбается ей.
Удивившись капризам своего подсознания, подсунувшего ей Константина Георгиевича в качестве последнего утешения, Элеонора все же не стала сопротивляться.
Она вспоминала свою фронтовую жизнь, и на душе действительно становилось спокойнее. В то время она жила праведно и ясно.
А когда она, заболев тифом, умирала на руках Воинова, ей было совсем не страшно. И теперь он будто рядом с ней, пришел поддержать в последний час.
В голове вдруг очень ярко возник один вечер. Они собрались в палатке докторов, топили буржуйку, и Элеонора, помнится, загляделась на пламя в прорезях дверцы. Корф хлопотал, готовил чай по какому-то претенциозному рецепту, Иван Демидович страдал без выпивки.
Разговор, как обычно, коснулся философских тем.
– Конечно, Бога нет, а человек – животное, – говорил Корф, – но та удивительная сила, которая заставляет его любить, молиться и жертвовать собой вопреки инстинкту самосохранения, эта сила и есть Бог.
Воинов улыбался ей, в неверном свете керосиновой лампы похожий на черта.
– Я предпочитаю думать, что Бог есть, – Константин Георгиевич подмигнул ей, – ибо, если его нет, мы об этом все равно никогда не узнаем.
– Слушайте вы, спорщики, – проворчал Демидыч, – сами таблетку пирамидона глотаете, и голова проходит. Разве не чудо? Чудо! А вы говорите: Бога нет!
Вспомнив этот глупый разговор, Элеонора тихонько засмеялась и почувствовала, что на душе стало спокойно. Она готова принять свою судьбу.
Перед рассветом она задремала, а проснулась от того, что все толкались, гомонили, смеялись.
– Все кончилось, в городе наши, – сказала пожилая женщина, по виду работница, и, взяв за руку девочку лет двенадцати, направилась к выходу.
Очень быстро она осталась наедине со своими ранеными. До решения их участи осталось совсем немного времени. Ночью казалось, что ожидание никогда не кончится, а теперь Элеонора с сожалением провожала каждую минуту. Сквозь открытую дверь она слышала шум на улице, звук моторов и цокот копыт, какие-то строевые команды. Нужно собраться с духом и выйти, доложить, что у нее пострадавшие. Медлить нельзя, у раненых есть шанс на спасение, только если им в самое ближайшее время окажут помощь врачи!
Она умылась и пригладила волосы, поправила юбку и надела жакетик. Зеркала не было, но, кажется, она выглядит вполне аккуратно.
За расхристанную большевичку ее по крайней мере никто не примет.
Тут в подвал вбежал человек. Элеонора узнала в нем доктора Калинина и от удивления даже пошатнулась.
– Ну? Вы как? – кричал Калинин, хватая ее за руки. – Живы все?
– Да, Николай Владимирович, пока все живы.
– А у нас все! Понимаешь? Все! Победа!
Он крепко обнял Элеонору, сразу же резко выпустил и подошел к раненым.
– Да, вижу, вижу. Ничего, сейчас в госпиталь отправим, я специально машину выпросил.
Калинин взлетел по лестнице, на улице раздался его зычный голос:
– Мужики, давай сюда! Будем выносить!
Подхватив свою сумку, Элеонора на ватных ногах вышла на улицу.
Улица была полна народу, красноармейцы под руководством Калинина выносили раненых, многие просто стояли, курили и с любопытством смотрели на нее.
И когда Элеонора робко попросила закурить, к ней со всех сторон потянулись руки с пачками папирос.
Она неумело вдохнула дым.
Запрокинула голову, подставляя лицо нежным осенним лучам солнца.
Если смотреть высоко-высоко в небо, то на минуту можно подумать, будто ничего этого не происходит, и она по-прежнему на прогулке в строю воспитанниц, и сейчас по команде классной дамы уступит дорогу прекрасному всаднику…
Глава 9
Было немного странно вернуться в дом, который она покинула навсегда, и снова очутиться в жизни, с которой она уже простилась.
На душе было пусто и немножко «не в фокусе», Элеонора пока не верила, что жива.
Вероятно, у нее и вид был соответствующий, потому что в карманах жакета она неожиданно обнаружила несколько кусков сахара и сухари. Прилипшие к этим подношениям крошки махорки ясно выдавали их происхождение. Солдаты, с которыми она возвращалась в город, таким манером подбодрили ее.
Элеонора села на стул и задумчиво стала грызть сахар, оглядывая свою комнату, будто впервые.
Что ж, товарищ Катерина, проповедующая свободу женщины в том числе и от быта, осталась бы ею довольна. Она даже могла бы водить сюда экскурсии.
Армейский порядок, на пружинном матрасе идеально ровная постель. В углу – простейшая деревянная табуретка. Немного чужеродным телом смотрится комод, который подарила Ксения Михайловна. Очень красивый, резной, Элеонора всегда чувствовала умиротворение, когда протирала пыль в его завитушках. Роль оконных занавесок у нее исполняли художественно вырезанные газеты.
Но в этой комнате не было никаких безделушек, никаких памятных вещиц, которые так же необходимы, чтобы передать атмосферу дома, как слова нужны, чтобы выразить мысль.
Крохотный островок уюта – салфетка на подушке, которую она связала из просроченного шовного материала. Его следовало выкинуть, и Элеонора чувствовала себя немного преступницей, оттого что употребила эти нитки в личных целях.
Единственное, что Элеоноре нравилось в своей комнате, это пол. Простой паркет елочкой, его следовало натирать мастикой, но она не умела, да и мастики было днем с огнем не достать. Приходилось мыть, как бы забывая, что это вредно для паркета.
Но влажный пол так сказочно, так тепло пах деревом, совсем как в танцевальном классе Смольного. Воспитанницам перед занятием давали специальные лейки, из которых они брызгали на пол, чтобы он не был скользким.
Вспомнив то, что никогда не вернется, она тяжело вздохнула. Все кончено. Белая армия разбита. Элеоноре нужно было или погибнуть, или отступить вместе со своими, принять горечь поражения. А она почему-то оказалась среди победителей, причем, кажется, выглядит чуть ли не героиней.
Тут она подумала про Архангельских. Им сейчас в тысячу раз тяжелее, поражение Юденича означает для них вечную разлуку с Лизой. Или нет? Возможно, теперь Петр Иванович образумится и они эмигрируют?
Нужно навестить их как можно скорее. Элеонора нахмурилась, вспоминая, какой сегодня день недели. Время, проведенное на передовой, слилось в единый пласт, а сколько его на самом деле прошло – сутки, двое?
В коммунальной квартире свои, очень строгие законы, будь ты хоть трижды герой войны, занять ванную не в полагающиеся тебе часы нечего и думать. Придется идти в баню, подумала Элеонора, содрогаясь. Она брезговала, очень стеснялась мыться в обществе посторонних женщин, но другого выхода нет. Не ходить же чумазой.
Как бы ни было тяжело и безнадежно, все равно надо жить и следить за собой. Нельзя распускаться.
Она только закончила ругаться с главной сестрой по поводу перевязочного материала и все еще злилась, когда в операционный блок пришли Шура Довгалюк с Калининым. По инерции она рявкнула: «Что вам угодно?» – но сразу взяла себя в руки и извинилась.
– Ничего-ничего! Такой кавардак кругом, я понимаю. Слушай, Львова, тут такое дело… – Шура задумчиво подергал поясок от халата. – С тобой хотят поговорить иностранные корреспонденты.
– Как это? – сердце нехорошо екнуло.
– Ну, насчет твоего подвига. Когда ты с ранеными осталась.
– Помилуйте, Шура, разве это подвиг? Обычный рабочий момент.
– Вот об этом рабочем моменте и поговоришь с иностранными корреспондентами. Это очень важно сейчас, пойми! Нужно, чтобы мир узнал, что в нашем молодом государстве живут прекрасные люди.
Элеонора отмахнулась:
– Ах, Шура! У вас множество прекрасных людей и помимо меня.
– Элеонора Сергеевна! – Калинин скосил глаза и шумно задышал, изображая галантность. – Прекраснее вас нету!
– Николай Владимирович! Зачем только вы рассказали! Я совсем не хочу известности. И встреч с газетчиками тоже не хочу. Я простая сестра милосердия, и не надо пытаться делать из меня что-то большее.
Калинин с Шурой наперебой заговорили, что именно образ самоотверженной сестры милосердия сейчас необходим для укрепления репутации страны и ее мирового признания. Кроме того, сейчас в голодном городе активно работает Красный Крест, а они там любят такие трогательные истории. Мужчины несли страшную пропагандистскую чушь, и Элеонора поняла, что шансов нет. Раз решено швырнуть ее на алтарь, то швырнут, чего бы это ни стоило.
Заручившись ее согласием, Шура сказал, что завтра ей следует явиться в кабинет директора Клинического института, где и состоится встреча.
Сначала Элеонору удивил подобный официоз – почему корреспондент не может взять у нее интервью просто на рабочем месте, – а потом она подумала, что это очень хорошо.
Частная встреча вызвала бы много толков, вплоть до обвинений в связи с иностранными шпионами.
В назначенное время она прибыла к Шварцвальду. На столь ответственную встречу Элеонора оделась, как всегда, скромно, просто и аккуратно до пуританства. Ее скудный гардероб состоял из двух перешитых юбок Ксении Михайловны, черной и темно-серой, и нескольких строгих блузок из того же источника. Те вещи, в которых она прибыла с фронта, носить было нельзя, а надевать платье, подаренное подружкой Воинова, Элеонора брезговала. Хотя почему-то не удосужилась обменять его на толкучке на пару сухарей. Когда Архангельских выгнали из дома, Ксения Михайловна сохранила ее форму смолянки, жакетик и зимние ботиночки. Форму можно было перешить, но Элеонора решила сохранить ее на память, завернула платье и пелеринку в вощеную бумагу и убрала в нижний ящик комода.
Сейчас многие женщины, в том числе благородные дамы, подстриглись, но Элеонора держалась, несмотря на трудности с водой и мылом. Ей хватило того года, когда она вынужденно ходила с короткими волосами после тифа. Сейчас еще волосы не вернулись к прежнему состоянию, но уже отросли настолько, что она могла убирать их в гладкую прическу с узлом на затылке.
Мельком взглянув в большое зеркало в гардеробе, Элеонора убедилась, что больше всего похожа на классную даму, и направилась хорошо знакомой дорогой в кабинет Шварцвальда. Пришлось напомнить себе, что она тут по делу и некогда предаваться воспоминаниям юности.
Как бы безупречно она ни выглядела, руки всегда ее подводили. Во время операций приходилось несколько раз в день обрабатывать ногти раствором йода, кончики пальцев оставались желтыми, и несведущие люди могли подумать бог знает что. Поэтому у нее появилась привычка складывать руки в замок.
В кабинете было сизо от папиросного дыма, все галдели, и это ничуть не походило на официальную встречу, как представлялось ей в воображении.
Шварцвальд приветствовал ее с такой теплотой, будто был под хмельком, Катерина вскочила, не выпуская из пальцев папиросы, обняла ее и стала вещать, какая Элеонора прекрасная сестра, мол, только благодаря ее усилиям Катерина сейчас стоит на обеих ногах.
Элеонора только успевала улыбаться, когда ей представляли американского журналиста, рыжего молодого человека с тяжеловатой челюстью и быстрыми глазами, двух представителей Красного Креста, степенных и холеных господ, и неприметную личность в потертой кожанке. Судя по тусклому взгляду, личность была из ЧК.
Она поняла, что эти люди собрались вовсе не ради нее, у них множество тем для обсуждения, а ее позвали в качестве своеобразного антракта. Что ж, тем лучше.
Очень хотелось поговорить по-английски, она давно не практиковалась в языках, но лучше не дразнить чекиста.
– Скажите, почему вы остались с ранеными бойцами? – спросил журналист с сильным акцентом.
Элеонора заранее продумала свои ответы и собиралась сказать, что таков ее долг. Но теперь вдруг замялась, глядя на этого американского парня. В его живом взгляде ей почудилась фальшь и пустое любопытство.
Сейчас она произнесет заготовленную фразу, газетчик обработает ее ответы в пафосном духе, как они это умеют, и она превратится в героиню. О ней напишут в прессе, возможно, она даже станет сенсацией, обыватели любят такие трогательные истории. Не исключено, это станет для нее своего рода охранной грамотой… Но какой ценой ей достанутся эти почести?
– Боюсь, у вас недостоверная информация, – сказала она с улыбкой, – я тоже слышала о себе эту историю, будто я осталась с умирающими, когда Красная армия оставила Царское Село. Но это всего лишь романтическая сказка. Такого не было и быть не могло. Русские солдаты никогда не оставляют своих раненых. Никогда.
– Но я слышал…
– Послушайте, мне самой неприятно, что обо мне ходят такие слухи! – быстро перебила Элеонора. Не хватало еще, чтобы американец назвал в качестве информатора Калинина или Довгалюка. – Я действительно выезжала на передовую и оказывала помощь бойцам. Но это все.
В гардеробе ее догнала Катерина и по-свойски взяла под руку. Элеоноре была очень неприятна такая бесцеремонность, она быстро убрала руку под предлогом, что ей нужно надеть пальто. Но Катерина не унималась.
– Я пройдусь с тобой немного, а то не могу уже слушать! – весело сказала она. – Надоела до чертиков эта мужская манера вести дела – десять раз повторять одно и то же, когда все давно понятно! И эти люди называют женщин болтушками…
– Зачем же вы все время противопоставляете мужчин и женщин, если боретесь за равноправие полов? – сухо спросила Элеонора в надежде, что Катерина разозлится и уйдет.
Но та только засмеялась, накинула пальто и вышла с Элеонорой на улицу.
– Ты молодец, молодец! Мы-то, дураки, не сообразили сразу… А ведь еще неизвестно, как бы они дело повернули. То ли тебя бы прославляли, а то ли Красную армию обгадили бы. Хотя… – Катя помолчала, пристраиваясь к быстрому шагу Элеоноры. – Может, лучше бы правду сказать. Маленькая ложь рождает потом грандиозные мифы.
Элеонора пожала плечами. Менее целеустремленный человек давно бы понял, что с ним не хотят общаться, но только не Катерина.
– Послушай, товарищ Львова, – сказала она напористо, – мы с тобой могли бы стать настоящими друзьями!
И снова взяла ее под руку. Эти фабричные манеры оскорбляли Элеонору, вызывая в душе ощущение пошлости. И Элеонора грубо, неожиданно для самой себя, вдруг заявила:
– Простите, но то, что у нас был общий любовник, еще не делает нас подругами.
– Ах, вот ты о чем! Ну прости, я же не знала.
– Что вы, я ни в чем вас не обвиняю.
– И то дело! Слушай, что мы будем ссориться из-за мужчины. Он не мучается, поверь, так мы почему должны? Было и было, подумаешь…
Элеонора отвернулась и ускорила шаг, чтобы скрыть смущение. В душе поднялась волна жгучего стыда.
– Нет, правда, – продолжала Катерина как ни в чем не бывало, – почему такая разница? Что для мужчины всего лишь ночь удовольствия, для женщины – разрушенная жизнь? Так не должно быть и не будет больше. Женщина так же свободна в своих желаниях, как и мужчина.
– Не буду с вами спорить.
– Правда, не сердись! Это было глупо с моей стороны, но…
– Товарищ Катерина! Я ни при каких обстоятельствах, никогда больше не хочу говорить с вами о Ланском. Пусть каждая из нас оставит воспоминания о нем при себе.
– А, так даже лучше! Что говорить, действительно… Просто даже глупо!
Катерина засмеялась, а Элеонора вдруг вспомнила про ее ранение, смутилась и замедлила шаг. Кажется, она становится слишком черствой…
– Я что хочу сказать, ты работаешь за пятерых, жизни не жалеешь. По делам – настоящая коммунистка, а все как-то наособицу. Почему так?
– Я выполняю свой долг, что еще вы от меня хотите?
– Долг – это хорошо, но ты будто заживо себя хоронишь. Зачем? Жить надо, товарищ Львова! В полный рост жить, сколько сил хватает! Сейчас время огневое, может, раз в миллион лет выпадает такое время.
Элеонора молчала. Что товарищ Катерина понимает под жизнью в полный рост? Партийные интриги? Распущенность, которую она почитает за женскую свободу? Но потакать своим желаниям – это совсем не свобода…
Любая другая женщина давно бы поняла, что с ней не расположены разговаривать, но для Катерины молчание Элеоноры не создавало ни малейшей неловкости.
– Думаешь, я не мечтала о счастье? Тоже хотела, чтобы муж, кружевные зонтики, дача летом, прелестные малютки и прочее…
Катерина расхохоталась, и Элеоноре вдруг послышалась настоящая боль в этом смехе. Она остановилась и осторожно взглянула в лицо собеседнице.
– Да, в юности я была не оригинальна в своих мечтах. Но вот не вышло! Я тебе, может, потом расскажу, почему. Мне дорога была либо в петлю, либо на улицу. А я к большевикам пошла и не пропала. И ты не пропадешь.
В обычно мрачных глазах Катерины вдруг промелькнуло что-то похожее на обычное человеческое участие. Элеоноре стало неловко, она знала, как мучительно для таких замкнутых людей, как они с Катериной, хоть чуть-чуть приоткрыть душу другому человеку, и не хотела, чтобы парторг потом жалела о своем порыве.
– Простите меня, но мы не можем быть друзьями, – сказала она как можно мягче, – я понимаю, что вы благодарны мне за помощь в лечении вашей раны и чувствуете себя виноватой, что… в общем, за Алексея. Поверьте, вы ни в чем не виноваты передо мной. Совершенно ни в чем, я не была представлена вам ни женой, ни невестой Ланского, следовательно, никаких обязательств. И в госпитале тоже… Я отнеслась бы так к любому человеку с такой раной, как у вас. Никакого личного отношения у меня не было, так что и у вас нет повода для симпатии ко мне. Я восхищаюсь вашей стойкостью, с какой вы перенесли болезнь, но мы слишком разные, чтобы дружить. Еще раз простите и не сердитесь на меня.
– Да я не сержусь! – Катерина вдруг крепко, порывисто, совсем по-мужски пожала ей руку. – Ты знаешь что? Ты же умный человек, так оглядись вокруг и подумай. Крепко подумай!
Если бы вдруг Элеонора и решила внять совету парторга, вокруг не происходило ничего, что заставило бы ее изменить свое мнение о большевиках. Несмотря на убедительную победу над Юденичем и некоторое улучшение снабжения, репрессии продолжались, как прежде. Аристократы жили, как под дамокловым мечом, каждую ночь ожидая визита чекистов. Те, кому посчастливилось поступить на службу, боялись увольнения, а другие, прекрасно образованные, умнейшие люди, безуспешно обивали пороги учреждений. На этом фоне благополучие Шварцвальдов выглядело почти неприлично.
Поэтому, получив приглашение к ним на ужин, Ксения Михайловна решила сказаться больной.
– Я очень люблю сестру милосердия Сашу Титову, благодаря которой мы не пропали на улице, но я совершенно не выношу новоиспеченную баронессу Шварцвальд! – заявила она.
Петр Иванович с Элеонорой пытались воззвать к ее лучшим чувствам, но безуспешно. После небольшой дискуссии тетушка неожиданно сказала, что во всем виноват сам барон. Нечего, мол, было жениться. Прекрасно жили любовниками, даже прижили двоих детей, нужно было продолжать в том же духе, а не ставить себя в ложное положение.
В ответ на Элеонорино «тетушка, но они же так любят друг друга» Ксения Михайловна саркастически усмехнулась: мол, эта любовь неспроста.
Оказывается, Шварцвальд совсем молодым женился на прелестной девушке своего круга. Женился по любви, но не прошло и года, как молодая жена, будучи в интересном положении, покончила с собой. Вероятнее всего, у нее было психическое заболевание, но кто знает…
– Бедный барон, пережить такое, – воскликнула Элеонора. От мысли, что творилось в душе Шварцвальда, у нее закружилась голова.
– Вот его и потянуло на крепких пролетарских женщин, – ядовито заметила Ксения Михайловна, – а потом, после этого ужасного случая как ему было искать себе новую жену в свете? Да, родовит, да, богат и хорош собой, и вроде бы его вины никакой нет в том, что жена наложила на себя руки. Об этом сразу перестали говорить и принимали его как ни в чем не бывало, и он считался завидным женихом… для других невест. Я к нему благоволила, но если бы ему взбрело в голову посвататься к моей дочери… Тут бы я сразу подумала, что нет дыма без огня, и это вообще очень темная история… Словом, ты понимаешь. Поэтому я полагаю, что Саша не столько от большой любви, сколько от безысходности.
Тут тетушка спохватилась, что Элеонора – барышня и ей слушать такие рассуждения не полагается.
– Прости, дорогая, но тебе пришлось столько пережить, что ты кажешься мне совсем взрослой, – Ксения Михайловна обняла племянницу.
В назначенный день Петр Иванович с племянницей прибыли к Шварцвальдам. Услышав о болезни Ксении Михайловны, Саша как-то очень недобро усмехнулась.
– Ну что ж, дело ваше, – сказала она холодно, но Элеоноре, кажется, обрадовалась.
Когда вошли в гостиную, стало видно, что Саша ждет ребенка, и Элеонора почувствовала прилив нежности к подруге. Как она отважилась на такое во время голода и разрухи? Шварцвальд, хоть занимал высокий пост, не пользовался особыми привилегиями, семья голодала, как и все другие семьи. Несмотря на округлившуюся талию и припухшие губы, Саша выглядела изможденной и почти прозрачной, ее прекрасные волосы посеклись.
Ничего удивительного, что ей тяжело выполнять обязанности хозяйки, и Шварцвальд мог бы поумерить свое гостеприимство, желчно подумала Элеонора, глядя, как отрешенно Саша приглашает их в столовую, где накрывает поистине царский ужин: пшенная каша с селедкой и хлеб.
Кроме них, гостей не было. Не было даже детей, они пошли на какое-то собрание в школу.
Элеонора принялась за еду, гадая, зачем их все же пригласили. Шварцвальд сказал, важное дело, но вел ни к чему не обязывающий разговор, который быстро съехал на политическую тему.
В очередной раз предложил ей перейти к нему в институт, а если уж она категорически против, то, по крайней мере, активнее включаться в общественную жизнь.
Элеонора только вежливо улыбалась в ответ, пока на выручку ей не пришел Петр Иванович:
– Оставьте эту агитацию, – заметил он добродушно, – ведь, в сущности, ваша революция, несмотря на свои пафосные лозунги, есть не что иное, как триумф зависти. А зависть, как известно, самое бесплодное чувство, которое приносит только разрушение и в душу человека, и во внешний мир. Поэтому мы предпочитаем держаться подальше от вашей государственной машины.
Шварцвальд не стал спорить:
– Что ж, раз не удается вас перевоспитать, перейду к сути дела. Я вас пригласил, чтобы передать кое-что по линии Красного Креста. Надеюсь, эта маленькая оказия останется между нами.
Загадочно улыбаясь, он встал из-за стола и жестом позвал гостей следовать за ним. Саша осталась в столовой, а Элеонора случайно перехватила мрачный взгляд, которым она смотрела на мужа.
– Только тихо, – барон достал два пухлых конверта из своего письменного стола, – держите. Ответа жду не позднее чем послезавтра.
О господи! Элеонора узнала почерк Лизы и заметила, как внезапно побледнел Петр Иванович.
Шварцвальд быстро усадил его на стул и подал стакан воды.
– О, не волнуйтесь так, это просто письма.
– Но как вам удалось?..
– При чем здесь я? Это у вашей дочери хватило ума связаться с представителями Красного Креста.
– Я в неоплатном долгу перед вами, барон… И когда вы поручились за нас, и теперь… Это же опасно.
– Никакого риска, не тревожьтесь. Я общаюсь с Красным Крестом по долгу службы, а ваша дочь достаточно сообразительна, чтобы не указывать имен. Единственная предосторожность, о которой я вас попрошу, – уничтожить письма и в своих ответах по возможности обходиться без имен.
Петр Иванович бережно спрятал письмо во внутренний карман и поспешил домой. Элеонора немного проводила его, но дядя словно не замечал ее присутствия, он летел как на крыльях, поглощенный мыслями о дочери.
Глава 10
«Дорогая моя сестра, – писала Лиза, – боюсь, что в своей жизни, полной трудностей и опасностей, ты едва ли вспоминаешь обо мне. И я не могу на тебя за это обижаться, мне в благополучной Британии не привелось пережить и сотой доли того, что выпало тебе.
Я могла бы сказать, что обречена на разлуку с родителями, и это гораздо страшнее для меня, но я ведь не пережила этого всего и не имею права на столь пафосные заявления, остается только тихо горевать…
Боюсь, что этим письмом я только подвергаю тебя лишней опасности, но, видишь ли, для меня это все равно что разговор с собственной душой.
О, Элеонора, каким ударом было для меня решение отца вернуться! Я долго не могла поверить, что родители оставят меня и внучек ради страны, которой больше не существует. Страшнее всего было то, что это же мой родной папа, который так любил меня и, кажется, никогда не интересовался ничем, кроме хирургии. Никогда прежде я не слышала от него высоких речей, он был такой… прости, никак не подберу нужного слова. Жизненный, что ли. Домашний, уютный папочка. Сколько себя помню, он всегда слушался маму, а она, согласись, была все же немножко диктатором. И вот ирония судьбы, единственный раз в жизни, когда это оказалось действительно важно, мама не сумела настоять на своем. Она бы осталась, Элеонора! Ведь речь шла не о выборе лучшей жизни, не о мнимом предательстве родины (которой уж нет) ради безопасности, а о воссоединении семьи. Ничего не было постыдного в том, чтобы остаться! Абсолютно ничего, особенно теперь, когда аристократия покидает страну целыми пароходами! Ох, Элеонора, я не могу его понять! Все время думаю и не понимаю, почему отец так решил! Но, знаешь, где-то в глубине души я это принимаю. Я знаю, что папа не мог поступить иначе.
Не буду лукавить, когда немного отступила первая боль разлуки, я сердилась. Потом была известная тебе кампания. Мы следили за событиями, затаив дыхание, я не спала ночами и первая выбегала к разносчикам газет. Казалось, до победы рукой подать, день-два, и безумие закончится. И родители снова смогут видеться со своими детьми, сколько захотят! Дорогая моя, я до сих пор с болью и радостью вспоминаю эти несколько дней надежды! Душа встрепенулась, я почти начала собираться в путешествие, мечтая поскорее обнять папу с мамой и тебя, милая сестра!»
«Милая сестра» вздохнула. Написав «известная тебе кампания» вместо «операция Юденича», наивная Лиза решила, что соблюдает конспирацию. Но общий тон письма был откровенно контрреволюционным. У Шварцвальда определенно были бы неприятности, попади оно в чужие руки. Как ни хочется сохранить этот, может быть, последний привет от Лизы, его придется уничтожить. Элеонора нежно провела пальцем по краешку прекрасной английской бумаги, вгляделась в почерк. Прихотливый, с множеством завитушек, но слегка неровный. Лиза почему-то не любила делать переносы, поэтому последние слова в строке у нее то сжимались, то загибались вниз. Здесь, кажется, капнула слеза, но пятно было сразу ликвидировано с помощью промокашки, остался только еле заметный ободок. Ах, как не хочется жечь, но и хранить нельзя. Речь в письме идет не только о ней.
«Но к декабрю все было кончено, – продолжала читать Элеонора, – надежда погибла. Нам стало ясно, что эта чудовищная власть воцарилась надолго. Не знаю, как описать тебе мои чувства, я стала словно животное, запертое в клетке. Кругом глухая стена, и не знаю, что легче, хранить надежду на встречу или принять как неизбежное, что я больше никогда не увижу папу с мамой. Эта мысль повергает меня в такое отчаяние, что я готова ехать в Петроград сама. Но Макс, девочки и еще один человечек у меня под сердцем никогда не позволят мне этого сделать. Иногда я завидую тебе, что ты свободна, а я совсем не принадлежу себе и не имею права делать даже хорошие и очень правильные вещи. Я не могу оставить мужа и детей, тем более не могу везти их в Россию, на верную гибель. Если бы ты знала, как я иногда презираю себя! Но что поделать, я превратилась в глупую наседку, вся сфера интересов которой ограничена детьми и домом.
Через полгода малыш появится на свет, а мамы не будет рядом. Она даже не знает, что я жду ребенка, и я не смогла ей об этом написать! Ты тоже не говори, прошу тебя! Она с ума сойдет от волнения, я постараюсь сообщить, когда все уже произойдет. Пока в России работает миссия Красного Креста и Макс делает солидные пожертвования, мне удастся писать, хоть и не часто. Ведь письма могут быть опасны для вас, а главное, они не заменят встречи!
Я знаю, знаю, ты считаешь меня эгоисткой и трусихой! Почти вижу, как ты хмуришься, что твоя глупая сестра думает только о том, как тяжела ей разлука. Может быть, ты даже вспоминаешь, какая я была злая и противная дочь, как говорила о маме ужасные вещи. Если бы ты только знала, до чего же мне стыдно теперь! Чего бы я ни отдала, чтобы не было этих отвратительных слов, сказанных из каприза и глупости! Но когда я была маленькой, мне казалось, что папа с мамой будут всегда и я все успею наверстать и исправить… Милая сестра, это такое заблуждение! Оказывается, наступает момент, когда самые простые вещи становятся невозможны.
В юности я мечтала поскорее выйти замуж и зажить своим домом. А теперь, когда моя мечта исполнилась и я сама стала матерью, я вдруг поняла, что Макс никогда не станет для меня так же близок, как родители. Я выросла, исчез этот барьер, родительский долг, если хочешь. Я так хотела заботиться о них и оберегать… Господи, да просто разговаривать с ними! Просто быть рядом!
Мне бы очень хотелось знать, что они не так страдают в разлуке со мной. Что они вырастили несносную Лизу и с облегчением сбыли ее с рук. А к внучкам не успели привязаться, и в вашей трудной героической жизни мама с папой не скучают хотя бы обо мне… Но я знаю, что это не так! Решение отца вернуться в Россию не значит, что он меня не любит. Это никак не связано, просто есть что-то, ради чего нужно переступить через самую сильную любовь. Я этого не понимаю, но знаю, что это есть.
Как бы я ни страдала, маме с папой в тысячу раз тяжелее, поэтому, дорогая сестра, я прошу тебя о том, о чем просить не имею права. У тебя нет никаких обязательств перед нами, это так. Мы не приняли тебя в семью и не дали тебе той родительской любви, о которой я сейчас сокрушаюсь. Мама сказала мне, что наша разлука – это возмездие за то, что она не воспитала тебя наравне со мной. И действительно, когда я вспоминаю свои детские годы, такие удивительные, исполненные радостного волшебства, и думаю, что ты в это время томилась в казарме, по недоразумению именуемой Смольным институтом, мне становится так стыдно! Но и результат… Если бы ты знала, как я восхищаюсь тобой, но я боюсь об этом писать, не рискуя впасть в фальшивый тон. Ты настоящая героиня!
Милая моя Элеонора, я не прошу тебя заботиться о моих родителях. Я знаю, они слишком гордые и сильные люди и до последнего будут справляться сами. Насколько я знаю маму, слишком явное участие может даже показаться ей оскорбительным. Знаю и то, что ты и без моих просьб сделаешь для них все возможное и невозможное. Просто попробуй хоть немного заменить им меня. Заглядывай к ним почаще и запросто, рассказывай о своих делах, а когда выйдешь замуж и у тебя появятся дети, позволь маме с папой участвовать в их воспитании, как если бы это были их родные внуки.
И еще одна просьба, совсем деликатного свойства. Сейчас человек из Красного Креста передает письма через барона Шварцвальда, но если этот канал вдруг закроется, нельзя ли связываться непосредственно с тобой? Передавать письма родителям слишком опасно. Прошу тебя, дорогая сестра! Мне больше некому довериться.
Ты, верно, думаешь, что я написала тебе только ради этого. Нет и еще раз нет! Я очень тоскую по тебе, по твоей прямоте и надежности. Мне так не хватает твоего несгибаемого духа! Иногда я думаю, что если кто и смог бы уговорить отца остаться с нами, так это ты. Тебя бы он послушался. И, засыпая, я иногда позволяю себе помечтать, как мы живем в нашем поместье, всей семьей собираемся за чаем в малой гостиной.
Ты, мне кажется, увлекаешься верховой ездой, мама муштрует всех местных дам, а отец занят научными трудами. Он сидит в кабинете, зарывшись в книги, а дети притаились в уголке, как я когда-то, и завороженно смотрят, как медленно планирует с письменного стола лист черновика… Наблюдать работу его мысли интереснее всех игр: как он хмурится, грызет кончик пера, потом резко поднимает палец кверху, как бы ставя своей идее восклицательный знак, и стремительно начинает листать огромный том. Мелькают удивительные картинки: скелет, череп, кровеносные сосуды, – но детям не страшно, они смотрят во все глаза. А потом прихожу я с крепчайшим чаем, по-русски, в серебряном подстаканнике.
Теперь этому не бывать…
Нужно смотреть правде в глаза, скорее всего, мы никогда больше не увидимся, но ты все же не забывай меня, дорогая Элеонора».
Отложив письмо, Элеонора задумалась. Она питала к сестре нежную, но, в сущности, неглубокую привязанность, тут Лизу не подвело женское чутье.
Стыдно признать, но она совсем не скучала по Лизе, только сочувствовала Архангельским, что они разлучены с дочерью.
Кажется, сейчас ей интереснее было бы общаться с товарищем Катериной, чем с собственной сестрой, как ни кощунственно это звучит.
Лиза – просто мать семейства, а они с Катериной – настоящие валькирии, пусть и по разные стороны баррикад. Это так, невесело усмехнулась Элеонора, тут с Лизой не поспоришь даже из скромности. Только вот чья жизнь важнее, которая потянет больше на неведомых живому человеку весах, моя или Лизина? Она необходима своему мужу и детям, является центром их существования, а я… Кому какой толк от моего геройства? Пусть я прямая и надежная и тысячу раз такая настоящая героиня, как пишет Лиза, но ведь до этого никому нет дела! Если я завтра умру или исчезну, этого никто не заметит. Может быть, Архангельские немного погорюют, но и только.
Если прибегнуть к аллегории, моя жизнь – сухая схема, а Лизина – настоящая картина, наполненная красками нежности и любви. Или, продолжая логический ряд, моя – скелет, а Лизина – живое тело.
На маленькой спиртовке Элеонора приготовила себе чай. Эта странная жидкость, заваренная на травах Ксении Михайловны, обычно хорошо утешала ее. А когда становилось особенно грустно, помогала папироса, которую она выкуривала в открытое окно, сидя на подоконнике. Редко затягиваясь, она смотрела, как дымок поднимается в пасмурное небо, как снуют прохожие по серой мостовой, а в окнах дома напротив то загорается, то гаснет жидкий желтый свет.
Почему так получилось, что она совсем одна? В бытность воспитанницей Смольного она часто слышала наставления от классной дамы, что ей следует прилежно заниматься, чтобы окончить курс первой по всем предметам. Чтобы сделать хорошую партию, нужны красота, приданое и связи, а ничего этого у Элеоноры, увы, нет. Поэтому, мадемуазель Львова, готовьтесь жить своим умом. Дай бог, чтобы я ошибалась, но чудеса происходят так редко, моя милая…
И все же Элеонора не верила этим мрачным прогнозам. Она мечтала о любви, прекрасной и единственной, и чтобы на всю жизнь.
Наверное, ее грезы были совершенно такими же, как у всех других юных девушек. И она полюбила, как и всякая юная девушка, надеясь на вечность и сказку…
Элеонора горько усмехнулась. Для любви нужны двое.
Зачем она отдала свое сердце такому ничтожному человечку? Почему ошиблась? Почему не слушала Ксению Михайловну и не помнила наставления классных дам?
Видно, героини не годятся для обычной жизни. Даже в ее первой любви была какая-то мрачная жертвенность, что-то исступленное. И они были вместе не потому, что ей этого хотелось, не потому, что не смогла противиться чувству. Нет, она, образно говоря, возложила свою девственность на алтарь любви. Зачем?
Ах, если бы только у Алексея достало порядочности не играть с ней, если бы он только понял, как это важно для нее. Если бы только подумал, как она наивна… Но для мужчины наивность девушки не препятствие, а повод, чтобы ее обмануть.
Как там говорит Катерина? То, что для женщины на всю жизнь, для мужчины дай бог если на всю ночь. Или как-то в этом духе… Есть в ее речах рациональное зерно, только выводы она делает отвратительные.
Мысли скользили горькие, но неглубокие, поднимая в душе чувство мрачной досады. Прошлое не изменишь, а она все терзается, почему так, а не иначе. Было трудно, тяжело и противно, но это закончилось. Все. Пора перелистнуть эту страницу. Просто нельзя тратить силы на бесплодное самокопание, когда есть люди, которым нужна ее помощь.
Элеонора помахала руками, якобы выгоняя табачный дух из комнаты, и закрыла окно. Хватит плакать о пролитом молоке. Это стыдно – жалеть себя за крах любви, в котором полностью сама виновата, в то время, когда Архангельские с Лизой обречены на разлуку. Но эта мысль думалась как-то фальшиво, через силу.
Сев за столик, она разгладила перед собой лист дурной серой бумаги, выглядящий особенно жалко рядом с английским собратом, и взялась писать ответ, надеясь, что найдет для сестры довольно искренних и теплых слов, чтобы хоть немного смягчить ее боль от разлуки с родителями.
Глава 11
Калинин забежал к ней в кабинет, держа перед собой увесистый сверток.
– Элеонора Сергеевна! – энергично воскликнул он и положил пакет ей на стол.
Она нахмурилась:
– Вы мне все перепутаете.
– Не перепутаю, голубушка, наоборот! Это, помните, мы с вами аппендицит делали?
– Кажется, припоминаю, – вежливо ответила она. Она стояла на стольких операциях, что они давно уже слились в одну бесконечную череду. Но не стоит обескураживать Калинина, для которого эта аппендэктомия, может быть, стала вехой в карьере.
– Так вот пациент поправился и специально пришел меня отблагодарить.
– Николай Владимирович, это нехорошо.
– Еще как хорошо! Врача накормит больной! Нарком Семашко сказал, между прочим, – тут Калинин потряс сверток и прислушался. – Хотя в данном случае, кажется, напоит.
Элеонора отвела взгляд. Читать жизнерадостному доктору нотации она не собиралась, но все же принимать подношения не годится. Бесплатная медицина, кажется, единственное хорошее нововведение большевиков, и надо его соблюдать, а не опускаться до мелких поборов.
Но Калинин не замечал ее молчаливого недовольства, как ни в чем не бывало разрывал газету, в которую было упаковано подношение. Внутри оказалась бутыль с белесой жидкостью. Николай Владимирович уважительно присвистнул:
– Ого, самогон! Становится страшно!
– Будьте добры, уберите эту гадость из операционной. И прошу вас больше никогда ничего сюда не приносить, что бы вам ни поднесли пациенты.
– Так от чистого же сердца все!
Тут к ним присоединился Шура Довгалюк с амбарной книгой подмышкой. Элеонора и не помнила, когда последний раз видела его без этого гроссбуха.
– Так, Львова, распишись за лекцию. Завтра в восемнадцать, чтобы все твои были! И без всяких «занята на операции», я проверю.
– Хорошо, будем, – она не глядя поставила роспись там, куда указывал Шурин неправдоподобно красивый палец. У него были удивительной лепки руки с миндалевидными ногтями, от таких не отказалась бы самая привередливая кокетка. Вдруг она вспомнила, что Довгалюк считался очень хорошим фельдшером, до поступления в госпиталь прекрасно работал в земстве, практически подменяя спившегося врача, даже интубировал и отсасывал пленки детям при дифтерийном крупе. Общаясь с ним на медицинские темы, Элеонора оценила превосходный уровень его подготовки, но, подвергшись красной заразе, Шура забросил медицину. Всю свою недюжинную энергию он направил на общественную работу, вечно организовывал то лекции, то занятия, то курсы, то встречи с революционерами и поэтами. Что-то из этого оказывалось полезным, например, курсы по ликвидации безграмотности, но остальное…
– Можно узнать, какова тема лекции?
– А, не знаю… Интересная тема. Останешься довольна. А что это у вас? Отдайте мне.
– Забирай.
– Вот спасибо так спасибо! А дайте во что завернуть.
Калинин махнул рукой:
– Шура, неси так! Все уже знают, что ты пьяница.
– Я? Ни боже мой. Даже нюхать не хочу. Но приходится привлекать несознательный элемент, а с ним без этого никак.
Бесцеремонность и грубость друзей почему-то была Элеоноре симпатична, хотя должна была бы вызывать совершенно другие чувства.
– Шура, я тоже несознательный элемент, однако ж прекрасно обхожусь, – улыбнулась она.
– Ты, Львова, вообще молодец! Я таки не понимаю, почему ты до сих пор не в комсомоле! Ты ж работаешь втрое против наших активистов, а уж как ты себя проявила во время обороны Петрограда! Слушай, ты знаешь что? В выходной мы катаемся на лыжах в Стрельне, айда с нами!
– Правда, поехали! – встрепенулся Калинин. – Отдохнете, наберетесь сил перед новой трудовой неделей.
От такого натиска Элеонора растерялась:
– Но я не хожу на лыжах.
– Вот и научим! – Шура азартно хлопнул ее по плечу. – А то что это, действительно, как трудиться, так ты с нами, а как отдыхать – так нет. Разве можно? Нет уж, как говорится, вынесла бремя, заслужила и почет!
Перехватив ее удивленный взгляд, Шура подмигнул:
– На лекции ходи, Львова, еще не то узнаешь. Ну все, я побежал, – Шура укрыл бутылку полой халата, – а тебя жду в девять возле главного входа. В Стрельну двинемся централизованно. Поняла?
Она растерянно кивнула, только потом спохватилась:
– Шура, у меня нет лыж.
– Я тебе принесу, – крикнул он из коридора, – не беспокойся.
Это было глупо, но Элеонора поехала. С низкого неба сыпал острый мелкий снег, а по темной улице змеилась поземка, словом, обычное петербургское утро последнего месяца зимы. Разумнее всего было бы остаться в постели, но мысль о том, что Шура специально для нее несет лыжи, заставила Элеонору встать.
Позавтракав овсянкой с капелькой подсолнечного масла, она задумалась, что надеть. В Смольном она получила прекрасную гимнастическую подготовку, но лыжи и коньки в программу не входили. Иногда старшие девушки катались на финских санях, но на этом все.
Элеонора знала, что переимчива и физически сильна, поэтому научиться будет нетрудно, но вот что надевать?
Откинув кисею, за которой висела одежда, девушка задумалась. Впрочем, думай не думай, а выбор небогат. Вместо прямой юбки можно надеть расклешенную, чтоб не сдерживала шаг, а под нее – теплые рейтузы. А если наряд окажется совсем непригоден или эти доморощенные спортсмены начнут над ней смеяться, она просто уйдет, вот и все. Но, подойдя к месту сбора, она увидела, что сослуживцы тоже оделись кто во что горазд. Просто живописная группа нищих, достойная кисти художника-передвижника.
Народу собралось человек пятнадцать, но, судя по расстроенному Шурину лицу, он рассчитывал на большее.
– Черт, черт! – стоя возле кабины грузовика, он курил резкими затяжками. В грубом свитере с высоким воротом и матросском бушлате без опознавательных знаков, но с красным бантом, его щуплая фигура вдруг показалась Элеоноре грозно-значительной. – Я, дурак, машину достал, еще переживал, что все не поместятся! Ну ничего, я им покажу срыв мероприятия…
Из хороших знакомых были только Калинин, пожилой терапевт Харитонов и перевязочная сестра Лидия, сухопарая дама средних лет. Она единственная была одета, как настоящая спортсменка, а на фоне остальных, пожалуй, выглядела даже щегольски. И как ни мало Элеонора разбиралась в спортивном инвентаре, легко определила, что лыжи у нее настоящие, заслуженные. Остальные участники «мероприятия» были ей известны только в лицо, поэтому она удивилась, когда те, устроившись в кузове, стали с ней тепло здороваться и спрашивать, как идут дела в операционном блоке. А одна веселая краснощекая девица, по виду хохлушка, с таинственным видом отогнула брезентовое полотнище и показала мешок картошки.
Грузовик оказался невероятно старым, в нем все бренчало и скрипело, а на ухабах страшно трясло, пассажиры подскакивали чуть ли не на полметра. Шура даже прекратил возмущаться из боязни прикусить язык.
А молодые сестрички, наоборот, на каждой яме хватались друг за друга и пронзительно визжали, а приземлившись, начинали хохотать.
Абсолютно неприличное поведение, но Элеоноре почему-то было приятно смотреть на них, она поймала себя на том, что улыбается…
Пока добирались до Стрельны, распогодилось. Ветер совершенно стих, и снег перестал. Тяжелые тучи сменились пышными белыми облаками, застывшими в ясном синем небе. Солнце пряталось где-то за ними, но все равно наступил светлый погожий день.
Хорошо, что я приехала, подумала Элеонора, с наслаждением вдыхая свежий лесной воздух.
Шура дал ей лыжи, сам затянул ремешки креплений и начал учить технике хода. В его изложении премудрость оказалась невелика, нужно было всего лишь «толкаться, скользить и пружинить», основная загвоздка состояла в том, чтобы делать каждое движение в нужный момент.
Она быстро уловила суть, но до автоматизма было еще очень далеко, приходилось ежесекундно говорить себе «вот я толкаю, а сейчас скольжу, а теперь пружиню», и от этого Элеонора уставала больше, чем непосредственно от физической нагрузки.
Шура наметил ей дистанцию вокруг пруда, а с Калининым, Лидой и Харитоновым отправился на «большую лыжню».
Элеонора с удовольствием посмотрела, как размашисто побежал Калинин, за ним строгими техничными движениями заскользила Лида, а Довгалюк ее просто потряс. Глядя на него, можно было подумать, что ничего нет проще, чем ходить на лыжах. Он будто никуда не торопился, но очень быстро обогнал Николая Владимировича и нескольких шедших впереди спортсменов.
Это высшая степень профессионализма, когда наблюдающим за тобой профанам кажется, что все очень просто и научиться – пара пустяков.
А это очень непросто, думала Элеонора, продолжая свой путь вокруг пруда. Ей легче было бы пройти дистанцию пешком, с лыжами на плече, и она очень завидовала сестричке-хохлушке, которая вместо лыж сразу занялась костром. Грела на нем ужасающих размеров медный чайник с носиком, изогнутым, как лебединая шея, и, сосредоточенно перемешивая палочкой угли, пекла картошку.
Было немного стыдно, что она ходит на лыжах хуже всех в этом парке, но сойти с дистанции казалось еще стыднее. А потом вдруг сказался известный эффект физических упражнений, о котором она совсем забыла. Куда-то делись все грустные мысли и бесплодные сожаления.
Она шла по лыжне, стараясь, несмотря на усталость, соблюдать технические приемы, что ей показал Довгалюк, и думая только о том, чтобы преодолеть дистанцию.
А когда вернулась к костру, получила жестяную кружку чаю и большую картофелину, всю в золе. Она была очень горячая, кожура, местами обуглившаяся, ломалась, как кора, открывая желтую мякоть, от которой валил густой пар. Пахло так, что голова кружилась от голода. Картошка обжигала пальцы, но ждать, пока остынет, никто не хотел. Клубни перекидывали в руках, энергично дули, пачкая лица в золе, и превозносили поварское мастерство сестрички.
В безветрии тихо кружились большие редкие снежинки и тут же таяли на ее раскрытой ладони. Снега – белого, свежего – было очень много, он пышно лежал на крышах домов вдалеке, на ветвях деревьев и еловых лапах. Было очень похоже на рождественскую открытку, даже большое кучевое облако, висящее прямо над ними, очертаниями напомнило ей ангела. Дымок от костра поднимался вверх. Элеонора подошла ближе, вдохнула дым. Ей всегда очень нравилось, как пахнет костер – человеческим теплом, добром и надеждой. И вдруг почувствовала, как ушла безнадежность. Так случилось, что она пережила эти страшные годы. Не погибла, хотя для этого имелась тысяча возможностей. А раз жива, то надо жить и радоваться каждой минуте, что ей подарил Господь. И она еще обязательно, обязательно полюбит! Так, как мечтала в юности, когда каждая встреча с возлюбленным – это маленькое волшебство. Впереди суровые годы, которые принесут еще много горя и испытаний, но она все вынесет, если полюбит. И дети… Ведь это самое главное для женщины, что бы кто ни говорил.
Глава 12
Ее взяли поздним вечером, дома. Элеонора знала, что когда-нибудь ее арестуют, но почему-то не думала, что ее найдут в этом человеческом муравейнике.
Когда раздался звонок в дверь, она не обратила на это внимания, почувствовала неладное, только услышав в коридоре тяжелые чужие шаги.
Соседка услужливо сказала «здесь», и в дверь постучали.
Она быстро открыла. Почему-то первая мысль была: хорошо, что я еще не успела отойти ко сну.
– Прошу вас, господа, входите, – она посторонилась, пропуская в комнату двоих сотрудников. Наверное, посчитали, что для одинокой девушки этого будет вполне достаточно.
Она пригладила волосы, заметив, что руки слегка дрожат.
Сердце сжалось – что это, волнение, страх?
Тем временем вошедшие наскоро представились, так что Элеонора не разобрала ни должностей, ни фамилий, и приступили к обыску.
Ей было очень неприятно, что чужие люди смотрят на ее вещи, перебирают чистое, но старенькое и много раз чиненное белье, но особенно противно, что все это видят соседи, пожилая чета Петренко, приглашенная в качестве понятых.
На их лицах ясно читалось недовольство, что соседка провинилась и из-за этого они лишились нескольких часов законного отдыха. Ни сочувствия, ни даже простого интереса к своей судьбе Элеонора не заметила.
Странно, но чекисты проявляли примерно такую же смесь равнодушия и досады. Младший, слишком плотный для жителя голодного города парень, вообще не смотрел на нее, сосредоточенно перебирал книги. Читая заголовки, он беззвучно шевелил губами.
Сотрудник постарше, видимо, начальник, отработанными движениями переворошил ее постель. Это был сутулый мужичок с испитым лицом, для которого густые рыжеватые усы казались слишком большими. Одет он был в очень старую солдатскую форму, гимнастерка казалась почти белой. Элеонора заметила, что на руках у него перчатки с обрезанными пальцами, видно, по долгу службы пересмотрел столько чужих вещей, что теперь просто брезгует их касаться.
– Не самый долгий обыск в моей жизни, – ухмыльнулся он, прощупав и бросив на пол жиденькую подушку. – Собирайтесь, барышня, поедем с нами.
– Что можно брать? – спросила она, стараясь, чтобы голос звучал ровно.
– Что обычно. Теплые вещи, смену белья. Чай, сахар, сухари, если есть.
– Оденьтесь так, чтоб без шнурков, пряжек, всего этого. Нам-то что, а при поселении в камеру изымут, – заметил молодой.
– Спасибо.
– Сергей Павлович, будем изымать? – парень показал на часы и портсигар.
Тот только отмахнулся, что там изымать, господи.
– Это все ваше имущество, барышня?
– В кухне еще примус. Будете смотреть?
– Собирайтесь, поехали, – повторил чекист. В его голосе чуткое ухо Элеоноры уловило: «Как же надоела мне вся эта рутина!»
Она знала, что многие люди ее круга заранее готовят вещи для ареста, ведь, собираясь второпях и на пике волнения, можно забыть все самое нужное. Увы, сама она из суеверия не собрала подобный пакет. Оказывается, зря.
Элеонора на секунду растерялась. Сейчас ее судьба круто меняется, и как-то странно в такую минуту думать о теплых вещах.
Но, что бы ни случилось с ней дальше, самое главное – сохранять достоинство и держать себя в руках. А для этого необходим трезвый рассудок.
Она взяла потрепанный «сидор» и заставила себя подумать, что из ее пожиток лучше всего пригодится в камере. Поплачет потом, в тюрьме, когда останется одна.
Выйдя на улицу, они остановились возле автомобиля. Чекист постарше достал папиросы, предложил и ей. Элеонора взяла, глубоко затянулась, отметив, что рука все же дрожит. От волнения ей было очень холодно.
Странно, но на нее не надели наручников, не угрожали оружием, даже обыск провели достаточно аккуратно, а не оставив дикий погром, когда все в доме покрыто содержимым подушек и перин, как снегом.
Уходя, чекисты опечатали ее комнату и пригрозили соседям, мол, если кто туда вселится, ответит за самоуправство. Видно, подобные случаи в их практике нередки. Но Элеонора не обольщалась на свой счет и не надеялась, что снова сюда вернется.
Сотрудники посадили ее на заднее сиденье, сами устроились по бокам. Весь путь молчали.
Элеоноре было очень не по себе от этого равнодушия. Она бы легче перенесла, арестуй ее пьяные от власти негодяи. Но эта рутина, отработанная процедура лучше всего говорила об устойчивости нового правительства. Уже не революция, не пламенная борьба, а обычный рабочий процесс.
Этими двумя чекистами движет не идея, не ненависть, а всего лишь необходимость отработать паек.
Все равно как… Элеоноре пришла в голову такая аналогия, что она невольно улыбнулась.
Все равно как императрица с дочерьми и простые сестры милосердия. Первыми движет сострадание, патриотизм и доброта, а вторые отрабатывают жалованье, не более того.
Восхищение вызывают первые, но практической пользы больше все-таки от вторых…
На улицах было совсем темно, и со своего места в машине она не могла разобрать, куда везут, на Гороховую или в Кресты. По времени пути выходило, что в Кресты.
Она ждала, что ее сразу допросят, готовилась к этому, гадая, в чем ее обвиняют и как отвечать. И неужели правда то, что говорят о пытках? И если да, то как их перенести? Хватит ли у нее душевных сил противостоять боли и унижению? Элеонора не могла унять сердцебиение и надеялась только, что ее волнение не заметно внешне.
Но испытание откладывалось.
В маленькой темной комнате очередной сотрудник так же равнодушно записал ее данные в какую-то форму, потом появилась коренастая женщина с короткой стрижкой и короткой шеей и, не вынимая изо рта папиросы, наскоро обыскала ее.
Еще в Смольном их наставляли: «Самые безупречные манеры готовьте для черни». Элеонора старалась в любых обстоятельствах соблюдать этот принцип, но очень трудно оказалось держаться холодной вежливости, когда по ее телу бесцеремонно шарили эти отвратительные руки.
Впрочем, женщина особенно не усердствовала. Бросив Элеоноре мешок со словами «давай, шевелись», она передала ее охраннику. Тот многозначительно погладил расстегнутую кобуру на поясе и толкнул девушку, мол, иди вперед. На поворотах он командовал: направо! налево! Элеонора покорно шла и думала, как он только не заблудится в этом лабиринте.
Коридоры были очень мрачные, до половины выкрашенные серой свинцовой краской, а выше побелены. Но все это делалось весьма давно, всюду змеились трещины, неровности стен проступали еще рельефнее от осевшей на них пыли. Лампы зачем-то забраны решетками, будто чекисты арестовали сам свет. Наконец в глухих стенах появились тяжелые железные двери с засовами.
У одной из них солдат приказал остановиться и окликнул часового, который мечтательно курил где-то вдалеке, в самом конце длинного коридора.
Лязгнула щеколда, и Элеонору водворили в ее новое обиталище. Камера оказалась очень маленькой, насколько она смогла рассмотреть в темноте (она сама попросила надзирателя не включать свет, чтоб никого не тревожить). Наверное, при прежнем режиме это была одиночка, но теперь стояли двухэтажные деревянные нары. Единственное свободное место оказалось во втором ярусе, Элеонора быстро туда забралась, шепотом извинившись за беспокойство.
На грубых занозистых досках лежали тюфяк и одеяло, естественно, никакого белья. Тюфяк был жидко набит какими-то комьями, как говорят врачи, «каменистой плотности», а одеяло оказалось вполне приличным. От постели раздавался явственный запах лизола и карболки, противный, но для нее почти родной. Элеонора приободрилась: значит, здесь худо-бедно соблюдается санитарный режим. Она легла, положив свой мешок под голову, и глубоко вдохнула душный и немного затхлый воздух камеры.
Вот и кончилась жизнь, буднично подумалось ей. Неужели еще неделю назад она каталась на лыжах и мечтала о любви? Да, мышцы еще болят от непривычных упражнений, а кажется, что это было очень давно и вообще не с ней.
Что ждет ее впереди, какие мучения? И хватит ли сил все перенести?
Она прислушалась. Кажется, все спят. Подселение новой арестантки – не такое событие, чтоб ради него жертвовать ночным отдыхом. Наверное, тут постоянно то приводят, то уводят, то вызывают на допрос. И ей лучше всего будет сразу приспособиться к новому ритму. Раз ночь, надо спать. Реальность и так достаточно страшна, чтобы еще терзать себя мрачными предчувствиями.
Целых три дня ее никуда не вызывали. Элеонора познакомилась с товарками по несчастью и, насколько возможно, освоилась в камере.
Помещение было длинное и узкое, с маленьким окошком под самым потолком. Грязно-серые стены испещрены узорами, как природными трещинами, так и рукотворными. По содержанию надписей становилось понятно, что здесь бывали не только женщины и не только политические. Потолок весь черный, то ли в саже, то ли в копоти. Пол неровно выложен метлахской плиткой. За хлипкой фанерной ширмой находились раковина и туалет. Канализация, на удивление, работала, и трубы периодически напоминали об этом страшным ревом.
Распорядок был такой, как в первые годы в Смольном институте. Там тоже был ранний подъем по сигналу, умывание ледяной водой и скудная еда. Камера даже выгодно отличалась от дортуара теплой, хоть и душноватой атмосферой. В огромном зале, где спали воспитанницы, большую часть года холод стоял такой, что, вылезая из-под одеяла, девочки мгновенно покрывались гусиной кожей.
После подъема и уборки в камеру приносили кашу с хлебом. Его нужно было распределить на весь день. Днем давали некую жижу, в которой обнаруживались то клеклые листы капусты, то рыбьи хребты и непременные зерна перловки. Подруги по заключению называли это блюдо «баландочкой». Вечером разносили кипяток. Что ж, на воле Элеонора питалась немногим лучше.
С соседками ей удивительно повезло. Их было трое, и все политические, ее круга. Самой старшей, Анне Павловне Головиной, Элеонора даже была представлена на одном из вечеров Ксении Михайловны. Но эта великосветская дама не припомнила ее, так что пришлось знакомиться заново. Головиной выпала поистине трагическая судьба, в Первую мировую и Гражданскую войну она потеряла мужа и пятерых сыновей и осталась совсем одна. «Неужели Бог послал ей недостаточно испытаний? – горько думала Элеонора, глядя, как эта очень немолодая, но еще красивая женщина убирает волосы в сложную прическу. – Зачем еще тюрьма? Невозможно представить, чтобы она была опасна для революции. Или утаила драгоценности от экспроприации? Просто абсурд! Потеряв семью, разве будешь хлопотать о ценностях?»
Анна Павловна держалась любезно, но замкнуто. Кроме обычных вежливых фраз и ничего не значащих слов о погоде (основанных на наблюдении за кусочком неба в окне), Элеонора услышала от нее только жалобу, что ей не позволили взять свою рабочую корзинку.
– Не представляю, кому повредит, если я буду вышивать или чинить одежду. Я совершенно не могу сидеть с пустыми руками.
Когда кто-то начинал говорить об обстоятельствах своего заключения, Анна Павловна сразу обрывала эту тему. «Дорогие дамы, сейчас каждое наше слово может стать оружием в руках врага. Помните, молчание – золото».
Элеонора не сразу поняла, почему нельзя говорить о своем деле, ей хотелось посоветоваться с более опытными сиделицами, но позже она оценила мудрость Головиной. Существуют так называемые «наседки», которые передают следователям услышанное в камере. Разумеется, в их камере все были люди благородные, но как знать, если слово, сказанное тобой в кругу товарок, вдруг вернется к тебе от следователя, не станет ли это поводом для подозрений и напряженности… Потом, если они привыкнут откровенничать, то не сдержатся, когда появится настоящая «наседка». Как говорит восточная пословица, «держи свой дом на замке и не говори, что сосед вор».
Впрочем, общие советы ей охотно давали. Будучи самой молодой в камере, Элеонора активно взялась за работу. Она убирала, мыла пол и чистила туалет. После еды мыла всю посуду, если можно так назвать жестяные миски и кружки. Это было лучше, чем сидеть без дела и грустить.
– Мы с благодарностью принимаем вашу заботу, – сказала ей соседка по верхним нарам Елизавета Ксаверьевна Шмидт, – но не вздумайте делать так, если окажетесь в лагере. Там ваша любезность будет считаться проявлением слабости и страха и послужит только поводом для оскорблений и унижений. Там полно всякого сброда, который способен понять все что угодно, кроме хорошего к себе отношения.
А когда Элеонора удивилась, почему ее не допросили сразу, дамы объяснили, что это здесь обычная тактика. Нечто вроде расстойки теста. В неведении человек припомнит самые мелкие свои грешки, а потом расскажет следователю то, о чем тот и знать не знал. «Поэтому, милочка, лучше не думайте о прошлом».
Елизавета Ксаверьевна была старая дева. По ее подтянутой фигуре и суховатому некрасивому лицу Элеонора затруднялась определить возраст, но не меньше пятидесяти лет точно.
Дам такого склада Петр Иванович называл тевтонскими рыцарями. У этой рыжеватой блондинки с веснушками были небольшие серые глаза и высокие скулы, однако все портили широкий приплюснутый нос и большой тонкогубый рот. Но, несмотря на сильное расхождение с канонами женской красоты, Елизавета Ксаверьевна была очень привлекательна благодаря открытому смелому взгляду.
Соблюдая правила, Шмидт не говорила, за что сидит, но Элеонора легко могла предположить, что она не просто жертва режима, а действительно боролась против советской власти.
Елизавета Ксаверьевна была очень педантична, скудные пожитки на ее нарах лежали в строго отведенных местах. Дважды в день она проделывала головокружительную зарядку, а днем обязательно устраивала себе прогулку по камере.
Больше всего она переживала о своей собачке Микки. Застигнутая врасплох неожиданным арестом, Елизавета Ксаверьевна вынуждена была оставить собачку на попечение соседей в обмен на разрешение брать любые ее вещи.
Теперь она сомневалась, сдержат ли эти люди свое обещание.
– Вы не представляете, милая, какое это существо, – говорила Елизавета Ксаверьевна, – столь самоотверженную преданность нелегко найти даже среди собак. Мы с ней были неразлучны. Как она перенесет мое отсутствие? Я очень волнуюсь, что она не станет есть от тоски, пусть даже соседи и окажутся честными людьми. В прежние времена мы каждое утро ходили в мясной ряд и покупали три четверти фунта парного мяса. Сама я с детства в еде неприхотлива, но Микки получала все самое лучшее. Потом, когда началась эта катавасия, все изменилось. Пришлось кормить ее кашей на костях и мясными обрезками. Но вы не поверите, ни слова упрека!
Элеонора мягко улыбнулась. Было что-то очень трогательное в том, что Шмидт говорила о своей собаке, как о человеке.
– Микки словно поняла, в каком тяжелом положении мы находимся, и съедала ужасную похлебку с таким же аппетитом, будто это нежнейшая баранья котлетка! Эти господа, – усмехнулась старая дева, – все допытываются, где мои бриллианты. Поздно спохватились! Почти все скушала Микки, кости и те стоили баснословно дорого на черном рынке, да еще пришлось купить наган! Ведь с Микки необходимо гулять, а во время голода, сами понимаете…
– Неужели вы бы стали стрелять, если бы кто-то угрожал Микки?
– Без колебаний, дорогая моя, без колебаний.
Елизавета Ксаверьевна была, конечно, немного сумасшедшая старушка, но сблизилась с Элеонорой больше, чем апатичная Головина. Приведя себя утром в порядок и соорудив сложную прическу из прекрасных густых волос, Анна Павловна целый день лежала на нарах, складывая разные фигурки из носового платка.
Когда Шмидт увещевала ее пройтись по камере или делать вместе с ней зарядку, та отвечала: «Я всю жизнь провела в трудах и хлопотах, дайте мне хоть перед смертью насладиться бездельем».
Третья обитательница камеры, Катерина Груздева, которую все звали Катрин, была всего лишь на несколько лет старше Элеоноры. Молодая женщина ждала ребенка, и, впервые увидев ее, Элеонора испытала настоящее потрясение. Она не думала, что чекисты дошли до такой низости – арестовывать беременных женщин.
Катрин выглядела изможденной, сил у молодой женщины хватало только умыться и поесть. На ее щиколотках Элеонора профессиональным взглядом отметила отеки. Это тревожный симптом, результат плохой работы почек или голодания, а вернее всего, и того и другого. Элеонора стала отдавать ей свой хлеб, мол, она так потрясена арестом, что кусок не идет в горло. Головина тоже делилась с ней то кашей, то «баландочкой», а Елизавета Ксаверьевна – нет. Ее, привыкшую к одинокой жизни, кажется, немного раздражало присутствие больной.
Если бы Элеонора не уговаривала Катрин, та, наверное, ничего бы не ела. «Спасибо, я не голодна», – говорила она тихо и только после призыва подумать о малютке брала пищу.
Молодые женщины сблизились, когда выяснили, что обе они сироты. Только Элеонора воспитывалась в казенном учреждении, а Катрин – в семье тетки. Представительница древнего дворянского рода, она была шестнадцати лет по решению тетки выдана замуж в известную купеческую семью. Брак этот явился результатом не любви, а каких-то сложных денежных расчетов, согласием Катрин никто не интересовался. Жених молод, хорош собой и очень богат, тетка решила, что лучшей партии она не устроила бы и родной дочери.
– Я словно попала в другой мир, – рассказывала Катрин, слабо улыбаясь, – будто на Луну.
Считалось, что муж к ней ласков, поскольку не бил. Родив двоих сыновей, она удостоилась расположения свекра, но ни о какой душевной близости в этом доме даже речь не шла. Молодая женщина находила счастье только в детях.
Революция нанесла семье сокрушительный удар. В одночасье преуспевающий клан лишился всех предприятий и торговли, что составляло смысл жизни этих людей.
Старший Груздев вкладывал деньги в драгоценности и произведения искусства. Коллекция стоила целое состояние, но это была капля в море по сравнению с его былым богатством.
Большевикам стало известно о коллекции, и они решили ее забрать. Но старый лис предвидел такое развитие событий и где-то все спрятал. Когда многократные обыски не дали результата, чекисты забрали старика Груздева. Целую неделю его держали в «стакане», это такая маленькая камера, что в ней нельзя ни лежать, ни сидеть. Не давали спать, били, но Груздев так и не выдал тайник. Тогда его выпустили, а через несколько дней забрали Катрин.
– Они думают, свекор пожалеет беременную невестку, – грустно сказала Катрин, – и добровольно выдаст ценности, чтобы меня отпустили. О, как они ошибаются! Петр Кузьмич никогда этого не сделает! Если бы я еще ждала первого ребенка, да и то… Заново женить сына – дело нехитрое, а бриллианты не вернешь!
– Но ваш муж… Неужели он не сможет уговорить отца отдать хоть часть за ваше спасение?
– Что муж? – Катрин горько усмехнулась. – Ему тоже нет большой разницы, одна жена или другая. Я же вам говорю, они как жители Луны. Главное – семейный капитал, а люди им вообще неинтересны. Если бы нам сейчас дали с ним увидеться, он бы сказал: это ради твоих сыновей. Я претерпел, и ты терпи.
Сердце Элеоноры обливалось кровью от жалости к молодой женщине. И не только к ее нынешнему положению. Как это ужасно, жить с чуждыми тебе, равнодушными людьми, без любви и без радости! Это еще хуже, чем одиночество. Поневоле вспомнишь другую Катерину с ее прокламациями о свободе женщины…
Она подумала о том, как странно пошутила судьба, соединив их всех в одной камере. Двух дам на склоне лет, проживших такие разные жизни с таким одинаковым финалом – полное одиночество и тюрьма. Женщину, отдавшую свои драгоценности для выживания собачки Микки, и женщину, родные которой не хотят расстаться с семейным достоянием ради спасения ее жизни. И ее саму, одиночку, о которой никто не будет плакать.
Наконец ее повели на допрос. После череды коридоров она оказалась в самом обычном кабинете с самыми обычными высокими стеллажами и тяжелым письменным столом. А главное, тут было настоящее окно, хоть и забранное решеткой. Она с наслаждением смотрела на заснеженные верхушки деревьев, образующие прихотливый узор на фоне сумеречного неба.
– Садитесь, – чекист указал ей на стул раздраженно, будто она пришла по своей воле и отвлекла его от важных дел.
Глядя на него, Элеонора вдруг почувствовала такую тоску, которую нельзя было объяснить только сложившимися обстоятельствами.
Это был не страх, а скорее предчувствие беды, гораздо худшей, чем то, что творится с ней сейчас.
Бывают некрасивые лица, но видно, что природа создавала их любовно, следуя особой гармонии, как маленький шедевр. Такие люди часто более притягательны, чем записные красавцы.
А бывают и другие, которых создатель замыслит обычными миловидными людьми, а потом вдруг ради шутки или из раздражения одним движением все испортит. То нахлобучит линию роста волос почти на брови, то смажет подбородок так, что он почти сливается с шеей, то вытянет нос, то, наоборот, расплющит его по лицу.
У этого сотрудника Господь будто собрал переносицу в щепоть. Глаза были так близко поставлены, что он напоминал циклопа, а густые низкие брови вызвали у Элеоноры чувство тревожного отвращения.
Удостоверив ее личность, чекист сладко потянулся и закурил, выдыхая дым прямо ей в лицо.
– Ну-с? – спросил он весело.
– Простите?
– Ну, расскажите же все сами, и я оформлю чистосердечное признание.
– Мне нечего рассказать.
– Если я начну задавать вопросы, это будет уже другая история, учтите.
– Спасибо, но мне действительно нечего сказать, – повторила Элеонора, стараясь говорить спокойно. В этом чекисте она увидела то же равнодушие, что и у арестовавших ее агентов.
Это было очень противно. Кажется, попади она в руки пламенных идейных революционеров, ей было бы легче. Пусть жестокость, но это настоящая борьба, страсть, самопожертвование ради счастья человечества.
Но стать жертвой этих блеклых людишек без страстей, примкнувших к революции только из соображений сытости и безопасности, было очень тоскливо и даже унизительно.
– Хорошо. Я задам вам несколько вопросов. Итак, вы по происхождению княжна?
Она кивнула.
– Но вы утаили это обстоятельство, устраиваясь на службу в госпиталь?
– Нет.
– Нет?
Элеонора хотела сказать, что не утаила, а просто умолчала о своем титуле. Она вернулась с фронта, у нее прекрасные рекомендации, ничего удивительного, что в госпитале сразу приняли на службу такую опытную сестру. Но потом она подумала, что такой ответ навлечет обвинения в недостаточной бдительности на тех, кто оформлял ее документы. В этом кабинете нужно быть очень осторожной. Молчание – золото, а в данном случае, возможно, молчание – это чья-то жизнь.
– Да.
– Угу, – удовлетворенно кивнув, чекист сделал пометку в протоколе допроса, – а знаете ли вы князя Георгия Львова?
– Лично – нет.
– Он ваш родственник?
– Да, но я никогда не притязала на это родство. Не думаю, что ему известно о моем существовании.
– Хорошо. Вы связывались с представителями Красного Креста?
– Нет.
– Они передавали вам письма из Англии?
– Нет.
Сердце екнуло. Элеонора совершенно не умела лгать…
– В каких отношениях вы состоите с профессором Архангельским?
– Это мой дядя.
– Что вы знаете об его дочери?
– Ничего.
– Он ездил в Лондон на медицинский съезд. Зачем вернулся?
– Как же иначе? Здесь его родина.
– Россия больше не родина для таких, как он.
Элеонора промолчала.
– Вы бываете в его семье. Что они рассказывали вам о дочери?
– Ничего.
– И вы не получали от нее писем?
– Нет.
– Отпираться глупо, – чекист вздохнул даже как-то сочувственно, – мы легко докажем, что вы – член белогвардейского подполья. Через Красный Крест вы связываетесь с нашими врагами за границей. Остается только узнать, какого рода сведения вы передаете.
– Боже, какая глупость! – обвинение было настолько абсурдным, что она не испугалась. – Я обычная сестра милосердия, что интересного могу я передать для наших врагов? Я ничего не знаю.
– Вы не знаете, а ваши друзья? Профессор Архангельский, например. Он тоже ничего не знает?
– Он простой врач.
– Но он вернулся, хотя ничто не мешало ему остаться с дочерью! Значит, получил какое-то задание. Какое? Это нам еще предстоит узнать.
– Будьте добры, скажите, а он тоже арестован? – спросила Элеонора, чувствуя, как сердце сжимается в тревоге за дядю с тетушкой.
– Это вам не положено знать.
– Петр Иванович никогда не стал бы шпионить! Он вернулся, потому что предан России, вот и все. Он видный представитель русской хирургической школы и считает своим долгом сохранить ее именно в России. И передать свои знания русским хирургам, а не каким-то там… Вы просто не представляете, сколько пользы он может принести людям! Скольких пациентов вылечить и сколько докторов обучить! – горячилась Элеонора. – Да, есть врачи, которые утаивают свои знания от учеников…
Чекист оживился:
– Например, кто?
– Например, Петр Чемберлен. Он изобрел акушерские щипцы, но держал их в строжайшей тайне. А когда голландцы уговорили его продать секрет, он нагло обманул их, передав только одну ложку. Но это было давно. В шестнадцатом веке.
– Отвечайте по существу.
– По существу профессор Архангельский передает ученикам все, что умеет сам. Он прекрасный педагог, и многих, кстати, обучал безвозмездно, если видел трудолюбие и интерес к профессии. Поймите, арестовав его, вы нанесете огромный урон хирургии, а значит, и здоровью трудового народа.
– О своем здоровье лучше подумай, – сказал чекист тем же дружелюбным тоном, – кто еще состоял в вашей шайке? Кто главный? Какие поручения тебе давали? Может, и правда тебя использовали вслепую, такое тоже бывает. Запомни, кто складнее пропоет, тот меньше получит.
– Никакой шайки не было, и никаких поручений мне никто не давал.
– А как ты объяснишь свое поведение во время обороны Детского Села? А?
Элеонора растерялась.
– Молчишь? Тогда я тебе скажу: ты специально осталась с ранеными, чтобы перейти к своим!
Она почувствовала, что краснеет. Господи, какое точное попадание среди потока абсурдных обвинений! Не лучше ли признаться, все равно отсюда не вырваться, так хоть не будет на совести греха лжи…
– Вот именно! Все восхищались, какой героизм, а того не знали, что ты бы их первая прикончила, как только твои благородия бы подошли! Одного ты не учла, что Красная армия давит твоих, как вшей тифозных. Потом спохватилась, стала врать, мол, ничего не было, ни с кем ты одна не оставалась, да поздно уже! На заметочку-то тебя взяли.
Ей удалось справиться с волнением. Если бы ее враг был благородным человеком, он бы ее по крайней мере понял. Он, может быть, увидел бы в ее действиях угрозу революции, но не стал бы придавать им такое низкое и пошлое истолкование.
– Я просто выполняла свой долг сестры милосердия, – глухо сказала она, – и оказывала помощь тем, кто в ней нуждался, вот и все.
– Так и запишем, – осклабился чекист, – или, может, хочешь сама признание все-таки написать? Мы тут не шутки шутим, чтоб ты знала.
Она покачала головой.
– Ну ладно.
Чекист не спеша и со вкусом заполнил протокол ее допроса, подул на него и любовно промокнул пресс-папье.
– Ты все равно все подпишешь, – сказал он буднично, – рано или поздно, но подпишешь. Подумай, может быть, лучше рано? Иначе будет очень больно, это уж ты мне поверь.
Он внимательно посмотрел ей в глаза, и Элеонора увидела в них нечто более страшное, чем равнодушие. Пресыщенность.
Глава 13
Вернувшись в камеру, Элеонора легла и постаралась сосредоточиться. Но мыслить здраво пока не получалось. Ясно было только одно – нельзя свидетельствовать против других. Ей самой уже не выплыть, осталась одна задача – никого не потопить. А судя по тому, что чекист цепляется к каждому ее слову, лучшей тактикой будет глухое молчание. Хорошо это или плохо, но она не станет признаваться, что хотела перейти к Юденичу. Очистив ее совесть от греха лжи, это признание может повредить Архангельским. А если развить тему, то и Калинину с Довгалюком – зачем направили на передовую белогвардейского агента. У чекистов, судя по всему, фантазия работает на грани паранойи.
Нужно молчать. Но как выдержать пытки? Элеонора содрогнулась, представив ожидающие ее боль и унижение. У нее сильное тело и крепкое сердце, поэтому она не умрет от пыток, придется вынести все до конца.
Покончить с собой? Это страшный грех, православная вера требует, чтобы человек перенес все предназначенные ему испытания.
Нужно вспомнить всех солдат, которых они с Воиновым оперировали без обезболивания. Им было очень тяжело, но они терпели ради спасения жизни. А ей придется терпеть ради спасения души. Пока есть время, нужно молиться, чтобы Господь укрепил ее дух…
Тут она услышала стоны с нижних нар. Это Катрин. Ее тоже водили сегодня на допрос, она вернулась очень бледная, выпила стакан воды и сразу легла.
– Ах, милочка, пожалуйста, возьмите себя в руки, – донеслось с нар Елизаветы Ксаверьевны, – поверьте, вам самой станет от этого легче.
Элеонора спустилась вниз:
– Что с вами, Катрин?
– Очень болит живот, – шепнула Груздева, – я жду уже третьего ребенка, но такая боль у меня впервые.
Она закусила губу, и в свете тусклой лампы, которую зажигали на ночь, Элеонора увидела, как страшно исказилось ее лицо. На лбу выступила крупная испарина.
– Тише, тише, все будет хорошо, – сказала она машинально, хотя вовсе не была в этом уверена. Пульс Катрин был очень слабым и таким частым, что его было бы трудно сосчитать, даже имея часы. – Вас били на допросе?
– Немного, – Катрин будто стыдно было в этом признаваться, – вдруг я знаю, где тайник. Но старый Груздев не сказал бы мне этого и в лучшие времена… О, если бы он только намекнул! Я бы призналась во всем, лишь бы только выбраться отсюда! Боже, какая боль!
Элеонора осторожно пощупала ее живот. Он был напряжен и, кажется, сильно увеличился. Как ни скромны были ее познания в акушерстве, их вполне хватило, чтобы понять: у Катрин или разрыв матки, или отслойка плаценты. В обоих состояниях требуется немедленное кесарево сечение для спасения жизни матери и ребенка. Или хотя бы матери, мрачно подумала она.
Еще раз уверив Катрин, что все будет хорошо, Элеонора забарабанила в дверь. Звуки от ударов гулко отзывались в камере.
На стук долго никто не откликался, Элеонора уже стала терять надежду, как наконец лязгнула заслонка и в маленьком зарешеченном оконце показался фрагмент лица часового.
– Чего шумишь? – дружелюбно спросил он.
– Заключенной плохо. Ее немедленно надо доставить в больницу!
– Ишь чего выдумала! Тикать захотела? Ничего у тебя не выйдет, – охранник хотел закрыть окно.
– Пожалуйста, не уходите! – крикнула Элеонора. – У нас беременная, и ей срочно нужна медицинская помощь! Иначе она умрет!
Последнюю фразу она произнесла почти шепотом, чтобы Катрин не слышала ее. Но той, кажется, было все равно. Она глухо стонала, а Елизавета Ксаверьевна баюкала ее, как ребенка.
– То ваша бабья справа, без дохтура разберетесь.
– Нет! Не разберемся! Ей нужна срочная операция! Не верите мне, зовите врача, он подтвердит, у вас же есть врач?
– Есть, да не про вашу честь! – с довольной ухмылкой часовой закрыл окно.
Господи, что делать? Если срочно не доставить Катрин в больницу, она не доживет до утра.
Всякое бывало в ее практике, бывало и такое, что люди умирали у нее на руках, но она всегда делала для их спасения все, что только возможно.
А сейчас – полная безоружность перед лицом смерти. Она знает, как помочь, но не может ничего предпринять из-за косности охранника.
Только сейчас, в минуту наивысшей беспомощности, Элеонора по-настоящему почувствовала себя узницей.
Все втроем они собрались вокруг Катрин. Елизавета Ксаверьевна подложила ей под поясницу свою подушку, а под ноги – свернутый тюфяк. Анна Павловна промокала женщине лоб носовым платком, а Шмидт энергично махала полотенцем.
– Ничего, ничего, – приговаривала Головина, – все обойдется.
Элеонора покачала головой.
Елизавета Ксаверьевна, заметив этот жест, отложила полотенце и, взяв Элеонору под руку, отошла с ней в другой угол камеры:
– Все так плохо?
– Хуже не придумать.
– Ладно, – Шмидт подошла к двери и стала дубасить по ней руками и ногами. Шум поднялся такой, что находящаяся в забытьи Катрин открыла глаза.
В этот раз охранник подошел гораздо быстрее:
– Ты че творишь, дура? В карцер захотела?
– Слушай, умник, – в голосе старой девы слышался металл, – эта женщина важная заложница. Если она сейчас умрет, советская власть не получит много золота. И спросят с тебя, уж мы об этом позаботимся. Так что лучше беги за врачом, да поскорее.
– Ладно, ладно, чего ты…
Охранник даже забыл закрыть окошко, но сразу вернулся и исправил упущение. Потянулись минуты ожидания.
Элеонора почти физически чувствовала, как из тела Катрин уходит жизнь. Что бы только она ни отдала, лишь бы остановить это угасание! Несчастный малютка наверняка уже погиб… Ее сознание, как всегда в подобных случаях, словно разделилось на две половины. Одна хладнокровно отмечала ход болезни и подсказывала правильные действия, а вторая горячо сочувствовала пациенту.
Еще час промедления, и Катрин будет уже не спасти.
Когда она потеряла сознание, пожилые дамы испугались и стали тормошить ее. Элеонора сказала, что не нужно, это только истощит силы больной. Чтобы хоть что-то делать, она положила под ноги Катрин еще один тюфяк. Якобы это усилит приток крови к голове.
Наконец появился врач. Это был суетливый испитой человек, Элеонора заметила, как мелко дрожат его руки. Ей даже почудилось, что от него пахнет вином.
Она четко, как на профессорском обходе, доложила ситуацию.
Врач поморщился.
Проверив пульс Катрин и проведя рукой по животу, он сказал:
– Нужно в лазарет. Есть носилки?
Охранник покачал головой.
– Так что делать? Не на руках же я ее потащу.
О господи! Элеоноре стало так стыдно за коллегу… Настоящий врач, когда видит подобную картину, действует стремительно.
– Я помогу, – вызвалась она, – я опытная операционная сестра, можете мной всецело располагать.
– Да помолчи, гражданочка! Без тебя разберемся, – вяло сказал доктор. Кажется, единственным его чувством была досада, что его потревожили среди ночи.
– Несите в одеяле, – Елизавета Ксаверьевна бросила охраннику свое одеяло.
Подошел второй охранник.
Они так небрежно понесли Катрин, что голова ее стукнулась о край дверного проема.
Элеонора воскликнула «осторожнее!», на что доктор ответил ей непечатно.
Шторм революции, перемешав все жизненные потоки, выбросил на поверхность самую грязную человеческую пену.
Элеонора не была знакома с тюремными врачами, но слышала от Петра Ивановича, что это настоящие подвижники. Он всегда восхищался этими людьми. Чем они не угодили революции, что нужно было поменять их на этого пропойцу? Наверняка прозябал где-то в земстве, как попало пользуя неприхотливое местное население, а поскольку пил с ссыльными, то приобрел репутацию борца с «царским режимом». «Да какая разница! – перебила она сама себя, – лишь бы только у него хватило опыта сделать кесарево сечение…»
До утра женщины не спали, молча сидели на нарах Катрин. Это было глупо, но им казалось, что так они хоть чем-то могут ей помочь. Но настало утро, и в камеру вошли две охранницы, одна короткошеяя, уже знакомая Элеоноре, и еще одна, длинная и худая, как спица. Они бесцеремонно разворошили все скудные пожитки Груздевой, отложили пуховую шаль и юбку, а остальное сунули в большой холщовый мешок. Скатали тюфяк и тоже унесли.
Головина попыталась с ними заговорить, узнать о судьбе Катрин, но худая только пролаяла:
– Не положено!
Все было кончено. Хотелось верить, что Катрин жива и вещи несут ей в лазарет, но толстые пальцы охранницы, жадно щупающие сукно юбки, не оставляли надежды.
Анна Павловна легла лицом к стене и тихонько заплакала, а Элеонора с Елизаветой Ксаверьевной только грустно посмотрели друг на друга. Слез не было. Одиночество иссушает глаза.
– У меня была одна мечта, – сказала Шмидт глухо, – если бы случилось чудо и меня выпустили, я мечтала бы только обнять Микки. Мы бы с ней пошли на рынок и купили бы лучший кусок мяса, который только нашли. У меня остались еще прекрасные меха, их можно продать за очень приличное мясо. Я приготовила бы Микки обед, как в прежние времена. А потом бы мы отправились гулять в Екатерингофский парк. Последнее время мы очень мало гуляли, я никогда не спускала Микки с поводка, а она ведь так любит побегать… Но теперь у меня появилась еще одна мечта: пойти к старому вурдалаку Груздеву и заставить его сожрать свои драгоценности. Две невинные души ради них погубил и сколько еще погубит! Ох, дорогая моя, поистине бриллианты – это осколки смерти.
Смерть Груздевой очень опечалила Элеонору. Она скорбела о молодой женщине и понимала, что ей самой тоже не вырваться отсюда. Обвинение в измене очень серьезное, за это грозит расстрел, и чекисты медлят только потому, что ждут от нее показаний.
Она может сколько угодно все отрицать, но, раз обвинение выдвинуто, никто не возьмет на себя ответственность оправдать ее. Эдак можно и самому схлопотать!
Элеонора молилась только об одном: пусть Господь пошлет ей силы выдержать пытки и никого не предать.
Она думала о близкой смерти с грустью, но без сожалений. Прощалась с жизнью светло, как земля прощается с летом погожим сентябрьским днем. Солнце светит тепло и ласково, будто гладит по волосам невидимыми ладошками, в безветрии тихо шелестят разноцветные листья, на охряных полях болот появляются рубиновые россыпи клюквы, и в воздухе разливается аромат увядшей травы. Умирающей травы, которая обещает возродиться весной… И когда смотришь в небо, видишь светлую хрустальную бесконечность и понимаешь, что вечность – это совсем не страшно.
Зная, что в преддверии кончины надо не только молиться, но и каяться, Элеонора пыталась думать о своих прегрешениях, но в голову приходили совсем другие мысли.
Почему-то вспоминались годы в Смольном, и не только события, но и радостные переживания и даже сны.
Она в таких мельчайших подробностях вспомнила один сон, будто он ей заново приснился. Она шла по саду в голубом платье и остроконечной шапочке, отороченной белым мехом. Вокруг нее собрались люди в средневековых одеждах, и называли ее принцессой весны.
И она будто заново пережила момент пробуждения, когда смотрела на потолок темного дортуара, на котором отражался прямоугольный отсвет окна, слышала тихое дыхание спящих воспитанниц и наслаждалась ощущением удивительного, сказочного счастья.
С необыкновенной ясностью вспоминались почему-то картинки в книжках. Книг у девочек было немного, все читаны-перечитаны, поэтому они собирались вечерами, разглядывали картинки, каждая из которых казалась детям окошком в волшебный мир, и сами придумывали истории.
У нее тоже была книжка, подаренная классной дамой за успехи в учебе. Пухлый томик в красивой обложке с золотым тиснением состоял из двух частей: «Любочкины отчего» и «Любочкины оттого». В первой части маленькая девочка Любочка донимала научными вопросами своих родителей, преимущественно отца, и ей в доступной форме объясняли, отчего дует ветер, почему встает солнце, как пекут хлеб и т. д. Потом Любочка выросла, получила образование и во второй части книги сама объясняла племяннице, имя которой Элеонора не могла вспомнить, как ни старалась, всякие явления природы.
Забавный факт: Элеонора окончила первой по физике и математике, но если имела какое-то представление о природе грозы, принципах работы телефона и прочей техники, то только благодаря этой книге.
Интересно, где она теперь?
Элеонора понимала, что мысли ее заняты совсем не тем, о чем должно думать настоящей христианке.
Но она ничего не могла с этим поделать! И словно заново переживала Элеонора свое отрочество. Сколько в нем было, оказывается, счастливых моментов! А как они играли в львят на прогулке! Строили из снежных комьев «гнездо» (почему-то у львов было гнездо) и прятались там от злых шакалов. Какое это было чувство сплоченности и защищенности, когда они, обнявшись, сидели в этом несчастном гнезде…
Что ж, она была счастливой и деятельной, старалась служить людям и Господу, и теперь, когда он ее призывает, безропотно идет к нему.
Она смотрела в маленькое окошко под самым потолком камеры. Там виднелся кусочек неба и две линии проводов. Последние дни сильно похолодало, и вся влага из воздуха осела на этих проводах в виде ледяных игл. «Спасибо Тебе, Господи, что позволил мне увидеть эту красоту, – шептала Элеонора, – что я дожила до начала весны и вижу эту прекрасную синеву. Спасибо Тебе за все!»
Ее снова вызвали на допрос.
– Я человек не злой, – сказал следователь скучным тоном, – и всяких этих штучек не люблю. Кровь, крики, вопли… Мне этого не надо, а тебе – тем более. Поэтому вот тебе бумага, перо, и пиши все как есть.
– Хорошо, я напишу, что простая сестра милосердия и ни в чем не виновата.
– Эх ты! Ну сама подумай! Ты княжна, так?
– Так.
– Уже закавыка! Но смотрим дальше: один родственник едет в Англию, а потом возвращается, как ни в чем не бывало, другой по заграницам орудует, призывает к свержению советской власти.
– Простите?..
– Князь Георгий Львов! Председатель совета министров Временного правительства. То в Америке подзуживал, а когда его там слушать не стали, в Париж перебрался. Ты его связная?
– Я с ним вообще не знакома. Ни по семейным, ни по политическим делам. Мой отец – всего лишь его двоюродный племянник.
– Вот видишь! А говоришь, что не знаешь.
– Разумеется, я знаю свою родословную! – выпалила Элеонора и сразу пожалела о своих словах.
– Вот и напиши, что получала от него через представителей Красного Креста письма неизвестного тебе содержания, которые передавала профессору Архангельскому. Что агент Русского политического совещания он, а не ты.
– Не он и не я! Послушайте, это абсурд! Я еще понимаю обвинения, что я хотела перейти к белым. Они тоже нелепы, но основаны хоть на каких-то фактах. Но это… Просто возмутительно! Особенно про Петра Ивановича! Поймите, он врач! Настоящий русский врач! Он всегда сочувствовал бедным и угнетенным и по мере сил пытался сделать их жизнь легче, хотя бы в части медицинской помощи. Но русский врач не может позволить себе роскошь иметь политические взгляды. Мы всегда на стороне милосердия и лечим всех, кто болен.
– И кто способен заплатить за лечение, – ухмыляясь, перебил чекист, – настоящий русский врач всегда на стороне большого гонорара.
– О, как вы неправы!
– Чего это? Ладно, не будем углубляться. Будешь признаваться или нет?
– Нет.
– Смотри, я хотел как лучше. Скоро ты очень сильно пожалеешь, что сказала это слово. Я передам тебя другим сотрудникам, есть у нас такие мастера, которым интересен сам процесс. Ты уже десять раз все расскажешь, а они не остановятся. И вот еще что подумай: вдруг твой Архангельский, настоящий русский врач, первый тебя сдаст? Вдруг он не такой бесстрашный и поумнее тебя? Вдруг понимает, что незачем зря мучиться? Тогда тебе пулю в лоб и чики-брики!
Элеонора усмехнулась:
– Я готова к чики-брики.
– Ну смотри сама. Если вдруг надумаешь чего, попросись на беседу. Только не опоздай.
Вернувшись в камеру, Элеонора сделала зарядку вместе с Елизаветой Ксаверьевной и глубоко задумалась. Чекист специально сказал про Петра Ивановича, чтобы заронить в ней сомнения, лишить душевного покоя и уверенности в родных. Естественно, дядя никогда ее не предаст, ни под какими пытками, думать иначе просто нельзя. Негодяи чекисты могут соврать ей, что он признался, могут даже показать документ, но это будет фальшивка, которой нельзя верить. То же самое эти дьяволы могут сказать и Петру Ивановичу. Мол, глупо отпираться, ваша племянница созналась во всем. Вдруг он поверит? Вдруг решит: моя племянница всего лишь слабая девушка и не выдержала пыток? Нет, так думать тоже нельзя. Это первый шаг к тому, чтоб не поверить самой. А вдруг Архангельские не уничтожили Лизино письмо и при обыске его нашли? Если оно выдержано в том же духе, что и послание Элеоноре, чекисты каждое лыко поставят в строку…
Лучше бы дядя признался… Ее тогда убьют без пыток, а у него появится шанс… Нет, нет, так тоже нельзя думать!
Элеонора вздохнула. Она не боялась смерти, но сам момент ее немного пугал. Когда пуля войдет в тело, успеет ли она что-то почувствовать? Будет ли больно? Она содрогнулась.
А потом подумала о том, как было на войне. Сколько молодых мужчин отправилось на передовую, чтобы получить пулю в сердце? Они ведь тоже боялись, но преодолели свой страх. Значит, и она сможет это перенести.
Поздним вечером вдруг открылось окошко, через которое им передавали пищу.
– Львова, прими передачу!
Она взяла небольшой полотняный мешок.
– Простите, а от кого передача?
– Не могу знать! – окно с лязгом захлопнулось.
Элеонора в недоумении стояла посреди камеры. Ей никто не мог ничего прислать. Разве что Ксения Михайловна? Но она едва ли знает об ее аресте, наверняка думает, что Элеонора занята на работе, а если Петра Ивановича взяли, то она поглощена его судьбой. А больше у нее нет близких людей.
На мешке не было никаких надписей, кроме ее фамилии и номера камеры, нацарапанных химическим карандашом.
Внутри обнаружились сухари, папиросы, несколько кусков сахару и нарезанный ломтиками шпик.
При виде сала недоумение исчезло. Она прекрасно помнила этот кусок, полученный корыстным Николаем Владимировичем за операцию. Он бегал по всему операционному блоку, хвастаясь своим богатством, а потом вывесил сало за окно ординаторской. И начался ежедневный священный ритуал, когда Калинин отрезал по тонюсенькому прозрачному кусочку для дежурной смены и убирал сало обратно за окно. Элеонора ни разу не взяла ни ломтика, но и не возражала, понимая, что это существенное подспорье для голодающих медиков.
И теперь этот живительный продукт оказался у нее. Но дело совсем не в еде! Хотя посылка существенно подкрепит силы обитательниц камеры, это глупо отрицать.
Все дело в том, что Калинин подумал о ней, собрал эту посылку и не побоялся отнести ее в тюрьму. Не испугался, что его уличат в связи с белогвардейским отродьем, хотя никакой связи у них и нет.
Это сила человеческой доброты… В самые темные и безнадежные времена горит, мерцает огонек души человека. Но этот слабый огонек способен осветить и согреть не хуже солнца всех тех, кто тянется к нему. Пусть тьма сгущается, тонет во мраке мир, но душа человека жива. А раз так, то полная темнота никогда не наступит. Наступит рассвет.
Прошло два дня. Чекист, кажется, забыл о ней, а может быть, решил, что ожидание пытки изматывает душу почти так же, как сама пытка.
Сокамерниц тоже никуда не вызывали. Удивительно, но место Катрин так и оставалось незанятым, хоть Елизавета Ксаверьевна и предрекала, что к ним подселят уголовницу, и тогда благостной атмосфере в камере конец.
Элеонора с легким чувством неловкости думала, как угощать соседок своей передачей, чтобы не задеть их достоинства. Положив мешок на самое видное место, она сказала, что все общее, но для благородных дам этого недостаточно. С другой стороны, нельзя и слишком навязчиво предлагать… Непростая ситуация с точки зрения этикета. Удалось разобраться только со шпиком: мол, испортится, если они его быстро не съедят.
Чтобы отвлечься от грустных мыслей, дамы болтали о всяких пустяках. Елизавета Ксаверьевна призналась, что обожает английские романы.
– Особенно «Дженни Эйр»! Это моя настольная книга, я перечитывала, наверное, тысячу раз и готова перечесть еще тысячу! – сказала она восторженно.
Элеонора попросила рассказать, про что роман.
– О, нет, ни за что! Не хочу портить впечатление. Я просто завидую, моя милая, что вам еще предстоит это наслаждение.
– Вы все же расскажите, – грустно улыбнулась Элеонора.
Шмидт, верно, подумала, что события вряд ли сложатся таким образом, что ее собеседница сможет прочесть этот чудесный роман, потому что покачала головой и приступила к рассказу.
Она знала текст почти наизусть, и Элеонора так увлеклась судьбой английской девочки, что забыла, где находится.
Старая дева рассказывала целый день, прерываясь только на еду, прогулку и зарядку, и то Элеоноре было жаль этих перерывов. Но Елизавета Ксаверьевна оставалась неумолима:
– Необходимо строжайше соблюдать распорядок дня! – она наставительно подняла палец. – Особенно если живешь одна. И уж тем более в тяжелых обстоятельствах.
Когда Шмидт добралась до поворотного момента в судьбе гувернантки, разоблачения мистера Рочестера, дверь камеры открылась.
Элеонора, душой переселившаяся в Дженни, едва очнулась. Эта мрачная камера и охранники, стоящие в дверном проеме, вдруг показались ей нереальными.
– Вот она, благородная мамзель, – пожилой солдат, дежуривший в ночь смерти Груздевой, показал на нее пальцем.
Двое других, крупные, в грубых шинелях, были Элеоноре незнакомы. Зачем они пришли сюда? На допрос заключенных отводят конвойные, их она уже знает в лицо, а эти какие-то странные, с лютыми глазами.
– Встать! – они оглядели ее так, что мороз прошел по коже. – На выход. Без вещей.
По тому, как изменилась в лице Анна Павловна, Элеонора сразу все поняла. Елизавета Ксаверьевна спрыгнула с нар и порывисто обняла девушку.
– Шевелись, нечего тут нюни разводить, – лениво заметил один из чекистов.
Шмидт размашисто перекрестила ее, а Головина нежно погладила по голове, совсем как мама:
– Иди с богом, девочка, и ничего не бойся. Мы будем молиться за тебя.
– Спасибо вам за все, – голос едва не пресекся.
– Шагай! – солдат грубо вытолкнул ее из камеры, и Элеонора пошла, стараясь держать спину особенно прямо.
Вот и все. Сейчас этот мир исчезнет. Наверное, ей не дадут подготовиться, сразу пустят пулю в затылок… За этим поворотом… Или за следующим… Успеет ли она услышать щелчок взводимого курка?
Все, поздно думать, поздно каяться, остается только насладиться своими последними шагами на земле. Последний раз почувствовать свое дыхание, биение своего сердца… Элеонора вдруг подумала, и почему-то с досадой, что теперь никогда не узнает, чем кончился роман про Дженни Эйр. Это была настолько нелепая мысль, что она невольно усмехнулась. Видимо, это нервное. Хоть бы ее вывели на улицу! И разрешили постоять всего одну минутку…
Но ни о чем просить нельзя, и унижаться нельзя!
Как Мария-Антуанетта. Когда ее вели на эшафот, она случайно наступила палачу на ногу и сказала: простите, я сделала это нечаянно.
Элеонора стиснула кулачки: я должна принять смерть достойно. Делать то, что они велят, и ни о чем не просить.
Они повернули в светлый и прямой коридор, до поворота было метров двадцать.
За поворотом они сразу выстрелят, решила Элеонора, но у меня есть несколько секунд, пока я пройду этот путь.
Она шла, стараясь не замедлять шага, и вдруг страх исчез. В одну секунду, внезапно, как включается свет в темной комнате. «Я была, узнала себя и мир, а сейчас предстану перед Создателем, – шепнула она, – благодарю Тебя за все, о Боже, и прости, что не ценила твои дары».
Глава 14
«Дорогая моя сестра! Пишу тебе почти без надежды, что ты когда-нибудь прочтешь эти строки. Оказий больше не предвидится, представители Красного Креста не хотят рисковать, да их и пускают в страну все менее охотно. Макс считает, что письмами мы навредим родителям, связываться с ними можно только в одном случае – чтобы забрать их из того хаоса, что раньше звался Россией. Но отец был непреклонен тогда и, думаю, еще меньше склонен менять свое решение теперь. Он никогда не был малодушен (страх разгневать маму не считается). Мы все на что-то надеялись, а он ведь знал, дорогая сестра, что Россия гибнет, знал и все же принял это ужасное решение.
Он говорил со мной перед отъездом, а я почти ничего не слышала, только обнимала его и плакала. Он хотел рассказать мне, почему поступает именно так, чтобы я поняла его и простила, а мне нужно было только тепло его рук. Мне не нужны были слова, чтобы любить его, все равно отец мудрее меня и делает то, что нужно.
А теперь будто бы рассеивается туман, и я начинаю вспоминать, что папа говорил мне тогда. Он сказал: Россия напоминает мне распутную женщину. Она гуляет и пьет, а между делом рожает детей, которые растут сами по себе, если она не приспит их во младенчестве. Большей частью у нее вырастают такие же забулдыги, но всегда находятся дети, которые любят ее и не дают пропасть. Потому что она их мать и дала им жизнь. Помню, я тогда еще хотела спросить, не лучше бы такой бабе сдохнуть с голоду, но почувствовала, что этим оскорблю отца, и промолчала.
В конце зимы девочки заболели корью. Ксюшенька переносила болезнь особенно тяжело, был день, когда я думала, что мы ее потеряем. Но не буду огорчать тебя и себя саму подробными описаниями, слава богу, все обошлось. И только я перевела дух, как свалился Макс. Оказывается, ему «посчастливилось» не хворать корью в детстве. Трое суток он был при смерти, мы с доктором Фростом не отходили от его постели. А потом болезнь так ослабила его, что даже выпить чашку бульона стало для него трудным делом.
Разрываясь между мужем и детьми, я вдруг поняла, что моя скорбь по родителям стала… Мне трудно это объяснить, не меньше, но привычнее, что ли. Нахлынули житейские заботы, и радость от выздоровления детей, и новое сближение с Максом. Я ведь почти забыла о нем, своем муже! Я так погрузилась в свое горе, что совсем не замечала той заботы, которой он окружил меня, а его усилия по спасению родителей принимала как должное. Он же не виноват, что отец оказался так упрям! Иногда, а откровенно говоря, гораздо чаще, чем мне бы того хотелось, в голову приходит предательская мысль, что отец мог бы пожалеть нас всех и не приносить на алтарь любви к родине мой душевный покой и мамину счастливую старость рядом с внучками. Я знаю, что это очень плохая мысль, малодушная и предательская, но она приходит всегда против моей воли.
А теперь я еще чувствую себя предательницей, потому что горюю и тревожусь о них недостаточно сильно! Я так радуюсь выздоровлению мужа и детей, что не могу думать ни о чем больше!
После рождения Ксении мы всегда очень хорошо жили с мужем. Но только сейчас открыли друг другу душу. Мне трудно это объяснить, вроде бы мы особенно не откровенничали, не вели серьезных разговоров, просто улыбались друг другу, я посмеивалась, какая у него стала тонкая шея после болезни, совсем как у мальчика, а он говорил, что я самая неумелая сиделка в мире. Но мы оба чувствовали, как крепнут узы, соединяющие нас в единое целое.
Как-то я сказала: вдруг Господь послал нам эту корь, чтобы я очнулась и вернулась к своим обязанностям жены и матери? Макс только засмеялся: «Лиза, это большая дерзость, считать, что Господь все время отправляет тебе послания, и уж совсем глупость думать, что ты так вот запросто можешь их прочесть». Просто жизнь идет своим чередом, сказал он. Мне показалось, он вспомнил свою первую жену, как тосковал после ее смерти, а теперь вот счастлив со мной.
Но жена – это не родители, и потом, мама с папой живы! Вот что терзает меня: они страдают, бедствуют, а я ничем не могу им помочь! Я жадно собираю все слухи о том, что творится в России. Рассказывают такие ужасы, что это просто не может быть правдой. Это запредельное зло, зло большее, чем необходимо для полного торжества зла.
Теперь будет очень трудно вызволить их, если отец вдруг передумает.
Ох, Элеонора, я очень счастливая женщина, я люблю и любима, у нас прекрасные дети, и когда я выходила за Макса, то совсем не думала, что так все обернется и замужество окажется для меня спасением от невзгод и нищеты. Но почему-то чувствую себя дезертиром. Впрочем, мои чувства – это совсем не важно.
Доктор Фрост говорит, что сейчас мой долг – думать о малыше, которого я ношу под сердцем. Найти утешение в заботе о тех, о ком я действительно могу позаботиться. Но это все не то, не то…
Открою тебе тайну, милая сестра: мы могли бы вызволить тебя. Если бы я попросила Макса, он бы это устроил, он всегда очень симпатизировал тебе. Но я молчу, потому что если ты уедешь, родители останутся совсем одни. Это малодушно и стыдно, что я заставляю тебя делать то, что должна сама, но я молчу! Прости меня, сестра…»
Лиза отложила перо, быстрым движением смяла лист и швырнула в камин.
Коридор закончился. Элеонора повернула и остановилась. Сейчас выстрелят. Но конвоиры толкнули ее в спину – мол, шагай. Они спустились по узкой и грязной лестнице, нестерпимо воняющей табаком, и оказались в новом коридоре, очень темном, с низким потолком.
– Не думала, что моя смерть будет такой грязной, – пробормотала Элеонора.
Один из чекистов достал большую связку ключей и сосредоточенно перебрал ее.
– Давай сюда, – сказал он, открывая глухую железную дверь.
За ней оказалась маленькая комнатенка без окон. От голой лампочки, свисающей с потолка на шнуре, исходил тусклый свет, позволявший увидеть простой железный стол и два табурета. Стены выкрашены тоскливой казенной краской, а пол каменный и, кажется, мокрый.
Свидание со смертью состоится в омерзительной обстановке… Элеонора вздохнула. Чего ждут ее палачи? Когда у нее сдадут нервы и она станет валяться у них в ногах, выпрашивая жизнь? Или они только конвоиры и сейчас появится настоящий убийца?
– Подойди к столу, – сказал конвоир, – и вытяни руки.
Элеонора повиновалась. Один охранник взял ее за шею, наклонил и сильно прижал к столешнице, а другой в это время схватил ее запястья, и мгновенно сковал их перекинутыми через ножку стола наручниками.
Господи, зачем они это делают? Неужели пытки? Почему тогда они ни о чем не спрашивают и где следователь?
– Не вздумай орать, иначе пожалеешь, – охранник взял ее за волосы и легонько стукнул лбом о стол, – поняла?
– Поняла, поняла, – передразнил второй, достал из кармана какую-то тряпку и очень точным движением засунул ей в рот, так что Элеонора могла только мычать.
– Смотри, чтоб не задохнулась, – будничным тоном посоветовал чекист, – ладно, давай первый, как договорились, а я покурю пока.
Он вышел, громыхнув дверью, а второй подошел сзади, одной рукой прижал ее спину, а другой задрал юбку.
Только теперь она поняла, что конвоиры собираются с ней сделать. Кричать она не могла, из-за кляпа выходило только мычание, да и что толку звать на помощь в чекистской тюрьме? Кто из этих дьяволов поможет ей?
Из-за наручников она не могла и защищаться, руки оказались почти вывихнуты в плечах, а чекист так навалился ей на спину, что она едва дышала. Оставались только ноги.
Элеонора изо всех сил била ногами, но все было тщетно. Чекист, казалось, не замечал ее ударов. Он грубо мял ее и тискал, а когда схватил за грудь, она едва не потеряла сознание от боли и омерзения.
– Тише, тише, – шипел он, – тебе понравится…
Чекист проник в нее безжалостно. Схватив девушку за волосы, он постукивал ее головой о стол в такт своим движениям, но она больше не чувствовала боли.
Она умирала от омерзения и отвращения к самой себе.
Почему ее тело устроено так, что она не может закрыться от этого негодяя? Почему позволила сделать это с собой? Зачем безропотно пошла со своими насильниками, как овца на веревочке? Она должна была сопротивляться и добиться, чтобы ей пустили пулю в голову, а не унижали так страшно.
Элеонора снова попыталась вырваться.
– Тихо, я сказал, – чекист изо всех сил грохнул ее лбом о стол.
Но это только придало ей сил. Она не сможет одолеть чекиста, это ясно, но, может быть, следующий удар убьет ее и прекратит эту пытку?
…Кажется, она действительно на секунду потеряла сознание, потому что вдруг увидела, что незнакомый человек снимает с нее наручники.
– Как вы? Живы?
Она кивнула, и огромная шишка на лбу потянула ее голову вниз. Элеонора прижалась лицом к столешнице, чувствуя ее приятную металлическую прохладу. Но сразу опомнилась, вскочила, поправила одежду.
Оглянулась. Насильников в камере уже не было.
Руки не слушались ее, и человек вытащил тряпку у нее изо рта.
– Приношу вам извинения от имени ЧК, – сказал он отрывисто, – сейчас вас отведут в санчасть и окажут помощь, чтобы вы ничем не заболели.
Элеонора усмехнулась:
– Не беспокойтесь. За то время, что мне осталось, я не успею сильно разболеться.
– Глупости! Сейчас вы просто не в себе. Идите к доктору, успокойтесь, а после мы все обсудим.
Она думала, что снова встретит того ужасного врача, но дежурил другой доктор, который проявил такое сочувствие, что Элеонора расплакалась бы, если б могла.
Он очень деликатно провел все необходимые процедуры и, подумав немного, протянул ей мензурку с разбавленным спиртом.
Элеонора покачала головой.
– Тогда подождите, у меня где-то была микстура Кватера. Я дам вам.
– Нет, доктор, благодарю. Я должна пережить то, что случилось со мной, на трезвую голову.
Врач только грустно посмотрел на нее.
– Спасибо, доктор, благослови вас Господь, – сказала Элеонора тихо.
Она надеялась, что после лазарета ее вернут в камеру, но конвоиры повели ее незнакомой дорогой.
Они миновали тамбур с решетками, и тюремные коридоры кончились, сменившись обстановкой обычного казенного учреждения. Окна с решетками и ковровые дорожки под ногами, пусть и вытертые до дерюжной основы, она уже и забыла, как это выглядит. У врача Элеонора привела себя в порядок, одежда пострадала очень мало, и ей удалось вернуть себе обычной аккуратный вид. Но все равно казалось, что проходящие мимо люди видят, какая она грязная и опороченная.
Конвоир остановил ее перед большой двустворчатой дверью. Рядом висела застекленная табличка с указанием фамилии и должности владельца кабинета, но Элеонора не поняла, что там написано. Она словно разучилась читать.
Спасший ее чекист сам открыл двери и любезно провел Элеонору внутрь, приказав солдату ждать снаружи.
Сев на краешек стула, она огляделась. Хозяином кабинета оказался высокий худощавый человек с резким профилем. Глаза его с удивительно светлой радужкой смотрели по-волчьи.
Щелчком он раскрыл перед ней дешевый солдатский портсигар.
Элеонора прикурила, рассеянно поблагодарив.
– Еще раз прошу прощения, – сказал чекист, – это позорное явление мы искореним. Революционное правосудие надо делать чистыми руками.
– Что ж, желаю удачи.
– Не надо думать, что это сойдет им с рук! – чекист ходил по кабинету и энергично рубил воздух ладонью в такт своим словам. – Закон надо соблюдать! Никому не позволено насиловать и грабить, а большевик, который думает, что у него есть особые права, в сто раз хуже любого врага! Ваши обидчики не останутся безнаказанными, это я вам даю слово коммуниста.
Элеонора затянулась и медленно выдохнула дым, наблюдая, как он поднимается к потолку.
– Мы будем их судить закрытым трибуналом. Думаю, расстрел им обеспечен. Я смогу устроить, чтобы вы присутствовавали при исполнении приговора.
Она покачала головой.
– Послушайте, – продолжал чекист, – я признаю, что по нашей вине, из-за того, что в рядах наших сотрудников затесались черт знает кто, вы так страшно пострадали. Я понимаю, что это значит для женщины…
Чекист замялся и опустил глаза.
– Не беспокойтесь об этом, – сказала Элеонора.
– Да, исправить уже ничего нельзя, но мы сделаем так, чтобы вы почувствовали себя отмщенной. Вот вам бумага, просто напишите, как все было.
Элеонора покачала головой.
– Что такое? Вам трудно писать?
– Нет.
Чекист вдруг склонился к ней так, что его лицо оказалось совсем близко. Она прочла в его глазах… участие? Нет, не может быть!
– Представляю себе, – начал он очень мягко, – что вы сейчас чувствуете. Может быть, позор, хотя это совершенно зря. Это все равно как если бы солдат чувствовал себя опозоренным, получив рану в бою. Но у вас, женщин, свои резоны, и спорить с вами я не стану. Просто обещаю, что все останется в тайне. Вас не вызовут в трибунал, достаточно будет вашего письменного заявления и моего свидетельства. Никто не заставит вас заново вспоминать то, что вы пережили сегодня. Если честно, я сам пристрелил бы этих мерзавцев, но закон есть закон. Поэтому ваше заявление необходимо.
– Может быть, вы боитесь, что вас не станут слушать, – продолжал чекист после паузы, – потому что вы классовый враг? Ничего подобного! С этим мы отдельно разберемся, а подонки жизнью ответят за то, что обидели вас. Пишите и ничего не бойтесь.
– Я не боюсь, – сказала она глухо, – но писать ничего не стану. Достаточно, если вы выгоните их из ЧК.
– Простите?
– Слишком много крови. Меня расстреляют, это дело решенное, но я никого не хочу тащить за собой.
Чекист шумно вздохнул и снова принялся нарезать круги по кабинету.
– Неужели вы не хотите возмездия? Я ведь говорю не про самосуд, а про законное возмездие.
Элеонора засмеялась:
– Ваш закон хуже любого беззакония.
Чекист отмахнулся, видно, слышал еще не такие речи.
– Не будем отклоняться от темы. Во-первых, вас не приговорили к расстрелу, во-вторых, не думайте, что ваше заявление как-то скажется на вашем деле. Я лично прослежу, чтобы приговор был справедлив. И, ясное дело, ваша честь не пострадает. Поэтому смело пишите.
Она покачала головой.
– Да что такое! – чекист, кажется, рассердился.
– Я не хочу ни мести, ни возмездия.
– Вы их простили, что ли, я не понял?
Элеонора задумалась:
– Простила? Не знаю… Но пока человек жив, он может спасти свою душу. И я помолюсь, чтобы Господь помог им. Знаете, если я смогу простить этих людей, это принесет мне настоящее утешение.
– Что за толстовство! Поверьте, мужчина, который берет женщину силой, безнадежен.
– И все же Господь лучше разберется, что с ними делать, чем мы с вами и ваш прекрасный трибунал.
– Дикость! Просто дикость! – фыркнул чекист. – В конце концов обойдусь и без ваших показаний. Караульные подтвердят.
Она вскочила:
– Нет, пожалуйста! Остановитесь! Знаете что?
– Что?
– Меня обвиняют в измене Родине и в связи с какими-то зарубежными белогвардейскими организациями!
– Вот как? И какими же?
Элеонора поморщилась:
– Не помню. Следователь говорил, но я не запомнила. Русское собрание, кажется, или что-то наподобие. Ах, не важно! Главное, что по таким обвинениям расстреливают. А раз так, я имею право на последнюю просьбу. Вы, я вижу, человек благородный и понимаете, что последняя просьба – это святое. Моя просьба – не трогайте этих людей. Просто увольте, чтобы другие женщины не пострадали, как я.
Хозяин кабинета долго молчал. Снова достал портсигар, и оба закурили. Сидели, Элеонора на стуле, он на уголке массивного письменного стола, выдыхали дым и смотрели в ночь за окном. В стекле отражались худая фигура чекиста, и Элеонорино лицо, и стеллажи с бумагами.
– Слушайте, у вас такая огромная шишка на лбу, – чекист наконец нарушил молчание, – я вам дам хоть пятачок.
Он подошел к висящей в углу кожанке, долго рылся в ее карманах и наконец выудил монетку.
– Вот, удачно завалялся. Как вернетесь в камеру, обязательно приложите.
– Спасибо.
– Ну, если передумаете, милости прошу. Я буду следить за вашим делом. Кстати, назовите ваше имя.
Элеонора представилась, и караульный отвел ее в камеру.
Старушки очень обрадовались ее возвращению. Следуя «камерному» этикету, они не стали расспрашивать ни о чем. Элеонора вытянулась на своих нарах, и Елизавета Ксаверьевна дала ей воды. Анна Павловна намочила полотенце и приложила к ее шишке.
– Слава богу, вы живы, моя девочка, – сказала она тихо и вдруг поцеловала Элеонору в щеку.
«Если бы ты знала, что со мной сделали, навряд ли ты бы сказала так, – горько подумалось Элеоноре, – и целовать меня ты бы не стала…»
На душе было пусто и мерзко, как в заброшенном доме. Лучше бы они меня убили, а не осквернили… А они бы и убили, не помешай этот чертов чекист. Сейчас бы все уже закончилось…
Мысли текли, не вызывая в ней никаких чувств. Ни страха смерти, ни обиды, ни жажды мести. Эти люди, что так унизили ее, убили в ней женщину, они были всего лишь орудием вырвавшегося на волю зла. Как вражеский снаряд. Она не помнила даже их лиц.
Она испытывала только глухую ненависть к себе самой и к собственному телу. Почему она оказалась так слаба? Почему ее послушное сильное тело так подвело ее? Почему она не смогла хотя бы погибнуть, если уж защититься было нельзя?
А теперь уже поздно. Бог разрешает самоубийство, только когда насилие еще не совершено. А если ты смалодушничала, то свершившееся насилие становится уже ношей, которую ты обязана нести до конца.
Ты должна была расколоть себе голову об этот стол, как только поняла, что с тобой собираются делать.
Элеонора вздохнула и прислушалась к себе. Ощущение такое, будто душу обкололи новокаином. Ничего, завтра заморозка отойдет и будет больно. А сейчас…
Она покосилась на старую деву. Та, сцепив руки в замок, медленно делала наклоны в стороны. Элеонора знала, что это заключительное упражнение.
– Елизавета Ксаверьевна, – тихонько попросила она, – если вы не очень устали и не собираетесь спать, расскажите, пожалуйста, дальше ваш роман.
Глава 15
Видно, она все же сильно ушибла голову. Вместо сна приходило болезненное забытье, она проваливалась в него, как в яму, и быстро, как от толчка, просыпалась. Гематома на лбу налилась и дергала при каждом движении. Мысли путались, иногда казалось, что она уже умерла, просто ее душу еще не успели забрать.
Но все же оказалось, что она спит, потому что ее разбудил привычный лязг двери. Женщины подхватились – неужели они проспали завтрак?
Но в окошке темнота, это ночь или совсем раннее утро.
– Львова, с вещами, – скомандовал контролер.
Она быстро собрала свои нехитрые пожитки. Насчет сухарей и сахара разразилась небольшая баталия. Головина и Шмидт настаивали, чтобы она взяла продукты с собой, а Элеонора не соглашалась. Ей удалось одержать победу только с помощью жульнического приема: забросить мешок с едой обратно в камеру, когда она сама уже переступила порог.
Куда ее ведут? Если с вещами, значит, в лагерь или на этап, думала она равнодушно. С ней не может случиться ничего хуже того, что было вчера.
Пройдя уже изученными коридорами, Элеонора оказалась в кабинете своего следователя. Тот, улыбнувшись ей, как хорошей знакомой, показал на стул. Она села на краешек.
– Что ж, товарищ Львова, рад, что могу вас теперь так назвать, – чекист сделал длинную паузу, приглашая оценить его остроумие, – при рассмотрении вашего дела бесспорных доказательств вашей вины не найдено.
Нужно было как-то отреагировать, и Элеонора сказала: «Спасибо».
– Вы свободны, товарищ Львова. Можете идти домой.
Это было так странно, так неправдоподобно, что Элеонора не чувствовала радости. Да и как она вернется домой, после того что было?
– Мне нужна будет справка на работу. Что я отсутствовала не по своей воле.
Ей показалось или следователь действительно растерялся? Видно, освобождать политических ему приходилось нечасто.
– Справку на работу? Хм… Ладно, посмотрим, что можно сделать.
Он открыл бювар, долго перебирал бланки, наконец, взял один и стал заполнять буковка к буковке, помогая себе кончиком языка. Закончив, он откинулся назад, как делают дальнозоркие люди, и полюбовался на свою работу. Оставшись довольным результатом, он нежно промокнул листочек пресс-папье и подал Элеоноре.
– Будьте любезны. Да, вот что, товарищ Львова, – чекист обошел стол и уселся на его краешек прямо перед ней, – мы знаем, что вы не враг. Но если в вашей жизни вдруг возникнет двусмысленная ситуация, вы всегда можете доложить об этом мне. Достаточно позвонить по телефону, который я вам сейчас напишу.
Элеонора завела руки за спину:
– Не трудитесь. Я не стану вам звонить.
– Да я не собираюсь делать из вас осведомителя! Для вашей же пользы… Вы человек прямодушный, таких всегда делают самыми виноватыми. Возьмите номер, он есть не просит.
Быстро наклонившись, он сунул листочек с номером в ее вещмешок.
– Что ж, прощайте.
Когда она уже подошла к двери, чекист вдруг окликнул ее:
– Я сожалею о том, что случилось с вами, – нерешительно сказал он, – и поверьте, когда я вам обещал, что будет больно, я имел в виду не это.
– Я знаю.
– Скажите, а почему вы их простили? Как вы смогли простить такое?
Она вздохнула:
– Просто я знаю, если пущу ненависть в свою душу, то погибну. Я не простила их по-настоящему. Но надеюсь, что настанет день, когда у меня это получится.
На улице ее встретило очень раннее, очень холодное, но уже по-весеннему светлое утро. Элеонора растерянно стояла, глядя на подернутые инеем темные стены домов. В них только начинали загораться окна. На одиноком дереве, тянувшем в небо голые ветви, расселась стая громко каркающих ворон. В этот ранний час на улице было еще совсем пусто, только тяжело прошла мимо нее лошадь, впряженная в длинную телегу.
Странно было вновь все это видеть. Как жить, когда она уже простилась с жизнью? Но первым делом нужно справиться о судьбе Архангельских. И ничего, что еще слишком рано для визитов! Пока она дойдет, как раз наступит час, когда дядя с тетей собираются на службу. Хоть бы с ними все было хорошо!
Дверь открыл Костров. В нижней рубахе и галифе, с одной намыленной щекой и бритвой в руках.
– Ба! Какие приятные гости! – он широко взмахнул рукой с лезвием, уронив несколько мыльных хлопьев. Элеонора посмотрела на бритву и невольно подумала, что это идеальное орудие для самоубийства. Потом поняла, что на ее один звонок должны были открыть Архангельские, и сердце екнуло.
– Спокойно! Они живы и на свободе! Проходите скорее, я все расскажу.
Элеонора покачала головой:
– Не могу. Я только из тюрьмы. От меня пахнет камерой.
– Как? Вы сидели? – изумился Сергей Антонович. – А почему я не знаю? Но, черт, не в этом суть. Не выдумывайте, а проходите. Возражения не принимаются.
Он почти втащил ее в квартиру и побежал добриваться, крикнув, чтобы она ставила чайник.
Элеонора послушно разожгла примус. Двери в комнаты Архангельских были закрыты.
Сергей Антонович вернулся очень быстро, вытирая лицо полотенцем.
– Как хорошо, что вы пришли. Я все думал, как мне устроить, чтобы повидаться с вами наедине, а тут такая удача! Нет, ну я все мог предположить, но чтоб вас взяли…
– А я, наоборот, не могла предположить, что меня выпустят, – заметила Элеонора едко. – Прошу вас, расскажите, где дядя с тетей.
– Высланы, – рубанул Костров, – и это все, что я мог сделать. Петра Ивановича взяли неделю назад. Знаете, там что-то серьезное хотели раскрутить, мне пришлось все связи задействовать, чтобы остановить этот маховик. Да и то… Если бы ваш дядя не был гениальным хирургом…
Он махнул рукой.
– В общем, убедил, что трудовому народу больше пользы будет от живого Петра Ивановича, чем от мертвого. Простите… Удалось даже добиться, чтобы они уехали как свободные люди. Просто перевели человека на другое место работы, бросили, так сказать, на усиление. Профессор Архангельский отправился в Архангельск. Такое вот своеобразное чувство юмора у чекистов.
– Спасибо вам!
– Да не за что, ей-богу. Кстати, Ксения Михайловна просила меня передать вам пасхальный рецепт. Она сказала, это очень важно.
– Что?
– Да, она сказала, сейчас это покажется вам глупостью, но потом вы поймете, что это очень важно.
Костров вышел и сразу вернулся с пухлым конвертом. Кроме бумаг в нем обнаружилось еще кольцо, одно из самых ценных среди оставшихся после экспроприаций. Зачем тетя передала его ей? Ведь ясно, что в ссылке им понадобятся средства!
– Они обещали написать, как только устроятся на новом месте. Так что мы с вами их не потеряем. В городской больнице Петра Ивановича уже ждет место хирурга. Я позвонил в тамошний горком, у меня там служит старый боевой товарищ, он обещал принять профессора соответственно его заслугам. Думаю, все у них сложится хорошо, и вы сможете навестить своих родных. Никакой трагедии не произошло. Насколько я знаю Петра Ивановича, его там весь город быстро станет боготворить. Так что не расстраивайтесь так уж сильно.
Элеонора рассеянно кивнула. Во всем плохом можно найти хорошее, так, кажется? Но Архангельские уже немолоды, ослаблены голодом, каково им будет на севере? Как они привыкнут к перемене климата? И, наверное, тонюсенькая нить, связывающая их с дочерью, оборвется совсем. Где Лиза найдет оказию в Архангельск, даже если узнает о переезде родителей? Вся надежда только на нее, Элеонору. Значит, ей необходимо жить…
– Господи, что это у вас на лбу? – вдруг воскликнул Сергей Антонович, прервав ее размышления. – Вас что, били?
Элеонора усмехнулась:
– Немножко, – большим и указательным пальцем она показала «немножко».
– О!
– Ничего. Если это так необходимо для счастья человечества, ничего, пусть.
Сочувствие и боль ясно читались на открытом лице Кострова. Так же, как и замешательство. Он не знал, как ей помочь, впрочем, Элеонора тоже этого не знала.
– Знаете что? Я сейчас нагрею воды и уйду на работу. А вы располагайтесь на половине Архангельских, отдыхайте, сколько хотите. А надумаете уйти, просто захлопните дверь. Хорошо? Ну а потом, когда вы оправитесь, мы с вами все обсудим.
Она пожала плечами.
Ванна не принесла ей облегчения. Элеонора яростно терлась мочалкой, потом долго сидела в воде, пока та совсем не остыла, но чувство отвращения к самой себе никуда не уходило.
Она прошла по опустевшим комнатам Архангельских. Уезжать пришлось в спешке и налегке, поэтому вся мебель осталась на своих местах. В горке стоял сервиз, который чрезвычайно нравился Элеоноре в юности. Рисунок просто завораживал ее. Но сейчас все эти брошенные второпях вещи только усиливали тоску.
Щепетильный Костров сказал, что Ксения Михайловна все просила передать ей, но Элеонора подумала, что это будет сродни мародерству. Она сказала Сергею Антоновичу, что к нему, вероятно, никого не подселят из-за высокого положения, а раз он будет пользоваться комнатами, пусть пользуется и обстановкой, пока у Архангельских не наладится жизнь.
Она только проверила, не оставила ли тетя каких-то личных предметов, не предназначенных для посторонних взглядов. Не нашла ни бумаг, ни писем.
Две стены в большой комнате были полностью заняты стеллажами с книгами. Естественно, Петр Иванович не смог взять их с собой. Что делать с этой прекрасной библиотекой? Ну, художественную литературу пусть Костров читает, а медицинские книги? Тут есть настоящие сокровища. Не следует ли передать их в какую-нибудь общественную библиотеку, чтобы они не пылились без дела, а приносили пользу? Вдруг дядя сам хотел бы этого? Тут Элеонора вспомнила, какая публика собирается нынче в общественных библиотеках, и отказалась от этого плана. Пустят на самокрутки, в лучшем случае так испортят страницы, что книгу будет противно взять в руки. Нет, пусть стоят, ждут своих читателей.
Эти мелкие житейские мысли немного отвлекали ее от горя. Главное, Петр Иванович с Ксенией живы! К сожалению, ее не было рядом в самые трудные часы, но она сделает что может: постарается, чтобы не прервалась связь Архангельских с Лизой и позаботится об их имуществе.
Для нее все кончено. Но раз не хватило сил погибнуть, защищая свою честь, придется жить дальше, а единственный способ жить, когда не осталось надежды, это выполнять свой долг и поменьше сокрушаться о том, что могло бы быть.
«Спокойствие и действие, – сказала себе Элеонора, захлопывая дверь Костровской квартиры, – действие и спокойствие».
В госпитале ее ждал еще один удар, который, впрочем, не был неожиданным. Ее уволили. Знаменский сначала посмотрел на свою старшую сестру как на привидение, потом просиял, но быстро сник и сообщил ей грустную новость.
– Но я освободилась, у меня и справка есть. Вот, извольте. Нельзя ли восстановиться?
– Пойдемте к начальнику. Я очень хочу, чтобы вы вернулись!
Начальник был мордатый и грузный человек с такими значительными повадками, которые свойственны только тупости.
Эта гранитная мощь тупого апломба производила сокрушительное, но очень кратковременное впечатление. После пятиминутной беседы с профессором Бесенковым любому становилось ясно, что перед ним дурак, и даже самые отъявленные спорщики пасовали, поддерживая в Бесенкове мнение, что он очень умный и может убедить кого угодно.
Элеоноре всегда везло на коллег и на руководителей, поэтому назначение Бесенкова ее обескуражило – как служить под началом такого идиота? Он же все развалит своими абсурдными распоряжениями. Но опытные люди объяснили, что достаточно делать две вещи: соглашаться со всеми его приказами и поступать по-своему. И работа не страдает, и начальник доволен собой, что у него так прекрасно все налажено.
Ради своего операционного блока Элеонора старалась так и поступать, но Бесенков все равно сильно ее недолюбливал. Он требовал не четкого исполнения приказов, а раболепия, что для Элеоноры было просто невозможно.
Разумных объяснений его возвышению при большевиках не было. Петр Иванович говорил, это потому, что вообще время такое, вылезла вся серость и дрянь, а Знаменский считал Бесенкова стукачом чекистов и предостерегал, чтобы не болтали при нем лишнего.
В общем, на то, что Бесенков ее восстановит, шансов было мало, но Элеонора все же пошла со Знаменским.
Начальник блаженствовал у себя среди бронзовых бюстов медицинских светил и старинных книг. Кушетка для осмотра пациентов была застелена хрустящей белой простыней. Интересно, ложились ли на нее больные когда-нибудь?
Бесенков напыщенно кивнул Знаменскому и поморщился при виде Элеоноры. Она ответила вежливым кивком.
– Рад сообщить, профессор, что увольнение нашей старшей сестры оказалось недоразумением. Вот, извольте, – Знаменский протянул Бесенкову Элеонорину справку от чекистов.
– Хм, – начальник читал с таким напряженным лицом, словно только что окончил ликбез у Шуры Довгалюка и впервые видел текст не в букваре, – вы предлагаете мне вновь принять на работу врага на основании какой-то филькиной грамоты?
– Это не филькина грамота, а справка об освобождении. Послушайте, Элеонору Сергеевну задержали в ЧК, проверили и признали ни в чем не виновной. Да она надежнее нас с вами!
Бесенков пожевал губами:
– Это политическая близорукость, дражайший Александр Николаевич. Может быть, для ареста оснований и нет, но Львова ведь все равно осталась княжной, не так ли?
– При чем тут это? Элеонора Сергеевна никогда не пользовалась привилегиями своего титула, жила, как все трудящиеся девушки, за что ж ее наказывать? Вы не представляете себе, какая это потеря для нас – увольнение Элеоноры Сергеевны! – горячился Знаменский. – Не знаю, как бы мы работали эти страшные годы, если бы не она. Она не только прекрасный организатор, но как ассистент стоит больше иного врача. Это просто идеальный работник… Вспомните, что она героиня обороны Петрограда, в конце концов!
– Все это очень мило, но у нас незаменимых нет. Вы вообще бросьте эту тенденцию прима-балерин разводить среди сестер и докторов. Не Мариинский театр. Все равны у нас теперь. Была Львова, станет Петрова. И работать будет ничуть не хуже, а то и получше. И без этого, знаете, великосветского лоска.
Ей стало противно.
– Простите, что побеспокоили вас, – Элеонора вышла из кабинета, глазами попросив Знаменского следовать за собой.
– Он все равно бы меня не принял обратно, – заметила она, вернувшись в свой родной операционный блок, вероятно, последний раз. Устроившись в маленьком кабинетике Знамеского, они закурили, распахнув окно настежь. – Только еще понаслаждался бы нашим унижением, все равно делать ему нечего.
– Был бы хоть он из новых, из большевиков, – Знаменский энергично выдохнул дым, – был бы шанс тогда. А Бесенков, понятное дело, хочет быть святее папы римского. Демонстрирует полнейшую благонадежность. Ладно…
Затянувшись последний раз, Знаменский взялся за телефон. Телефон в операционном блоке был необходимой роскошью: вызывать сотрудников в экстренных случаях, звонить в службу переливания крови и так далее. Элеонора вспомнила, сколько сил ей пришлось положить, чтобы телефон не обрезали, и вздохнула.
– Вы отсюда не выйдете, пока я вам новое место не найду!
Профессор яростно стукнул по телефонным рожкам.
После долгих переговоров ему удалось найти место операционной сестры в Военно-Медицинской академии. Знаменский был обескуражен, а Элеонора, напротив, посчитала это большой удачей.
Тепло простившись с профессором и пообещав заходить, Элеонора собралась домой, но тут ворвался Шура Довгалюк:
– Львова, ты что же не зашла? Я так рад, что ты на свободе!
– Спасибо, Шура!
– Мне так жаль, что наш долдон тебя не восстановил…
Элеонора посмотрела на него с легким ужасом. Часа не прошло, как она вышла от Бесенкова, а Шура уже все знает.
– Ладно, держи характеристику! Я уж постарался как мог, все твои подвиги расписал. Извини, если с ошибками.
– Шура, но я не состою в вашем союзе. Мне не нужна характеристика.
– Ничего, пригодится. Заодно и вступишь. Хватит уже неприкаянной болтаться, видишь, куда тебя это довело.
Элеонора опустила глаза и увидела его рабочие брюки. Материал точь-в-точь как у мешка, в котором ей принесли передачу…
– Шура, – от волнения голос пресекся, – я так благодарна вам с Николаем Владимировичем за поддержку… Если я что-то могу для вас сделать…
– Ай, Львова, не выдумывай! В гости почаще заходи, вот и сочтемся.
Шура крепко пожал ей руку и убежал.
Калинина она поблагодарить не смогла. Николай Владимирович уехал в командировку.
Шагая домой, Элеонора глубоко задумалась. Ни Шура, ни тем более Калинин в нее не влюблены, не говоря уже о Знаменском. Александр Николаевич человек степенный, чтобы увлекаться подобными глупостями, ну а Довгалюк с Калининым слишком честные и бесхитростные. Если бы она им нравилась, то подошли бы и сказали. Тем более в нынешнее свободное время.
Однако они совершают поступки, которые сделали бы честь любому влюбленному кавалеру. Подыскивают ей место, носят передачу в тюрьму, рискуя сами попасть на карандаш. Шура пишет ей хорошую характеристику, а это тоже риск. Она сохранит эту хвалебную оду дома, никуда не понесет, но Шура-то думает иначе! Он считает, Элеонора отдаст ее в комсомольский комитет или куда там надо. Но он взрослый человек и прекрасно понимает, что через три дня ее могут взять снова. И тогда чекисты задумаются: зачем он так разрекламировал врага народа? И понимая все это, Шура тем не менее делает…
В старые времена этому могло быть всего два объяснения: либо страстная любовь и желание заслужить благосклонность предмета своей любви, либо низменная похоть и стремление опутать женщину своими благодеяниями, чтобы потом потребовать расплаты известным способом.
Ни то ни другое объяснение не подходили. Просто она хороший работник, честно выполняла свои обязанности и заслужила уважение сотрудников. Так, может быть, вот оно, то освобождение женщины, о котором постоянно талдычит Катерина? Когда женщину воспринимают не только как объект любви и желания, а как человека, и ценят ее человеческие качества…
Как там говорила парторг: служанка общественного сладострастия? Все, с этим покончено.
Но революция тут ни при чем.
Элеонора надеялась забыться в работе, как многие люди топят горе в вине, но служба в академии не приносила прежней радости и спокойствия.
Она до конца не могла понять, с чем это связано, почему она не чувствует того духа единства и привычной самоотверженности, радости от служения любимому делу, словом, всего того, что было в ее сердце постоянно с той минуты, как она впервые переступила порог Клинического института.
Почему здесь все иначе? Может быть, жизнь стала немного легче и дух от этого ослаб? А может быть, здесь просто безжалостнее прошлась метла ЧК, уничтожив всех благородных людей? Или все еще проще и противнее? Как человек, возвращаясь в дом, где бывал только в детстве, ощущает, что все стало маленьким, так и она повзрослела. И сестры милосердия, казавшиеся ей небожительницами, не вызывают восторга теперь, когда она стала одной из них?
Или совсем просто и грустно: то, что случилось в ЧК, слишком сильно повредило ее душу.
Глава 16
Старшая сестра, под началом которой служила Элеонора, была женщиной молодой и щуплой, из тех, что считаются расторопными. Она всегда при деле, всюду успевает, постоянно занята и на ногах, и даже чай пьет на ходу, выскакивая из-за стола с куском во рту. Все дела всегда в одной секундочке до завершения, но дел этих столько, что просто удивительно, как она справляется. Этот постоянный порыв, бесконечное мельтешение завораживают и восхищают, поэтому мало кому приходит в голову проверить, сколько работы сделано на самом деле, и убедиться, что совсем немного.
К сожалению, Элеонора оказалась среди той малочисленной группы, на кого гипноз суетливых жестов и вечной беготни не действовал. Она прекрасно понимала субординацию и умела подчиняться, но некоторые порядки здесь оказались настолько нелепыми, что мириться с ними Элеонора считала просто преступным. Она очень деликатно, с глазу на глаз, пыталась говорить со своей старшей. О том, что неплохо бы починить автоклав и не сваливать стерильные инструменты в кучу на один стол, а комплектовать типовые наборы. Так же как и материал лучше держать в маленьких биксах. Она могла бы передать старшей еще много секретов мастерства, но та восприняла все советы в штыки, почему-то решив, что Элеонора таким образом хочет заполучить ее место. Самая умная, что ли? Не лезь, куда не просят, – вот единственные слова, которых удостоилась Элеонора.
Вероятно, я действительно проявила навязчивость, решила она и попыталась представить себя на месте старшей. Если бы к ней подошла новенькая подчиненная и стала бы советовать? Вдруг она тоже посчитала бы такую подчиненную выскочкой? Да нет… Человеческий опыт бесценен, и нужно быть очень глупым человеком, чтобы им пренебрегать.
Отнеся такое пренебрежение на молодость старшей сестры и ее неуверенность, Элеонора вела себя подчеркнуто скромно, но мастерство не спрячешь. Доктора быстро полюбили новую сестру и просили ставить ее на сложные операции.
Это вызвало ревность коллег, и Элеонора оглянуться не успела, как стала отверженной в маленьком коллективе операционных сестер. Старшая при виде нее поджимала губы, называя не иначе как «наша аристократка», остальные сестры не отставали от начальницы, а расписание Элеоноры неизменно оказывалось самым плотным.
«Все тебя просят, как я могу врачам отказывать?» – ухмылялась старшая.
Впрочем, работа не тяготила. Так же как и мелочные придирки старшей. Гигиена и санэпидрежим – это для Элеоноры было святое, она выполняла все требования, в том числе и те, которые не слишком чистоплотная старшая и не подумала бы проверять.
Отчужденность сестер тоже ее не огорчала. Все это были девушки не ее круга. Элеонора никогда не была снобкой, но тут столкнулась с таким убогим мировоззрением… Бесконечные разговоры о любовниках, бывших, будущих и потенциальных, оскорбляли ее, и она только радовалась, что можно не принимать в них участия. Все девушки были комсомолками, и Элеонора заметила одну странную закономерность. Они очень охотно и радостно занимались своими комсомольскими делами, не жалели ни сил, ни времени на всякие субботники, собрания, шествия и представления, но к прямым обязанностям относились спустя рукава. Хирургия – это такая область человеческой деятельности, где всегда требуется известная доля самопожертвования, даже при самой лучшей организации дела. Известно, что тяжелейшие случаи поступают в стационар именно за полчаса до конца рабочего дня, а когда идешь с мыслью «вот сейчас сделаю аппендицит – и домой», будь готов, что банальный аппендицит окажется заболеванием поистине космической сложности. Словом, ни одно из помещений не видело столько событий, противоречащих здравому смыслу и всем законам природы, сколько операционная.
Элеонора была шокирована, когда сестра потребовала заменить ее посреди резекции желудка, потому что, видите ли, у нее закончилось рабочее время. И хирурги стояли, ждали, пока произойдет замена.
В бытность свою старшей Элеонора тщательно следила, чтобы все переработки ее подчиненных были учтены. Если сегодня тебе пришлось задержаться, то завтра приходи попозже или накопи несколько часов и возьми отгул. За подобные вольности она несколько раз получала нагоняй от Бесенкова, который считал, что в нынешние непростые времена все должны работать на износ. «Я тоже нахожусь на службе в свое свободное время!» – патетически восклицал он. «Это ваш выбор», – сдержанно отвечала Элеонора.
Очень давно, когда они с Сашей еще не отдалились друг от друга, она заглянула к Шварцвальдам на чай, и завязался разговор о полномочиях руководителя. Элеонора заметила, что настоящий начальник не имеет права требовать от подчиненных больше, чем от себя самого. Услышав эту догму, барон не на шутку разгневался и погрозил ей пальцем: запомни, будущая главная сестра, раз и навсегда: начальник не имеет права требовать больше, чем записано в должностных обязанностях. Если он не может решить проблему теми силами, что у него есть, грош ему цена!
Но это не отменяет личной ответственности человека и его профессиональной гордости. Почему можно забыть приготовить лед, чтобы положить на рану в конце операции? И, наоборот, не подогреть растворы для промывания брюшной полости при перитоните, мол, и холодные сойдут. А то, что у больного от этого возникает вагус-рефлекс, подумаешь, важность… И еще тысяча мелочей, из которых и складывается работа операционной сестры…
Как все это понять? Почему свобода женщины воспринимается как распущенность, свобода труда – как халтура, а борьба за светлое будущее сводится к пафосным лозунгам, позволяющим начальству не заботиться об условиях труда сотрудников?
Она была очень подавлена и очень одинока. Из всех сестер она не нашла никого близкого по духу. Могла бы подружиться с докторами, но соблюдала дистанцию. С отъездом Ксении Михайловны прервались и светские знакомства. Ее бы принимали и одну, без тетки, только Элеонора чувствовала себя оскверненной и недостойной.
Иногда ей целый день не с кем было словом перемолвиться. Элеонора знала, что у Саши ей будут рады, и товарищ Катерина тепло ее встретит, но сторонилась этих женщин. Сашу – инстинктивно, на уровне подсознания, а Катерину – потому что та стала теперь партийным руководителем всех медиков Петрограда. Еще подумает, не дай бог, что Элеонора хочет к ней подлизаться. Да и компрометировать большевистскую мадонну знакомством с княжной нехорошо…
Отдушиной стали романы. Элеонора читала запоем, так глубоко погружаясь в текст, что забывала обо всем. Первой книгой стала история Дженни Эйр, купленная на толкучке буквально за гроши. В это тяжелое время книги ценились мало.
Сначала Элеонора боялась, что история гувернантки вызовет в ней слишком тяжелые воспоминания, но нет. Читая, она лишь с благодарностью думала об Елизавете Ксаверьевне, открывшей ей мир литературы.
Память вообще щадила ее, будто накинув плотное покрывало на тюремные злоключения. Элеонора помнила, что с ней случилось, помнила, но не вспоминала.
Иногда ей казалось, что она живет во сне, а пробуждение наступает, только когда она берет в руки книгу.
Бывали минуты, когда ей хотелось стряхнуть с себя эту сонную одурь, вновь дышать полной грудью и чувствовать жизнь, но ничего не получалось.
Так проходила весна. Таяли сугробы серого зернистого снега, на улицах деловито бежали ручейки, щедро рассыпая солнечные зайчики, на красных прутьях вербы появились пушистые шишечки, проклюнулась первая травка… Лучшее время для надежд, для ожидания любви. Только не для нее.
Она уже собиралась уходить, как прибежала служительница с вахты и сказала, что в вестибюле ее ждет какой-то военный.
– Спасибо, – Элеонора поправила волосы и задумалась, кто бы это мог быть.
В голову ничего не приходило, кроме того, что это какой-нибудь чекист. Что ж… Она коротко взглянула в зеркало, убедилась, что вид ее безупречно аккуратен, и поспешила вниз.
Сначала она никого не увидела и уже подумала, что служительница что-то напутала, как тут доктор Воинов вышел к ней из-за будки справочной…
Она так удивилась, что еле устояла на ногах, пришлось схватиться за перила.
– Элеонора Сергеевна, милая, – он протянул ей руку, – а я вот вас жду.
Она кивнула, будто в тумане. Константин Георгиевич здесь, живой и здоровый… Это казалось невозможным.
Она взяла жакетик, из тяжелых дубовых дверей клиники они вышли на набережную. Только тут порыв ветра с Невы немного освежил ее, и она смогла наконец разглядеть Воинова.
Боже, как он изменился! И дело не в том, что за годы разлуки она почти забыла его черты. Все тот же хищный острый нос на сухом галльском лице, те же зеленые глаза и твердый рот…
Но он стал человеком войны. Прокопченным пороховым дымом, закалившимся в сражениях человеком войны.
Константин Георгиевич взял ее за руки, и она подумала, как хорошо помнит эти сухие и теплые ладони. Ветер трепал полы его распахнутой шинели… «Шинель? Зачем шинель? – вдруг метнулась в голове странная мысль. – Как у тех чекистов!»
И воспоминание вдруг с размаху ударило ее. Элеонора отпрянула. Да, это Константин Георгиевич, прекрасный доктор и верный друг. Но теперь он носит такую же форму, как те негодяи, значит, один из них!
Элеонора вырвала руки и отступила:
– Константин Георгиевич, – сказала она холодно, – я вижу, вы служите в Красной армии.
Он улыбнулся:
– Военврач первого ранга, к вашим услугам.
– Надеюсь, вы понимаете, что коль скоро вы примкнули к этой орде безбожников, насильников и убийц, то у нас с вами не может быть ничего общего!
– Элеонора Сергеевна… – Воинов попытался снова взять ее за руку, но Элеонора снова отступила. – Послушайте, я ведь просто врач.
– Врач, забывший присягу и перешедший на сторону преступников!
Элеонора понимала, что говорит злые и недостойные слова, но они вырывались у нее помимо воли.
– Милая, я знаю, вам нелегко пришлось, вы сильно пострадали от новой власти, но простите вы меня!
– Вы ни в чем не виноваты передо мной. Я просто не считаю возможным поддерживать наше знакомство. Оставьте меня.
– Послушайте, – Воинов крепко взял ее за локоть, и Элеонора вдруг почувствовала себя беспомощной, как тогда, в подвале. Навалилась какая-то первобытная тоска.
– Немедленно отпустите и больше не смейте прикасаться ко мне!
– Все, все, – Воинов убрал руку и быстро заговорил, – не гоните меня, пожалуйста! Я выпросил эту командировку, только чтоб повидаться с вами. Мне сегодня уезжать, и если вы меня прогоните, мы не успеем вернуть этот день! Я не забывал о вас, все время писал, но, видно, вы не получали…
– Не получала.
– Ну простите, я ведь не знал вашего адреса, писал на Архангельских и в Клинический институт, а там, куда меня забрасывало, иногда клочка бумаги было не найти…
– Константин Георгиевич, не трудитесь оправдываться. Вы не обязаны были мне писать. Мы с вами столько лет ничего не знали друг о друге, надеюсь, так будет и впредь. Вы выбрали большевиков, что ж, живите в их новом мире, а мне уж предоставьте погибнуть со старым.
– Что за глупые идеи…
– Простите меня. Но я не могу поддерживать знакомство с человеком, который делает карьеру и принимает благодеяния от людей, разрушивших жизнь его учителя! Надеюсь, вы в состоянии это понять.
В нее словно бес вселился, она говорила вещи, которых не думала, лишь бы только побольнее ударить…
– Элеонора Сергеевна, одумайтесь! Я вам расскажу, как жил, и вы поймете.
– Я ничего не хочу понимать! Но если вы сделаете еще хоть шаг вслед за мной, я закричу. Или ударю вас, не знаю.
– Хорошо… Но ведь мы можем больше никогда не увидеться!
– Что ж, хоть сохраним в чистоте наши фронтовые воспоминания. Прощайте, Константин Георгиевич!
Она быстро зашагала по набережной в сторону Литейного моста. Пройдя метров сто, оглянулась.
Воинов стоял на том же месте, смотрел ей вслед. Увидев, что она обернулась, Константин Георгиевич шагнул к ней. И Элеонора едва не побежала ему навстречу, но вместо этого вскочила в так кстати – или некстати – подошедший трамвай, даже не посмотрев маршрут. Все равно куда ехать.
В окно она видела, как доктор Воинов бежит за трамваем, но по мосту вагончик ехал быстро, где тут успеть. Фигура Константина Георгиевича становилась все меньше. Еще можно было выйти на остановке и побежать ему навстречу, и обняться, и поплакать у него на плече, и смеяться: вот так она шокирована встречей, что устраивает дурацкие погони…
Но Элеонора доехала до самого кольца, а потом обратно.
Добравшись домой, она легла на свой матрасик и вдруг заплакала тихими едкими слезами, впервые с тех пор, как была в тюрьме.
Она-то думала, что давно разучилась. Боже, что она натворила, оттолкнула и обидела единственного верного друга, который у нее был! Какой абсурд, какая глупость то, что она ему говорила! Никогда в жизни она не была еще такой вздорной и несправедливой, а все потому, что испугалась. Насильник ей, видите ли, померещился. А может, она испугалась этой привязанности, которая расколола бы ее защитную броню? Не хотела радости встречи, чтобы за ней не пришла боль разлуки?
Да какая разница, господи, что она думала и хотела! Константин Георгиевич пришел к ней, к старому другу. Она ведь тоже близкий ему человек, и раз он к ней пришел после стольких лет, значит, она нужна ему. Человек войны, солдат, он обратился к ней за утешением, ведь это так важно, когда тебя ждут и беспокоятся о тебе.
А она, бессердечная и подлая эгоистка, даже не подумала о нем.
Элеонора вскочила и поспешно оделась. Он сказал, что уезжает сегодня. Куда, с какого вокзала?
Зная, что не найдет Воинова, но все же надеясь на чудо, она поехала на Николаевский. Стояла на перроне и плакала, не стесняясь своих слез, а мимо равнодушно тек людской поток.
Элеонора понимала, что все бесполезно, но продолжала нести свою вахту. Ей казалось, что стоит только уйти, как на перроне сразу появится Воинов. И здесь, в толпе, ежесекундно получая тычки локтями или вещмешками, она чувствовала себя почти такой же живой, как раньше. Она даже злилась на Константина Георгиевича, зачем он так легко отпустил ее. Мог бы хоть оставить адрес, куда отправлять покаянное письмо, которое Элеонора уже начала мысленно составлять.
И только возвращаясь домой под утро, она поняла, что сделала все правильно. Глупо, грубо, подчиняясь инстинкту, но совершенно правильно. После того что с ней случилось, она стала совсем другой, а Воинов приехал к прежней Элеоноре, к девушке, которой больше не существует.
Да полно, в ее ли жизни был Константин Георгиевич? Неужели именно она ассистировала ему в полевом госпитале? И разве это она любила смотреть, как он пьет чай, и любила окликнуть его, задумавшегося, чтобы увидеть, как мгновенно тает лед в его глазах, а суровое, даже жестокое лицо вдруг преображается от удивительно доброй улыбки? А как он приезжал к ней в госпиталь, жаловался, что сидит на лошади «как собака на заборе», снял платок с ее обритой после тифа головы и смотрел так нежно, как, кажется, только мать может смотреть на своего новорожденного ребенка.
Самые драгоценные воспоминания ее жизни, но теперь казалось, словно все это произошло с кем-то другим. Будто она прочитала о себе в романе.
Вероятно, она могла бы выяснить полевую почту Константина Георгиевича. Он военврач первого ранга, и его визит не мог остаться незамеченным. Да хоть у Довгалюка спросить, он всегда все знает, а если и нет, то догадается, где узнать.
Тогда она сможет написать Воинову, что вовсе не хотела его обидеть, а упрекала и оскорбляла только потому… Потому что – что?
Элеоноре стало так грустно, что она даже зажмурилась. Чем она сможет оправдаться? Что над ней надругались чекисты и она вдруг подумала, что Воинов тоже может это сделать? Это оскорбит его в миллион раз сильнее… И потом, ей казалось совершенно невозможным, чтобы Константин Георгиевич узнал о том, что с ней случилось. Она умрет от стыда, если это станет ему известно.
Нет, пусть она действовала под влиянием сиюминутных чувств, но, как ни странно, инстинкты в этот раз подсказали верное решение. Даже с практической точки зрения: Воинов делает карьеру при новой власти, а знакомство с пережитком прошлого не украсит его репутацию. Там, на фронтах, ЧК такая же строгая, как здесь. Кому это доктор пишет, о чем пишет? «Сегодня с княжной снюхался, а завтра родину продаст!» – Элеонора передразнила большевистского оратора и невесело засмеялась.
Если бы они хоть были влюблены… Хотя бы Константин Георгиевич ее любил… Но ведь она для него просто верный друг и помощница. Он всегда любил Лизу.
Но, несмотря на все эти здравые рассуждения, она все время вспоминала Воинова – таким, каким видела в последний раз: суровое обветренное лицо с резкими чертами и удивительно мягкой улыбкой, как он бежал за трамваем, сильно работая локтями… Стоило ветру с Невы подуть ей в лицо, как сразу вспоминалась их последняя встреча.
Глава 17
Отношения с коллегами по-прежнему не складывались. Девушки ревновали ее к докторам, не только с профессиональной, но и с любовной точки зрения, что было совсем уж глупо. Элеонора пыталась объяснить, что весь интерес к ее персоне объясняется ее классической выучкой, и она с удовольствием передаст сестрам все секреты мастерства, чтобы они стали такими же популярными, как и она. Почему-то ее добрый порыв был принят в штыки. Ладно бы еще только старшей, ей в любых действиях Элеоноры чудилось посягательство на ее должность, но рядовые сестры тоже обиделись, высказавшись в том духе, что Элеонора ничуть не лучше их и, соответственно, ничему хорошему научить не может, а то, что все врачи любят с ней работать, объясняется только вмешательством Сатаны.
Поначалу такая позиция изумляла, но вскоре Элеонора свыклась с воинствующей серостью.
Как-то в апреле, когда установилась хорошая погода, Шура позвал ее в поход, который комсомольская организация госпиталя устраивала для детдомовцев. Якобы ему нужна медсестра для сопровождения детей. Она подумала и согласилась.
Ожидая увидеть скромное мероприятие, Элеонора оторопела при виде целой колонны грузовиков. Вокруг носились комсомольцы, с сосредоточенными лицами пересчитывая детей, которые так и норовили разбежаться и спрятаться.
Ей было немного неловко встретиться с бывшими сотрудниками, но все очень тепло ее приветствовали, будто она и не уходила. Доктор Калинин хотел обнять ее, но не успел и бросился в погоню за маленьким, но чрезвычайно юрким ребенком.
Пухлощекая сестричка охраняла мешки с провизией, а в хвосте колонны Элеонора увидела настоящую полевую кухню.
Среди участников похода Элеонора с удивлением узнала Кострова. Сергей Антонович стоял, снисходительно наблюдая за суетой молодежи. Он приветливо кивнул ей, Элеонора улыбнулась в ответ, но подходить не стала.
Вдруг на нее налетела Катерина, и не просто налетела, а крепко обняла и расцеловала.
– Как я рада тебя видеть! – искренность ее тона глубоко тронула Элеонору, почти до слез.
В старом английском парке оказалось удивительно хорошо. Настоящая листва еще не распустилась, кроны только подернулись зеленой дымкой, и Элеонора разглядывала причудливые сплетения ветвей на фоне лазурного неба. Настырное весеннее солнце щедро рассыпало блики по поверхности пруда и отражалось от каждой мало-мальски подходящей поверхности, вплоть до ржавой консервной банки.
Радуясь, что ей не надо следить за детьми, Элеонора опустилась на большой валун возле пруда. По его берегу росли старые ивы с узловатыми ветками и толстыми стволами. Какая сила заставляет эти деревья так расти? Не вверх, не вниз, а параллельно воде? Это же очень трудно, двести лет балансировать в таком положении…
Дети, гомоня, заполонили весь парк. Элеонора боялась, что здесь, на природе, они тут же разбегутся, но комсомольцы сумели организовать их. На поляне сразу устроили футбол и лапту, кто-то помогал щекастой поварихе, и довольно большая толпа собралась вокруг Шуры. Он читал детям какую-то книгу, Элеонора не разбирала слов со своего места.
Костров азартно гонял мяч, а Катерина, несколько раз зычно крикнув: «Дети, не разбегаемся!», вдруг подошла к ней и устроилась рядышком на валуне.
– Как ты? – спросила она. – Сергей говорил, что тебя забирали.
– Все хорошо, не беспокойтесь.
– Я хотела тебя навестить, но побоялась, что ты только хуже разозлишься.
– Что вы…
Катерина странно посмотрела на нее, и Элеоноре показалось, будто она хочет сказать что-то очень важное, что-то личное и тайное. Но тут, отдуваясь, подошел Костров и с размаху уселся у них в ногах.
– Пойдемте-ка прогуляемся, – заявил он через две минуты, – земля еще холодная, и на камнях тоже лучше не сидеть.
И, не слушая возражений, он взял одной рукой Элеонору, другой Катерину и рывком подхватил их.
– Бросая вызов ханжеской морали, я буду гулять в окружении прекрасных дам, – засмеялся Костров.
Сергей Антонович держал ее крепко, но от него она почему-то не чувствовала той мужской угрозы, которая так испугала ее в Воинове. Наоборот, рядом с этим человеком, чужим и чуждым, ей становилось спокойно.
– Это так важно, девчонки, так важно, а вы не понимаете, – разглагольствовал Костров, – никто не понимает. Когда я говорю об организации досуга как о важнейшей задаче, на меня смотрят как на дурачка. Действительно, какие развлечения могут быть в такое суровое время… Нужно выживать, строить новый мир, а не веселиться и отдыхать.
– Вот именно, – сухо заметила Катерина.
Элеонора поняла, что стала свидетельницей давнего спора.
– Но не все же такие сумасшедшие, как мы с вами, которых хлебом не корми, давай только любимое дело. Да и не хватит на всех творческой работы, кому-то придется и лопатой махать. Мы говорим, что такой труд – на износ, в тяжелейших условиях, на пределе сил, а часто и за пределами здравого смысла – это подвиг ради счастья будущих поколений. Так-то оно так, но эдак можно легко увлечься и превратить людей в идеологических рабов.
Катерина фыркнула:
– Как не стыдно! Разве мы с Элеонорой рабы? А уж тебе ли не знать, товарищ Костров, сколько мы пахали!
Костров снова засмеялся:
– Вы не рабы, потому что это ваш свободный выбор, достойный, как говорится, восхищения. Но если мы… как бы это получше сказать… если мы узаконим героизм из-под палки, то построим не новый мир, а черт знает что! Для чего вообще делалась революция? Уж не для того только, чтобы отобрать имущество у правящих классов, а чтобы каждый человек жил полной жизнью, а не чувствовал себя рабочей лошадью. Между прочим, Ленин сказал, что коммунистом можно стать только тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество!
– Чтобы все богатства узнать, жизни не хватит, – буркнула Элеонора себе под нос. В сущности, она была согласна с Костровым. Речи о том, в какой нищете прозябал народ до революции, ее не трогали. Не имея гроша за душой, она не понаслышке знала, что, если работаешь, всегда себе на жизнь заработаешь. Ну а если ты лентяй и пьяница, то никакие революции не изменят этого плачевного положения вещей. Что действительно казалось ей несправедливым, так это скудость духовной жизни, недоступность образования. Иногда она думала с ужасом: а что если бы ей случилось родиться в рабочей семье? Финансовое ее положение было бы таким же, как сейчас, и, наверное, ей удалось бы выучиться на сестру милосердия, но в каких жутких потемках блуждала бы ее душа… А если бы она родилась в рабочей семье, но мальчиком, то путь был бы только на завод. Получить хорошее образование и какую-нибудь интересную специальность возможности бы не имелось. Правильно говорит Костров, революции случаются, когда люди не видят будущего для своих детей.
Хотя… Взять самого Сергея Антоновича. Он рос в самой простой, убогой среде, а достиг каких высот! Зато он и думает о людях. Элеонора прислушалась. Он говорил плавно, почти без пауз, вероятно, опробовал на них с Катериной свою будущую речь.
– Рабочий день составляет восемь часов, не больше. У людей появляется свободное время, которое нужно с толком потратить. Я мечтаю, чтобы наш пролетарий не только работал и пил, но и занимался спортом, читал книги, имел бы увлечения, как говорят англичане, хобби. Для этого мы должны провести огромную работу, организовать клубы, дворцы культуры…
И заронить в сердце каждого пролетария желание эти дворцы посещать, вдруг желчно подумала Элеонора, вспомнив своих новых коллег. Если мыслить революционными примитивными штампами, то среднестатистический аристократ – это прекрасно образованный и культурный паразит, а пролетарий – неотесанный серый невежда, в поте лица зарабатывающий себе на хлеб. Казалось бы, революция уравняла классы в правах, позволила пролетарию самосовершенствоваться, а аристократа заставила жить своим трудом. Но если аристократия принялась трудиться и даже нашла в этом определенную прелесть (взять хоть Ксению Михайловну), то пролетариат почему-то не проявил тяги к культуре. Увы, слишком многие гордились не тем, что они труженики, а именно своим невежеством и хамством.
Слишком часто она слышала от своих новых товарок «ну, мы институтов не кончали», сказанное с чувством превосходства.
– Вряд ли это можно назвать первоочередной задачей, – едко заметила Катерина.
– Ну как же, Кать! Не все ж людям твоей любимой свободной любовью заниматься, надо иногда и дух перевести!
Элеонора думала, что собеседница сейчас разразится пламенной лекций о правах женщин, но та вдруг смешалась и потупилась.
Что ж, это многое проясняет. Несколько дней назад Костров звонил ей на службу и спрашивал, что делать с обстановкой Архангельских. Мол, пока он был один, комнаты стояли закрытые, но сейчас он собирается жениться и придется пользоваться всей квартирой. Петру Ивановичу он писать не хочет, потому что, уезжая, Архангельские передали всю мебель в распоряжение Элеоноры. Она попросила его располагать всем, как собственным имуществом, только по возможности не продавать.
Что ж, Катерина с Костровым очень подходят друг другу.
Присмотревшись к ней, Элеонора заметила, как сильно изменилась революционерка. Строгие черты смягчились, взгляд тоже стал нежным, а не мрачным и холодным, как раньше.
Только Элеонора подумала, что влюбленные хотят побыть наедине, а ее развлекают лишь из вежливости, и стала искать предлог, чтобы отойти, как Катерина вдруг заявила, что обожает смотреть футбол, и убежала.
– Я хотел с вами поговорить, – сказал Костров.
Она вздрогнула. Тон Сергея Антоновича не предвещал хорошего. Неужели что-то с Архангельскими?
– Вы, оказывается, хорошо знаете доктора Воинова?
Она даже остановилась от удивления:
– Да…
– Как же тесен мир! В общем, он просил меня позаботиться о вас, а, сами понимаете, просьба человека, который спас тебе жизнь, свята.
Элеонора смешалась:
– Но у меня и так все хорошо, прошу вас, не тревожьтесь.
– Знаю, знаю. Элеонора Сергеевна, вы мне очень симпатичны, не буду скрывать. Да вы и сами в курсе. Помочь вам мне только в удовольствие. Но я видел, какая вы серьезная и самостоятельная девушка, и не вмешивался.
– А что вам сказал Константин Георгиевич? Вы с ним виделись?
– Нет, в этот раз он успел мне только телефонировать, у него была очень короткая командировка. Да и позвонил-то лишь потому, что беспокоился о вас, иначе о боевом товарище и не вспомнил бы…
Костров подмигнул ей, показывая, что шутит.
– Но откуда он узнал, что мы знакомы?
– Он и не знал. Просто попросил позаботиться о такой-то сестре милосердия. А когда я сказал, что имею честь быть знакомым с этой замечательной девушкой, он удивился не меньше вашего.
Элеоноре стало стыдно, даже сердце заколотилось. Господи, что подумает теперь о ней Воинов? И правильно подумает, между прочим. Она хороводится с матерым коммунистом, можно сказать, предводителем этой жуткой банды, а Воинов для нее, видите ли, недостаточно хорош! Ох, лучше бы Костров молчал об их знакомстве.
– Зная ваше отношение к кумовству, – мягко продолжал Сергей Антонович, – я не предлагал и не собираюсь впредь предлагать вам завидных должностей. Тем более время сейчас такое, что вам лучше в тени побыть с вашим происхождением. Я хотел сказать, что нам с вами надо друг друга не терять. Я знаю, вы гордая девушка, и для вас разница в общественном положении значит слишком много, намного больше, чем нужно, но я очень хочу, чтобы мы дружили. И чтобы вы с Катюшкой сблизились, поверьте, она вас очень уважает. В любом случае вы должны знать, что я все сделаю для вас, если попадете в беду.
– Скажите, а у вас есть его адрес? Вы знаете, куда писать?
Костров покачал головой:
– Нет, мы не переписываемся. А вы что ж, не знаете?
– Мы плохо расстались.
Элеонора не хотела исповедоваться Кострову, тем более делать его поверенным своих задушевных тайн, но в нескольких словах пересказала свою последнюю встречу с Константином Георгиевичем. Пусть Костров знает, что она не имеет права на его заботу.
Сергей Антонович ничего не ответил, некоторое время они молча прохаживались по дорожке. Элеонора заметила, как Костров поймал взгляд Катерины и сделал той знак подождать.
– Зря вы его так… Воинов, между прочим, не вступил в партию, хоть ему сто раз предлагали. А как он раненых спасал! Никогда не позволял добивать белых, хоть бы они и творили черт знает что. Да я вам, кажется, рассказывал, как Воинова к стенке ставили. Был у нас комиссар заходчивый… От него только и распоряжений было – шмальнуть да шлепнуть. Один раз заняли мы с боем какое-то село, а белые своих раненых бросили. Комиссар распорядился их вывести и расстрелять, а Костя не дал. Не испугался. Мне, говорит, врачебный долг не позволяет. Комиссар, как водится: ах ты контра, я тебя сейчас без суда и следствия за измену шлепну. А Воинов: извольте, но пока я жив, раненых добивать не дам. Ну, мы комиссара нашего боялись страшно, но за доктора горой встали. Сдается мне, я уже рассказывал вам эту историю.
– Я не думала, что речь о Воинове.
– Ну, сердце могло бы вам и подсказать! Ах, Элеонора Сергеевна, вы знаете, я восхищаюсь вами, но в этот раз вы были несправедливы.
– Да я знаю, знаю! Сергей Антонович, неужели Воинов не вступил в партию? Почему?
Костров вздохнул:
– Мне очень жаль, что он этого не сделал. Костя – настоящий коммунист, честный, работящий, отважный. Раненых с поля вытаскивал наравне с бойцами, но сам никогда не стрелял. Еще смеялся: мол, идиот я, что ли, сам себе лишнюю работу доставлять? Удивительный человек, удивительный… Вроде посмотришь со стороны – хмурый парень, а поговоришь минуту, и легче на душе становится. Бойцы к нему тянулись, да что бойцы! Даже наш комиссар его полюбил, а это, поверьте, непросто. Ходил за Воиновым как привязанный, просил его заявление написать, а Костя ни в какую. Говорил, со всем согласен, кроме атеизма.
– Правда?
– Чистая! Никакая антирелигиозная пропаганда его не брала. Помню, как-то к нам в расположение лектор приехал. Всех согнали в клуб, а мы с ним под шумок улизнули. Сидим, курим на лавочке, и Костя вдруг говорит: «Этот великий ученый знает о загробной жизни ровно столько, сколько наш дурачок Ванятка и сколько мы с тобой. То есть ничего. И не узнает, пока не умрет. Поэтому остается только верить». Честно говоря, я считаю наш воинствующий атеизм большой ошибкой. Этот момент отпугивает многих благородных и порядочных людей, которые иначе могли бы украсить партию.
– Мне стыдно, что я так с ним обошлась, – быстро сказала Элеонора. Слова Кострова причиняли ей почти физическую боль. – Сергей Антонович, если вы узнаете, как с ним связаться, вы же мне скажете?
Костров кивнул и после небольшой паузы сказал, чтобы она ни в коем случае не теряла связь с ним и с Катериной.
– Мы все трое люди занятые и не можем общаться столько, сколько бы хотелось, но я очень вас прошу: сразу дайте знать, если вам понадобится помощь. Без всякой там ложной гордости, лады?
От заботы Кострова ей не стало легче. Одиночество оказалось не вынужденным обстоятельством, а единственным состоянием души, которое не причиняло боли. Она невольно сравнивала себя с гнойным больным, который инстинктивно сохраняет неподвижность, потому что малейшее движение вызывает боль. Только пациент держит в неподвижности тело, а она – душу. Искреннее человеческое участие ранило сильнее, чем безразличие. Элеонора чувствовала, что Костров и Катерина – настоящие друзья. Они помогут, если довериться им. Каким-то образом вскроют гнойник, и, наверное, ей станет легче жить. Если бы она еще могла преодолеть свой стыд… Лучше пусть у нее не будет друзей, чем друзья, знающие об ее позоре.
Да и чем можно ей помочь? Похоже, что ничем. По крайней мере, Элеонора не находила средства.
Она обрадовалась, узнав, что день свадьбы приходится на ее дежурство и есть достойный предлог не идти. Отрешенно, будто не о себе, подумала, что вообще не бывает ни на свадьбах, ни на похоронах, ни на крестинах, словом, жизнь проходит мимо нее.
Стало немного грустно, так что Элеонора едва не попросила поменять график. Наверное, старшая пошла бы ей навстречу, несмотря на натянутые отношения, особенно если бы Элеонора сказала, к кому приглашена.
Слава богу, она быстро одумалась. Сидеть за одним столом с видными коммунистами после того, что она сказала Воинову… Это просто непорядочно! А главное, там наверняка будет тот чекист, что отбил ее у насильников. Она не знала ни имени, ни должности своего спасителя, но ясно, что он не последний человек в ЧК, а чиновники высшего уровня должны быть товарищами или хотя бы создавать видимость дружбы.
Ей будет слишком тяжело видеть этого человека.
И вообще, надо знать свое место. Она простая сестра милосердия и не может запросто дружить с городским главой, или как это у них теперь называется. Костров ей искренне симпатизирует, но тут больше покровительства, чем искреннего интереса к ней. А ей не нужно покровительство. Она бедная девушка, но не бедная родственница.
Однако она приняла приглашение навестить молодую на второй день.
Долго ломала голову над идеей подарка. Чем можно порадовать абсолютно равнодушных к быту людей? Книгой? Но любимая новобрачными марксистская литература одним своим видом нагоняла такую тоску…
Что-то из хороших продуктов? Но Элеоноре хотелось почему-то оставить память о себе. Такую, чтобы очень старая Катерина лет через пятьдесят говорила своим внукам: а эту вещицу нам подарила одна очень милая девушка. Она была сестрой милосердия и когда-то спасла мне ногу.
Правда, для этой истории у Кати есть рубец на голени.
Презент не должен быть слишком дорогим, чтобы Костров не подумал, будто она хочет к нему подлизаться и рассчитывает на какие-то благодеяния.
В конце концов она купила на толкучке небольшой отрезик шелка, по кусочку ситца и ватина и сшила бабу на чайник, ведь коммунистка-новобрачная вряд ли знает о пользе таких мелочей.
У Катерины оказалось на удивление мало подруг, и были это сплошь неаккуратные женщины со строгими лицами, большей частью уже немолодые. Они курили как сумасшедшие, размахивали руками и яростно обсуждали какие-то политические вопросы, отчего казалось, что их больше, чем шесть человек, как было на самом деле.
Очевидно, это товарищи по партийной работе, вздохнула Элеонора и села в уголке, не отказавшись, впрочем, от папиросы, предложенной брюнеткой в круглых очках. Стрижка ее была короче, чем у Кострова, который быстро поприветствовал дам. Катерина сильно изменилась. Невозможно представить, что еще недавно эта молодая нежная женщина с сияющими глазами была такой же партийной мегерой, как ее подруги.
Она была одета так же, как и раньше, в простую юбку и гимнастерку, но теперь этот ужасный наряд почему-то смотрелся настоящим свадебным платьем.
Дамам, кажется, было наплевать, что Катерина вышла замуж и они приглашены в дом ради этого события. Говорили только о Ленине и каких-то его новых декретах. Элеонора была очень далека от темы беседы, и новобрачная, кажется, теперь тоже. Она сидела на подоконнике, болтала ногами и мечтательно улыбалась, глядя куда-то в потолок.
– А что вы об этом думаете? – вдруг спросила Элеонору брюнетка, видно, решив быть вежливой.
–Не знаю. Я не политик, а операционная сестра. Если бы у меня и было какое-то мнение, вряд ли оно покажется вам интересным.
– Почему? Мы как раз выражаем мнение операционных сестер и прочих честных тружеников. – сказала брюнетка с сердечностью, показавшейся Элеоноре напускной, – а тебе, Катерина, замечание. Ты отвечаешь за медицину, почему допускаешь подобную инертность? Срочно исправляй!
Женщина засмеялась, но ее не поддержали. Всем известно, что подобные шутки очень быстро становятся политическими обвинениями.
– Теперь уж кто-то другой будет исправлять мои недочеты, – протянула Катерина задумчиво, – я ухожу со службы.
– Как? – воскликнули женщины в один голос.
Катя притворно вздохнула:
– Приходится. Моя дальнейшая служба будет выглядеть как семейственность.
– Переведись на другую должность.
– Бесполезно. Сергей занимает такой пост, что я нигде не смогу избежать служебных отношений с мужем.
– Должен быть выход, – сказала брюнетка растерянно, – какая из тебя домохозяйка, Кать?
Та только пожала плечами.
– Нет, правда! Ты так горячо боролась за свободу женщины ради того, чтоб самой попасть в капкан? Так вот что я тебе скажу: никакой заслуги нет освободить несчастную одинокую женщину. Ей ведь все равно нечем заняться, и от злобы и тоски она наворотит таких дел, что лучше бы сидела дома. А вот доказать счастливой жене и матери, что она полноценный член общества и может горы своротить, а не только варить обед и стирать пеленки, это дорогого стоит!
– Ну, когда я докажу это сама себе, то вернусь и сворочу чего-нибудь… А пока считаю, что принесу больше всего пользы, если создам Сергею наилучшие условия для работы. Чтобы он думал только о делах и ни о чем больше мог не беспокоиться.
Тут поднялась немолодая приземистая женщина с учительским пучком на затылке.
– Вот так вот, – сказала она прокуренным голосом, – что за смысл воспитывать в женщине революционера, если ее мировоззрение полностью меняется после ночи любви?
Она хрипло засмеялась и приобняла новобрачную.
– Но любовь слишком хлипкая опора. Сегодня есть, завтра нет, – заявила брюнетка, – нужно уметь наслаждаться ею, но не зависеть от нее.
Этого Элеонора уже не выдержала:
– Пожалуйста, давайте не будем сегодня убеждать новобрачную в эфемерности любви.
Они довольно мирно попили чаю, и при первом удобном случае Элеонора стала прощаться.
– Я вообще хотела поговорить с тобой наедине. Правда, эти спорщицы не скоро разойдутся…
Подумав немного, Катерина взяла из комода ключ и открыла комнату Архангельских:
– Здесь побеседуем, пока они Троцкому кости перемывают. Давай, устраивайся на диванчике.
Элеонора заметила, что ничего не изменилось в обстановке с тех пор, как она была тут последний раз.
Усадив ее на диван, Катерина сходила за чаем и папиросами.
– Сергей сказал, что Константин Георгиевич просил позаботиться о тебе, а его просьба для нас свята.
– Спасибо.
– Сергей очень хороший человек, но он всего лишь мужчина и не понимает, что забота – это не только помощь. Прости, я, может, путано говорю, но человек не должен быть один. Должны быть люди, с которыми он может поделиться своим горем. Вот мы с Сергеем именно такие люди для тебя. И не только потому, что Воинов просил. Точнее, вообще не потому. Мне ты жизнь спасла, а Сереге просто нравишься.
– Спасибо, – повторила Элеонора.
– А, да брось ты эту чопорность! Я вижу, после того как тебя выпустили, ты ходишь, будто в воду опущенная. Что случилось с тобой?
Элеонора пожала плечами:
– Ничего. Подержали, не нашли доказательств вины и выпустили.
– Да?
– Да.
– Не хочешь рассказывать?
– Мне казалось, что я держу себя в руках и выгляжу достойно. Неужели это не так? – обеспокоилась Элеонора.
– Нет, выглядишь нормально, но я помню, какая ты была до ареста. У тебя глаза потухли. Расскажи, в чем дело. Я знаю, что ты думаешь. Мол, если бы она мне такое рассказала, я бы ничего не смогла придумать, как ей помочь, значит, и она не сможет, так какой смысл говорить, верно?
Элеонора только покачала головой и, чтобы скрыть замешательство, взяла папиросу. Катерина словно прочитала ее мысли.
– Так вот есть смысл. Даже просто рассказать, и то станет легче на душе. А потом, вдруг есть способ, о котором ты не знаешь, а я знаю?
– Нет такого способа.
– Ну хорошо, тогда я тебе расскажу.
– Вы не обязаны мне исповедоваться.
– А я вот хочу, потому что доверяю тебе! Можно? – не дожавшись ответа, Катерина продолжала: – Я рано осталась сиротой и воспитывалась в доме двоюродной сестры, которая была много старше. Так вот, не вдаваясь в подробности, скажу, что пятнадцати лет меня совратил ее муж.
– О боже! – Элеонора взяла Катерину за руку.
– Да, было такое дело. Сначала упрашивал, потом угрожал, а после взял силой.
От сострадания Элеоноре стало почти физически больно. Неужели Кате пришлось пережить то же самое, что и ей? Да нет, ей, пожалуй, было много хуже, ведь она была еще совсем ребенком…
– Наутро я убежала из дома. Помню, ходила по набережной возле Исаакиевского собора и думала, что жизнь кончена. Это смешно, но я до сих пор там бывать не могу, сразу воспоминания накатывают. Наверное, я утопилась бы в конце концов, но меня подобрала одна женщина, отвела к себе, чаем напоила. Я тоже ничего не хотела рассказывать, а потом решилась, и, знаешь, сразу будто кол какой-то из сердца выдернули. Не то чтобы сильно легче стало, но я поняла, что могу жить дальше.
– Господи, как же вы справились…
– Ты знаешь, я в бога не верю, но сколько проживу, столько и буду молиться за мою спасительницу! Страшно подумать, что бы со мной сталось, если б не она! Про таких, как я, говорят «испорченная», и знаешь, это очень точное слово. Будто гнить начинаешь изнутри, все меняется, искажается, что ли. Без ее поддержки я бы домой вернулась и стала бы тайно жить с этим негодяем или в шлюхи подалась бы, но ничего хорошего со мной не случилось бы, это точно. А она меня приютила. Ходила к моей сестре, рассказала ей все, говорит, давайте думать, что дальше делать. И угадай, как отреагировала моя дорогая родственница? Заявила, что больше не желает видеть эту развратную тварь, причем имела в виду она отнюдь не своего мужа.
Катерина невесело засмеялась, а Элеонора только погладила ее по руке. Сердце ее разрывалось, но она не находила способа передать свое сочувствие.
– Помню, я тогда первый раз задумалась о рабском положении женщины. Не о физическом угнетении, а о ее рабской душевной зависимости от мужчины. И я инстинктивно поняла, что если хочу сохранить себя после того, что случилось, я должна бороться, стать не просто обесчещенной девушкой, а свободной личностью. Моя спасительница оказалась большевичкой и горячо поддержала это стремление. Я стала жить у нее и сразу включилась в партийную работу. Сначала мне давали мелкие поручения, потом, года через два, я стала уже выступать, женский вопрос был для меня всегда приоритетным. К сожалению, женское сознание за много веков добровольного рабства настолько извратилось, что многие меня просто не понимают и думают, будто я призываю к распущенности.
Элеонора потупилась и ничего не сказала.
– Ты злишься из-за Ланского до сих пор? Но поверь, я не знала, что вы возлюбленные. Мне показалось, вы просто друзья. А я увлеклась, так глупо. Видишь ли, после случившегося я боялась мужчин. Боялась пойти по рукам. Раз больше нечего беречь, то можно с одним, потом с другим, а потом и не заметишь, как окажешься в рабстве худшем, чем то, из которого хотела вырваться. В общем, все товарищи по партии были для меня только товарищами. И самое противное, что некоторые знали о том, что меня изнасиловали.
– Как это? – Элеонора аж вскочила от изумления. Сколько надо сил, чтобы жить среди людей, знающих о твоем позоре, говорить с ними, смотреть в глаза?
– Ну, моей покровительнице надо было объяснить, кто я такая и почему у нее живу. Сначала я сердилась, что она рассказала, а потом поняла, что так лучше. Если бы мы с ней хранили это в тайне, то мне бы до сих пор было стыдно, а так все знали и сочувствовали. Не отворачивались, не краснели, а прямо говорили, как я ужасно пострадала и что, когда большевики придут к власти, подобные издевательства над детьми станут просто невозможны. Благодаря этой поддержке я поняла, что не виновата, а это очень важно.
Тут из коридора донеслись крики. Гостьи, о которых Элеонора совершенно забыла, звали Катерину.
– О, неужели наговорились? Ну ничего, Серега оставил мне бутылку вина, сейчас я поставлю ее на стол, и девчонки снова обо мне забудут. Подожди минутку.
Катерина вышла, плотно закрыв за собой дверь. Лучше всего потихоньку улизнуть, но Элеонора продолжала сидеть на диване. Бедная парторг… Получить такой удар в самом начале жизни… Но она выстояла и боролась. А теперь встретила свою любовь, но сколько ей пришлось пережить… Как все же беззащитна женщина! Насилие может не оставить следа в теле, но разрушает душу.
Хорошо, что Катя восстановилась и снова научилась радоваться жизни, но Элеонора чувствовала, что сама никогда не сможет этого сделать.
– Все идет по плану! При виде бутылки они немедленно забыли о моем существовании, – коротко усмехнувшись, Катерина повернула ключ в замке. – Это так, дополнительная предосторожность. Хочешь вина?
– Нет, спасибо, я не пью.
– Я тоже, если честно. Ну, если я тебе еще не очень надоела, слушай дальше. Я увидела Алексея, и он мне показался таким интересным… А главное, он был из другого мира и ничего обо мне не знал, понимаешь? Не знал, что я пострадала, что меня нужно жалеть и оберегать. В общем, глупость я сделала несусветную! Вроде не дура и знаю жизнь, а повела себя, как институтка! Она его за муки полюбила, что за идиотизм! Как только я себя не ругала потом… Прекрасно знаю все эти ловушки, а все равно попалась, свободная женщина!
Ничто не шевельнулось в душе Элеоноры. Пришлось напоминать себе, что Катерина говорит сейчас об ее первой любви, о мужчине, ради которого она готова была и жить, и умереть. Парторг рассказывала, как Алексей поселился у нее и как быстро улетучилось очарование влюбленности. Она поняла, что увлеклась пустым и скучным человеком, который к тому же ее не любит. Он пошел на эту связь, так как видел в ней выгоду. Так же, как в свое время ответил на влюбленность Элеоноры.
Теперь трудно было представить, что любовь к Алексею действительно жила в ее сердце, заставляя то обмирать от восторга, то падать в бездну отчаяния. Какими глупыми казались сейчас ее тогдашние переживания! А может быть, то, что произошло с ней во время ареста, это наказание за грех? По крайней мере, логично: не берегла своей невинности, так и получи. А раз это заслуженное наказание, то его нужно с благодарностью принять, вот и все.
– Мне было с ним так скучно, что я поступилась принципами и нашла ему работу переводчика, лишь бы он только отвязался! Удивительно пустой человек.
По длинной паузе Элеонора поняла, что от нее ждут какого-то ответа.
– Вероятно, вы правы.
– Я решила, что любовь вообще не для меня. Одиночество – вот настоящая свобода. А тут вдруг Костров! – Катерина засмеялась.
– Скажите, а он знал? – вдруг спросила Элеонора и тут же рассердилась на себя за неуместное любопытство.
– Знал. Он состоял в одном кружке с моей спасительницей. С тех пор прошло почти десять лет, тогда Сергей был совсем молодым парнем, но именно он набрался мужества поговорить со мной. Моя спасительница очень хорошая и добрая женщина, но она была старой девой и ничего не понимала в половых отношениях. Только теоретически знала, что это ужасно. А Костров объяснил мне все как есть, благодаря тому разговору я не возненавидела всех мужчин на свете и, что еще важнее, не возненавидела саму себя. Поэтому я не понаслышке знаю, как это важно – говорить.
– А дальше?
– А что дальше? Я тогда была для него ребенком. Когда выросла, стала надежным товарищем. Много всего нам пришлось пережить… Он же долго подпольщиком был, а я у него связной. Считай, он мне жизнь свою доверил. И я не подвела, – улыбнулась Катерина, – я думала, что он хоть и прекрасный человек, но все же мужчина и не чужд мужских предрассудков. Раз он обо мне такое знает, то я для него бракованный товар, порченое яблочко. Товарищ – да, а как женщина просто не существую. Как говорил князь Андрей, падшую женщину нужно поднять, но почему именно я должен это делать?
Элеоноре стало стыдно. Она всегда считала Катерину невежественной особой, а главное, сама прочла роман только месяц назад.
– Одно время я думала, что Сергей в тебя влюблен. Даже ревновала, что ли, – улыбнулась собеседница, – но ты мне все равно нравилась!
Катерина вдруг поцеловала Элеонору. Все же главное качество большевиков – бесцеремонность. Они никогда не спрашивают, нравятся тебе их действия или нет.
– А оказалось, Сергей давно меня любит, но боялся сказать. Думал, я соглашусь из ложного чувства долга или попрошу перевода в другой город, если откажу… В общем, так бы и не признался, не разругайся мы насмерть по политическим вопросам. Орали-орали и не заметили, как стали целоваться! Ах, Элеонора, как хорошо, что мы с тобой поговорили, – Катерина засмеялась и легонько боднула ее в плечо, – у меня так на душе спокойно стало, не описать словами! Счастье, оно тоже требует выхода.
– Я очень рада за вас с Сергеем Антоновичем и желаю вам оставаться такими же счастливыми, как сейчас. Хоть вы и атеисты, но я буду молиться за вас.
– Спасибо… Но я должна тебе признаться, – вдруг тихо сказала Катя, – когда с девушкой происходит то, что случилось со мной, что-то умирает навсегда. Я даже не знаю, что это такое, но что-то очень хорошее. И я боюсь, что этого Сергею будет не хватать больше, чем мне…
Повинуясь внезапному порыву, Элеонора обняла парторга и провела ладонью по ее мягким волосам.
– Вы справитесь, – прошептала она.
От сочувствия она почти забыла о своей беде. Не то чтобы стало легче узнать, что она не одинока, но по крайней мере Элеонора поняла, что отчаиваться стыдно.
Глава 18
Стоял прекрасный весенний день, солнце, редкий гость, заливало двор-колодец и обычно темную комнатку Элеоноры. В такую погоду стыдно сидеть без дела, и она решила помыть окно. Две недели назад она делала генеральную уборку перед Ппасхой, но на стеклах уже осела городская копоть.
Стоя на подоконнике, она терла створку старой газетой и с удовольствием слушала, как та скрипит по чистому стеклу. То ли солнечные лучи были виноваты, то ли весенний воздух, то ли приятная работа, но Элеонора вдруг поймала себя на том, что напевает какой-то простенький мотив.
Хороший денек и радость на душе… Взглянув вниз, она вдруг увидела знакомую фигуру. Присмотрелась – неужели Саша? Привыкшее к плохим новостям сердце екнуло, но сегодня был такой особенный день, что Элеонора забыла о приличиях и окликнула подругу, перегнувшись через подоконник.
Саша помахала ей, Элеонора послала воздушный поцелуй и побежала открывать дверь.
Ждать пришлось очень долго, Саша поднималась медленно и с сильной одышкой. Услышав ее тяжелое дыхание, Элеонора выругала себя за несообразительность – надо было спуститься на улицу.
Подруга выглядела очень плохо. Далекому от медицины человеку могло бы показаться, что Саша пополнела, но Элеонора видела, что это отеки, а на самом деле женщина истощена. Немудрено, ведь почти всю беременность она провела впроголодь.
– Сашенька, какой приятный сюрприз, – улыбнулась она, пропуская подругу, – только тебе, наверное, уже тяжело совершать такие путешествия? Ты бы позвонила мне на службу, я бы сама с большой радостью тебя навестила.
Саша только покачала головой.
– Прости, у меня тут кавардак. Садись, отдыхай, я сейчас все уберу. Может быть, хочешь прилечь?
Подруга жестом остановила ее. Стул в комнате был один, и Элеонора устроилась у Саши в ногах, на краешке своего матраса.
– Я должна тебе сказать одну важную вещь, – сказала Саша медленно, – это очень важно. Мне скоро рожать, и я чувствую, что непременно умру.
– Саша, какой вздор! Ты родишь здорового малыша и останешься жива. Это обычные страхи беременных женщин, и пройдет совсем немного времени, как ты над ними посмеешься.
Подруга мягко улыбнулась в ответ:
– Милая, ты забываешь, что у меня есть опыт. Ни с Ванечкой, ни с Соней я не думала ничего подобного.
– Тогда время другое было. Никто не голодал. Совершенно естественно, что в этот раз беременность не могла протекать так же безмятежно, как раньше. Организм истощен, вот тебе и приходит в голову бог знает что! Ты здоровая крепкая женщина, все будет прекрасно.
– Дай бог, конечно, но я все же должна тебе признаться. Не хочу с таким грехом на совести новую душу на свет пускать, – голос Саши дрогнул, а глаза наполнились слезами. Элеонора ничего не сказала, только обняла ее колени. Почему она никогда не находит нужных слов? Ни в последнем разговоре с Катериной, ни сейчас.
Саша похлопала ее по плечу. Неожиданно показалось, что вернулось прошлое, и она снова юная смолянка, вдруг оказавшаяся в пугающем и завораживающем мире операционной, а Саша – ее заботливая наставница.
– Милая моя девочка, – произнесла Саша грустно, – ты льнешь ко мне, а я не имею права на твою ласку. Это же я донесла на тебя…
Элеоноре очень хотелось, чтобы эти слова никогда не были сказаны. О предательстве Саши она догадалась бы сама, если бы строго-настрого не запретила себе думать о том, кто сдал ее и Архангельских. В сущности, у нее было так мало близких людей, что, кроме Саши, и подозревать-то некого… И все же очень грустно об этом узнать.
– Ничего, – тихо сказала она, не меняя позы, – ничего.
– Ты не прогонишь меня?
– Бог с тобой, нет! Сейчас такое время…
– Милая моя! – Саша заговорила горячо и быстро. – Если бы ты знала, как тяжело мне досталось счастье! Столько лет любить украдкой, втихомолку! Знать, что мы ничего плохого не делаем, и каждую минуту ждать презрения и позора… Делать вид на людях, что мы едва знакомы, и расставаться каждый вечер… Мы любили друг друга больше лет, чем вместе провели ночей! И тут вдруг такой поворот, когда я уже перестала надеяться. Эля, я ведь просто человек и просто хотела жить!
Элеонора кивнула. Люди склонны персонифицировать зло, назначать главного злодея и возлагать на него ответственность за все творящиеся вокруг безобразия. А может быть, все гораздо проще? Может быть, Ленин, Маркс и кто там еще не так уж виноваты? Они указывают цель, а пулю выпускают просто люди, которые просто хотят жить…
Но этого она, конечно, не сказала беременной женщине.
– Все хорошо, Сашенька.
– Не думай, я не была штатной осведомительницей, – сказала Саша так, будто это имело какое-то значение, – но раз новая власть поверила Николаю, он же должен был оправдать доверие?
– Да, безусловно.
Элеонора поудобнее устроила голову у Саши на коленках, а та, не почувствовав иронии, продолжала свой рассказ о том, как они решили жить законопослушными людьми и выполнять все прихоти власти, которая так много им дала. (Какой рабский взгляд, вскользь подумалось Элеоноре. Шварцвальду новая власть дала гораздо меньше, чем отобрала, а Саша рада подачкам.) Прежний круг знакомых барона выходил в устах Саши толпой жадных попрошаек, которые только и делали, что обивали порог новобрачных с разными неудобными просьбами. «Ты представляешь, Эля, каковы эти аристократишки, особенно бабы! Одна, генеральша Сугробова, такая стерва… Помню, мы как-то с Николаем гуляли в Таврическом саду и ее встретили. Он имел глупость меня представить, мол, Александра Титова, лучшая сестра милосердия в Клиническом институте. Что такого, не сказал же: вот моя любовница, прошу любить и жаловать. Все прилично, сослуживцы вышли после работы воздухом подышать. А эта старая сволочь так меня смерила взглядом, и через губу: ах, милый барон, простите, я не расслышала, что вы сказали. И дальше посеменила. Показала, что я для нее хуже грязи. Зато как прижало, сразу к нам приползла: дорогой барон, спасите! Устройте моего сына на службу, не дайте погибнуть голодной смертью. Нет, ты понимаешь, ты, специалист мирового класса, отказалась от нашей помощи, потому что кумовство, а эта тварь на голубом глазу сует нам сына-балбеса, хотя прекрасно знает, что за такого работника никто спасибо не скажет. Ну, тут уж я пошла на принцип! Говорю: ах, простите, мы с милым бароном не расслышали, что вы сказали!»
Элеонора невольно улыбнулась. Очень заметно было, что радость мщения перевесила все остальные чувства у Саши, в том числе стыд за предательство. Что делать, такие мелкие обиды действительно ранят больнее всего и прощаются труднее настоящих оскорблений. Можно было заметить, что выходка Сугробовой ничего не изменила в Сашиной судьбе, а вот Сашина месть действительно поставила целую семью на грань выживания. Таков уж закон жизни: сделанная тобой мелкая пакость вернется к тебе огромным злом, но большое зло, скорее всего, останется безнаказанным.
Странно, но она совсем не сердилась на Сашу. Ни гнева, ни разочарования, только брезгливое сочувствие. Даже мысль, что именно по вине бывшей подруги с ней случилось то, что случилось, не ранила. Не Саша, так кто-то другой, но обязательно донес бы.
– Я говорила Николаю, что не нужно связываться с этой перепиской, – продолжала Саша, – уже его поручительство было глупостью, и как только Архангельские вернулись, следовало разорвать знакомство. Мы при чем, что у них дочь за границей? Вообще интересно получается: моя судьба никогда никого не интересовала, а теперь я почему-то должна за всех переживать! У меня дети в конце концов, в первую очередь я должна о них думать. Поэтому, когда со мной встретился один сотрудник, якобы для дружеской беседы, я рассказала о письмах от Лизы. Только я сказала, что вы напрямую получали их из Красного Креста.
Элеонора тускло подумала, что это было глупо и недальновидно. На первом же допросе могла всплыть роль барона в этой переписке. Но потом поняла, что Саша, предавая своих старых друзей, сама доверяла им безусловно и знала, что они никогда не покажут на Шварцвальда. Парадокс и ирония судьбы.
Не исключено, что Саша действительно оказала Архангельским услугу. Для Элеоноры все сложилось наихудшим образом, но, как знать, вызволил бы Костров дядю с тетей, арестуй их ЧК на год позже? Он бы тогда переехал в подходящую по статусу квартиру и ничего не знал бы об их судьбе. Или обвинение было бы другим, и он ничего не смог бы сделать. В конце концов Сергей Антонович сам не застрахован от ареста. Подумав так, Элеонора быстро постучала по ножке стула, тьфу-тьфу-тьфу.
– Сашенька, а можно послушать малыша?
– Ну конечно! – она растроганно улыбнулась.
Элеонора осторожно приникла ухом к Сашиному огромному животу, положила на него ладони и замерла. Где-то совсем рядом быстро-быстро билось маленькое сердечко, а вскоре она почувствовала, как младенец двигается, устраиваясь поудобнее в своей естественной колыбели. Это было чудесно и непостижимо: вот он, ребеночек, совсем рядом, под руками, и в то же время далеко, еще в другом, неведомом мире.
– Так ты меня прощаешь?
– От всего сердца, Сашенька!
Проводив бывшую подругу, Элеонора прислушалась к себе. Нет, она действительно не сердилась, напротив, душа наполнялась давно забытым радостным чувством, почти как в юности. Стоя на подоконнике, она вдруг поймала себя на том, что напевает в такт скрипу газеты по стеклу. Она думала о малютке, которому вскоре предстояло появиться на свет. Саша обещала сделать ее крестной матерью, значит, она сможет ласкать его и нянчить. Снова и снова она вспоминала, как ребенок толкался прямо ей в ладошки, и чувствовала почти болезненную нежность. Это было похоже на снятие жгута, когда кровь вновь устремляется в онемевшую конечность, вызывая сначала покалывание, а потом настоящую боль. Но человек с удовольствием ее терпит, потому что знает: он оживает.
Вероятно, это неправильно. Она должна возненавидеть Сашу или хотя бы презирать, не за себя, так уж за Архангельских обязательно. Костров как-то цитировал при ней Ларошфуко, и Элеонора запомнила почти дословно: люди не только забывают благодеяния и обиды, но даже склонны ненавидеть благодетелей и прощать обидчиков. Необходимость отблагодарить за добро и отплатить за зло кажется им рабством, которому они не желают покоряться.
Похоже, она служит прекрасной иллюстрацией к этой цитате. Простила Сашу, а с Константином Георгиевичем поступила так ужасно грубо…
Если бы она только знала, как с ним связаться! Специально ради этого она навещала Катерину, которая стремительно деградировала из партийной мадонны в милую и нежную женщину, но никаких новостей не было. Наверное, Воинов уже забыл о ней, и трудно его за это винить.
Она вздохнула и хотела погрустить, но тут в мысли снова вторгся малыш и все перепутал, оставив только теплое чувство нежности.
Через две недели ее вызвал нарочный от Шварцвальда. Саша была очень плоха и хотела ее видеть. Элеонора в минуту собралась и побежала к Шредеру, думая только о том, что жизнь роженицы под серьезной угрозой, раз к ней пускают посетителей.
Но дальше маленького темного вестибюля она не попала. Саша была в агонии и уже никого не узнавала.
Элеонора опустилась на низкую скамеечку. Разглядывая черно-белую плитку на полу – вдруг в пересечениях щербинок и трещинок поступит осмысленная картинка, – она ругала себя за равнодушие. Умом ей очень жаль Сашу, и такая несправедливость, что она умирает именно сейчас, когда жизнь только-только наладилась. Она ведь еще молодая женщина, ей же слегка за тридцать.
Она заставляла себя принять эти горестные мысли, но душа ее так тревожилась за судьбу малыша, что почти не скорбела об умирающей подруге. Это было очень дурно, но Элеонора ничего не могла с собой поделать.
Стремительно прошел профессор, с тем особым выражением сосредоточенности, которое врачи принимают только перед родными умирающих. По его сжатым губам Элеонора поняла, что надежды нет.
Если бы она могла участвовать в борьбе за Сашину жизнь! Хотя бы делать самую простую работу, хоть пол мыть, все лучше, чем это тягостное ожидание… Но в роддоме очень строгие санитарные правила, ей, конечно, не доверят никакой работы.
Как бы узнать про малютку? Техничка, пожилая крепкая баба в халате с завязками на спине и тугой косынке, смотрелась неприступной. Работая в академии, Элеонора изучила этот человеческий подвид и понимала, что обращаться к ней бессмысленно. В лучшем случае ей нагрубят, а в худшем – выпроводят из вестибюля.
Следовало «не терять надежды» и «молиться», по крайней мере, именно так она всегда говорила взволнованным родным, если те ловили ее при выходе из операционной. Такие ситуации нечасто, но бывали, если у врача недоставало душевных сил самому поговорить с близкими.
Она помолилась, злясь на себя за то, что у нее получается бездушно и фальшиво, наверное, не много Саше толку от такой молитвы. Господи, это не потому, что я сержусь! Я честно простила ей предательство, и Ты, пожалуйста, прости!
Ах, лишь бы только ребенок выжил! Какие нехорошие, унизительные для Саши мысли! Словно она уже отработанный материал… Нет, ни в коем случае нельзя так думать!
Вдруг вспомнилось, как они принимали роды с Воиновым. Она была такая молодая и глупая, даже смешно. Волновалась только о стерильности, чтобы не попало никакой заразы, и совершенно не думала о тех смертельных опасностях, которым подвергается женщина в родах. Теперь стыдно вспоминать, как она пыталась приструнить Константина Георгиевича, сходившего с ума от беспокойства. Да уж, невежество – мать решимости. Если бы она тогда знала столько, сколько он… То, собственно, что тогда? Помощи им все равно ждать было неоткуда. Удивительно, как тогда Воинов взял себя в руки, войдя к роженице, он просто излучал уверенность в себе и в благополучном исходе дела. Казалось, для него нет дела привычнее, чем принимать роды, между тем он учился на военного хирурга, и акушерство было не самой актуальной дисциплиной.
Мысли улетели слишком далеко, сейчас нельзя отвлекаться от судьбы Саши и маленького. В кармане лежала полупустая пачка папирос, Элеонора не курила, но таскала ее с собой на экстренный случай. Кажется, сейчас именно такой случай, но вдруг ее не пустят обратно, если она выйдет покурить. В глазах технички читается не то чтобы злость, а желание реализовать свое право «не пущать».
Наконец вышли барон с профессором. Шварцвальд с совершенно опрокинутым, пустым лицом машинально помог доктору снять халат. Элеонора услышала страшное, как звяканье инструментов, слово «эклампсия». Со своего места она не разбирала, что говорит профессор, но по виду барона все было ясно.
Он придержал профессору дверь, а сам вернулся и тяжело сел рядом с Элеонорой. Выйти на улицу – значит окончательно признать, что Саши больше нет…
Некоторое время они сидели молча, потом Элеонора заставила его подняться и вывела на улицу.
Стояла прекрасная ясная ночь, небо погасло, но не потемнело, с набережной глухо доносился шум автомобилей, а здесь было совсем тихо. Неожиданно буйно цвел куст жасмина, казавшийся серебряным в прозрачных сумерках. Аромат его побеждал городские запахи. Недавно прошел дождь, мостовую покрывали матовые лужи, в которых можно было увидеть свою судьбу, но не отражение.
Элеонора протянула Шварцвальду свои папиросы. Он дико взглянул на нее, потом опомнился, достал спички. Элеонора глубоко вдохнула горький дым и внезапно поняла, что Саши больше нет. Она никогда не почувствует вкус дыма, не увидит этого жасминового куста. Теперь для нее нет ни белых ночей, ни любви, ни предательства…
Элеонора зажмурилась и очень громко подумала: я простила ей, все простила!
– А как малыш? – осторожно спросила она.
Барон ответил не сразу, будто не понял, о ком идет речь:
– А, малыш… Мальчик, три кило. Не слишком большой вес, но вы же знаете, как Сашенька питалась всю беременность. С ним все хорошо, судороги начались уже после родов. Элеонора, могу я попросить вас пойти со мной? Нужно как-то сказать детям…
– Да, пойдемте.
Шварцвальд поморщился и, кажется, заплакал, но на улице этого было, слава богу, не разглядеть.
– Ох, я не думал, что такое может произойти… Будто почву из-под ног… Вы уж меня простите, но я совершенно растерян. Как жить дальше? Что делать?
«Как тебе дальше жить, я не знаю, а что делать, как раз понятно», – вдруг жестко подумала Элеонора и потянула барона за рукав.
Десять дней ребенок провел в роддоме, и за это время Элеонора полностью оборудовала детскую комнату, перестирала и перегладила пеленки и прочее бельишко. Похоронами занимался барон, он же нашел няню через тех немногих своих великосветских знакомых, которые от него не отступились. Это оказалась мощная женщина средних лет, послужной список которой восхитил бы любого чекиста. Анастасия Васильевна, так звали няню, и не скрывала, что барон для нее – шаг вниз по карьерной лестнице. Впервые войдя в дом, она устроила Элеоноре настоящий экзамен, пересчитала все детское приданое и осмотрела все углы на предмет пыли, которая губительна для легких младенца. Не найдя к чему придраться, она величаво улыбнулась Элеоноре, будто та была неопытной горничной.
Нужно было ее окоротить, но дотошность в работе всегда нравилась Элеоноре, поэтому она сделала вид, будто раздавлена няниным авторитетом.
Женщины быстро поладили. Как-то незаметно, еще до того, как забрали малыша из роддома, Элеонора стала называть Анастасию Васильевну нянюшкой и удивлялась, как приятно ей произносить это слово. Сколько себя помнила, детство ее прошло в холоде и равнодушии казенного попечения.
Шварцвальд был совершенно раздавлен горем, удивительно, как еще мог заниматься похоронами. Ему казалось очень важным, чтобы Саша упокоилась в фамильном склепе на Смоленском кладбище, и в этих хлопотах барон, кажется, не помнил, что у него родился сын.
Старшие дети тоже не проявляли интереса к малышу. Они очень горевали по матери, но при этом жили какой-то своей отдельной жизнью, целыми днями пропадали в школе. Не все было ладно в этой семье, понимала Элеонора. Несмотря на почти пугающее внешнее сходство с бароном, Соня и Ваня считали себя детьми первого Сашиного мужа. Она благоразумно не открыла им правду, зачем детям знать, что их мать – изменница, а сами они прижиты в грехе. Барон мог бы их усыновить, когда женился, но не сделал этого, очевидно, не желая портить биографию детей таким ужасным происхождением.
Так или иначе, но дети считали Шварцвальда чужим человеком, чужим и по крови, и по социальному признаку. Они очень увлекались революцией, готовились вступить в комсомол и искали утешения там, среди товарищей, а с бароном едва здоровались.
Пока он был мужем матери, его терпели, но с ее смертью необходимость соблюдать приличия отпала. Кажется, они считали Шварцвальда виновником ее гибели – если бы не эта беременность, мать бы сейчас была жива и здорова. И самое грустное, что сам барон тоже так думал…
Каждый был сам по себе, после похорон в квартире воцарилась гнетущая тишина. Шварцвальд вернулся на службу, пытаясь забыться в делах, дети тоже приходили только ночевать.
Нянюшка, привыкшая к совсем другой, радостной атмосфере, которую всегда создают вокруг себя дети, пугалась, и умоляла «Нюрочку» не оставлять ее одну в этом мрачном доме. Маленькая, но решительная Соня несколько раз так цыкнула на нее, что все величие няни куда-то испарилось. Впрочем, требовать от юной девушки, чтобы она оставила свои дела и посвятила жизнь маленькому брату, было бы несправедливо и неправильно.
Поэтому «Нюрочка» отправилась на поклон к своей старшей, чтобы та перевела ее на суточный режим.
Элеонора точно знала, что для старшей это даже лучше, чем для нее самой, но безропотно выслушала тираду о том, что на работе нужно думать о работе и о том, что хорошо для работы, а не для сотрудницы. Но она очень милосердная начальница, поэтому сделает это одолжение поистине космических масштабов и удовлетворит просьбу Элеоноры, хоть та ничем не заслужила столь хорошего отношения.
Глава 19
Так началось самое счастливое время в жизни Элеоноры. Она поехала забирать малыша вместе с бароном, и, как только увидела крепкий тевтонский носик, выглядывающий из пены кружев, сердце сжалось от нежности. Барон нес драгоценный сверток, казавшийся таким маленьким и хрупким в его руках, а Элеонора семенила рядом, ежеминутно поправляя ажурный уголок.
Дома ребенка передали няне, та очень ловко его развернула, и Элеонора с умилением разглядывала крошечные пальчики и круглый животик. Малыш махал ручками и ножками, и в каждом движении ей виделся глубокий смысл.
Потом няня сделала несколько неуловимых пассов, и ребенок вдруг как по волшебству оказался спеленутым. Видя, с какой жадностью Элеонора смотрит на малыша, Анастасия Васильевна положила его ей на руки и дала бутылочку. Потом, кряхтя, наклонилась и подсунула ей под одну ногу маленькую скамеечку.
Элеонора сидела, боясь пошевелиться, и смотрела, как малыш сосредоточенно сосет, насупив бровки (да, у него были бровки, если приглядеться), и чувствовала, что прежняя жизнь уходит, отмирает, и все начинается заново с этой минуты.
Больше всего ей хотелось знать, что ее объятия защитят малыша от всех напастей. Чтобы все они застревали в ее теле и не могли причинить ему никакого вреда.
– Вы как мадонна с младенцем, – сказал Шварцвальд безрадостно и ушел к себе.
Ребенка назвали Эриком, это было родовое имя Шварцвальдов, но записали Эрнстом, как одного из этих уголовников – пролетарских вождей. Понятно, что это было просто совпадение, Эрнст Николаевич звучит гораздо лучше, чем Эрик Николаевич, тем не менее тут же возникли слухи, что барон сбрендил капитально и в угоду большевикам дал ребенку революционное имечко.
В день крещения Эрика погода внезапно испортилась. Небо заволокло сплошными серыми тучами, и, как только они вышли из дому, воздух наполнился мелкими каплями дождя. Барон раскрыл зонт над Элеонорой, несшей ребенка на руках, но это не помогло.
Она испугалась, что малыш простудится, и сделала что-то вроде навеса из своей жакетки, сняв ее с одного плеча.
Никого не было вместе с ними. Соня с Ванечкой, истовые комсомольцы, отказались идти в церковь, впрочем, барон их даже не просил.
Бедный Шварцвальд вообще оказался в сложном положении. Он вращался сейчас в обществе вероотступников, которые или искренне отринули православие, или же усердно изображали из себя атеистов. Первых приглашать на роль крестного отца было бессмысленно, а вторых по меньшей мере неловко. Открыто посещать церковь и тем более принимать участие в религиозном обряде слишком рискованно.
По этой же причине барон не хотел подвергать опасности никого из своего прежнего круга. Он даже Элеонору отговаривал, мол, и так будет считать ее крестной матерью Эрика, но она сказала, что раз директор Клинического института может посещать церковь, то может и она. Саша сама назначила ее крестной матерью своего ребенка, и не о чем больше говорить. Была минута слабости, когда Элеонора думала, что Шварцвальд сам струсит и не станет крестить сына, и теперь она очень стыдилась своих подозрений.
Быстрым шагом они за четверть часа дошли до Спасо-Преображенского собора. Элеонора поразилась тишине, мелкий моросящий дождик гасил шум с Литейного проспекта, на паперти в этот ранний час совсем не было нищих, а может быть, их разогнала ЧК. Ветви растущих в некотором отдалении деревьев, еще полные зеленых листьев, склонялись совсем по-осеннему, и вороны каркали тревожно и пронзительно.
Было пасмурно и промозгло, и многие, наверное, усмотрели бы во всем этом какую-то аллегорию. Но Элеонора слишком любила малыша, чтобы предаваться лирическим мыслям и печальным обобщениям.
Она верила, что, несмотря на грустный день, на этих ворон и на все остальное, судьба Эрика сложится интересно и счастливо.
Ей вдруг пришло в голову, что она держит на руках будущее, живое, крепкое и горластое будущее, которое обязательно все изменит, повернет к свету и добру.
Та Россия, в которой она готовилась жить, погибла, тут ничего не поделаешь. Но рождаются дети, и они не будут жить в мертвой стране. Да, многое ушло безвозвратно, но будет что-то новое, что принесут в мир такие хорошие, такие любимые дети, как Эрик.
Люди приходят в мир и уходят, и миры рождаются и умирают, это в порядке вещей. Ей случилось умирать вместе со старым миром, а Эрику – родиться вместе с новым.
Элеонора улыбнулась и подумала, что сейчас не самый подходящий момент для философских размышлений. На душе вдруг стало радостно, слишком радостно для той миссии, к которой она готовилась приступить.
В соборе было тоже пусто, под высокими сводами стояла звенящая тишина. Пасмурный день почти не проникал сюда, теплый и отрадный огонек свечей освещал все вокруг. Их было мало, но тем ярче они горели.
Накануне Элеонора исповедовалась и причащалась, и она была немного шокирована той небрежностью, с какой батюшка дал ей отпущение грехов. Он стремительно простил ей Ланского, а когда она попыталась признаться в том, что было с ней в ЧК, он даже не дослушал, перебил ее, мол, она претерпела за веру.
Формальности оказались соблюдены, но от легкости, с которой ей простились грехи, Элеоноре было немного не по себе. Все священнослужители, которые не сняли с себя сана, а остались со своей паствой, несмотря на гонения, – настоящие мученики, и кто осмелится упрекнуть их за то, что соблюдают известную осторожность? Врачей же не упрекают, что они, работая в очаге эпидемии, моют руки и носят маски!
И все же она не чувствовала себя прощенной и, кажется, не почувствует никогда.
Шварцвальд подошел к свечнице, мрачной женщине неопределенных лет, замотанной в темные тряпки, и заплатил ей за крещение.
Вышел батюшка и ласково улыбнулся им. У него были удивительные лучистые глаза на простом лице с резкими неправильными чертами.
Он начал обряд, и Элеонора забыла обо всем, о своих несчастьях и переживаниях. Держа Эрика на руках, она выполняла все указания батюшки и чувствовала, как крепнет особая связь между ней и ребенком. Трудно было это объяснить, но когда она от имени Эрика отвечала: «отрекаюсь», ей казалось, что душа малютки в эту минуту открылась свету и добру.
Господь в великой милости своей никогда не оставит сердце человека без надежды и без смысла существования.
Этот человечек, лежащий сейчас так доверчиво на ее руках, воспринимающий все так спокойно и с таким важным видом, будто понимает, что происходит, он нуждается в ее заботах. Значит, надо жить и безжалостно гнать уныние и печаль, потому что детство должно быть радостным.
Теперь каждое утро Элеоноры начиналось с того, что она бежала к «молочной маме» и забирала бутылочку с грудным молоком. Еще по такой же бутылочке она забирала днем и вечером. Этого не хватало для полноценного кормления, приходилось давать смеси, их в женской консультации забирал Ванечка.
В квартире ее встречала нянюшка с Эриком на руках. Как бы рано ни приходила Элеонора, Эрик уже просыпался и хотел есть. Она быстро мыла руки, подогревала бутылочку на водяной бане до нужной температуры и садилась кормить. Она обожала эти минуты, когда малыш ел, с таким важным личиком, будто делал очень ответственную работу.
Как ни странно, его младенческие черты уже определились, она словно держала на руках сильно уменьшенную копию Шварцвальда. Порода есть порода.
Можно представить, каким он будет красавцем, когда вырастет!
Потом женщины собирали Эрика на прогулку, и Элеонора отправлялась с коляской в Таврический сад. Это место много значило для нее, так же как и Клинический институт, в котором находилась квартира барона. Здесь прошла вся ее юность, случилась первая любовь… Но теперь она была так поглощена Эриком, что почти не предавалась воспоминаниям.
Прохожие, наверное, думают, что она молодая мать, и иногда Элеонора действительно представляла, будто она настоящая мать Эрика. Это очень нехорошо, настоящая мать – Саша, только она умерла. А она почти не вспоминает о покойной, будто ее и не было, а Эрик появился сам по себе!
Элеонора честно заставляла себя скорбеть, но горе выходило таким вымученным и неискренним, что она оставила это занятие. Какая она все же холодная и равнодушная натура! Или до сих пор не может простить покойницу?
Нет, гнева в душе не было, но не было и настоящего прощения. Просто Саша стала для нее чужой. Если бы она выдала их секрет под пытками или под угрозой для жизни своей и детей, Элеонора не вычеркнула бы ее из своего сердца. Как-то она оказалась свидетельницей спора Воинова и Корфа. Корф сказал, что настоящий дворянин выдержит любые пытки, а Константин Георгиевич возразил: «Есть боль, которую вытерпеть невозможно. Человек очень изобретательное создание в мучении себе подобных, и дело тут не столько в вашей стойкости, сколько в безжалостности ваших палачей. Есть барьеры, которые трудно переступить, но если врагам нужно, чтобы вы заговорили, они заставят вас говорить. Поэтому единственный способ сохранить тайну – покончить с собой».
Но Саше ничего такого не угрожало, она сдала их ради сытой жизни, ради того, чтобы быть женой директора Клинического института.
Да и это ее признание… Это облегчение совести ничем не грозило Саше, самое страшное, что могло с ней случиться, – Элеонора выгнала бы ее. Но тогда она могла бы думать о ней как о «заносчивой аристократке, которая не понимает, что людям тоже надо жить. Что она себе возомнила, если княжна, то я за нее и умереть должна?».
И виноватой стала бы уже Элеонора, отвергшая чистосердечное раскаяние беременной женщины.
Господи, прости, что я думаю! Конечно, это был искренний порыв, я сама рассуждаю, как базарная торговка! Долой такие мысли раз и навсегда!
Какой бы Саша ни была, она родила Эрика! Не побоялась, пошла на риск, хотя силы ее были подорваны долгим голоданием. Вот о чем надо помнить, а об истории с доносом поскорее забыть, будто ее никогда не было. Саша просто наговорила на себя, потому что слегка помешалась, как все женщины перед родами. И когда Эрик немного подрастет, она будет рассказывать ему о маме, какая та была хорошая и добрая женщина. И какая красавица…
С прогулки они возвращались тихонько, стараясь не разбудить нянюшку. По ночам Эрик не давал старушке уснуть, плакал. Элеонора подозревала, что малыш просто хочет есть, но Анастасия Васильевна была непреклонна – ночью ребенку ничего, кроме воды, не полагалось. Элеонора думала: хорошо, что она из соображений приличий ночует дома, иначе не выдержала бы и обязательно втихаря накормила Эрика, нарушив весь научный воспитательный процесс.
Был еще один деликатный момент: чтобы не ставить в неловкое положение ни себя, ни Шварцвальда, нельзя было прислуживать его семье ни под каким видом. Она строго следила, чтобы сфера ее заботы ограничивалась уходом за Эриком. Наверное, это было глупо, но девушка не ела у барона, чтобы не было ощущения, что она «отрабатывает харчи». Элеонора брала с собой хлеб и съедала его во время вечерней прогулки.
Она стирала и гладила пеленки, гуляла с малышом, в общем, здорово разгрузила нянюшку, а та в обмен готовила для взрослых членов семьи и выполняла другую домашнюю работу. Соня с Ваней сами убирали в своих комнатах, а по местам общего пользования вывесили график дежурств, как в коммунальной квартире.
Элеоноре было даже немножко страшно смотреть на них. В юнгштурмовках, с суровыми лицами, они проходили мимо, вздернув подбородки. В Ване, кажется, еще осталось что-то человеческое, он сам вызвался бегать за смесями в консультацию и неукоснительно выполнял эту обязанность, а Соня… От ее холодного взгляда Элеоноре иногда становилось не по себе. К братику она была совершенно равнодушна, не проявляла даже обычного девичьего интереса.
Как-то Шварцвальд сделал ей замечание, что она не помогает, так Соня, вытянувшись во весь свой невеликий рост, отчеканила:
– Вы не советовались со мной по поводу этого ребенка, я вам ничего не обещала и ничего не должна.
– Но ты живешь в моем доме… – растерялся барон.
– Я живу в своем доме. Эту квартиру дали не лично вам, а всей нашей семье, поэтому не надо представлять, что вы нас тут держите из милости!
Шварцвальд не нашелся что ответить, и Соня ушла с победой. Элеоноре стало очень неловко, что она оказалась невольной свидетельницей чужих семейных неурядиц, да и в глубине души она считала, что барон сам виноват. Если бы не хитрил, не пытался, что называется, усидеть на двух стульях, сейчас не пришлось бы скрывать от этой суровой девочки, что он ее отец, и девочка была бы к нему гораздо добрее…
Барон любил Эрика, но он был всего лишь отец, и отец неопытный. И немолодой. Соня с Ваней росли отдельно от него, поэтому он думал, что новорожденный сын – это нечто оформленное в красивый конверт с бантом, которое подносят ему на пять минут в день для нежного поцелуя.
Правда, он каждый вечер сам купал Эрика, и получалось у него довольно ловко.
Иногда он находил их с Эриком во время прогулки, тогда они минут двадцать прохаживались по аллее, обычно молча, а потом Шварцвальд возвращался к своим делам.
Как-то он спросил Элеонору, не хочет ли она, чтобы он устроил ей повышение в должности. Она энергично отказалась, мол, с ее происхождением лучше не высовываться. А главное, только работа дежурной сестры позволяет ей заботиться об Эрике. Барон нахмурился, но ничего не ответил и больше не заговаривал на эту тему.
Сам он работал очень много, помимо директорства еще входил в состав разных комиссий и преподавал в академии организацию и тактику медицинской службы. При такой нагрузке оставалось очень мало времени на семью, но Элеонора считала, что это правильно. Перепеленать могут и они с нянюшкой, а отец нужен сыну в первую очередь для того, чтобы им гордиться и брать пример. Как говорит нянюшка, бойтесь не того, что дети вас не слушают, бойтесь того, что они вас видят. Она вообще кладезь педагогических афоризмов, в том числе таких, что заставляют Элеонору краснеть.
Она всегда любила свою работу, но теперь не могла дождаться, когда сутки кончатся и можно будет бежать к Эрику. А на дежурстве думала только о том, как там ее малыш, вовремя ли его покормили, не забыл ли Ваня принести смесь и тщательно ли барон проверил воду в ванночке перед купанием.
Эрик был еще очень мал, но Элеоноре казалось, что он тоже по ней скучает. Нянюшка говорила, что без нее он хуже ест, и это наполняло сердце гордостью, хотя она подозревала, что няня просто ей льстит.
Глава 20
Когда малышу исполнился месяц, Элеонора вдруг столкнулась в Таврическом саду с Елизаветой Ксаверьевной. Та шла, гордо выпрямив спину и вздернув подбородок, в старомодном, читай старом, твидовом костюме и дикой шляпке с цветочками. Руку с поводком она держала на отлете. На другом конце длинного поводка семенила прославленная Микки. Размером она была с книжный томик, а учитывая наводящую ужас физиономию, можно считать, что томик Маркса.
В создании этого чуда селекции явно принимало участие не меньше ста пород, причем у каждой была взята самая жуткая черта. Черти в аду, наверное, выглядели консервативнее, чем Микки Шмидт.
Женщины сердечно обнялись. Елизавета Ксаверьевна рассказала, что ее продержали еще две недели, а потом вдруг освободили, так и не объяснив, за что арестовали и почему выпустили. О судьбе Головиной она ничего не знала.
– Я ведь сдержала свое обещание, – похвасталась Шмидт, – и ходила к Груздеву. Но он обозвал меня старой дурой и выгнал взашей. Даже не спросил, как его невестка провела свои последние дни. Если бы вы знали, Элеонора, как мне жаль подобных людей!
Она только кивнула.
Елизавета Ксаверьевна познакомила ее с Микки и только потом удивилась, что Элеонора с коляской.
– Я, конечно, не эксперт в этих вопросах, но как вы успели…
Пришлось рассказать, кем ей приходится Эрик.
– О, первый законнорожденный Шварцвальд! – заметила Елизавета Ксаверьевна не без яда и попросила показать ребеночка.
Она дежурно посюсюкала над Эриком, но, кажется, восхищалась младенцем с той же степенью искренности, с какой Элеонора превозносила красоту Микки.
Как обычно бывает после долгой разлуки, они болтали все больше о пустяках. Елизавета Ксаверьевна нашла, что Элеонора выглядит гораздо лучше, чем когда сидела в камере. Впрочем, девушка и сама это ощущала. С продовольствием стало намного легче, она больше не голодала, и ежедневные прогулки сделала свое дело. Она поздоровела, посвежела, на щеках появился стойкий румянец. Даже ее аскетические туалеты стали сидеть гораздо лучше.
Шмидт с одобрением смотрела на ее прямую черную юбку, от старости порыжевшую на швах, и белую блузку. Вышивка на ней была не кокетством, а суровой необходимостью, как и юбка всего лишь до середины икры – пришлось укрепить и обрезать истлевшую ткань. В общем, наступал такой момент, когда аккуратность уже не могла скрыть ветхости одежды. Нужно что-то искать, но у Элеоноры не было ни денег, ни времени, ни желания наряжаться.
Елизавета Ксаверьевна предложила запросто бывать у нее.
– Мы с вами могли бы читать вслух по очереди. Пока одна читает, вторая рукодельничает, а потом можно обсудить прочитанное.
– Ах, Елизавета Ксаверьевна, это были бы прекрасные вечера, но, боюсь, я сейчас слишком занята малышом. А когда у меня появляется свободное время, я трачу его на сон. Пусть Эрик немного подрастет. Но мне бы очень хотелось, чтобы наша дружба не прервалась.
– Что ж, милая, кто нам помешает гулять вместе? Мы с Микки уже староваты, чтобы каждый день совершать такие экспедиции, но обещаю, что раз в неделю мы будем сюда приходить. Не люблю давать советы, но все же скажу вам: не надо так рьяно принимать участие в судьбе этого ребенка, если только вы не планируете стать очередной баронессой Шварцвальд.
– Почему же?
– Не сердитесь, милая. Просто каждый должен нести свой крест, и отбирать его – это даже в какой-то мере грех. Этот прелестный малютка не ваш сын, как бы ни хотелось вам думать обратное. Заменяя ему мать, вы лишаете его отца.
Элеонора почувствовала, как кровь прилила к щекам:
– Елизавета Ксаверьевна!
– Именно так. Считайте меня черствой старухой, воля ваша. В свое время вопросы продолжения рода обошли меня стороной, и я не вижу смысла заниматься ими сейчас. Поверьте, милая, самое худшее, что может сделать себе человек, это взять то, что ему не дал Бог. Заполняя пустоту, можно натащить в свою жизнь такой мусор, что вовек не отмоешься.
Тут она заметила, как погрустнела Элеонора, и быстро перебила сама себя:
– Ладно, ладно, не слушайте карканье старой девы. В самом деле, не может этот сорокалетний дурак вынянчить малыша. Только будьте очень осторожны, не отдавайте этому ребенку все свое сердце.
Разговор произвел на Элеонору тягостное впечатление, но когда она села кормить Эрика, все философские сентенции старой девы вылетели у нее из головы. Шмидт много-много лет живет одна, конечно, она очерствела сердцем, обычные женские заботы вызывают у нее раздражение.
Просто надо говорить с Елизаветой Ксаверьевной о литературе, а не о жизни.
В заботах и хлопотах время летело быстро, и в то же время казалось, будто прошла целая вечность с тех пор, как Эрик появился на свет.
К наступлению зимы он уже вовсю сидел в кроватке и улыбался Элеоноре, дерзко посверкивая единственным сахарным зубиком. Пытался вставать, но пока это не очень получалось. Падения не обескураживали его, он сразу возобновлял попытки.
Даже нянюшка, воспитавшая великое множество детей, находила его удивительным ребенком, а для Элеоноры не было в мире никого прекраснее.
И Шварцвальд, и няня сходились в том, что ребенку надо закаляться, мальчик не должен расти неженкой, поэтому Элеонора помногу гуляла с ним, несмотря на холод. В куцем жакетике она страшно мерзла, и в особо морозные дни прогулка превращалась в пробежку.
Увидев это, Елизавета Ксаверьевна подарила ей свои знаменитые меха.
– Нет, я не могу принять! – Элеонора даже растерялась.
– Конечно, можете! Мне они никогда не нравились, а вам очень идут.
– Вы их лучше продайте.
– Гм! Котлетка для Микки или зима в тепле для вас? Трудный выбор, – сказала старая дева без улыбки, – после долгих колебаний я все же решила в вашу пользу.
Эрик рос здоровым ребенком, но его не миновали обычные детские напасти – пережили и колики, и первый зуб. Один раз у него поднялась высоченная температура, Элеонора всю ночь носила его на руках, сама не своя от страха. Потом ей немного странно было вспоминать, как она, опытная сестра, растерялась, из головы будто вынули все знания о детских болезнях, оставив только первобытный ужас. Слава богу, нянюшка не утратила хладнокровия и отдала все нужные распоряжения. Они обтерли Эрика уксусом, давали ему питье с малиной, и наутро температура упала, так что профессор, которого привел барон, нашел ребенка совершенно здоровым. Такие свечки бывают, когда режутся зубки, беспечно заметил он, добавив, что если Шварцвальд и дальше будет пользоваться служебным положением и приглашать светило науки на каждый детский чих, то ребенку придется трудно.
Наступало Рождество. Соня категорически заявила, что не собирается отмечать этот религиозный праздник, и Шварцвальд как-то стушевался. Элеоноре очень хотелось нарядить елку для Эрика, чтобы он удивился и обрадовался. Она почти два месяца готовила маленькие подарки: ажурный воротничок Соне, варежки для Вани, шерстяные носки для Анастасии Васильевны и, самое главное, теплую кофточку Эрику. Презент для барона требовал серьезного обдумывания, чтобы в нем нельзя было увидеть тот смысл, который дарительница в него не вкладывала.
Барону нужно было многое, как и все благородные люди, он сильно обносился, и Элеонора могла бы связать ему шарф, но ограничилась туфелькой для курительных принадлежностей. Шарф находится в той области, в которую она не собирается вторгаться.
Шварцвальды, за исключением Эрика, не стали ей родными людьми, Элеонора не считала себя частью их семьи и очень не хотела, чтобы кто-то думал, будто она пытается туда втереться. Но при этом она чувствовала некую общность со всеми ними, и с непреклонной Соней, и с романтичным Ванечкой, и с осиротевшим бароном, который тосковал о Саше так же сильно, как в день ее смерти.
Элеонора знала, что барон симпатизирует ей еще с давних времен, когда она была Сашиной ученицей, и чувствовала, что старшие дети тоже хорошо к ней относятся. Соня даже хотела пригласить ее в школу, чтобы Элеонора рассказала, как участвовала в обороне Петрограда. Отказаться удалось только благодаря неидеальному происхождению.
Девочка по-прежнему не занималась маленьким братом, никогда не играла с ним, но порой могла перегладить все пеленки или починить детское бельишко.
Ваня же с удовольствием делал работу, связанную с физическими усилиями и походами.
Словом, Элеонора предвкушала, как проведет с ними чудесные рождественские часы, когда мир и покой снисходит в самые истерзанные сердца. Она будет ходить вокруг елки с Эриком на руках, чтобы он смог хорошенько рассмотреть Вифлеемскую звезду и другие игрушки… Взрослые обменяются подарками…
– Как же так? – растерянно спросила она, когда Шварцвальд сказал, что Рождества не будет. – Эрик, конечно, еще очень мал, но это должно запечатлеться у него в душе…
– Все верно, но я не могу идти наперекор своим детям-коммунистам, – невесело усмехнулся барон, – тем более что они правы. Рождество в моем доме будет выглядеть двурушничеством. Не говоря уже о том, что моя квартира находится в стенах Клинического института, а я его директор. Какой пример я покажу своим сотрудникам, которым пропагандируют атеизм?
Что ж, в его словах был большой резон.
Элеонора провела сочельник с Елизаветой Ксаверьевной. Они отстояли литургию в Никольском соборе, одном из немногих храмов, которые пощадили большевики. Женщины сдержанно поздравили друг друга, и Элеонора убежала на работу, поскольку старшая то ли случайно, то ли в воспитательных целях поставила ей сутки в Рождество. Отчасти Элеонора была этому даже рада, в такой день она чувствовала бы себя у Шварцвальдов неуютно. Живым укором, что ли…
В Рождество и Пасху всегда было работать интересно, обязательно происходили маленькие чудеса, удивлявшие даже опытных, привыкших к мистическим совпадениям докторов.
Смена выдалась хлопотной, она почти не сомкнула глаз и решила, что именно поэтому ей не хочется идти к барону. Но усталость для нее дело обычное, а тут какое-то новое тягостное чувство.
Может быть, сказаться больной? Но как же Эрик? Он ждет ее, всегда так радуется, когда ее видит… За эту улыбку ничего не жаль… И она соскучилась по своему малышу, не видела его больше суток. Если она не придет, то Эрик пропустит утреннюю прогулку, няня будет ждать, когда из школы придет Ванечка.
Странно, она мечтает поскорее обнять Эрика, а ноги не несут, будто какой-то бес отворачивает ее.
Шварцвальд был дома и сразу пригласил ее к себе в кабинет.
– Слушаю вас, Николай Васильевич, – Элеонора села на краешек стула, сложив руки, как институтка.
– Спасибо за ваши милые подарки, дорогая Элеонора, – барон скупо улыбнулся, – ваша туфелька заняла почетное место в изголовье моей кровати, и дети тоже были очень тронуты. Хоть они и не признают Рождество…
– Я очень рада.
– А вообще у меня к вам весьма тяжелый разговор. Я вижу, что вы всей душой привязались к моему маленькому сыну. Боже, Элеонора, вы просто спасли нас всех, и Эрика, и меня, и даже Соню с Ванечкой. Я заметил, что, общаясь с вами, они стали гораздо человечнее.
– Боюсь, дело не во мне. Просто появился Эрик, а малыши всегда пробуждают в людях самые лучшие чувства…
Барон натянуто улыбнулся:
– Пусть так. Но вы поистине оказались для нас подарком небес.
– Это не так, но не стану спорить. Лучше сразу спрошу: куда вы клоните, барон?
– Дорогая моя, все это ужасно неправильно. Вы молодая девушка, у вас вся жизнь впереди, и вы не должны тратить ее на моего ребенка.
– О господи, Николай Васильевич! На что же мне еще тратить жизнь? Эрик для меня все, я полюбила его, как собственного…
– В этом и беда! – Шварцвальд встал, по широкой дуге подошел к ней и нерешительно положил руки ей на плечи. Тут же отдернул, словно обжегся. – Он все же не ваш сын, и не стоит забывать об этом. О, простите, это сейчас прозвучало очень грубо, но я предупреждал, что разговор будет тяжелым. Вам нужно жить своей жизнью, а не становиться подпоркой для чужой.
Элеонора вздохнула, сцепила руки в замок. В глубине души она ждала этого разговора и готовилась к нему:
– Я понимаю, что моя помощь выглядит со стороны несколько… нелепо, что ли. Но я ведь не вмешиваюсь в вашу жизнь, занимаюсь только Эриком.
– О да, вы удивительно тактичны.
Она нетерпеливо отмахнулась от комплимента:
– Я нужна вашему сыну, а он нужен мне, вот и все. Прошу вас, не разрушайте наш взаимовыгодный союз, – Элеонора улыбнулась.
– Ваша помощь неоценима, это верно. Анастасия Васильевна не справилась бы одна. Но все равно, я не должен был допускать… Я был совершенно раздавлен, убит уходом Сашеньки и едва ли понимал, на каком свете сам нахожусь. Это не оправдывает меня, но хоть отчасти объясняет, почему я так запустил свои домашние дела.
Элеонора молчала. Барон снова приобнял ее и снова сразу убрал руки:
– Думаете, я не вижу, как это все выглядит со стороны? Воспользовался вашей помощью в самый трудный момент, а как стало полегче, вышвырнул из дома. Но лучше уж я буду выглядеть подлецом, чем позволю вам бросить свою жизнь под ноги нашей семье.
– Николай Васильевич, вы утрируете. Я не собираюсь замуж, у меня нет жениха и даже просто поклонника, а служба нисколько не страдает от того, что я занимаюсь Эриком. Наоборот, это самое лучшее время, что я провожу с ним. Я просто оживаю…
– Милая Элеонора! – барон взял ее руку в свои и в этот раз удержал. – Поверьте мне, нельзя жить иллюзиями и компромиссами. Ну посмотрите хоть на меня, человека, который усердно пользовался этими двумя дьявольскими инструментами! Что в результате? Родные дети считают меня отчимом, а любимая жена лежит в земле. Ей было всего лишь тридцать пять, – Шварцвальд прищурился, видно, боролся со слезами, – да, она все равно могла бы погибнуть, но если бы не мои иллюзии и компромиссы, у нас было бы пятнадцать счастливейших лет, не омраченных стыдом и разлуками. Но сейчас не об этом! Клянусь честью, я бы гордился, если бы у моего сына была такая мать, и я готов считать вас матерью Эрика. Беда в том, что рано или поздно вы поймете, что он не ваш сын. О, моя дорогая! Если бы вам было сорок лет… Я бы с радостью принял вас и вашу заботу. Я бы женился на вас, ей-богу. Но вы слишком молоды, вас ждет столько прекрасных, наполненных страстями и приключениями лет. Я не вправе это отнимать у вас. Надеюсь, вы меня когда-нибудь простите, что я так ужасно и грубо прогоняю вас. А за то, что столько времени крал ваше время и вашу душу, я не пытаюсь извиняться…
– Барон, вы ни в чем не виноваты. Вы меня ни о чем не просили, ничего не обещали. Я сама пришла в ваш дом, и я могу только благодарить, что вы так близко к сердцу принимаете мое будущее…
– Это сейчас был сарказм? – хмуро перебил Шварцвальд. Она с улыбкой покачала головой.
Он еще говорил, что хотел бы сделать ей памятный подарок, но боится таким образом оскорбить, потому что никак нельзя оценить то, что она сделала для семьи. Но все же, рискуя обидеть ее еще сильнее, он просит принять кольцо, принадлежавшее его матери.
Элеонора решительно отодвинула бархатную коробочку, даже не открыв ее:
– Николай Васильевич, у вас есть дочь. Время сблизит вас, поверьте. Она повзрослеет, станет мягче. Соня ведь очень хорошая девочка, и даже если вы не откроетесь ей, что она ваша дочь, то ее дети уж точно будут вашими внуками.
Глава 21
Так горько и одиноко ей еще никогда не было. Элеонора вышла от Шварцвальда и побрела куда глаза глядят, пытаясь понять, что она больше не увидит Эрика. Прощаясь, барон произнес дежурный набор любезностей: мол, она может всецело располагать им, если ей понадобится помощь, и двери его дома всегда открыты для нее.
Но Элеонора понимала, что он будет не слишком рад ее видеть, для него она окажется напоминанием о собственном неблаговидном поведении. А ей самой будет невыносимо видеть ребенка раз в месяц, как он меняется и растет без нее.
Нет, лучше уж уйти насовсем. Она не хочет иметь с этим семейством ничего общего. Саша выдала ее чекистам, барон за ее спиной пережил самый острый период скорби, совпавший с самым трудным временем младенчества его сына. А как только стало чуть легче, указал на дверь, не считаясь с ее чувствами. Прикрываясь ее же интересами, как это нынче принято у ответственных работников.
Теперь в ее жизни воцарится пустота. Она медленно шла по Кирочной и вспоминала улыбку Эрика и щечки с ямочками. Его темную головку с лысинкой на затылке. Как он деловито открывал ротик, когда она его кормила. И как он, бывало, плакал по своим младенческим делам, а Элеонора прибегала и брала его на руки. Тогда Эрик доверчиво прижимался к ней, прерывисто вздыхал и сразу успокаивался, как человек, нашедший убежище. Черт возьми, они прекрасно понимали друг друга!
Неужели она больше не услышит его восторженный крик, которым Эрик всегда заливался во время игры в лошадки? Не услышит и не увидит, как он встанет на ножки… Первое слово он скажет не ей, и первый шаг сделает навстречу другому человеку…
Без него ее жизнь превратится в «сухой остаток», как говорит Елизавета Ксаверьевна.
Но так ли уж виноват барон? Он действительно ни о чем не просил, она пришла сама. Зачем? Хотела выступить в амплуа всепрощающей святой? Мол, Саша меня предала, а я выхаживаю ее сына… Нет, кажется, таких мыслей у нее не было.
Просто потянулась к жизни из своего полупризрачного существования, захотела прикоснуться к человеческим заботам…
Ах, как права была Елизавета Ксаверьевна, нехорошо вмешиваться в чужую жизнь. Если бы Шварцвальд остался без ее поддержки, он занялся бы сыном, глядишь, и горе о жене быстрее бы отступило, приглушилось хлопотами… Нет ничего более целительного, чем заботы о ребенке, она это по себе поняла. И невольно лишила барона лекарства. Шмидт права и в том, что «сорокалетний дурак один не справится». Детям пришлось бы подключаться, особенно Соне, и это сблизило бы дочь и отца. Все бы у них наладилось…
Она как графиня Лидия Ивановна в «Анне Карениной». Может быть, у нее стала такая же желтая шея, как у этой неприятной дамы, которая за неимением собственной жизни влезла в чужую и стала все перекраивать на свой лад.
Наверное, Лидии тоже казалось, что она ведет себя очень деликатно и только лишь помогает.
От жгучего чувства стыда Элеоноре захотелось куда-нибудь спрятаться. Похоже, самые неблаговидные дела мы совершаем в тот момент, когда любуемся собой…
Барон молодец, он рассудил правильно и действительно переживал за ее судьбу. Он очень хороший и благородный человек, дай бог ему счастья! Если бы это понимание еще могло смягчить боль от разлуки с Эриком!
Весь следующий день Элеонора пролежала дома, привыкая к пустоте. Больше не нужно бежать на прогулку с Эриком, вскакивать ни свет ни заря, чтобы найти приличные овощи для его пюре, и всю остальную тысячу дел сделают без нее.
Все время в ее распоряжении, хочешь – читай, хочешь – спи, сама себе хозяйка. Сказочная жизнь! И как легко она бы променяла месяц этой сказочной жизни на час с Эриком!
Промелькнула мысль о самоубийстве, но додумать ее не позволило чувство долга. «Если я сегодня повешусь, то завтра на работу, скорее всего, не выйду. Замену найти непросто, сегодняшняя на вторые сутки не останется, и что? Как прикажете оперировать?»
Элеонора вдруг расхохоталась и решила приготовить себе чай. Все же есть место, где ее ждут, а раз так, надо жить.
На работе ее, кроме всего прочего, ждал еще выговор за «нарушение субординации и срыв операции». Будто Элеонора была не сестрой милосердия, а крупным военачальником и провалила штурм какой-нибудь крепости.
Прочитав приказ, она усмехнулась. Более матерый руководитель приписал бы ей «саботаж».
Старшая сестра заставила ее расписаться в какой-то книге и произнесла небольшую нравоучительную речь, которую Элеонора пропустила мимо ушей.
Она так любила свою работу, так хотела делать ее безупречно, что еще недавно этот выговор уязвил бы ее до глубины души. Сейчас же она сама удивлялась, насколько мало он ее трогает. Так, небольшая розочка на торте невзгод…
Выговор стал результатом конфликта с доктором Кропышевым. Это был просто фантастический дурак, то, что он служит в академии, можно было объяснить только с гуманистических позиций. Здесь, под присмотром опытных специалистов, у него было меньше возможностей отправлять пациентов на тот свет, чем в полку или в земстве. «Фельдшер из села Летальные Исходы» – так называл таких врачей Знаменский.
Разумеется, не все могут быть гениями, и Пирогов в хирургии всего один. У каждого свои недостатки, кто-то не имеет достаточно опыта, кто-то туговато соображает, кто-то неловко оперирует, а у кого-то слабая теоретическая база. Но все эти недостатки можно нивелировать в коллективе, если человек их хотя бы признает. В случае с Кропышевым глупость удачно сочеталась с тупым самодовольством, что делало его невыносимым и просто опасным. К несчастью, этот доктор обладал все же одним достоинством – он умел великолепно накладывать цинк-желатиновые повязки при трофических язвах. По крайней мере, удачно распустил по городу слух, что только он может это делать надлежащим образом. Все больные с запущенной варикозной болезнью обращались к нему и платили неплохие деньги. Со временем Кропышев стал богаче многих профессоров, поэтому не пользовался у коллег даже той снисходительной доброжелательностью, которая обычно сопутствует в России дуракам и неудачникам. Что ж, житейская сметка чаще сочетается с серостью, чем с талантом.
Элеонора ничего этого не знала, и когда другой доктор, угрюмый ординатор гнойной хирургии Крылов, попросил ее наложить такую повязку своему пациенту, она без всяких колебаний сделала это. И сделала, кажется, неплохо. Откуда ей было знать, что Крылов просил Кропышева, а тот отказал, потому что пациент не предполагал ему заплатить?
Она симпатизировала Крылову, мрачному молчуну средних лет. Он говорил так мало и так тихо, что казалось, каждое слово причиняет ему физическую боль.
Крылов, в свою очередь, ценил ее за то, что во время операции она всегда знает, какой инструмент подать и ему не надо лишний раз открывать рта.
Оперировал он очень изящно и прекрасно умел обезболить, так что пациенты сначала пугались его, но после операции проникались безграничным доверием. Ходил он враскачку, и Элеонора долго считала его бывшим моряком, пока не узнала, что Крылову во время войны ампутировали голень.
Узнав, что Элеонора сделала уновскую повязку, Кропышев пришел в бешенство. Еще бы, во-первых, под угрозой его монополия, а во вторых – стоит ли врачу гордиться тем, что ничуть не хуже делает простая медсестра?
Идти скандалить к Крылову он побоялся. Тот, хоть и был скуп на слова, некоторых прискорбных эпитетов все же не жалел, а при случае мог объясниться и жестами.
Поэтому все негодование вылилось на Элеонору. Кропышев орал, что она операционная сестра, вот пусть и сидит в операционной и носа не высовывает, и прочее в таком же базарном духе.
– И чтоб не смела! Не смела лезть куда не знаешь! – Кропышев тряс перед ее лицом пальцем, похожим на огурец.
Она молча выслушала внушение, больше похожее на истерику. Спорить с дураком бессмысленно.
Когда он, хлопнув дверью, умчался, Элеонора решила, что инцидент исчерпан, но история получила неожиданное развитие.
В ее дежурство Кропышев подал пупочную грыжу. Операция несложная, справится даже он, решила Элеонора и безмятежно стала готовить стол. Но вдруг заметила, как ее недруг, уже обработав руки, вдруг взял и почесал нос! Это просто невозможное движение для хирурга! Все равно что фрейлине на званом обеде у государя вдруг взять и высморкаться в скатерть, да что там, даже хуже!
Элеонора так удивилась, что поначалу не поверила своим глазам: уж не почудилось ли ей? Но Кропышев, словно отвечая не ее немой вопрос, повторил свой непристойный жест.
– Простите, вы случайно коснулись… – сказала она негромко, надеясь, что доктор поймет ее и быстро перемоется.
– Я не собираюсь заново травиться из-за ваших галлюцинаций, – оборвал ее Кропышев и протянул руки за халатом.
– Я совершенно точно видела, что вы коснулись… – она не могла вслух уличить его, что он коснулся собственного лица, это было слишком позорно. – Перемойтесь, пожалуйста.
– Не собираюсь!
– Я не могу дать вам халат, пока вы не перемоетесь!
Дальше последовал любимый аргумент всех тупиц: «да что вы себе возомнили?» – и предположение, что она сводит с ним личные счеты за справедливое внушение. Элеонора спокойно, все же больной был в сознании, ответила, что она всего лишь выполняет свои обязанности.
Неизвестно, чем бы это кончилось, но санитарка позвала Крылова, который мирно писал истории в ординаторской. Он пришел, послушал, полистал историю и прооперировал, потратив на это десять минут и ни одного слова.
История получилась некрасивая, прежде всего из-за пациента. Что он подумал о порядках в академии? Но она не могла допустить к столу хирурга с необработанными руками! Тем более что помыться заново ничего не стоило. Пупочная грыжа – это не кровотечение, когда счет идет на секунды и можно закрыть глаза на кое-какие условности. И она не позволила себе грубости, говорила почтительно. Что делать, если доктор такой дурак?
Человек, в голове которого было бы хоть на один нейрон больше, оставил бы все без последствий. Но Кропышев наябедничал старшей сестре, и та ухватилась за возможность наказать подчиненную. Крылову тоже хотели сделать выговор, но не нашли подходящей формулировки.
Несмотря на явную несправедливость, Элеонора решила не спорить. Те люди, мнением которых она дорожит, знают правду, а остальным все равно ничего не докажешь.
Но, как часто происходит в жизни, неприятность обернулась к великому благу. Через день после опубликования приказа с выговором ее вызвали к секретарю начальника академии.
«Интересно, что еще от меня нужно?» – равнодушно думала она, направляясь в административный корпус.
– Львова? – секретарша, приятная дама средних лет, не пожалела ей казенной улыбки. – Я тут приказ тебе на выговор печатала, смотрю, вроде знакомая фамилия. Тебе письмо три месяца лежит, а ты все не приходишь и не приходишь. Я уже выбрасывать собиралась.
– Письмо? – сердце в груди екнуло. – Но я не знала и не ждала писем… Почему же вы раньше не передали?
– Ну знаешь, милая моя! Откуда я знала, где ты работаешь? Что ж мне, по всей академии искать тебя? А если все начнут своим девушкам сюда писать?
Улыбка исчезла, и пухлый потрепанный конверт полетел Элеоноре чуть ли не в лицо. Она сразу узнала красивый, совершенно женский почерк Воинова. И мир в одну секунду изменился, словно запел вместе с ее душой.
– Спасибо вам огромное! Спасибо! – Элеонора едва не расцеловала секретаршу.
Она прижала письмо к груди и почувствовала, что на глаза наворачиваются слезы. Лишь бы не разрыдаться…
Смена закончилась, и Элеонора вприпрыжку побежала домой. Ей почему-то захотелось открыть письмо в торжественной обстановке, насладиться каждым словом, каждой запятой. И немножко помечтать, пофантазировать о том, что же заключено внутри конверта. А вдруг Константин Георгиевич всего лишь пишет о том, что не хочет больше ее знать? Нет, нет! Письмо для этого слишком толстое…
Она сидела на своем широком подоконнике и гладила конверт, будто он был живым существом, и не решалась распечатать. Пусть еще немножко продлится ожидание чуда…
Боже, но почему она получила письмо только сейчас? Все это время Константин Георгиевич ждал ее ответа и думал, что она презирает его.
Что стоило секретарше найти ее? Да, она не обязана знать, где именно работает Элеонора Львова, но достаточно было позвонить в отдел кадров!
А если все начнут? – этот хамский вопрос, ставший неотъемлемой частью советского быта, поставит в тупик не только Карла Маркса, но и представителей других философских школ.
Даже странно, с одной стороны, человек человеку друг, товарищ и брат, а с другой – «если все начнут?».
Видно же, что письмо с фронта, неужели даже это не заставило секретаршу снять трубку…
Впрочем, она тоже хороша! Воинов не знает, где она живет, он мог писать только на рабочий адрес, и Элеонора должна была это понять. Могла просто зайти к секретарше, так, мол, и так, если вдруг мне напишут, не сочтите за труд меня известить.
Кто знает, что произошло с Константином Георгиевичем за эти три месяца? Вдруг она сейчас будет читать письмо человека, которого больше нет среди живых?
От этой мысли Элеонора похолодела и энергично застучала кулачком по подоконнику.
Дольше оттягивать было невозможно. Элеонора еще раз внимательно перечитала адрес, любуясь красивыми завитушками, выведенными рукой Воинова. Разумеется, это была только иллюзия, но ей казалось, что «Львовой Элеоноре Сергеевне» написано особенно тщательно.
Резко вскрыла конверт, будто в воду с головой нырнула.
«Дорогая моя, родная Элеонора Сергеевна! – писал Воинов. – Зная Вас и Вашу великую душу, я убежден, что вы стали корить себя за то, что меня прогнали, через секунду после того, как мы расстались. Я знаю это лучше, чем если бы вы сами мне об этом сказали, а если бы сказали, что ни о чем не жалеете, я бы ни за что не поверил. Уж простите мне мою самонадеянность. Прошу, не терзайтесь и не грустите из-за этого. Я повидал Вас, убедился, что Вы живы и здоровы, и очень этому рад, и совсем не важно, что мы сказали друг другу. Просто Вы очень много пережили невзгод, и, верно, хорошо, что таким образом я перенял на себя частичку Вашей боли. Мы ведь с Вами очень близкие люди, в какой бы жестокой ссоре ни состояли. Я совершенно не злюсь, не сержусь и не обижаюсь, просто думаю о Вас все время. К сожалению, я далеко и ничего не могу для Вас сделать, только молиться. Каждую секунду я прошу Господа, чтобы он защитил Вас и сниспослал покой и радость Вашей душе.
Меня не было рядом с Вами в самые тяжелые времена. Это очень плохо, но я был там, где без меня не могли обойтись. Вам ведь не надо объяснять такие вещи… Помните, как мы трудились вместе? Ох, как мне не хватает Вас! У меня есть помощники, но никто не сравнится с Вами. В то же время я рад, что отправил Вас домой, эта война не место для женщины.
Я пишу сумбурно, может быть, глупо, но с новым чувством. С надеждой, что Вы увидите эти строки. Раньше я писал наугад, зная, что отправлять письма по прежним адресам, это все равно что просто бросать их из окна. А сейчас я уже начинаю ждать ответа. Пожалуйста, напишите, все равно что, хоть суровую отповедь, хоть проклятие!
Что рассказать Вам о себе? Подробный отчет не приветствует цензура, да Вы прекрасно знаете, чем я занимаюсь изо дня в день. Скажу только, что мне удается развивать наш с Вами опыт полостных операций, я собираю весь материал и в свободные минуты работаю над монографией. Получаются довольно любопытные штуки! Тут главное – вовремя остановиться в наборе материала, война каждый день преподносит все новые удивительные случаи… Петр Иванович всегда считал, что я слишком практик для хорошего ученого. Вероятно, это так, но страшный и тяжелый опыт войны не должен пропасть даром. Мне бы хоть зафиксировать его и немного обобщить, а изящные и остроумные гипотезы оставлю академикам.
К сожалению, времени на науку очень мало. В затишье я веду прием гражданского населения. Это очень ответственное дело, я не просто врач, а представитель советской власти. К сожалению, многие ее завоевания еще не добрались до тех уголков, куда меня забрасывает судьба, и Ваш покорный слуга поневоле является первым наглядным примером преимущества нового строя перед старым. Пришлось вспомнить и терапию, и все остальное. Помните, мы с Вами принимали роды? Теперь я так не оплошаю. Стал заправским акушером, и это лучшая профессия на земле! Встречать человека гораздо интереснее, чем провожать…
Но во всех этих хлопотах и заботах я все время думаю о Вас. Представляю, что бы вы сказали или сделали, если бы оказались рядом, и иногда так увлекаюсь, что мысленно разговариваю с Вами. Разлуки и расстояния ничего не меняют, у меня не было и нет человека ближе и дороже Вас.
А когда остаюсь один, я слышу стук Вашего сердца, и моя ладонь чувствует тепло Вашей руки.
Пишите мне, не важно что! Просто посылайте пустые открытки, лишь бы я знал, что Вы живы.
Остаюсь вечно преданный Вам Константин Воинов».Элеонора улыбалась и плакала. Это были не те едкие слезы, которые вскипают на дне души и мучительно находят путь наружу. Нет, сейчас они лились легко, словно бы радостно. Милый Воинов! Как хорошо, что он простил ее!
Она вглядывалась в убористую щегольскую подпись и представляла, как рука Воинова выводила ее. Когда он писал? В палатке, при свете лампы-молнии или гильзы? Или в часы затишья сидел на улице, любовался пейзажем и работал пером, жмурясь от солнца?
Ей почему-то очень ярко представилась эта картина: Константин Георгиевич сидит на валуне возле цветущего луга, в небе ни облачка, сияет солнце, вокруг лениво жужжат пчелы… Он смотрит вдаль, потом улыбается и выводит фразу на листке, лежащем на его офицерской планшетке. А может быть, Воинов простил ее не сразу и написал только поздней осенью, когда нет никаких цветущих лугов, пейзаж сер и уныл, а солнце почти не видно сквозь тяжелые тучи.
Тут Элеонора заплакала с новой силой. Три месяца! Три месяца письмо лежало без дела, а Воинов ждал ответ… Он не мог предположить, что его просто не передадут адресату, потому что «если все начнут». Константин Георгиевич помнил ту академию, где любое послание надо скорее доставить.
Если бы он решил, что письмо не дошло, то написал бы новое, которое секретарша передала бы ей вместе со старым.
Нет, он решил, что она просто не хочет его знать. Что она действительно думала то, что говорила тогда. Господи, какой ужас!
Не вытирая слез, она села писать ответ. Это, конечно, страшная пошлость, мещанство и вообще детство, но ей казалось, Константину Георгиевичу будет приятно получить письмо со следами ее слез.
Она писала, что была не в себе, когда говорила ему все эти вещи, которых не думала ни одной секунды. Что она так благодарна ему за великодушие, с которым он ее простил. Объясняла причины своего молчания и просила прощения за то, что оказалась такой несообразительной и не поняла, что Константин Георгиевич обязательно ей напишет.
Элеоноре о многом хотелось рассказать, но Она помнила о том, что вся переписка с военнослужащими обязательно просматривается, поэтому письмо вышло суховатым. Впрочем, она и без цензуры не сумела бы выразить своих чувств так просто и свободно, как Воинов. Как знать, не испугают ли его слишком явные проявления чувств, не подумает ли он, что она его превратно поняла?
Хотя сейчас самое главное, чтобы письмо дошло.
Глава 22
После того как она перестала ходить к Шварцвальду, у Элеоноры образовалось очень много свободного времени. Она пришла к старшей, сказала, что снова готова работать каждый день, но та лишь презрительно фыркнула. Мол, раньше надо было думать.
И Элеонора осталась дежурной сестрой, сутки работала, двое отдыхала, и для нее, привыкшей отдавать службе все свое время, это был просто курорт.
И в эти несчастные два свободных дня она не знала, чем себя занять.
Элеонора сблизилась с Елизаветой Ксаверьевной, но старая дева не подпускала ее слишком близко. То ли привыкла к одиночеству и быстро уставала в обществе молодой подруги, а может быть, наоборот… Может быть, в ее жизни было слишком много разочарований, и она знала, что люди, к которым ты сильно привязываешься, рано или поздно покидают тебя.
Элеонора не хотела быть навязчивой, и дамы встречались к обоюдному удовольствию раз в неделю. У них выработался настоящий ритуал: сначала гуляли с Микки, а потом шли к Елизавете Ксаверьевне, где пили чай, читали вслух или обсуждали прочитанное.
У Шмидт была швейная машинка, и Элеонора, которой давно пора было обновить гардероб, попросила разрешения воспользоваться ею.
Разрешение было тут же дано, и за один вечер получилась превосходная юбка и строгая блузка. Елизавета Ксаверьевна восхищенно поцокала языком и заявила, что у Элеоноры редкий талант – в ее руках все спорится и получается хорошо, за что бы она ни взялась.
С таким глазомером и аккуратностью Элеонора могла бы сделать себе имя как портниха, если бы, конечно, не была княжной и получила другое воспитание, вздохнула старая дева.
Но и в наше время можно найти хорошее дело для благородной девушки, наставительно произнесла Елизавета Ксаверьевна и предложила молодой подруге поступить на курсы машинописи, которые не так давно окончила сама. Елизавета Ксаверьевна неплохо играла на фортепиано и, как всякая воспитанная барышня, знала языки, поэтому ей не составило труда освоить пишущую машинку, и русский, и латинский шрифт. Теперь Шмидт трудилась внештатной машинисткой в солидном издательстве и страшно этим гордилась.
Сначала Элеонора посмеялась над предложением старой девы, а потом решила – почему бы и нет. Все лучше, чем придумывать себе разные пустые занятия.
Ей очень нравилось бывать у старшей подруги, и больше всего нравилась одна любопытная особенность, которой она не находила объяснения.
Дело в том, что сама Элеонора чувствовала себя белой вороной и дома, и на службе. Она ни с кем не сближалась и не откровенничала. В своей огромной коммунальной квартире она старалась лишний раз не выходить из комнаты, строжайшим образом соблюдала все правила общежития и в свои дежурства убирала места общего пользования с хирургической чистотой. Соседям не в чем было ее упрекнуть даже при очень большом желании. Элеонора не скрывала своей профессии, и обитатели квартиры часто заглядывали к ней с медицинскими просьбами: сделать инъекцию, обработать рану или ожог, полученные на кухне, посоветоваться, стоит ли принимать лекарство, прописанное доктором.
Она никогда не отказывала, но все равно оставалась чужой и никому не нравилась. Та же телеграфистка Лида вечно ходила под мухой, забывала мыть пол, а если и бралась за тряпку, то только размазывала грязь. Она водила к себе шумных мужчин в грязных сапогах, а когда к ней стучали, отвечала нецензурно сквозь дверь. При этом все ее любили, жалели, подносили с похмелья соленых огурцов и холодное полотенце.
А когда на кухню выходила Элеонора, хозяйки поджимали губы. Почему? Казалось бы, она своей бескорыстной и иногда очень существенной помощью должна была заслужить их расположение, но нет…
Так же и на работе. Она старалась и делала все, чтобы у старшей не было ни малейшего повода для упреков (случай с Кропышевым не в счет), никогда не жаловалась и не ябедничала, всегда готова была помочь товаркам и все равно оставалась чужой, посторонней. Элеонора знала, что за глаза девочки подтрунивают над ней, считая «не от мира сего». Все их раздражает: ее манеры, внешний вид, одежда. Во время военного коммунизма все ходили в чем попало, но теперь люди приоделись, и она в своем излюбленном образе классной дамы выглядит немного смешно.
При этом Элеонора не была снобкой, умела держаться просто и раньше всегда находила общий язык с людьми. Почему теперь все изменилось?
С Елизаветой Ксаверьевной было совсем иначе. Она по-прежнему считала себя хозяйкой квартиры, и самое удивительное, что соседи, две рабочие семьи, за ней это право признавали. Шмидт была снисходительно-любезна, соседи почтительны.
Старая дева могла сурово отчитать соседских детей, и те покорно переносили взбучку. Правда, она занималась с детьми математикой и разрешала им читать книги из своей библиотеки. Хозяек она поучала, как правильно варить бульоны и записывать расходы. Широко известен был факт, когда Елизавета Ксаверьевна усмирила пьяного отца семейства. Этот огромный молотобоец с Путиловского завода буянил в кухне, все его домочадцы попрятались, а старая дева взяла его за ухо и вывела на лестницу с напутствием: «Опомнитесь – вернетесь!»
После этого молотобоец от ужаса бросил пить и, встречая в коридоре Елизавету Ксаверьевну, пытался слиться со стеной.
– Как это у вас получается? – спросила Элеонора в один из их уютных вечеров. – Они относятся к вам, как к госпоже, и, кажется, совершенно искренне вас любят. А я словно изгой…
– Все очень просто! – Елизавета Ксаверьева вздернула подбородок. – Во-первых, не должно быть страха. Ну, его у вас и нет, моя дорогая, я знаю, вы ничего не боитесь. А во-вторых, и это самое главное, вам абсолютно, космически должно быть наплевать, что о вас думают. Важно только то, что вы сами думаете о себе. Тут у вас пока не слишком получается. Вы презираете своих сослуживиц, но в то же время хотите, чтобы они восхищались вами. А мне все равно! Поэтому и презирать особо ни к чему.
Лишь много позже Элеонора узнала, что дело было не только в мировоззрении. Елизавета Ксаверьевна много помогала соседям в тяжелые времена.
Уроки машинописи неожиданно увлекли Элеонору. Она с удовольствием выполняла монотонные упражнения, необходимые для того, чтобы освоить слепой метод.
Одних только классных занятий было недостаточно, и после недолгих колебаний она приобрела на толкучке древний «Ундервуд» с почти стершимися буквами на клавишах. Но для обучения это годилось – слепой метод есть слепой метод. Гораздо хуже было то, что древний аппарат адски громыхал, приходилось заниматься только днем, чтобы не мешать соседям.
Она быстро делала успехи, и задания получались так хорошо, что Елизавета Ксаверьевна немного ревновала. Сама она к этому времени завоевала репутацию лучшей машинистки издательства, а благодаря своей безупречной грамотности делала еще и корректуру. Вот Шмидт и крутила маститыми академиками, как хотела, называя их «милейший» и «голубчик мой».
Теперь, когда у нее появилось свободное время, Элеонора вдруг обнаружила, что жизнь сильно изменилась. Она все еще жила, как при военном коммунизме, а между тем наступил так называемый нэп.
Люди стали бодрее, наряднее, у них появилась какая-то острая жадность до удовольствий. Откуда-то возникли лавки, рестораны, коммерческие магазины.
Элеонора не интересовалась новым бытом и модами, а разговоры о богатых поклонниках, которые постоянно вели сестры, казались ей отвратительными. Это еще больше отдалило ее от сослуживиц.
Когда не было операций, она в материальной складывала шарики и тампоны, и поневоле приходилось слушать, как девушки хвастаются, кого в какой ресторан пригласили, какие преподнесли подарки, и тому подобное. Она встречала этих новых «хозяев жизни», степенных купцов, уцелевших в революцию, и невесть откуда взявшихся молодых людей с цепкими, но удивительно пустыми глазами. Россия умерла, а это могильные черви, которые неизбежно заводятся на трупе, горько думала она, и всякий раз пугалась своей мысли. «Вы же так молоды и красивы! – хотелось сказать Элеоноре сослуживицам. – Почему вы не мечтаете о любви? Зачем размениваетесь на эти гадости?»
Но она молчала.
Теперь Элеоноре было смешно вспоминать, как уязвляли ее разговоры сестер в Клиническом институте, когда она только поступила в обучение. По сравнению с нынешними те беседы были образцом нравственной чистоты! Ни одной из прежних сестер не пришло бы в голову хвастаться тем, как мужчины водили ее в ресторан и делали дорогие подарки. Тогда это было бы все равно что сказать: я служу проституткой, а теперь – в порядке вещей. До революции все женские разговоры крутились вокруг семьи, счастливой или несчастливой, нищей или относительно состоятельной… Пусть это были убогие разговоры, касающиеся в основном материальных благ, но женщины не снимали с себя роли жены и матери. А теперь… Если бы Элеонора умела и любила ругаться, она назвала бы своих нынешних сослуживиц «потаскухами», потому что целью их были удовольствия, деньги и развлечения.
Во всем, что касалось философии, экономики вообще и марксизма в частности, Элеонора была крайне слаба. Поэтому она не бралась судить, хорош нэп или плох, единственный ли это способ наладить жизнь или есть еще какой-то путь. Просто сам дух новой жизни стал ей неприятен.
Обычное человеческое достоинство, присущее не только аристократам, но и честным людям всех сословий, куда-то ушло, сменилось апломбом хама. Этот апломб, выражавшийся в мутной формуле «я хозяин жизни, и мне положено», проникал повсюду, от базаров до самых высших сфер. Оставалось только удивляться, как быстро он исчезал, когда хам понимал, что желаемое нельзя взять нахрапом, как быстро сменялся самоуничижением…
Это было заметно даже на улице. Возможно, Элеонора немного сгущала краски, но ей казалось, что в прежние времена людской поток двигался гораздо более упорядоченно. Все уступали друг другу дорогу, расходились без всяких тычков и толчков, а теперь только успевай уворачиваться от пролетариев: посторонись! я иду!
Как странно, думала она, ведь после революции прошло не сто лет, а всего пять… Всюду те же самые люди, что жили при царе и воспитание получили при царе, а кажется, что они прилетели с другой планеты. Неужели человек может так сильно измениться?
Она старалась жить так, чтоб как можно меньше соприкасаться с реальностью. У нее была интересная служба, учеба на курсах и прекрасные вечера с Елизаветой Ксаверьевной. Были любимые книги, в которые можно нырнуть с головой.
Но самое главное – было письмо Константина Георгиевича. Элеонора давно выучила его наизусть, поэтому не разворачивала из боязни, что иначе оно быстро истлеет на сгибах и рассыплется. Она брала его в руки каждый вечер, словно живое существо, зажмуривалась и думала о Воинове, мечтая, что в эту минуту он тоже думает о ней. Потом садилась писать ответ. Она писала почти каждый день, надеясь, что вдруг случится чудо и какое-нибудь из ее писем все же найдет адресата.
Каждый день она со страхом и надеждой открывала почтовый ящик… Раз в неделю заглядывала к секретарше начальника, вдруг ответ придет туда. Но ящик был пуст, а секретарша сочувственно качала головой.
Преодолев неловкость, Элеонора связалась с Катериной, спрашивала, нет ли у них известий от Воинова, но та ничего не знала. Элеонора попросила сообщить ей, если Костровы получат от него весточку, и тактично уклонилась от приглашения на чай. Сергей Антонович стал теперь таким большим начальником, что дружить с ним было бы просто-напросто неприлично.
Она с удивлением поняла, что скучает по этому плотному веселому человеку, а еще больше – по оголтелой коммунистке Катерине.
Все люди, которые много значили для нее, почему-то уходили из ее жизни. «В один прекрасный день я проснусь такой же слегка безумной одинокой старушкой, как Елизавета Ксаверьевна, – иногда горько думала Элеонора, – и подумаю: как же так, ведь еще вчера я была совсем юной девушкой…»
Однажды, в минуту сильной грусти, она рассказала Шмидт о Константине Георгиевиче. Зачем, Элеонора толком и сама не знала, кажется, втайне надеялась, что Елизавета Ксаверьевна, на дух не переносившая большевиков, одобрит ее поведение.
Но старая дева только вздохнула:
– В гражданской войне, – сказала она после долгого молчания, – нет правых и виноватых. Это война людей, доведенных до крайней степени отчаяния. Просто хороших людей это отчаяние толкает на смерть, а плохих – на убийство. Вот и все. И вы, дорогая моя, поступили слишком резко. Что ж, остается только молиться, чтобы вы встретились с этим молодым человеком и исправили свою оплошность.
Но ответом на все молитвы было глухое молчание Константина Георгиевича. Война заканчивалась, многие врачи возвращались из действующей армии, но Воинова не было среди них. Где он, неужели погиб? А вдруг в суматохе бежал из России? Вдруг в последнюю минуту устремился к своей первой любви, осознав, что иначе потеряет ее бесповоротно и навсегда? Он ведь любил Лизу всем сердцем… Да, он мог так поступить. Воинов исполнил свой долг врача до конца и с чистым свободным сердцем отправился к любимой. Вот и хорошо, что она прогнала его тогда… Разумом Элеонора понимала всю дикость этого предположения, но почему-то расстраивалась так, словно ей было доподлинно известно об эмиграции Воинова. Расстраивалась и тут же ругала себя за эгоизм: главное, чтобы он был жив и здоров.
От Лизы тоже не было вестей. Элеонора вела оживленную переписку с Архангельскими. Они совершенно освоились на новом месте, Петр Иванович много работал в клинике, занимался с молодыми докторами и с гордостью писал, что выпускники медицинского института специально хотят получить место в этой глухомани, лишь бы стать учениками Архангельского.
Элеонора недоумевала: то ли дядя с теткой искренне довольны нынешним положением вещей, то ли не хотят ее расстраивать, вот и пишут в таком бравурном тоне.
В ответ она подробно описывала свои дела, рассказывала о работе, о сложных операциях, даже о туалетах и прическах, модных в этом сезоне (Ксения Михайловна была вовсе не так равнодушна к своей внешности, как Элеонора), но не могла избавиться от чувства неловкости. Ей казалось, что Архангельские поддерживают эту переписку только ради известий о Лизе, а ей нечего было им сообщить.
То ли сама Лиза посчитала эти контакты слишком опасными для родителей, то ли струсил представитель Красного Креста, то ли произошел какой-то технический сбой…
Почему-то Элеонора чувствовала себя виноватой, что не может сообщить Архангельским ничего нового, ее деятельная натура противилась пассивному ожиданию. Пересилив себя, она отправилась к Шварцвальду – вдруг у него есть какие-то сведения?
Идти в дом, откуда ее, в сущности, выгнали, было слишком тяжело. Элеонора боялась увидеть Эрика, ведь при виде малыша в ней всколыхнутся чувства, которые ей удалось немного обуздать в разлуке. Вдруг он еще не забыл ее, потянется, попросится на ручки… Это пугало больше всего.
И она пришла к барону на службу, как обычная посетительница. Взяла с собой книгу, настроившись на долгое ожидание в приемной, но Шварцвальд, выглянув из кабинета за каким-то пустяком, заметил ее и сразу пригласил к себе.
Он держался очень дружески, и видно было, что он действительно рад ее видеть.
– Какая вы молодец, что зашли, – он поухаживал за ней, помог снять жакетку, и Элеонора вдруг пожалела, что уже слишком тепло, чтобы носить меха Елизаветы Ксаверьевны, – если бы вы знали, как нам всем вас недостает!
Элеонора неопределенно кивнула. Эти слова были всего лишь светской любезностью… Не признаваться же, как сама она тоскует по Эрику!
– Мы недавно виделись с Костровым, – продолжал барон, – он отзывался о вас с большой теплотой и сетовал, что вы очень редко бываете у них.
– К сожалению, это так, – Элеонора вдруг сообразила, что здесь нельзя спрашивать о Лизе, да и опального профессора Архангельского лучше не упоминать. Поговорка «у стен есть уши» сейчас актуальна, как никогда, и своими расспросами она может доставить барону кучу неприятностей. Придется сочинять ей на ходу. – Столько работы, что совершенно некогда поддерживать старую дружбу. А я заглянула к вам, потому что вспомнила, как вы пригласили нас с дядюшкой на обед и приготовили сюрприз. Помните?
Шварцвальд взглянул на нее исподлобья:
– Да, прекрасно помню. И очень хотел бы обрадовать вас снова, но нечем. Не беспокойтесь, если хоть что-то появится, я тут же дам вам знать. В этом можете на меня положиться.
– Спасибо.
Элеонора встала. Барон сидел за массивным письменным столом, опустив подбородок на сплетенные кисти рук. Вид у него был немного растерянный, поникший, но таким он нравился ей гораздо больше, чем в свою бытность блестящим светским львом. Возле лампы стояла большая фотография Саши, Элеонора посмотрела на нее и вдруг подумала: почему она никогда раньше не замечала, что Саша изумительно красивая женщина?
Снимок, что бывает очень редко, передал не только сдержанную прелесть ее черт, но и ту внутреннюю энергию и доброту, которые делали ее лицо особенно привлекательным.
«Милая Саша», – вдруг подумала она и поняла, что в эту секунду по-настоящему простила подругу. Это было чувство радостного освобождения, словно внезапно перестал болеть зуб или объявили высшую оценку за экзамен, которого ты страшно боялась.
Она улыбнулась Шварцвальду и неожиданно для себя подошла и быстро поцеловала его в макушку.
– Спасибо вам за все, Николай Васильевич. Храни вас бог…
Не дожидаясь ответа, Элеонора быстро вышла. Бедный, бедный барон! Он очень хороший человек и волнуется за нее. Желает ей лучшей доли, планирует, анализирует, сторонится иллюзий и компромиссов, а ведь все гораздо проще. В невзгоды люди должны держаться вместе, вот и все.
С другой стороны, тут же проснулся в ней адвокат, именно твое присутствие мешало этим людям быть вместе. А теперь все у них наладилось, посмотри только, как подобрел и смягчился барон.
Глава 23
Ее всегда удивляло, как быстро наступает весна. Не успеешь оглянуться, как исчезает последний снег, распускаются почки, из раскисшей влажной земли появляются слабые ростки. И только осознаешь, что зима кончилась, как вовсю уже шумит свежая зеленая листва, и сильная высокая трава выросла где только можно, даже в трещинах мостовой.
Стояло удивительно солнечное для Петрограда майское утро. Смена закончилась, но Элеонора не спешила домой. Она вышла в маленький садик позади хирургического корпуса и опустилась на старую, без половины реечек, скамейку. Дерево было теплым, нагрелось на солнце, и она тоже подставила лицо мягким ласкающим лучам. Ею овладело почти забытое чувство радостной надежды, и хоть Элеонора знала, что это не предвещает ровным счетом ничего, само ощущение было очень приятным.
Она закрыла глаза. Не вытащить ли сегодня Елизавету Ксаверьевну с Микки на прогулку? Устроить что-то вроде настоящего пикника? На трамвае можно поехать в Стрельну, а там залив. Миллионы солнечных бликов на морской глади, крики чаек, теплая галька и шелест камыша.
– Вы будете Элеонора Львова? – низкий мужской голос врезался в ее мечты.
– Да, это я, – открыв глаза, она увидела рядом с собой пожилого красноармейца. Это был степенный мужчина уже в годах, довольно плотный, с густыми прокуренными усами.
Элеонора встала и улыбнулась. Несмотря на военную форму, он напомнил ей человека из прежней жизни.
– У меня письмо до вас, – сказал красноармеец тягуче, – дюже важное. Слава богу, вы еще не ушли.
Она взяла простой, сложенный вдвое лист бумаги.
– Вы будете ждать ответ?
– Да, подожду, пожалуй, – он сел на лавочку, которая заскрипела и слегка прогнулась под ним.
Узнав почерк Воинова, Элеонора чуть не вскрикнула от радости. Зажмурилась, представляя, что мог Константин Георгиевич написать… Но человек ждал ее ответа, и мечтать времени не было.
«Дорогая Элеонора Сергеевна! Прошу Вас, как только Вы получите эту записку, приходите по указанному ниже адресу. Очевидно, Вас удивила эта странная, если не сказать наглая просьба, но Вы сразу все поймете, когда окажетесь на месте. Еслиъ сможете, постарайтесь не спрашивать ни о чем у Василия Петровича, человека, который передаст это письмо. Пожалуйста, приходите, как только сможете, забудьте ненадолго обиды, которые я невольно Вам причинил. Очень жду!»
Элеонора в недоумении посмотрела на Василия Петровича. Тот спокойно курил, медленно выпуская дым сквозь усы. Воинов просил ни о чем его не спрашивать. Почему? Он болен? Но почему тогда не в госпитале? Остался инвалидом? Да, кажется, это единственное объяснение его странному поведению. О, бедный, бедный Константин Георгиевич!
Сердце колотилось так, что даже во рту пересохло. Листок в руках дрожал. Она в замешательстве посмотрела на красноармейца. Какого ответа он от нее ждет?
– Я приду сегодня же, – сказала она севшим глосом, – очень скоро.
Василий Петрович кивнул:
– Добре. Я тогда домой поеду. Прощайте, барышня. Доктору поклон.
Как ни замирало сердце в предвкушении скорой встречи, как ни стремилась душа быстрее утешить Воинова, Элеонора все же забежала домой навести красоту. Откуда только взялось это тщеславное желание понравиться Константину Георгиевичу?
Она погладила свою прямую черную юбку и достала парадную кофточку. Белая кофточка, без лишней пышности отделанная старинными кружевами, перешла ей от Ксении Михайловны и до сих пор казалась Элеоноре слишком красивой, чтобы ее надевать. Она просто любовалась этой прекрасной вещицей, разглядывала узор кружев и радовалась, что она у нее есть. Ну вот, теперь наконец настал час кофточки.
Элеонора тщательно причесалась, собрав волосы в привычный узел на затылке. Все же вид у нее совсем нафталиновый, как у строгой классной дамы, но в модных тряпочках и с современной прической она будет выглядеть просто глупо.
Зачем ты прихорашиваешься, дурочка? Ты для Воинова просто друг, ему все равно. Он влюблен в Лизу, и никакие тряпочки не помогут тебе ее заменить. Мы друзья, близкие люди, пережившие вместе много всего, не надо сюда вмешивать еще и любовь, это только все испортит.
Сделав себе такое строгое внушение, Элеонора все же натянула единственную пару шелковых чулок и, до миллиметра выверив шов, отправилась по указанному в письме адресу.
Это оказался мрачный серый дом на Знаменской улице. Элеонора всегда испытывала мимолетное чувство тоски, когда ей случалось проходить мимо, и теперь это показалось ей дурным знаком.
Поднявшись в третий этаж, она остановилась перед высокой двустворчатой дверью. Удивительно, но на ней не было никаких опознавательных знаков, ни гравированных латунных табличек, оставшихся от прежних времен, ни нынешних фанерок, указывающих, какой семье сколько раз звонить.
Поколебавшись немного, она нажала на кнопочку два раза. Сквозь дверь услышала резкий звук звонка, потом долго стояла тишина. И только когда Элеонора подумала, уж не перепутала ли она адрес, послышались шаркающие, очень медленные стариковские шаги.
Да, верно, я ошиблась и зря побеспокоила немощного человека, со стыдом подумала она, и тут дверь открылась.
Увидев Константина Георгиевича, она едва удержадась, чтобы не вскрикнуть. На секунду пришла спасительная мысль, что виной всему неверное освещение, но тут же исчезла. Войдя, она оказалась в кухне, и тут, при свете дня, сразу стало видно, что Константин Георгиевич очень болен.
Не в силах произнести ни слова, она жадно смотрела на него и пыталась найти хоть какое-то опровержение своим догадкам. Он тоже молчал, только улыбался и держал ее за руки.
Воинов исхудал так, что едва стоял на ногах. Щеки запали, глаза ввалились, только крючковатый нос остался от прежнего Константина Георгиевича.
– О, мой дорогой, – наконец прошептала Элеонора.
Во время голода девятнадцатого года ей приходилось видеть истощенных людей. Она сама была очень худа, но она служила и получала карточки, и заботиться ей нужно было только о самой себе. Многим аристократам приходилось гораздо хуже, бывало, голодали по несколько дней кряду, но даже у них Элеонора не встречала такой страшной худобы и восковой прозрачности.
– Вот он я, точнее, то, что от меня осталось, – сказал Воинов нарочито весело, а Элеоноре показалось, что у него даже голос похудел. – Поговорите со мной или развернетесь и уйдете?
– Константин Георгиевич, я больше никогда вас не покину!
– Тогда разрешите пригласить вас в комнату?
Они пошли по коридору, причем Воинову пришлось опереться на ее руку, и, преодолевая эти несколько метров, он останавливался перевести дух.
Комната оказалась неожиданно большой, в два окна, и скодость обстановки делала ее еще больше. У Воинова имелся только пружинный матрас, убранный казенным одеялом, вещевой мешок в углу да спиртовка на широком подоконнике. Был еще пустой посылочный ящик, который Элеонора приспособила вместо стула. Константина Георгиевича она уложила на матрас. Он попытался сидеть, но это оказалось слишком тяжело для него. Путешествие до входной двери забрало у него все силы, и, чтобы дать ему немного отдохнуть, Элеонора стала рассказывать, почему не ответила на его письмо.
– Я понял, – Воинов мягко улыбнулся, – немножко позлился, а потом понял, что письмо до вас не дошло. Хотел писать новое, но тут вмешались другие силы.
– Скажите, что с вами, дорогой Константин Георгиевич…
– Ничего особенного. Как поют наши враги: меченый свинцом, я пришел с войны. Это скучно обсуждать. Осколочное ранение в живот, потом я валялся по госпиталям, изумляя своей живучестью всех докторов, в том числе себя самого. Мою койку отгораживали ширмой не один и не два раза, но я все никак не помирал. А потом решил, что есть более интересный способ скоротать последние денечки, чем лежать на больничной кровати и ждать смерти. Как раз демобилизовался мой любимый санитар Василий Петрович, и, воспользовавшись оказией, я выписался, взял отпуск по ранению, и вот я здесь. Вообще удивительный наш народ, если подумать. Вася, неграмотный мужик, практически на себе меня волок и в один день провернул все дела с комендатурой и чем там еще, что мне сразу комнату дали.
– А вы… – Элеонора замялась, не зная, как спросить. – Вы один?
– Как перст. Но что мы все обо мне? Расскажите, как вы живете!
– Об этом мы еще успеем поговорить, – сказала Элеонора строго, – в первую очередь меня интересует ваше здоровье. Что говорят врачи?
В ответ Воинов только фыркнул.
– Это не шутки. Василий Петрович уехал домой, очевидно, ухаживать за вами буду я.
– Но я…
– Не спорьте! – она выпрямилась на ящике и почувствовала, как в бедро врезается гвоздик. – Вам сейчас нужна моя помощь. И чем скрупулезнее мы будем выполнять указания врачей, тем быстрее вы поправитесь и избавитесь от моей опеки.
Она говорила тем же строгим тоном, что и в полевом госпитале, и от этого казалось, будто они с Воиновым не расставались на много лет, будто не было этой тяжелой разлуки…
Константин Георгиевич приподнялся на постели и протянул ей руку. Она подала свою, с болью чувствуя, какой хрупкой стала эта сильная рука. Он внимательно посмотрел ей в глаза.
– Я умираю, Элеонора Сергеевна, – сказал Воинов просто, – и ничего с этим поделать уже нельзя.
Наверное, нужно было сказать что-то фальшиво-обнадеживающее, но Элеонора просто опустилась на колени, порывисто обняла Воинова и заплакала. Он гладил ее по волосам своей почти невесомой рукой.
Так они сидели, обнявшись, довольно долго, потом Элеонора взялась за работу. Она намыла комнату, особенно окно. Василий оставил небольшой запас продуктов, крупу и сухое молоко, и Элеонора сварила Воинову жидкую кашу.
Он съел немного только после упорных уговоров, заметив, что еда вызывает у него сильную тошноту, которую он не всегда может сдержать. Элеонора не слишком настаивала, понимая, что каша – это не та пища, что требуется истощенному человеку. Нужны яйца, куриные бульоны, свежее молоко, фрукты.
Потом она вышла познакомиться с ответственной квартиросъемщицей. Ею оказалась мрачная декадентка лет сорока, одетая во все черное. Она сидела в кухне и курила папиросу, заправленную в полуметровый мундштук. В ответ на робкую речь Элеоноры, что она хорошая знакомая Воинова и будет теперь при нем сиделкой, декадентка неожиданно взглянула на нее с симпатией и разрешила стирать не по расписанию, а хоть каждый день, если ванна свободна. Элеонора тут же воспользовалась этим предложением и очень смутила Константина Георгиевича.
– Вы все трудитесь и трудитесь, – проворчал он, – а я хотел побыть с вами, поговорить.
– Подождите, я вам еще надоем.
Элеонора нахмурилась, думая, что ей нужно будет принести в несовершенное хозяйство Воинова. И вдруг заметила, что на левом боку его гимнастерки расплылось влажное пятно.
– Что это?
– А, ничего такого. У меня там рана, я потом сам перевяжу.
– Позвольте мне.
Воинов покачал головой, но Элеонора настояла.
С ее помощью он снял гимнастерку и нижнюю рубаху. Как больно было смотреть на него, такого слабого, беззащитного! Межреберные промежутки запали настолько, что сквозь них, казалось, видно, как бьется сердце. В левом подреберье обнаружилась застарелая рана. Багровая от долгого воспаления, она сочилась гноем. Элеонора призвала на помощь всю свою аккуратность, даже легкое прикосновение к таким наболевшим ранам очень чувствительно.
– Я надеялся, вы избавите меня от этого унижения, – вдруг глухо сказал Константин Георгиевич, когда она помогла ему надеть рубашку.
– Простите, я не поняла.
– Я хотел, чтобы вы запомнили меня другим. Человеком. Мужчиной, наконец. А не гниющим куском плоти.
Был только один способ бороться с этим затруднением.
– Если посмотреть широко, то все мы, в сущности, такие куски плоти.
– Должен заметить, вы, Элеонора Сергеевна, очень аппетитный кусочек, – парировал Воинов с улыбкой.
Она тоже улыбнулась, хотя на душе скребли кошки.
Когда надежды нет, остается только смеяться, и грубоватые шутки поддержат его лучше слезливых страданий и истерик, но как же тяжело дается это спокойствие!
В хлопотах время пролетело быстро, они оглянуться не успели, как наступил поздний вечер. Элеонора собралась домой.
– Я приду завтра. Вы проснетесь, а я уже буду здесь.
– Главное, чтобы я еще был здесь, – хмыкнул Воинов. – Все, все, я пошутил! Идите спокойно, несколько недель у меня есть.
Она не спала всю ночь. На сердце лежала свинцовая тяжесть, серая безнадежность. Жизнь Элеоноры никогда не была особенно счастливой, но все прежние несчастья вдруг показались ей детскими обидами, мимолетными неприятностями рядом с нынешним горем. Особенно тяжело было то, что все пережитое раньше касалось только ее, и если она не могла ничего изменить, то своими чувствами и делами распоряжалась по собственному усмотрению. Она была хозяйкой своего горя раньше, а теперь – нет. Теперь она может только смотреть, как угасает ее друг, единственная родная душа. И все ее мастерство сиделки, самый лучший уход в конечном счете ничего не изменят…
В маленькой комнате ей стало очень душно, Элеонора вышла на лестницу и курила одну папиросу за другой. Зачем случилось так? Почему этот осколок не пролетел мимо? Почему Воинов не демобилизовался, когда война пошла на убыль, или не перевелся в какой-нибудь центральный госпиталь, на что имел полное право благодаря своему мастерству?
Понимая, насколько бессмысленны теперь все эти вопросы, Элеонора продолжала терзаться ими до самого утра. Лишь в шестом часу, когда за бурыми крышами домов показался краешек солнца, она смогла взять себя в руки и направить мысли в практическое русло.
Во-первых, нужно пригласить к Воинову хорошего врача, вдруг он скажет, что есть надежда. По крайней мере, даст рекомендации, чтобы облегчить его состояние, насколько возможно. Да, Константин Георгиевич сказал, что безнадежен, но нет на свете людей, которые бы объективно и здраво судили о своем положении.
Он слишком слаб и не сможет оставаться один целые сутки, пока она на дежурстве. Но поскольку Воинов смущается даже от ее заботы, присутствие другой сиделки доставит ему настоящие страдания. Значит, требуется взять отпуск, и немедленно. У нее есть и законный отпуск, и много донорских дней (отгулы за сдачу крови, которые она никогда не использовала и никогда не вспомнила бы о них в других обстоятельствах).
Даст ли ей старшая все заслуженные дни? Если нет, придется увольняться. Деньги у нее есть, а потом, если… Если случится то, о чем думать просто невозможно, она всегда найдет работу. Уедет к Петру Ивановичу под крыло или еще куда-нибудь, где нужны хорошие сестры.
Кстати, деньги. Вопрос не праздный, Воинову потребуется усиленное питание. Ведя довольно аскетический образ жизни, Элеонора тратила мало, от каждого жалования оставалась треть, а то и половина. Она откладывала деньги без какой-то ясной цели, а теперь вот пришел их черед. Если этого будет недостаточно, она снесет в Торгсин кольцо Ксении Михайловны, за него можно выручить много. Будет неловко перед теткой, но Воинов важнее.
Кажется, придется нарушить данное Константину Георгиевичу обещание. К восьми утра Элеонора побежала в академию. Старшая, как всегда, куда-то опаздывала, и даже если у нее не было срочных дел, считала ниже своего достоинства вот так вот взять и сразу поговорить с подчиненной.
– Жди, пока я освобожусь, – бросила она и умчалась.
Для Элеоноры находиться в оперблоке одетой по-уличному было все равно что голой на улице. Переодеваться она тоже не хотела, поэтому вышла на широкую лестничную клетку, попросив санитарочку выглянуть, когда старшая освободится.
Хлопнула дверь наверху, и к ней спустился Крылов, нетерпеливо разминая в руке папиросу.
Дружелюбно протянул ей пачку и сказал: «Ы?»
От курева у Элеоноры стояла горечь во рту, но она взяла папиросу, чтобы не обижать единственного человека в академии, который искренне ей симпатизировал.
Заметив, что она в гражданском платье, он вопросительно поднял свои короткие брови, и Элеонора вдруг решилась. Константин Георгиевич проснулся, ждет ее, сейчас не время для условностей.
– Простите, вы не могли бы мне помочь?
– Угу!
Крылов отвел ее в свой кабинет, посадил на стул, а сам устроился напротив, подперев щеку кулаком. Другой рукой он махнул, мол, рассказывайте.
Она заговорила и почувствовала, что голос предательски дрожит, несмотря на все усилия держаться хладнокровно.
Крылов встал, пошарил в шкафчике и извлек оттуда бутылку коньяка. Плеснул немного в стопку, подал ей. Элеонора хотела только пригубить, но он придержал стопку за дно, пока она не выпила все.
Алкоголь – плохое лекарство, но, кажется, именно оно было сейчас нужно. Она почувствовала себя не такой растерянной.
– Жди здесь, – буркнул Крылов и вышел.
Его не было долго, Элеонора стала уже волноваться, как он появился с отпускными документами.
– В бухгалтерию – сама. Будет нужен врач – обращайся. Я не абдоминальщик, но найду.
Выдав эту невероятно длинную для него речь, Крылов откинулся на спинку стула и махнул рукой, иди, мол.
Получив баснословные отпускные, Элеонора заторопилась к Воинову. Пришлось сделать небольшой крюк и купить на Мальцевском рынке два яйца, кусок куриной грудки и несколько яблок. Хотела взять еще молока, но не было посуды.
Воинов встретил ее с такой радостью, что ей стало немного не по себе.
– Слава богу, наконец-то! А я уже стал думать, что наша вчерашняя встреча мне приснилась.
– Нет, не приснилась. Я здесь и сейчас буду варить вам бульон.
Константин Георгиевич поморщился. Мысли о еде вызывали у него тошноту.
В кухне Элеонора вновь встретила соседку. Она немного побаивалась эту мрачную женщину, чувствовала себя непрошеной гостьей и старалась быть как можно незаметнее на общей территории. Но дама неожиданно дружелюбно обратилась к ней:
– Не сочтите, что я лезу не в свое дело, но у вас, верно, ничего нет из обстановки?
– Нет, но это не страшно, – улыбнулась Элеонора.
– Вы меня чрезвычайно обяжете, если возьмете несколько вещиц. После уплотнения я живу, как на складе.
– Но…
– Не спорьте. У вас сейчас полно других забот. А насколько я поняла, ваш муж служил хирургом еще в империалистическую. Мог лечить кого-то из моих…
Хозяйка глубоко затянулась.
– Константин Георгиевич не мой муж, – поспешно сказала Элеонора.
– Что ж, так даже лучше, – хозяйка загадочно усмехнулась и поднялась с табурета, – пойдемте быстрее покончим с этим, не будем тратить время на ненужные реверансы.
В комнате действительно было тесно, и вся она производила тягостное, тоскливое впечатление. Элеонора взяла кушетку, легкомысленный стол с гнутыми ногами и ширму.
Вдруг ей стало так стыдно, что слезы навернулись на глаза. Она жила, брезгливо сторонясь людей, делая исключение только для нескольких особ. Чего только она не передумала о человечестве в последние годы! Однако, как только пришла настоящая беда, со всех сторон пришла поддержка. Крылов, теперь вот соседка, совершенно, по сути дела, посторонняя женщина… А с какой деликатностью она предложила помощь! Права Елизавета Ксаверьевна, людей нельзя презирать.
Глава 24
Как она и полагала, разговор о том, чтобы Воинова осмотрел врач, вызвал в нем бурю негодования.
– Нет, нет и нет! Я не хочу унижаться и выпрашивать себе жизнь. Поймите, единственное, чего мы достигнем, пригласив доктора, – это поставим его в неловкое положение. Он будет мне лгать, я сделаю вид, что верю, он притворится, будто верит, что я верю… Ах, Элеонора Сергеевна, или я сам не доктор?
– Но выслушать мнение специалиста никогда не лишнее.
– Дорогая моя! – Воинов взял ее за руку и усадил рядом с собой. Он стремительно терял силы, самые простые движения утомляли его. – Я прекрасно понимаю ваши чувства. Но поймите, я не с Луны прилетел. Я лежал в довольно приличных госпиталях, меня лечили тысячи врачей, которые, поверьте, желали моего выздоровления не меньше, чем я сам, и все равно ничего не смогли сделать. Это ранение должно было уложить меня в могилу сразу на месте, и то, что я жив, поистине подарок судьбы. Не нужно просить у Господа слишком много.
– Вас лечили военные хирурги, они могли просто не знать…
– Да что тут знать, господи! Да, я доктор, а доктора всегда болеют не как люди, это правда. Образно говоря, врач – это человек, который во время эпидемии чумы наступит на ржавый гвоздь и умрет от столбняка, но в моем случае эта маленькая индульгенция природы уже дала мне все, что можно.
Элеонора упрямо молчала.
– Ну как мне вас убедить? Посмотрите на меня внимательно, видите эту полоску между радужкой и нижним веком? Бывают глаза навыкате, а это – глаза на закате. Из тех пациентов, у кого я наблюдал этот симптом, никто не выжил.
– Не вижу никакой полоски, – соврала Элеонора.
– Не грустите! Все хорошо. Бог дал мне время подумать, вспомнить свою жизнь, в чем-то покаяться, чем-то гордиться. Понять кое-какие вещи, о которых мне все недосуг было размышлять. Когда человек становится хирургом, он больше не может позволить себе такую роскошь, как чистая совесть. Я ошибался, причинял людям напрасные страдания и надеюсь, что мой недуг хоть отчасти это искупит. Вы рядом, чего еще желать? Я счастлив и спокоен, я готов встретить смерть. Прошу вас, давайте не будем суетиться.
Слезы душили ее, да и что она могла возразить… Только уткнулась лицом в его ладонь.
– Что вы, не надо плакать. Я все равно останусь с вами, живой или мертвый. Всегда вас услышу, просто не смогу ответить. Ну все, все! Покамест я еще жив, давайте поговорим о делах. У меня было две цели: увидеть вас и закончить монографию.
– А? – Элеонора всхлипнула и перестала плакать, удивленная таким резким поворотом темы.
– Первой цели я достиг, слава богу, но со второй дело обстоит гораздо хуже. Честно говоря, боюсь не успеть. Я, негодяй, и так взвалил на вас слишком много, но попрошу еще об одном. Найдите, пожалуйста, хорошую машинистку.
Элеонора улыбнулась сквозь слезы:
– Она перед вами. Я закончила курсы машинописи и с радостью займусь вашей рукописью. Мне только нужно съездить домой, привезти машинку.
На следующий день стало ясно, что она не справляется. Константин Георгиевич стремительно слабел, он уже не мог вставать с постели. Элеонора очень переживала, что Воинов отказывается от пищи, и он, чтобы не огорчать ее, съел тарелку бульона. От этого сделалось только хуже, началась мучительная рвота.
Что же делать? Не кормить? Обречь Воинова на голодную смерть?
– Давайте пригласим хоть терапевта, – сказала она робко, – может быть, какие-то лекарства…
– О нет! К наркотикам я не пристрастился, если вы об этом. А слово «терапевт» состоит из двух греческих слов: терра – «земля» и пэо – «вгоняю». Я продержусь сколько мне положено, без того чтобы глотать всякую гадость. Давайте-ка лучше займемся делом.
Монография была готова примерно на две трети. Константин Георгиевич обработал и проанализировал фактический материал, написал обзор литературы, насколько возможно было ознакомиться со специальной литературой в суровые годы войны.
Ее дожидалось шесть толстых тетрадей с готовым текстом, между тем почерк Воинова обладал коварной особенностью: он был четок, красив, но очень неразборчив. Однако эти тетради могли подождать, сначала следовало заняться заключением и практическими рекомендациями, которые пока существовали только в голове Константина Георгиевича.
Он диктовал, она печатала черновик, а после правки делала четыре экземпляра набело.
Элеоноре было страшно. Казалось, только необходимость закончить книгу поддерживает в Воинове жизнь. Он будет жить, пока не поставит последнюю точку, а потом…
– Это очень важно, – сказал он перед тем, как приступить к работе, – хоть в этом труде не найдется оригинальных научных идей и изящных обобщений, мне очень важно передать свой опыт. Многие скажут, что это неправильно, что полостные операции только тормозят работу подвижных госпиталей, нарушают этапность и мешают движению частей. В некотором роде так и есть. Но солдат, поднимаясь в атаку, должен знать, что для спасения его жизни будет сделано все, что только возможно.
И Элеонора поняла, что надо отбросить суеверный страх. Пусть Константин Георгиевич узнает, что его труды не пропали даром…
Она позвонила Елизавете Ксаверьевне.
Вечером старая дева явилась лично.
Грозно выпрямившись, Шмидт уселась посреди комнаты на посылочном ящике.
– Вы вышли замуж, моя дорогая? – спросила она, поджав губы и не глядя в сторону Воинова. Он был одет, но смог только слегка приподняться на постели и сразу без сил упал на подушки.
Элеонора покачала головой.
– В таком случае это неприлично…
– Не льстите мне! – засмеялся Воинов, и Элеонора испугалась, что Елизавета Ксаверьевна сейчас обидится и уйдет, но старая дева вдруг издала сухой резкий смешок и посмотрела на них совсем другим взглядом.
– Вы хотите, чтобы я напечатала рукопись?
– Что вы, на это мы не смели надеяться, вы и так нарасхват! Мы хотели только попросить, чтобы вы поспрашивали в издательстве, если это удобно…
Елизавета Ксаверьевна жестом приказала Элеоноре замолчать.
– Возьмусь сама!
Она пролистала тетрадки, оценивая объем и примеряясь к почерку, бросила их в сумку и ушла, не тратясь на светские любезности.
Пока Элеонора провожала старую деву, та отругала ее за пассивность. Мол, нужно обязательно пригласить доктора, лучше всего профессора, и она может посодействовать благодаря своему положению в издательстве. Элеонора сдержанно поблагодарила.
Константин Георгиевич спешил, диктовал ей по несколько часов подряд и злился, когда Элеонора отвлекалась на хозяйственные дела. И такова была внутренняя сила этого человека, что она забывалась и, колотя по клавишам вслед его низкому глуховатому голосу, чувствовала себя почти счастливой. В эти минуты она не думала о том, что Воинов скоро покинет ее.
Но наступало время ухаживать за ним, Элеонора вставала из-за машинки, и чары рассеивались, снова наваливалась свинцовая безнадежность.
Сердце наполнялось тупой болью, такой мучительной, что Элеонора не сразу заметила, как Константин Георгиевич стыдится ее, и то, что ей приходится видеть его немощь, причиняет ему худшие страдания, чем физическая боль.
Это было неправильно, и Элеонора решилась:
– Константин Георгиевич, милый, ведь все могло быть наоборот! – воскликнула она. – Я могла бы тяжело заболеть, а вам бы пришлось ухаживать за мной. Неужели вы допускаете, что я могла бы подозревать вас в недостойных мыслях и стыдиться вашей заботы?
Воинов усмехнулся:
– Очень сложная конструкция.
– Вы прекрасно все поняли, не притворяйтесь!
– Нет, я не хочу об этом думать! Видеть вас такой больной – нет, ни за что! Я бы не выдержал! Тьфу-тьфу, не дай бог! Нет, определенно хорошо, что так, а не наоборот!
Заметив, что он взволнован, Элеонора хотела отступиться, но по какому-то наитию, словно ей подсказали, продолжала:
– И вы бы, разумеется, так же дали мне спокойно умереть? Что-то не верится! Да вы бы ад на рога поставили, привели бы всех известных вам докторов, а если бы я стала сопротивляться, вы не послушали бы меня, не щадили бы моих чувств, верно?
– Верно, не щадил, – нехотя буркнул Воинов.
– Так почему вы не позволяете мне заботиться о вас? Константин Георгиевич, я не знаю, как сказать… Наверное, вы были правы в своем смирении, когда были один. Но теперь я с вами. Я помогу вам.
Константин Георгиевич долго молчал. Взял папиросу, помял ее в пальцах и отложил. Раньше он любил курить, но теперь ему становилось дурно от первой же затяжки.
– Это действительно так важно для вас? – спросил он глухо. – Тогда пригласите кого-нибудь. Надеюсь, когда он скажет вам то же, что и я, вы успокоитесь и не будете больше меня мучить.
Было уже довольно поздно, но Элеонора побежала за доктором. И так уже много времени потеряно, почти двое суток.
Единственным врачом, которого она могла запросто побеспокоить в девятом часу, был Калинин. Он не считался особенно талантливым, но Элеонора доверяла ему. Кроме того, ей казалось, что свойская манера Николая Владимировича придется Воинову больше по душе, чем напыщенная академичность профессоров.
Ей повезло, Калинин еще не ушел со службы, был абсолютно трезв и сразу согласился пойти. По дороге она ввела его в курс дела.
Пока шел осмотр, Элеонора дожидалась в кухне. Соседках тоже была там, как всегда, курила, пила кофе и играла в карты сама с собой.
Зажав мундштук зубами, она с шиком перетасовала потрепанную колоду, разложила и долго вглядывалась в нее, барабаня пальцами по столу.
– Слушайте, поправится ваш возлюбленный, – сказала она с каким-то удивлением, – карты не врут, а этот пасьянс никогда не сходится, а сейчас вдруг сложился.
– Спасибо, – тихо ответила Элеонора, на минуту поверив, будто карты действительно обладают способностью заглянуть в будущее.
Наконец в дверях показался Калинин и махнул рукой, приглашая ее в комнату.
Она вгляделась, но физиономия доктора не выражала ничего, кроме обычного оптимизма.
– О, Львова, представляю, как ты намучилась! – засмеялся Калинин. – Доктора вообще самые несносные пациенты, а Константин Георгиевич это что-то особенное! Просто мракобес!
Самое странное, что мракобес лежал с безмятежной улыбкой, ей показалось, будто после общения с Николаем Владимировичем он даже немножко поздоровел.
– Короче, Львова, в связи с анамнезом, отягощенным медицинским образованием, все разговоры будем вести с тобой.
– Хорошо.
– Есть у меня одна мыслишка, но я хотел бы, чтоб еще Знаменский посмотрел. Сегодня уже поздно, а завтра я его приведу в обеденный перерыв. Лады?
Она кивнула, почти физически ощущая волны доброй энергии, исходившие от молодого доктора. Он принес в их дом… может быть, еще не надежду, но что-то хорошее.
Наступил немного неловкий момент. Она нащупала в кармане заранее приготовленный конверт:
– Николай Владимирович…
Но Калинин быстро перебил ее:
– Кстати, мне полагается гонорар за консультацию!
Он стремительно обнял ее и смачно поцеловал, так что у Элеоноры даже зазвенело в ухе.
– Вот спасибо! На завтра, Львова, обе щеки готовь, профессор как-никак придет!
– Я тоже был молодой и тоже рвался лечить всех подряд, – заметил Воинов едко, – но я старался не давать людям ложных надежд. Хорошо, что я доктор и не попался на эту удочку…
В ответ Элеонора только фыркнула. Ей почему-то было очень приятно, что Константин Георгиевич разозлился на «гонорар».
Калинину удалось маленькое чудо: он избавил ее от отчаяния и безнадежности. Элеонора знала, что до выздоровления еще долгий путь, но теперь она видела все же путь, а не запертую дверь.
Глава 25
Обычно говорят, что с бедой надо переспать, что утром все кажется не таким ужасным. С Элеонорой произошло наоборот. За ночь надежда поблекла, она стала думать, что Калинин при всем своем обаянии не блещет интеллектом и действительно заронил в ее душу ложные ожидания.
Теперь все зависит от того, что скажет Знаменский. Как продержаться до обеденного перерыва? Волнение душило ее, руки дрожали так, что она не могла печатать. Хорошо, что Воинов спал, он теперь просыпался поздно.
Элеонора занималась хозяйством, не в силах сосредоточиться на делах, и думала, что делать, если Знаменский признает Воинова безнадежным. Это окажется тяжелым ударом для Константина Георгиевича, и не важно, что он ни во что не верил и ничего не ждал.
Около полудня раздался звонок. Она побежала открывать, обмирая от волнения, но это оказалась Шмидт с Микки на коротком поводке.
– Как правильно писать: лапаротомия или лапоротомия? – спросила старая дева вместо приветствия.
– Лапаро, – машинально ответила Элеонора, – проходите, Елизавета Ксаверьевна.
– Некогда, – старая дева нахмурилась, – надо спешить. Пусть молодой человек увидит свою книгу хотя бы подготовленной к печати.
– И вы проделали такой путь ради одного термина?
– Остальные я нашла в словаре. Ужасный почерк! Ну да ничего, видали хуже.
– Хоть чашку чая…
– Ни в коем случае.
– Скажите, а вы не верите в выздоровление Константина Георгиевича? – тихо спросила Элеонора.
Елизавета Ксаверьевна положила руку ей на плечо:
– Пригласите хорошего доктора и не гадайте. А мне пора. Поправится наш пациент или нет, а чем скорее будет готово, тем лучше.
Доктора пришли вовремя, даже немножко раньше ожидаемого срока, но Знаменский долго любезничал с Элеонорой, превозносил Воинову ее заслуги, а ей пенял за забывчивость, мол, могла бы и заходить иногда в родной госпиталь. И только когда она была готова его убить, профессор начал консультацию.
Элеонора снова маялась в кухне. Знаменский долго не выходил, сначала это казалось ей дурным знаком, потом хорошим, потом снова дурным. Она села перебирать пшено. Зачем? Воинов не мог есть такую грубую пищу, ей тоже кусок в горло не шел.
Когда жестяная банка наполнилась, Элеонора сообразила, что прошло больше часа. Ни один осмотр не может столько длиться. Тем более, анамнез уже собрал Калинин и доложил профессору.
Что происходит? Дай бог, если Знаменский уговаривает строптивого пациента лечиться, а если наоборот? Если утешает, что ничем не может помочь? В таком случае ей лучше быть рядом…
Она тихонько постучалась в комнату.
– Господи, Элеонора Сергеевна, мы про вас совсем забыли! Простите! – воскликнул Знаменский. В руках он держал отпечатанные листы. – Так увлеклись… Превосходная работа! Честно говоря, я давно интересовался публикациями доктора Воинова, но не думал, что придется познакомиться в таких печальных обстоятельствах.
Кажется, она сильно изменилась в лице, потому что Знаменский осекся и крепко взял ее за локоть.
– Я уже сказал Константину Георгиевичу, что не считаю положение безнадежным, хотя он не желает со мной соглашаться. Ах, доктор, – заметил профессор добродушно, – если бы вы лечили своих пациентов так же, как себя самого, страшно представить, что бы было.
Воинов засмеялся:
– Я полагался не только на собственное мнение.
– Чтоб не томить… Я склонен согласиться с диагнозом моего молодого коллеги, – профессор кивнул в сторону Калинина, который сидел на подоконнике и быстро читал рукопись, – представляется, что у нашего пациента сформировался поддиафрагмальный абсцесс. Возможно, гнойный процесс поддерживается осколком. Нужно делать снимок брюшной полости и легких, я подозреваю небольшой реактивный плеврит. Но об этом не стоит волноваться, после ликвидации гнойного очага плеврит уйдет сам. Мы с доктором Калининым еще по дороге сюда обсудили план лечения вашего мужа. Нужно как можно скорее лечь к нам в госпиталь, проведем рентгеновское исследование, сутки-двое на предоперационную подготовку… Не буду вас обманывать, риск колоссальный. Но это единственный путь к выздоровлению.
Константин Георгиевич покачал головой.
Знаменский еще раз подчеркнул, что решать надо как можно скорее, истощение и гнойная интоксикация прогрессируют, с каждым часом умаляя шансы. В ответ на замечание Воинова, что ему надо закончить монографию, оба доктора замахали руками, потом Александр Николаевич тихо сказал, что если… не дай бог, то он лично подготовит к печати эту прекрасную работу. Но он убежден, что Константин Георгиевич доделает все сам, как только немного поправится.
Калинин обещал санитарную машину завтра в семь утра, и доктора распрощались, оставив Элеонору с Воиновым наедине.
– Вот видите! – воскликнула она с фальшивым оптимизмом.
Константин Георгиевич усмехнулся и сделал ей знак сесть рядом. Заправил ей за ухо выбившуюся прядь и сразу бессильно уронил руку.
– Милая моя Элеонора Сергеевна, это будет не операция, а казнь.
– Но Знаменский сказал…
– Я бы на его месте сказал то же самое. Но правда в том, что он опоздал. Еще месяц назад, возможно, все и удалосьбы, но теперь болезнь зашла слишком далеко. Скорее всего, это будет остановка сердца на этапе вводного наркоза.
– Поэтому они и запланировали сутки на подготовку!
Воинов помолчал, а Элеонора боялась неосторожным словом только все испортить. Она привыкла доверять докторам абсолютно, не подвергая их слова ни анализу, ни тем более критике. Если врач говорил ложиться на операцию, значит, следовало так и поступить и не задаваться глупыми вопросами типа «а знает ли он, что говорит? а почему он так говорит? а все ли он продумал? а нет ли у него какого-то коварного умысла?». А уж когда решение вынес консилиум, то переосмысливать его просто вредно для здоровья! Но высказать такое Константину Георгиевичу было нельзя…
Вместо этого она рассказала ему историю про Катерину. Как Петр Иванович рискнул и сохранил ей ногу. Да, было тяжело и страшно, и Кате пришлось вытерпеть много боли, зато теперь она здоровая молодая женщина, счастливая жена, а возможно, уже и мать.
– О, если бы я мог посоветоваться с Петром Ивановичем, – вздохнул Воинов, и Элеонора поняла по его мечтательной улыбке, что на самом деле он думает о Лизе.
Так они оставались довольно долго. Элеонора открыла окно и принесла папиросы. Воинов курил, закрыв глаза и наслаждаясь каждой короткой затяжкой.
– Даже голова закружилась, – сказал он. – Я понимаю, как это выглядит со стороны. Наверное, я кажусь вам трусом. И вы думаете, зачем он упрямится, ведь, в сущности, он ничего не теряет. Неделя, пусть десять дней, не больше. Но даже один день рядом с вами стоит целой жизни… Не отбирайте это у меня. Ну что такое? Не плачьте, прошу вас!
– Не буду, – она ладонью вытерла глаза и попыталась улыбнуться.
– Скажите, это действительно так важно для вас?
– Да, важнее всего на свете!
– Хорошо. Я поеду завтра с Калининым.
Элеонора стиснула его руку:
– Я буду с вами. Знаменский доверяет мне и позволит выхаживать вас после операции.
Ближе к вечеру Воинов вдруг сказал, что ему хочется яблоко, и не могла бы Элеонора сходить на рынок?
Понимая, что это всего лишь предлог и Воинову просто хочется немного побыть одному, Элеонора не торопилась.
Она строго-настрого приказала себе ни о чем не думать. Решение принято, и оно правильное. Три-четыре дня на одной чаше весов, а на другой – целая жизнь. Если она сейчас начнет терзаться, то ее настроение невольно перейдет на Константина Георгиевича, который и без того не верит в успех.
Знаменский предложил операцию, а он осторожный хирург, достаточно вспомнить Катерину. Он не стал бы просто так лишать Костю последних дней. Нет, все правильно! И все получится, Воинов пойдет на поправку, и лучшее, что она может сделать, – это не тратить силы на самоедство, а просто ухаживать за ним.
Но на душе все равно скребли кошки, и Элеонора очень обрадовалась, увидев возле дома Елизавету Ксаверьевну.
Та держала подмышкой простую картонную папку с завязками.
– Я принесла первую часть.
– Спасибо, но мне так неловко…
– Прекратите, милочка! Хорошо, что я вас встретила, не буду подниматься. Как ваши дела? Доктор был?
– Да, – Элеонора рассказала о предстоящей госпитализации, – теперь я уже не уверена, что это правильно. Мне кажется, Воинов решился на операцию только ради меня, а сам не верит в успех. Пусть несколько дней, но это тоже жизнь…
Ласковая улыбка вдруг преобразила суровое лицо:
– Милая моя девочка… Всегда помните, что мы, люди, не ведаем, что творим! А если серьезно, то в безвыходном положении всегда есть выбор: бороться или сдаваться. Нужно выбирать борьбу. Кстати, если нужны деньги…
– О нет, спасибо!
– Ну если вдруг понадобится, сразу обращайтесь без всякого стеснения. У меня их сейчас столько, что просто некуда девать.
В этот день они не работали. Элеонора собрала вещи в госпиталь, Воинов с удовольствием перебрал листы, полученные от Елизаветы Ксаверьевны. Он больше не говорил о скорой смерти, наоборот, сам убеждал Элеонору, что операция пройдет хорошо.
Но она слышала в его голосе фальшивые нотки, и он понимал, что не смог ее обмануть.
– Давайте не думать о том, что случится завтра, – сказал Воинов, – просто побудем вместе, как настоящие друзья. Поговорим, помолчим, как прежде. Вспомним что-нибудь хорошее, у нас с вами ведь столько прекрасных воспоминаний!
И они говорили до поздней ночи, то смеясь и перебивая друг друга, то замолкая, когда вспоминали тех, кого больше нет.
Она сидела рядом с Воиновым, пока тот не уснул, а потом тихонько вытянулась рядом на полу, не выпуская его руки.
В госпитале Воинов держался с удивительным мужеством.
Элеонора не отходила от него ни на шаг и удивлялась, как у него для всех находится доброе слово.
Ее положение сиделки было шатким, строго говоря, находиться рядом с Константином Георгиевичем ей не полагалось. Да, Знаменский назначил индивидуальный пост, но теоретически это должна быть штатная сестра.
Привыкнув к положению «белой вороны» в академии, Элеонора считала, что ее давно забыли, и очень удивилась, когда ее стали радостно приветствовать, в том числе люди, которых она сама не помнила в лицо.
Даже Шура прибежал из своего комитета, специально чтобы поздороваться.
Константину Георгиевичу назначили внутривенные вливания, от которых он, по собственному признанию, «слегка окосел».
Знаменский запланировал операцию на завтра, Воинов принял это известие спокойно, лишь попросил Элеонору помолиться за него.
На ночь ему дали успокоительное, он хорошо поспал, и только утром самообладание на минуту изменило ему.
– Элеонора! – Воинов с неожиданной силой стиснул ее руку. – Запомните, я сам решился на это. Вы бы не уговорили меня, если бы я сам не захотел. Ясно?
Она растерянно кивнула.
– Ну все, храни вас Бог!
Элеонора потянулась к нему, они вдруг сильно и коротко поцеловались в губы и сразу смутились, отпрянули.
Глава 26
Потянулось ожидание. В операционную и палату наблюдения ее не пустили, и Элеонора понимала, что это правильно, она не сможет сохранять хладнокровие в критические минуты. Но как страшно было сидеть под дверьми операционной и вздрагивать каждый раз, как только они откроются…
Как тяжело, когда ты ничего не можешь сделать! Шмидт сказала – надо бороться, но есть минуты, когда твоя борьба не имеет никакого значения. Сейчас за жизнь Воинова борются другие, а ей остается только ждать. И не умереть от ожидания, чтобы быть полезной Константину Георгиевичу, если он останется в живых.
Как только она могла страдать от своих прежних несчастий! Предательство Ланского, арест и то, что случилось с ней в тюрьме… Разве это было горе? Да пусть бы случилось еще тысячу раз, лишь бы Воинов выжил! Пусть все, что угодно, только бы он поправился…
Она беззвучно молилась, когда к ней вышла незнакомая нянечка и сказала, что операция закончилась и Воинова перевели в палату. Знаменский с Калининым тоже там.
В послеоперационную палату вел отдельный коридор.
Но почему Знаменский не вышел к ней сам или не послал Калинина? Значит, Воинов очень плох…
Она вышла на улицу и быстро, в три затяжки, выкурила папиросу. Нужно идти туда, она ничего не будет делать, но пусть Воинов видит, что она рядом.
Чтобы не проходить сквозь операционные, Элеонора поднялась по черной лестнице.
Если можно будет проститься, Знаменский позовет ее, а пока нужно стать невидимкой.
Прошло очень много времени, прежде чем к ней вышел Калинин. Он сказал, что на текущий момент удалось сделать все, что планировали, пациент перенес операцию лучше, чем они со Знаменским предполагали. До утра он останется в палате наблюдения, и лучшее, что Элеонора может сделать сейчас, – это пойти домой и выспаться. Ей предстоит еще очень много работы. «Я убежден, что Воинов поправится, – сказал Николай Владимирович таким мягким тоном, какого она никогда не слышала от него, – но процесс выздоровления будет весьма долгим, трудным и болезненным. Так что собирайтесь с силами, они вам очень пригодятся».
Элеоноре очень хотелось остаться, быть рядом, чтобы Воинов увидел ее первой, как только придет в сознание, но Калинин прав. Сейчас она будет только мешать ему и опытному фельдшеру палаты наблюдения.
В легких весенних сумерках она побежала к Елизавете Ксаверьевне, радостно слушая звук своих быстрых шагов по мостовой. Воинов жив и будет жить! Главное сделано, он перенес операцию, теперь все зависит от хорошего ухода. А уж это она обеспечит. Самое страшное для таких тяжелых и ослабленных больных – пролежни и пневмонии. Но их почти всегда можно избежать, если скрупулезно выполнять предписания врачей, поворачивать больного, соблюдать чистоту, делать лечебную физкультуру, массаж и дыхательную гимнастику. Ну и питание должно быть на очень высоком уровне, это тоже не проблема.
Шмидт сидела за машинкой. Свирепо нахмурив брови, она неправдоподобно быстро барабанила по клавишам и передвигала каретку с каким-то остервенением. Элеонора явилась без приглашения и не уверена была, что ей рады, но старая дева столько сделала для нее и для Воинова, что не рассказать ей об операции было бы настоящим безобразием.
– А! – только и сказала Елизавета Ксаверьевна в ответ на новости. – В ванной комнате есть теплая вода, идите, пока не остыла. А потом я накормлю вас замечательным рагу и уложу спать на диване. И не спорьте!
Она и не спорила. С наслаждением умылась, поужинала и легла на хрустящие от крахмала простыни, приятно холодившие тело. Елизавета Ксаверьевна вернулась к работе, и ритмичный стук машинки убаюкивал. Элеонора закрыла глаза, услышала над ухом заинтересованное сопение, нос уловил легкий запах псины, и после короткого анализа обстановки Микки устроилась прямо на подушке. А может быть, это ей уже привиделось, так быстро и радостно она провалилась в сон.
В шесть утра Шмидт проводила ее, снабдив бутылкой свежего кипяченого молока для «молодого человека».
Пока Элеонора бежала в госпиталь, радужное настроение тускнело, уступая место тревоге. Как она могла безмятежно спать в решающий для Константина Георгиевича день? А вдруг… Нет, об этом просто нельзя думать!
От волнения у нее кружилась голова, и так страшно было идти к Калинину, что подгибались ноги.
Неизвестно, что бы с ней стало дальше, не встреть ее в вестибюле Шура Довгалюк.
– Все в порядке! – крикнул он и энергично потянул ее за локоть.
Сначала он повел Элеонору к себе в кабинет, где дал переодеться в рабочее платье и, не слушая возражений, напоил очень горячим и невероятно мерзким кофе. Потом проводил к Воинову.
Его уже перевели из палаты наблюдения в хирургическое. Была там маленькая комнатка, где хранили старое оборудование, а на свободном пространстве размещали тяжелых больных. Именно сюда и поместили Константина Георгиевича, причем Элеонора, как ни была она взволнована, сразу заметила, что весь драгоценный хлам перемещен в коридор.
Воинов лежал, уже в сознании, и улыбался ей. Поставив молоко на подоконник, Элеонора придвинула к постели табурет и села. Оба молчали. Константин Георгиевич был слишком слаб, а она слишком взволнованна, чтобы говорить.
Около восьми с обходом нагрянул Знаменский. В таком превосходном настроении, что Элеонора немного испугалась.
Хитро посмеиваясь, профессор достал из кармана халата тусклый обломок металла:
– Вот он, виновник торжества. Хотел лично вручить, зная, как вы, солдаты, любите эти трофеи.
Воинов улыбнулся. У него не было сил взять осколок в руки, а Элеонора тоже не очень хотела прикасаться к «трофею». Видя ее замешательство, Александр Николаевич положил осколок в тумбочку.
– Что ж, Константин Георгиевич, мы постарались, но и вы держались молодцом! Теперь для выздоровления вам нужно только слушаться Элеонору Сергеевну и делать все, что она говорит. И вот еще одно условие: ни при каких обстоятельствах не вспоминайте, что вы доктор! Как бы ни хотелось, и какой бы ахинеей ни казались вам наши предписания. О, милая Элеонора Сергеевна, если бы вы только знали, как тяжко лечить врачей… Есть такой термин: внутренняя картина болезни. Так вот у всех захворавших докторов это очень мрачное, чудовищно депрессивное и, как правило, абстрактное полотно.
– Черный квадрат, – еле слышно подсказал Воинов.
– Вот именно!
Он фамильярно потрепал Воинова по руке, посмотрел температурный лист и вышел, приказав готовиться к перевязке.
Константин Георгиевич был очень слаб. Операция, повернув его организм на выздоровление, все же забрала остатки сил.
Гнойный очаг ликвидирован, но дистрофия сама по себе тяжела. Для поддержания жизни организм, не находя другого источника энергии, расщепляет мышечные ткани, и от этого каждое прикосновение к телу человека становится болезненным. А застарелая рана, которой предстоит долгое заживление…
Чисто физически Воинов сейчас переносил больше страданий, чем когда просто ждал смерти.
Элеонора старалась изо всех сил, кормила его с ложки, как маленького, как можно удобнее устраивала в постели, но иногда приходилось причинять Константину Георгиевичу боль ради его выздоровления. Например, массаж или лечебная гимнастика. Как она проклинала себя, разминая эти истаявшие мышцы! Если бы только ей сказали, что это не обязательно… Но Знаменский особенно подчеркивал необходимость активных и пассивных движений. Иначе пневмония, тромобоэмболия и пролежни! Только это понимание давало ей силы не отступиться, глядя, как Воинов прикусывает губу от боли.
Она всегда восхищалась Константином Георгиевичем, но только теперь в полной мере поняла силу его духа. Сказала бы «величие души», если бы это не звучало слишком пафосно. Он оказался самым терпеливым больным, какого ей только приходилось видеть. Ни одного стона, ни слова упрека, ничего. Наоборот, всегда ободрял ее, говорил, что у нее волшебные ручки и ему ни капельки не больно, хотя Элеонора прекрасно знала, что это не так.
У больного была одна-единственная претензия к сиделке: она слишком мало отдыхает. Но Элеонора не чувствовала усталости, надежда на выздоровление Воинова вызвала в ней огромный прилив сил, и двух-трех часов сна на банкетке оказывалось вполне достаточно.
И на ежедневных перевязках Константин Георгиевич держался очень мужественно. Калинин, которого назначили лечащим врачом, волновался, а Воинов так спокойно ободрял его, будто был не пациентом, а наставником, обучающим молодого коллегу. Как ни был он слаб, для всех находил улыбку и ласковое слово.
И как-то получилось, что весь госпиталь влюбился в Воинова, не как в хорошего доктора и героя Гражданской войны, а просто как в идеального пациента. Все, кто видел его хотя бы раз, горячо желали ему выздоровления и предлагали помощь. Нянечки намывали палату до полной стерильности, еду приносили ему первому, пока не остыла, а разрешение на белье растрогало Элеонору до слез. Из-за большой гнойной раны Воинову требовалось менять постельное белье хотя бы раз в сутки, а то и чаще. Она не ждала и не просила привилегий, собиралась принести свои простыни и стирать сама, но сестра-хозяйка, таинственно улыбаясь, показала ей шкафчик, где можно всегда взять чистое белье.
Остродефицитная глюкоза, витамины – для Константина Георгиевича находилось все.
В первые же приемные часы явилась Елизавета Ксаверьевна. Она принесла очередную порцию монографии и узелок из фамильной салфетки с затейливым вензелем. Внутри обнаружилась небольшая порция черной икры, сервированная по всем правилам, на льду.
Элеонора отшатнулась, а Воинов закатил глаза:
– Елизавета Ксаверьевна, это же целое состояние. Я никак не могу…
– Так, юноша! Я прожила долгую жизнь и сама прекрасно знаю, кого и чем мне кормить! Всякие молокососы не будут мне указывать, уж поверьте!
– Но…
– Вам, молодой человек, если хотите поправиться, сейчас следует открывать рот только для того, чтобы принять лекарство, ясно?
– Ясно.
Шмидт стала приходить каждый день и приносить понемногу то красной, то черной икры. О том, сколько это стоит, Элеонора просто боялась думать, а категорически запретить тоже не могла, ведь для Воинова такая еда была очень полезна.
– Я должна была вызваться подменить вас, моя милая, – хмыкнула Елизавета Ксаверьевна, когда Элеонора провожала ее, – но идея ухаживать за больным, тем более за мужчиной, вгоняет меня в ужас. Лучше я облегчу свою совесть таким образом.
Визит старой девы напомнил Воинову о монографии. Через два дня после операции он уже стал диктовать Элеоноре заключение. О том, чтобы принести машинку в госпиталь, не было и речи, она писала от руки, получалось медленнее, и Воинов злился.
– Но, Константин Георгиевич, к чему теперь спешить? Давайте подождем, когда вы окрепнете, – робко сказала она.
– Нет, я не могу так рисковать. Мало ли что. Нет-нет, все будет хорошо, но лучше перестраховаться.
И Элеонора с горечью поняла, что сам он не верит в свое выздоровление…
Она присела на краешек постели, взяла его руку и стала тихо говорить, как через десять лет он, маститый профессор, возьмет в руки свою первую монографию и как стыдно ему станет, что он так спешил и измучил совершенно бедную сестру милосердия.
– Ну Элеонора Сергеевна! Пока мысль идет! А то я потом забуду.
За эту неделю раннего послеоперационного периода они так сблизились, что становилось страшно. Неужели так бывает между живыми людьми? Им, казалось, не нужно говорить, чтобы услышать друг друга. Воинов был так слаб, что Элеонора ухаживала за ним, как мать за новорожденным ребенком, и ей чудилось, будто между ними возникает такая же сильная и нерушимая связь, как у матери с ребенком. Так же счастлива она была, только когда нянчила Эрика.
Елизавета Ксаверьевна столь рьяно взялась за монографию Воинова потому, что считала его безнадежным, и хотела, чтобы он успел увидеть хотя бы подготовленную к печати рукопись. Но когда стало ясно, что опасность миновала, старая дева не снизила темпа. Оказалось, что по издательским делам она знакома с Александром Николаевичем, и теперь, встретившись у постели Воинова, они быстро образовали комитет по скорейшему изданию его монографии. Записав последние строчки заключения, Элеонора была из этого комитета исключена. Все, связанное с книгой, делалось теперь без ее участия, и от этого она чувствовала легкие уколы ревности. Прекрасно понимала, как это недостойно и нехорошо, но ничего не могла с собой поделать. Знаменский нашел художника, готового превратить наброски Воинова в полноценные иллюстрации, представил рукопись на ученом совете и в издательстве, а Шмидт запугала главного редактора: мол, если не займется этим прекраснейшим научным трудом со всем рвением, то она найдет другое место работы и вся контора погрузится в хаос.
Знаменский официально получил статус редактора монографии и, как только врачебная совесть позволила ему, стал вечерами задерживаться в палате, обсуждая некоторые спорные места.
– У вас очень сухой и логичный стиль изложения, – говорил он, – и мне бы не хотелось ничего менять, только маленькие штрихи.
– Это книга, написанная полковым врачом для полковых врачей, – отвечал Воинов, – и я не открываю никаких америк.
– Не скромничайте, я вижу в вас огромный научный потенциал!
После обмена любезностями доктора углублялись в такие дебри науки, что Элеонора, к стыду своему, начинала чувствовать себя как д’Артаньян в том эпизоде, когда он приехал за раненым Арамисом и угодил в самый разгар богословской дискуссии.
Конечно, это шло вразрез с медицинскими постулатами, главный из которых гласит, что для выздоровления необходим покой, но ей казалось, что научные беседы и работа над книгой помогают Воинову лучше лекарств. Через неделю он мог уже сидеть в постели, через две – пытался вставать, опираясь на ее плечи. Ноги не слушались, подгибались, и однажды так получилось, что ему пришлось обнять ее по-настоящему, чтобы не упасть. Губы их оказались совсем близко, и на секунду Элеоноре почудилось, будто Воинов сейчас поцелует ее. Она закрыла глаза от смущения, но ничего не произошло. Константин Георгиевич опустился на кровать.
После этого эпизода выздоровление пошло семимильными шагами. Молодой крепкий организм брал свое, и если масса пока оставалась прежней, то энергия прибывала с каждым часом. Прошло еще две недели, и Воинов, облаченный в госпитальную пижаму и халат, вышел в коридор, крепко держась за ее руку.
Длинная тонкая шея так трогательно выглядывала из ворота, что у Элеоноры защипало в носу. С этого же дня она стала вывозить его в садик.
Стояла удивительно хорошая погода, теплая, но не жаркая, солнце не припекало, не било в глаза. Будто сама природа тоже хотела выздоровления Константина Георгиевича.
Элеонора толкала кресло, колеса приятно шуршали по гравию, а Воинов жадно разглядывал цветы на клумбах.
– Я раньше никогда не замечал, как это красиво, – с удивлением говорил он.
В одну из таких прогулок Воинов попросил остановиться возле садовой скамьи в уголке сада. Сверху нависало какое-то дерево, создавая свежую тень, невдалеке цвел куст белых роз и деловито жужжали насекомые. Положительно, это было хорошее место для разговора.
Повинуясь жесту Воинова, Элеонора опустилась на скамейку.
– Я вот что хотел… Калинин рассказал, как вы защищали город.
Она покраснела, чувствуя, как сердце замирает от стыда. Кто тянул за язык милейшего Николая Владимировича? Константин Георгиевич простил ее недостойную выходку, из-за которой они целый год ничего не знали друг о друге. И ее не было рядом в самые тяжелые месяцы его жизни, когда он умирал от ран. Да, сейчас он выздоравливает, но если бы она сразу поехала к нему, все было бы быстрее и легче. Благодаря ее истерике Константину Георгиевичу пришлось, будучи очень больным, совершить путешествие через всю страну… Но он и это простил.
Однако Воинов не знал тогда, что она, обличая его, фактически сама воевала за красных! Какой позор…
– Он сказал, как вы остались с ранеными.
– Я хотела перейти к своим, – перебила Элеонора, – просто хотела уйти с белыми, вот и все.
– Вы слишком хорошая, чтобы думать о себе хорошо, – мягко улыбнулся Константин Георгиевич, – обязательно возведете на себя какую-нибудь напраслину. Я прекрасно знаю, что вы остались потому, что не могли бросить людей без помощи. Но мне больно думать, какой опасности вы подвергались. Пожалуйста, берегите себя! Не знаю, что будет со мной дальше. Если я буду рядом, то смогу вас защитить, а если нет… Вы уж поберегите себя сами. Мне очень важно знать, что вы живы и здоровы. И представляете, каким-то образом я это чувствовал. Это была странная, можно сказать, мистическая уверенность, как и знание, что вы вспоминаете обо мне. Я молился за вас, но, сходя с ума от неизвестности, я почему-то в глубине души знал, что вы целы. А когда я заставил Василия тащить меня в Петроград, то ехал в никуда. Вы не отвечали на мои письма, и этому могли быть разные объяснения, но я твердо верил, что увижу вас в конце пути. Я так хотел проситься с вами! Вот все, что мне было нужно. А теперь я, возможно, выживу. Но от мысли, что с вами может… Нет, не буду говорить! Просто обещайте, что вы будете осторожны.
Она кивнула.
– А вы не сердитесь, что я тогда вас прогнала, а сама, получается, тоже служила новому режиму?
– Честно признаться, я мало думал о ваших политических взглядах, – хмыкнул Воинов, – мне просто казалось, что вы очень несчастны. Что с вами случилось что-то очень плохое. Скажите, это правда?
Она покачала головой. Константин Георгиевич очень мягко заглянул ей в глаза:
– Вы можете во всем мне признаться. Я же почти ничего не знаю, как вы жили все эти годы… Все крутится вокруг моей персоны с этой дурацкой болезнью. Не очень-то красиво, верно?
Да, она может рассказать Воинову обо всем. В том числе и о том, что случилось во время ареста. Константин Георгиевич ее утешит, а потом… Он не сможет относиться к ней так, как раньше. Жалость приведет за собой презрение, а презрение – неприязнь. Тем более сильную, что ему придется убеждать себя в том, что она не виновата в своем позоре, и все такое.
– На мою долю выпало не больше несчастий, чем на долю других представителей угнетающих классов, – нарочито весело сказала она, – всем нам пришлось тяжело. Пожалуйста, если вы меня простили, не будем вспоминать… Я сама не знаю, какой бес в меня тогда вселился. Правда! Мне так стыдно, что просто ужас, но объяснить я ничего не могу.
Константин Георгиевич протянул ей ладонь с согнутым крючком мизинцем, детский символ примирения. Элеонора со смехом подала свою руку.
Кажется, Николай Владимирович еще не успел растрепать, что она сидела. И Воинов не должен об этом узнать! А с другой стороны… Он красный командир, хоть и медицинской службы. Сейчас, пока болеет, она просто сиделка, и все, а потом? Как политическое управление посмотрит на то, что военврач дружит с княжной, репутация которой запятнана тюремным заключением?
Вдруг Элеонора подумала, что смотрит слишком далеко. Что будет, когда Воинов поправится? Захочет ли он с ней вообще общаться? И прекрасный летний день внезапно потускнел…
Глава 27
Как только Константин Георгиевич смог сам, без ее поддержки выходить в коридор, он попросился в общую палату. Знаменский уговаривал, мол, для доктора всегда можно сделать некоторые поблажки, но Воинов со смехом парировал, что, лежа в палате для тяжелых, так и будет чувствовать себя больным и никогда не поправится. «Наверняка есть пациенты, которым это теперь нужнее, чем мне. А для работы над монографией, профессор, вы можете вызывать меня в свой кабинет».
И Знаменский уступил, взяв с Воинова страшную клятву ни при каких обстоятельствах не обсуждать с соседями по палате их болезни и советов не давать. Если Константин Георгиевич почувствует, что медицинские мысли его просто распирают, пусть обращается к Калинину или непосредственно к нему. «Мне тут пятая колонна не нужна!» – патетически воскликнул профессор.
Палата, куда перевели Воинова, оказалась большим залом с таким количеством кроватей, что Элеонора не смогла их сосчитать. Находиться теперь при Константине Георгиевиче неотлучно было неловко, да, строго говоря, ему больше и не требовался постоянный уход.
Теперь она приходила только в приемные часы, с пяти до семи вечера в будние дни и с одиннадцати до часу по воскресеньям. Отпуск как раз подошел к концу, она вышла на работу. По счастливому стечению обстоятельств штат операционных сестер был полностью набран, никто не болел, и старшая назначила ей одно дежурство в три дня. Это было очень удобно, Элеонора успевала и поработать, и навестить Воинова, и приготовить ему диетическую еду, и постирать, и съездить в лес. Да, ей пришлось стать ягодницей, ведь всем известно, что в землянике и чернике содержится больше всего витаминов, так необходимых для выздоровления.
Иногда ей сопутствовала Елизавета Ксаверьевна с Микки, но чаще Элеонора отправлялась в путь одна и мало-помалу полюбила эти одинокие прогулки.
Она бродила по лесным тропинкам, высматривая скопления ягод, и так хорошо было из сумрака высоких елей вынырнуть на просеку или лесную полянку, поросшую высокой травой и залитую солнцем. Среди травы просвечивала алая россыпь земляники, и Элеонора опускалась на корточки. Солнце грело макушку, деловито жужжали насекомые, и благоухание спелых ягод внезапно прерывалось острым запахом земляничного клопа…
Собрав ягоды в притороченный к поясу бидончик, она отступала в чащу, на изумрудный ковер лесного мха. Там ее ждали черничные кусты. Эта ягода только начинала поспевать, на каждом миниатюрном деревце висело не больше двух-трех спелых ягодок, и Элеонора собирала их очень осторожно, помня рассказы классных дам, что требуется двадцать лет, чтобы вырос новый кустик.
В этих одиноких скитаниях она забывалась, отрывалась от реальности и представляла себе совсем другую, сказочную жизнь, где не было никаких революций. В этой фантазии она не встречала Ланского и не влюблялась в него. А Воинов не любил Лизу…
Элеонора собирала ягоды, ладони ее окрашивались красным и черным соком, а перед глазами проносились яркие, чудесные картины…
Вот она в подвенечном платье стоит перед алтарем рядом с Константином Георгиевичем. (Эта другая, сказочная Элеонора была совсем не такой пуританкой, как настоящая, и выбрала лучшие кружева и да, слегка рискованный фасон. Рискуя вызвать гнев Ксении Михайловны, она подчеркнула главные достоинства своей фигуры – тонкую талию, точеные плечи и высокую грудь.) А вот они гуляют с детьми по Таврическому саду, вспоминая свою юность…
Эти видения были едва ли не ярче, чем реальность, и Элеонора думала, уж не сошла ли она с ума. Но все равно погружалась в эти грезы, лишь бы не думать о том, что ждет ее в настоящей жизни.
Константин Георгиевич лежал на кровати и читал какую-то книгу. Он так увлекся, что не заметил, как она подошла.
– Добрый вечер! – она достала из сумки паровые котлеты и ягодный кисель.
– Как я рад вас видеть! – Воинов отложил монографию и сел. – Вчера целый день скучал без вас.
– Но вы же знаете, что я вчера дежурила сутки.
– Да, конечно! Но все равно мне вас очень не хватало. Сильно вам досталось? Что оперировали?
Константин Георгиевич истосковался по работе. Клятву, данную Знаменскому, он соблюдал, но все время приставал к Калинину, чтобы тот делился с ним интересными случаями. Он даже просился ассистентом в операционную, хотя и понимал, что еще недостаточно окреп для этого.
– О, сплошная рутина. Хотите, спустимся в садик? Я только найду кресло.
– А вы не против, если я попробую идти сам?
Она покачала головой и протянула ему руку. Воинов шел медленно, но уверенно, хотя далеко от дверей отходить не решился. Они устроились на ближайшей ко входу скамейке, Константин Георгиевич перевел дух и достал папиросы.
Элеонора подумала, что он совсем не прибавляет в весе. Впрочем, это объяснимо, заживление гнойной раны требует колоссальных энергетических затрат, потом еще и работа над монографией. Умственная работа – это тоже труд, хоть пролетариат и придерживается другого мнения. Знаменский слишком рано стал тормошить Воинова, тут в нем ученый победил врача… И самое ужасное, что, похоже, Константин Георгиевич не в восторге от ее блюд. Она готовит по предписаниям лечебного питания, но пища действительно больше похожа на лекарства, чем на еду. Может быть, нужно носить что-нибудь просто вкусное?
– Вы устали? – спросил Воинов сочувственно.
– Нет, что вы, совсем нет!
– Но мне так неловко… Вы ночь не спали, пришли домой и, вместо того чтобы отдохнуть после смены, готовили мне котлеты. Я вижу, что совершенно измучил вас!
Она покачала головой.
– Не спорьте. Конечно, нельзя говорить девушке такие вещи, но вы осунулись и просто исхудали! У вас тени под глазами от усталости, нельзя так. Слушайте, вы же целый месяц глаз не сомкнули, выхаживая меня.
– Это очень сильное преувеличение. Не так уж много было с вами хлопот, я отлично отдыхала. Если бы не ваша диктовка, то я бы вообще не уставала.
– Рассказывайте кому угодно, только не мне. Я знаю, сколько сил вам это стоило. Даже чисто физических усилий. Думаю, что, переворачивая меня, вы так натренировали свои руки, что теперь смогли бы крутить солнце на турнике.
– Это неприлично, – буркнула Элеонора.
Воинов накрыл ее руку своей теплой сухой ладонью.
– Милая моя Элеонора Сергеевна! Я же поправляюсь, и теперь не обязательно навещать меня каждый день. Особенно в день после дежурства. Я очень рад вас видеть, и мне бы очень хотелось, чтобы вы все время были рядом, как раньше, но нельзя быть эгоистом. У вас налицо все симптомы переутомления, и мне вдвойне больно их наблюдать, потому что я сам явился их причиной. Я прописываю вам сон, сон, и еще раз сон! Завтра у вас свободный день? Утром встаньте, прогуляйтесь немного, а потом ложитесь и спите! Вечером откройте один глаз, поешьте и снова спите!
– А вы?
– А я поскучаю. Мне будет грустно без вас, но приятно знать, что вы отдыхаете.
– Но послезавтра мне на дежурство.
– Что ж, потерплю. И послепослезавтра тоже потерплю. Встретимся во вторник, я буду ждать. И пожалуйста, ничего не приносите.
Она только кивнула. До конца посещений оставалось еще достаточно времени, пришлось улыбаться, поддерживать пустую беседу, слушать про то, как уверенно и быстро монография движется к печати, а на душе скребли кошки…
Проводив Воинова в палату, она отправилась домой. Спешить было некуда, Элеонора пошла пешком, и какая же это была тяжелая прогулка!
Если очень быстро размешивать сахар в чае, то образуется воронка. Кажется, такая же воронка открылась у нее в душе, засасывая всю радость и оставляя только тяжелую пустоту.
Воинов добрый человек и заботится о ней, это правда. Но правда и то, что он устал от ее опеки. Ему скучно с ней… Нет, пожалуй, не так. Они близкие люди, фронтовые товарищи, пережили вместе много всего. Поэтому Константин Георгиевич обратился к ней, верному другу, и принимал из ее рук так необходимую ему помощь. Это совершенно естественно для него, человека, который сам спас многих и многих, и ее бы спас, если бы потребовалось. Но теперь, когда опасность позади, ее забота избыточна, а может быть, даже и смешна. И ставит их обоих в неловкое положение. Она не жена и даже не невеста, чтобы каждый день приходить в больницу. Почему он должен тратить на нее все приемные часы?
Она сама могла бы догадаться и сократить свои визиты, чтобы у Воинова не зародились подозрения, будто она рассчитывает на что-то и за свои труды требует более тесных отношений, чем он хотел бы поддерживать с ней!
Элеонора почувствовала, как щеки заливает краска стыда. О, история повторяется и ничему ее не учит! Не имея собственной жизни, она навязывается людям. Шварцвальд выставил ее из дома, когда она в стремлении помочь нарушила границы его частной жизни, теперь Константину Георгиевичу пришлось осадить ее…
Его нельзя обвинять в неблагодарности, он очень ценит ее заботу и как-то сказал, что она подарила ему жизнь! Но даже если и так, то это совсем не значит, что теперь она может распоряжаться его жизнью или надеяться, что он посвятит ее ей! Подарила же, а не сдала в аренду…
Он поступил очень деликатно, нельзя на него сердиться. И он все еще хорошо к ней относится и искренне благодарен за все, что она сделала, если только она не будет ему надоедать!
Как глупо с ее стороны было думать, что здоровый Воинов будет нуждаться в ней так же, как и больной! Давно пора понять, что она нужна людям только во время трагических поворотов судьбы. В беде она незаменима, но для счастливой жизни слишком мрачная, жесткая и неудобная.
Она – друг, а не возлюбленная. Как спасательный круг. Воинов держался за него, пока тонул, а как выплыл, повесил на стену, ибо что делать с этим приспособлением на суше, совершенно непонятно. Только мешает.
Элеонора невесело рассмеялась. Мужчине нужна мягкая, нежная женщина, а не суровая дева-воительница с выражением лица «я хороню эпоху». Женщина, искушенная в готовке ароматных сдобных пирогов, а не диетических блюд. А Воинов мужчина, и еще какой!
Мужчины любят быть сильными, а она невольно станет напоминать ему о былой немощи. Это будет ему не очень приятно. Элеонора неожиданно вспомнила историю, рассказанную одной старой сестрой. У нее был как-то очень тяжелый пациент. Он долго болел, и жена самоотверженно за ним ухаживала. До болезни это была очень счастливая семья, двое детей. Сестра просто отдыхала душой, глядя, как супруги любят друг друга. Потом муж поправился и выписался, а сестра еще долго вспоминала эту пару, как доказательство, что любовь – это не миф и не сказки. Лет через пять муж снова поступил в больницу с какой-то ерундой, и сестра с изумлением узнала, что он оставил семью, и навещала его теперь уже совсем другая женщина…
Поэтому надо быть готовой к тому, что Константин Георгиевич постарается свести их общение на нет. Скоро он восстановится на службе и получит назначение. Если его направят в другой город, они смогут переписываться и сохранят дружбу на расстоянии, а если оставят здесь… Как горько будет знать, что Воинов ходит по соседним улицам и совсем не думает о ней. Лучше уж самой уехать, такие специалисты, как она, нужны везде.
Несмотря на печаль, овладевшую ее сердцем, Элеонора неожиданно для себя буквально выполнила предписания Воинова. Она спала. Проспала всю субботу, в воскресенье сходила на дежурство, а вернувшись домой в понедельник утром, снова крепко уснула.
Поэтому вторник, назначенный для визита к Воинову, наступил очень быстро, она не успела толком погрустить. Мелькнула мысль не ходить, но это дало бы понять Константину Георгиевичу, что она понимает их отношения иначе, чем он.
Идти с пустыми руками показалось глупо, и Элеонора купила плитку шоколада. Кажется, он тоже полезен.
Воинов встретил ее так радостно, что Элеоноре стало стыдно за свои обиды.
– Ничего не говорите, я вижу, что вы выполнили мои рекомендации. Но не могу понять – вы так прекрасно выглядите, потому что отдохнули, или я просто очень соскучился?
Он ласково улыбался, а Элеоноре хотелось сказать, что она разумная женщина и не нуждается в том, чтобы ей подсластили пилюлю комплиментами.
– Нужно посоветоваться, – продолжал Константин Георгиевич серьезно, – правда, я примерно знаю, что вы скажете, но хочу, чтобы решили именно вы.
– Не пугайте меня.
– Дело в том, что любезный доктор Калинин, будь он неладен, раздобыл мне путевку в санаторий.
– Но это же прекрасно!
– Может быть, но очень далеко. В Кисловодск.
– При вашем состоянии это именно то, что нужно.
– Но далеко, – повторил Воинов, – и долго. Там курс лечения целых шесть недель. Но я чувствую себя здоровым и думаю, что прекрасно обойдусь. Если бы вы могли еще поехать со мной! Или вместо меня, потому что неизвестно, кому из нас нужнее восстановительная терапия.
Она покачала головой:
– Это невозможно. Меня не отпустят с работы.
– Как жаль! Но я тоже вроде как занят, моя монография готовится к печати.
– Насколько я понимаю, на этой стадии процесса ваше присутствие необязательно. Елизавета Ксаверьевна за всем бдительно следит, мимо нее ни одна опечатка не проскочит.
Воинов грустно вздохнул:
– Я так и знал, что вы прикажете мне ехать. И Калинин с профессором ничего не хотят слушать, когда я пытаюсь отвертеться. Они ведь собираются мой случай описать и продемонстрировать на Пироговском обществе. Вот и решили с помощью санатория придать, так сказать, экспонату лоск.
– Шесть недель пролетят очень быстро.
– Может быть…
– Когда вам ехать? Нужно же собрать вещи в дорогу…
– О, за это не волнуйтесь. Я уже поручил Калинину. Он сам виноват, пусть старается. Вас я попрошу только принести мою форму, если не трудно.
Элеонора кивнула. Как мягко он избавляется от ее заботы…
– Что с вами? Вы расстроились, что я уезжаю?
– Нет, что вы, я только радуюсь за вас. Просто задумалась про форму. Ее же надо почистить и отгладить.
– Пожалуйста, только принесите, я все сделаю сам. Тут есть секреты, неведомые гражданским лицам, тем более женского пола.
– Хорошо.
– Или все же разрешите мне не ехать? А? Рана почти затянулась, температура нормальная, плеврит ушел. Зачем мне в санаторий, ума не приложу.
Тут в палату заглянул Калинин:
– О, Львова, привет! Рад тебя видеть. Константин Георгиевич, дайте ваш военный билет, я выпишу путевку и проездные документы.
Воинов достал потрепанную книжечку, но отдавать ее не спешил:
– Николай Владимирович, давайте я не поеду. Наверняка у вас найдутся более достойные кандидаты…
Калинин просто рассвирепел, видно, не первый раз слышал от своего пациента такие речи:
– Нет, вы полюбуйтесь на него! Мы со Знаменским голову себе сломали, как его с того света вытащить! У меня в мозгах все извилины распрямились и звенят, как натянутые струны! Да что мы, вон Львова иссохла вся! А он всю нашу работу фррр…. коту под хвост. Думает, санаторий это так себе, хиханьки, несерьезно, – тут Николай Владимирович не выдержал и расхохотался. – Вообще-то я нормальный хирург и сам так думаю. Но надо ехать, Константин Георгиевич. Если вы дальше будете артачиться, я просто дам наркоз и засуну вас в поезд.
– А я вам в этом помогу, – буркнула Элеонора.
Со вздохом Воинов протянул Калинину документы, и тот умчался, послав ей воздушный поцелуй.
– Делать нечего, покоряюсь вашей воле, – Константин Георгиевич театрально развел руками, – хотя видит бог, как мне не хочется снова с вами расставаться. И еще один деликатный момент… Мне тут с нарочным принесли жалование. Просто невероятное количество денег!
Элеонора невольно улыбнулась, вспомнив, что Константин Георгиевич, живущий на одно армейское жалование, считал себя крезом, и хвастался своими несметными богатствами. Он жил в целом экономно, но всегда был готов помочь деньгами.
– Поздравляю.
– И я хотел бы передать их вам.
– Зачем это?
– Ну просто…
Она вскинулась:
– Вы хотите заплатить мне, что ли?
Константин Георгиевич быстро и сильно схватил ее за руку:
– Я так и знал! – воскликнул он с досадой. – Так и думал, что вы поставите все с ног на голову. Я же не вставал в позу, когда вы с Елизаветой Ксаверьевной тратили свои деньги на меня, хотя лучше бы вставал.
– Елизавета Ксаверьевна да, а я не тратила.
– Неужели? Но я не хочу считать деньги, это нехорошо среди близких людей. Я терпел, теперь вы потерпите.
Элеоноре стало стыдно.
– Я просто думаю, что вам нужны будут деньги в санатории.
– Зачем? После долгого физического разложения моральное мне, слава богу, недоступно. Никаких пороков, а на добродетельную жизнь я себе немного отложил. Поймите меня правильно, я хочу, чтобы вы распорядились этими деньгами, как считаете нужным. Больше всего я хотел бы, чтобы вы на них хорошо питались, но знаю, что вы ни за что не будете это делать.
– Константин Георгиевич!
– Ну ладно, ладно. Не сердитесь. По крайней мере, нашего тирана надо отблагодарить, и я знаю, что вы с вашим тактом найдете способ это сделать. Пустите деньги на бифштексы для Микки, например, или посмотрите, может быть, Елизавете Ксаверьевне нужна пишущая машинка получше. Знаете, икру я еще мог бы ей простить, но то, что она сто раз перепечатывала мою рукопись и не взяла за это ни копейки, нельзя оставить безнаказанным!
– Это верно, – вздохнула Элеонора. Она очень переживала, что доставляет Шмидт столько затруднений, – я постараюсь, но Елизавета Ксаверьевна может обидеться на слишком явную и поспешную благодарность.
– Уверен, что вы устроите все в лучшем виде.
– Константин Георгиевич, хочу заметить, что у вас ничего нет из обстановки. Как вы собираетесь жить, когда вернетесь из санатория?
– Ах да! – Воинов энергично хлопнул себя по лбу. – Действительно… В общем, вы распорядитесь этими средствами гораздо лучше меня, и хватит об этом. В первую очередь вы должны дать мне свой точный почтовый адрес, чтобы наша переписка больше не зависела от разных случайностей.
Глава 28
Посадив Воинова в поезд, Элеонора очень переживала. Пока она видела его на больничной койке, казалось, что он почти совсем поправился, несмотря на страшную худобу, но на вокзале, и особенно в купе, когда он, пройдя по перрону, без сил упал на нижнюю полку, они с Калининым поняли, что он еще очень и очень истощен. Хорошо, что соседями оказались молодые военные, и Элеонора, выманив старшего из них в коридор, шепотом попросила присмотреть за попутчиком.
О прибытии можно было не волноваться. Довгалюк, расторопность которого не имела границ, договорился с работниками санатория, чтобы нового пациента встретили на станции.
Константин Георгиевич понимал ее беспокойство и сразу, как приехал на место, дал телеграмму.
Потом он писал ей аккуратно, раз в неделю, и от этих суховатых писем становилось грустно.
Он с юмором рассказывал, как ходит к источнику и пьет теплую минеральную воду, которую именовал «моча планеты», ест по шесть раз на дню и посещает лечебную физкультуру. «Будто мне семьдесят лет, а не тридцать!» Но уже во втором письме не стало жалоб на монотонное существование, Константин Георгиевич писал, что Знаменский предложил ему оформить монографию в виде диссертации и готовиться к защите. Так что теперь он снова занят, работает с рукописью. Изменить надо не суть, а всего лишь структуру монографии, поэтому процесс не творческий и даже скучный.
Слава богу, в санатории оказалась приличная библиотека, он наверстывает упущенное и читает медицинские журналы последних лет.
В каждом письме Воинов справлялся, как она живет, здорова ли, что поделывает Елизавета Ксаверьевна (он испытывал к Шмидт сильную симпатию и аккуратно посылал ей милые открытки с видами).
Да, это были очень хорошие, дружелюбные послания, но в них совершенно не чувствовалось той щемящей нежности, которой было пронизано самое первое письмо.
Теперь Элеонора все чаще доставала его из коробки. Письмо человека войны, мужчины, которого никто не ждет… Его нежность и тоска, наверное, мало имели отношения к ней самой. Пусть мимолетный порыв, но он был и навсегда останется с ней.
Август подходил к концу и привел темные сырые рассветы. Элеонора просыпалась под шум дождя и чувствовала, как сердце трепещет в ожидании перемен. Она знала, откуда это обманчивое чувство. Привычка детства. Дождь и серое низкое небо обещали скорое начало учебного года, а значит, конец одиночеству, и навстречу новым приключениям.
Первые годы в Смольном она ждала с каникул Анечку Яворскую, свою задушевную подружку, а потом, когда Аня умерла, фантазировала, что появится новенькая и захочет с ней дружить. Увы, не сбылось, несмотря на ровные отношения со всеми воспитанницами, Элеонора так и провела все годы в Смольном одиночкой. А привычка мечтать в последних числах августа осталась.
В очередном письме Константин Георгиевич сообщил, что курс лечения пройден, и назвал дату возвращения. «Дорогая Элеонора Сергеевна, не хочу хвастаться, но сегодня я крутил солнце на турнике и вдруг понял, что, кажется, действительно поправился! До этого момента все происходящее казалось мне чьей-то шуткой, а сейчас я поверил, что выздоровел. Честно говоря, я выгляжу таким здоровым, что стыдно показываться Вам на глаза. До скорой встречи!»
Элеонора улыбнулась. Константина Георгиевича ждало много интересных событий. Со дня на день должна была выйти монография, диссертация, которую Воинов переслал Знаменскому, была отпечатана, переплетена и представлена в ученый совет, рефераты разосланы (Элеонора чуть с ума не сошла, пока надписала сто конвертов).
Александр Николаевич хлопотал за Воинова больше, чем за собственного сына. Большая редкость в научных кругах, обычно маститые профессора норовят слегка придушить ретивого молодого коллегу, и искреннее участие Знаменского вызывало у Элеоноры благоговейное восхищение.
Накануне возвращения она приехала к Воинову на квартиру. Нужно было подготовить комнату, проветрить, оставить какой-нибудь еды.
Она так радовалась, что скоро увидит Константина Георгиевича! Не будет ни о чем думать, просто посмотрит, какой он стал…
Это ведь тоже счастье, видеть его здоровым и счастливым.
В таком приподнятом настроении она купила пучок полевых цветов.
Он смотрелся очень празднично на подоконнике, за неимением вазы поставленный в старую молочную бутылку.
Элеонора намыла окно, громко напевая. Привлеченная шумом, к ней заглянула хозяйка и сердечно приветствовала. Они даже покурили, усевшись на подоконник и болтая ногами, и Элеонора чувствовала, что кровь пенится от радости.
Потом она подумала, что Константину Георгиевичу, вероятно, будет тягостно вернуться в эту комнату, где он угасал и ждал смерти. Что же делать?
В конверте, который передал ей Воинов, оказалась действительно крупная сумма, и она пользовалась этими деньгами.
Всякий раз, как Элеонора навещала Елизавету Ксаверьевну, Микки имела лучший бифштекс, который могла предоставить коммерческая торговля. Печатать диссертацию она тоже поручила Шмидт, хотя могла бы прекрасно справиться сама. Но подсознательно Элеонора понимала, что для Елизаветы Ксаверьевны очень важно быть главной научной музой «молодого человека». Поскольку Константин Георгиевич поправлялся, Элеонора убедила Шмидт взять гонорар и заплатила ей вдвойне, соврав, что на диссертации другие расценки, чем на просто рукописи.
Воинов числился в отпуске по ранению, официально не служил ни в одном научном учреждении, поэтому переплет диссертации, печать и рассылку авторефератов тоже пришлось оплатить из этого конверта, но все равно денег оставалось еще порядочно.
Она вполне могла купить несколько самых необходимых предметов мебели. Кровать, письменный стол, шторы… Комната с голыми окнами всегда имеет очень унылый вид. Жилище Воинова изменилось бы до неузнаваемости.
Но как он поймет такую бесцеремонность? Да и чисто практически… Воинов равнодушен к быту, но все же имеет право за собственные деньги сам выбрать себе мебель!
Что же делать? Всего-навсего маленькую перестановку. Если она передвинет матрас к другой стене, это не будет выглядеть наглостью. Просто мыла пол, оттащила и забыла.
А Константин Георгиевич, когда ляжет, увидит комнату под другим углом, и грустные воспоминания его не потревожат.
Набрав воды в цинковое ведро, Элеонора подоткнула юбку и начала драить пол. Паркет изрядно пострадал еще при прежних хозяевах, а пока она ухаживала здесь за Константином Георгиевичем, настоящую уборку сделать было невозможно.
Сейчас никто не мешал, Элеонора нагрела кипятку, вооружилась острым ножом и приступила к работе. Пол – это тоже очень важно. Грязный пол убивает все, а сияющий паркет, наоборот, оживит даже самую убогую обстановку или, как здесь, полное ее отсутствие. Сейчас она все отчистит, а пока пол сохнет, сбегает за мастикой. За ночь ее запах выветрится, а Константин Георгиевич – всего лишь мужчина. Он ни за что не сообразит, сколько усилий пришлось ей приложить, чтобы пол выглядел красиво. Просто подумает: ах, как у меня мило и свежо!
На улице включили репродуктор, и через распахнутое окно Элеонора слышала какую-то бравурную песню. Слов было не разобрать, но простенькая мелодия неожиданно оказалась созвучна ее радости. Сначала она громко подпевала, а потом размечталась. О чем? Сама не знала. Просто наслаждалась ожиданием чуда, на минуту забыв, что самого чуда не произойдет.
Наконец, настала пора отодвинуть матрас. Элеонора осторожно потянула, стараясь, чтоб его деревянная основа не оставила царапин на паркете. Под ноги ей выпал какой-то листок, примерно на треть исписанный рукой Воинова. Она подняла его, думая, что видит черновик к монографии, и вдруг прочла первую строку: «Моя возлюбленная!»
Быстро отбросила бумагу, словно та ужалила ее. Почувствовала, что лицо заливает краска. И радость сразу исчезла, уступив место всегдашней спутнице Элеоноры – глухой тоске.
Пусть случайно, но она едва не прочла чужое письмо. Письмо, предназначавшееся другой женщине. Лизе? Она покосилась на листок и сразу отвернулась. Он упал текстом кверху. Нет, она ни за что не будет читать чужие письма. Больше того, надо сделать, чтобы Воинов не догадался, что она видела этот черновик.
Зажмурившись, она подсунула листок под деревянную рейку и аккуратно поставила матрас на прежнее место.
Вот и все. Элеонора вздохнула и отправилась за мастикой. Надо выполнять, что задумала.
Мерно двигая ногой с привязанной к ступне щеткой, она размышляла о письме. Самоуговоры, что это ее совершенно не касается, не помогали.
У Воинова было только одно время написать – вечер накануне отъезда в госпиталь. Тогда он специально отослал Элеонору за яблоками, чтобы в одиночестве проститься с любовью всей своей жизни и написать ей последнее письмо.
«А вдруг это написано мне?» От такой нелепой мысли Элеонора едва не рассмеялась. Я все время была рядом, и можно было сказать мне в глаза! Думать, что Константин Георгиевич боялся признаться в любви… Он же зрелый мужчина, а не гимназист! И я не гимназистка, чтобы верить в его смущение.
Даже если представить себе фантастическую ситуацию, что сильный, опытный, много переживший и перестрадавший человек вдруг боится признаться в любви женщине, по которой видно, что она его без памяти любит, то он должен был передать ей эту записку: мол, прочтите после моей смерти. Не мог же он знать, что она полезет под кровать!
Совершенно ясно, что это признание предназначено Лизе. Если бы кому-то другому, то Воинов просто попросил бы ее отослать или передать письмо.
Элеонора рассказывала ему о поездке Архангельских и о переписке, которую они пытались вести с Лизой через Красный Крест, умолчав, впрочем, о последствиях, которые это имело лично для нее.
Вероятно, он решил проститься с возлюбленной навсегда. Ведь пока люди живы, всегда есть надежда, что они соединятся, а Константин Георгиевич готовился умереть…
Он написал письмо, а потом посовестился отдать. Подумал, что подвергнет Элеонору слишком большому риску или, если представитель Красного Креста так и не свяжется с ней, отяготит ее совесть неисполнением последней воли умирающего.
Константин Георгиевич очень деликатный человек.
Почему же ей так тяжело? Она ведь знала, что он не влюблен в нее и никогда не был. И представляя свою счастливую жизнь с Константином Георгиевичем, Элеонора всегда знала, что это мечты и ничего больше. Просто яркая фантазия, как чтение интересной книги.
Но когда она ухаживала за ним, когда знала наизусть каждую клеточку его тела, когда без слов угадывала малейшие его желания, ей казалось, что души их соединяются, открываются друг другу. Пусть это не любовь мужчины и женщины, но особая связь, сделавшая их родными людьми.
А теперь оказалось, что связь эта существует только в ее воображении. Все это время Константин Георгиевич думал о Лизе, именно с ней он прощался, когда считал, что умирает, и к ней обратились его мысли, когда появилась надежда.
А Элеонора была только сиделкой. Ласковой, заботливой и умелой, но только сиделкой. Наверное, теперь он жалеет ее. Константин Георгиевич очень добрый и порядочный человек, он сочувствует ее одиночеству, и считает себя обязанным принимать участие в ее судьбе. Думает: бедная девушка, у нее никого нет, кроме меня, придется уделять ей внимание, чтобы она не сошла с ума.
– Нет! – сказала Элеонора, выпрямившись. – Милостыней я никогда не жила и жить не буду!
Она остановилась на пороге. Пол сверкал, открытое окно сияло хрустально чистыми стеклами, на посылочном ящике посреди комнаты стоял букет и полбуханки хлеба (чтобы не пропитался запахом мастики, Элеонора плотно завернула его в бумагу).
Ничего больше не напоминает о болезни и смерти.
Вот и хорошо. Элеонора вышла и захлопнула за собой дверь. Больше она никогда сюда не вернется.
Ключи от комнаты и деньги она передала Калинину, зная, что тот едет встречать Воинова на вокзал. В ответ на изумление, почему она сама не едет, соврала, что дежурит и подмениться никак не получится.
При мысли, что можно все изменить, что еще есть время добраться до вокзала, она чуть не сошла с ума. Были моменты, когда Элеонора вскакивала, хватала жакетик, но какая-то свинцовая сила пригибала ее, усаживала назад.
«Увидишь его как-нибудь потом, – шипела эта сила, – но сейчас не смей встречать Константина Георгиевича, будто верная невеста. Не заставляй его чувствовать обязательства, которых у него перед тобой нет и быть не может».
Обычно правильное решение успокаивает, но не в этот раз. Элеонора не спала всю ночь, не помогли даже уговоры, что с утра ей выходить на смену и отдохнуть перед работой – ее долг.
Но стоило ей погрузиться в забытье, как она резко, словно от толчка просыпалась с колотящимся сердцем и начинала размышлять, что подумал Константин Георгиевич, когда не увидел ее на перроне.
Обрадовался? Огорчился? Почувствовал облегчение?
Правильный ответ пришел только под утро: ничего! Ровным счетом ничего! Он просто не вспомнил о тебе.
После этой догадки ей наконец-то удалось уснуть.
Дежурство, слава богу, выдалось очень хлопотное, грустить и страдать ей не дали. И спать не дали, значит, придя домой, она не будет мучиться и хватать себя за руки, чтобы не пойти к Константину Георгиевичу, а просто ляжет спать.
Элеонора вышла в кухню набрать воды и встретила там соседку Лиду. Та, как обычно, слегка навеселе, варила картошку.
– К тебе вчера военный приходил, – сказала она нетвердо, – все удивлялся, где ты. Красивый…
Лида закатила глаза и пошатнулась.
У Элеоноры задрожали руки.
– И что вы ему сказали?
– Что-что? Откуда я знаю, где ты ходишь, ты ж не докладываешь. Больно гордая! Он тебе записку оставил… Сейчас, где она… Погоди…
После небольшой паузы Лида выудила из кармана лист бумаги, уже изрядно помятый и в подозрительных пятнах. Чудо, что она вообще вспомнила о записке.
«Элеонора Сергеевна, куда Вы пропали? Я теряюсь в догадках! Срочно дайте о себе знать! К. Воинов».
Пожалуй, глухое молчание будет выглядеть некрасиво. Создаст ненужный шум вокруг ее персоны.
Элеонора вздохнула и отправилась в дом, где поклялась больше не бывать. Озираясь, как шпионка, она бросила в почтовый ящик сдержанную записку, что очень рада возвращению Константина Георгиевича и счастлива была бы повидаться, но, увы, слишком много работы.
Это выглядело так, будто она заходила и просто никого не застала. Что ж, приличия соблюдены.
Константин Георгиевич нагрянул внезапно через неделю, когда она уже почти смирилась, что их дружба позади.
Элеонора как раз натирала медную ручку двери, как услышала в прихожей его голос.
– Добрый вечер! Могу я видеть Элеонору Львову?
– Да, кажется она дома. Вы пройдите, стукните, пятая дверь налево.
Обычно говорят, что от страха душа «в пятки ушла». Свою душу Элеонора ощутила где-то под ложечкой. Не думая, она молниеносно захлопнула свою пятую дверь налево, повернула ключ и затаилась.
Через минуту в дверь аккуратно постучали:
– Элеонора Сергеевна?
Она молчала, но сердце колотилось так, что, казалось, Воинов не может его не услышать.
– Вы дома? Это я, откройте.
Снова стук:
– Откройте… Мне кажется, вы дома. Элеонора… Ну, нет так нет.
Звук его удаляющихся шагов, непривычно медленных и тяжелых, отдавался болью в ее сердце. Пришлось крепко стиснуть руки, чтобы не распахнуть дверь.
Кажется, ее хитрость не смогла его обмануть. Оно и к лучшему. Что может быстрее излечить человека от добрых намерений, чем понимание, что он не нужен? Покамест она вела себя безупречно, соблюдала нужную дистанцию, но когда к ней приходят в гости без приглашения, она имеет полное право не отзываться. Константину Георгиевичу не на что обижаться.
Глава 29
Наступил сентябрь. Ранняя прозрачная осень удивительно гармонировала с настроением Элеоноры.
В сердце воцарилось безнадежное, но светлое спокойствие. Она думала о том, что осень, брошенное семя уже не даст всходов, но то, что было, останется с нею навсегда.
Вероятно, она грустила бы сильнее, но в ее распоряжении было лучшее средство от меланхолии – работа.
Недавно Крылову удалось вернуть ей дневной график. Это вызвало у старшей кислую улыбку, но противиться воле врачей она не могла. К сожалению, доктора явно предпочитали ее другим сестрам, Элеонора была нарасхват. Работы она никогда не боялась, но ее огорчало, что сестры злятся, практически бойкотируют ее, а за спиной говорят всякие гадости, которые она всеми силами старалась не слушать.
Такое пренебрежение уязвляло, она ведь никогда не желала и тем более не делала сестрам ничего плохого. Наоборот!
И тем не менее в материальном зале, когда они все вместе собирались делать салфетки, она сидела наособицу и не принимала участия в общем разговоре. Положим, разговорчики были так себе, но к ней никто не обращался и ни о чем не спрашивал.
Элеонора лучше и быстрее всех крутила маленькие шарики. И дело тут было не в особой ловкости ее рук, а в том, что она знала секретный прием. Но ни одна сестра не захотела этот прием перенять, хотя Элеонора тысячу раз предлагала.
Вдруг вспомнилось, как она так же крутила шарики во фронтовом госпитале, и это вызвало живейший интерес доктора Воинова. Как давно это было, будто и не с ней…
Элеонора так задумалась, что не сразу поняла, что слышит голос Константина Георгиевича не в мечтах, а на самом деле.
Но как он здесь?
Воинов стоял на пороге, такой, что у нее захватило дух. В санатории он окреп, зеленые глаза сияли жизненной силой, а докторская шапочка и белый халат подчеркивали хулиганский загар, неуместный для степенного петербургского врача.
Кажется, впервые в жизни Элеонора подумала, что Воинов очень красивый мужчина.
А она… Можно сколько угодно утешаться, что у нее благородное, умное, необычное и бог знает еще какое лицо, но при всех своих достоинствах оно весьма далеко от идеала женской привлекательности.
Невозможно представить их рядом: блеклая тень и великолепный энергичный красавец.
Крылов, вошедший вместе с Константином Георгиевичем, угрюмо фыркнул.
– Доктор Крылов, – сказал Воинов с улыбкой, – представляет вам нового начальника кафедры военно-полевой хирургии. То есть вашего покорного слугу. Операционная – это сердце любого хирургического подразделения, и, получив назначение, я сразу отправился к вам.
Он назвал себя, потом старшая представила сестер. Каждую Константин Георгиевич удостоил учтивым поклоном, а когда очередь дошла до Элеоноры, он довольно бесцеремонно перебил:
– О, с Элеонорой Сергеевной мы прекрасно знакомы! Я так рад, что нам снова предстоит работать вместе.
– Я тоже, Константин Георгиевич, – Элеонора изо всех сил постаралась сделать свою улыбку нейтрально-дружеской.
– Это очень приятный сюрприз! Что ж, девушки, я вас покидаю в надежде на долгое и плодотворное сотрудничество и хотел бы похитить у вас Элеонору Сергеевну на некоторое время. Вы разрешите?
Старшая кивнула, а Элеонора вдруг покачала головой:
– Простите, но я сегодня дежурная сестра и не имею права покидать оперблок.
– Элеонора Сергеевна, вас подменят.
– Нет, это неудобно. С вашего разрешения, мне не хотелось бы нарушать дисциплину.
– Как угодно, – бросил Воинов и ушел.
Новый начальник кафедры, тем более такой красивый, – это серьезный повод, чтобы отменить бойкот. Как только дверь оперблока закрылась, сестры подступились к ней с вопросами. Она с улыбкой отвечала, что Константин Георгиевич очень хороший хирург, великолепно оперирует и всегда вежлив с сестрами, не пугает их, не кричит, чем грешат некоторые нервные врачи, и прощает мелкие промахи, если это не угрожает жизни пациента. Лучшего начальника и пожелать нельзя, но об его личной жизни она ничего не знает. Понятия не имеет. И даже не догадывается. О семейном положении начальника ей достоверно известно только одно: Воинов – сирота.
Вглядываясь в разгоряченные лица сестер, она с горечью думала, что, возможно, Воинов полюбит кого-то из них. И ей придется стать свидетельницей, а может быть, и поверенной этой новой любви.
Наконец наступил вечер, все разошлись, и она осталась в оперблоке вдвоем с напарницей. Полагалась еще нянечка, но с этими кадрами последнее время стало напряженно. На такие должности поступали почему-то только пьющие женщины, подверженные этой страсти настолько, что прогуливали работу. Но их не увольняли, потому что даже через раз появляющаяся на службе санитарка все же лучше, чем ничего. Хорошо, что в академии всегда было много курсантов, готовых выполнять санитарские обязанности, а в обычных больницах все это ложилось на плечи сестер.
Отпустив напарницу спать, Элеонора сделала себе чай, удивляясь непривычной тишине. Обычно к этому времени уже подавали аппендицит или нейрохирурги решались на трепанацию черепа (перфоративные язвы и непроходимости обычно назревали попозже).
Так странно, будто время замерло.
В тишине стукнула дверь, раздались знакомые шаги, и в дверях появился Константин Георгиевич.
– Вот и я, – сказал он мягко.
Она улыбнулась:
– Хотите чаю?
– С удовольствием. Разрешите?
Воинов устроился на шатком железном стуле и принял от нее чашку:
– У меня сложилось впечатление, что вы избегаете меня. Если так, я хотел бы знать, почему. Я чем-то обидел вас?
Элеонора покачала головой.
– Тогда что? Вы помните меня больным? Со своим гноем и всем остальным я вам опротивел?
– Нет, конечно, нет! Как вы могли подумать? Я об этом уже забыла.
– А я – нет.
– Константин Георгиевич, я очень рада нашей встрече.
– Странно. До этого момента вы делали все, чтобы она не состоялась. Скажите же мне, почему? В санатории я представлял это совсем иначе. Я думал, что вы будете первой, кого я увижу в Петрограде… Куда вы исчезли? А эта дикая выходка, когда вы не открыли мне дверь! Я чуть с ума не сошел, не знал, что думать! Если вы вышли замуж, почему нельзя было мне об этом сказать? Если не замуж – тоже! Видит бог, мне все можно сказать! Я понятливый. Пожалуй, я только запертых перед своим носом дверей не понимаю до конца.
Элеонора набрала в грудь воздуха, но Воинов осадил ее.
– Даже не пытайтесь! Вы были дома, я прекрасно слышал!
Он не мог повысить голос, но, видно, сильно разозлился, встал и заходил по маленькой комнате отдыха. Элеонора решилась:
– Я всего лишь не хотела вам навязываться.
– Что? – Константин Георгиевич резко остановился.
– Просто вы очень хороший человек, и… В общем, я хотела, чтобы вы поняли, что ничего не должны мне.
Воинов опустился перед ней на корточки и заглянул в глаза. Элеоноре стало немного не по себе от этого взгляда, растерянного и жесткого одновременно.
– Элеонора Сергеевна, я не знаю, что ответить. Я ехал к вам и надеялся, что между нами более-менее все ясно. Мы этого не говорили, но для меня само собой разумелось, что мы будем вместе. Я не делал предложения, потому что не знал, каков будет исход заболевания. Просто боялся остаться инвалидом, тогда приковывать вас к себе было бы непорядочно. Но теперь я здоров и хочу на вас жениться. Честно говоря, мне казалось, что вы это знаете.
У Элеоноры перехватило дух, будто она прыгнула с вышки в воду. Этого не может быть! Наверное, она задремала, и Константин Георгиевич ей просто снится…
Но мечты не должны сбываться! Когда сказка вторгается в жизнь, за это потом приходится платить слишком страшную цену.
В своих грезах Элеонора забывала не только о том, что ее окружает, но и о себе самой. Теперь Воинов невольно напомнил ей, кто она такая. Она падшая женщина и не имеет права выходить замуж. Константин Георгиевич заслуживает лучшей жены, чем она, забывшая о девичьей чести.
– Что же вы молчите? – мягко спросил он, взял ее вялую руку и прижал к своей щеке.
Она покачала головой. Только бы не разрыдаться…
– Я всегда думала, что мы просто хорошие товарищи, – сказала она внезапно севшим голосом.
Воинов потянулся к ней, Элеонора отпрянула. Положение спас местный телефон.
– Ампутация, – буркнул Крылов на том конце провода и бросил трубку.
– Все, Константин Георгиевич, идите! Мне надо работать. Да и нехорошо, когда начальник кафедры и простая медсестра шушукаются по углам.
– Надеюсь, с этого момента вы не простая сестра, а моя невеста.
Невеста… Это было такое чужое слово, из другой жизни, из мечты. Элеоноре стало так горько! Больше всего ей сейчас хотелось бы сказать – нет, крикнуть – «да!» и броситься на шею Константину Георгиевичу, но она не имеет на это права. Как говорится, рад бы в рай, да грехи не пускают.
– Константин Георгиевич, я не могу выйти за вас замуж, – сказала она твердо.
– Но…
– Я нахожусь на службе и не должна отвлекаться. Сами знаете, чего это может стоить больному. Поэтому прошу вас, избавьте меня от тягостного разговора и просто уйдите.
Ампутация словно прорвала плотину, операции посыпались одна за другой. Все они требовали сосредоточенности, но подспудно в ее душе поднялся такой вихрь переживаний, что понять что-то было решительно невозможно. Лишь одно Элеонора знала точно – она не годится на роль жены.
В операционной существовала негласная договоренность. Если сестра, сменившаяся с дежурства, работает день, то в этот день ее стараются не тревожить и разрешают спать в комнате отдыха. Это правило соблюдалось для всех сестер, кроме Элеоноры. По принципу – раз ты такая компетентная и хирурги души в тебе не чают, то иди трудись.
Но сегодня она была рада своей загруженности. Ты все уже пережила, говорила себе Элеонора, намывая руки, все обдумала и расставила все точки над «i». Совсем не нужно заново терять Константина Георгиевича. Он сделал тебе, как говорится, лучший комплимент, будь довольна. И не требуй от судьбы больше того, что ты заслужила.
Воинов ждал ее, по-мальчишески устроившись на широком низком подоконнике.
– Элеонора Сергеевна, это вам! – он протянул ей огромный букет роз.
Она растерялась.
– К сожалению, совесть и санэпидрежим не позволили мне пронести в операционную цветы, поэтому так. Простите.
– Спасибо…
Как ни была смущена Элеонора, она ускорила шаг. Нехорошо, если в клинике пойдет слух, что новый начальник ВПХ подстерегает сестер.
– Пойдемте, я покажу вам свой новый кабинет. Заодно и обсудим наше дело.
Она слабо покачала головой, но Воинов крепко взял ее за локоть.
– Вы теперь не на службе, так что никакие отговорки не принимаются.
Кафедра военно-полевой хирургии находилась в соседнем корпусе. Следовало пройти через территорию, и Элеоноре было неловко, что сотрудники, вышедшие на улицу по случаю окончания рабочего дня, видят ее с Воиновым и с букетом цветов.
Кабинет Воинова казался тесным из-за больших стеллажей с книгами, занимающих все стены. Мебель была старинная, но самая простая и очень симпатичная. Высокое стрельчатое окно создавало неповторимый романтический колорит, и Элеонора подумала, что кабинет очень похож на своего нового хозяина.
– У вас есть ваза? Надо поставить цветы, а то завянут.
Элеонора задумчиво провела пальцем по старым кожаным корешкам.
– Я еще не смотрел, что у меня есть. Честно говоря, не до этого. Защита на носу, – Воинов распахивал дверцы шкафов. – Нет, кажется, нет. Давайте просто положим в раковину и нальем воды.
– Когда же у вас защита?
– Через неделю. Видите, меня авансом назначили на эту должность, так что оплошать никак нельзя.
Элеонора кивнула.
– Если нужна моя помощь…
– Спасибо! Но давайте поговорим о другом деле. Я знаю, дежурство выпало адское, но вы думали над моим предложением? Может быть, передумали?
Константин Георгиевич сновал по кабинету, устраивал розы в воде, запускал спиртовку, чтобы приготовить им кофе. На минуту у нее появилось впечатление, что ему все равно, согласится она или откажется.
– Я не могу стать вашей женой, – сказала она тихо.
– Как же так? Почему?
Она пожала плечами.
– У вас есть кто-то, кого вы любите?
– Нет.
– Тогда почему?
– Разве девушка должна объяснять такие вещи?
Нахмурившись, Константин Георгиевич прошелся по кабинету.
– Элеонора! – он остановился, достал папиросу и глубоко затянулся, прикурив от синего огонька спиртовки. – В обычной ситуации – нет, не должна. Но у нас другое дело. Я хотел умереть у вас на руках, а вы заставили меня выжить. Я знал, что будет тяжело, но пошел на это, терпел боль, стыд и беспомощность только затем, чтобы быть с вами. Мне казалось, я нужен вам. Я думал, вы так отчаянно сражаетесь за мою жизнь, потому что хотите, чтобы мы были вместе.
– Я просто хотела, чтоб вы жили…
– Получается, мы не поняли друг друга, – Воинов вздохнул и долго гасил папиросу в простой медной пепельнице.
– Константин Георгиевич, но все так хорошо получилось. Мы снова работаем вместе, я буду вашей бессменной сестрой, как прежде.
– Но я не хочу с вами работать. Я хочу с вами жить. Чтобы вы меня ругали и воспитывали, как вы это любите делать. Чтобы кормили меня этим своим адским варевом и котлетами. Элеонора, если вы за меня не пойдете, я больше никогда в жизни не поем таких отвратительных котлет!
Они посмотрели друг на друга и засмеялись. Воинов протянул к ней руки.
– Ну, пойдете?
Как хотелось броситься в его объятия! Ее губы помнили тот короткий поцелуй… Но есть прошлое, с которым ничего нельзя поделать. Господи, позволь мне оставить это прошлое при себе. Пусть оно не даст мне любви, но оставит уважение и дружбу.
– Константин Георгиевич, вы же не любите меня.
– Здрасьте!
– Не здрасьте, а не любите. Вы хорошо ко мне относитесь, но вы не были влюблены в меня никогда. И я вас не привлекала в том смысле, как жена должна нравиться мужу.
Константин Георгиевич сел с ней рядом и опустил глаза.
– Это неправда, – сказал он глухо, – можете сердиться, но вы всегда нравились мне именно в этом смысле. После того как вы заболели тифом, я не знал женщин. Мечтал только о вас. Мне казалось, так я сохраню то, что возникло между нами тогда в лазарете, помните? Когда у вас была бритая голова? Это воспоминание казалось мне очень важным, важнее любых страстей.
Элеонора едва не застонала. Как бы она хотела вернуться в тот день… Девочка с бритой головой все еще живет в его сердце. Но если она согласится, то уничтожит это чистое воспоминание, убьет хорошую память о себе.
Нельзя жертвовать этим ради счастья. В сущности, холодно подумала Элеонора, у меня и нет выбора. Я уничтожила для себя возможность счастья, когда была с Ланским. Я осквернила себя, а то, что было потом, не так уж много значит. Пока я была одна, я убаюкала себя работой и милосердными хлопотами, но теперь пришлось проснуться и напомнить себе, кто я такая есть.
– Константин Георгиевич, милый… Мы всегда были такими хорошими друзьями! Давайте останемся ими впредь. Я буду вашей сестрой, как Саша Титова была сестрой Петра Ивановича, и даже больше. Мы будем проводить вместе целые дни напролет, и я смогу помогать вам в научной работе. Поверьте, мы сохраним нашу близость.
Воинов тяжело вздохнул. Прошелся по кабинету, а потом сел за письменный стол и сложил руки в замок. Элеонора подобралась, выпрямила спину. Сейчас он скажет: да, так действительно будет лучше. И время пойдет дальше своей мерной поступью. Она будет служить Константину Георгиевичу, и очень скоро эта пресловутая «близость» станет чем-то очень привычным. Она превратится для него в некую принадлежность операционной, незаменимую часть его работы. Он будет ценить ее настолько, что посвятит в подробности своего нового романа и пригласит на свадьбу, а может быть, и сделает крестной матерью своих детей. И будет говорить жене: давай почаще приглашать Львову на чай, она столько сделала для меня. Если б не ее забота, не видать бы тебе мужа, как своих ушей. А жена даже не будет к ней ревновать – опыт показывает, что такие некрасивые одинокие женщины, без памяти влюбленные в своего начальника, опасности для семьи не представляют.
Но это прозябание на обочине его жизни все же лучше, чем украденное счастье.
– Элеонора Сергеевна, – мягко прервал Воинова ее размышления, – я хочу вам объяснить. Простите, если мои слова покажутся вам слишком пафосными или пошлыми. По долгу службы мне приходилось бывать в Сибири, и знаете, что говорят тамошние буддисты? Любовь – это увидеть в другом человеке вечность и встретиться с ней, как со своей собственной. Именно это я чувствую к вам. Понимаете?
Что ж, теперь нельзя больше лгать. Константин Георгиевич должен узнать, что девочки с бритой головой больше нет. Пусть он придумал ее только сейчас, и пусть его сердце занято Лизой, но он не лжет. Она не могла объяснить это даже себе самой, но, зная, что Воинов на пороге смерти писал Лизе, она все равно верила ему. Может быть, он любил их обеих. Лизу – так, а ее как-то иначе.
Ложь и молчание ненадежные защитники доброго имени. Сейчас кажется, что ее тайны погребены глубоко и никому не известны, но рано или поздно все поднимается на поверхность. Кажется, сама жизнь против лгунов, потому что иногда обстоятельства складываются самым фантастическим образом только для того, чтобы раскрыть секреты. Лучше уж она сама признается, чем Воинов услышит об ее падении от чужих людей.
– Константин Георгиевич, я не могу стать вашей женой, потому что я была с мужчиной, – выпалила она.
– А?
– Я говорю, что я…
– Я понял, понял.
Воинов помолчал, потом достал новую папиросу. Протянул ей мятую пачку, а Элеонора вдруг подумала, что так и не вернула ему портсигар.
Некоторое время они сидели, синхронно выдыхая дым, а потом Элеонора продолжала:
– Когда я вернулась в Петроград, то я была с… – имя Ланского вдруг показалось ей слишком жалким и гадким, чтобы произносить его вслух, – с человеком, которого тогда любила. Он уходил на фронт, и мне казалось это правильным.
– Это действительно было правильно. Такое решение только делает вам честь. А потом он погиб?
– Нет. Он вернулся и… И не женился на мне. Я ведь княжна, и он посчитал этот брак слишком опасным. Вот и все.
Константин Георгиевич встал, обнял ее за плечи и крепко прижал к себе, так что она едва не упала со стула.
– Элеонора, я не знаю, что сказать, чтоб вы поверили мне. Сказать, что я никогда вас не попрекну? Но вы ни в чем не виноваты, наоборот. В те страшные годы это было честное решение. Я сказал бы, что это для меня ничего не значит, если бы не знал, что это много значит для вас. Я люблю вас и хочу быть с вами, вот и все. Ваше признание ничего не изменило.
Она кивнула и высвободилась из-под его руки.
– Мне больно думать об этом, – продолжал Воинов тихо, – о том, что ваши чувства были так нехорошо обмануты. Но мне вы можете верить.
– Кстати, я все еще княжна, – буркнула Элеонора, – и вам, красному командиру, не пристало на мне жениться.
Чтобы скрыть слезы, Элеонора отвернулась и сделала вид, будто изучает корешки медицинских книг.
– Все, хватит выдумывать! Такого аргумента, чтобы я отказался от вас, не существует!
Он рывком притянул ее к себе, и губы их наконец соединились в осторожном поцелуе. Элеонора чувствовала тепло его тела, как весь он льнет к ней, совсем иначе, чем раньше. Господи, как она его любила! Всем сердцем, всей душой тянулась к нему.
Если бы можно было сейчас растаять, исчезнуть в кольце этой удивительной нежности…
Встретиться с его вечностью, как со своей собственной…
Но она рассказала еще не все. Костя имеет право знать и о том, что с ней случилось во время ареста. Но вдруг это окажется слишком тяжело для него? Элеонора зажмурилась и сильно, как ребенок, прижалась в Воинову. Нет, в этом она никогда не сможет ему признаться. Слишком стыдно и слишком больно.
Господи, прости меня, но пусть Костя никогда не узнает! Я призналась в своем грехе, разреши мне промолчать о позоре. Прошу тебя, Господь милосердный…
Он ведь тоже не рассказал про Лизу.
У каждого человека в душе есть уголок, в который он никого никогда не пускает. И как бы душа ни была озарена светом любви, всегда остается маленькая тень.
Прошло много времени, прежде чем он выпустил ее из объятий. Волосы растрепались, лицо горело молодым азартом, совсем как в прежние времена.
– Леля, – прошептал он и повторил, словно пробуя на вкус, – Леля. Можно я буду вас так называть?
Она кивнула: можно.
– Лелечка! Я так давно мечтал назвать этим именем вас… тебя…
Он снова прильнул к ее губам.
И Элеонора поняла, что иначе не могло быть. Все невзгоды и испытания, все ее собственные ошибки были посланы ей не для того, чтобы терзаться, а чтобы научиться держать удар. Чтобы достойно встретить те новые невзгоды, которые ждут их с Константином Георгиевичем, и быть ему верной спутницей.
И просто чтобы ценить каждую минуту, которую Господь посылает им.
Архангельские снимали половину частного дома на самой окраине города. С каждым днем в этом суровом краю становилось все больше ссыльных, и, зная, как им приходится мыкаться в поисках крова и хлеба, супруги считали свой трудный быт большой удачей.
Утром спустился сильный туман и простоял весь день, белый и холодный, как молоко из погреба. Видно было только неровные жерди изгороди да толстые бревна сруба, тусклые и серые от старости.
Трава под ногами пожухла, а ветви кустов, неясно вырисовывавшихся в тумане, почти обнажились.
В Петербурге в это время еще золотая осень, но здесь природа уже затаилась в ожидании зимы.
Ксения Михайловна подошла к воротам и облокотилась на перекладину. Раскисшая песчаная дорога терялась в тумане, но, сделав небольшое усилие, она все же разглядела фигуру мужа. Если не случалось ничего экстренного, он всегда возвращался со службы в это время.
Она вдруг подумала, что стан его стал гибким, а походка легкой, как в юности. Но Петр Иванович изменился не только внешне. Жизнерадостный и открытый человек, даже немного сибарит, превратился в настоящего подвижника. Он очень много работал, оперировал, занимался с учениками и не забывал свою любимую науку. Но теперь у него появились и новые заботы. Благодаря своему мастерству Петр Иванович стал заметной фигурой в городе и пользовался этим, чтобы помогать другим ссыльным. Ведь среди них были и одинокие женщины с детьми, и старики, и больные, положение которых поистине ужасало. Всем им требовался угол и какой-то способ прокормиться. Профессор Архангельский вдохновенно интриговал, напоминал о себе бывшим пациентам (что резко осуждал в былые времена), и ручался, и раздавал рекомендации…
Ксения Михайловна тоже помогала как могла. Она наносила визиты, посвящала новоприбывших дам в тонкости здешнего быта, а если видела, что семья голодает, старалась ненавязчиво подкормить детей.
Общаясь с чужими детьми, она с болью думала о внучках и дочери. Неужели они никогда не увидятся? Иногда боль от разлуки становилась такой острой, что перехватывало дыхание.
Но разве ей было бы легче, если бы дочь страдала вместе с ней? Если бы ее внучки плакали от голода, как дети ссыльных?
Они с Петром Ивановичем знают, что их близким ничего не угрожает, а это огромное счастье, которое сейчас почти недостижимо.
Петр Иванович подошел и поцеловал ее в мокрую от тумана щеку. Заметив, что она не спешит домой, Архангельский достал папиросы. Некоторое время супруги молча смотрели, как растворяется в тумане табачный дым.
«Многими скорбями надлежит нам войти в царство Божие» – вдруг вспомнила Ксения Михайловна и улыбнулась. Все идет своим чередом.
– Сегодня пришло письмо от Элеоноры.
– Что-то есть? Какие-нибудь новости? – быстро спросил Петр Иванович и сжал ее руку.
Она покачала головой:
– О Лизе ничего. Элеонора пишет, что вышла замуж за твоего доктора Воинова.
– О! Что ж, я рад за них обоих.
– Они навестят нас при первом же удобном случае. Воинов сделал блестящую карьеру, он теперь начальник кафедры в академии, так что представляешь, сколько у него хлопот.
– Я буду очень рад их видеть.
– Петр, я думаю, что мы больше не будем получать известий, – решилась Ксения Михайловна, – их так давно не было…
– Многое еще может случиться. Жизнь продолжается.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

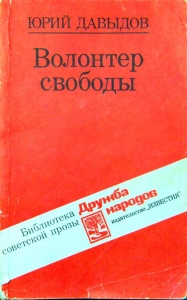


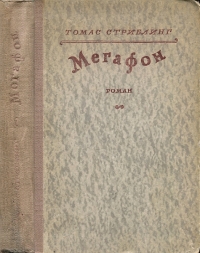


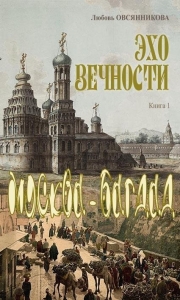
Комментарии к книге «Сестра милосердия», Мария Владимировна Воронова
Всего 0 комментариев