Виктор Вальд Палач
© Михайлов В. Д., 2011
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2011
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2011
Никакая часть данного издания не может быть скопирована или воспроизведена в любой форме без письменного разрешения издательства
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
Предисловие
Средневековая Европа… Время кровопролитных войн и удивительных открытий, нескончаемых междоусобиц и воцарения новых династий, благородных рыцарей и фанатиков, великих свершений и устрашающей нищеты. Эта яркая, противоречивая эпоха вписана в скрижали истории кровью крестоносцев и тысяч невинных жертв, озарена пламенем костров святой инквизиции и огоньками свечей, горевших ночи напролет на столах ученых, поэтов и философов.
Более сложный материал для исторического романа трудно и вообразить. Далеко не каждому под силу передать все многообразие обычаев, культуры, нравов, быта Средневековья; соткать захватывающее полотно повествования, способное в полной мере передать дух того страшного, но чарующего времени. Виктору Вальду это удалось.
Автор не просто изучил эпоху, в которой живут его герои, он проникся ее духом и сумел создать незабываемые яркие характеры, достойные, пожалуй, стать в один ряд с героями Вальтера Скотта и Умберто Эко. Ему удалось придать своему роману наряду с реалистичным, иногда до жути, историческим фоном, мистическое очарование и своеобразное изящество, сравнимое по мрачности и величию с готическими храмами.
С детства будущего писателя увлекали рассказы о прошлом. Он буквально «проглатывал» книги и упоенно смотрел исторические фильмы независимо от их правдивости и художественной ценности. Главным для него было окунуться в прошлое, ощутить атмосферу тех далеких дней, пережить вместе с героями удивительные приключения. Уже тогда в глубине его души зрела мечта – отразить собственное видение истории, показать ее через призму своих чувств и интересов. Роман «Палач» стал плодом многолетней кропотливой работы. Теперь вместе с автором и вы можете погрузиться в пугающую и завораживающую атмосферу Высокого Средневековья.
XIV век. Данте Алигьери пишет «Божественную комедию», увековечивая свое имя. Многострадальную Европу терзают войны, голод и чума, которые уносят жизни десятков миллионов людей! Арестованы и казнены рыцари ордена тамплиеров.
Несказанно прекрасными среди этой грязи и крови кажутся дивные цветы любви, верности, истинного благородства и самопожертвования, распускающиеся в сердцах людей. И тем более – в сердце палача.
С детства один лишь вид Гудо наводил на людей страх. Казалось, что такое лицо может принадлежать лишь демону. Роковое влечение к девушке привело его в подземелье палача. Но мэтр Гальчини не был обычным палачом. Кроме тонкостей своего ремесла он передал Гудо обширные знания по истории, философии, медицине, научил владеть разным оружием. После смерти учителя юноша получил в наследство его должность и мешок с книгами. Эти книги, скрывающие тайны ордена тамплиеров, еще сыграют роковую роль в его судьбе. А пока он – палач городка Витинбург…
Вас ждут непредсказуемые повороты сюжета, опасные приключения и буря эмоций. Если вы с удовольствием читали «Имя Розы» и «Айвенго», если вам по душе «Царство небесное» и «Робин Гуд» – эта книга для вас! Пролог
В 1337 году в небе над Европой появилась огромная комета.
Посланница Божья, растянув на полнеба огненный хвост, предвещала начало ужаса и неотвратимость конца света. Миллионы людей не вставали с колен, испрашивая прощения за вольные и невольные грехи. Обезумевшие от ожидания адских мучений, они уже не радовались наступлению нового дня. Он мог принести еще бóльшие беды и несоизмеримое горе.
Велик был грех человеческий, и неминуемо его наказание.
В течение последующих трех лет на землю опускались огромные стаи летящей саранчи. Они до голой почвы срезали урожай, обрекая людей на жестокий голод и смерть.
А в тех краях, куда не добрался бич Божий – саранча, – люди сами убивали людей.
В том же 1337 году Божьей милостью король Англии Эдуард III пересек Ла-Манш и обрушил свою армию на Францию. Это было начало войны, которая длилась более века и получила название Столетней.
В войсках государей сражались тысячи наемников из Фландрии, Германии, Швейцарии и других стран. И когда кровавые бои ненадолго утихали, они, возвращаясь чужими землями домой, сметали все на своем пути, подобно саранче. Но часто не доходили, оседали, ожидая нового призыва, и пользовались благами незащищенных территорий, опираясь на силу оружия и безбожие.
А еще многие тысячи бродяг, нищих, прокаженных и сумасшедших. И каждый из них желал пищи, чаще всего добывая ее обманом или ударом ножа.
В последующие одиннадцать лет, прошедших в голоде и войнах, тех, кто отвернулся от земли и ремесла, стало намного больше.
И этим еще более увеличилось число грехов людских…
Глава 1
Приставная лестница была липкой от долголетней плесени. К тому же шаткой и угрожающе скрипучей. Но только по ней можно было добраться до смотровой площадки башни.
Голова в старинном шлеме еще раз качнулась, и вместо нее возникла протянутая рука. От руки тоже разило плесенью.
Не воспользовавшись помощью, мужчина боком вышел на каменную площадку.
– Я так и подумал. Кому же еще быть, как не бюргермейстеру. Мог бы послать и мальчишку…
– Ладно, не ворчи, Вольтер. Должен же я убедиться, что ты еще не у Господа во власти. А может, дьявола?
Старый стражник хихикнул, приняв слова за шутку, но все-таки тайком перекрестил пупок.
– Жив я еще. Жив.
– Жив, – как-то неуверенно произнес бюргермейстер и, увидев скривившееся лицо старика, пожал плечами. – А ты знаешь, что такое жизнь?
Стражник попытался что-то вспомнить, но только качнул алебардой вправо.
– Там горит…
Бюргермейстер подошел к зубчатому краю башни и печально вздохнул.
– Это у арендатора Хольца.
– Точно, у Хольца. Я так сразу и подумал. Жаль Хольца. У него хорошо вызревал сыр с мятой.
Бюргермейстер нахмурился, но срывать на старике нахлынувшую злость не стал.
– Вольтер, сколько времени ты не спускался с башни?
– Месяц. Может быть, три, – неуверенно произнес стражник и попытался загнуть несколько пальцев.
– Как рассветет, отправимся к Хольцу. Собери всех башенных стражников. А то совсем мохом покроетесь.
– Соберу, – тоскливо откликнулся старик и принялся вычесывать всклокоченную бороду. Но укусившая его блоха уже успела прыгнуть в вырез кольчуги.
* * *
Бюргермейстера тоже куснула блоха. И она, и множество печальных мыслей стали причиной кратковременной злости. Именно кратковременной, ибо бюргермейстер Венцель Марцел с детства знал, что злость приоткрывает душу дьяволу. Так же, как и неудержимое веселье. И еще очень многое. Ведь дьявол силен и коварен. К тому же он многолик и находит пристанище в телах многих.
Ладно, если противник Божий вселяется в тела полоумных старух – сестер Базель. И те едва ли не через ночь карабкаются на смотровую башню к такому же полоумному старику Вольтеру и предаются плотским утехам, вспоминая растаявшую молодость под кислое вино и черствый ячменный хлеб. Это просто невинная шалость искусителя.
А что думать о его верных слугах – разбойниках? Их души – истинные вместилища сатаны и многих его проявлений. Сколько бед и горестей от них!
Каждый день в каждом доме города Витинбурга звучат молитвы, призывающие Всевышнего обрушить свой святой гнев на эти исчадия ада. Но всемогущий Бог пока не торопится покарать грешников молнией. Как не торопятся ни епископ, ни сам император Священной Римской империи[1]. А сколько слезных, писанных кровью жалоб направлено к их высоким тронам! И никто не может дать ответ – когда закончится ужас Витинбурга. Разоряя и сжигая хозяйства арендаторов и селян, разбойники поставили город на грань вымирания от голода. Ведь мало того, что купцы и селяне обходят стороной неспокойные земли вокруг города. Множество пострадавших от тяжелой руки безбожников перебрались за стены Витинбурга. А множество других, еще не ставших жертвой разбойников, покинули землю и хозяйство и теперь находились на иждивении родственников, а то и просто жили под зубчатыми стенами города.
Скоро они начнут просить, потом воровать, а может, и убивать в поисках пропитания. Или еще хуже – в переполненном городе вспыхнет моровая болезнь. И тогда город вымрет. А вместе с ним и бюргермейстерство Венцеля Марцела.
* * *
Решетка поднималась медленно. По ту сторону от нее уже собрались все те, кто не имел родственников в городе и жил в повозках, еловых шалашах, а то и просто под натянутым на жерди куском холста.
Бюргермейстер тронул коня. За ним вяло потянулся десяток конных стражников и столько же пеших с арбалетами на плечах.
Покачивая головой, Венцель Марцел смотрел на несчастных беженцев и думал о том, что толкнуло его на эту вылазку. Ну уж никак не десяток сельских оборванцев и их костлявых жен. И не прижавшиеся к ногам родителей испуганные дети. И уж, конечно, не одиноко стоящие, скрюченные, будто столетние вязы, старики и старухи.
Возможно, он решился на это ради горожан, оставшихся по ту сторону городской решетки. Или трех десятков патрициатов, составляющих большинство городского совета, которые сейчас, криво улыбаясь, проводили отряд за черту города.
Они знают – бюргермейстер всегда был с причудами. Вот и теперь он выбрался из-за стен. Куда? И зачем?
В трех милях от города, среди сучковатых сосен, едва видимых за белесой стеной мелкого дождя, Венцель Марцел наконец-то согласился сам с собой – он отправился на вылазку только потому, что должен был хотя бы что-то сделать. И не важно, что именно. Важно, что в городе, садясь всей семьей за стол, горожане поговорят об этом. А значит, повторят сами себе, что их бюргермейстер занят делом. И это дело на благо города, в том числе каждого из них.
Весна была холодной. Зелень выглядывала робко, местами. Казалось, что из птиц после морозной зимы выжили одни вороны.
Вот и сейчас они затемняют и без того мрачное небо.
– От развилки налево…
Венцель Марцел склонил голову и с безразличием посмотрел на трясущегося рядом судью Перкеля. Тот уже давно не сидел в седле, предпочитая выезжать на редкие загородные судебные разбирательства в тесной кожаной повозке, которую обычно везла одна лошадь. Судья брал подношения и не всегда согласовывал свои решения с буквой закона или собственной совестью. Это и понятно. Чтобы стать судьей, Перкель пожертвовал отцовским наследством. Но очень скоро он должен был все вернуть и приумножить. Вот только город нищал и ограничивал себя во всем.
– Спасибо, судья, – после долгой паузы выдавил Венцель Марцел.
В конце концов, судья сам напросился на поездку. Ему тоже хотелось, чтобы о нем говорили. А еще ему хотелось схватить разбойников. Тогда о нем будут говорить еще больше: судья, пославший на смерть слуг дьявола!
«Мы желаем одного – смерти разбойников», – решил бюргермейстер и даже улыбнулся Перкелю.
Судья от неожиданной благосклонности вскинул брови и сбавил шаг коня.
Потянуло гарью. Несмотря на моросящий дождик, она была сильнее покрывающей все вокруг влаги: запах пожарища по-прежнему подпитывался белым дымом, который поднимался над обугленными бревнами.
Бюргермейстер Марцел медленно осмотрел место происшествия. Дом, хлев, сыроварня, кладовые, изгороди – все превратилось в тускло-серые угли, на которых крестами лежали пористые от тления бревна стен и опорные балки. На едва пострадавших от пожара воротах висело полтуши теленка. Рядом лежала корова с вырезанной правой задней ногой. На низких сучьях стоящего рядом дуба за хвосты были привязаны два пса. У одного не хватало головы, второй был утыкан дюжиной стрел.
К стволу того же дуба был привязан арендатор Хольц. Точнее, его изуродованный труп, голову которого короткая стрела арбалета пригвоздила к дереву. В плече тоже торчала стрела. Выше плеча находились еще три выпущенных посланника арбалета.
– Стреляли на меткость, – громко произнес судья.
– На трезвость, – поправил его бюргермейстер и указал на несколько пустых кувшинов в двадцати шагах.
Разбредшиеся по двору стражники сокрушенно качали головами. Поживиться было нечем. Разбойники унесли почти все. Оставшееся уничтожил огонь. Вот только мясо. Но вряд ли бюргермейстер велит его забрать. У него мясо в кладовой всегда есть. А тащить на глазах горожан остатки живности Хольца… Лишний повод для ненужных разговоров.
– Кто-нибудь видит живых или мертвых? – обращаясь ко всем, крикнул Венцель Марцел.
Ему никто не ответил.
– Тогда возвращаемся.
– А труп Хольца? – напомнил судья.
Бюргермейстер посмотрел на опирающегося на алебарду старика Вольтера, стоящего в пяти шагах от них, и велел ему:
– Останься. Сделай все по-божески. И ты останься…
Венцель Марцел ткнул пальцем в ближайшего стражника и повернул коня.
* * *
Епископ был высушен молитвами и строгими постами. К тому же в вере своей был строг к себе и тем немногим, кто еще оставался у его руки. Умники, книжники и жизнелюбы обходили двор епископа, как затхлый колодец. У такого если и утолишь жажду, то стараясь не вдыхать и моля Господа уберечь от гнилости влаги.
Епископ, облаченный в ветхую мантию когда-то благородного пурпурного цвета, брезгливо, двумя пальцами взял свернутый пергамент и уставился водянистыми старческими глазами на Венцеля Марцела. Тот еще раз низко поклонился и отошел на два шага.
– О чем просишь? – полушепотом спросил епископ и разжал пальцы. Пергаментный свиток мягко скатился со ступеней, на которых возвышался высокий трон его святейшества.
«Вот и хорошо, – решил бюргермейстер Витинбурга. – Зачем эти буквы, если Господь дал человеку слово». К тому же Венцель Марцел догадывался, что городской писец не слишком силен в правописании. А самому убедиться не было возможности. Глаза бюргермейстера видели на пергаменте лишь чернильные ленты. Хотя в отличие от епископа Венцель Марцел был обучен грамоте и даже несколько лет назад читал те немногие книги, что остались после отца. Но, увы. Господь наказал бюргермейстера за чтение светских книг, и теперь он видел свои ладони только на расстоянии вытянутых рук.
– Ваше святейшество, мои горестные слова о кровавых разбойниках…
– Я слышал о них.
– С тех времен список их безбожных дел увеличился.
– Я стар и почти слеп. Но мои уши слышат, что творится не только в моем епископстве, но и в землях дальних. И слезы твоего города мне слышны. Будь я на десять лет моложе… Но и сейчас я еще… Пойдем.
Епископ неуклюже сполз с трона. Держась обеими руками за посох и почти пополам согнувшись, он направился к выходу из приемного зала. От темных стен отделились несколько фигур в монашеских одеяниях и, зажегши свечи, стали освещать ему путь. Бюргермейстер покорно последовал за ними.
– Возьми свечу и иди впереди меня, – строго велел епископ.
Тут же в руке Венцеля Марцела оказалась сальная свеча.
– Вниз. А теперь направо. Открой эти двери. Вниз, – едва слышно повторил старик, спускаясь по туннелю в сырость подземелья. Вскоре его голос стал звучать все отчетливее и увереннее:
– Когда-то… Нет, кажется, совсем недавно, этот путь я преодолевал быстрым шагом и с улыбкой на устах. Я шел совершать праведное, угодное Господу. Каждая моя мышца звенела. Кровь кипела, как у жениха на первом брачном ложе. Я спешил навстречу чувствам, что острее толченого перца. Я спешил навстречу себе самому. Но не епископу, а его прямому отражению. Или продолжению, или началу… Даже сейчас я не до конца понимаю это. Сюда, направо…
Страх холодной змеей обвил тело Венцеля Марцела и при этом, лизнув в лицо, оставил на нем ледяные капельки. Теперь с каждым шагом его вера в свою самую жуткую догадку все более крепла. В ногах появилась дрожь. Пламя свечи из ярко-красного превратилось в желто-голубое.
– Да-а. Отражение и единение, – продолжил епископ и неожиданно ускорил шаг. – Утонченность, даже изысканность. Древние трагики до такого сюжета вряд ли додумались бы. Два персонажа: один – самый почетный, а другой – самый отталкивающий. Но тут-то и кроется секрет душевного состояния. Для первого более подходит признание святого Августина, когда тот говорил, что сгорает от жара, думая о своем сходстве с божественным, и содрогается от ужаса, представляя, насколько чуждым божественному он остается. Для второго все более обыденное – вера в Божье прощение, в мгновения совершения неугодного Господу. И тот, и другой одинаково отстоят и от Бога, и от народа. От Бога – из-за того, что совершили во имя власти, от народа – из-за того, что позволили совершить – будучи уверены, что поступают правильно! – для власть предержащих. И тот, и другой – символ власти. Один – яркий факел, ведущий куда ему угодно. Другой – огни жаровни, направляющие тех, кто сбился с пути, который определен властью как единственно правильный…
Уставший от быстрой ходьбы и многословия, епископ остановился. Впереди в тусклом отблеске двух свечей коваными полосами чернела небольшая дверь.
– В эту дверь вошло много больше тех, кто вышел. Пойдем…
Епископ взял вторую свечу и, на удивление легко открыв дверь, шагнул во мрак подземелья. Не решаясь отстать, Венцель Марцел последовал за ним.
Его догадки были верны. Он действительно оказался в подземелье Правды. Так его шепотом называли все жители епископства и многих земель, куда могла дотянуться рука вездесущего епископа. Именно здесь люди говорили правду и только правду. Правду, которую хотел услышать епископ.
– Лучшие дни моей жизни прошли в молитвах, – продолжил свой монолог старый епископ. – Такими же плодотворными были и те дни, что я провел среди этих неприветливых стен. Смотри и постарайся не просмотреть важного…
Бюргермейстер послушно поднял свечу над головой.
Страх, животный страх, охватил все его тело. Куда ни упирался взгляд Венцеля Марцела, всюду он видел орудия пыток. Десятки… Нет, сотни. Сотни острых шипов, зловещих крючков, разрывающих клещей, пронзающих игл. А еще множество хитроумных механизмов, придуманных для того, чтобы вызвать у человека адскую боль.
Казалось бы, разве можно наказать человека больше, чем дать ему родиться в часы невероятных трудностей, невзгод и лишений? Голод, болезни, тяжелый труд, войны, побои и унижения. Но нет. Есть еще одно, более ужасное – боль, ожидание боли и опять боль.
По сравнению с этим, смерть – освобождение и благо.
И никакой правды не утаить…
– Здесь я был подобием Бога. Ибо передо мной, как и перед Творцом, никто не смел скрывать тайное и злое. И против людей, и против Церкви, и против Бога. – Внезапно епископ рассмеялся, по-стариковски покашливая. – Ты спросишь причину смеха? Я отвечу. Мне сейчас подумалось о том, сколько человеческих душ, сколько жизней я сохранил, будучи долгие годы озабочен этим местом. Представь, сколько людей могли бы впасть в ересь, стали бы убийцами, насильниками, предателями и клятвопреступниками, если бы не знали, что вся их преступная правда откроется. Если бы они с младенчества не слышали о месте, где могут оказаться за грехи душевные и телесные.
Страх! Он, как голод и вера, – главное оружие власти. И только тот, кто схватил и удерживает это оружие, обладает реальной властью, правит сейчас и будет править в будущем. Ему кланяются люди, ему улыбается сам Господь. Но схватить и удержать власть дано единицам. Только тем, кто может пожертвовать многим и, прежде всего, самим собой. А чем ты готов пожертвовать, Венцель Марцел?
Вопрос застал бюргермейстера в мгновение наибольшей растерянности. Он не был готов отвечать не только на этот вопрос, но и на любой другой.
– Я не знаю, – после долгой паузы выдавил Венцель Марцел.
– Тогда я не буду спрашивать тебя, что ты увидел здесь важного. Тебе этого не дано. Бог создал всех равными, но каждому дал свое. Тебе никогда по-настоящему не понять и не править. А если что-то получится, то ненадолго. Впрочем, главное измерение – это жизнь человека. Мое измерение заканчивается. Скоро я умру. После меня на эти земли придет властвовать другой. Чем готов пожертвовать он, я не знаю. Но я знаю, чем и как пожертвовал я. Надеюсь, Господь готов принять меня таким, каким я стал. Но прежде чем предстать перед Создателем, я готов принести мои последние пожертвования. Во имя незнакомых мне людей. Ведь раньше я любил и таких. Эй, войди!
Справа скрипнула скрытая дверца. К свету дрогнувшей свечи приблизилось нечто, что трудно было представить как лицо человека. Венцель Марцел остался стоять на месте, но веки его были крепко сжаты.
* * *
Барон Гюстев фон Бирк был молод и поэтому уверен в силе как своего собственного тела, так и ума. К тому же он три года назад был посвящен в рыцари самим императором Священной Римской империи. И самое важное – он дважды побывал в крупных схватках и одним из последних повернул коня, когда стало ясно, что нужно отступить.
Фон Бирк кивнул бюргермейстеру, учтиво склонившемуся перед ним, и сразу же прошел к длинному столу. Он занял большое кресло хозяина дома. После конного перехода хотелось есть, а на позолоченном блюде истекал жирной слезой нежный окорок. Вокруг окорока лежали жареные птички – воловьи очки и дрозды. Рука сама потянулась к поясному ножу. Им так удобно срезать мясо с кости. Но не следовало показывать бюргеру[2], пусть и главному в этом городишке, свой интерес даже в малом. Рыцарь уже и так оказал великую милость тем, что посетил его дом, и бюргермейстер должен быть благодарен за это дяде епископу. Ослушаться старика – все равно что засыпать колодец в доме. А дадут ли воды соседи?
Да и, признаться, свернуть на несколько десятков миль от отряда, выслушать горожанина и получить подарок дяди – не такой уж большой труд.
– Я слушаю, – склонив голову к левому плечу, сказал фон Бирк и несколько протяжно добавил: – …бюргермейстер.
Большое тело Венцеля Марцела неуклюже задвигалось, и бюргермейстер достал из внутреннего кармана небольшой свиток.
– Это письмо вашего дяди епископа, – почтительно произнес он.
Молодой рыцарь с грустью посмотрел на послание.
– Он уже прислал одно. И велел ехать к тебе. Что еще он хочет?
Пергамент повис в вытянутой руке.
«А рыцарь вряд ли силен в грамоте. Надеюсь, мечом он пользуется много лучше», – подумал бюргермейстер.
– Могу предложить молодому рыцарю итальянского вина.
В руке Венцеля Марцела вместо пергамента тут же оказался большой серебряный кувшин с горлышком в виде лебедя.
Гюстев фон Бирк совсем по-мальчишечьи улыбнулся и бодро кивнул.
Вслед за опустевшим первым кувшином появился второй. Вместе с ним служанка бюргермейстера подала жаренного на вертеле гуся и тушенного в горшочке зайца.
К тому времени молодой рыцарь дал себя уговорить снять нагрудный панцирь и наплечники. В камине жарко пылали веселые языки пламени, поэтому камзол с новомодными пуговицами Гюстев фон Бирк тоже расстегнул.
Разбросав на фламандской скатерти косточки и вытерев о ее край измазанные жиром руки, рыцарь довольно отрыгнул и посмотрел на все еще стоящего с кувшином бюргермейстера.
– Последний раз я так вкусно обедал в родовом замке. Особенно удался пирог с жаворонками. К сожалению, я постоянно в седле. А какая может быть пища, приготовленная на костре среди диких лесов? Да и вино. Крепкое вино.
Он хотел поблагодарить хозяина, но разумно посчитал, что и сказанного вполне достаточно. Хотелось осушить еще одну чашу вина. Впрочем, почему одну? Угадав желание гостя, бюргермейстер наклонил кувшин. Ароматная тягучая струя тихо полилась в чашу рыцаря. Тот сразу же, не отрываясь, выпил все вино до капли.
– Да, крепкое вино… Так что там пишет мой дядя? Этот старый… Епископ.
Бюргермейстер зажег от лучины восковые свечи и учтиво предложил:
– Если мой дорогой гость не возражает, пусть письмо епископа прочитает моя дочь.
– Дочь? Замечательно. Пусть прочитает.
* * *
Он уже настолько привык к тому, что у него нет имени, что это казалось таким же естественным, как снег зимой или смена дня и ночи.
Да и зачем оно ему?
Правда, люди, используя имена, обычно зовут, привлекают внимание и делают многое другое, общаясь с себе подобными. Но это обычные условности. Гертруды, анны, эльзы, иоганны, себастьяны и множество других имен – всего лишь словесное обозначение человека. И этого же человека можно обозначить иначе: рыжий, безухий, кривой, весельчак, толстяк и тысячами тысяч других слов. И тот же кривой или толстяк будут откликаться на эти прозвища, как и на собственные имена. А может, даже чаще. Все зависит от той среды, а точнее толпы людей, которая будет обращаться к тебе, как ей вздумается. Естественно, если ты будешь откликаться…
А у него никто и не спрашивал имя. Там, где он оказался по воле судьбы, имя было важно только для судьи, писаря и глашатая. Судья, зевая, называл имя писарю, тот, злясь на испорченное перо, записывал его на десятки раз соскобленный пергамент, а потом, размахивая этим куском кожи, глашатай сообщал народу имя – или прозвище – приговоренного и за какой смертный грех его казнили.
Он и не сомневался в том, что это произойдет с его именем. А потом тело, как принадлежность имени, распнут на колесе. Крепко связанные руки и ноги перебьет в суставах металлическая палица палача, а глаза и вывалившийся от жажды и голода язык вырвут вороны, когда он пролежит на поднятом на шесте колесе несколько дней, терпя ругань и плевки прохожих, что идут по дороге, которая находится в сотне метров от городских ворот.
Но его не спросили об имени. На него уставились стеклянные глаза, на дне которых пожирали друг друга язычки адского огня. Неподвижные глаза с немигающими веками на высохшем, лишенном признаков жизни лице.
Медленно поднявшаяся желтая кисть взмахнула, и на ее призыв тут же явилось еще одно лицо. Оно дохнуло смертью и повернулось к обреченному. Потом тонкие восковые губы второго лица слегка изогнулись и прозвучало тихое: «Да».
Медленно, словно во сне, в темноте простенка скрылись стеклянные глаза. Но ужасающие губы остались, и с них сорвались слова:
– Эй, Господь и епископ продлили твою жизнь. Молись всю ночь. Утром начнешь вторую жизнь.
С той ночи те немногие, кто по службе был рядом, обращались к нему не иначе как «Эй!». Впрочем, иногда произносились другие слова: «этому», «тому», «у того» или еще что-то похожее, – и он очень быстро привык к этому. Ведь у него действительно началась вторая жизнь, а значит, имя, данное при рождении, умерло и было погребено под толщей грехов, пропитанных кровью и слезами убитых и истерзанных.
– Эй, ты… Иди за мной. Тебя зовут.
Он не спеша поднялся с жесткой лежанки. Та в благодарность за освобождение от тяжелого тела сладко проскрипела и даже поднялась горкой. Заметив это, мужчина скривился, опустив левый уголок тонкогубого рта.
С раннего детства он замечал, как всё и все – от сопливого мальчишки до сердобольной монахини, от свирепого пса до рыцарского коня, от серой птички до предметов мебели – облегченно вздыхали, стоило ему повернуться к ним спиной и зашагать прочь. Только в детстве он этого не понимал. Теперь и понимал, и знал, и пользовался этим.
– Э-эй-й-й… – послышался протяжный голос ожидающей за закрытой дверью служанки.
Мужчина сорвал с лежанки свой черный длиннополый плащ и круговым движением набросил его на плечи. Затем он шагнул к двери и медленно ее отворил.
– А-ах… – только взглянув на гостя, коротко вдохнула и выдохнула молодая служанка и прислонилась к стене.
Мужчина, вновь скривившись, резко набросил на голову капюшон и глубоко надвинул на лицо, совсем скрыв его.
– Куда? – глухо спросил он и последовал за служанкой, у которой от страха стали заплетаться ноги.
Спустившись по узкой лестнице, молодуха показала рукой на сводчатую дверь и, подобрав платье, почти бегом бросилась во двор.
Проводив пристальным взглядом быстро удаляющиеся женские бедра, он подошел к двери и медленно отворил ее.
– А, вот и он. Заходи, ждем! – почти весело прокричал молодой рыцарь и, приглашая, махнул рукой.
Вошедший так же медленно закрыл дверь и, опустив голову, слегка согнулся в приветственном поклоне.
– Сними плащ, я хочу на тебя посмотреть, – то ли приказал, то ли попросил молодой рыцарь. Взяв со стола свечу, он подошел поближе и остановился на расстоянии трех шагов. Он уже был достаточно пьян, как раз в той степени, когда вино не веселит и лишняя чаша располагает к философствованию. Но запах вина так и не смог перебить кисло-приторную вонь, исходившую от большого тела рыцаря, пропахшего потом взмыленного коня.
Неторопливо, будто стягивая собственную шкуру, мужчина стянул с головы капюшон. Затем, поколебавшись, он неуверенно снял свой огромный плащ.
– Хм… – Молодой рыцарь довольно улыбнулся.
Его отряд наемников состоял в основном из тирольцев[3]. То ли по причине кровосмешения, то ли от горных ветров, то ли от гнева Божьего, но они обладали топорно вырубленными чертами, которые придавали их лицам подземельную мрачность, и благодаря этому их сразу можно было узнать. Впрочем, остальные наемники тоже все как один были далеки от того, что обычный человек вкладывает в понятие «приятная внешность». Да и откуда в тяжелейшие времена печальных веков могло появиться на человеческих лицах что-то приятное, на чем можно надолго задержать взгляд? В особенности на лицах мужчин, которым Бог позволил переползти тридцатилетний рубеж.
Тяжелый быт, изнурительный труд уже к тридцати годам отражался на мужских лицах, покрытых густой сетью морщин. А частые войны и постоянные драки добавляли глубокие шрамы, до уродливости искажая их черты. И к этому следует добавить, что употребление грубой, а зачастую и тухлой пищи приводило к тому, что даже сравнительно молодые люди лишались более половины зубов, а их десны превращались в опухшие зловонные рвы, среди которых редкими башнями торчали одинокие гнилые зубы.
Но и это еще далеко не все. Кожные и всякого рода внутренние болезни рыли на лице глубокие ямы, которые часто истекали гноем, а то и освобождались выдавленными длиннющими белыми червями.
Так выглядели не только молодые мужчины, но и многие женщины, к четвертому десятку почти не отличавшиеся в уродстве от мужчин.
К этому можно было привыкнуть. Да и как не привыкнуть, когда каждый второй встречный был таким?
Но лицо этого мужчины отталкивало и пугало с первого мгновения. И даже заставивший себя еще раз посмотреть на него, понимая, что первый взгляд обычно обманчив, чаще всего опускал глаза, а то и просто отворачивался.
Казалось, что сам Всевышний, устав от бесконечной борьбы с дьяволом, ненадолго смирился с происками коварного врага и позволил ему вдохнуть в этого ребенка частицу себя. Вот и вышло дитя – создание трех творцов: Бога (ибо все созданное на земле и небесах – дело Господнее), сатаны (ибо созданное Господом проверяется врагом его) и человека (ибо Господь вселяет душу, а дитя – все же плод семени людского).
Но, возможно, случилось и так, что в высоких Тирольских горах, в непроходимых лесах на несчастную женщину в похотливости своей напали дикие звери. И первым, конечно же, был медведь. Вне всяких сомнений, именно он дал этому мужчине – через свое семя – огромный рост и длинные, едва ли не до колен, покрытые тугими мышцами узловатые руки, несколько обвисшие, но крепкие плечи, коротковатые и изогнутые, однако такие мощные ноги, что он был способен задушить на скаку лошадь.
Можно при этом догадаться, что лицом мужчина немногим отличался от хозяина леса. Огромная голова с круглыми оттопыренными ушами в обрамлении жидких косм пепельного цвета. Круглое, почти плоское лицо, большой вытянутый нос, тончайшие губы, срезанный к горлу подбородок, так что правый верхний клык словно был выставлен напоказ, наводили на мысль, что в свальное изнасилование добавил своего волк.
К тому же в этом неправильном прикусе при движении губ просматривались крепкие сильные зубы серого хищника. Все зубы.
И уж, конечно, в создании этого портрета участвовал дикий кабан, иначе откуда эти широко, почти у самых ушей, посаженные маленькие круглые глаза и разбросанная по лицу густая жесткая шерсть, кустами торчащая на изрытых оспой щеках и шее?
– Хм, да-а-а, – опять не находя слов, то ли в восторге, то ли в ошеломлении протянул молодой рыцарь, выразив свое отношение к увиденному, и с превосходством взглянул на девушку.
Девушка была дочерью бюргермейстера. Приглашенная отцом для того, чтобы прочитать письмо старого епископа, она с готовностью и знанием исполнила просьбу Венцеля Марцела.
Теперь она глубоко вдавила свое тело в деревянное кресло и с мольбой в глазах смотрела на молодого рыцаря. Ее правая рука все еще держала развернутое письмо старого епископа, но бледно-желтый пергамент мелко подрагивал в тонких пальцах, выдавая внутренний трепет, а скорее страх, которым была охвачена девушка.
Сам Венцель Марцел уже успел привыкнуть к облику своего не очень желанного гостя, но волнение, испытанное им в первое мгновение, когда этот человек вошел в потайную дверь подземелья Правды, все еще не прошло, о чем свидетельствовала слабость в коленях.
«Вот так епископ! Вот так старый дядя, – подумал рыцарь, к которому вновь вернулось веселье. – Значит, это и есть подарок, который, без сомнения, должен мне понравиться и очень пригодиться. А он, пожалуй, прав. Мои наемнички живо хвосты подожмут. А то привыкли только требовать: деньги, деньги… А где мне их взять? Начнется война, тогда уже и золото, и серебро… Сейчас воинов только в кулаке можно держать. А у графа Эсенского, когда он увидит это страшилище, вообще глаза на лоб вылезут. Наверняка он лишится дара речи, узнав, каким мастерством владеет мой слуга. Нет, мой раб. Ведь именно так написал старый и добрый дядюшка. И не только граф ахнет. Теперь и король Эдуард, и сам император мне позавидуют…»
Приободренный собственными рассуждениями, Гюстев фон Бирк поздравил себя с тем, что не отступил ни на шаг при взгляде на это создание сатанинской дикости и смог полностью взять себя в руки. Ведь он барон, он кондотьер[4], а значит, ему сам дьявол не страшен. Не то что его порождение.
«Как же, глядя на это чудище, не согласиться, что Бог справедливо дает человеку облик в зависимости от того, занимается ли он гнусным ремеслом или благородным делом. Ремесло этого человека соответствует его облику, и оно само нашло это тело», – заключил погрузившийся в раздумья рыцарь и подошел к дочери бюргермейстера.
– Ознакомлен ли ты с письмом твоего господина ко мне, барону фон Бирку? То есть говорил что-либо тебе его святейшество по поводу твоей дальнейшей службы? – намеренно громко спросил молодой рыцарь, склонив голову к девушке.
– Да. Я сам писал это письмо со слов моего господина, – ответил звероподобный мужчина. Его голос звучал глухо и тяжело, как будто доносился из колодца.
– Вот как? – Брови барона взметнулись вверх. – Писал… Хорошо. Тогда ты знаешь, что словом епископа отпущен на волю, но с условием, что последующие три года будешь исполнять мои повеления. Или до тех пор, пока я не освобожу тебя собственным словом.
– И эти три года начинаются сегодня? – тихо спросил мужчина.
– Да, это так. Я согласен взять тебя в услужение. Я не буду отправлять тебя к епископу назад. Но ты должен поклясться, что будешь так же похвально служить мне, как до сих пор служил моему дяде епископу.
Мужчина поднял руку, произнес «Клянусь!» и широко перекрестился.
– Теперь ты можешь идти. Отдохни как следует. Завтра у нас много работы. Завтра мы схватим разбойников…
– Да, мой господин. – Мужчина поклонился, а когда выпрямился, то увидел рядом с креслом девушки и ее отца.
– Ах, моя дорогая Эльва. Ты слышала? Уже завтра наш гость положит конец страданиям Витинбурга. Наш город будет свободен от страха и печали. – Промолвив эти слова, Венцель Марцел хотел поцеловать дочь, но рука барона удержала его.
Пьяно икнув, фон Бирк уставился на бюргермейстера. Затем, что-то сообразив, он как можно учтивее произнес:
– А ты тоже можешь идти отдыхать. Завтра поедешь с нами.
– Да, разумеется, – обрадовался Венцель Марцел, но уже в следующую секунду поник и тихо осведомился:
– А Эльва?
– А Эльва споет несколько рыцарских баллад, чтобы укрепить во мне уверенность накануне предстоящего похода. Ведь ты умеешь не только читать, но петь и играть на лютне?
Девушка быстро встала и повлажневшими глазами посмотрела на отца. Тот опустил взгляд и, запинаясь, произнес:
– Ну… несколько баллад. Если это так необходимо рыцарю.
– Необходимо, так же как и чаша вина, – усмехнувшись, заявил фон Бирк и опять громко икнул.
* * *
Не жалея чужого добра, мужчина всем телом рухнул на лежанку. Та тоскливо зашлась долгим скрипом, но выдержала тяжесть веса.
«О Господи, как же долго я был на цепи! Неужели мои бесконечные молитвы истончили ее? И, может быть, скоро, очень скоро она разорвется и я буду свободен. И не только свободен телом, но и душой. Ведь я искупил свои тяжкие грехи. Ведь так, Господи?» – Мысли, словно трудолюбивые пчелы, гудели в его голове, кружившейся от счастья.
Он действительно чувствовал себя счастливым. И даже то, что ему предстояло целых три года выполнять приказы и прихоти молодого барона, вовсе не воспринималось им как долгая и тягостная отсрочка. Что значат всего три года в сравнении с десятилетием, проведенным в подземелье Правды?
Нет, он никогда не забудет ни единого месяца, ни единого дня из этого долгого срока. И как можно забыть время величайшего унижения и… необычайного восхождения? Унижения, которое забывалось благодаря осознанию того, что с каждым днем он чувствует себя более достойным.
Он усмехнулся. Он мог и рассмеяться. Теперь мог рассмеяться. Он не позволял себе этого десять лет. Десять лет в его жизни не было причины для смеха. Нет причины и сегодня ночью. Возможно, только улыбка. Но совсем не радостная, а скорее ухмылка. Вот так просто. Ухмыльнуться своей судьбе. Смотри, вопреки тебе я все выдержал и все вынес. И вылез из глубочайшей отхожей ямы. И совсем не тем ублюдком, которого судьба столкнула в эту самую яму.
Как удивился барон, узнав, что он, исчадие подземелья Правды, умеет писать. Сам-то рыцарь наверняка едва мог нацарапать пером хотя бы имя. Вероятно, свое баронское имя он лучше вычерчивал, махая мечом. Для этого он родился. От этого он, скорее всего, и умрет. Если, конечно, не свернет себе шею на крутых ступенях родного замка после непомерных возлияний. А то и просто свалится с коня и разобьет голову об острый камень.
Мужчина глубоко вздохнул и перевернулся на правый бок.
И сдался ему этот молодой рыцарь. Да, он хозяин. И в худшем случае еще на три года. Но ведь это всего три года. Что же не дает покоя бывшему служителю епископского подземелья Правды? Что заставляет вновь и вновь обращаться мыслями к тому, что происходит на первом этаже, в каминном зале?
Уже не слышится пение дочери бюргермейстера. Оно было коротким, слишком коротким. Да и что рыцарского мог услышать в балладе барон, когда от вина разгорелась кровь? Вино, ясное дело, спеленало и сжало мозг, расшатало колокол сердца и разбухло скотским желанием вздрагивающего фаллоса.
Наверное, молодой рыцарь пытается в словах выразить свое мужское восхищение юной городской прелестницей. Может, он даже попробовал сложить несколько строк чего-то похожего на любовный стих. Но при этом он крепко прижимает к себе молчаливо отбивающуюся девушку, чтобы широко открытым ртом, извергающим алкогольный перегар и гусиный жир, впиться в нежные девичьи губы.
Молодой рыцарь, оказавшись в рубиновом плену винного счастья, уже мчится на коне желания, надеясь достигнуть наивысшего блаженства…
Только вот девушка никак не готова осчастливить молодого рыцаря. Пьяное упорство и стремление к откровенному насилию привели к тому, что он пренебрег разумным диалогом и перешел ту границу, когда слова уже не могут ничем помочь. И поэтому следует кричать. Да, кричать, звать на помощь…
Мужчина накрыл широченными ладонями свое уродливое лицо и громко застонал. Ему ясно припомнилось каждое мгновение того наваждения, когда дьявол вселился в него самого и он этими же самыми ладонями обхватил совсем еще детскую головку едва созревшей девочки.
Казалось, это было всего лишь вчера и дразнящий запах волос девочки по-прежнему щекочет его звериные ноздри, хотя прошло более десяти лет. Казалось, что стоит ему отнять от лица ладони, и он сразу же увидит ее огромные серо-голубые глаза, застывшие льдинками ужаса и животного страха. Они такими и останутся в течение всего времени, когда он, порыкивая и постанывая, будет полоска за полоской срывать с ее хрупкого тельца заношенное селянское платье. Когда попытается ласкать нитками своих губ ее едва приподнявшиеся холмики грудей с мальчишечьими сосками, но только вместо этого вопьется в них зубами и сдавит до крика.
Это был не взывающий крик о помощи. Это был крик боли. Боли нестерпимой и неизбежной. Так кричит душа, пытающаяся защитить свою оболочку, этот греховный сосуд и временное свое хранилище. Эту человеческую плоть, которой домогаются и через которую оскверняется и унижается сама душа.
Девочка кричала от боли и страха. Да и кого она могла позвать на помощь? Отца, которого мародерствующие наемники первым делом избили и заставили выдать несколько серебряных монет, спрятанных на крайний случай, если начнется лютый голод? Старших братьев, тоже до полусмерти избитых и привязанных вместе с отцом к старому вязу во дворе? Мать? Двух старших сестер?
Но и эти несчастные только кричали от унижения и боли, но не звали на помощь. На каждую из них навалилось сразу по трое, четверо насильников. Заливаясь сатанинским смехом и подбадривая друг друга грязными шутками, вояки по нескольку раз сменялись, пока женщины не умолкли, захлебнувшись в собственных слезах и впав в состояние бесчувственности и физического безразличия, когда боль тела уже не тревожит душу.
Девочка тоже перестала кричать. Боль растерзанной девственности и огонь, охвативший низ живота, камнем сдавили сердце, ее разум спрятался за ширму понимания, нарисовав на лице бессмысленную улыбку и заморозив на глазах и щеках хрустальной чистоты слезы.
Но ни улыбка, ни слезы не остановили тогда его мужские толчки. Поддавшись сатанинскому желанию и до сих пор ни с чем не сравнимым блаженством, соединив дьявольское и божественное, он долго терзал хрупкое тельце, бешеным взглядом до смерти пугая тех своих друзей-наемников, что желали эту девочку после него.
Но нет. Она никому больше не досталась. Это была его личная добыча, его самая сладкая кость, которую можно сколько угодно долго облизывать и нежно об нее тереться, припоминая сытость тела и восторг души.
Да и на протяжении всей ночи он не снимал с ее вздрагивающего тельца своих огромных рук и просыпался каждый раз, когда кто-либо хотя бы на несколько шагов приближался к той охапке сена, на которой сатана в очередной раз оказался сильнее Господа, насилуя тело и ломая душу.
О, сколько долгих ночей провел он в страстном желании замолить этот страшный грех! О, сколько поклонов он совершил, упав на колени перед маленьким деревянным крестом, прибитым к каменной стене в его комнатушке в подземелье Правды. О, сколько ударов жесткой плети он обрушил на свои плечи и спину, надеясь острой болью испросить у Господа прощение!
Но прощение только за это преступление. Ибо многочисленные смерти от его руки на полях битв и убийства тех, кто был наказан судом и Господом, не вызывали в нем столько раскаяния и человеческого сожаления, как то насилие, что учинил он более десяти лет назад над безгрешной душой и хрупким телом несчастного ребенка.
При этом кающийся и не думал испрашивать прощение за свое повторное и, с точки зрения нормального человека, более ужасающее преступление. Оно было следствием первого. Его неизбежным продолжением, ибо в те сладострастные мгновения, когда он впервые в жизни испытал блаженство, в него вселились демоны. Он отворил двери своей души и вместе с греховным наслаждением, волной плотского восторга и телесным сладострастием, сам того не заметив, впустил в свое тело, в котором место лишь божественному, его наилютейшего врага. И сатана, вдоволь насмеявшись, улетел в свои бесконечные путешествия дорогами зла и скверны, оставив после себя, как муха личинки, мелких демонов.
И эти демоны взросли в его душе, питаясь кровью тех, кого он убивал на войнах, терзал в промежутках между сражениями, грабил и насиловал. Ему тогда казалось, что это правильно и необходимо. Убив врага, он забирал его оружие и доспехи. Грабя и пытая тех, кто на свою беду попался ему на пути, он добывал серебро и даже золото. А насилуя, он лишь на непродолжительное время освобождал себя от острого желания немедленно отправиться в путь, чтобы еще раз взглянуть в огромные серо-голубые глаза и дрожащими пальцами прикоснуться к ее еще детскому лицу, которое так часто приходило ему во сне и наутро оставляло его с чувством умиротворяющего блаженства.
И вот демоны стали настолько могущественными, что повели его по пути, указанному сатаной.
А как еще можно объяснить то, что он, покинув в разгар сражений отряд и прихватив двух чужих коней, отправился в трехдневный путь, подгоняя себя и животных картинами счастья, что рисовали в его мозгу все те же порождения ада?
Он ехал, едва замечая путь, не переставая сочинять мгновения встречи, и при этом улыбался, словно мальчишка, получивший в подарок позолоченный деревянный меч. Да, его примут, не прогонят, не будут упрекать за горе и страдание, которые причинили он и его друзья-наемники. Может, только вначале, до того момента, когда он положит к ногам хозяйки богатые дары, а перед отцом девчушки вывалит на стол золото и серебро. И подарков, и денег много. Очень много. Столько же, сколько пролито из-за них человеческой крови. Стоит только оглянуться и посмотреть на мешки, которые приторочены к седлу второй лошади. Да и лошадей не жаль.
Он все отдаст. И себя отдаст. Станет землепашцем, ремесленником, купцом, кем угодно, лишь бы поутру видеть желанное лицо. И он будет ей и мужем, и вторым отцом, и даже посланником Бога, способным защитить от любой беды и болезни.
Только первые и лучшие подарки он преподнесет девушке. Она простит его, непременно простит. Он будет добр и ласков с ней. И она привыкнет к его ужасающему обличью, поймет, что есть в нем благодатная нива, на которой могут взрасти и дать плоды лучшие человеческие чувства. Он не будет ее торопить. Он терпеливо будет ждать ее взросления и понимания.
Да и если уж на то пошло, что ей остается в жизни? Какой нормальный парень возьмет за себя ту, что лежала под наемником, пусть и против своей воли? А если учесть, что число девушек и женщин всегда втрое превышало количество их возможных партнеров, то вопрос замужества всегда был сложным. Ведь всем известно, что мальчики чаще умирают в младенчестве, а затем, достигнув брачного возраста, подвергают себя постоянным опасностям на войнах, в драках и на охоте.
Казалось, все так правильно и все так удачно складывается, что и желать большего – только Бога гневить. Вот если бы только не демоны в душе, строго выполняющие задуманное сатаной…
Но все, все это позади. Все замолено трижды, и трижды по трижды, и еще бесчисленное количество раз по трижды. Нужно гнать прочь былое греховное и думать о светлом завтрашнем дне, который ниспошлет Всевышний.
Ничего в жизни человеческой не проходит бесследно, и ничего не остается позади навсегда. Оно лишь ждет, когда потребуется встряхнуть тело и душу. Конечно, такая встряска чаще всего болезненна и неприятна, но все же полезна как телу, так и душе.
Вот и сейчас мужчина тяжело перевернулся на жесткой лежанке, тяжело вздохнул и, не выдержав, встал. Он знал, что не сможет найти покоя ни сейчас, ни потом. Ведь там, внизу, происходило богопротивное, если уже не произошло. А его душа, укрепившаяся бесчисленными молитвами и наставлениями монахов, не могла согласиться с волей сатаны – его личного врага. Ведь сколько усилий пришлось приложить и священнослужителям, и ему самому, чтобы изгнать из самых темных уголков его души могучих демонов – достойных детей своего отца.
Мужчина обеими руками схватился за грудь. Ему вдруг показалось, что в его душу вместе с криком девушки, приглушенным деревянными стенами, вновь протискиваются исчадия ада. И если он сейчас ничего не сделает, то уже никогда от них не избавится.
А еще ему подумалось, что он – и только он – ответственен перед Богом за насилие над девственной чистотой и сейчас самое время послужить Создателю в благодарность за возможность спасти душу.
Он рывком набросил на себя плащ и с силой толкнул дверь. Быстрым шагом пройдя большой этажный пролет и почти бегом спустившись по лестнице, мужчина едва не споткнулся о сидящего на последней ступеньке скрючившегося бюргермейстера. Забыв об учтивости и почтении, он схватил правой рукой Венцеля Марцела за ворот и повернул его лицом к себе. И тут же почувствовал густой винный запах, что, казалось, исходил не только изо рта напившегося до бесчувствия отца, но и из его носа и ушей. Вероятно, таким образом тот пытался уйти от ответственности перед дочерью и Богом.
«…оружие власти… но схватить и удержать дано единицам… тем, кто может пожертвовать многим и, прежде всего, самим собой. А чем ты готов пожертвовать, Венцель Марцел?» – полушепот старого епископа ледяной змеей пополз по извилинам мозга бывшего служителя подземелья Правды. Он слышал эти слова жестокого старика и теперь сам видел последствия их внушаемости.
«Чем ты готов пожертвовать, Венцель Марцел?..»
Если бы бюргермейстер не был так смертельно пьян, тот, кто держал его за ворот, непременно, позабыв о сословности и почтении, спросил бы строго, как Господь в неизбежный судный день. Но…
Венцель Марцел, перекатывая голову с одного плеча на другое, лишь выдавил жалкую улыбку и вслед за ней горько разрыдался.
Мужчина ослабил хватку, и тихо плачущий бюргермейстер тряпичной куклой осел на каменный пол. При этом его рука невольно потянулась к большому медному кувшину, стоящему у края лестницы. Но мужчина уже успел схватить желанный сосуд и осторожно переступил через затихающего Венцеля Марцела.
Подойдя к двери, мужчина, ни мгновения не колеблясь, распахнул ее и быстро вошел в каминный зал…
Глава 2
На следующий день, с первыми лучами давно ожидаемого солнца, отряд, состоящий из городских стражников и полусотни горожан добровольцев, пересек витинбургский лес и поднялся на холмы правого берега Рейна. Предстояло пройти еще несколько миль, чтобы упереться в обвалившиеся рвы замка Этсби.
Издавна, с темных времен, это место считалось нечистым. И не только оттого, что здешние болота дышали гнилостью и болезнями, а почва более напоминала торф. Местные холмы притягивали всякую нечисть – как дьявольскую, так и человеческую, – и часто на их вершинах полыхали костры и раздавались жуткие крики.
Чаще это были крики тех несчастных, кого захватили разбойники для своих плотских утех и омерзительных развлечений. Но были и шумные пиршества, которые задавали для своих вояк главари шаек.
Первым из главарей обосновался на этих холмах Гельрих Рыжий. Когда это было, и было ли вообще, записей в церковных книгах не сохранилось. Но память людская из поколения в поколение передавала страшную правду о Гельрихе Рыжем – гнусном разбойнике, убийце и насильнике. Реже вспоминали о том, что, не сумев укротить разбойника и его шайку, император пожаловал ему баронство и право сбора подати с земли и проходящих по Эльбе купеческих кораблей. Это возвысило разбойника, и прежде всего, в его собственных глазах. Но он так и умер разбойником, опившись крови и вина. А вот его сыновья крепко ухватились за баронство и добыли себе силой и мечом замки и богатство. Вот только о разбойничьих делах отца они никогда не вспоминали.
Не вспоминали о судьбе их отца и многие из друзей и недругов. А все потому, что большинство тех, кто носил высокие и почетные титулы барона, графа, маркиза и даже герцога, непременно имели в корнях своего родового древа предка-разбойника – жестокого убийцу и насильника.
Это уже потом Господь воздал им за служение и веру. Воздал почестями, землями и богатством. Но все же время от времени разбойничья кровь вскипала в жилах благородных и знатных господ. И тогда опять, но уже в военных масштабах и всенародного грабежа отводили они душу, поминая кровавых предков.
После себя Гельрих Рыжий оставил небольшой замок, некогда хорошо укрепленный, но сейчас осыпавшийся и разобранный на камни селянами и арендаторами для постройки жилищ в те короткие месяцы, когда его стены покидал очередной отряд разбойников, нанятый для очередной войны.
В руинах этого замка, в полуразрушенных и едва накрытых досками и соломой баронских покоях вот уже более полугода проживала одна из самых кровавых разбойничьих свор. Она состояла из полусотни воинов-наемников, которые решили не идти в родные южные земли Германии и Швейцарии, а переждать здесь недолгое затишье в великой войне между английским королем Эдуардом и королем Франции Филиппом. Благо холмы и болотистая местность вокруг замка Этсби все еще находились во владении наследников Гельриха Рыжего. Но их, кормящихся у престола императора, эта земля не прельщала и не тревожила памятью о предке. Так что наемники могли спокойно располагаться в покинутом замке.
Впереди отряда стражников и вооруженных горожан, отпустив лошадь, неторопливо ехал Венцель Марцел. Весь путь он угрюмо молчал, уперев подбородок в добротный миланский панцирь. Наброшенный на луку седла массивный шлем ритмично, в шаг лошади, бил по его защищенной броней верхней части бедра. Но этот едва ли не колокольный звон не мог отвлечь бюргермейстера от мысленного разговора с самим собой.
Не решался побеспокоить главу горожан и судья Перкель. Это он еще в утренней темноте по приказу бюргермейстера собирал отряд. Сам Венцель Марцел едва стоял на ногах от излишества вина и бессонной ночи, но только что прискакавший сержант, сообщивший о прибытии людей молодого рыцаря Гюстева фон Бирка, заставил его встряхнуться и придать своему голосу уверенности. Барон выглядел не лучше бюргермейстера и при этом старался не смотреть на Венцеля Марцела.
План по истреблению разбойников уже давно вызрел в голове бюргермейстера, был им изложен и тут же принят молодым рыцарем, который в знак согласия с готовностью откликнулся поддержать его.
И хотя дрожь в коленях судьи, появившаяся за городскими воротами, не унималась, Перкель даже не пытался в разговоре с бюргермейстером успокоить свое сердце и тело. Ведь ему не приказывали отправляться на расправу с разбойниками. Он сам себя назначил в эту смертельно опасную вылазку. Но что поделать, ведь он судья. А еще Перкель всей душой желал избавления города от кровавых разбойников. К тому же в случае успеха предстоят судебные решения. Его решения. И о них узнают и горожане, и вся округа, и, может быть, даже император.
* * *
Мартин тяжело вздохнул.
Нужно было открывать глаза, переваливаться через всхлипывающую даже во сне «его женщину» и выбираться из «его комнаты». Затем сразу же идти на башню, будить ударами ног дремавших, без всякого сомнения, смотровых и начинать еще один день.
«И хорошо, и плохо, – подумалось ему. – Хорошо, что сегодня есть своя комната и своя женщина. Плохо, что опять весь день нужно командовать скотами».
И то и другое было неправдой.
Это не «его женщина». Да и комната была в пользовании лишь на время. Короткое или нет, но на то время, пока не вернется капитан Иоганн Весбер.
И потом, он совсем не командовал наемниками, а извивался ужом, хитрил, как лиса, и угодливо всматривался в наглые рожи этих скотов. И все это вместо того, чтобы по приказу отбывшего капитана требовать от воинов упражняться с оружием и без него, чистить лошадей, чинить боевое снаряжение. Но это под силу лишь капитану и его жестокой руке. Вот вернется – пусть и управляется со своими наемниками.
А капитан вот-вот должен вернуться. И тогда он завалится в огромных сапожищах на свое подобие лежанки, подомнет под себя женщину и будет долго вдавливать ее в скрипучие доски, едва прикрытые старым матрацем с вонючей шерстью.
После этого, уставший и вспотевший, но по-прежнему недовольный всем и всеми, капитан схватит за волосы свою подстилку и станет бить ее по лицу, допытываясь, кто пользовал ее за время отсутствия доблестного Иоганна Весбера. И тогда уже женщина капитана будет рыдать и креститься, пытаясь убедить его в том, что никто ее даже пальцем не тронул, поскольку все уважают своего главаря. Она хорошо знала, что иначе побои и вырванные волосы будут всего лишь «нежностью» по сравнению с тем, что может сделать разгневанный донельзя Иоганн Весбер.
За два прошедших месяца, которые женщина была под капитаном, она насмотрелась такого, что и рассказывать страшно.
Это Бог наказал ее. Наказал за слабость, которую она допустила, позволив старшему брату мужа повалить себя в углу конюшни. Теперь ей не помогут ни муж, ни его старший брат, ни ее собственный отец. Никто из них не решится пробраться в эти развалины, чтобы вырвать несчастную из рук изверга. Да и как решиться, когда даже страшно смотреть в суровые лица разбойников и на их вечно жаждущее крови оружие.
Да, она будет молчать и о Мартине, и о тех многих из наемников, что пользуют ее, когда капитан в отъезде, а Мартин спит мертвецки пьяный.
Мартин и сам догадывался, что случается с «его женщиной», когда он отуманен вином. Но, в конце концов, она лишь на время «его женщина», так что все происходящее с ней – это уже проблема капитана.
«А хорошо бы самому…» – подумал Мартин и тут же остановил себя.
Капитаном ему никогда не быть. Ни благородством рождения, ни внутренней силой, ни особым воинским умением он не обладал. Зато был очень зол, хитер и коварен. А еще неутомимо исполнительным. За это капитан и назначал своего оруженосца старшим на время своих отъездов.
И все же он чувствовал себя удовлетворенным. Хорошо, что ему удалось урвать этой ночью хоть немного плотского наслаждения. Хорошо, что он не спал в общей комнате на прелой соломе вповалку с дышащими гноем наемниками. Хорошо, что его не бил в затылок скорый на руку капитан, всегда сердитый и чем-то недовольный.
Но когда Мартин встал с лежанки, ощущение довольства стало постепенно испаряться. Наступало то, что он считал плохим: нужно было будить наверняка не выспавшихся после ночной пьянки воинов, пытаться правильно, как делал это капитан, провести с пользой день, назначать дозорных и отправлять на поиски съестного (и прочего для удовольствия) вконец разленившихся «братьев по оружию». И при этом ругаться, ругаться и ругаться. С каждым в отдельности и со всеми вместе.
Мартин чертыхнулся. Он потрогал свой перерубленный в пьяной драке нос и, отбросив то немногое, чем была укрыта женщина, тоскливо посмотрел на худое грязное тело. Ничто мужское в нем не шевельнулось. Похотливая сила напрочь оставила его еще далеко за полночь, едва несколько капель его семени скатились в женское лоно.
Со злости плюнув в открывшиеся глаза женщины, наполненные ужасом, Мартин придавил коленом ее руку и встал на ноги. И тут же почувствовал, как в разорванный шов его правого сапога просочилась холодная жидкость из вонючей лужи мочи и блевотины, что расплылась тут же, у лежанки.
Это окончательно убило все доброе, что дает поутру Господь.
Произнося скверну и отплевываясь, Мартин быстрым шагом поспешил во двор.
Как он и ожидал, несмотря на позднее утро, еще никто из наемников не высунул свою морду на свет божий. Даже за тем, чтобы помочиться на свежем воздухе. Да и чему удивляться, если Мартин сквозь сон еще под утро слышал громкий смех и ругань.
Дабы исполнить свой долг, оруженосец славного рыцаря Иоганна Весбера вскарабкался по ветхой лестнице на то, что осталось от смотровой башни. Как и ожидал Мартин, он увидел двух сидящих наемников. Они, склонив шлем к шлему, радовали себя глубоким сном. И, конечно же, это были самые молодые воины отряда, едва ли не каждую ночь отправляемые старшими по возрасту на смотровую службу вместо себя.
– Ах вы, свиные рыла! – разогревая себя, воскликнул Мартин и ударил ногой в шлем ближайшего к нему смотрового.
Молодые воины тут же вскочили и, зло сверкая глазами, уставились на капитанского оруженосца. Крепкие парни, они могли в считанные секунды намять бока Мартину. Но за ним нависала тень капитана, да и старшие воины, уклонившиеся от ночной службы, будут недовольны выходкой новичков отряда. Оставалось только терпеливо выслушивать брызжущего слюной Мартина:
– Это так вы несете службу, дерьмо собачье?! Так охраняете сон своих друзей? Ах вы, опорожнения сатан…
Мартин замер на полуслове. Его взгляд скользнул за плечи провинившихся и застыл в недоумении. Молодые разбойники посмотрели друг на друга и затем медленно развернулись.
Теперь и они с удивлением увидели, как в двухстах шагах от них, на каменистом холме, медленно и неуверенно выстраивались в ряд вооруженные люди. Несколько десятков неопытных и никем не руководимых воинов пытались создать боевой строй, то оставляя бреши, то сбиваясь щит в щит.
Неприятный холодок пробежал по спине Мартина, а затем разлился в низу живота.
– Что им нужно? – пытаясь скрыть волнение, спросил он.
Один из молодых дозорных недобро сузил глаза и нагловато посмотрел на рыцарского оруженосца.
– Это всего лишь городской сброд. Таких мы уже видели.
Мартин поежился и попытался улыбнуться.
– Да, таких мы уже топили в болоте. Поднимайте воинов. Пусть готовятся к вылазке.
Глядя вслед спускающимся смотровым, Мартин провел рукой по лицу и почувствовал на ладони влагу от выступившего пота.
«Плохо день начался, очень плохо, – мелькнуло у него в голове, и тут же к этой мысли прибавилась еще одна, – мне совсем не обязательно сегодня махать мечом. Капитан доверил мне только эти камни».
Уже вскоре на смотровую площадку влезли до десятка наемников. Они и не заметили Мартина. Зато вид суетящихся горожан их порядком потешил.
– Это стадо овец решило разбудить волков. Сейчас мы соберем с них шерсть и перемелем косточки. Бараны с тупыми ножами. Всех перебьем…
– Нет, не перебьем. Всех перевяжем. Пусть за них город платит! – перекрикивая всех, возразил самый высокий и крепкий из наемников.
Грубый голос принадлежал Оберу. Этот верзила однажды сильно ударил Мартина за то, что тот хотел налить себе лишнюю кружку вина. При этом оруженосец лишился переднего зуба.
– Все за мной, на баранов! – весело воскликнул Обер и воинственно потряс мечом.
«А это хорошо», – подумал Мартин, мысленно снимая с себя всю ответственность за дальнейшее. Ведь сам капитан еще ни разу не ударил крепыша Обера.
Охотно подчинившись громким командам своего товарища, воины бросились вниз и стали поспешно хватать оружие и доспехи. На это потребовалось немного времени, и Мартин с высоты башни увидел, как почти все, кого капитан не взял с собой, вывалились за давно сорванные ворота.
Наемники даже не пытались построиться или хотя бы пустить несколько стрел в сторону врага. Да и самих недавно появившихся на полях сражений арбалетов и привычных луков ни у кого не было. Ведь для этого оружия требуются стрелы. А те во множестве торчали в деревянной стене конюшни, на которой были распяты два мертвых городских стражника.
Так закончилось вчера веселье и настойчивые призывы Мартина поупражняться в стрельбе. Только к вечеру, после нескольких кружек вина, воины вняли просьбам капитанского угодника и стали стрелять, стараясь попасть как можно ближе к телам весь день висевших стражников. Одна из стрел угодила в грудь старого стражника, и тот сразу же испустил дух. Затем уже десятки стрел устремились в человеческие мишени…
А еще Мартин, покачивая головой, приметил, что многие из наемников были без щитов и копий. Зато почти у каждого в руке был моток веревки. Так, размахивая мечами и веревками, они и двинулись на прибывшее городское ополчение.
«И этого достаточно, – решил Мартин и даже сделал шаг, чтобы присоединиться к своим друзьям по войнам и разбоям. Потом передумал и вернулся к полуразрушенным бойницам. – Я успею. Конечно, успею. Пока можно и посмотреть».
Громко крича и размахивая мечами, наемники тем временем приблизились к холму. Самые горячие и сильные из них вырвались вперед, растягивая и без того неплотную массу отряда. Но и этого хватило, чтобы ряды городского ополчения всколыхнулись и стали медленно отступать.
«Для войны нужно родиться, – с гордостью подумал Мартин и крепко сжал рукоять своего меча. – Нужно поспешить, а то повяжут всех без меня».
Испугавшись, что так и случится, а значит, при дележе выкупа ему ничего не достанется, оруженосец стал быстро спускаться со смотровой башни.
Вступив в жижу двора, Мартин заколебался. Какой-никакой, но это бой. А бой – событие непредсказуемое. Простояв некоторое время, он все же решил надеть нагрудный панцирь, шлем и прихватить щит. Уже спокойным шагом он отправился в свою комнату, где в мокром углу были свалены его доспехи и оружие. Протиснувшись в узкую дверь, Мартин остановился, в полумраке напрягая глаза.
Так и есть. Его женщина, заслышав шум и крики возбужденных наемников, уже покинула комнату и, скорее всего, убежала к тем своим подругам по несчастью, что всякий раз забивались в подвалы замка, как только их истязатели начинали пить вино или устраивали драку. Это, конечно, не спасало их от последующего насилия и избиения, но давало некоторое время, чтобы в молитвах попросить о заступничестве Божью Матерь.
«А вот и началось», – напрягая мышцы, подумал Мартин, едва до его слуха донеслись приглушенные расстоянием и руинами замка первые крики раненых и скрежет оружия. Он стал поспешно натягивать на истрепанный камзол нагрудные половинки панциря, затем трясущимися от спешки пальцами принялся застегивать ремешки, что их соединяют. Но ремешки, разбухшие от сырости и сочившейся между камнями воды, никак не желали влезать в тесные для них металлические застежки.
Повозившись, сколько хватило терпения (а его у Мартина никогда не было), оруженосец зарычал и сбросил непокорное железо.
«Щита достаточно», – в конце концов решил он и, схватив свой щит, заторопился к воротам. Еще два десятка шагов за воротами он преодолел бегом. Конечно, следовало спешить, но что-то насторожило его, а затем и вовсе невидимой рукой задержало и резко остановило.
С этого места Мартин не мог видеть, что происходило на вершине холма, но его острый, как у лисы, слух уловил то непонятное, что стало причиной его настороженности. Он хотел бы слышать победные крики своих друзей-наемников, мольбы о пощаде этих городских олухов. А вместо этого над холмами и обрамляющими их лесами повисла жуткая тишина. И вот в этой жути вначале глухо, а потом все более отчетливо, по нарастающей начали доноситься топот копыт и ржание лошадей.
«Наши лошади в конюшне. Никто и не вспомнил о них». – Холодный пот в очередной раз за этот день выступил на лице Мартина. Еще мгновение – и он увидел своих воинов, показавшихся на вершине. Те, бросая оружие и уже ненужные веревки, бежали, оглядываясь вполоборота, к спасительным развалинам замка. Через несколько секунд вперемешку с последними из них на вершину взлетели всадники с длинными копьями наперевес.
«Это все. Это конец», – тут же понял Мартин и, резко развернувшись, что есть духу понесся к воротам.
«Как глупо, как все глупо. Капитан никогда бы не совершил такой глупости. К дьяволу капитана. Спасать себя, себя… О Господи, спаси и убереги…»
Мечась по небольшому, выложенному камнем двору замка, Мартин лихорадочно перебирал в памяти все подвалы, комнаты, переходы и башни, каждый камень, каждую упавшую балку. Но нигде он не видел спасительного места. В голове помутилось от страха и отчаяния. Он упал на колени, а затем и лицом в зловонную вечную жижу, что на три пальца покрывала камни двора. И только тут…
– Да, да… – сдерживая крик, прошипел оруженосец и быстро, на четвереньках прополз с десяток шагов. Ни мгновения не колеблясь, он головой вперед ушел в каменную яму, доверху заполненную чем попало: дождевой водой, мочой, гнильем и разбухшим телом утопленницы, третьего дня покончившей с собой.
Холодная вода до костей пронзила тело и ударила в открытый от страха рот Мартина. Сам того не желая, он сделал несколько глотков и, перевернувшись, вынырнул. Но едва его голова показалась над поверхностью среди капустных листьев, ботвы, человеческого и конского дерьма, как он сразу же увидел сгорбленные фигурки наемников, поодиночке и группами вбегающих во двор. Некоторые кинулись к западной стене, чтобы через провалы пробраться к реке и попытаться переплыть ее. Другие стали искать ненадежного спасения все в тех же подвалах и пристройках. И только шестеро из них стали в строй и вытянули мечи навстречу въезжающим во двор всадникам.
Мартин набрал в грудь как можно больше воздуха и, подогнув колени, опустился на спасительное дно. Оставаясь там, он почувствовал, а затем увидел, как расступилась вода и сжавшееся тело опустилось на дно.
«Еще один… Но, кажется, ему не ко мне, а к небесам», – подумал Мартин и даже попытался перекреститься.
Но легкие уже начали рвать грудь. Нужен был хотя бы один, ну хотя бы полглотка воздуха. «Нет, нет», – запротестовал мозг оруженосца, однако тело само по себе стало всплывать. «Где она? Где?» – Лихорадочно заработавшая мысль толкнула Мартина к плавающему на поверхности телу утопленницы. Нащупав его руками, он прикрыл голову подолом женского платья и осторожно вынырнул.
Бой во дворе закончился. Из тех, кто пытался защищаться, в живых остался только Обер, но и тот стоял на коленях, обхватив руками окровавленную голову. Его смятый шлем лежал рядом, а меч был отброшен в знак полного подчинения победителям.
Через мгновение к Оберу подбежали два городских стражника и, опрокинув его в грязь, стали вязать.
К возившимся с пленным стражникам медленно подъехали три всадника.
Тот, что был посередине, снял шлем и встряхнул длинными светлыми волосами. На его молодом лице сияла довольная улыбка.
– Вот и все. Нет больше ваших обидчиков. С разбойниками покончено, бюргермейстер.
– Да, – как-то устало и равнодушно ответил всадник справа.
– Но еще есть те, кто будет отдан закону, – громко произнес третий всадник и указал рукой на утыканные стрелами тела у стены деревянной конюшни.
– Это кто? – спросил молодой рыцарь.
– Это мои люди. Я велел старику Вольтеру и тому, что с ним, похоронить арендатора Хольца. Это было пять дней тому. Теперь твоя служба, судья Перкель.
– Да уж, мой добрый Венцель Марцел. Забот будет много. – И судья опять махнул в сторону шестерых связанных разбойников, которых стражники ударами тупых концов копий выводили со двора.
* * *
Венцель Марцел громко хлопнул калиткой. Проходящая мимо старуха и тащивший за ней корзину подросток остановились и низко поклонились бюргермейстеру.
«Еще руки бросятся целовать», – не без самодовольства подумал Венцель и, гордо подняв голову, широким шагом направился к городской Ратуше.
Позавчера, в первых сумерках, весь город вышел за ворота, чтобы приветствовать своего достойного бюргермейстера, который возглавлял колонну из стражей и плененных разбойников. Всадников фон Бирка тоже встречали громкими возгласами, но более сдержанно. С давних времен горожане остерегались рыцарей и их воинов.
А уже поутру за Венцелем Марцелом повсюду следовали многие из горожан. Каждый раз, когда на их пути попадался незнакомый человек, его останавливали и, указывая на дородное тело Венцеля, с гордостью сообщали: «Это наш славный бюргермейстер и спаситель нашего города».
Потом уже непонятливых заставляли низко кланяться и приветливо улыбаться.
Многие из горожан, расчувствовавшись, припадали к рукам бюргермейстера, на что он притворно сердился и прятал руки за спину.
Вот и сегодня, не сделав и двух десятков шагов от дома, Венцель Марцел краешком глаза заметил, как у него за спиной образовалась толпа. Люди тихо переговаривались между собой, но многое из того, что было сказано, бюргермейстер услышал и принял всем сердцем.
– Счастлив город, в котором есть такой бюргермейстер…
– Счастлив каждый горожанин…
– Да продлит Господь его безболезненные годы…
Венцель Марцел, прищурившись, посмотрел на небо. В лучах, первых по-настоящему весенних лучах, голубое небо казалось торжественно высоким и приветливым.
«А ведь там Господь, который каждому воздаст по делам его…»
Ступив на Ратушную площадь, Венцель Марцел благосклонно и даже почти по-дружески кивнул вышедшему из соседней улицы судье Перкелю. На пунцовом от удовольствия лице судьи масляно светились счастливые глаза. За ним тоже шла небольшая толпа.
– Да пошлет Господь доброе утро уважаемому бюргермейстеру. – Не опуская головы, судья почтительно поприветствовал его.
– И тебе того же, – выставив подбородок, ответил Венцель Марцел.
– Какой приятный и желанный весенний день.
– И для нас, и для наших горожан. А вот для разбойников…
Венцель Марцел поднял правую руку и выразительно ткнул указательным пальцем в небо.
Стоящая в нескольких шагах толпа всколыхнулась и одобрительно загудела, оценив его жест.
Приняв под локоть руку судьи, бюргермейстер поднялся на ступени Ратуши. Здесь у входа его уже ожидал молодой рыцарь фон Бирк. Хвала Господу, молодого барона вчера удалось спровадить на постой к казначею Эрнсту. У того все дочери замужем, да и зятья крепкие, как дубовые скамьи. Сделал это бюргермейстер тонко и ненавязчиво, устроив в доме Эрнста пир в честь разгрома разбойников. Не знавший меру в вине фон Бирк поутру проснулся на широкой кровати казначея и обнаружил на сундуках и скамьях свое оружие и одежду, а также то немногое, что сопровождало верхового рыцаря в походах.
В тот же вечер Гюстев фон Бирк нагрянул в дом Венцеля Марцела, но тот был в Ратуше, а его милая дочь не вышла приветствовать благодетеля города, выслав служанку с отказом.
В нитку сжатые губы, обрамленные короткой русой бородой, выдавали настроение молодого рыцаря. Сегодня с первыми лучами солнца он отправил свой отряд из города, поручив его верному сержанту. И теперь его просто трясло от клокочущего в душе гнева.
– Я отправил своих людей. А… – громко начал молодой рыцарь, но, подхваченный под руки с обеих сторон бюргермейстером и судьей, вынужден был продолжить за закрытой дверью Ратуши:
– Как мне было объяснить им? Вечером подали вино и мясо. А уже на следующее утро отделались жидкой кашей и вареными овощами. Вечером еще меньше.
– Виной тому беды, что послал нам дьявол в образе кровавых разбойников. Городская казна пуста. Люди крохами кормят своих детей, а если что остается, доедают сами. – Бюргермейстер развел руками. – К тому же у города нет обязательств содержать ваш отряд, храбрый рыцарь. Вы и ваши воины совершили доброе дело. Господь воздаст вам на небесах. А люди разнесут по христианским землям славу о благородстве и силе рыцаря фон Бирка.
– Господь… Люди… – Гюстев поморщился. – Даже твоя дочь, бюргермейстер, не пожелала поблагодарить меня.
Венцель Марцел нервно прикусил губу и, печально посмотрев на рыцаря, произнес:
– Ей решать.
– Кому? – брови рыцаря удивленно взлетели вверх. – Да кто она… Я вел воинов в бой. Собственной рукой убил троих…
– Но не ради горожанки, – неучтиво перебил его бюргермейстер. – Ведь это случилось по воле Господа и благодаря стараниям епископа. Да и подарок его был принят.
– Я… – Гюстев фон Бирк хотел что-то возразить, но только обиженно захлопал ресницами.
– Да. По поводу епископского подарка, – бюргермейстер почесал подбородок, – кажется, он может сослужить добрую службу. Для начала пусть выяснит, где разбойники хранили награбленное. Ведь часть его по праву принадлежит победившему. Вам, доблестный рыцарь!
Молодой барон задумчиво уставился на Венцеля Марцела.
– Ты думаешь, у этих оборванцев что-то было?
– Если не у них, то у капитана наверняка. Ведь содержание полусотни воинов – удовольствие дорогое. Хотя на войне они еще дороже стоят. Вчера, устроив первый допрос, судья Перкель не смог и двух слов признания из них вырвать. Разбойники ведут себя весьма дерзко. И все время грозятся появлением их капитана.
– Пусть только явится. Я готов! – Молодой рыцарь гордо выпрямился. – А насчет епископского подарка… Считайте, что на пять дней он ваш. Только…
– О, ваша щедрость и достойные рыцаря поступки будут вознаграждены и Господом, и людьми. – И, предупреждая вопрос молодого барона, бюргермейстер добавил:
– И, конечно же, моей дочерью…
* * *
Бюргермейстер навалился всем своим большим телом на окованную железными полосами дубовую дверь, и только тогда она нехотя, со скрежетом, подалась и впустила пришедших.
– Здесь хранится все то, что нужно, если враг подойдет к стенам города: оружие, доспехи, смола и другое снаряжение. Думаю, этого хватит, чтобы вооружить половину мужчин города. Хотя почти все они состоят в городских цехах, а обязанность цехов – выставлять для обороны свои вооруженные отряды мастеров, подмастерьев, учеников. Но если у кого не будет своего оружия, город поможет. Беда города – беда каждого горожанина. И наоборот. Иди в тот угол…
Венцель Марцел указал факелом в дальний угол, а затем передал огонь своему спутнику. Тот молча взял факел и побрел в указанном направлении. За ним в нескольких шагах следовал и бюргермейстер. Остановившись перед грудой железа, он продолжил:
– Вот тут находится почти все, что нужно для твоего ремесла. Все это лежит без дела вот уже три года. Тот, кому это было нужно для работы, внезапно умер. Будучи еще нестарым, он не успел приготовить себе замену. С тех времен в городе возникло много проблем, да и беды следуют одна за другой. Но казна пуста. Мы, случается, нанимаем… Однако это бывает в редких случаях. Трудно найти достойного мастера для…
Бюргермейстер не закончил свою мысль. Да и зачем? Этот человек все знает, все понимает. Вон как быстро и со знанием дела он переворошил кучу железа и отобрал самое необходимое из того, что можно применить в его краткосрочной службе городу. Он знает и понимает свое жуткое ремесло. Другого епископ не держал бы при себе. Страшную славу о подземелье Правды заслужил в том числе и этот человек. Было бы интересно послушать его. Но вряд ли это когда-нибудь произойдет. На его губах – печать молчания. И не только епископская, но и собственная.
С того самого вечера, когда разгоряченный вином молодой фон Бирк остался наедине с его дочерью, этот «подарок» епископа не промолвил и слова. Да и его никто ни о чем не спрашивал. Венцель Марцел старательно избегал свидетеля его отцовской слабости, а точнее, предательства дочери. Молодой рыцарь поступал так же, но совсем по другим причинам.
Все дни и ночи «подарок епископа» оставался в комнатушке, расположенной на чердаке дома бюргермейстера и почти не вставал с лежанки. О нем не вспомнили, когда отправлялись на бой с разбойниками, не вспомнили ни на победном пиру, ни позже.
Вспомнили только сейчас. Вспомнили как о кружке, которая очень необходима, чтобы испить то, что трудно пригубить из-за неудобства самого сосуда.
А он и не нуждался ни в ком. Разве что в служанке, которая после того, как он, проголодавшись, поутру спустился в кухню и мрачно посмотрел на нее, стала дважды в день подносить к двери его комнатушки обильную пищу и крепкое пиво.
– Вот и хорошо. Пришло время и тебе послужить, – ласково улыбнувшись, произнес Венцель Марцел.
«Подарок епископа» уже уложил в металлическую корзину для горящих углей все, что ему было необходимо. Теперь он, повернувшись вполоборота, молча указывал бюргермейстеру на огромный двуручный меч и такую же по длине граненую железную палицу.
Венцель Марцел потер рукой подбородок и решительно кивнул ему…
– Назови свое имя…
Разбойник усмехнулся и, попробовав на крепость узлы, связывающие его руки за спиной, сделал шаг к судейскому столу.
– О нем лучше спросить у тех, кто гниет на полях битв во Фландрии и Нормандии. Я хорошо послужил нашему императору.
– Откуда ты родом?
– Я и сам позабыл.
– Признаешься ли ты в тех злодеяниях, что творил на землях имперского города Витинбурга?
Разбойник склонил голову к правому плечу и, притворно вздохнув, ответил:
– Я только воин. Я делаю то, что мне приказывает мой капитан. Лучше его спросите, когда он возьмет в осаду ваш городишко. Вначале он будет удивлен, увидев своих людей убитыми, а затем опечалится, узнав, что другие за тюремными засовами.
Судья Перкель, допрашивающий разбойника, посмотрел на бюргермейстера. Тот молча кивнул.
– Если преступник лжет или отказывается давать понятные суду ответы, я как судья Витинбурга должен применить к нему воздействие через причинение телесной боли.
Разбойник расправил широкие плечи и выпрямился во весь свой большой рост.
– Я храбро сражался. Трижды ранен. Я знаю, что такое боль.
– Боюсь, что ты ошибаешься. – Венцель Марцел повернулся к писцу и тихо сказал:
– Пусть войдет.
Писец угодливо улыбнулся и поспешил к двери. Распахнув ее во всю ширь и крикнув «Входи!», он невольно съежился и почти бегом вернулся к своему месту у краешка стола.
Вошел огромного роста мужчина. Внимательно осмотревшись, он остановил свой взгляд на бюргермейстере.
– Знай свое дело, палач! – строго велел Венцель Марцел и медленно опустился на неудобную скамью.
Палач сбросил с головы капюшон. Разбойник икнул и, не отдавая себе отчета, отступил на несколько шагов. Теперь он с явно видимым волнением следил за входящими в комнату стражниками. Один из них на вытянутых руках внес раскаленную от пылающих углей железную корзину. Второй – полотняный мешок. Третий, как особое сокровище, нес огромный двуручный меч и сверкающую гранями тяжелую палицу.
Все это стражники с большой осторожностью сложили в углу и выстроились у стены.
Коротко кивнув, палач расстегнул бронзовую застежку своего плаща и широким кругообразным движением сбросил его с плеч. От этого воздух, казалось, упруго разошелся по комнате, потревожив пламя настенных факелов и заставив их светить еще ярче.
– Если так, то…
Но разбойник не успел договорить. Правой рукой палач нанес ему короткий удар под дых. Верзила тут же рухнул на каменный пол и стал судорожно хватать воздух широко открытым ртом.
– Разденьте его, – тихо произнес палач.
Стражники, пораженные увиденным, тут же поспешили к лежащему на полу разбойнику. Пока они возились с одеждой, не жалея ни швов, ни тесемок, палач развязал полотняный мешок и стал медленно раскладывать на нем орудия своего ремесла.
Как ростовщик с особым вниманием и уважением раскладывает монеты, сортируя их по стоимости и изношенности, так и палач стал перебирать клещи, зажимы, крюки и сверкающие острейшими кончиками иглы.
Зная, что сейчас за ним следят все находящиеся в комнате, палач не спешил. Казалось, его руки и глаза под полуприкрытыми веками знакомятся с понятными ему, но пока еще новыми для него орудиями труда умершего мастера.
Наконец, закончив осмотр и согласно кивнув, он перевел свой взгляд на разбойника.
В левой руке палача длинной змеей извивалась крепкая веревка. Укрощая живые кольца, правая рука прошлась по внешнему кругу и вытащила конец. Несколько взмахов и ловких движений – и руки палача с петлей потянулись к ногам разбойника.
– Нет… Я… Нет… – растерянно залепетал разбойник и, пытаясь прикрыть свою наготу, подтянул колени к голове.
Широченная ладонь палача обхватила лодыжки сразу обеих ног и стянула их петлей. Затем он перебросил веревку через балку и, без видимого напряжения подтянув извивающее тело наемника, закрепил конец веревки на стенном кольце. Сложив руки на мощной груди, палач стал ожидать приказаний.
– Назови свое имя, – повторил свой первый вопрос судья Перкель.
– Что вам в имени моем? Я всего лишь наемник…
Судья кивнул.
Палач снял со стены факел и приблизил жаркое пламя к ногам разбойника. Огонь жадно, с потрескиванием слизал густые черные волосы. Еще мгновение – и огненные языки принялись пожирать кожу преступника.
– Одер я. Меня зовут Одер! – закричал разбойник. Приподняв голову, он с ужасом увидел, как пламя приближается к его густо поросшему низу живота. – Спрашивайте, судья, спрашивайте… Господи…
В спину подвешенного впились два крюка. Повиснув под весом груза, они опустились на ребра.
* * *
Венцель Марцел устало зевнул. Был поздний вечер. Уже четвертый разбойник висел вниз головой.
И этот до мельчайших подробностей рассказал обо всех злодеяниях, впрочем, привычно переложив большие грехи на своих друзей-наемников.
Но что Венцелю Марцелу до их преступлений? Всех этих убийств, изнасилований, грабежей и уничтожения огнем имущества несчастных? С наемниками все понятно. Они всегда на войне. А там сыт сильнейший, который насилием удовлетворит свою похоть. И напрасно судья Перкель пытался несколько раз сказать о законе Божьем, согласно которому убийства и другие преступления – это грех, за который совершивший его должен гореть в адском огне до скончания царства Господнего. То есть вечно.
Наемники уже давно в нем. Хотя не замечают и не думают о вечном наказании. Совершив первое убийство, они уже в бездне дьявола. А убийств за каждым из разбойников множество. Только убивая, можно выжить на войне. Выжить и жить войной, принося ее повсюду, где застали их день и ночь.
Да и закона императорского им не понять. Разве может слово, написанное на пергаменте, быть сильнее стального клинка или звона золотой монеты? Это они точно знают.
И напрасно. За законом стоит сила, что ломает силу и притягивает богатство. Это обдуманная сила, действие которой проверено сотнями ранее живших властелинов. Обдуманная и многократно применяемая.
С древнейших времен известно, что мир движется дальше благодаря трем лошадям: голоду, любви и страху. Голод заставляет работать и думать о завтрашнем дне. Любовь возвеличивает душу и рождает детей. А вот страх… Страх заболеть, потерять ближнего, стать калекой, умереть… А еще множество мелких страхов. Мелких, но, как и всякий страх, – ужасных.
Но есть еще один страх. Страх над страхами. О нем можно много рассказывать. Но понять его можно только тогда, когда он коснется человека. Точнее, его тела.
Голод и любовь – в воле Божьей. А вот страх – это воля дьявольская, ибо человек, поступающий не по-божески, поступает по-дьявольски.
Используя страх, можно владеть человеком.
Но как его еще сильнее объять страхом? Объять в то время, когда сама жизнь – это сплошной страх? Если ты слаб, к тебе придут сильные. Они отнимут последнее, изнасилуют жену и дочерей и, может, для собственной потехи, еще и убьют. А еще есть страх постоянной угрозы голода или повальной моровой болезни. И все это может случиться уже сегодня. И к этому живущий готов. Кажется, страх пронзил и душу, и тело, сжился с ними и стал равнодушно ожидаемым.
Но перед страхом телесной боли, собственной боли, равнодушных нет. Едва боль начинает пронзать тело, скручивать мышцы, грызть кости и ошпаривать мозг, как страх отступает. Даже перед смертью. Смерть кажется сладким избавлением от телесных мучений. Умереть, лишь бы не испытывать собственной телесной адской боли.
Вот и сейчас боль обострила память Обера и других разбойников настолько, что они припомнили все. До мельчайших подробностей. Может быть, за исключением тех мгновений, когда вино разжижало их мозги.
Еще при пытках Обера бюргермейстер удовлетворил свое любопытство, спросив, зачем разбойники убили старика Вольтера и второго стражника.
Разбойник надолго задумался, вспоминая, кто это, и пытаясь понять, о чем вопрос. И только острая игла палача, прошедшая между ребрами и едва не коснувшаяся сердца, помогла ему.
…К обеду следующего дня, проголодавшись, разбойники пожалели, что поленились прихватить с собой мясо коровы и теленка.
В тот вечер им было достаточно мяса. Да еще у этого Хольца оказался бочонок вина и вкуснейший сыр с мятой. Арендатор сам все отдал. Он все же надеялся, что наемники, насытившись, уйдут. Но это еще больше распалило алчность разбойников. Серебро и, может быть, даже золото… Оно непременно должно было быть у зажиточного арендатора.
Но Хольц, избитый до полусмерти, ничего не хотел отдавать. Клятвам и кровавым слезам разбойники не поверили. Избив Хольца, а затем его сыновей, наемники стали насиловать на их глазах несчастную мать и трех ее дочерей, младшая из которых была совсем ребенком. Но и это не помогло: глава семейства никак не хотел расставаться со звонкими монетами. Тогда разбойники убили собак, а затем, как и собак, пронзили стрелами самого Хольца.
Обер, всегда жадный до вина, был пьян. А этому арендатору следовало просто отдать деньги. Если они, конечно, у него были.
Вернувшись на следующий день за оставшимся мясом, разбойники пришли в ярость, оттого что увидели, как обнаглевшие стражники жарят на огне большие куски телятины. Они избили их, правда, несильно, так, чтобы те могли тащить туши животных. Не самим же тащить, раз дьявол послал этих.
А за что убили самих стражников, Обер не смог толком ответить. Опять же – напился…
Все это было обычным делом. То, что случалось день за днем. И можно ли все до мелочей помнить, когда живешь с единственно правильной мыслью: сегодня хорошо, ну и ладно.
Куда подевалась семья арендатора, Обер не знал. Да и зачем отряду лишние рты? Хватит того, что наемники держали при себе с десяток женщин. Ведь их тоже нужно кормить, иначе они не годились ни для работы, ни для телесных радостей.
Вот только как ни старался палач разузнать о казне разбойников, никто ничего не сказал. Скорее всего, простые наемники о ней даже не догадывались. О монетах нужно было бы спросить их капитана. Бюргермейстер все еще надеялся из отрывочных признаний составить представление о пути, что приведет к серебру.
Но после того как четвертый разбойник оказался на грани смерти, Венцеля Марцела стали одолевать сомнения, а были ли вообще у разбойников богатства. Похоже, те несколько монет, что побоями и пытками отнимались у селян и купцов, тратились на оружие и снаряжение. Ведь отряд наемников готовился к войне.
Может, и не стоило их тревожить? Ушли бы себе на битвы королей и сложили там свои головы. А если не сложили, то вернулись бы обратно, и все продолжилось. Нет, их нужно было уничтожить.
– Я должен отдохнуть, – устало промолвил Венцель Марцел, и по тому, как радостно заблестели глаза судьи, понял: Перкель готов до собственного беспамятства продолжать судебное дознание.
«Пусть тешится. Меня не обскакать. Это я освободил город от беды», – подумал бюргермейстер и, уходя, бросил на Перкеля строгий и властный взгляд.
Выбравшись из подвала и тяжело прошагав по зданию тюрьмы, Венцель Марцел распахнул дверь и оказался на небольшой площадке, три ступени которой вели во внутренний дворик.
Несмотря на то что на город опустились сумерки, дворик был полон народа. Но горожане, их жены и даже маленькие дети не перемещались и даже не вели бесед. Они стояли плечом к плечу.
«Их собрали крики пытаемых разбойников. Это радует и веселит их души. Глупый народ! Воистину правы древние римляне: люди нуждаются в хлебе и зрелищах. Что еще нужно простому человеку для счастья? А что нужно мне?..»
Задавшись этим вопросом и не ответив на приветствия и поклоны горожан, Венцель Марцел направился домой.
«Да, хлеба и зрелищ… Зрелищ и хлеба…»
Перед глазами бюргермейстера все еще стояла толпа горожан, собравшихся во дворике. Он улыбнулся. Но не толпе. Венцель Марцел улыбнулся пришедшей, пусть и дьявольской, но приятной мысли…
* * *
Утром перед развалившимся в кресле у камина бюргермейстером стоял колбасник Рут.
Венцель Марцел, улыбаясь, маленькими глотками пил холодную фруктовую воду.
– Значит, к воскресному утру ты и твои подмастерья успеют приготовить указанное мной количество колбасы, сальтисона и мясных лепешек?
Колбасник в ответ почтительно кивнул.
Бюргермейстер отставил чашу с напитком и, сложив руки на мягком брюхе, добавил:
– Только проследи, чтобы мясо было трижды промыто водой с уксусом. И не вздумай готовить с давно забитых свиней. Готовь из свежего мяса, и только сам. Кровь собирай в чистые посудины. А мясо хорошо растирай в ступках перед тем, как сделать лепешки. Знаешь сам, у многих нет зубов для колбас, так что лепешки будут им в радость. И не жалей соли и душистых трав.
Рут склонил голову, пряча улыбку.
Он всегда считал бюргермейстера несколько чудаковатым. Думает, если начитался светских книг, то может давать советы и колбаснику. Ну и пусть дает. Бюргермейстеру кажется, что если хорошо вымыть от крови и дерьма свинью, то это укрепит желудки горожан. Нет, не укрепит. Они все равно едят всякую гадость. И заплесневелый хлеб, и протухшего зайца, и гнилые овощи, и многое другое. Это случается и с благородными господами. Только при этом они всякую тухлятину пытаются присыпать дорогущим перцем, чтобы ослабить запах разложения или вкус соли, в котором держали мясо.
Так разве хорошие колбасы наладят внутренние соки? Нет, конечно. И чем горожан ни накорми, все равно углы домов, заборы и дворики будут загажены жидкими отходами. К этому привыкли, и никто не возмущается.
Что поделаешь, если от едва переваренной пищи крутит живот и приходится испражняться повсюду? Не будешь же пачкать свою одежду! Где прижмет, там и появится вонючая кашица.
Вот и две недели назад жена писца Рульфа едва успела отойти в угол церкви и тут же на глазах горожан и священника опорожнилась. И никто не вздумал ее осудить или хотя бы укоризненно посмотреть. С каждым может случиться такое в любое мгновение.
Целые армии снимают осады и даже покидают поле битвы, не в силах успокоить свои бурлящие желудки. Такое наказание придумал Господь за грехи. А грехи есть у всех. И поэтому многие, едва приняв пищу, через короткий промежуток времени уже желают освободиться от нее, чтобы унять резкие позывы в животе.
А бюргермейстеру кажется, что стоит промыть мясо водой с уксусом, как город будет освобожден от вонючих испражнений во всех удобных и неудобных местах.
Чудак этот Венцель Марцел. Его нос оскорбляет его душу. Не мясо нужно мыть, а возносить праведные молитвы и просить Господа простить грехи и слабости человеческие. И тогда улицы будут чистыми, а город перестанет задыхаться от нечистот.
Послушав еще некоторое время наставления бюргермейстера, колбасник Рут учтиво откланялся и поспешил к себе, чтобы начать выполнение столь выгодного заказа.
В воротах дома он едва ли не лоб в лоб столкнулся с пекарем Вельмутом.
«И этот за денежным заказом. Что же бюргермейстер задумал? Неужели выдаст свою дочь за молодого рыцаря? Но где это слыхано, чтобы барон женился на горожанке, пусть даже дочери бюргермейстера? Впрочем, какое мне дело? Я и так получу звонкую монету».
И в прекрасном расположении духа Рут отправился к брату, чтобы послать его на покупку пяти упитанных свиней.
В воскресное утро, после того как ему пришлось всю ночь провозиться с заказом бюргермейстера, колбасник Рут был вне себя от злости. В таком состоянии он пребывал уже вторые сутки, когда понял, какую невыгодную сделку заключил с Венцелем Марцелом.
Не успел городской глашатай объявить со ступеней Ратуши о воскресной казни проклятых разбойников, как эта весть мгновенно облетела город, перевалила через стены, разнеслась по полям, селениям, хуторам и придорожным трактирам.
Достигла она и ушей колбасника.
Порадовавшись предстоящему зрелищу, Рут не сразу, а только под вечер стал грызть себе локти. Ведь на это интересное действо со всего города, со всей округи да и из ближайших городов сойдется множество народа. А кому не хочется собственными глазами посмотреть на жестокую казнь негодяев, которые долгие месяцы держали горожан в животном страхе? Сотни, нет, тысячи сойдутся. И каждый будет рад выпить чашу вина или кружку пива за мучительную смерть разбойников.
А выпив, они, конечно же, потянутся к еде. И что им скромные домашние огрызки, когда можно купить и съесть отменной городской колбасы с пылу с жару, впиться деснами в свежие мясные лепешки и разломить еще горячий хлеб?
А интересно, пекарь Вельмут сейчас тоже грызет себя изнутри? Ведь он наверняка продал бюргермейстеру всю выпечку. Даже не продал, а, как и Рут, отдал с условием, что Венцель Марцел расплатится по твердой цене в течение месяца. А по какой же цене он будет продавать?
И вот что самое обидное – у него, Рута, нет денег на дополнительную закупку, да и где и кому производить продукт, когда весь цех завален купленным мясом, а подмастерья и слуги все как один заняты выполнением заказа.
Конечно же, можно было пойти и обо всем договориться с другими колбасниками. Но они и сами догадались о том, что грядет удобный момент, чтобы продать то, что имеют. Да-да, только то, что имеют. Ведь ни запастись, ни приготовить они уже не успеют.
Вот тебе и чудаковатый бюргермейстер! Как все ловко придумал и подгадал! И решение суда, и, даже поговаривают, одобрение старого епископа получил на пергаменте с печатью.
Теперь, выходит, вынесен самый правильный и законный приговор. Приговор «двух мечей». Один меч – решение светского суда города, второй – приговор церковный, а значит, согласованный с Господом.
И к тому же, в один день колесуют всех шестерых разбойников. Казнь продлится весь день. Это сколько же мяса и колбасы сожрет толпа! А сколько съест хлебцев, сколько выпьет вина и пива! И все это принадлежит бюргермейстеру.
Колбасник Рут тихо завыл и с ненавистью посмотрел на входящих во двор мальчишек. Те с необычайной серьезностью выставили впереди животов корзины с шейными ремнями. И они тоже работают на Венцеля Марцела. Сейчас мальчишки подчистую выметут все готовое мясо и бросятся к городским воротам, площадям, постоялым дворам, нахваливая вкуснейшие колбасы, сальтисоны и мясные лепешки, деньги от которых потекут в кошель бюргермейстера.
Глава 3
Колокольный звон согнал с крыши cобора огромную стаю ворон. Птицы черным рукавом обмахнули острые башни дома Господнего и с негодующим карканьем повисли над городом. Кружили вороны долго, поскольку, отгоняемые святым звоном, не смели сесть на высокий cобор, как впрочем, и на крыши прилегающих к соборной площади домов, потому что там уже обосновалось множество народа, плотно усевшегося на крепкой черепице.
А улетать прочь дьявольские птицы не спешили. Наверное, их хозяин, сам сатана, хотел глазами воронья с высоты полета посмотреть на казнь своих слуг. И еще прихватить души кровавых преступников, что наплевали на слово Божье, а значит, были его собственностью. Ну что ж, это его право.
А может, сатана высматривал в огромной толпе, скопившейся на площади и продолжавшей собираться на примыкающих улицах, своих новых слуг? Ведь сейчас произойдет нечто ужасное, прольется человеческая кровь. Такая горячая, такая красная, такая возбуждающая. И многие души дрогнут. Вот тут-то их и приметит сатана.
Но то дела Божьего противника.
Дела человека земные и понятные.
– Пора бы и начинать, – чуть сердясь, сказал судья Перкель и покосился на бюргермейстера.
– Пора, – поддержал судью рыцарь Гюстев фон Бирк.
Венцель Марцел недовольно поморщился.
Конечно, им не терпится. Судья спешит привлечь внимание разношерстной толпы к своей персоне. Он так и рвется к поручням помоста, устроенного для благородных гостей города и местных патрициев, чтобы сказать несколько умных слов, а затем велеть писцу огласить приговор и имена казнимых.
А молодому рыцарю уж очень хочется, чтобы на лице Эльвы выступили капельки холодного пота от того, что будет происходить на эшафоте. И тогда он подойдет к ней и предложит свой шелковый платок и крепкую руку.
Что касается самого Венцеля Марцела, то это был его праздник и он, конечно, желал продлить его. Тем более, что корзины мальчишек были опустошены лишь наполовину.
И только тогда, когда колокольные удары стали реже, а глаза всех присутствующих устремились на него, бюргермейстер вяло махнул платком, зажатым в правой руке.
Судья Перкель тут же выступил вперед и стал произносить слова, которые готовил весь вечер. Но люди слушали его вполуха. Все знали о чудовищных преступлениях разбойников и желали большего.
И вот в толпившийся народ врезались стражники и принялись делать проход.
– Ведут, ведут! – послышалось со всех сторон.
Неспешно, пытаясь каждой заминкой продлить свою жалкую жизнь, шли те, кому предстояли ужасные муки. Разбойники, надломленные предыдущими пытками, в большинстве своем уже не ожидали чуда ни от Господа, ни от людей. Лишь немногие из них все еще надеялись на невозможное. Они продолжали возносить молитвы к тому, кого не желали вспоминать в те мгновения, когда совершали ужасные злодеяния.
Выстроив приговоренных перед эшафотом, стражники отошли. И тут же из толпы понеслись проклятия и в разбойников полетели камни и гнилые овощи. Стоящие рядом мужчины и женщины стали плевать в них, сожалея, что слюна человеческая не яд змеиный.
По скрипучим доскам лестницы на эшафот поднялся городской глашатай. Развернув пергаментный свиток, он важно выпятил грудь и громко зачитал приговор. Но его едва слушали. Кому нужен перечень злодеяний, если все и так известно. Тем более никого не интересуют имена гнусных насильников и убийц. И только после того, как к первому названному подошел священник и, произнеся короткую молитву, перекрестил его деревянным крестом, народ стал утихать, готовясь к самому увлекательному.
Стража тут же раздела разбойника догола и привязала его к большому колесу, которое с таким старанием изготовил цех бондарей. Затем наступил черед второго преступника, а вслед за ним и всех остальных. И только когда богомерзкие людишки были накрепко соединены с тем, что епископ Базельский назвал «колесом, освобождающим душу», на площади появился он.
Головы всех присутствующих сразу же повернулись к нему. К тому, кто Богом и людьми призван был сегодня тяжелой металлической палицей раскрошить греховную сущность – тело, чтобы через его жуткие раны выпустить святое – душу.
Появления именно этого человека с нетерпением ждали сотни и сотни людей. Ждали с самого восхода солнца. Ждали, едва услышав о назначенных казнях. Ждали после первых горестных слухов о преступлениях разбойников. Ждали, помня первые сказки матерей, в которых палач всегда появлялся, чтобы закончить родительскую историю, рассказанную на ночь. Ибо всем известно и понятно: придет палач, казнит – и сказка закончится. Независимо от того, будет ли казнен кровавый разбойник или прекрасный юноша, посмевший возжелать руки и тела принцессы. Но со смертью эта сказка заканчивается. А потом будет еще одна…
Однако перед тем как эта история на городской площади завершится, будет зрелище, будет праздник для тех, кто желает отмщения. Пусть и чужими руками.
Толпа взревела. Это был он! В просторном плаще с капюшоном и с увесистой металлической палицей в руках.
Палач медленно вступил в площадную грязь, и стоящие рядом люди в благоговейном страхе отшатнулись, освобождая ему путь к предназначенному. И он пошел, не поднимая головы, врезаясь в толпу подобно носу огромного корабля, идущего навстречу бушующим волнам. Ему улыбались, ему рукоплескали, как родному, желанному человеку. Но он даже не взглянул на приветствующих его людей. Проделав свой недолгий путь, он остановился у эшафота и с величайшим достоинством… поклонился тем, кого суд Божий и человеческий отдал ему на нестерпимые муки.
Толпа на мгновение умолкла и тут же разразилась новым восторженным криком. Всем и каждому стало понятно – мясник благодарит свинью за ее мясо, перед тем как вонзить нож в живое тело.
Палач, не выпуская своего страшного оружия, сбросил с себя плащ. И без того бледные лица приговоренных утратили последние живые краски и покрылись мелкими капельками пота.
Небрежно швырнув плащ на первую ступеньку эшафота, палач положил рядом палицу и стал не спеша стягивать с себя котту[5]. Оставшись по пояс голым, он расправил плечи и потянулся к своему оружию.
И тут он вздрогнул. На его металлической палице лежала рука ребенка. Раздался сдавленный крик, и уже другие руки, руки матери, схватили тельце десятилетней девочки и уволокли ее под столбы эшафота.
Те немногие, что заметили печальный поступок девочки, отвернулись и перекрестились. Стоящие за ними не увидели оскорбительного прикосновения, во все глаза пожирая фигуру и лицо палача.
– Клянусь своими сапогами – ничего ужаснее этого страшилища не встречал…
– От одного взгляда на него можно умереть.
– Ого-го, вот это палач. Мечта самого дьявола…
– Это его любимый сын…
Такие и десятки похожих возгласов раздавались со всех сторон. Каждый, кто выпил не в меру пива и вина или считал себя храбрецом, счел необходимым выказать свой восторг и сообщить о том жутком чувстве, которое вселяли в души присутствующих звероподобное лицо и медвежье тело палача.
– Палач, знай свое дело! – громко крикнул Венцель Марцел, подкрепив свои слова взмахом руки.
Стражники отвязали от колеса ближнего к эшафоту разбойника и втащили его на деревянный помост. Здесь казнимого уложили на скрещенные в виде Андреевского креста бревна. На каждой из ветвей этого креста были сделаны по две выемки, расстоянием в пять ладоней и в три пальца глубиной. Крепко привязав казнимого, стражники кивнули палачу и спустились с помоста.
Стражники водрузили на колоду, находившуюся посередине деревянного помоста, колесо с привязанным к нему разбойником и отошли на край эшафота.
Палач поклонился благородным зрителям и особо бюргермейстеру, затем толпе.
– Давай, палач, приступай.
– Ударь хорошенько, не жалей своих плеч.
– Бей, бей…
Толпе не терпелось увидеть первый взмах, услышать хруст костей от удара и утонуть в душераздирающем крике казнимого. Но палач совершенно не обращал внимания на нетерпеливые крики. Со знанием дела он несколько раз взмахнул своей палицей, как будто хотел ощутить ее тяжесть, а затем трижды обошел вокруг приговоренного.
И только после того, как толпа уже начала злиться на него за явную медлительность, палач высоко поднял палицу и с полуоборота обрушил ее на несчастного. Направленный удар, согласно правилам, пришелся на ступню правой ноги. Ожидавший и оттого уже кричавший разбойник на мгновение захлебнулся, а затем испустил вопль, который заставил отшатнуться первые ряды присутствующих.
Перемешивая проклятия, ругань и слова давно забытых молитв, казнимый с диким ужасом увидел взлетевшую над ним металлическую молнию. Через мгновение адская боль пронзила сердце и мозг. От этой невероятной боли глаза высохли, а голос перестал повиноваться. Трудно было осознать, что и как. И только приподняв голову, разбойник увидел, что вместо его правого колена торчала кость. Невероятно белая кость над бугорком необычайно красного мяса.
Последующие удары, дробящие кости в местах выемок на бревнах, только притупляли боль.
Но теперь она превратилась в грызущее чудовище, которое накинулось на все мышцы и косточки и, что невероятно, на все до единого волоски, которые трогал нежный весенний ветерок.
А толпа только ахала и охала, с жадностью всматриваясь в каждое движение палача, в каждый взмах его орудия казни, в каждую струю крови, что вырывалась из ран преступника.
Раздробив берцовую кость правой ноги, палач принялся за кости левой ноги. Все удары давались ему легко, движения были рассчитанными и оттого экономными. И поэтому казалось, что палач не трудится, а играет в забавную игру. Он должен был выглядеть как злой лесоруб, валящий дуб. В поте, в напряжении, в усталости. Но выглядел он добрым папашей, обтесывающим топором меч – игрушку для своего сыночка.
Он даже пытался улыбаться. И оттого его лицо становилось еще ужасным, еще более зловещим. А для беснующейся толпы еще… более прекрасным, а значит, привлекательным.
Перебив кисть правой руки и раздробив локоть, палач ненадолго остановился. Предстоял удар по плечевой кости. Это был сложный удар. Многие из палачей довольно часто промахивались и проламывали ключицу. Но сама казнь колесования строго предусматривала дробление основных сочленений конечностей. Допускалась и ломка больших костей. Только так преступник мог еще прожить несколько дней. Удар по ключице мог повредить важные жизненные органы и ускорить смерть. А этого при казни колесованием не предполагалось. Преступник должен был до конца испытать боль наказания и умереть спустя время, осознав свои великие грехи и тысячи раз испросив за них прощения.
Палач удовлетворенно кивнул. Удар вышел удачным. Он внимательно всмотрелся в лицо казнимого и еще раз кивнул. Осталось разделаться с левой конечностью – и можно немного отдохнуть.
– И как вам мой палач?
Рыцарь фон Бирк всем телом навис над омюссом[6] Эльвы.
Дочь бюргермейстера невольно вздрогнула и приподняла голову. С первых же ударов палача она опустила взгляд, сожалея о том, что не может закрыть руками уши. Ведь на нее смотрели так же часто, как и на палача. Отец не зря гордится ее чудесной красотой. Ведь ее лица не коснулись оспа и черви, следы от которых были почти у всех горожанок. Что это, как не божественное чудо? Так думали все. И только Эльве было понятно это чудо. Она умывалась каждое утро чистой водой и протирала лицо оливковым маслом с ромашкой. Так ее приучил отец, прочитав о целебности этого средства в светских книгах греческих мудрецов. Но это приходилось хранить в тайне. Настоятель Кремского аббатства во время службы авторитетно заявлял: «Мыть лицо ни в коем случае нельзя, поскольку может случиться ухудшение зрения и вы не увидите дьявола, умащивающего на него свой зад».
Наверное, оттого что Эльва умывала лицо, а может, и от внутренней музыки души, она мучительно тяжело, впрочем, как и отец, воспринимала зловонные запахи. А от нависшего рыцаря сильно разило вином и лошадиным потом.
– Я бы охотнее осталась дома, – тихо промолвила девушка и искоса посмотрела на барона. Ей уже приходилось встречать рыцарей. Фон Бирк был самым молодым из них. И если бы… А впрочем, зачем ей думать об этом.
– Тогда бы я вас не увидел. Ведь вы так старательно меня не допускаете.
– Признайтесь, что есть от чего.
Девушка сурово посмотрела на рыцаря. Тот задумчиво почесал короткую бородку и неуверенно произнес:
– А было ли от чего…
– Во времена древних греков и римлян женщин сравнивали с богинями. И так же относились к ним. Сейчас к подвигам странствующего рыцаря причисляют изнасилование сельских девственниц. А защита благородных дам весьма труднопонимаема. Почти каждый рыцарь считает, что его собственная честь и достоинства оскорблены, если он видит женщину, принадлежащую другому рыцарю. Это уже повод броситься в бой или вызвать противника на турнир. И никто ни о чем не спрашивает саму даму. Она по обычаю достается победителю. Я не селянка и не благородная дама. Я свободная горожанка. И к тому же дочь первого из горожан.
– Если вы о том вечере… то я… Видит Бог, я ничего не помню.
– Бог к вам добр. Пусть он будет так же добр и ко мне.
Фон Бирк опустил взгляд и в задумчивости вернулся на свое место рядом с бюргермейстером.
Венцель Марцел, с тревогой наблюдавший за разговором дочери и молодого рыцаря, облегченно вздохнул. Теперь он опять мог вернуться к эшафоту и тому, что на нем происходило.
– Барон, вам не кажется, что ваш палач спешит с выполнением той работы, которая ему поручена?
Гюстев фон Бирк неуверенно пожал плечами и со смешанным чувством посмотрел на скамью, где сидела дочь бюргермейстера, а также жены и дочери влиятельных граждан этого маленького городка.
– Не пройдет и нескольких часов, как он закончит свою работу, – все еще бормотал бюргермейстер, с тревогой высматривая мальчишек, торгующих его колбасами и пивом.
Еще одним и, пожалуй, последним, кто был недоволен тем, что палач уверенно и быстро дробит кости и отдыхает столь короткое время, был Мартин. Но ему не нравилось не только это. Его неудовольствие и даже ярость вызывала огромная толпа жалких горожан и селян, которые так живо радовались, услышав хруст костей и вопли его недавних друзей по оружию. Какие-никакие, но он прожил с ними долгие месяцы, а с некоторыми и годы. Все же они плечом к плечу стояли на полях битв, вместе пили, убивали и насиловали. А еще его раздражали назойливые мальчишки, сующие под нос аппетитные колбасы, душистый хлеб и пенящееся пиво. Но за все это счастье нужно платить. А вот платить нечем. И даже нельзя схватить мальчишек за горло и вытрясти из их корзин эти вкусности. Позволь себе это – и вмиг окажешься на колесе. Ведь те двое, что еще не познакомились с палицей палача, с радостью подтвердят его вину. И многие поступки. И не только из злости на свою неминуемую жуткую судьбину. Но и из подленького человеческого чувства потащат за собой в ад такого же виновного, как и они.
Заплатить было нечем. Проклятый капитан перед отъездом откопал золото и серебро. Он забрал деньги, предчувствуя беду, а может, получил наставления дьявола. А еще повезло тому десятку наемников, которых доблестный разбойник Иоганн Весбер забрал с собой.
А вот Мартину не повезло. Без денег, без друзей-наемников, без ремесла он никому здесь не нужен, а значит, почти обречен. Да к тому же голод сжигал его изнутри, ослабляя почище, чем та болезнь, от которой его вот уже несколько дней бросает то в жар, то в холод. А все из-за того, что он отсидел в холодной воде, пока не ушли все до последнего стражника, рыскающие по развалинам и закапывающие трупы. А может, даже из-за того, что он нахлебался вонючей воды, в которой плавало тело проклятой бабенки.
А еще он остался без оружия. Конечно, если не считать короткого кинжала. С ним Мартин не чувствовал себя так уверенно, как с мечом или копьем, но во всяком случае с кинжалом в руке можно было бы попытаться вытрясти в темном уголке пару монет. Вот только мучительная болезненная слабость сдерживала его.
Ах, как дьявольски хорошо пахнут колбаски!
Мартин едва не взвыл, когда его в плечо толкнул здоровенный сельский парень. Тот так возрадовался удачному удару палача, что решил обсудить это с соседом. И ничего лучше не придумал, как крепко стукнуть Мартина по плечу. Парень еще что-то кричал Мартину на ухо, а тот был вынужден делать вид, будто слушает, и даже поддакивал, согласно кивая.
Затем ему стало совсем невмоготу. Стиснув зубы, он стал медленно выбираться из толпы. С трудом выйдя на узкую кривую улочку, Мартин уже хотел порадоваться ее безлюдности. Но сегодня все было против него. Людей не было, зато как из-под земли появилась стая злющих собак. Они тут же стали рычать и угрожающе наскакивать на него. Даже вид обнаженного кинжала не охладил их дьявольский пыл.
Так они и противостояли друг другу, пока на улице не появились горожане, начавшие расходиться после завершения казни. Собаки исчезли так же внезапно, как и возникли. Зато люди с явной тревогой и угрозой стали всматриваться в лицо одинокого мужчины, обессиленно сидевшего под стеной дома.
Стало темнеть. Могли появиться стражники и, понятное дело, начать задавать свои вопросы. Где-то на площади еще продолжался праздник, устроенный на крови и муках наемников Иоганна Весбера, но на этом празднике Мартину места не нашлось.
В городе оставаться было опасно. Селяне, те, у кого не было родственников и друзей в городе, уже отправились по своим домам. Скоро улицы совсем опустеют. Хозяева проверят свои пристройки и накрепко закроют все двери. В таверну без денег его не пустят. Напроситься на ночлег – себе дороже. Неизвестно, чего ждать от горожан. То ли куска хлеба, то ли крепкой веревки, стражников и палача.
Да еще какого палача!
Мартин содрогнулся, вспомнив жуткую фигуру сегодняшнего палача. А еще окровавленные тела казнимых, которых после рук палача вновь привязали к колесам у эшафота.
Нужно было выбираться из города, причем как можно скорее, пока стража свободно выпускает за городские ворота.
Пошатываясь и дрожа всем телом, Мартин с трудом дошел до ворот и, согнувшись под взглядами стражников, побрел по деревянному мосту. Затем он вступил в дорожную грязь и, с трудом вытаскивая из нее ноги, прошел сотню шагов. И здесь, на горке, он увидел несколько столбов – на них, на высоте вытянутой руки, были укреплены колеса с телами его несчастных друзей по оружию.
Проклятое место! Здесь не было ни стражи, ни зевак. Эти столбы можно увидеть с дороги издалека, даже не приближаясь к ним. Это место дьявола и его слуг. Это предупреждение всем, кто отдаст свою душу сатане и вступит на путь зла и греха.
Уже поутру черные вороны опустятся на окровавленные тела и начнут разрывать раны, глотать запекшуюся кровь, а затем с особым наслаждением выковыряют и проглотят глаза. И только через несколько дней голод, жажда и боль убьют этих негодяев, а сатана, ликуя, заберет их души в ад.
«И я там буду. Но не сегодня. Сегодня я жив, зол и желаю попрощаться», – решил Мартин и начал карабкаться на возвышенность.
Хотя боль была невыносимой, у казнимых не было сил кричать. Они только глухо стонали, часто впадая в бред и беспамятство. Их уже ничто и никто не мог спасти. Мартин устало привалился спиной к ближайшему столбу.
– Кто меня слышит? – прохрипел он. – Это я, Мартин. Я жив, а вы уже нет. И даже черви могильные не сожрут ваше мясо. Развеетесь, а кости сожрут собаки.
– Мартин, – послышался над головой едва различимый выдох.
– А, слышите… Я бы мог вас убить и тем облегчить страдания. Но я этого не сделаю. Ведь никто из вас не любил Мартина. Никто не дал куска мяса и не налил кружку пива. И мне вас не за что любить. Я вас ненавижу, как ненавижу свое больное тело…
– Мартин, – опять послышался слабый голос. – Это я, Обер…
– Ах, это ты, мой дорогой друг Обер, – вдруг развеселился Мартин. – Это ты по-дружески выбил мне зуб. Помнишь? А теперь до смерти не забудешь… Где твоя правая рука?
Мартин вытащил кинжал и с трудом разрезал веревку на руке. Затем он просунул окровавленную конечность между спицами и, схватившись за нее обеими руками, потянул на себя.
Несчастный Обер вскрикнул и впал в беспамятство. И это спасло его от муки, которая сопровождает разрыв мышц и кожи. А уже раздробленные кости были не помехой тому, чтобы рука отделилась от локтевого сустава.
Мартин долго смотрел на руку, удивившись, что так легко удалось оторвать ее. Затем он бросил конечность к столбу и, не оборачиваясь, поплелся в темноту.
* * *
Весь путь до послеобеденного солнца Эльва смотрела на то, что можно было разглядеть в маленькое окошко повозки. Она не выражала неудовольствия, но на все попытки отца разговорить ее отвечала однозначно или просто кивала ему. Наконец Венцель Марцел умолк и предался по своему обыкновению мысленным рассуждениям.
И все же он правильно поступил, взяв с собой дочь. Да, он оторвал ее от привычного времяпрепровождения. Всех этих вышиваний, шитья, чтения светских и религиозных книг. В конце концов, его дочь должна увидеть мир. Она должна увидеть города, перед которыми Витинбург был просто городишком. Ведь она не простая горожанка, родители которой не могут позволить дочери удалиться более чем на полмили от городских ворот, и то в сопровождении подруг. Она – дочь главного бюргера, великого и достойного человека.
Едва странствующие монахи принесли весть о том, что епископ Мюнстерский скорее мертв, чем жив, Венцель Марцел решил навестить умирающего. Вначале он поблагодарит епископа за помощь в освобождении города от проклятых разбойников, которую тот оказал пять месяцев назад. Затем преподнесет в подарок редкую шелковую византийскую ткань, на которой искусно вышито изображение Божьей Матери. Мало того, контур лица Богородицы вышит серебряной нитью, а ее святой нимб – золотой. Грудь ее украшает нитка настоящего восточного жемчуга.
И пусть над вышивкой трудились три вышивальщицы, самые главные стежки были сделаны рукой его дочери. И бюргермейстер представит епископу единственную столь искусную рукодельницу. Старик наверняка удивится ее мастерству и чудесной красоте. И уж тогда можно выложить свою просьбу. И, пожалуй, не одну.
А еще хорошо, что Эльва увидит прекрасный город Мюнстер, его Ратушу, соборы, площади и монастыри.
Может так случиться, что увидят и ее. И не просто увидят, но и предложат руку и сердце. Ведь многие молодые и знатные господа прибудут в Мюнстер, чтобы поделить наследство старика. А как же иначе? Старость погибает, на ее трухе расцветает новая жизнь.
Дай-то Бог, чтобы Эльва нашла свою любовь в этом городе. Это будет прекрасно. А иначе (и не приведи Господи!) придется осматриваться в собственном Витинбурге. Хотя… Местные женихи будут из уважения к бюргермейстеру держать язык за зубами. И не поползут по округе липкие слухи о чистоте и непорочности дочери Венцеля Марцела. Да, дорого далось бюргермейстеру благополучие родного города. И не на эту ли жертву намекал старый епископ? К тому же и Эльва вот уже сколько месяцев избегает разговора с отцом. Может, найдется справедливое копье, что пронзит насквозь рыцаря фон Бирка.
Но все будет хорошо. У него всегда все будет хорошо. Жаль только, что десять лет назад умерла его дорогая жена Гертруда. Она во всем его поддерживала. Но он найдет дочери достойного и любящего мужа. И, конечно же, увидит собственных внуков.
С этой сладкой мыслью Венцель Марцел и задремал, несмотря на тряскость лесной дороги.
– А я тебе говорю, правая хромает…
Бюргермейстер приоткрыл глаза.
– Ну, хромает и хромает, – лениво ответил возничий.
– Покалечишь лошадь – господин бюргермейстер с тебя шкуру сдерет, – злорадно сказал стражник.
– Ну, сдерет и сдерет…
– А ну стой! – заорал Венцель Марцел, испугав дочь.
И возничий, и двое стражников на низкорослых конях испуганно уставились на протискивающееся в дверцу повозки грузное тело бюргермейстера.
Угрожающе взглянув на возничего, Венцель Марцел подошел к стоявшей справа лошади и поднял бабку передней ноги. В копыте, потерявшей подкову, застрял маленький острый камешек.
Схватив возничего за грудь, бюргермейстер бросил его на землю и, прижав ногой, заорал:
– Ты, свиной выводок, куда смотрели твои собачьи глаза? Где подкова? Ты знаешь, сколько стоит это железо? Ищи и без подковы не возвращайся!
Дав ногой под зад вставшему на четвереньки возничему, Венцель Марцел грозно взглянул на стражников. Те, тронув коней, согнулись, затаившись за крытой повозкой.
– Хоть у сатаны в глотке, но найди мою подкову! – закричал вслед убегающему слуге бюргемейстер и потряс кулаком.
Прошло несколько часов. Солнце спряталось за угрюмые сосны. Уставшие за день птицы стали моститься в гнездах.
Венцель Марцел, перекатывая в пальцах злополучный камешек, уже жалел о своем непомерном гневе. Лес и его тропы всегда таили опасность. И он уже с тревогой посматривал на дорогу и обступившие ее деревья. Но все обошлось.
– Нашел, нашел! – Радости бегущего к повозке возничего не было предела. Он высоко держал над головой найденную подкову и улыбался во весь рот, показывая четыре зуба. – Дважды возвращался. А она у куста оказалась…
– Ладно, – неожиданно спокойно произнес Венцель Марцел. – Через две мили будет селение. Должен ведь кто-то там уметь подковывать лошадей. Трогай…
Селение, находившееся в полсотне шагов от дороги, было достаточно большим. Более тридцати домов. Все постройки были деревянными, с низкой посадкой. Почти на всех домах крыши были покрыты свежей соломой. Значит, эту зиму селение, скорее всего, голодало и прошлогодняя солома пошла на корм скоту и людям. Хотя крупного скота Венцель Марцел не приметил, но слышал блеяние коз и видел сидящих на жердинах полусонных кур.
А еще бюргермейстер обратил внимание на несколько огромных дубов при въезде в селение. Так что голод вряд ли здесь был лютым. Ведь из желудей получается хороший хлеб, особенно если в него добавить немного ячменя или овса. Таким хлебом питался и его отец, и сам Венцель Марцел. Да что он. Несколько десятилетий назад этот хлеб был привычен и знатным баронам, и графам. А уж для дедов и прадедов желуди были одним из основных продуктов питания.
Приказав возничему остановиться у самого большого дома, Венцель Марцел помог дочери выйти из повозки и, прошагав мимо стоящего на пороге хозяина, вошел внутрь.
Конечно же, он не ошибся. Это было хорошее жилище. Стены сложены из бревен в руку обхватом, и даже щели между ними залеплены мохом. Окна хоть и привычно маленькие, но затянуты свиными мочевыми пузырями и даже с дощатыми ставнями.
В дальнем уголке вместо груды камней, изображавших очаг, стояла новомодная печь. А значит, дым от огня не расползался по всему дому, а уходил по трубе. Рядом была широкая лежанка для всей семьи с перинами из домотканой рогожи. Вдоль стен стояли несколько скамей и два больших сундука. В потолочную балку были крепко вбиты металлические крюки, на которых висели четыре медных казана, а также связки лука и чеснока.
Возле двери, поближе к проемному свету, стоял стол из выструганных досок. За него Венцель Марцел усадил дочь и устроился сам. Только после этого он сообщил вошедшему вслед хозяину:
– Я Венцель Марцел, бюргермейстер имперского города Витинбурга. Я и моя дочь следуем к епископу Мюнстера. Он нас ждет. У нас важная встреча. Как твое имя?
– Я Йоган. Староста этого селения, – поклонившись, ответил хозяин и замер в ожидании дальнейших приказаний.
– Вот что, Йоган. Нужно подковать мою лошадь. Надеюсь, у вас есть такой человек?
– Да. У нас есть хороший кузнец, но он сейчас на церковной службе в монастыре. Придет к ночи.
– А другие?
– Другие не возьмутся. Разве для себя. Для других за ремесло нужно платить епископу.
Бюргермейстер понимающе кивнул и обратился к дочери:
– Нам придется переночевать здесь. В Мюнстере после захода солнца городские ворота закрываются. Да и останавливаться там дорого.
– Да, отец, – кротко согласилась Эльва и посмотрела на вошедшую годовалую свинку.
Подсвинок привычно подошел к лежанке, пустил длинную струю и сразу же улегся в свою лужу.
– Я заплачу тебе пражский грош за ночлег и курицу для нас. Сначала птицу обжарь, потом свари в чесночном бульоне. Да и людей моих покорми.
– Да, господин, – радостно откликнулся хозяин. – Я дам твоим людям луковый суп и даже хлеб. Спать будете на лежанке. Ваши слуги могут лечь в хлеву. Там есть свежее сено. Мы с женой и детьми переночуем у соседей. У нас даже есть покрывала.
Последние слова хозяин произнес уже за дверью.
Поговорив о пустяках с дочерью, Венцель Марцел укрыл ее своим плащом. Осень в этом году была прохладной.
В дверь боком вошел староста. В руках хозяина дома была небольшая охапка дров. Вслед за ним через порог шагнула его жена, довольно упитанная, высокая женщина. Она несла курицу на вертеле и угольки в глиняном горшочке.
Пока Йоган возился с огнем, появился долговязый мальчишка и поставил перед матерью котелок с водой. Женщина, подобрав юбку, уселась на сопревшую траву и солому, которыми был устелен пол, и стала чистить овощи. Затем она принялась стругать в котелок лук, чеснок, брюкву, несколько яблок, капусту и лесные коренья.
– Вот суп и готов, – удовлетворенно сказал хозяин и с гордостью посмотрел на свою жену.
– Хорошо бы его вскипятить. Для живота хорошо, – заметил бюргемейстер.
Йоган немного помолчал, а затем, смущаясь, ответил:
– Хорошо бы. Но у нас принято так.
– И у нас так принято, – подтвердил Венцель Марцел.
– Дров хватит только на бульон с курицей. – Хозяин развел руками.
– Вокруг хороший лес.
– Да, хороший. Но за рубку леса и дрова нужно платить епископу. Тех, кто рубит без позволения, вешают прямо на месте. К тому же лесничий у нас веселый. Два месяца назад он развлекся тем, что выпустил кишки несчастному Якову и обвязал ими ствол сосны, который тот пытался срубить. Так и остался Яков у сосны, своим ужасным криком призывая волков.
– Да, веселый лесничий, – согласился бюргермейстер и лениво зевнул. – Много непонятного зла в наше время. Нужно быть добрее к людям. Господь в царстве небесном зачтет это.
Староста поспешно кивнул.
– Жена, добавь в суп немного свиного жира.
* * *
Убедившись в том, что подкова добротно встала на свое место, Венцель Марцел кинул кузнецу мелкую серебряную монету и почесал затылок. Не приходилось сомневаться в том, что ночью к собственным вшам он добавил и селянских, кишевших в их вонючих матрасах и покрывалах.
– Господин бюргермейстер, – обратился к Венцелю Марцелу стражник, – спасибо за суп и хлеб. Вас ждет веселье и удачная встреча.
Бюргермейстер угрюмо посмотрел на стражника. Этого низкорослого воина звали Вермет.
– О каком веселье ты говоришь?
– Не знаю точно. Но на рассвете к колодцу подошли старик и старуха. Очень веселые и разговорчивые. А когда они узнали, что мы сопровождаем самого бюргермейстера Витинбурга, то и вовсе от души развеселились. Потом сказали, что Венцеля Марцела ждет встреча. И будет она веселее не придумать.
– Мне не до веселья, – раздраженно промолвил бюргермейстер и почувствовал, как об кисть правой руки ударила слизь. – Проклятые птицы.
Венцель Марцел сощурился, пытаясь рассмотреть своими слабыми глазами, что это за гадящая тварь, но увидел только черную точку.
«Это к деньгам или к важной встрече», – решил бюргермейстер и втиснулся вслед за дочерью в повозку.
А кружившая над Венцелем Марцелом птица, стремительно полетев вниз, уселась на ветке и звучно каркнула.
Наверное, нужно было бы подгонять и возничего, и ленивых лошадей, но Венцель Марцел не делал этого. Он предался сочинению. Так же как и древним философам, ему хотелось изложить на пергаменте собственные вечные мысли, читая которые, люди, живущие через столетия, будут удивляться его ясному уму и здравому рассуждению. Точно так же, как удивлялся он, Венцель Марцел, еще десять лет назад, когда ни один день не обходился без чтения мудрых высказываний Софокла, Аристотеля, Плутарха, Овидия и других великих греков и римлян античных времен.
Вот только какие мысли Венцеля Марцела были самыми ценными и нужными для будущих поколений? В этом вопросе бюргермейстер готов был поспорить с самим собой.
Вначале он согласился с тем, что необходимы рассуждения о том, что человек от рождения добр и счастлив. Но чем дольше человек живет, тем больше он испускает не только зловонной амбры и мочи, которые ежедневно реками выливают жители на улицы городов, как, например, в его собственном Витинбурге, но и вполне ощутимого зла. А берется это зло от гниения души. Ведь чем продолжительнее жизненный путь человека, тем многочисленнее его грехи. А грехи, как известно, – пища для гниения души.
Вот его дочь. Она задремала в мягких подушках повозки. Неудивительно, потому что она почти не спала в проклятой селянской хижине. Да и как спать, когда тебе не дают повернуться тяжелые дорожные одежды, ползающие по телу кровожадные блохи, вши и клопы, и при этом в дверь ломится выкинутая перед сном свинья-недоросток.
В душе дочери греха нет. И оттого она добра и счастлива. Только добрый человек мог так побледнеть, когда услышал о кишках какого-то Якова, намотанных на дерево. А то, что и из ее тела выходят жидкости, так это нечасто, много реже, чем у других.
Однако, исходя из этих рассуждений, сам Венцель Марцел – злой и несчастный человек. Ведь он прожил почти сорок лет. И хотя он старательно избегал греховных дел, их, тем не менее, было немало. И пусть они были на благо города и горожан, но он все-таки соглашался или приказывал вешать, рубить руки, жечь клеймом и наказывать плетью тех, кто нарушал законы его Витинбурга. А чего стоит недавнее колесование шести разбойников! Да и гадит он часто и обильно.
Нет, нужны другие, более правильные рассуждения для тех, кто будет жить после него. Ведь если их не изложить латинскими буквами, то даже в недалеком будущем никто и никогда не вспомнит, что жил такой славный и мудрый человек – Венцель Марцел, который посвятил свою жизнь городу и его жителям.
«До Мюнстера не так уж и далеко…»
Но закончить мысль бюргермейстер не успел.
Резкий крик раненого человека заставил его высунуть голову в маленькое окошко.
Этот недоросток Вермет все еще держался в седле, но уже неестественно изогнувшись и держась за правое плечо, из которого торчала длинная стрела. Несколько одетых в тряпье людей повисли на упряжи, останавливая мерный шаг лошадей, тянувших повозку. Другие, отделяясь от стволов деревьев и выбираясь из кустарников, медленно и осторожно подходили к экипажу.
– Эй, эй! – закричал на своего коня второй стражник, разворачивая его, чтобы ускакать назад по пройденной дороге. Но развернуться не успел. Несколько ударов увесистых дубинок сбросили его на землю.
– Вяжи всех, да покрепче, – раздался властный голос.
Хозяин этого голоса, держа спущенный лук в левой руке и радушно улыбаясь, подошел к торчавшей из окошка голове Венцеля Марцела и сильно ударил его в лицо.
Резкая боль через нос вошла в мозг бюргермейстера и вышла через него же обильными струями крови. Тихо взвыв, Венцель Марцел упал на дочь, придавив ее своим полным телом.
– Отец! – испуганно закричала проснувшаяся Эльва.
– Кто у нас там? – донесся до нее голос ударившего, и сильная рука тут же вцепилась бюргермейстеру в горло.
Подчиняясь железной хватке, Венцель Марцел протиснулся в открывшуюся дверцу повозки и оказался на земле. К упавшему на колени бюргеймейстеру тут же подскочила мерзкая старуха и, визжа от восторга, закричала ему в ухо:
– А я говорила, что будет веселая встреча!
Растирая горло и поглядывая то на лучника в нагрудном панцире, то на женщину с седыми всколоченными волосами, бюргермейстер прохрипел:
– Что за веселье, проклятая ведьма?
И в тот же миг получил удар в левое ухо.
– Неучтиво не отвечать на вопрос столь достойного господина. – Лучник, кривляясь, поклонился. – И я отвечу. Веселая встреча нужна им. Этому дурачью с дубинами и этим старикам и старухам. Они разнообразят лесную пищу мясом твоих лошадей, хотя не против сожрать и твоих людей, и тебя самого. Вон, какой ты мясистый.
Венцель Марцел с ужасом окинул взглядом почти два десятка оборванцев, которые, связав слуг, сгрудились возле него. Не было сомнения – это члены лесной шайки, для которых виселица – счастливое избавление от гнусной жизни. Половина из них были старики и старухи, с почерневшими, испещренными морщинами лицами и всколоченными седыми волосами. Их мутные глаза слезились гноем, а беззубые рты слюняво причмокивали.
Вторая половина шайки состояла из молодых парней. Они еще более ужаснули бюргермейстера.
Почти у всех парней были редкие волосы и впавшие носы, вокруг которых, словно на барабане, натянулась прозрачно-белая кожа. Руки, сжимавшие дубины, тряслись, а ослабленные колени едва удерживали худые тела. Не было сомнения, что они были смертельно больны сифилисом. Значит, их изгнали из городов и селений. Поэтому, уже распрощавшись с жизнью, эти люди догнивали в злобе и отчаянном желании отплатить обществу немыслимыми зверствами.
Только их главарь отличался отменным здоровьем и осмысленным взглядом, что давало маленькую надежду. Но…
– Еще вот что скажу. Та, которую ты назвал старой ведьмой, – моя мать. А что касается веселья, то оно состоится. Мы будем от души веселиться – точно так же, как и ты, Венцель Марцел, веселился, когда пять месяцев назад колесовал ее старшего сына, а значит, моего брата.
– Ты говоришь о тех разбойниках… – бюргермейстер не закончил. От сильного удара ногой в грудь у него перехватило дыхание.
– В этой проклятой жизни, среди этих лесов, этого неба и человеческой злобы каждый рождается для того, чтобы стать разбойником. Мы все – исчадия ада. Вот только волк не загрызет волка. А человек, играя с придуманными им законами, убивает придуманной справедливостью другого человека. Эти ваши законы сделали людей врагами. Они дали право называть одних разбойниками, а других – законниками, хотя последние ничем не отличаются от первых. Я вернулся с войны и нашел свою мать в лесу. Старуху выгнали из дома, так как ее сына колесовали за разбой. Из нее сделали разбойницу.
– Я дам выкуп за себя и своих людей, – дрожащим голосом предложил Венцель Марцел.
Главарь выпрямился и, засмеявшись, ответил:
– Это пусть благородные рыцари и власть предержащие господа берут выкуп. Нам не нужны ни серебро, ни золото. Куда бы мы ни пришли с ними, нас тут же схватят и в лучшем случае повесят. Мы живем одним днем. И даже половиной дня. И даже мгновением, когда хорошо нашим проклятым телам.
Оборванцы согласно закивали и стали воинственно размахивать дубовыми палками и кухонными ножами.
– А нам будет хорошо…
С этими словами главарь нырнул в повозку. Сразу же раздался крик Эльвы, и после недолгого сопротивления разбойник вытащил девушку за волосы. Крик радости и плотского счастья поднял на крыло птиц и заставил замереть зверьков.
– Какое ангельское личико, – сладко протянул один из стариков.
– А есть у нее крылышки? – еще слаще спросила стоящая рядом с ним старуха.
– А это мы сейчас узнаем, – смеясь, ответил главарь и рванул с груди Эльвы шемизетку[7].
Девушка молча забилась в руках разбойника, но тот крепко схватил ее за мауатр[8]. Эльва вскрикнула и отшатнулась от насильника. Платье треснуло, оставив в руках главаря кусок валика.
– Сынок, не рви одежду. Она мне пригодится. Такая одежда стоит двух коров, – озабоченно наблюдая за происходящим, попросила мать разбойника, и тот покорно согласился:
– Вся ее одежда – твоя.
– Я всегда знала, что ты самый лучший из сыновей.
– Ну, чего стоите? – грозно крикнул главарь, обращаясь к своим оборванцам. – Придержите. Мама желает ее одежду. Не идти же маме на виселицу епископа в рваном блио[9].
Десятки трясущихся от возбуждения рук ухватились за отчаянно бьющуюся девушку.
Эльва громко закричала, потом зашлась от плача.
– Исчадия ада! Остановитесь! Вас покарает Бог, и сожрет в геенне огненной сам сатана! – в отчаянии закричал Венцель Марцел.
К нему тут же подскочили три разбойника и, прикладывая все усилия, стали вязать руки. Бюргермейстер пытался сопротивляться; он повалил двоих наземь и начал топтать их ногами, но сильный удар дубиной по голове заставил его пошатнуться и вновь опуститься на колени.
К своему сожалению и ужасу, он не потерял сознания. Только все происходящее словно замедлилось в движении и приобрело сиреневый оттенок. У бюргермейстера обмякло тело, и два слабосильных старика без труда заломили ему руки за спину и связали конопляной веревкой. Потом он приподнял голову и сквозь липкую кровь увидел, как на миг расступилась толпа рычащих в восторге лесных бродяг. Сначала он разглядел извивающуюся на холодной земле Эльву и мнущего ее грудь главаря. Затем между расступившимися разбойниками важно прошла старуха, неся одежду девушки над головой.
– Сынок, ты не снимай свой нагрудный панцирь. Пусть ангелочек почувствует твое железо и на груди, и между ног.
– Хорошо, мама, – с усилием ответил сынок. Несмотря на многорукую помощь, он все еще не мог укротить сопротивляющуюся из последних сил девушку.
Но жертва слабела. Почувствовав это, несколько парней уже заспорили, кто будет следующим после главаря. Спор тут же перерос в драку и оскорбительные выкрики. Воспользовавшись тем, что более молодые насильники увлеклись потасовкой, к телу обнаженной девушки потянулись скрюченные пальцы стариков. Они знали, что их очередь последняя, но была возможность хотя бы попытаться возбудиться, притронувшись к коже и волосам юного создания.
– О Господи, сжалься и дай мне умереть, – заплакал Венцель Марцел. – А потом пусть придет сам сатана и заберет с собой этих негодяев!
Слезы отчаяния брызнули из его глаз, и в этой кроваво-водяной пелене бюргермейстер воззрел… его – сатану!
Венцель Марцел увидел звероподобное лицо, искаженное гневом, и почувствовал запах гниющей плоти. Потом это существо встало и повернулось к нему спиной.
– Кто знает меня?
Сатана сдернул с головы капюшон.
Грозный голос заставил всех посмотреть на пришедшего. Крики, стоны, вздохи, сопровождавшие возню, тут же утихли, и над местом человеческого ада повисла гробовая тишина.
– Это он, дьявол подземелья Правды. Он четвертовал моего сына, – в страхе прошептал один из стариков, и этот тишайший голос услышали все.
Лесные оборванцы вздрогнули и стали медленно отступать. Потом животный страх сжал их сердца, заставив броситься со всех ног в чащу леса.
– Ах вы, подлые трусы! Вы забыли, что человек умирает только один раз.
Главарь быстро вскочил на ноги и бросил презрительный взгляд на убегающих. Он зло выругался, с сожалением посмотрел на свой фаллос, вмиг съежившийся, и надел спущенные до колен кожаные брэ[10].
Глянув на застывшую в нескольких шагах мать, разбойник взялся за рукоять меча и медленно потянул его из ножен.
– Кто бы ты ни был – демон, дьявол или человек, – ты сейчас умрешь.
Выкрикнув эти слова, отчаянный главарь лесных разбойников высоко поднял меч и бросился на того, кто посмел лишить его плотского наслаждения и одним своим видом разогнал до смерти преданных ему людишек.
Раздался хлопок распахнувшегося плаща, и в правой руке пришедшего блеснул короткий меч. Железо со скрежетом встретило железо. Мечи быстрыми молниями стали пересекаться, роняя на пожухлую траву быстро гаснущие искры. Казалось, что в схватке на мечах сошлись два опытных бойца и бой будет продолжительным.
Но все закончилось быстро. Разбойник, увлекшись верхним боем, сделал выпад, выставив правую ногу. По этой ноге тут же скользнуло лезвие меча противника. И стоило главарю на мгновение застыть от боли, тот же меч, рассекая гортань, вонзился в шею и быстро вышел из нее. Горячая кровь брызгами вырвалась из широкой раны и в мгновение залила нагрудный панцирь. Разбойник умер еще стоя, а уж затем повалился на спину.
– А-а-а! – в отчаянии закричала старуха и, вытянув костлявые руки, бросилась на убийцу ее сына.
Но руки так и не достигли шеи этого страшного человека. Быстрый удар меча пронзил ее грудь, а удар ногой в живот отбросил умирающую женщину на бездыханное тело сына.
– Это ты… – не то спросил, не то сам себе сказал Венцель Марцел, внимательно всмотревшись в своего спасителя.
Тот коротко кивнул и бросил Эльве ее одежду. Затем он вытащил короткий нож и освободил руки бюргермейстера со словами:
– Мне нужно спешить. Этой ночью я загнал своего коня.
– Бери одного из моих, – со всей искренностью предложил Венцель Марцел.
– До Мюнстера уже близко. А с конного снимают въездной налог.
– Что за нужда заставляет так спешить?
– Мне нужно побывать в подземелье Правды. Но даст ли согласие епископ?
– Отец попросит его об этом. – Несмотря на дрожь во всем теле, Эльва смогла быстро одеться, и теперь другие слезы, слезы благодарности, тихо струились по ее милым щечкам.
Венцель Марцел неуверенно посмотрел на девушку. Та всхлипнула и добавила:
– Ты должен помочь человеку, который дважды спас твою дочь.
Бюргермейстер, еще не совсем понимая, о чем она говорит, неуверенно пробормотал:
– Человеку… Наверное, да. Но он палач… – И, увидев глаза Эльвы, наполненные до краев умоляющей просьбой, спросил у своего спасителя:
– Ты желаешь быть палачом подземелья Правды?
– Теперь я свободный человек, – тихо произнес тот и, сглотнув то ли слюну, то ли боль, добавил:
– Но хочу себя спасти.
С этими словами он откинул плащ с левой руки. Тугие окровавленные бинты охватывали ее до локтя и сочились гноем…
* * *
– Что там с Верметом? – спросила Эльва, приоткрыв занавеску окошка повозки.
Венцель Марцел посмотрел на облокотившегося на колесо стражника и нехотя ответил:
– Наш спаситель обломил стрелу, но сказал, что вынуть ее руками не сможет. Он умрет. Я верно понял?
Стоящий рядом с бюргермейстером мужчина кивнул.
– Чтобы он выжил, мне нужно то, о чем я хочу попросить епископа.
– Ладно. Пойдем.
Повозку пришлось оставить у ворот епископского замка. Да и сюда они добрались с большим трудом. Улицы Мюнстера на подъезде к замку были заставлены множеством таких же повозок, а во дворе замка было не протолкнуться.
Бюргермейстер понимающе улыбнулся и велел:
– Иди впереди. Только открой голову. Думаю, тебя тут не забыли.
Мужчина нехотя стянул капюшон и решительно надавил на толпу. Люди уже готовы были осадить наглеца, но ругательства, едва не сорвавшиеся с языка, так и не прозвучали, а оружие не было использовано. Побледнев, они отшатнулись, а затем, напирая спинами, попятились на несколько шагов. Воины, селяне, горожане и даже благородные господа, повернув головы и увидев палача подземелья Правды, поспешили сделать то же самое. Они дали ему дорогу даже с большей поспешностью, чем прокаженному. И самому сатане.
Стоявшая на ступенях стража, как и все, в полном молчании расступилась, не желая даже древками копий остановить этого человека. Идущий по пятам за бывшим епископским палачом Венцель Марцел почувствовал внутреннюю дрожь. Перед ним никто и никогда не расступался с таким необъяснимым страхом и беспокойством. Да и вряд ли нечто подобное когда-нибудь случится. Толпа, дающая дорогу Папе Римскому, императору, или королю, делает это с совсем другими чувствами. И не с такой поспешностью, животным страхом и, наверное, даже с почтением, как к этому необычному человеку. Ведь каждый из толпы, даже по воле величайших правителей оказавшись в руках палача, будет испытывать перед ним страх намного более ужасный, чем перед теми, кто послал их на муки.
Бюргермейстер, почувствовавший на себе множество любопытных взглядов, готов был даже остановиться и отдать этому внушающему ужас человеку какое-либо приказание. И все потому, что в этот миг ему хотелось быть причастным к такому непростому людскому вниманию. Пересилив себя, Венцель Марцел тайком перекрестился и, оказавшись в переходах замка, пошел рядом с палачом.
Здесь уже были другие люди. Приближенные к власти священнослужители не препятствовали вошедшим, но при этом смотрели на них как на гостей, вернее, на тех, кем они и были – просителями.
Узнав, что епископ сегодня принимает, но принимает в своей спальне, бюргермейстер с огромным огорчением, которое он, конечно, скрыл, расстался с несколькими золотыми монетами и довольно скоро оказался у огромной кровати с тяжелым балдахином из итальянской ткани.
Красные портьеры в тусклом мерцании всего десятка сальных свечей напоминали затухающий костер, от веселых огоньков которого скоро не останется даже жара.
Над меховым покрывалом, горбившимся посреди кровати, наклонился монах и шепотом произнес несколько слов.
– А-а-а, – послышалось из мехов, и оттуда же показалось восковое лицо епископа, – Подходи. Благодари…
Но едва Венцель Марцел стал изливать медовые слова благодарности за освобождение городских земель от кровавых разбойников, епископ махнул на него сухонькой ручкой:
– Не то, не то…
Бюргермейстер растерянно пробормотал:
– А также вашему племяннику, славному рыцарю фон Бирку…
Рука опять приподнялась и упала.
Встрепенувшись, Венцель Марцел поспешно достал из принесенной им кожаной сумки византийский шелк с ликом Богородицы и, развернув его, преподнес как можно ближе к лицу епископа.
– На этом нежном шелке руками моей красавицы дочери Эльвы вышита Матерь Божья. В золотых и серебряных нитях, с восточными редчайшими жемчугами она…
– Я хочу присесть…
Из затемненного угла выступили двое монахов и, соорудив из пуховых подушек горку, осторожно прислонили к ней своего хозяина. Старик неожиданно бодро развел руками, потом скрестил их на груди.
– Мои глаза уже не способны насладить душу даже чудной работой твоей, как мне говорили, прекраснейшей дочери. А вот уши мои все еще свежи. Ими я еще живу. Говорят, толпа ревела от восторга, когда он колесовал разбойников. Хрясь, хрясь…
– Да, он мастер своего дела…
– Мастер? Нет. Он великий мастер. Он достойнейший ученик мэтра Гальчини. Этого Гальчини мне подарил кардинал Павлесио, когда я был в Италии. Случилось это очень давно. Искуснейший палач и великий ученый муж был. Он все знал и все умел. Он даже знал, когда умрет. Он хотел передать свои знания и умения. Он сам выбрал себе ученика. Догадываешься, кого?
Венцель Марцел быстро кивнул.
– Вот его самого. Десять лет назад он должен был оказаться в аду. Но Гальчини из многих выбрал это чудовище. Я согласился. Мне было интересно, как из этого звероподобного существа можно сотворить нужного и полезного для меня человека. Множество дней и особенно ночей я провел, наблюдая за работой мэтра Гальчини. Он многое знал и умел. И этим он щедро поделился со своим учеником. Я сделал племяннику, этому мальчишке Бирку, достойнейший подарок…
Бюргермейстер, словно извиняясь, кашлянул.
– Рыцарь фон Бирк отпустил его от себя. Теперь он свободный человек.
– Отпустил? Глупец!.. – гневно воскликнул старик.
– Он спас жизнь своему хозяину. При осаде какого-то городка со стен полетело каменное ядро и, ударившись о штурмовую башню, разбилось на осколки. Один из осколков мог убить рыцаря. Но тот, о ком вы говорите, подставил свой щит и тело. Фон Бирк остался жив. А камень разбил щит его спасителя и ужасно покалечил руку, его державшую. Рыцарю не нужен однорукий слуга. Тем не менее, отпуская его на волю, барон тем самым отблагодарил палача.
Епископ долго молчал. Потом произнес короткую молитву и продолжил разговор:
– Палачу нужны обе руки. Теперь у него осталась только голова и то, что в ней.
– Этот человек пришел со мной. Он говорит, что сможет спасти свою руку. Для этого ему нужны инструменты мэтра Гальчини и еще немногое. Я осмелюсь просить за него, так как сегодня он спас мою жизнь и сохранил честь моей дочери.
– Да? – оживился епископ. – Мне об этом еще не докладывали.
– Это случилось всего пару часов назад. В нескольких милях от ворот Мюнстера.
– То есть у самих ворот. И что же там произошло?
– Свора оборванцев напала на мою повозку. Они ранили стрелой моего стражника. Они угрожали съесть меня и моих лошадей. Потом они стали терзать мою дочь. Этот человек, превозмогая боль раненой руки, разогнал разбойников и убил их главаря.
– И это у моих ворот, – печально произнес старик и еще печальнее добавил:
– Я на пороге смерти. Это знают все негодяи. Скоро в моих лесах будет не протолкнуться от всякого сброда, а благородные господа разорвут мое наследство. Виселицы Мюнстера опустеют, а в подземелье Правды будут хранить вино и брагу. А ведь еще совсем недавно епископские земли, находящиеся под моей сильной рукой, славились соблюдением законов Божьих и светских. Умирая, я не оставляю ничего. И хорошо, что я ничего не оставлю моим гнусным наследникам. Пусть этот человек возьмет все, что захочет в подземелье Правды.
Венцель Марцел низко поклонился.
– У меня просьба от себя лично и от своего города.
Епископ устало склонил голову и тихо пробормотал:
– Последняя.
– Да, да. Я прошу благословить на священство отца Вельгуса. О нем идет славная молва как о ревностном католике и благочинном служителе веры. Настоятель нашего Кафедрального собора уже не может достойно править службу. Он просится на уединение в монастырь.
– Отца Вельгуса? – Епископ неожиданно рассмеялся, но смех этот был сухим и прерывистым. – С удовольствием. Хотя бы умру спокойно. Он настолько ревностно относится к своим обязанностям по службе, что готов укусить всякого. Он даже Гальчини оговаривал как колдуна и чернокнижника. Представляешь – палача! Если бы не я, он бы в фанатическом припадке самолично сжег великого мастера вместе с его книгами, инструментами, травами, мазями. И, конечно же, его ученика. Но палача никто не вправе ни в чем уличить. До тех пор, пока он палач! И еще… Об этом… Он спас моего племянника. Да и тебя. Помни это и будь к нему благосклонен. Прими участие в его судьбе. Я буду следить за вами. За тобой, бюргермейстер, и за господином «Эй». Даже с небес…
– Да, епископ, – выдавил Венцель Марцел и, не разгибая спины, в поклоне попятился к двери.
* * *
– Да храни вас Бог, бюргермейстер, вы добрый человек.
– Добрый, добрый, – промычал Венцель Марцел, внимательно осматривая два огромных узла, которые свисали через плечо того, кого в этом городе помнили как палача и называли не иначе как господин «Эй». Рядом с ним стоял рыжеволосый подросток с еще одним узлом и дымящимся глиняным горшочком. – Как быть с Верметом?
– Я взял все необходимое. Все равно без меня это уничтожат или растащат. Хель, – обратился мужчина к пришедшему с ним подростку, – стащи с раненого кольчугу. Но вначале подай мне круглозубчатые щипцы.
Мальчишка с поспешностью положил у повозки в уличную грязь принесенный им узел и развязал его. Венцель Марцел с любопытством вытянул шею и увидел множество неестественно блестящих небольших металлических предметов. Половине из них он даже не мог подобрать название. А вторую половину составляли кусачки, пилочки, крючки, стамески, молоточки… Многое такое, чем пользуются ремесленники для своего ежедневного труда. Только все это было значительно мельче и сделано с великой любовью и мастерством. Будто заботливый отец сделал игрушки для своих послушных детей.
Из этой груды рыжий мальчишка вытащил требуемые щипцы и протянул их господину «Эй». Тот внимательно осмотрел их полукруглые кончики, потом порылся в одном из узлов и вытащил стеклянную бутылочку. Вынув свинцовую пробку, он наклонил бутылочку. Из нее полилась резко пахнущая жидкость, которой он обильно смочил щипцы.
– Ложись, – грубо сказал бывший слуга подземелья Правды, и раненый стражник, от страха округлив глаза, покорно опустился голой спиной в городскую жижу.
Господин «Эй» стал коленом правой ноги на грудь раненому и попытался улыбкой подбодрить Вермета. От этой улыбки раненый тихо завыл и крепко сжал веки.
– Вот и славно, – прошептал добровольный лекарь и, обхватив щипцами круглое древко стрелы, скользнул вдоль него и с усилием вошел в рану.
Жуткий крик раненого упругой волной отразился от стен узкой улицы и вспугнул сизых голубей, до которых еще не добрались городские мальчишки. Прохожие тут же остановились и поспешили на бесплатное зрелище. На вторых и третьих этажах приоткрылись окна, и из них высунулись головы любопытствующих.
– А теперь кричи, – спокойно сказал господин «Эй» и, сделав полуоборот щипцами в ране, резко вырвал их вместе с наконечником стрелы.
Всхлипывающий стражник уставился на окровавленные щипцы и тот предмет, что едва не лишил его жизни, и со страхом спросил:
– Я буду жить?
Вместо ответа господин «Эй» поманил мальчишку, в руках которого был дымящийся глиняный горшочек. Тот с готовностью протянул его. Окровавленные щипцы опустились в горловину и появились на глазах собравшихся с раскаленным куском металла. Тут же красно-белое железо легло на рану стражника, сваривая кожу и закрывая сочащееся кровью отверстие. Стражник, ошпаренный болью, широко открыл рот, но голос куда-то пропал. Лишь спустя несколько мгновений из его горла вырвался протяжный крик, а из глаз брызнули слезы.
– Теперь будешь жить…
Господин «Эй» встал, поднял голову и посмотрел на по-осеннему свинцовое небо. При этом его капюшон сполз, освобождая обращенное к небесам лицо. Очень скоро собравшаяся толпа испарилась, а окна домов наглухо захлопнулись.
– Мэтр, возьмите меня с собой, – умоляюще произнес рыжий мальчишка и по-собачьи преданно заглянул в глаза мужчины.
Вместо ответа господин «Эй» указал пальцем на маленький деревянный ящичек среди своих вещей. Мальчишка тут же поднял его крышку. Из деревянного хранилища вырвалась туча огромных мух, разнося на своих слюдяных крыльях зловонный запах гнилого мяса.
– Я, как вы и велели, хранил ящик у огня и раз в месяц менял сгнившее мясо на свежее.
Гордый своей исполнительностью, мальчишка опустил руку и вытащил позеленевший кусочек мясной лепешки, густо посыпанный тем, что напоминало хорошо дробленую соль. Нюхнув и притворно скривившись, подросток отдал его мужчине.
Господин «Эй» удовлетворенно кивнул и велел мальчишке увязывать вещи, а сам принялся разматывать повязку на своей искалеченной руке.
Лишенная повязки рука представляла собой жуткое зрелище. Вздувшийся багрово-красный кусок мяса со скрученными пальцами сочился розовыми капельками, а из разрыва кожи выше кисти вытекал зловонный гной.
Мужчина глубоко вздохнул и приложил к разрыву тот самый позеленевший кусок мясной лепешки.
– Гнилая плоть – пища дьявола!
Завороженно наблюдавшие за непонятными действиями господина «Эй» присутствующие и не заметили появления священника в черной сутане.
– Я вижу, колдовство мэтра Гальчини продолжается. Отвернись от сатаны. Сохрани душу, сын мой. Если она у тебя еще есть. Палач ты или нет, но кара Божья настигнет каждого заглядывающего под хвост врага Господа.
Священник широко перекрестил всех стоящих перед ним.
– Отец Вельгус, – поклонившись, произнес Венцель Марцел.
Вслед за бюргермейстером поклонились и остальные. Только у господина «Эй» поклон более походил на кивок.
– Это рана получена в бою. Это лечение.
– Душу нужно лечить, а не телесные раны.
Затем, обратившись к бюргермейстеру, святой отец сказал:
– Епископ только что рукоположением освятил меня на приход города Витинбурга и велел немедленно отправляться в путь.
Венцель Марцел посмотрел на священника и спросил:
– Вы готовы прямо сейчас ехать в город?
– Да, сын мой.
– Нужно отправить слугу за вашими вещами.
– Все мои вещи на мне. Я, как и первоапостолы, довольствуюсь грубой одеждой. А пищу пошлет Господь. Я готов в путь.
– Прошу в повозку.
Проследив, удобно ли устроился священник, Венцель Марцел отвел на несколько шагов дочь и грустно улыбнулся.
– Мне хотелось, чтобы ты, дочь моя, осмотрела достойные места города.
– Нам нужно немедленно отправляться в Витинбург. Там мы сможем помочь раненым. Да и твоя рана на голове…
– Она не глубокая и не опасная, – перебил ее отец. – С Верметом уже все в порядке. Лошадь его довезет. Завтра будем дома.
– А этот человек? – Эльва посмотрела на заматывающего руку господина «Эй».
Бюргермейстер задумчиво помял тронутый щетиной подбородок.
– Он вольный человек.
– Отец, ты должен ему помочь. В этом городе у него нет друзей. И никто не впустит его в свой дом. К тому же мы должны быть ему благодарны. Он спас твою жизнь и дважды мою.
– Все это верно. Особенно то, что его не впустят ни в один дом в этом епископстве. А может, и в других землях. – Венцель Марцел согласно кивнул. – Ты говорила, что… В тот вечер, когда молодой рыцарь…
– Он был болен, а болезнь его – это действие винного яда. Могло случиться ужасное, но Бог послал этого человека. Он дал рыцарю чашу с вином и, подождав, пока барон осушит ее, вышел. Рыцарь сразу же ослаб и вскоре уснул. Я тут же бросилась к себе в комнату. Я видела, что вино сделало и с тобой, отец.
– Прости, Эльва, – тихо сказал Венцель Марцел и с готовностью добавил:
– Что мне сделать, чтобы ты не держала в душе обиду на своего отца?
– Дом палача Витинбурга свободен.
– Городская казна пуста. Ты это знаешь, Эльва. Да и зачем городу однорукий палач? Хотя я и могу нанять его на полгода. И даже на год. Если он даст согласие.
– Он даст согласие, – уверенно произнесла девушка и направилась к господину «Эй».
Посмотрев, как, улыбаясь, дочь начала беседу со своим спасителем, Венцель Марцел тяжело вздохнул:
– Заботы, все заботы…
Взглянув на высокие стены епископского замка, Венцель Марцел кожей почувствовал строгий взор умирающего старика.
«…Я буду следить за вами. За тобой, бюргермейстер, и за господином «Эй». Даже с небес…»
Глава 4
Светало. С пушистой ветки вспорхнула первая птица и устремилась в серость осеннего неба. Лес просыпался, оповещая о своем пробуждении скрипом сосен и шорохом опавшей листвы.
Лошади едва тащили повозку, часто испуская тяжелый пар. Ехавшие за ней стражники то и дело покачивали головами, проваливаясь в недолгий сон, и тут же пытались прийти в себя, ибо опасались свалиться под копыта уставших животных.
За ними, уперев взгляд в худые крупы лошадей, устало брел господин «Эй». Это была его третья бессонная ночь, и огромная усталость до невероятности отяжелила его большое тело. Но не это печалило его сейчас. Раненая рука постепенно немела, отпуская тягучую боль. Где-то в груди образовался огонь, разгоняя по телу искры жара. И этот жар волновал, не давая покоя.
«Только бы успеть, только бы успеть…». – Мысль эта стучала в висках и заставляла, пересиливая недомогание, передвигать налитые свинцом ноги.
Наконец едва державшийся в седле Вермет встрепенулся и острием копья постучал по крыше повозки:
– Господин бюргермейстер, впереди Витинбург.
Сгорбившийся возничий поднял голову и спросонья натянул вожжи.
– Чего встал? – Из окошка показалось сердитое заспанное лицо Венцеля Марцела. – А, приехали… Туда держи.
– Куда? – не понял возничий.
– К гнилому ручью.
– К этому дому? – Возничий невольно содрогнулся и пустил лошадей в низину, раскинувшуюся в полусотне шагов от северных ворот Витинбурга.
Вскоре повозка и всадники остановились среди редкого осинника.
– Что еще? – все так же сердито спросил бюргермейстер. На этот раз он уже поленился выглянуть в окошко.
– Вон этот дом, – ответил возничий, в голосе которого чувствовалась напряженность.
– Хорошо. Устраивайся. У тебя удивительная мазь. Голова не болит и не кровоточит. Слышишь меня, «Эй»? Вечером кого-нибудь пришлю…
Возничий помог стражникам достать из ящика позади повозки большие узлы своего попутчика и уложить их между деревьями.
– Да, славная мазь. Моя рана уже не горит огнем, – вяло улыбнулся Вермет, обтирая о плащ руки коснувшиеся вещей своего спасителя. – Иди сам. Да поможет тебе Господь…
Мужчина в широком плаще, не сказав ни слова, подхватил на плечо самый большой из узлов и стал спускаться с пригорка в сторону чернеющего среди низкорослых елей дома.
Не проявив никакого интереса ни к самому дому, ни к тому, что его окружает, мужчина быстро прошел свой путь и ввалился в дощатую дверь. Тут же, прямо у порога, он сбросил свой груз и поспешил за остальными вещами. Только перетащив свои узлы, он обвел взглядом просторное помещение и удовлетворенно кивнул, заметив в углу сложенный из природного камня очаг.
– Огонь, мне нужен огонь, – скороговоркой промолвил новый жилец и, сбросив плащ, стал развязывать свои узлы. Осторожно, с любовью переложив многие баночки, горшочки, узелки и деревянные ящички, он с поспешностью схватил небольшой топорик и бросился к деревянным полкам, во множестве тянувшимся вдоль стен.
Это были единственные сухие дрова, из которых можно было по-быстрому разжечь огонь. Не имея возможности помочь себе левой рукой, мужчина держал доски ступнями и сидя колол их вначале в нужную щепу, затем в дрова. Изрядно взмокнув от усилий и напряжения, которые известны лишь одноруким, он все же остался доволен собой и быстро выложил в очаге шатер из деревяшек, внутри которого поместил щепу.
После этого мужчина взял из вещей, разложенных на глиняном полу, покрытом истлевшей соломой, странный предмет с несколькими колесиками и благодарно произнес:
– Спаси вас Бог на небесах, мудрый Гальчини. Я бы свихнулся, пытаясь высечь искру одной рукой. А этот удивительный механизм избавит меня от лишних мучений.
Зажав коленями механизм, мужчина придвинул его как можно ближе к очагу и стал бить по колесикам ладонью здоровой руки. После нескольких ударов он выбил сноп искр, который удачно осыпал щепу. Мужчина тут же упал на колени и стал осторожно раздувать крошечные язычки пламени. Он счастливо заморгал, когда спасительный дым возвестил о том, что ожившее пламя стало набирать силу. Осторожно вороша щепу и кладя сверху тонкие дровишки, мужчина радостно улыбался, совсем не чувствуя, как по его лицу сбегают ручейки слез.
Вскоре огонь стал с жадностью поглощать дерево.
– Теперь все будет хорошо.
Захотелось растянуться на полу и закрыть глаза. Но такой слабости нельзя было позволить даже в мыслях.
Мужчина встал и, пошатываясь от слабости, подошел к своим вещам. Он поднял небольшой медный котелок и ударом ноги открыл дверь.
Оказавшись за порогом, он быстро осмотрелся и пошел к кустам, покрывающим каменные выступы. Здесь, как и ожидалось, он вначале услышал, а затем и увидел поток мутноватой воды. Осенние дожди оживили ручеек, и тот, гордый обретенной силой, весело нес прелую листву, набухшие ветки и нечистоты из городского рва.
Мужчина зачерпнул полный котелок и сделал несколько глотков. Вода отдавала затхлостью и была неприятна на вид, но ее живительная сила освободила горло от мучившей жажды.
Вернувшись в дом и подбросив дров, новый жилец закрепил на деревянных стойках железный вертел и пристроил на нем котелок с водой. Только теперь он успокоился и внимательно осмотрел свое жилище.
В этом доме уже давно не жили. Толстый слой пыли покрывал бревенчатые стены, несколько лавок, крепкий стол и небогатую домашнюю утварь. Густая паутина клоками свисала с балок и затянула половину широкой лежанки с полуистлевшим тюфяком. Ни одна нога не переступала порог этого дома вот уже, по крайней мере, несколько лет. Даже вор и нищий бродяга не осмелились сделать это, несмотря на то что дом хорошо просматривался с дороги и был еще крепким и надежным.
Без всякого сомнения, дом внушал людям ужас и заставлял их держаться как можно дальше. Это был дом, в котором умер палач.
Но мужчина, завороженно наблюдавший, как закипает в котелке вода, не желал об этом думать. Его мысли были о другом, более печальном. Ибо это касалось его самого, его собственной жизни. Еще совсем недавно он не задумывался о том, что будет упорно цепляться за малейшую возможность спасти себя. Только теперь, когда смерть дышала ему в лицо, а тело горело жаром, он понял, что не должен умереть. Он должен жить. Он хочет жить.
А еще он принял решение… Он был готов… к тому, чтобы отсечь себе руку, если не помогут великие знания, переданные ему мэтром Гальчини.
В эти минуты, печально поглядывая на маленький топорик, он думал о том, что придется рубить руку выше локтя. И, скорее всего, несколько раз. Уж очень маленький топорик.
Веселые языки пламени оживили угрюмый дом и согрели мужчину настолько, что он спокойно воспринимал то, о чем так много думал за последние дни после ранения.
Он медленно размотал повязку. Осторожно положив на колено кусок гнилого мяса, приложенный еще в Мюнстере, мужчина взглянул на левую руку. Раны на кисти и на три пальца выше еще более распухли и, едва не сливаясь, приобрели лилово-бордовый цвет. Казалось, стоит коснуться в этих местах пальцем, и тонкая корка нароста лопнет, освобождая потоки гноя.
Но это как раз было то, чего он добивался. Он должен сделать это.
Мужчина вытащил из ножен широкий короткий нож и протянул его к огню. Едва раскалив железо, раненый решительно приложил его к кисти и с силой погрузил в опухлость. Зеленовато-белая кашица с готовностью рванулась из рассечения, подталкиваемая кровяной сукровицей. Тяжело дыша, мужчина вытащил нож и тут же погрузил его во вторую вздутость. Затем, отложив нож, он пальцами придавил рассеченные места, еще более освобождая их от гноя и грязной крови.
Не издав ни звука и даже не сморщившись, мужчина стал черпать рукой из котелка горячую воду и наскоро промывать вскрытые раны. После этого, вытерев их правым рукавом, он приступил к главному и важному.
Пальцы его раненой руки, насколько позволяла боль, прижали кусок гнилого мяса к колену. Нож осторожно коснулся его с края и стал медленно срезать то, что казалось крупинками соли на его поверхности. Все срезанное он разделил надвое и погрузил как можно глубже во вскрытые раны.
Теперь можно было вновь перевязать руку и приступить к приятному и все еще необходимому. Недолго провозившись со своими бутылочками и горшочками, мужчина извлек из них несколько щепоток истолченных корней и травы, а также тягучие мази и резко пахнущие порошки. Все это он бросил в кипяток и, помешивая ножом, стал ждать.
Когда пришло время, господин «Эй» снял котелок с огня и дал ему немного остыть. Затем, попробовав пальцем воду, мужчина приложился к краю посудины и в три огромных глотка почти осушил ее.
Теперь можно было подкинуть в огонь дров и, разместив удобно руку, немного отдохнуть. Именно удобно. Ведь непрерывная ноющая боль становилась еще сильнее, когда рука оказывалась на весу или нагруженной. Уже не оставалось ни малейшего сомнения в том, что кости кисти и, возможно, предплечья серьезно повреждены. И если только Бог милостив к своему грешному сыну – не раздроблены. Но это можно было прощупать или посмотреть в разрезе только после того, как спадет опухоль. Так учил мэтр Гальчини.
А сейчас нужно собраться с силами и подтащить лежанку к очагу. И тогда все будет много проще и приятнее.
Крепко прижав руку к груди, мужчина решительно встал и подошел к предмету своего желания. Он улыбнулся. Лежанка, явно сделанная на заказ, представляла собой широкую лавку на крепких ножках и даже с выступающим подголовником. Это не селянские сваленные доски, притрушенные сеном и устланные грубой рогожей. На его лежанке даже имелся матрас и огромная подушка.
Мужчина ухватился за низ лежанки и подтянул ее как можно ближе к огню. На большее у него уже не осталось сил. Он лег ногами к двери, так и не убрав паутину, но осторожно расположив руку поближе к огню и укутав ее плащом.
Огонь вскоре потух. Дым, уходящий в отверстие в соломенной крыше, осел на короткое время, охраняя тепло очага. В углу сердито запищала огромная старая крыса, недовольно рассматривая непрошеного соседа.
А тому даже ничего не снилось. Под действием выпитого снадобья он провалился в оглушительно тишайшую и непроглядно черную яму, в которой не смеет пошевелиться даже душа. И оттого она не воспользовалась беспамятством человека и не стала терзать его воспоминаниями и видениями.
Не помешала ему и старая крыса, которая со всем своим выводком прошмыгнула по краю лежанки и надолго застыла, наблюдая угасающие огоньки никогда не видимого ею огня.
И даже стук в дверь не стал помехой для глубокого сна.
Впрочем, стук был тихим и поспешным.
И лишь под вечер три естественных желания заставили палача пошевелиться и открыть глаза. Прежде всего мужчина почувствовал нестерпимую жажду. Горло просто сжималось от сухости, затрудняя дыхание. И при этом низ живота требовал освободить его от горячей жидкости. А кроме этих настойчивых позывов, давал знать о себе пустой уже третий день желудок.
На коротком вечернем привале добрая дочь бюргермейстера передала ему со стражником ломоть пшеничного хлеба и даже небольшую колбаску. Но стражник, заметив, как господин «Эй», сев у сосны, закрыл глаза, не пожелал его беспокоить и положил пищу в двух шагах от него. Уже когда тронулись в путь, стражник громко окликнул попутчика. И тот сразу встал и пошел за повозкой, едва не наступив ногой на пищу. Она, конечно же, досталась чуть замешкавшемуся стражнику.
Подчиняясь настойчивым желаниям, мужчина встал, укутался в плащ и, допив то немногое, что осталось в котелке, с пустой посудиной в руках перешагнул через порог. Он сразу же заметил на высокой ступеньке горшочек, горловина которого была накрыта полотном, и то немногое, что осталось от хлеба, расклеванного птицами.
Мужчина счастливо улыбнулся. Он первым делом занес в дом горшочек и остатки хлеба. Потом помочился и принес из ручья воды. Если бы в очаге еще пылал огонь, он чувствовал бы себя счастливым. Но пламя давно угасло, не оставив даже мелких угольков. К тому же все с таким трудом поколотые дрова сгорели. Значит, нужно было как можно плотнее укутаться в плащ.
Но перед этим он уселся за стол и попытался развязать полотно, закрывающее широкую горловину горшочка. После нескольких попыток он заскрежетал зубами и разрезал его ножом. В горшочке оказалась слипшаяся овсяная каша. Она, без сомнения, хороша свежая, когда в ней есть достаточно воды. Тогда ее очень удобно черпать ломтиками хлеба, а потом обсасывать их. Но от неожиданного угощения остались лишь крошки, а ими никак не зачерпнуть кашу.
Собрав в несколько щипков остатки хлеба, мужчина долго и с наслаждением держал их во рту, неспешно пережевывая. Но голодный желудок, быстро втянув в себя это наслаждение, настойчиво требовал добавки.
Проглотив половину содержимого горшка, мужчина тяжело вздохнул. Неизвестно, что принесет день завтрашний. Поэтому он накрыл горшок тяжелым камнем, снятым с очага, и, укутавшись с головой плащом, улегся на лежанку.
Холодная каша дивным образом разогрела живот и приятным теплом разошлась по телу. Хорошо было бы сразу заснуть. Тогда бы время прошло быстро и приблизило выздоровление. Но сон, державшийся весь день, не спешил возвращаться. Кроме того, противно ныли кости израненной руки, а разбухшие мышцы тряслись от каждого толчка крови.
Сколько же он покалечил и отсек чужих рук! Какую дикую боль испытывали другие! Но эта мысль даже не задержалась в его голове. Собственная боль и страх перед завтрашним днем властвовали над телом палача. И чтобы как-то приглушить эти чувства, мужчина мысленно вернулся к тому, что считал сейчас полезным. А полезным было воспоминание о тяжелых уроках мэтра Гальчини. Правда, они не желали выстраиваться в нужном ему порядке. Они вели его мозг по лабиринтам памяти только им понятным путем.
Да, раненый желал мысленно оказаться в подземелье Правды.
Но никак не в первые дни. Ему опять стало страшно от холодного взгляда епископа, в глазах которого застыла смерть, а потом он содрогнулся от пронизывающего душу взгляда палача.
…От взгляда этих глаз он рванулся, но крепкие цепи только насмешливо и голодно лязгнули. Епископ тихо рассмеялся и исчез. А над ним опять нависло лицо этого страшного человека. Он долго смотрел на своего узника, а потом тихо заговорил:
– Я – мэтр Гальчини. Все те годы, что ты будешь рядом со мной, так меня и называй. Не палачом и никак иначе. Через девять лет и шесть месяцев за мной придет смерть. Но за это время ты узнаешь и научишься всему, что знаю и умею я. Спросишь, почему именно ты? Я отвечу. Отвечу в последний день своей жизни. Если захочу или если это будет нужно. А может, ты и не спросишь. Поймешь сам. Я не спрашиваю твоего желания. У тебя нет выбора. Завтра в полдень на рыночной площади я должен был прибить гвоздями твой фаллос и его мешочек к деревянному помосту и дать тебе в руки нож. Так наказываются насильники и прелюбодеи. Ведь тебя схватили, когда ты уже надругался над телом девчушки. Ее отец утверждает, что ты наемник и это уже твое второе насилие над его дочерью. Зачем в твои руки я должен был дать нож, ты догадываешься. Тебя сейчас обласкала удача. Другого раза не будет. Но обласкала ли? Это мучительный вопрос. Сейчас молись. Молись, как умеешь…
Его не освободили от цепей. Его не кормили и не давали пить. Ему запрещали опускать голову и закрывать глаза. Он должен был впитывать в себя ужас, впиваясь в происходящее взглядом и не пропуская мельчайших подробностей.
После пытки очередного несчастного мэтр Гальчини подходил к своему ученику и долго расспрашивал, что он видел и в какой последовательности. За каждую ошибку или пропуск учитель тут же наказывал бычьей плетью. Особенно жестокие удары ученик получал, когда крепко сжимал веки. Даже ему, наемнику, убившему многих людей, не хватало сил непрерывно наблюдать за тем, как мужчину, подвешенного за ноги, медленно распиливали от паха до головы двуручной пилой.
Потом пришло время, и глаза закрылись сами по себе. Сознание покинуло его.
Но то было давно. В эту ночь, оказавшись в доме умершего палача, бывший ученик мэтра Гальчини скрежетал зубами, пытаясь направить память в нужное ему русло. Но память издевалась над ним, выдавая то, что было угодно ей.
И вот ученик стоит по другую сторону стола и смотрит, как учитель терзает мальчишку, орудуя блестящими инструментами. Мальчишка орет так, что густеет воздух. Он то призывает Бога, то проклинает всех именем сатаны. Это все, что он может. Он крепко привязан к столу. А мэтр Гальчини только улыбается и указывает ученику, какой инструмент ему подать. И когда все закончилось, учитель хлопает по плечу своего помощника и, довольный собою, говорит:
– Ты должен знать о боли абсолютно все. Боль убивает и боль излечивает. Через месяц мальчишка будет ходить. Через полгода он будет убегать от огородных сторожей. Но боль, испытанную им дважды, он будет помнить всегда. И ту, когда свалился с дерева. И ту, которую причинил ему я. Боль, ломающая кости, и боль, лечащая их. Когда-нибудь лекари будут часто повторять себе: я дарю человеку боль, которая его излечит.
Но боль способна не только лечить, но и учить. И память холодным дождем вернула ученику Гальчини уроки, которые тот желал вспомнить. И желал, и внутренне содрогался, надеясь взять из воспоминаний только полезное. Но все пришлось пережить заново.
Вот он сидит в конце большого стола, а мэтр Гальчини все крепит и крепит на его дубовые доски восковые свечи. Уже светло, как в солнечный день. В тот, который разливается за стенами мрачного подземелья и который не доступен ему. Ведь мэтр сказал, что первые три года он не выйдет за дверь, на каменные ступени, ведущие к солнцу.
И вот между свечей легла рука. Вернее, то, что от нее осталось. Кости от плеча до закрученных ногтей.
– Смотри. Внимательно смотри, – необычно ласково начал учитель. – Все, что создано человеком, создано его рукой. Рука строит города и корабли, кует железо и шьет одежду, играет на музыкальных инструментах и подносит пищу ко рту. Рука – орудие огромной силы и в то же время нежнейшей чувствительности. Она рубит топором и играет на флейте. Она действует, знает и может говорить. Одно прикосновение пальца дает даже слепому возможность отличить железо от дерева, ткань от воды. Такой ее создал Господь. Я трепещу перед Творцом, ибо он сделал людей такими совершенными. «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен… Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы». Так сказано в Псалме. Каждая косточка, мышца, сухожилия и сосуды, в которых бурлит кровь, удивительны и божественно прекрасны. И все на своем месте, и все полезно человеку. Вот посмотри на эту кисть. В ней двадцать семь костей, сочлененных разными суставами. И каждая из этих косточек имеет свою собственную форму. За свою жизнь человек столько раз сжимает и разжимает руку, что любое самое крепкое железо уже давно перетерлось бы в пыль. А кости человеческие верно служат ему до того дня, пока Господь не вернет их себе. Так сколько костей в твоей кисти?
Ученик содрогнулся от громкого вопроса. До этого момента все, что он слышал, было произнесено тихим, спокойным голосом. Нет, он не спал, он слушал учителя. Но в то же время он слышал, как сжимаются его страдающие от отсутствия пищи внутренности, а веки тяжело и медленно, подобно городским воротам, закрываются.
Не услышав ответа, мэтр Гальчини усмехнулся. Его огромная рука схватила ученика за волосы и поволокла его в дальний угол.
– Кисть одна, кисть вторая, – приговаривал учитель, сдавливая руки ученика железными оковами, свисающими с балки.
Затем мэтр Гальчини собственными руками сбросил с его ног пулены[11] и вставил их уже в другую железную обувь.
– У этих башмаков в пятках есть винты с трехгранными шипами на концах. Танцуй.
Повозившись с колесиками, мэтр Гальчини заставил ученика вытянуться на носочках и, не сказав больше ни слова, сердито задул свечи и вышел за дверь.
Он вернулся глубокой ночью. Провозившись еще довольно долго со своими травами и настойками, учитель наконец подошел к нерадивому ученику. Еще некоторое время мэтр Гальчини смотрел на обнаженное по пояс тело молодого мужчины и удовлетворенно кивнул.
– Вначале ты отдыхал от глупостей своего наставника. Твои крепкие ноги давали уверенность в том, что пятки не пострадают. Ты вспоминал приятное и думал о большом куске свинины. Ты еще напрягал и расслаблял мышцы. Но через несколько часов ты почувствовал, что тело перестает тебя слушаться. Твои ноги налились тяжестью, а спина противно заныла. Еще через несколько часов ты забыл о голоде и лежанке для сладкого сна. Огромный камень стал опускаться на плечи, и от этой тяжести ноги начали дрожать. Ты чувствовал, как звенела каждая мышца, как сильно стучит твое сердце, а пот ручьями стекает в железные башмаки. Ты думал только о них. И ни о чем другом. Ты чувствовал запах железа и даже непонятно как видел острые шипы. Ты выл и плакал. Проклинал учителя и хотел разорвать его на мельчайшие кусочки. И каждое мгновение уже готов был посадить свои пятки на острое железо и отдать свое тело на ужасную боль. И только ненависть ко мне сдерживала последнее движение. Когда-нибудь ты будешь любить меня так же сильно, как сейчас ненавидишь. Первую частицу любви я уже готов тебе подарить.
Мэтр Гальчини стал на колени и, покрутив колесики, опустил шипы. С каждым поворотом винта тело ученика настолько же опускалось. Из его глаз ручьями потекли слезы, а из сжатого спазмами горла вырвался стон облегчения.
Придерживая обмякшее тело, мэтр Гальчини освободил руки ученика от оков и прислонил его к стене. Но вместо того чтобы обессиленно рухнуть, ученик внезапно схватил наставника за шею, готовый в тот же миг задушить его. Но этот миг не наступил. Мэтр Гальчини ткнул большим пальцем правой руки в туловище ученика, и тот мешком рухнул ему под ноги.
– Я не ошибся. Слышишь, «Эй»! Ты силен и телом, и духом. Осталось немногое – стать сильным в ремесле и знаниях. Выспись и, если сможешь, поешь. Я принес, там на столе…
* * *
Мужчина содрогнулся и открыл глаза.
Сон. Он все-таки пришел. Пришел тяжелыми переживаниями и опять же испытанными страданиями. Но сон не проклинают. Он выше человеческого понимания. Его нужно принять и… забыть. Но забудется ли то, что он увидел во сне? То, что было. Это навязчивые сны страданий, и от них не отказываются.
День, начавшийся с пробуждения, предстоит прожить. Час за часом, мгновение за мгновением. Еще немного поворочавшись на лежанке, мужчина встал и, желая глотнуть свежего воздуха, вышел за дверь.
Солнце. Огромный теплый шар устало перевалил через полнеба, но был все таким же добрым и ласковым. Тихий ветер пригнал к порогу золотистую листву. Где-то в лесу глухо тосковал тетерев, подзывая самку. А небо было высоким и торжественным.
Жить, жить и быть живым…
Но чтобы жить, нужно делать шаг за шагом. Только так можно сохранить жизнь. А значит, нужно опять идти к гнилому ручью. Зажечь огонь, пить горькие снадобья, которые научил его делать мэтр Гальчини, и ждать, ждать, ждать…
Сегодня солнце было щедрым. Оно слизало влажность и иссушило гнилость. Такому подарку следует радоваться. Его необходимо использовать.
Вода и дрова… А пища есть. Ее еще достаточно – почти полгоршка.
Здесь же, у ручья, он нашел старую сухую осину. Она легко ломалась, отдавая свои ветви. Действуя одной рукой, мужчина довольно быстро наломал дров и тем самым развеселил сердце. Теперь ему хватит на весь вечер и полночи. Только этой ночью он будет спать. И никакая сатанинская сила не бросит его в подземелье Правды, в объятия страха и… спокойствия. Как это несовместимо, и как это правдиво!
Повозившись у очага, господин «Эй» с радостью вдохнул ползущий по дому дым и сразу же водрузил над пламенем полный котелок. Когда вода закипит, он бросит в нее чудесные травы и волшебные порошки, которые пересилят боль и гниение плоти. А пока…
Пока он пальцами с отросшими ногтями стал вытягивать из горшочка комки каши и с удовольствием глотать их. Все будет хорошо, только в это нужно верить.
А он не только верил, он знал.
К вечеру, любуясь язычками пламени, он все же решился.
Сделав несколько глотков целебного настоя, мужчина очень медленно размотал повязку на израненной руке.
Он бы ужаснулся и многократно перекрестился, если бы не видел этого ранее. Если бы не видел и не слышал удовлетворенного голоса мэтра Гальчини. Но любой другой, мельком взглянувший на это, мгновенно отвернулся бы от подкатившей к горлу тошноты.
А кому могла понравиться плоть, густо покрытая бодро шевелящимися маленькими белыми червями? Однако сейчас он не только видел их, но и чувствовал их сосущие рты и слизь, остающуюся после их судорожных движений.
– О Господи! – невольно вскрикнул мужчина и крепко сжал веки.
Но не этого ли он хотел и желал? Хотя чувствовать – это одно, и совсем другое – видеть и содрогаться. А то мелкое и противное, что жило и питалось им с прошлой ночи, было его желанием и верой в учение мэтра Гальчини.
Нужно было радоваться, что память его не подвела. Не подвела и вера во всемогущее знание мудрого наставника.
Вот только ощущение… Ощущение того, как в твоем собственном мясе и собственной коже ползают и питаются мерзкие белые черви… Спасительные черви, пожирающие мертвую плоть и никогда ни прикасающиеся к живой.
Мужчина, не отрываясь от котелка, выпил половину приготовленного по рецепту мэтра Гальчини снадобья и с некоторым опозданием, но с непомерным чувством счастья ощутил, как его тело погружается в темноту сна.
И все же ему хватило времени и сил прикрыть разжиревших червей краем плаща.
* * *
Он проснулся еще затемно. Незапертая дверь скрипуче раскачивалась. Время от времени, подчиняясь порыву ветра, она стучала о косяк костылем калеки. Стены, балки, мебель едва угадывались в сплошной мрачной темноте.
Мужчина попробовал пошевелить пальцами изуродованной руки. Пальцы дрожали и едва двигались. И каждое движение отдавалось болью и тревогой в душе. Он закрыл глаза, желая продлить сон или хотя бы окунуться во что-то приятное и полезное.
Но он уже вполне выспался. Долгие годы ему не удавалось спать более четырех часов подряд. Тело настолько привыкло к этому, что долгий сон, который случился этой ночью, казался более наказанием, чем приятным отдыхом. Мышцы обмякли, в голове глухой барабанной дробью отдавался стук сердца.
Уже скоро начнет светать. Тогда он разведет огонь. Вскипятит воду. Будет пить травяной отвар. Потом займется полезным и нужным – наконец внимательно рассмотрит то, что унес из подземелья Правды, и все старательно разложит, определив для каждого предмета его место в этом тесноватом жилище. Наверняка ему не удастся создать такой порядок вещей, которым так гордился мэтр Гальчини, но все же и он постарается разложить наследие старого палача в удобном для применения виде.
Очень жаль, что пришлось сжечь полки. На них могли бы удобно разместиться баночки с мазями, бутылочки с растворами, горшочки с минералами, мешочки с травами. А в бревенчатые стены можно загнать несколько гвоздей и натянуть веревки. Вот и готово место для инструментов, мелких механизмов и всего, что можно подвесить. Что касается книг, атласов и пергаментных свитков, то он уже в первый день спрятал их в сундук. Но перед этим новый хозяин вытащил из сундука то немногое, что осталось от умершего палача, дабы убедиться в его целости и недоступности для крыс и мышей.
Днем можно будет выйти на порог и прочесть несколько глав из книги Авиценны[12]. Это так, чтобы время быстрее прошло. А еще было бы неплохо пересмотреть свитки с рисунками Гальчини. Особенно те, на которых мудрый итальянец доступно изобразил кости руки и особенно подробно – строение кисти. Именно ею мэтр наиболее всего и восхищался как самым совершенным творением Господа. Однажды мэтр Гальчини в присутствии отца Вельгуса так и высказался. Разгневанный священник очень долго корил палача за греховность мыслей и за вероотступничество. Ведь даже ребенку известно, что самым совершенным творением Бога является человеческая душа, поскольку она – собственность Создателя и дана людишкам лишь на краткое пользование для того, чтобы быть открытыми ему.
Конечно, можно пересмотреть свитки с рисунками, но и без них ученик Гальчини знал о строении кисти все, что позволил знать человеку Господь. Тем более, что изучал господин «Эй» кисть не по рисунку, а по настоящим человеческим костям, которые держал в своих руках.
Кисть начинается с косточек запястья. Это восемь коротких косточек, расположенных в два ряда. При этом каждая косточка имеет собственную форму. Не без удовольствия и самолюбования мэтр Гальчини мог на ощупь, с закрытыми глазами не только определить, какая это кость и с какого места запястья, но и сказать, с правой или левой руки.
Его ученик и сейчас, вспоминая строение кисти, невольно слышал голос учителя:
– …Далее идут пястные кости. Пять пястных костей составляют ладонь. Они малоподвижны и служат опорой для пальцев. Кости пальцев называются фалангами. Их у человека четырнадцать. Все пальцы имеют по три косточки. Кроме большого – у него две косточки. Вот этот большой палец и есть самый подвижный у человека. Он может становиться под прямым углом ко всем остальным пальцам. Его пястная кость настолько сильна, что способна противостоять остальным костям руки. В древности часто, а иногда и сейчас, захваченным пленным отрубали именно большой палец. Это и знак презрения к побежденному врагу, и желание того, чтобы в дальнейшем он не мог держать оружие в руке.
Вот посмотри! Фаланга большого пальца соединена с ближайшей костью запястья, а не с костью ладони. Он противостоит всей ладони. Если бы это было не так, он бы не смог достаточно отклоняться от указательного пальца и тогда человек не смог бы работать, охотиться, воевать.
А вот и указательный палец. Он обладает большой ловкостью и тонкой чувствительностью. А вот средний палец. Он обеспечивает прочность захвата. Безымянный палец чувствует и придает мышцам необходимое усилие. И, наконец, презираемый невежами мизинец. Именно этот палец дарит устойчивость всей кисти при ее многоповерхностных движениях…
Мужчина глубоко вздохнул. Порыв ветра приоткрыл дверь, впуская еще сероватый утренний свет. Нужно вставать и разводить огонь. Затем заняться размещением наследства мэтра Гальчини. И, конечно же, вспоминать его уроки и думать. А может, все же решиться и, превозмогая боль, прощупать кости руки и кисти? Конечно же, учитель запретил бы это делать. Человек, прощупывая себя, может допустить ошибку. Ведь он, подчиняясь боли, будет делать все с тройной осторожностью и с большой жалостью к себе. Другое дело, когда прощупываешь другого раненого. Пусть он орет и теряет память, но опытный лекарь (в это мгновение именно лекарь, а не палач) почувствует слабину треснувших или поломанных костей и поймет, насколько неправильно вращаются здоровые кости в поврежденных суставах. А может, и то и другое одновременно. И такое бывает.
Это его собственная вина. Вина человека. Он бросается в гущу боя, устраивает драки, лазит за медом на высокие деревья, падает с лошади, оказывается под колесами повозки… И счастье, если у него верные друзья или любящие родственники. Тогда они донесут несчастного к лекарю. И тот благодаря Господу и учителям сочленит поврежденное и вылечит.
Но это в том случае, если он действительно лекарь от Бога. И в этом должно быть счастье пострадавшего.
А к кому идти господину «Эй»? Даже став свободным, он, как и раньше, будет жить с клеймом палача. Кто из лекарей захочет помочь палачу, если даже прикосновение к его одежде считается позором на всю оставшуюся жизнь? Гальчини вот уже более года как мертв. Но живы его знания и умения. И живы они в самом господине «Эй». И только он может помочь сам себе. Но, судя по всему, это будет ужасно больно.
Насколько это будет ужасно больно, господин «Эй» понял ближе к полудню.
Все это время он был занят полезной работой. И огонь весело трещал, и травяная настойка удалась, да и вещи более-менее улеглись на свои места. Но мысль о необходимости определить, насколько повреждена рука, ни на мгновение не покидала его. Если бы рядом был мэтр Гальчини, такая мысль даже не посмела бы проникнуть в его голову. Но великого палача-лекаря навсегда скрыла земля у подножия дозорной башни – в месте, известном только его ученику. Ведь похоронить палача на освященной земле кладбища не мог позволить даже сам епископ. В любом другом месте могилу могли разорить. Ведь на покойнике была одежда и, возможно, какие-то вещи. А обнаружение могилы палача наверняка стало бы поводом для проявления людской жестокости и глупости. Кто-то захотел бы отомстить за смерть родных и близких, кто-то, находясь во власти поверий, возжелал бы иметь амулет из костей палача.
Да, Гальчини запретил бы прощупывать руку, тем более воспаленную. Но если протянуть еще день или два, может случиться так, что потом уже будет поздно пытаться правильно соединить кости. Они срастутся для того, чтобы мучить и терзать его всю оставшуюся жизнь. Или, по крайней мере, до тех пор, пока не найдется второй Гальчини, который сумеет правильно сломать их, а потом вновь соединить. Но великий учитель был далеко, скорее всего, уже в аду. А господину «Эй» еще предстояло жить. Только вот как? Здоровым человеком, полным сил и желаний, или жалким калекой, не способным себя содержать? А значит, вынужденным просить, унижаться, воровать, грабить и… окончить свою жизнь в руках палача.
Мужчина улыбнулся. Палач в руках палача. Какую еще более смешную историю может придумать человек о себе подобном? И кто?
На этот вопрос ответить проще – сама жизнь…
Наконец он решился и отправился на ранее примеченный холмик. Он был свободен от деревьев и кустов. А солнечные лучи, время от времени пробивавшиеся сквозь осенние облака, придавали ему приятный вид природного храма.
Расстелив на земле плащ, мужчина опустился на него и стал разматывать повязку.
Посмотрев на рану, он удовлетворенно улыбнулся. Черви сделали свое дело. Они сожрали мертвое мясо, а живое уже покрылось тонкой полупрозрачной кожицей. Лишенная гноя рука подсохла и из багровой стала ярко-розовой.
Сломав стебелек сухой травы, мужчина стал осторожно снимать с раны своих спасителей. Он так увлекся, что не заметил, как над ним нависла чья-то тень. Обернувшись, он увидел двух человек.
– Что это? – сдерживая отвращение, спросил тот, что постарше.
– Это, дорогой бюргермейстер, личинки большой зеленой навозной мухи, – весело сообщил его молодой спутник. – Как по мне, то рука больного выглядит не так ужасно, как вы мне рассказывали. Хотя и не видно столь полезных для выздоровления гнойных выделений.
– Гной пожирает мясо и делает кровь грязной, – мрачно произнес господин «Эй», недовольный тем, что его застали за тем, что он предпочел бы скрыть.
– Вы не правы, дорогой друг! Даже Салернская медицинская школа[13] рассматривает нагноение как часть нормального процесса заживления ран. Впрочем, я, доктор Гельмут Хорст, изучал врачевание в Парижском университете.
– В самой Сорбонне? – чуть заметно усмехнулся палач.
Молодой человек, ничуть не смутившись, продолжил:
– Уже давно прошли те времена, когда Сорбонной называли коллегию для бедных студентов. Теперь Сорбонной величают весь Парижский университет. Имя святого отца Роберта Сорбонна[14] произносят с благодарностью и студенты, и короли.
– В Парижском университете, так же как и в Салернском, предписывают лечить нагноение глаз методом подвешивания больного за ноги…
Молодой человек обошел сидящего на плаще мужчину и внимательно посмотрел на него.
– Ты учился в одной из медицинских академий? Откуда тебе известен этот метод?
– У меня был великий учитель.
– Гм-м-м… Впрочем, наш бюргермейстер кое-что о тебе рассказал. Наши ремесла разительно отличаются. Вы терзаете и убиваете, мы уберегаем и лечим. Но правда заключается в том, что мы оба имеем дело с телом человека.
Ставший рядом с молодым человеком Венцель Марцел, оглядываясь по сторонам, нетерпеливо сказал:
– У меня совсем нет времени на пустые разговоры. И я привел тебя, Гельмут, не для научных споров.
– Ну уж, конечно, бюргермейстер, вам не терпится узнать, будет ли у вас палач или проблема, – откровенно произнес молодой человек и с присущей молодости беспечностью громко рассмеялся.
Венцель Марцел недовольно огляделся и сердито фыркнул.
– Если этот человек позволит мне ощупать его руку, я смогу дать свое заключение…
Мужчина поднялся на ноги и задумчиво посмотрел на лекаря. Через несколько мгновений он решительно протянул искалеченную руку молодому человеку.
– Вот она…
Гельмут взглянул в глаза палача и почувствовал, как по его спине пробежала мелкая дрожь. Но он тут же овладел собой. Видно, не зря в свои студенческие годы днем он прилежно учился в университете, а по вечерам отчаянно пил и дрался в многочисленных харчевнях Парижа и на его кривых улочках.
Левой рукой лекарь взял больного за локоть покалеченной руки, а правой сжал запястье. Затем, отпуская и вновь сжимая сильной хваткой, прошелся по всей кисти.
– Где больше всего болело? – растерявшись, спросил Гельмут. Он никак не ожидал, что этот человек не издаст ни крика, ни единого стона. Вот только несколько крупных капель выступило на большом бугристом лбу и до невозможности расширились зрачки, что свидетельствовало о невероятной боли.
– Везде. Но мне теперь все стало понятно, – тяжело выдохнул мужчина.
– Тогда нужно зажать ладонь между двумя дощечками, туго перебинтовать и уповать на милость Божью. А еще пить теплое вино с гвоздикой и тертыми зернышками мака. Если через три дня локоть не станет бордовым, тебя любит Бог. Если ты грешник, то уже завтра станет ясно – спасет ли тебя отнятие руки. Отсутствие значимого количества гноя указывает на отмирание плоти. Но присутствие боли еще обнадеживает. В первом я исхожу из уроков моего университетского преподавателя Ги де Шолиака[15]. Во втором я опираюсь на собственные наблюдения за пациентами.
– Мэтр Ги де Шолиак – достойный лекарь. Его учение о вытяжениях при переломах достигли даже подвалов подземелья Правды. Но он заблуждается в знаниях о гное, так же как и в том, что рекомендует масло скорпиона в качестве мочегонного средства для лечения венерических болезней. Я наберусь смелости спросить: какие прогибы костей чувствовали ваши пальцы? – глядя себе под ноги, глухо промолвил господин «Эй».
– Ну-у-у, – задумчиво произнес Гельмут, – трудно сказать. Собственно говоря, я же не… Медицина не благословлена Церковью на такое вмешательство в таинство Божье, как строение тех, кого он создал.
– Мондино из Болоньи произвел вскрытие двух трупов, но смотрел глазами Галена и Авиценны [16] и ничего не прибавил к анатомическому знанию. В Париже до сего дня изучают строение человека, разрезая трупы свиней, – все так же глухо промолвил раненый.
– Ах, вот как! – вспыхнул молодой лекарь. – Я думаю, мои услуги здесь больше не нужны.
– Если вы согласитесь мне помочь, сегодня о кисти человека вы узнаете многое. Помогите спасти мою руку и… мою жизнь. Возможно, Бог ответит вам тем же добром, и даже большим.
* * *
Венцель Марцел никак не мог уснуть. Он уже несколько раз прочитал на латыни «Отче наш», «Богородица спаси» и трижды повторил «Десять заповедей Христовых». Но, видимо, в наказание за то, что, он, произнося молитвы, все же думал о мирском, сон не спешил сомкнуть его веки.
И дался же ему этот чертов палач с его медвежьим лицом и ангельским терпением! Да, ангельским. Ибо только крылатым созданиям Господь даровал неисчерпаемое терпение к болям, мукам и страданиям. Ведь многое, что приходится принимать истинно верующим, ангелы переносят на себя. Вот почему многие подвижники смело идут на пытки и казни, зная, что муки, причиняемые человеком человеку во имя Бога и с его благословения, примут на себя кроткие ангелы.
Но почему ангелы решили взять на себя боль этого господина из жуткого подземелья Правды? За что ему такое благоволение? Ему, без всякого сомнения, было больно. Не просто больно, а мучительно больно. Ведь то, что происходило на глазах Венцеля Марцела, было более чем пыткой. В подобных случаях люди кричат до онемения, рыдают до сухости глаз, мочатся и блюют.
Но при этом они связаны и находятся в полной власти тех, кто их терзает.
Но чтобы вот так, добровольно отдать себя на нечеловеческие муки и при этом не выть волком, не завывать северным ветром, а всего лишь отделаться потом на лице…
Нет, определенно ангелы приняли его боль.
…Вначале бюргермейстер решил, что ему пора в город по его бесконечным житейским делам. Он даже попрощался. Но когда Венцель Марцел увидел, как господин «Эй» раскладывает на чистом полотне множество маленьких и больших неестественно блестящих инструментов, ему захотелось немного задержаться.
День был солнечным, сухим, и лежащие на белом полотне щипчики, ножи, крючочки, буравчики и что-то еще, сверкающие в солнечных лучах, завораживали взгляд. Но вместе с тем все это вызывало любопытство и даже жгучий интерес. Ведь необычные инструменты должны соприкоснуться с телом. Не только соприкоснуться, но и войти в него.
Что же будет? Неужели можно добровольно всаживать в себя злой металл?
Дитя подземелья Правды довольно долго возился в доме у огня. Он варил в медном котелке травы и время от времени выходил к сидящим у полотна Гельмуту Хорсту и бюргермейстеру. Обращаясь к лекарю, он пытался говорить мягко и даже улыбался.
Конечно, их беседа была ученой и многое Венцель Марцел так и не понял, но то, что он услышал, было настолько познавательным и новым, что бюргермейстер невольно заинтересовался. Ведь и ему открыты многие книжные тайны, и он совсем не глупый баран, смотрящий на пастухов, которые спорят о том, как его надо зарезать. У господина «Эй» с господином лекарем часто случался спор, в котором Гельмут вначале яростно не соглашался, но затем постепенно отступал, хотя и продолжал снисходительно улыбаться.
Особенно лекарь не верил в то, что фаланги кисти так же пустотелы внутри, как и камыш, и в них можно просунуть металлические стержни, которые не дадут согнуться треснутым костям и криво срастись. Гельмут твердо стоял на том, что человек от этого сразу же умрет, а если не сразу, то металл превратится в ржавчину и соками организма будет доставлен к сердцу, а там, скопившись, задержит кровь.
– Это не просто металл, – убеждал его раненый, протягивая к солнцу тонкий стержень цвета молодого серебра. – Это железо, которое выковали в далеких восточных странах. В нем есть растертые в пыль частицы металла, что прилетели на землю с небес.
– Это посланники дьявола, – перекрестившись, заметил бюргермейстер.
– Это посланники Бога, – ничуть не смутившись, возразил господин «Эй». – Такой металл может сколько угодно лежать в воде, даже не покрываясь малейшим слоем ржавчины.
А затем началось то, что и задержало бюргермейстера.
Но лучше бы он этого не видел. Тогда он спокойно спал бы в своей кровати и не произносил бы многочисленные молитвы. Хотя и это очень важно. Чем больше молитв вознесет к небесам человек, тем больше он будет уверен, что перед ним откроется путь в божественные сады.
И все же непонятно, как этому господину «Эй» удавалось сдерживать ужасную боль.
Сначала лекарь Гельмут под руководством палача тонким ножом рассек кожу во многих местах израненной конечности. Затем лекарь стал буравить кости тонким сверлом. При этом по неопытности он дважды ошибся, так что пришлось начинать работу заново. Но господин «Эй», казалось, вовсе не чувствовал боли, хотя то, что с ним проделывал лекарь, иначе как пыткой не назовешь. Его голос, когда он объяснял лекарю тонкости проводимой операции, оставался ровным и спокойным. Он не изменился даже тогда, когда вглубь костей Гельмут Хорст стал забивать эти странные металлические стержни. И уж совсем ужасными были винты, точнее их блестящие головки, торчавшие в разрезах мышц. И кровь… Много крови.
Что же палач вытворяет с теми несчастными, которые были переданы ему в руки, если сам над собой производит такое, что и простому наблюдателю хотелось орать от страха и боли…
– О Господи, и зачем же ты позволил мне смотреть на все это! – в очередной раз переворачиваясь с бока на бок, простонал Венцель Марцел.
И все же любопытный человек, это страшилище из подземелья Правды. Может, и в самом деле его израненная рука станет служить ему, как и прежде? Тогда у бюргермейстера будет свой палач. И не просто палач, а палач, рядом с которым бледнеют другие палачи. Что уже говорить о людишках его города!
Пусть только срастутся кости. Венцель Марцел постарается правильно представить жителям Витинбурга воспитанника жестокого епископа. Старик прав – он будет смотреть с небес и удивляться полезности своего палача, которым руководит мудрый бюргермейстер.
Наутро Венцель Марцел приказал приготовить немного лишней каши. Он даже расщедрился на маленький кувшин молока и овощи. Все это предназначалось человеку, живущему в доме умершего палача. Вот только идти туда служанка отказалась. Даже после того, как бюргермейстер пнул ее по ноге своим тяжелым сапогом и, сердито сопя, поднялся к себе на второй этаж.
Стоя у полуоткрытой двери своей комнаты, Венцель Марцел еще некоторое время слушал, как его дочь Эльва успокаивает служанку. Потом появился соседский мальчишка и с готовностью, за маленький кружок колбасы, согласился отнести корзину к страшному дому. Два таких же кружка колбасы и еще кувшин с вином появились в корзине благодаря щедрости бюргермейстерской дочери.
– Ладно, – простонал Венцель Марцел. – Даст Бог, отработает…
Глава 5
Через несколько дней весть о человеке, поселившемся с позволения бюргермейстера в доме палача, разнеслась не только по городу, но и по всей округе. Вначале дом окружили вездесущие мальчишки. Впрочем, ни один из них не осмелился приблизиться к почерневшему дому ближе чем на пятьдесят шагов. За мальчишками потянулись пары влюбленных, желавшие увидеть что-либо ужасное, такое, отчего испуганная девушка с готовностью уткнется лицом в дышащую жаром грудь своего защитника. И это ничего, что сам защитник не стремился подойти поближе к ужасному. Ему этого и не хотелось. Зато он с пониманием выбирал удобное место в густом орешнике, где трудно было наблюдать за домом, но зато приятно целовать и ощупывать девичьи прелести.
Однако очень скоро молодят из орешника вытеснили пары любовников, забредшие сюда с той же целью – понаблюдать за новым хозяином дома, что не мешало им с полным сознанием и усердием отдаваться плотским наслаждениям.
Но и эти короткие дни для пар быстро закончились, так как на холмах полюбили располагаться строгие бюргеры со своими костлявыми женами и хорошо откормленными служанками. А порой несколько семей, собравшись за большим кувшином вина, вели неспешный разговор о делах мастеровых и обсуждали последние городские сплетни. При этом они с презрением посматривали на арендаторов и крестьян, которые жались у дороги и вытягивали шеи в сторону дома палача.
А сам хозяин дома не спешил развлечь любопытствующих. Лишь два раза на день он выходил на угол дома, чтобы облегчиться, набрать воды или собрать хворост. При этом он был с головы до пят укутан в огромный плащ и ни разу не сделал попытки приблизиться к своим наблюдателям.
Через две недели холмы опустели. В орешнике опять стали трещать кусты, в гуще которых слышался придавленный женский смех. А ребятня, набравшись храбрости, пыталась за всякую всячину обменивать у бюргермейстерского соседского мальчишки возможность поднести корзину к порогу страшного дома.
В конце каждой недели к дому палача гордо направлялся лекарь Гельмут. Он чинно раскланивался с теми, кто все еще торчал у интересного места, но бесед не заводил. Да и о чем может вести беседу ученый муж с каким-нибудь пекарем или колбасником? Хватит и того, что они уважительно смотрели на бесстрашного лекаря, который, по всей видимости, не боялся ни Бога, ни сатану, а не то что там какого-то палача.
Гельмут Хорст признавал себя просвещенным человеком, и все эти разгоревшиеся страсти вокруг зловещей особы палача рассматривались им с философской точки зрения. Он шел к больному, руку которого он лечил методом, еще никем не опробированным. Лекарь даже написал несколько страниц об этом, желая удивить университетских наставников своим великим мастерством и знанием. Вот только для написания этих страниц и тех, что еще будут написаны, ему пришлось переступить через свои принципы ученого мужа и подолгу беседовать со страшным господином «Эй».
Лекарь наспех осматривал руку своего необычного больного, потом удобно усаживался на его кровати и долго рассуждал на темы, казавшиеся ему интересными и важными. В первые посещения его собеседник по большей части отмалчивался, лишь иногда поправляя молодого человека там, где его размышления или полученные знания начинали печалить ученика мэтра Гальчини. Но с каждым посещением суровый палач все более и более отзывался на слова молодого лекаря. Его фразы становились длинными, а слова в них все более значительными.
Хотя Гельмут Хорст мог спорить с господином «Эй» до хрипоты и неуместных клятв, во многом он был вынужден согласиться с ним. Так, несмотря на молчаливый протест палача, молодой лекарь утверждал, что частое и обильное кровопускание – начало лечения едва ли не всех болезней. Особенно если эти болезни демонического происхождения. Также наряду с кровопусканием очень полезно уберечь больного при помощи освященных амулетов, хотя и высушенный корень мужского мандрагора весьма действенен[17]. Еще палач не соглашался с тем, что основными носителями и распространителями чумы являются евреи, на вину которых указывала и Церковь.
Зато он полностью поддержал молодого лекаря в том, что было бы меньше болезней, если бы люди омывали свои тела, как делали это древние греки и римляне. Но живущие ныне люди, никогда не слышавшие о полезности горячей воды, в силу своей лени не утруждаются даже раз в году смыть с себя грязь. Разве только дождь или нужда перейти вброд реку заставят их сделать это. Да и Церковь постоянно указывает на презренность человеческого тела и святость души. Ведь сам святой Иероним не видел надобности в каких-либо омовениях после принятия крещения.
В последний свой приход молодой лекарь долго и с увлечением рассказывал об Арнольде из Вилановы, знаменитом лекторе в Монпелье, который придумал спиртовой настой трав. С этим полезным действием палач согласился. Потом замолчал и после довольно продолжительной паузы, странно вздохнув, вымолвил:
– Этот же Арнольд из Вилановы написал полезную и нужную книгу о ядах. Но мой учитель часто смеялся над тем, что достойный ученый в эту же книгу поместил описание женских болезней. Ибо написано Арнольдом: «…поскольку женщины – ядовитые создания». Это мэтр говорил почти всем женщинам, что оказывались в его руках.
– Вы пытали и казнили многих женщин. Как пытают женщин? – оживившись, спросил молодой человек и придвинулся к палачу.
Но воспитанник подземелья Правды посмотрел на него так, что у лекаря язык прилип к небу.
К обеду следующего дня Гельмут Хорст появился в доме бюргермейстера как раз в тот момент, когда Венцель Марцел усаживался за обильно уставленный стол.
За долгие шесть лет обязательного для всех артистического факультета[18], а потом пяти лет медицинского Гельмут так остро отточил свой нюх на всякого рода дармовое пропитание, что о нем стали ходить легенды среди студентов. Он не раз таскал друзей по разным, только ему известным местам, где проходили пирушки и банкеты, а также домам сердобольных старушек и еще бог знает куда, где были накрыты столы.
Однако наряду с приятным моментом – набить желудок вкусной пищей – был и не очень приятный – компания, в которой происходит этот праздник живота.
В нынешний свой приход, как и в прошлый, Гельмут Хорст с кислой миной на лице посмотрел на худющего отца Вельгуса, который сидел, склонившись над столом, подобно черной вороне зимой. Рядом с легкой грустной улыбкой на губах восседал в своем кресле Венцель Марцел. Для его желудка, привыкшего к хорошему обеду, приход настоятеля городского храма был событием не из приятных. В недавнее свое посещение отец Вельгус, скользнув взглядом по накрытому столу, потребовал убрать с него все мясное, в том числе и печеных птичек, этих сладких иволг и мухоловок. И что печальнее всего, велел унести чудесное итальянское вино, которое так возбуждает аппетит и вызывает желание мечтать и даже мыслить.
Сухой желтый указательный палец святого отца, которым тот тыкал на неподобающие пятнице продукты, Венцель Марцел запомнил на всю оставшуюся жизнь. Отец Вельгус, до глубины души проникшись первохристианскими учениями, неукоснительно следовал этим правильностям, доводя себя до самоистязания.
Тем не менее нужно было признать, что приход священника был полезен и даже нужен. В течение прошлого обеда отец Вельгус обстоятельно обсуждал мирскую жизнь города, узнавал о потребностях бюргеров и вслух проговаривал то, что собирался произнести в воскресной проповеди.
Вот только бюргермейстеру более нравилось в последнее время слушать молодого лекаря. Гельмут Хорст забавно и интересно рассказывал о студенческих годах, об ученых лекциях и, конечно же, о своих и чужих проделках. Было приятно, внимая словам молодого лекаря, оказаться среди ученых мужей, веселой пирушки, а то и на сеновале с женушкой молочника.
Ах, молодость, молодость… Дни твои быстротечны, зато память о них приятна и вечна.
К тому же в каждый свой приход Гельмут Хорст докладывал бюргермейстеру о процессе выздоровления господина «Эй». Вот только отец Вельгус…
Едва святой отец услышал об ученике мэтра Гальчини, он тут же стал неистово креститься и отплевываться. Затем навсегда запретил говорить в его присутствии о том, чьи руки касались козлиного зада самого сатаны.
Сегодня отец Вельгус был ограничен во времени. Ему предстояла ночная служба в аббатстве Святого Якова. Поэтому, поговорив не более часа и на то же время растянув небольшую миску постной каши, наставник городского храма произнес молитву и величественно удалился, унося с собой запах подвала и сальных свечей.
Венцель Марцел облегченно вздохнул и откинулся на спинку своего деревянного кресла. Затем по привычке – мясного к столу не было подано – он вытер руки о фламандскую скатерть и спросил:
– Как состояние вашего больного? Уже прошло полтора месяца. И времени ушло много, и пищи, и вина. Что скажешь, лекарь?
Молодой человек медленно вытер руки все о ту же дорогую фламандскую скатерть, расчесал свою скудную бородку и несколько неуверенно ответил:
– Рука стала такой же, как прежде. Припухлость полностью спала, но цвет кожи все еще остается неровным. Особенно сильная багровость возле тех мест, которые пронизаны железом. О состоянии его здоровья я мог бы сказать более точно, если бы смог взглянуть на его мочу. Именно по цвету и прозрачности мочи можно поставить правильный диагноз почти по всем заболеваниям. А я не скрою, что в этом знании я достиг большого мастерства и понимания.
– Так что, ему нужен мой ночной горшок, чтобы собрать мочу? – с некоторым раздражением спросил Венцель Марцел.
Молодой лекарь виновато улыбнулся.
– Раньше я этого с него не спрашивал. А вот вчера спросил.
– И что же…
– Он ответил, что для такого осмотра моча нужна свежей. А свежей мочи он дать не может, ибо она нужна ему сразу же после выхода.
Бюргермейстер удивленно вздернул брови и осведомился:
– И для чего же?
Гельмут Хорст пожал плечами.
– Он объяснил, что в такой моче хорошо растворяются его порошки.
– И?..
– Он быстро размешивает свои порошки и выпивает мочу. Всю до капли.
Венцель Марцел брезгливо поморщился.
«Воистину прав отец Вельгус. Они там, в своем подземелье Правды, действительно держали сатану за его козлиный зад. Наверное, уже никто и никогда не узнает правду об этой зловещей “Правде”».
Бюргермейстер кликнул служанку и велел ей подать большой кувшин итальянского вина. Гельмут Хорст довольно потер руки и придвинул свой табурет ближе к столу.
* * *
Среда выдалась на удивление скучной.
Венцель Марцел все утро провел в своей комнате, пытаясь разглядеть буквы и вникнуть в мудрые высказывания философа Плутона. Но мудрость древнего грека никак не воспринималась его разумом.
«Наверное, все же лучше читать ученые книги после обеда», – решил бюргермейстер и выглянул в окошко. Из-за прошедшего ночью дождя улицы города вновь покрылись грязью, и она вязким месивом холмилась между тонкими ручейками.
«Опять придется обувать деревянные башмаки», – вздохнул Венцель Марцел. Только на их высокой подошве можно было пройти по улице, не испачкав вязаных чулок.
Уже выходя на Ратушную площадь, бюргермейстер едва не пострадал от вылитых со второго этажа помоев. Правильно было бы подняться и выяснить, кто же это чуть не испортил костюм первого бюргера города. Но, как и всегда, окажется, что это вина неразумной девчушки или совсем крохотного мальчишки. Да и нет такого городского закона, который бы запрещал освобождать дом от отбросов, гнилостной воды или людских испражнений.
«Нет, этим нужно серьезно заняться. Ведь додумались те же парижане издать закон, требующий, чтобы всякий, кто выливает помои, дважды крикнул об этом в окно. Хотя и это не слишком помогло. Нет, нужно придумать что-то более действенное», – решил Венцель Марцел и порадовался тому, что в этот скучный день появилась тема для размышлений о полезном.
В комнате, находившейся перед залом собраний, в два ряда стояли такие же деревянные башмаки, в которых пришел и сам бюргермейстер. Все они были облеплены вонючей грязью.
Пересчитав башмаки, Венцель Марцел удовлетворенно кивнул. Все члены городского совета и писари были на месте. Интересно, чем же они занимаются в отсутствие бюргермейстера?
Едва Венцель Марцел вошел в зал, ему все сразу стало ясно. И члены городского совета, и хитрые писцы, и даже мальчишка-гонец чинно сидели на местах, пытаясь согнать со своих лиц все ту же скуку, что мучила и самого бюргермейстера. Хорошо, что не играют в кости или потягивают пиво. Видно, стоящий на страже мальчишка-гонец вовремя заметил приближение Венцеля Марцела.
Слегка кивнув в ответ на поклон всех присутствующих, бюргермейстер занял свое место за высокой кафедрой.
Члены совета и писцы тоже уселись, с надеждой уставившись на первого среди них.
– Грязь. Это вечное покрытие наших улиц. Это вечное проклятие многих городов…
Бюргермейстер начал ровным голосом и тут же заметил, как поскучнели лица собравшихся. Да, он говорил то же, что и на прошлой неделе, в прошлом месяце, в прошлом году. Эта тема уже изрядно поднадоела членам городского совета, но никто не смел сказать об этом бюргермейстеру. Ведь он и сам знает, что бороться с грязью невозможно. И не только потому, что в городской казне напрочь отсутствовали деньги даже на более важные дела. И не потому, что горожане жили вековой привычкой гадить за порогом собственного дома. Дело еще и в том, что никто и никогда не предложил что-либо правильное и разумное. Ведь сам Венцель Марцел рассказывал, что почти двести лет тому назад французский король Филипп II Август, привыкший к вони в своей столице, упал в обморок, когда стоял у дворца и проезжающие мимо него телеги взрыли уличные нечистоты.[19] И он же обещал золотые горы тому, кто спасет город от вонючей грязи. И что с того? Как были улицы клоаками, так и остались по сей день.
А Венцель Марцел известен всем своим чувствительным носом. Вот и желает высказаться. А потом после длинной речи будет выпытывать у всех членов совета разумное решение. А что разумного можно предложить, если даже такая голова, как у бюргермейстера, ничего не в силах придумать. Вот Венцель Марцел и разглагольствует сколько ему угодно. Но, видит Бог, ему сегодня скучно. Скудный урожай этого года уже собран и почти весь продан. Проданы лучшие товары, что изготовили кузнецы, ткачи, кожевники, и торговать больше нечем. Хватит ли денег и запасов до весны? Вот это вопрос, на который трудно ответить. А если попробовать, то становится скучно. Скучно и страшно.
Вскоре бюргермейстер почувствовал усталость. Она наваливалась на него каждый раз, когда ему становилось уж совсем неинтересно. Все слова, что он произнес сейчас, уже давно произнесены. И произнесены напрасно. Сейчас следует выслушать…
Но вдруг дверь с грохотом распахнулась. В зал собраний вошел лекарь Гельмут Хорст. Не затруднив себя разуться, он простучал грязными деревянными башмаками по гулким плитам зала и остановился напротив Венцеля Марцела.
– Бюргермейстер, вашим горожанам нужно ваше участие. Дело важное и безотлагательное.
В душе Венцеля Марцела вспыхнул огонек.
– Да, да. Я сейчас. – Он сошел с кафедры и, бросив строгий взгляд на членов городского совета, громко крикнул:
– А вы думайте, думайте!..
На ступенях ратуши бюргермейстер обернулся и уставился на молодого лекаря.
– Надеюсь, это не пустяк.
– Да уж, какой пустяк. Вон, рыдает Зельма, жена угольщика Зигира. А сам Зигир сейчас подговаривает соседей помочь его горю.
– И в чем же его горе?
– Бюргермейстер, нам лучше поспешить. А по пути я расскажу все то, что недавно узнал от Зельмы. Хотя она женщина и трудно объясняется, я все же понял основное.
– И куда мы спешим? Может, нужна стража?
Гельмут Хорст задумался, а потом развел руками и сказал:
– Решайте сами. Мы идем в дом палача.
– В дом палача? – воскликнул бюргермейстер и тут же, взяв себя в руки, заявил:
– Пока идем к городским воротам, рассказывай. У ворот всегда есть четверо стражников.
Скользя по буграм грязи, двое мужчин поспешили к северным городским воротам.
– Что там? – нетерпеливо спросил Венцель Марцел.
– Да что там… – молодой лекарь рассмеялся. – Наверное, труд мой сожгут вместе с домом. Если наши бюргеры уважают угольщика Зигира.
– Говори же наконец, – сердито засопев, потребовал бюргермейстер. Сейчас он прыгал на одной ноге, вылавливая в луже соскользнувший с ноги башмак.
– А все эти мальчишки. Вы же знаете наших городских шалопаев. Вчера после полудня они не придумали другого занятия, как устроить состязание, кто первым попадет камнем в дверь этого дома. Начали издалека. Но неудачно. Стали подходить все ближе и ближе. С пятнадцати шагов уже любой мальчишка может попасть в дверь. Вот и попали.
– Ну и что?
– Что, что… Нашему господину «Эй» эта игра пришлась не по нраву, и он вышел на крыльцо. Мальчишки в страхе пустились бежать.
– Неужто он бросился за ними?
– Нет. Он стоял и смотрел им вслед.
– И поэтому должен сгореть еще крепкий дом, – ударив себя по коленкам, подытожил бюргермейстер.
– Среди этих мальчишек был малыш. Лет четырех, может, пяти. Так вот, этот мальчишка увязался за старшими, и когда вся эта стая бросилась бежать, то и он в страхе кинулся за ними. Но не пробежал и тридцати шагов. Упал и не поднялся.
– Он умер?
Гельмут Хорст неуверенно пожал плечами.
– А что мальчишки? – нахмурившись, осведомился бюргермейстер.
– А мальчишки… Каждый из них до вечера прятался в своем тайном месте. И лишь поздно вечером они разошлись по домам.
– И что же, угольщик Зигир и его женушка не заметили отсутствия малыша?
– В таких бедных семьях, как у Зигира, малыша могут и не заметить, если он не просит есть. А у них семеро ртов. К тому же вечером угольщик устроил пьяный скандал. Так что о малыше вспомнили только за завтраком. Пошли по соседским ребятишкам. Вот и выяснили…
– Что выяснили? Незачем рожать более того, что можешь прокормить.
– Да, это так. Вот только эту женщину жаль. Я едва смог ее расспросить. Наверное, она все-таки переживает за малыша. Хотя он у них и седьмой.
– Ладно, посмотрим на мальчишку, если только его волки в лес не утащили. Да и там придется поискать. Вот и ворота. Зови трех стражников, пусть следуют за нами.
* * *
Господин «Эй» уже третий раз за этот день вышел на ступеньки своего дома. Внутренняя и обоснованная тревога толкала его за дверь. И сдался ему этот глупый мальчишка! Однако он тоже хорош. Пусть уж лучше мальчишки разнесли бы ему дверь камнями. Нет, нужно же было выйти и найти себе проблему.
Хотя, к слову, он поступил по-божески, как истинный и добрый христианин. Да и по-человечески правильно. Вот только что будет дальше?
Сейчас он стоял на ступенях дома и так же, как и вчера, долго колебался, не зная, что делать дальше.
Но вчера все же было проще. Что-то всколыхнувшееся в душе толкнуло его к телу неподвижного мальчишки. А как мог поступить взрослый, разумный мужчина, увидев детское тельце, долго и неподвижно лежащее на мокрой земле?
И он стал подходить. Очень медленно подходить. Все еще надеясь, что кто-то из глупых мальчишек вернется. Может, даже побежит за родителями или кем-нибудь из старших. Но мальчишки больше и носа не показывали.
И тогда господин «Эй» склонился над малышом.
Тот дышал хрипло, с присвистом, все реже и реже. Волна жалости и грусти растревожила душу, обожгла сердце. Ему сразу все стало понятно. Шею малыша с левой стороны огромным бурым яйцом давила смертельная опухоль. Это она и прибавившийся к ней страх обездвижили тельце ребенка. Скоро он умрет и окажется в раю. Ведь путь детских душ направлен только в райские врата. Хотя бы в этом Бог справедлив и понятен. И ему, господину «Эй», нужно было умереть в младенчестве. Ведь тогда бы не пришлось пережить столько горести и не совершить столько грехов.
Он выпрямился и сложил в молитве руки. Захотелось произнести per Bacco[20] и перекрестить отходящую душу, ведь ребенок отправлялся в рай. Мужчина уже произнес первые слова отходной молитвы, как вдруг глаза малыша широко распахнулись. В их глубине читалась мольба. В уголках детских глаз набухли хрустальные слезы и тихими ручейками поползли по щекам.
Господин «Эй» крепко прикусил нижнюю губу и, всхлипнув, зашмыгал своим большим уродливым носом. В его огромной голове затуманилось, и он поднял малыша на руки.
Затем, проклиная себя последними словами, он едва ли не бегом поспешил к своему убежищу…
Он так и просидел у стола всю ночь, тупо уставившись на окровавленный нож и ежесекундно ожидая человеческого воя и зарева факелов. И только когда в маленькое окошко, затянутое бычьим пузырем, постучался осенний мглистый рассвет, мужчина тяжело поднялся и вышел за дверь.
Но ни людей, ни их перекошенных в гневе лиц, ни колышущегося огня господин «Эй» не увидел. Он простоял долго. Затем, еще раз удивившись человеческому безразличию, вернулся к крепко спящему мальчишке.
За два часа до полудня мужчина сходил к ручью за водой и на обратном пути долго смотрел в сторону городских ворот. Так ничего и не поняв, он пожал плечами и принялся готовить на огне свои сложные горячие напитки.
И только к полудню господин «Эй» услышал голоса приближающихся людей. Он сразу же вышел им навстречу и увидел молодого лекаря и бюргермейстера, который, сердито ругаясь, требовал от трех стражников идти прямо к дому умершего палача.
Мужчина по привычке скрестил руки на груди и спокойно стал дожидаться того, что преподнесет ему судьба.
Остановившись в пяти шагах от окаменевшей фигуры господина «Эй», Венцель Марцел, сдерживая дыхание, спросил:
– Где тело мальчишки?
Палач молча толкнул дверь, приглашая войти внутрь дома.
– Ждите здесь, – велел стражникам бюргермейстер и боком прошел в дверь.
За Венцелем Марцелом последовал молодой лекарь.
В проеме двери, в отблесках жаркого огня, они сразу же увидели маленькое тельце ребенка, лежащее на краю кровати.
– Бюргермейстер, – окликнул первого бюргера Гельмут Хорст и указал на окровавленный нож на столе.
– Он спит. Хотя уже должен был проснуться, – раздался глухой голос палача подземелья Правды.
– Спит? – выдохнул Венцель Марцел.
– Спит, – рассмеялся молодой лекарь. – Мальчишка спит, а горожане готовят факелы.
– Я ждал их еще вчера, – выдавил господин «Эй». – Я ошибся. Разрезая, думал о худшем. Но это всего лишь клещ, который устроил себе глубокую нору в шее мальчишки. Я вычистил эту нору. Мальчишка проснется и через два дня опять сможет бросать камни в эту дверь.
– Только и всего шума. Всего лишь клещ, – заулыбался Гельмут Хорст.
– Не думаю, что все так просто, – задумчиво отозвался бюргермейстер. – Шум только начинается. Может быть, этот человек сделал доброе дело, но вряд ли угольщик и его соседи смогут понять доброту палача.
– Бывшего палача, – поправил молодой лекарь.
– Бывшего палача не бывает. Хорошо было бы поставить мальчишку на ноги. Только эта кровавая повязка на горле… Но я знаю, как правильно сделать. – Венцель Марцел поправил свою лисью шапку и посмотрел на господина «Эй».
Тот подошел к своим баночкам в углу дома и, подняв одну из них, приблизился к мальчишке. Затем он откупорил баночку и поднес ее к носу малыша.
Ребенок вздрогнул, открыл глаза и, увидев склонившихся над ним мужчин, тихо заплакал.
– Проснулся. Это уже хорошо. – Венцель Марцел довольно потер руки. – А сейчас все в Ратушу. Да простит нам Господь нашу ложь. Если ложь во спасение жизни людей, то она уже не греховна.
* * *
В пятидесяти шагах от городских ворот бюргермейстер остановился.
– Поступайте так, как я сказал, – строго произнес Венцель Марцел и, насупившись, внимательно посмотрел на стражников. – Особенно это касается вас, олухи. Или сделаете так, как я сказал, и вечно будете об этом молчать, или сейчас толпа переломает вам кости, а я сотру их в жерновах.
– Они все равно проболтаются. А горожане нам не поверят, – тихо вставил Гельмут Хорст, который держал на руках малыша.
– Я знаю, – сухо ответил бюргермейстер. – Это будет потом. Но сейчас главное – не дать разгорячиться этим людишкам. Пошли…
Их сразу заметили, но только толпа, подчиняясь законам скопления, все еще не набрала силы падающего камня. Однако же чем ближе подходил бюргермейстер и те, кто его сопровождал, тем больше подробностей видели стоявшие впереди.
– Это бюргермейстер…
– А это мальчишка. Он на руках у лекаря Хорста. Он жив…
– А это что?
– Повязка на его шее… Она в крови.
– В крови, в крови…
– Смотрите, между стражниками тот самый человек… Который живет теперь в доме умершего палача.
– Это он гнался за мальчишками. Это он терзал малыша.
– Он бы его убил, если бы не наш славный бюргермейстер.
А из задних рядов, с жадностью ловивших выкрики передних, уже неслось:
– Убийца… Убийца детей… Смерть ему, смерть…
Над толпой повисла грозовая туча гнева, подсвеченная десятками факелов. Самые смелые выбежали вперед и стали поднимать камни. Несколько из них уже полетели в незнакомца, названного убийцей. Стражники тут же сомкнули щиты, отражая все нарастающий каменный дождь.
– Остановитесь, мои горожане! – громко крикнул Венцель Марцел и трусцой направился к звереющей толпе. – Все хорошо, ребенок жив. Он просто заблудился в лесу. Потом наткнулся на сук. Но лекарь Хорст перевязал его, и теперь с ним все хорошо. Слышите меня? Это говорю я, ваш бюргермейстер.
– Да, с малышом все в порядке, – улыбаясь, подтвердил молодой лекарь.
К нему навстречу уже бежала рыдающая мать мальчишки.
– Нет, нет! – пытаясь остановить ее, лекарь вытянул вперед руку. – Малыш потерял много крови. Я отнесу его в дом бюргермейстера, где есть хорошая пища и молоко. А у тебя, женщина, есть в доме хорошая пища и молоко?
Несчастная женщина, рыдая и целуя руки сынишки, отрицательно замотала головой.
– Вот видишь… Твой сын пробудет у бюргермейстера несколько дней.
– Да хранит Бог нашего доброго бюргермейстера! – закричала женщина, и ее возглас подхватили те, что стояли ближе.
Пошатывающийся угольщик обнял жену за плечи. Он пьяно улыбался беззубым ртом и пытался что-то сказать бюргермейстеру.
Венцель Марцел брезгливо поморщился и со вздохом сунул в руку отца большую серебряную монету.
– Выпей еще пива. Теперь уже с радости. И друзей не забудь угостить. Кто с ним – идите скорее. Пиво у Тома-пивовара сегодня крепкое и тягучее.
– Слава, слава нашему доброму бюргермейстеру! – раздались со всех сторон голоса, по большей части мужские.
Напряжение спало. Венцель Марцел облегченно выдохнул. Он уверенным шагом прошел в ворота, возглавляя толпу теперь уже радостных горожан. Согласно его наставлениям следом шел лекарь Хорст с мальчиком на руках, а за ним, в нескольких шагах, – виновник возмущения под защитой щитов стражников.
Из окон вторых и третьих этажей высовывались зеваки и, мигом разобравшись в происходящем, по-доброму улыбались и выкрикивали здравицы славному бюргермейстеру.
Венцель Марцел осторожно осмотрелся по сторонам. За ним продолжала следовать толпа, но в ней уже почти не осталось мужчин. А те из женщин, что шли по бокам от стражников, то со страхом, то с ненавистью поглядывали на человека, которого совсем недавно называли убийцей.
Да и самому бюргермейстеру хотелось заглянуть под его огромный капюшон, чтобы понять, какие чувства отражаются сейчас на лице господина «Эй». Если уж быть справедливым, то нужно было славить его – спасителя глупого мальчишки. Но так уж видно на роду у него написано, что все хорошее и радостное должно обходить этого человека. Зато беды и гнев людской липли жирными комками.
И все же было до глупости интересно заглянуть под капюшон этого человека…
* * *
Венцель Марцел рукой указал на центр зала собраний и произнес:
– Ждите здесь…
Затем он кивнул старшему писцу и удалился с ним в подвал, где хранился архив города. Члены городского совета с нескрываемым любопытством уставились на стоящего в центре большой комнаты человека в широком плаще в окружении трех стражников.
«Да, с нашим бюргермейстером не приходится скучать», – подумали многие из них. По крайней мере, те, с кем рядом не стояла кружка с пивом.
Прошло довольно много времени, прежде чем вернулся старший писец и, отпустив стражу, увел мужчину в плаще в архив.
В свете трех оплывших свечей Венцель Марцел закончил маленьким ножом скрести пергамент и, довольный собой, посмотрел на господина «Эй».
– На этом пергаменте изложены твои обязательства перед городом Витинбургом как служащего городского муниципалитета. Обязанности палача. Я должен вписать в него твое имя. Назови его.
Мужчина сбросил с головы капюшон и надолго задумался. Нет, конечно же, он помнил свое имя. Хотя по имени к нему никто не обращался уже более десяти лет.
– Я хотел бы прочесть, – тихо сказал он.
Бюргермейстер нехотя протянул пергамент.
– Я помню: ты умеешь читать.
Мужчина приблизил пергамент к свече и надолго застыл над ним. За это время даже малограмотный смог бы дважды, а то и трижды прочитать документ, но господин «Эй» продолжал молчать. Его лицо оставалось бесстрастным. Наконец он вернул бюргермейстеру пергамент и все так же тихо сказал:
– Здесь много такого, что мне, как палачу, непонятно.
– А что здесь не понять? – рассердился Венцель Марцел. – Это там у тебя в подземелье Правды было много работы. А наш город маленький. Мы не ломаем кости и не рубим головы ежедневно. А плата твоя должна зависеть от непосредственного исполнения наказания. За каждую казнь на виселице или на плахе ты будешь получать по пять пражских грошей. Кроме того, палачу достается все, что надето на казненном ниже пояса. Я не обещаю, что казни и пытки будут происходить настолько часто, что ты сможешь на это жить. Вот почему в этом документе оговорены другие работы, выполняемые палачами во многих городах Европы. К тому же скажу тебе, что этот пергамент я лично купил у писца города Аугсбурга. И тамошние палачи уже много столетий строго выполняют свои обязанности перед городом как служащие муниципалитета.
– Мне понятна забота города о выгребных ямах или уборка улиц от дохлых и бродячих животных…
– И вообще о чистоте города, – быстро вставил бюргермейстер.
– …но что касается надзора за честной торговлей на рынке города…
– Не только надзора, но и взимания платы за товары, выставленные на рынке. В воскресный день такой сбор будешь взимать ты – лично. Он должен быть полезен городу и не разорителен. Такой, чтобы купцы стремились торговать в нашем городе. И одновременно знали, что за этот сбор они получают надежную охрану своим товарам и обеспечивают себе защиту от обмана. И за это ты имеешь право приобрести за полцены такое количество зерна, которое можешь унести в руках. Вот тебе выгода.
– И осуществлять надзор за городскими шлюхами и взимать с них еженедельную плату?..
– А также отвечать за их поведение перед городскими властями. В нашем городе их немного. Они живут в доме старой Ванды. Это совсем ничтожная работа. И за нее не такой уж и строгий спрос. А вот если ты пропустишь в город прокаженного, то это весьма серьезный проступок и наказание за него будет тяжелым. Так что спать тебе много не придется. Ты взялся обсуждать все пункты, – сердито засопел бюргермейстер, – хотя ты не в том положении, чтобы это делать. Посмотри на себя. Ты ведь однорукий. И только я согласен дать тебе возможность честно заработать кусок хлеба. И не забывай, что при правильном подходе к своему ремеслу ты можешь уже очень скоро стать обеспеченным человеком. Ведь я могу прикрыть глаза на обычные шалости палача. На такие, как, например, торговля снадобьями, продажа частей тела казненных. А ты должен знать, как дорого платят за «руку славы»[21]. И за куски веревки, на которой болтался казненный. Я все это хорошо знаю. От меня ничего не скрыть. Но остерегайся. Все, кто желает такое, маги и алхимики, – слуги дьявола. И серебро их – от дьявола. А вот изгнание дьявола причинением боли, на которое ты очень способен, – это дело, угодное Богу и Церкви. И если ты пыткой заставишь демона покинуть тело больного, то получишь дополнительную плату.
– Мне не нужны такие деньги, – глухо промолвил господин «Эй».
– Значит, все они пойдут в казну города. И в этом от тебя польза. Еще ты получишь деньги на новое платье. Особое платье, по которому тебя будут узнавать издали. Узнавать и не мешать жить и выполнять свои обязанности. Я больше не хочу с тобой ничего обсуждать. Я с тобой и так много говорил. И все потому, что моя дочь… Что ты для моей дочери… Да, и еще… Мальчишку в своем доме более двух дней я держать не намерен. Зачем мне лишний рот? Лекарь Хорст попытается вдолбить малышу о его ночной прогулке по лесу. Но как все будет на самом деле, только одному Господу известно. Мальчишки глупы и разговорчивы, если старшие проявляют к ним слишком много внимания. Будет ли угольщик и его жена счастливы оттого, что тела их сына коснулся нож палача? Будут ли они мстить или требовать справедливого суда? Кто знает этих людишек. Добрые дела уж очень часто имеют печальные последствия. Помни об этом, палач!
Последнее слово бюргермейстер почти выкрикнул. Нет, господин «Эй» не содрогнулся и не испугался. Он только склонил голову.
– Мое имя Гудо. Гудо из Тюрингии…
– Вот и хорошо, – улыбаясь, вымолвил Венцель Марцел и стал старательно вписывать названное имя на то место, что выскребал на пергаменте.
Что ж, весьма удачно. Имя нового палача как раз вписалось на место имени умершего палача. Как хорошо все получилось… Хорошо бы, чтобы и дальше все было так, как задумал Венцель Марцел. Но что будет на самом деле, это только Господу известно. Только в этом правильность для смертных.
* * *
– Когда будет готова твоя одежда, глашатай на Ратушной площади объявит о твоем вступлении в должность палача. И тогда с тебя будет спрос. Строгий и ежедневный. – Венцель Марцел перевел взгляд с огромного мужчины в плаще на портного и осведомился:
– Гальси, ты успеешь за два дня пошить платье палача?
Мастер Гальси неуверенно посмотрел на обратившегося к нему бюргермейстера и, шмыгнув носом, ответил:
– Мне еще не приходилось шить для палача. Даже не знаю… Для старого палача шил мастер Гули. Через полгода он умер.
Венцель Марцел нахмурил брови.
– Городская казна, несмотря на ее скудость, выделяет деньги на пять локтей сукна, работу мастера и двух подмастерьев. Или у тебя столько работы, что ты не спишь по ночам?
– Этого я не скажу.
– Так в чем дело?
– Я мастер с хорошей репутацией. Я шью дорогие одежды для лучших людей города и даже для благородных господ. Обратятся ли они ко мне, если узнают, что мои руки касались этого… – портной замялся и с беспокойством посмотрел в сторону палача.
– Ему не нужно благородное платье, и совсем нет необходимости подгонять по телу швы. Главное, чтобы ему было не тесно. И важно, чтобы его узнавали издали, – раздраженно произнес бюргермейстер и встал с предложенного ему ранее табурета. – Или мне отправить деньги к портному-еврею?
Мастер Гальси опять шмыгнул носом и посмотрел в дальний угол, где в очаге второй день не разводили огонь.
– Что ж, работа есть работа. Тем более, что работа от магистрата города. Я готов.
– То-то же. – Венцель Марцел опять уселся на табурет.
– Что прикажете изготовить? – Портной задумчиво почесал редкую бороденку.
Этот простой вопрос заставил надолго задуматься и самого Венцеля Марцела.
Какая правильная мысль была у мудрого бюргермейстера! При этом еще и почерпнутая из книг и жизни многих городов. Палач должен быть в особой одежде. Ведь он особый человек! Он так же возвышается над остальными людишками, как и сильные мира сего. Папа Римский, император, да и сам Венцель Марцел в своем маленьком мирке. Они решают, жить или не жить. А палач не решает, он забирает жизнь, ибо наделен властью таким страшным правом. Он является тем самым человеком, который согласился убивать других от имени закона. Только глава государства имеет право распоряжаться жизнью и смертью своих граждан, и только палач это право применяет.
И все же, как бы близко ни стоял он от вершителей, палач никогда и никому не ровня. В первую очередь, в силу своего бесчестного ремесла. О какой чести может идти речь, когда вопреки слову Божьему «любить» человек поступает наоборот – убивает, хотя и имеет на это законное основание? И даже если он не проклят людьми, в их глазах он всегда бесчестен. Ибо нет чести в том, кто нарушает заповеди Господни, и главную из них – не убий!
Даже прикосновение «бесчестного» само по себе бесчестящее. Тот, кто побывал под пыткой или на эшафоте, если он был оправдан или помилован, никогда уже не мог вернуть себе доброе имя. Потому что побывал в руках палача. А случайное прикосновение, тем более удар или проклятие, слетевшее с уст палача все равно где: на улице, в трактире, на площади или в открытом поле, – были губительны для чести, а значит, и для всей судьбы человека.
Вот почему и простой крестьянин, и благородный рыцарь сторонились кровавого ремесленника. Вот почему любой человек имеет право издалека видеть того, к кому он не желает приближаться, так как считает это ниже своего достоинства и данных ему прав. Ведь не позволяют же достойные бюргеры приблизиться к себе на улице презираемым и преследуемым. Тем же varnde freulin[22], фиглярам-актерам, бродягам и попрошайкам, евреям, сумасшедшим и прокаженным. И для каждой из этих групп людей предписаны особые, узнаваемые одежды.
Отец Венцеля Марцела, а позднее и он сам, став бюргермейстером, очень много сил и внимания уделили этому вопросу. И если иногда по улицам Витинбурга ходят бродячие девки, то – по примеру городов Берна и Цюриха – их можно отличить по красным шапочкам и разрезам платья до середины бедра[23]. Если в город прибывает труппа бродячих артистов, то все они вне представлений должны облачаться в домино[24]. Евреи должны иметь желтые полосы на своих одеждах, бродяги обязаны носить короткие оборванные плащи. А вот прокаженные и сумасшедшие обшиты колокольчиками, чтобы люди могли не только видеть бордовые квадраты на их плащах, но и слышать издали предупреждающий зловещий перезвон.
«Значит, и мой палач должен быть узнаваем, понимаем и…» – Венцель Марцел едва не подумал «уважаем». Но вовремя спохватился.
Вот только какого цвета должна быть его одежда?
В Париже издавна палачи носили одежды синего цвета. Да и покойный палач Витинбурга остановился на этом цвете. Оно и понятно, как трудно правильно подобрать цвет ремеслу муниципального убийцы. Ведь красный цвет – символ богатства, силы, ярости и крови. Зеленый означает весну и молодость. Желтый всегда был цветом трусов и проституток. Черный приличествует благородству, а белый – чистоте и невинности. Хотя тот же синий цвет более подходит под определение доброты. Но тут философия сложная: работа палача – добро или зло?..
Для этого у каждого свои глаза и совесть. Для висельника, у которого палач выбивает из-под ног опору, он, конечно же, смертельное зло, а для тех, кого он навеки освободил от этого разбойника и убийцы, должно быть добром.
Пусть будет синий.
С цветом понятно. Тем более, что в самом Витинбурге и его окрестностях бюргеры и крестьяне не жаловали синий цвет. Ведь его можно было получить только на дорогих шерстяных тканях, которые пропускались через валки, предварительно смоченные мыльным или кислым раствором. Лишь тогда ткань прекрасно принимала сок удивительного цветка, называемого вайдой! Удивительного оттого, что сам цветок желтый, а его сок делает ткань синей.
Крестьяне и арендаторы почти всегда ходили в некрашеных домотканых таппертах[25]. И лишь по праздникам и на богослужения надевали ярко окрашенные труакары[26] или гарнаши[27].
А вот горожане были более придирчивы к своей одежде. Оно и понятно. Им ежедневно приходилось сталкиваться с покупателями, заказчиками, гостями и, самое главное, с соседями.
Можно было даже говорить о том, что бюргеры были придирчивы к одеждам и разбирались в них не хуже, чем благородное сословие, состоящее из баронов, графов, маркграфов и даже самого императора, а также их прекрасных и таких недоступных дам.
Когда-то, еще при деде Венцеля Марцела, мало заботились о нарядах. И даже разница между женской и мужской одеждой выражена была не так явно, как в пору его бюргермейстерства.
В те далекие времена носили блио[28]. Только у мужчин блио было короче – по икры. Тогда как женское достигало земли, благодаря чему у прекрасных дам появилась привычка придерживать при ходьбе часть подола. А еще в сундуке Венцеля Марцела хранилось старинное бабушкино платье упеленд, в свободную складку и с широченными, в рост человека, нижними частями рукавов.
Но для мужчин такое платье годилось разве что под кольчугу, да и надевать его под тяжелые доспехи было неудобно. Постоянные войны требовали новых доспехов, и на смену цельной металлической кольчуге с ее монолитностью и тяжеловесностью пришли латы, разделенные на отдельные части, но скрепленные шарнирами, крючками и пряжками, чтобы не мешать движениям. Образовались плоские детали, соответствующие объемам отдельных частей тела – спины, груди, рук. Для таких доспехов потребовалась одежда с вытачками, линией проймы и окатом рукава, то есть с деталями, которые выкраивались овально. Это позволило избежать изломов и поперечных складок, образовывающихся при шнуровке цельного платья.
Так появился жупон – короткий, облегающий, стеганый и с длинными рукавами. Очень скоро из одежды, надеваемой под доспех, он превратился в постоянно носимый предмет, закрывающий верхнюю часть тела. А вслед за ним широко разошелся знаменитый камзол-дублет. Вот только юбочка к нему была очень коротка. Поэтому мужчинам пришлось удлинять чулки, превратив их в шоссы. Они не были вязаными и слегка растягивались лишь за счет того, что ткань резали не вдоль волокон, а по диагонали. Они плохо держались, и поэтому их приходилось крепко подвязывать под низ камзола. Но шились они из двух частей, на каждую ногу, оставляя мужское место и зад открытым. Вот их-то и закрывал выступающий далеко вперед гульф, надеваемый, как пояс верности у женщин.
У воинов металлический гульф был средством защиты. Для всех остальных мужчин он был предметом гордости. Его стали украшать дорогими камнями, серебряными и золотыми узорами и часто использовали как место хранения денег и благовоний.
Но это для богатых бездельников.
Венцель Марцел даже улыбнулся, представив себе, как его палач вышагивает по городу в гульфе, украшенном гербом Витинбурга. Нет, все это глупости. Палач должен быть одет, как простой ремесленник: в просторный камзол на пуговицах, короткие штаны с чулками и добротные пулены. В холодное время, конечно же, – в такой любимый этим палачом плащ.
Так, как и был одет упокоившийся палач.
Вот только не ясно, зачем столько времени Венцель Марцел занимал себя ненужными раздумьями. А еще жаль, что старого палача похоронили в его синей одежде. Она была бы как раз по росту новому палачу. Но, возможно, чуть тесновата. Однако всегда можно вшить клинья. И стоило бы это недорого.
Отбросив назойливые мысли, бюргермейстер с удивлением увидел нарисованные углем на известковой части стены многие части одежды. Той одежды, с которой он внутренне согласился. Вот только нарисовал ее палач по имени Гудо и даже указал ее размеры.
Рядом с окончившим рисунки палачом стоял явно довольный мастер Гальси. То ли обращаясь к Гудо, то ли к бюргермейстеру, то ли к самому себе, он уважительно сказал:
– И нужно же было судьбе достойного портного превратить в палача.
– В достойного палача, – поправил его Венцель Марцел и мягко провел ладонью по столешнице. – И еще. Не забудь, чтобы в этой одежде, как и у остальных служащих муниципалитета, были по краям прямоугольные зубчики…
Уточнив некоторые детали, бюргермейстер выложил на стол несколько серебряных монет и внимательно присмотрелся к жиденькой бородке Гальси. Все же была в нем частица еврейской крови. Нужно уточнить и поднять его личный общегородской налог.
Переступая порог мастерской, Венцель Марцел вспомнил о чепчиках, которые носили на головах горожане, как женщины, так и мужчины. На чепчик, наверное, уже не хватит уговоренных пяти локтей ткани. Тем более, что у этого палача такая огромная голова.
А ночью бюргермейстеру снилась лавка портного, на стенах и столах которой висели и лежали женские и мужские одежды. От дорогих – из шелка и парчи, с мехом и тиснением, до привычных – грубошерстных, с добавлением льна и конопли. И при этом самых разных размеров. Ведь так было у любимых Венцелем Марцелом древних греков и римлян.
Глава 6
Гудо сильно, насколько мог, зубами и правой рукой затянул узел на свежей повязке.
Рука уже не кровоточила, но раны были открытыми и глубокими. Весь вчерашний день палач провозился со своей левой рукой. Конечно, было сложно, тяжело и больно вытаскивать из фаланг двух пальцев обросшие костной тканью металлические иглы. Еще сложнее оказалось вырезать из сросшихся мышц и кожи хитрые пластины и винты, что так часто применял мэтр Гальчини при сложных переломах.
Гудо даже несколько раз искренне пожалел, что не попросил молодого лекаря помочь ему в этом непростом деле. Да и как его сейчас просить… Отныне Гудо – городской палач. Об этом во весь голос вчера прокричал глашатай на Ратушной площади. Кто теперь просто так поможет палачу? Тем более денег у Гудо почти не было. Хорошо еще, что бюргермейстерская дочь не оставляет его без внимания и каждые два дня у порога его дома появляется корзина с едой. И пусть ее немного, но если растягивать удовольствие от съестного и не обращать внимания на изнывающий желудок, то можно продержаться. Вот только мужчина значительно похудел за прошедшие в этом доме семь недель. Однако это не беда. Ему в жизни приходилось голодать. Голодать так, что через живот прощупывался позвоночник.
Так уж Господу было угодно, чтобы младенец Гудо родился за три года до Великого голода, который костлявой рукой сдавил горло всей Европе[29]. Понятно, что Гудо, бывший в то время младенцем, не мог помнить всего ужаса, происходившего вокруг него. Но на всю жизнь в нем остался дикий страх от одного дня, что каленым прутом прожег его мозг и часто возвращался потом в пьяных снах или в часы тяжелой усталости.
Ему и сейчас обрывочно привиделось, как отец тащит маленького Гудо за ногу, часто оборачиваясь и надрывно кашляя. Он смотрит на худенькое тельце сына, но вместо глаз у него два мутных осколка стекла. И улыбка… Нет, не улыбка – оскал умирающего от бешенства худющего пса. Малышу больно. Его голова то и дело ударяется о камни и стволы деревьев. Но он не может оторвать взгляда от широкого ножа в правой руке отца. На его лезвии уже есть кровь. Кровь матери, что пытается вырвать убийственное железо. Но у нее слишком мало сил. И все, что она может, это ухватиться за ногу мужа, рыдать и молиться.
Кто остановил отца, Гудо об этом никогда не узнает. Тогда его понимание мира, а точнее, осознание происходящего провалилось в бездну и оставалось там почти сутки.
Отец умер в том же году. А мать… Она никогда не отвечала на вопросы сына, тем более не рассказывала об отце. Она редко разговаривала с Гудо, еще реже смотрела в его сторону. Так он и рос – при матери, но без нее. Его домом был лес, пищей – птичьи яйца и все, что удавалось убить, стащить у соседей или отнять у других детей. Так он прожил до пятнадцати лет. Потом через деревню проходили наемники. Они брали все, что подворачивалось под руку. От свиней до их хозяек. Мать уже была стара, да и в доме ничего не было. Гудо не виделся с ней с того дня, как увязался за такими смелыми и сильными воинами, которым все позволено, потому что они сами себе это позволяли. Наверное, мать уже на небесах. Там ей, должно быть, лучше.
Будучи наемником, Гудо ни дня не голодал. С каждым годом он становился все сильнее и наглее. Он упивался войной, кровью и разбоем. И, наверное, так было бы до того дня, когда ему в грудь не впилась бы стрела или ночью не перерезали бы горло товарищи по оружию. Их он тоже частенько обижал.
Но случилось то, что пожелал сатана.
Голод вернулся к нему в подземелье Правды. В первые три года мэтр Гальчини почти не спускал с цепи своего ученика. Он обращался с ним, как с виноватым псом. Но при этом не забывал вбивать в голову подопечного множество всякого нужного и ненужного. И за каждый невыученный урок нещадно бил и несколько дней не давал пищи, оставляя только маленький кувшин воды.
Особенно трудно было выучить проклятую латынь, а затем осилить письмо и чтение. Казалось, легче умереть, чем понять похожие на букашек буквы. Но случилось чудо. Мэтр Гальчини опять посадил его на цепь, по привычке всунув ему в руки толстую книгу, и, раскрыв наугад, велел утром прочесть наизусть то, что написано на этом листе.
Пересиливая себя, Гудо разобрал пару слов. И тут его душа и тело слилось с тем, что было написано там. Ибо это пережил он сам. Многократно и страшно. Он до утра прочел и заучил вместо одной три страницы из хроники Рауля Глабера. Их он помнит и сейчас, буква в букву:
«Голод принялся за свое опустошительное дело, и можно было опасаться, что исчезнет почти весь человеческий род. Атмосферные условия стали настолько неблагоприятны, что нельзя было выбрать подходящего дня для сева, но главным образом по причине наводнений не было никакой возможности убрать хлеб. Продолжительные дожди пропитали всю землю влагой до такой степени, что в течение трех лет нельзя было провести борозду, способную принять семя.
А во время жатвы дикие травы и губительные плевелы покрыли всю поверхность полей. Хорошо, если мюид семян давал один посев урожая, а с него едва получали пригоршню зерна. Если по случаю и удавалось найти в продаже что-нибудь из продуктов, то продавец мог запрашивать любую цену. Когда же съели и диких зверей, и птиц, неутолимый голод заставил людей подбирать падаль и творить такие вещи, о каких и сказать страшно. Некоторые, чтобы избежать смерти, ели лесные коренья и траву. Ужас охватывает меня, когда я перехожу к рассказу об извращениях, которые царили тогда в роду человеческом. Увы! О горе! Вещь, неслыханная во веки веков: свирепый голод заставил людей пожирать человеческую плоть. Кто был посильнее, похищал путника, расчленял тело, варил и поедал. Многие из тех, кого голод гнал из одного места в другое, находили в пути приют, но ночью с перерезанным горлом шли в пищу гостеприимным хозяевам. Детям показывали какой-либо плод или яйцо, а потом уводили их в отдаленное место, там убивали и съедали. Во многих местностях, чтобы утолить голод, выкапывали из земли трупы.
В округе Макона творилось нечто такое, о чем, насколько нам известно, в других местах и не слыхивали. Многие люди извлекали из почвы белую землю, похожую на глину, примешивали к ней немного муки или отрубей и пекли из этой смеси хлеб, полагая, что благодаря этому они не умрут от голода. Но это принесло им лишь надежду на спасение и обманчивое облегчение. Повсюду видны были одни лишь бледные, исхудалые лица да вздутые животы, и сам человеческий голос становился тонким, подобным слабому крику умирающих птиц. Трупы умерших, из-за их огромного количества, приходилось бросать где попало, без погребения. И они служили пищей волкам, которые долго еще потом продолжали искать свою добычу среди людей. А так как нельзя было, как мы сказали, хоронить каждого отдельно по причине большого числа смертей, то в некоторых местах люди из страха перед Богом выкапывали то, что обычно называют скотомогильниками, куда бросали по пятьсот и более трупов, сколько хватало места, вперемешку, полураздетыми, а то и вовсе без покрова; перекрестки дорог и обочины полей также служили кладбищами…»
Мэтр Гальчини остался доволен и даже позволил ему съесть мясо и запить вином. Он уже больше не заставлял Гудо читать. Его ученик сам потянулся к книгам. Наверное, желал отыскать что-то еще о себе. А потом его сердце и разум научились беседовать с книжной мудростью как с памятью о прошлом и мыслями о будущем.
От воспоминаний в животе Гудо забурлило. Кисло улыбнувшись, мужчина развернул лежащий на столе полотняный платок и с тоской посмотрел на маленький кусочек ржаного хлеба. Немного поколебавшись, он отломил половину и стал маленькими шариками отправлять их в рот.
Как ни растягивал он это наслаждение, хлеб быстро закончился.
– Что ж, пора, – громко сказал Гудо.
Привыкшая к молчаливому соседу крыса недовольно пискнула и скрылась в выгрызенном ходу между бревнами.
Гудо несколько раз согнул и разогнул пальцы левой руки и, убедившись в легкости движения и затупившейся боли, набросил на свой синий костюм новый плащ.
За порогом стояла унылая осень с низким свинцовым небом и порывистым ветром. Птицы не спешили покидать свои гнезда. И только неутомимая ворона кружила, высматривая поклевку.
Гудо кивнул черной птице и направился к городским воротам.
Вскоре он тяжело прошагал по мосту и увидел у открытых ворот стражника. Уже немолодой воин, до глаз заросший бородой, сонно посмотрел на мужчину в синем костюме и непонятно зачем покачал головой.
– Первый входящий в город – и тот палач, – вместо приветствия сказал стражник.
Гудо замедлил шаг.
– Где мне найти городских золотарей?
– А где в городе самое вонючее место, там и они, – вяло ответил городской стражник и поправил висящий за спиной щит.
Палач резко остановился и сделал шаг в его сторону.
Стражник икнул и в страхе попятился.
– Видишь развилку? Та улица, что ведет вправо, – к Ратуше и центру города, – поспешил объяснить он. – Тебе нужно вверх по левой улице и до конца. А потом направо и за лавкой сапожника еще раз направо. А там уже принюхаешься.
Ничего не сказав, палач направился вверх по улице.
– Направо, – повторил стражник и для убедительности качнул в ту сторону копьем.
С сожалением опуская новые сапоги в городскую жижу, Гудо выбрал середину улицы. Хотя эта улица и вела к городским воротам, она была немногим шире обычных.
Двух-и трехэтажные дома стояли по обеим сторонам ее, в каких-то шести шагах друг от друга. Они, как и их обитатели, еще не успели проснуться и дремали, о чем свидетельствовали закрытые двери первых этажей и тщательно захлопнутые узкие ставни вторых и третьих. В большинстве своем выложенные из красного обожженного кирпича здания выглядели надежными маленькими крепостями, которые для еще большей надежности опирались боковыми стенами на такие же соседские. Но, в зависимости от возможностей их хозяев, дома имели разную ширину и высоту этажей.
Пройдя шагов двести, Гудо увидел другие дома, стоявшие в глубине от улицы и отделенные от нее забором из дикого камня. Достаточно высокого забора, едва ли не до второго этажа. На этих домах были более высокие чердаки, кое-где даже с вытянутыми трубами каминов. Хотя черепица была из той же коричневой глины, что и на тех, которые остались позади палача.
Ни одного дерева или куста Гудо не заметил. Да и зачем они в крепостях? При первой же осаде древесина пойдет на воинские нужды. Если до этого ее не сожрет очаг с вечно голодным огнем. Будешь ли любоваться творением природы, если у заледеневшего камина жмутся посиневшие дети?
Здесь, возле богатых домов, грязи уже было поменьше. В одном месте Гудо даже увидел камни старинной мостовой, посреди которой имелась ложбинка для стока дождевой воды и нечистот. Но уже через полсотни шагов улица, достигнув уровня холма, стала опускаться и подошвы сапог палача вновь погрузились в чавкающую грязь.
Добравшись до конца улицы, завершением которой была городская стена с огромной лужей под ней, Гудо повернул направо. При этом ему пришлось проявить достаточную ловкость, так как перебраться через лужу можно было только по наваленным в шаг человека большим камням. Но и дальше дорога не стала легче, поскольку он вынужден был идти по брошенным в грязь скользким доскам, идти неспешно и осмотрительно.
Тем временем город стал просыпаться. За стенами домов зашлись в надрывном плаче младенцы, требуя материнскую грудь. Отовсюду слышались грозные покрикивания, которыми мастера поднимали на ноги своих подмастерьев и учеников: «Дармоеды, сонные мухи! Хотя бы один раз кто-нибудь из вас поднялся раньше своего мастера!» Впереди медленно, со скрипом отворилась низкая дверь. Из нее, оглядывая улицу, высунулась голова старика в ночном колпаке. Затем сморщенная рука дважды протерла правый глаз. Разобрав, кто приближается к ней, голова мгновенно скрылась, едва не прищемленная дверью.
За спиной Гудо раздались сердитый женский окрик, шлепки и за ними резкий визг свиньи. Оглянувшись, палач увидел несущихся к центру лужи трех годовалых подсвинков и костлявую женщину в грязно-сером коте[30].
– Вон там жрите и пейте до отвала…
Затем женщина пнула маленькую собачонку, крутившуюся у ее ног. Лохматый комочек жалостливо заскулил, не переставая приветливо вилять хвостиком.
Застучали ставни вторых и третьих этажей. Из них послышался еще сонный голос:
– Проклятая псина… проклятые свиньи… и эта тощая смерть… Господи, благослови этот проклятый день…
Вслед за проклятиями сразу из нескольких окон выплеснулись ночные горшки. Моча тут же стала уличной жижей. Вот только кучкам человеческого дерьма еще немного предстояло побыть в первозданной форме, пока их не разнесут колеса, копыта или подошвы.
Гудо натянул к носу капюшон своего нового плаща и ускорил шаг. Вскоре дома стали пониже, попроще, часто сооруженные из досок, между которыми была утрамбована глина. Зато эти дома стояли не так плотно и их хозяева могли наслаждаться наличием внутренних двориков. Хотя эти дворики и были небольшими, однако же в них находилось место свиньям, козам, гусям, курам, а в некоторых случаях – даже лошадям.
Не надеясь на низкие деревянные заборы, хозяева держали волкоподобных собак, которые предпочитали меньше лаять, а больше хватать и рвать зубами. Поэтому четвероногие сторожа несколько раз рыкнули на утреннего прохожего и, убедившись, что он не пересекает хозяйских границ, улеглись, положив морду на передние лапы и уставившись на двери дома.
Вскоре Гудо приблизился к небольшому домику. Над низкой дощатой дверью на выдвинутой вперед палке висел плоский жестяной башмак, поддерживаемый тонкой ржавой цепью.
«Это лавка сапожника. Значит, за этой лавкой направо», – пробормотал себе под нос мужчина в синем костюме.
За лавкой он действительно обнаружил улочку, в которой трудно было разъехаться двум всадникам или разойтись двум завистливым соседушкам. Узкие, вытянувшиеся, как сосны, дома помогали выстоять друг другу не боковыми стенами, а арками, что связывали их спереди на уровне вторых этажей. Крыши домов едва ли не срослись, обрекая тех, кто обитал под ними, жить в вечном сумраке днем и в полной слепоте ночью.
Грязь здесь более походила на рыбный клей, и каждый шаг давался с ощутимым усилием. Но более всего палачу не понравился запах.
По мере его продвижения вперед дома становились мельче и ниже. Словно соблюдая эту закономерность, улица закончилась маленькой пристройкой в одну дверь и узкое окно. Крыша этой пристройки была едва ли не на уровне глаз палача.
Сделав еще с десяток шагов, Гудо оказался на большой, кое-как выложенной тесаным камнем площадке, посреди которой красовалась выгребная яма с тягучей бурой жидкостью. Вода в ней из-за своей тяжести даже не колыхалась, хотя утро выдалось довольно ветреным. Она могла показаться чем-то твердым, если бы не зловонные газы, время от времени вырывавшиеся на поверхность, такие же тяжелые, как и среда, породившая их. Не поддающиеся порывам ветра, они густым зловонием упорно отстаивали территорию между двумя улицами и крепостной стеной.
Но не они были главным источником невыносимой вони. Тяжелейший запах исходил от горы полуразложившихся трупов кошек, собак, ослов и даже нескольких лошадей. С большинства мертвых животных сняли шкуру, но были видны и такие, чья явная заразная болезнь остановила руки рачительных бюргеров. Или нищих и золотарей.
Гудо скривился. Даже он, давно уже ничему не удивляющийся, едва смог сдержать подкатившую к горлу тошноту. Слезы, выступившие в уголках глаз, скатились в короткую бороду палача. Но и они не смогли уменьшить рези в глазах, от которой мужчина часто заморгал.
Круто повернувшись, палач направился к маленькой пристройке. Он не ошибся, когда, в первый раз проходя ее двери, заметил едва различимый герб золотарей, хотя краска, которой он был нарисован, по большей части уже давно облупилась с заплесневелых досок.
Ни мгновения не раздумывая, Гудо толкнул дверь и шагнул внутрь. Для этого ему не нужно было просить разрешения. По своему ремеслу цех[31] сборщиков падали и чистильщиков отхожих мест находился на той же низкой ступени, что и цех палачей. Впрочем, как и копальщики могил, фигляры и гулящие девки, тоже объединенные в цеха.
Ожидания Гудо оправдались: в этом доме уже давно не спали. Какой золотарь не поспешит в просвете начинающего дня пробежаться по улицам города? Ведь все, что лежало вне границ домов и заборов, принадлежало им. От сдохшей кошки с облезлым хвостом до зарывшейся в грязь счастливой подковы. При этом нужно было быстро и внимательно осмотреться, ведь вслед за ними спешили поживиться нищие и даже сами уважаемые горожане.
Стремительно открывшаяся дверь впустила поток воздуха, от которого качнулись язычки двух лучин и огарка сальной свечи. В колеблющемся пламени Гудо увидел трех мужчин, сидящих за маленьким столом. Словно парализованные внезапным вторжением, хозяева лачуги на миг оцепенели, а их руки застыли над низким горшочком. Только один из них успел вытащить из него комочек каши, второй только запустил пальцы, а третий ожидал этого счастливого действия. Кисти всех троих были покрыты огнем святого Сильвиана[32].
– Вы знаете меня? – сбросив капюшон, спросил вошедший.
Мужчины за столом согласно качнули головами, на которых были черные от грязи и времени чепчики.
Заметив, как старший из них, пряча, сдвигает со стола горшочек, Гудо сказал:
– Я подожду.
В несколько быстрых хватов золотари опустошили посудину и уставились на утреннего гостя. Точнее, на его новую добротную одежду и крепкие сапоги. Все это стоило, по крайней мере, двух дойных коров.
Дав время рассмотреть себя, Гудо тихо промолвил:
– Согласно контракту и распоряжению городского совета и бюргермейстера надзор за работой золотарей города Витинбурга возложен на палача. Так было и так есть в других вольных городах. – Золотари опять согласно кивнули, слизывая с пальцев остатки каши. – Кто из вас старший?
Из-за стола привстал маленький и неимоверно худой мужичонка.
– Меня все зовут Костяшкой. Но мое имя – Томас. А это мои братья, – пояснил он и неизвестно зачем добавил:
– У меня есть ручная тележка на двух колесах.
– Хорошо, Костяшка-Томас. Ты сейчас пойдешь со мной и покажешь все, что касается вашей работы.
Старший золотарь, скорчив гримасу, посмотрел на своих братьев и обреченно махнул рукой. Даже ему не очень хотелось показываться на глаза бюргерам в компании человека в синих одеждах палача.
Выйдя за дверь, Костяшка сразу же повернул к отхожей яме.
– Видел, – коротко остановил его палач.
Старший золотарь равнодушно пожал плечами и повел своего надзирателя по улице с клейкой грязью.
– На весь город три золотаря? – спросил Гудо.
– Да и три много, – печально ответил Костяшка, – ведь город маленький, бюргеры бедные. На весь город только у двух десятков домов есть отхожее место. Нас редко туда приглашают. Чистят или сами, или слуги. Вот в деревнях почти возле каждого дома есть отхожее место. А в городах все так привыкли. Утром и вечером все отходы выливают и выбрасывают на улицу. А днем мочатся и опорожняются, где кого застала нужда. Животы часто крутит так, что выть хочется.
– Это от болезни, – строго сказал палач.
Золотарь пожал плечами и с кислой миной на лице продолжил:
– Сколько себя помню, не успеешь поесть – сразу все вытекает. Вот только в святые посты у меня все хорошо. А так не удержишь. Тут у многих штаны сделаны в вертикальный ряд полосок. Удобно, если что. Раздвинул и все свободно выходит. Ведь не латы рыцарские. Это они, благородные, все в латы спускают. Их быстро не снимешь, когда нужда пристала.
– А что это за огромная лужа здесь, слева по улице? – спросил Гудо, вспомнив свои прыжки по камням.
– А, это… Дожди и опять же нечистоты. Там раньше в стене сток был, да, видно, не стало. Все уже привыкли. Да и чего там ходить… Работать нужно. А если праздник или интересно, то для этого у нас в городе Ратушная и рыночная площади есть. А еще Соборная. Там, если нет дождей, чисто. Там убирают. Эти… из цеха метельщиков. Когда им платят. А сейчас платят только на большие святые праздники. Так что их двое осталось.
Стал накрапывать холодный мелкий дождик. Они уже прошли третью улицу. А навстречу им попались только стая мальчишек, старуха с блеющим козлом и подмастерье, несший на плечах большой завязанный мешок.
– Где общие отхожие места?
Золотарь задумался.
– А, пошли, все покажу. – Костяшка махнул рукой.
Обрадованный тем, что добросовестные бюргеры этим утром прилежно трудятся в своих лавках, старший золотарь повеселел и даже несколько раз заглянул под капюшон палача. Он даже стал говорить и показывать то, что было важным и интересным в городе. И как он только не путался в этих названиях улиц, улочек, проходов, тупиков?
– А что здесь сложного? Вот улица Трех Пекарей. Здесь раньше три пекарни было. Это сейчас уже пять. Но все привыкли к трем пекарям. А те пекари, что позже селились, живут на Хлебной. Там раньше в подвале старой крепости городское зерно хранили. Это сейчас зерна что кот наплакал. А там, где кузнецы, – улица Кузнечная. А рядом, вправо, – Латников, там же и улица Мечников. Туда мы еще дойдем. Мы сейчас на Старобашенной улице. Видишь, она огибает башню. С этой башни начался город. Ее построил барон Фринке… или Фрильке. Так вроде… Ему, говорят, здесь земли сам Карл Великий за службу пожаловал. Грозным рыцарем был этот барон. И не очень жадным до чужого добра. Вот возле этой башни и стал селиться ремесленный и торговый люд. Так и пошли улицы по холмам. А когда император велел строить стены крепостные, так народ хлынул потоком. Потомкам барона было все равно, кто и где селится, лишь бы вовремя налог платили. Это уже когда город стал имперским, тогда земля подорожала. Вот и старались строиться цехами, помогая друг другу. Так появились кварталы ткачей, башмачников, седельщиков… А в них – свои улицы. У башмачников, например, улица Старого Башмака, переулок Стоптанного Каблука или Бычьей Подошвы. Там же есть тупик Сапожного Ножа. Говорят, как-то один старый башмачник застал свою молодую женушку с подмастерьем. Тот уж очень старался угодить хозяйке. И не заметил, как ему в затылок этот самый нож и воткнули. А еще у нас есть улица Мост Трех Пропойцев. Правда, моста уже нет, как и самой речки. Так вот, эти трое пропойцев уронили в реку кувшин с вином. Стали доставать. И все трое под мостом остались… Заметь, над дверью каждого дома или на самой двери вырезаны или нарисованы фигурки животных, птиц, а то и разные цветы, прочее что-нибудь примечательное. Дом по этим знакам легче разыскать. Рисунок увидишь, так и в гости правильно попадешь. Хотя тебе, палачу, это ни к чему. А вот и Кафедральная улица, которая выходит на Кафедральную площадь. А там, как сам понимаешь, наш достойный Кафедральный собор.
Узкая улочка распахнулась широкой площадью овальной формы, над которой, уперев в небо две стрелы-крыши, стоял роскошный собор. Из отборного жженого кирпича, с отменной кладкой, с множеством сводов и арок, с широкими разноцветными витражами, это здание было истинным домом Бога. Построенное не более двух десятилетий назад, оно смотрелось торжественно и празднично и, как истинно необходимый для людей дом, казалось, парило над мирскими жилищами, которые обрамляли церковную площадь.
– Пошли, покажу, – обратился Костяшка к застывшему в восторге палачу.
Не решаясь прикоснуться к мужчине в синем, золотарь дважды повторил, и лишь тогда Гудо посмотрел на него.
– Чудесны плоды искусных рук человеческих, – тихо промолвил Гудо.
– На то есть воля Божья. Без нее ни один кирпич не лег бы в кладку.
Костяшка поманил рукой палача за угол собора. Тыльная часть здания была не настолько впечатляющая, как фасад. Тому мешали множество пристроек, сделанных как из дикого камня, так и из дерева. К одной из деревянных пристроек золотарь и привел Гудо.
– Вот! – Костяшка распахнул широкую дверь. – Для церковников и знатных гостей.
Гудо нагнулся и зашел внутрь. Резкий запах не оставлял сомнения в использовании данной пристройки. О том же говорил небольшой деревянный помост с квадратными дырами. Возле каждой дыры лежал пучок соломы.
– А это что? – явно недоумевая, палач показал пальцем на несколько крюков, вбитых в стенку.
– Это, – услужливо улыбнулся золотарь, – для одежд. Отец Вельгус, настоятель собора, вешает здесь свои церковные одежды. Ведь запах человеческого дерьма изгоняет проклятых блох и даже клопов. То же он советует и церковной братии.
– Отец Вельгус… – палач грустно покачал головой.
Сквозь едкий запах отхожего места на палача дохнул холод подземелья Правды.
* * *
Харчевня на улице Трех Гусей постепенно пустела.
Поспешно опрокинув кружки с пивом в свои дряблые животы, первыми ушли мастера. У них множество наиважнейших дел. Нужно до наступления темноты принять работу подмастерьев и учеников, определить, какова прибыль, и, охая, отсчитать налоги городу и взносы в собственные цеховые союзы. За ними потянулись подмастерья на последнем году выслуги. Эти уже в меньшей степени зависели от придирчивых мастеров и оттого выставляли напоказ свою скорую независимость. Особенно если в харчевне не было их собственных мастеров или старейшин цеха. Да и харчевни они выбирали из тех, что подальше от их мастерских. Забежавшие со случайными мелкими монетками ученики застывали в темных уголках с шипучим пивом и в скором времени покидали харчевню.
И все же хозяин харчевни Кривой Иган был сегодня доволен. В углу у затухающего камина сидели четверо приятных гостей. Правда, двоих из них нельзя было отнести к уважаемым горожанам в силу их постыдной работы, а вот двое других своими одеждами и разумными разговорами обнадеживали хозяина, и он рассчитывал, что через какое-то время они потребуют еще два больших кувшина пива к тем трем, что уже успели выпить.
– Эй, Иган, еще кувшин пива…
Хозяин угодливо улыбнулся, но, отвернувшись, сердито фыркнул. Кривому Игану никак не по душе было подавать на стол золотарю Костяшке-Томасу.
– Да подай мятного сыра…
А это уже пьяно протянул могильщик Ешка. Ему-то с его лопатой вообще лучше было бы сидеть у могильных плит. Но как такому в чем-то откажешь? И ростом, и шириной плеч он был под стать молотобойцам в кузницах. Да и оспа, что изуродовала лица едва ли не двум третям жителей города, не коснулась его смуглого лица.
Кривой Иган долил в кувшин пива и согласно кивнул самому себе. Ведь Ешка, как и почти все мастеровые в городе, принял ремесло – свою лопату – от отца. Как и тот от своего. Работа не в почете и не очень частая, зато у могильщика крепкий кирпичный дом и с десяток свиней. Хорошо живет.
А вот кому хозяин харчевни с удовольствием подал пиво и сыр, так это алтарнику Кафедрального собора Хайнцу и незнакомому Игану молодому человеку, которого он сам про себя прозвал купцом. Вот уж действительно приятный и достойный гость. И одет в новенький камзол, и плащ по торцу в лисьем меху, да и на ногах мягкие кожаные сапоги любекской[33] работы. Говорит мало, больше слушает. Зато так приятно улыбается и не плюет после каждого глотка на пол. И что привело его за стол с этими простаками?
Хозяин харчевни посмотрел на пол и тяжело вздохнул. Он помнил, как мальчишкой с наслаждением топтал привезенный отцом болотный камыш. Он был свежесрубленный, зеленый, с гибкими пикообразными листьями. Это было в год смерти старого Игана, деда теперь уже старого Кривого Игана. С тех пор подстилка не менялась. Так и лежит она, пропитанная слюной, мочой людей и собак, пролитым пивом, объедками рыбы и всякой дрянью.
Дорого ее менять, да и зачем и для кого… При дедушке Игане было полно гостей. Кому пива, кому вина, кому сытный ужин. А то и по нескольку десятков братьев по цеху пирушки заказывали. Было ремесло, славная торговля. Денежки водились даже у учеников. А потом наступил великий голод. Деревни наполовину вымерли. В городе не стало сырья. Кому продавать? Лучшие мастера перебрались на север, в города Ганзейского союза. А те, что остались, едва зарабатывали на водянистую кашу. Где уж тянуться за вином, пивом и жирным мясом. Да еще эти разбойники, совсем разорившие город. Спасибо великому и мудрому бюргермейстеру Венцелю Марцелу – он извел под корень проклятых наемников. А после того как на Ратушной площади поработал железом этот страшный палач, в округе вообще стало тихо. К городу потянулись селяне, арендаторы, даже купцы с товарами. Разорять людей на дорогах перестали.
Вот как раз об этом пьяно трепался золотарь:
– Истину говорю – палач фигура важная и… полезная, с какой стороны ни посмотри. Я не про разбойников. Если бы их кости не торчали на колесах у городских ворот, о них бы и не вспомнили. Но помнить надо. Пусть это будет напоминание каждому, кто подходит к городу, – не желай чужого добра и жизни. Великий грех… А кому охота попасть в руки нашего палача? Вы ведь видели его руки? Это да-а-а.
– Вот и скажи, как он тебя… – громко засмеялся могильщик.
Костяшка-Томас уже хотел было сердито стукнуть кулаком по засаленной столешнице, но вдруг улыбнулся и счастливо посмотрел на свои ладони.
– А хоть бы и так. Нет худа без добра. Истину говорят святые отцы. Правду не скрою – как взял он меня за шею и поднял над землей, так, думал, это мой смертный миг. Гадал ли мой отец, да и я сам, что кончусь в руке палача?
– Значит, ваш палач может вот так хватать за шею свободных горожан? – с сомнением в голосе спросил молодой человек, принятый хозяином харчевни за купца. – Вольные же в вашем городе порядки.
Золотарь бросил на молодого гостя мутный взгляд.
– Ты хороший человек… Э-э-э… Как тебя?
Молодой человек усмехнулся.
– Да как и от крещения – Патрик. Ты меня уже третий раз спрашиваешь.
Все засмеялись. А громче всех сам золотарь.
– Крепкое пиво сегодня. Вот только он меня одной рукой к небесам подносил. Если бы двумя, то точно голову оторвал бы.
– Старших нужно слушать и делать то, что приказано, – с усмешкой заметил могильщик Ешка.
– Оно так, – согласился золотарь. – Золотари всегда под палачами были. Но кому же эта куча падали нужна была? Стояла себе, пусть бы и стояла. А то пришел и велел за два дня вывезти ее за город и глубоко закопать. А как? Когда она столько лет наваливалась.
– Так ведь управились за два дня после того, как палач оторвал твои пятки от земли, – вставил свое слово церковник Хайнц. – А и то правда – от этой кучи вонь была, как в аду. Особенно в жару. А так вся улица… Да что улица, весь нижний город вздохнул с облегчением. Ведь не зря вам, золотарям, жители поднесли два кувшина вина и поросенка. И сам бюргермейстер за столько лет пришел посмотреть и слово доброе сказал. Вот если бы еще вычерпать дерьмо из ямы…
Золотарь почесал затылок.
– Да оно при моем отце само уходило. Сейчас не уходит. Этот… в синих одеждах… наш старший, сказал, что нужно посмотреть, что и как. Но после большого дождя.
– Значит, полезная фигура – палач? – поддерживая тему, спросил Патрик.
Костяшка-Томас шмыгнул носом и припал к глиняной кружке. Сделав большой глоток пива, он сплюнул под ноги.
– Два дня последними словами его проклинал. Сколько работы он нам придумал! Только сейчас готов все слова обратно в себя втолкнуть. Вот… – золотарь положил на стол свои ладони и с нежностью на них посмотрел. – Три недели мазал тем жиром, что дал мне палач, и посмотрите. Нет уже на них проклятой заразы.
– Я помню твои руки, золотарь, – сердито засопел церковник. – Их коснулся огонь святого Сильвиана. Значит, так угодно было Господу. Или ты считаешь себя недостойным носить божественные знаки, добрые они или плохие? А видел ли ты благочестивые иконы с образом святого Иова?[34] Покрытый язвами, он и днем и ночью скреб их ножом. А бедный Лазарь, сидящий у дверей дома злого богача со своей собакой, которая лижет его струпья? Бог послал им испытания. И они очистились волею Божьей, ибо вера их была великой. А ты говоришь, тебя жиром очистили! И кто – палач!
– Да не только меня, но и братьев моих. А то ведь как кожа горела! Вспомнить тошно. Мы и молились, и свечи многие ставили. А он велел руки на ночь мыть и тонко намазывать этим лекарством…
– Лекарством? А может, скорее лукавством? От бесов лукавых, – зло прошипел церковник. – Все палачи знаются с миром демонов. Может, и наш городской палач от свиты сатаны. Отцу Вельгусу говорил о дарах палача?
Золотарь побледнел.
– Наверное, по всему городу разнесли молву о снадобье палача, а городскому первосвященнику и словом не обмолвились. Так ведь?
Костяшка припал к кружке пива и начал высасывать ее содержимое мелкими глотками. Затем, отдышавшись, стал совать в беззубый рот комки сыра.
– Молчишь, нечего сказать, – не унимался церковник Хайнц. – О душе нужно думать, а не о грязном ее сосуде – мерзком теле. Тогда благодать снизойдет на каждого и доброе между людьми царствовать будет.
– А что, и от палача добро есть. Как появился он на рыночной площади, так и порядок теперь там. Никто не ворует, не обвешивает, с товарами не обманывает. И народа на прошлом торговище едва не вполовину больше было, – обиженно промолвил золотарь.
Церковник сделал большой глоток пива и нехотя согласился:
– Это так. И в городскую казну он честно пошлину собирает с товара. Но, получив свое от города, отнес ли он хоть мелкую монету на нужды церковные? Нет. И торговцы эти не спешат с дарами в дом Господний. Пуст жертвенник соборный. Демоны между людьми бродят и отворачивают людишек от дел богоугодных. Серебро застит глаза слабых, и не видят они дороги к Богу.
Патрик взболтнул кувшин с пивом и разлил его остатки по кружкам.
– Бог справедлив, он укажет путь даже слепому.
Все согласно кивнули и припали губами к пьянящему напитку.
Поговорив еще какое-то время о всяких пустяках, первым, едва волоча худющие ноги, удалился золотарь. За ним, заслышав три размеренных удара ночного колокола, ушел церковник. Оставшиеся, могильщик и Патрик, потребовали малый кувшин пива и склонили головы друг к другу.
– Все, о чем ты говорил, так и есть, – печально произнес молодой человек. – Бедный городишко, не разгуляешься. Денежек нет ни в городской казне, ни в церковной кружке. Трудно тебе, брат, с нашего ремесла кормиться.
– А мы и остерегаемся сейчас выходить на воровство или разбой. С одной стороны, брать с людишек нечего. С другой… как не стало наемников, так и не хочется привлекать внимание. Это под их разбой можно было тряхнуть купчишку или разорить селянина. Все на них ложилось. Теперь сложнее. Берем по-малому, с большой осторожностью. Да и палач этот на братьев наших страху навел. Только попадись ему в лапы – всех с кровью выдашь. Но что ни говори, а потянулись к городу купчишки. Выждем жирный кусок и ухватим его зубами.
– Мне ждать – время терять. Привет от наших братьев я тебе передал. Рад, что ты и братья наши в добром здравии. Пора и мне в путь. Но перед этим наведаюсь на рыночную площадь. Запасусь в дорогу тем, что руки мои мне заработают. Ведь завтра торговый день. Так?
– Да, большой торговый день. Да и руки твои ловкости великой. Однако же будь осторожен. Не попадись господину в синих одеждах.
Патрик пренебрежительно махнул рукой.
– Через столько городов и городишек прошагали мои ноги! Столько кошелей срезал мой нож с поясов ротозеев. Столько украшений сняли мои гибкие пальцы. Пусть и далее оберегают меня моя удача и воровское счастье. Пока будут деньги и украшения, будем и мы, их справедливые и ловкие собиратели.
Затем Патрик сложил пальцы правой руки в полукруг и сотворил знамение. Могильщик ответил на тайный знак тем же движением и широко улыбнулся.
Могильщик разбудил Патрика еще до восхода. Забившись в дальний угол большого дома Ешко, братья по греховному ремеслу долго шептались, а затем, перекрестившись своим тайным знаком, согласно пожали друг другу руки.
Поворошив очаг, хозяин дома отыскал тлеющий уголек и от него зажег сальную свечу. В тусклом желтом свете могильщик протянул гостю кусок овсяного хлеба и большую чашу молока. Терпеливо подождав, когда Патрик насытится, Ешко вытащил из сундука ворох одежды и положил его перед молодым человеком. Тот вздохнул и отобрал темно-зеленый тапперт, короткие кожаные штаны, а к ним коричневые ба-де-шоссы[35]. Затем выбрал самый просторный из трех гарнашей и, удовлетворенно кивнув, сказал:
– Богатому будут смотреть вслед и завидовать. Нищего будут презирать и следить, чтобы ничего не утащил. А глупого селянского сына, которому все в городе в новинку, примут с усмешкой.
Ешко медленно качал головой, почесывая густую бороду.
– Вот только на ноги у меня ничего нет.
– Ничего. Вымажу грязью свои сапожки. В них мне удобнее. Сам знаешь: руки кормят, ноги спасают.
Могильщик тяжело вздохнул и протянул своему молодому брату по ремеслу четырехгранный стилет.
– Нет, будет мешать. У меня есть более подходящее железо.
Патрик изящно отставил правую руку, и в ней, словно по волшебству, возник странно изогнутый нож с необычайно тонким лезвием.
Утро выдалось прохладным. Но в разрывах облаков, гонимых ленивым ветерком, то и дело проглядывало рыжеватое солнце. Город просыпался, как всегда, громким хлопаньем деревянных ставней, льющимися из окон и дверей помоями, визгом выгнанных на улицу свиней, лаем потревоженных собак и мерным звоном малого колокола Кафедрального собора, зовущего добропорядочных бюргеров на утреннюю воскресную службу.
Хмурые сонные стражники, поднатужившись, распахнули створки городских ворот и тут же обмякли, припав бородами к древкам своих копий. У них еще было немного времени для дремоты перед тем, как у ворот начнут тесниться повозки, двуколки и ручные тележки селян, арендаторов, перекупщиков и купцов, желающих занять удобное место на рыночной площади. Под этот шум и непременную ругань можно было сбросить в ров немного овощей, фруктов, а если повезет, то и скатку домотканого холста. Но только очень осторожно. Кому захочется, чтобы на него указали как на вора? Тогда уж суд быстрый и наказание известное. За малое отсекут руку, за большое затянут на шее петлю, и будешь висеть, пока кости не рассыплются. И хочется легко к рукам прибрать, и рук жалко, а уж куда больше – и самой жизни. Стражники знают и рискуют редко. Хотя им-то что? Они вместе, друг за друга. А если кто-то начнет роптать или, не приведи Господи, в крик зайдется, то могут такого и в ров нечаянно столкнуть, вслед за его гнилыми яблоками или треснувшей головкой капусты.
Эх, люди, людишки… Не способные на большее, смелое, отчаянное. Урвать малое и затолкать это малое в свои гнилые желудки и тем быть счастливыми.
Патрик уже несколько часов сидел в угловой башне и наблюдал, как в городские ворота въезжают повозки сельских торговцев и мелких купчишек. И это его не радовало. Мелкий городишко и мелкие людишки со своим мелочным товаром. Даже стражникам нечем поживиться. Пора идти на север, в богатые города Ганзейского братства.
Предчувствуя скорый обход стражи, молодой человек уже собрался было спуститься по ветхой лестнице, когда из лесной чащи на дорогу выехали три добротные, крытые кожей повозки.
– Это уже что-то, – пробормотал Патрик, чувствуя, как его воровская душа затрепетала в предчувствии наживы.
Он неспешно спустился с башни и, весело насвистывая, побрел за старой открытой повозкой, которую из последних сил тянула низкорослая кобыла. Сбоку от лошади, держа в руках поводья, шел сутулый селянин. Опасаясь городских неожиданностей, он беспрерывно смотрел по сторонам. Накрыв тоненькими ручками корзины с яблоками, на повозке на четвереньках стояла маленькая девочка и так же, как и ее отец, беспокойно вертела головой.
Поймав взгляд девчушки, Патрик подмигнул ей и растянул губы в широкой улыбке, обнажив крупные белые зубы. Хранительница яблок покраснела и попыталась спрятать голову под руку. Но, вспомнив суровые наставления отца, тут же вернулась в прежнюю позу и строго посмотрела на веселого попутчика.
Но тот уже не улыбался и, ускорив шаг, шел рядом с лошадью. Под его широким гарнашем, в потайном мешочке, уже лежало два больших сочных яблока.
Увидев, как на перекрестке узких улиц образовался затор, молодой вор поспешил туда.
Там из ручной тележки зеленщика, колесо которой застряло в яме, скрытой водой, выпали две корзины с мелкими кочанами капусты, покатившимися прямо в уличную грязь. Не желая терпеть убытка, зеленщик, уже почти старик, стал подбирать свое богатство. Но боли в спине – следствие тяжелой работы и старости – доставляли ему ужасные муки всякий раз, когда он нагибался за своей капустой. Он охал и стонал, проклинал и уговаривал свою проклятую спину, но от этого его движения не становились проворнее и только вызывали злые шутки и упреки тех владельцев повозок, которые были вынуждены остановиться из-за него. Никто так и не пришел на помощь старику, то ли не решаясь оставить свои товары, то ли памятуя о правиле – «не поднимай чужого, не расстанешься со своим».
И только Патрик решил помочь несчастному селянину. С шутками и прибаутками он быстро собрал товар зеленщика и, отказавшись от чистосердечно предлагаемого стариком большого кочана капусты, не прощаясь, пошел в сторону рыночной площади.
Нет, он не был сегодня добрее, чем вчера. Просто Патрику надоел этот скучный и нищий город, и он желал как можно скорее закончить свои дела и убраться отсюда к притягательным городам Балтийского побережья. А всякий затор отдаляет то время, когда три повозки под кожаными покрытиями наконец представят свои товары.
Ориентируясь на идущих в одном направлении торговцев и местных жителей, молодой человек очень скоро оказался на желаемой торговой площади.
Как и во многих городах, она была достаточно просторной. К ней вели четыре улицы, разрывая сплошную стену, которую образовывали трехэтажные дома, первые этажи которых обычно предназначались для лавок торговцев и мастеров самого города.
Конечно, сквозь маленькие окна невозможно было рассмотреть товары, предлагаемые для продажи. Да и окна были настолько малы, что в них не протиснулся бы и пятилетний ребенок. Так что ворам этот путь был недоступен. К тому же первые два этажа были выложены из крепкого камня. Ни проломить, ни подкопаться. Оставались широченные двери, – основной источник света в лавке и место особого внимания хозяина и его помощников. Кто-то из них обязательно стоял у входа и, с улыбкой кланяясь проходившим мимо горожанам и гостям города, уважительно приглашал осмотреть товар. Над многими лавками для привлечения покупателей к стене крепились шесты, на которых на утреннем ветерке раскачивались жестяные, кожаные и деревянные трафареты предлагаемых для продажи изделий. Но иногда висели и настоящие башмаки, подковы, мечи, серпы, куски ткани, глиняные и металлические горшки и другие товары, сделанные руками искусных мастеров.
В такие лавки вход для Патрика был нежелательным. Здесь придирчиво осматривали входящего или приглашенного и не спускали глаз с возможного покупателя, опасаясь воровства или порчи. Не зря под цеховыми гербами, нарисованными на крепких дубовых дверях, хозяева незаметно пририсовывали три креста.
А еще сами хозяева или их подмастерья, стоя в дверях, постоянно покрикивали на неуклюжих селян, чтобы те не ставили свои товары ближе чем в пяти шагах от их лавок. Особо возмущались, если торговец оставлял свою впряженную лошадь. Ему тут же предлагали отвести животное на задний двор за малую плату.
Но многие повозки, особенно в центре площади, до конца дня оставались запряженными, что мешало с трудом протискивающимся покупателям осматривать товар. Да и самим продавцам приходилось стоять до первых сумерек, когда завершалась торговля и площадь, с которой постепенно уезжала повозка за повозкой, начинала пустеть.
Для Патрика и его братьев по ремеслу такая неразбериха была на руку. Не успели тебя заприметить, а ты уже за другой повозкой, или присел, или проскользнул под ней. Протянул руку – вот и кружок колбасы, четвертинка хлеба, а то и что посерьезнее.
Но молодой вор ничего не трогал. Он медленно переходил от повозки к повозке, заводил пустые разговоры с селянами, с их женами и дочерьми. Один раз даже купил за медный грош малый кувшин жидкой сметаны и, едва пригубив, отдал его двум нищим – старику и старухе. Хотелось пива, а лучше вина. Но старая заповедь истинного вора препятствовала этому расслабляющему действию. Да и заинтересовавшие его повозки, пробив себе дорогу, уже успели сбросить кожаный верх и представили свой товар.
А товара было много, причем довольно разнообразного. Стоящие на повозках крепкие парни без устали вытаскивали и протягивали толпящимся внизу то лисью шкуру, то скатку английского сукна, то фламандские кружева, то короткий меч в кожаных с серебром ножнах, а то и золотые украшения. А были еще горшочки с густым медом, деревянные бочонки с хмельным вином, странная птица с красивыми переливающимися перьями и многое такое, что заставляло мужчин присвистывать от удивления, а женщин – восторженно ахать.
Патрик огляделся и увидел под одной из немногих глухих стен сложенные в небольшую пирамиду короткие бревна. Он тут же вскарабкался наверх и удобно устроился. Отсюда ему были хорошо видны все три интересующие его повозки и даже слышны уговоры купцов и ответы тех, к кому они обращались.
А еще молодой вор примерно на той же высоте, на которой восседал он сам, заметил господина в синих одеждах, о котором было столько сказано в харчевне за кружкой пива. По-видимому, палач появился недавно. Во всяком случае, Патрик не видел его раньше, хотя трижды обошел площадь по кругу.
Скрестив руки на могучей груди, палач стоял на деревянном возвышении в центре площади, а за его спиной угрожающе возвышался позорный столб. В черное от времени дерево на разной высоте были вогнаны такого же цвета толстые железные кольца.
Легкий ветер раскачивал полы его просторного синего плаща, но ничего не мог поделать с низко опущенным на лицо капюшоном. Было странно и непонятно, почему тот, кому было поручено столько трудов и забот на рыночной площади, стоял неподвижно, как и деревянный столб за его спиной. Не поворачиваясь, не оглядываясь, казалось, совсем ничем не интересуясь… Неужели он думал, а скорее всего, именно так и было, что вид позорного столба и того, кому отдают на растерзание виновного, вселяют в души людишек трепет и страх перед возможностью пасть в грех вольный или невольный?
Неужели, завидев страшилище, торговцы перестанут обманывать покупателя, обвешивать, обмерять его, всучивать вместо хороших плодов гнилые, клясться, что дешевле и лучше товара еще не было и не будет? Уж куда страшнее цеховые правила, запрещающие мастерам и их подмастерьям все эти подлости. Но без них ни один день не обходится.
То же самое и с покупателем. Вряд ли он устрашится погреть душу стертой монетой, обсчетом и сбиванием цен с помощью угрозы в адрес забитого селянина.
Так было и так будет. Всегда.
Патрик согласился сам с собою и даже весело подмигнул одеревеневшему палачу.
Но в следующее мгновение ему уже не было дел до господина в синих одеждах. Чем-то купцы на трех повозках угодили покупателю, и молодой вор увидел несколько рук, в которых тускнело желаемое серебро. Продажа состоялась.
Патрик скатился с бревен и юркнул в толпу, сгрудившуюся у богатых купеческих повозок.
Здесь торговля шла бойко. Соблазнившись замечательным товаром, богатые бюргеры Витинбурга, завидуя друг другу и выставляя себя напоказ, уже покупали вещи, которые при других обстоятельствах не приобрели бы, зная цену каждого добытого трудом гроша. Но, поддавшись общему настроению, рассудительные горожане под умоляющим взором своих жен и дочерей развязывали поясные кошели и отсчитывали серебро, а некоторые – и золото.
Патрик сразу же приметил толстого седобородого бюргера в добротной одежде, который добродушно переругивался со своей тощей дочерью. Его рука подрагивала на большом кожаном кошеле, и было видно, что очень скоро он поддастся на уговоры своего дитя.
Медлить было нельзя.
Оглянувшись, Патрик заметил приближающегося на шум бойкой торговли длинного и тощего разносчика. На его костлявых плечах лежала деревянная рама, к которой во многих местах были привязаны двуушные кувшины.
«Ты-то мне и нужен», – тихо, сквозь зубы, процедил молодой вор и, дождавшись, когда разносчик поравнялся с отцом и дочерью, легонько подтолкнул его в спину.
Рама съехала с плеч разносчика, и тот, еще ничего не поняв, завертелся на месте, пытаясь ее удержать. Но многие кувшины качнулись из стороны в сторону, стягивая деревяшку к горлу парня. Две глиняные емкости, висевшие на самых длинных веревках, ударились друг о друга и разлетелись на куски. И тут же седобородого бюргера окатило высвободившимся пивом, залило его выпуклый живот и остроконечные красные пулены.
Раздался первый смешок, очень быстро переросший в громогласный смех.
Бюргер побагровел и схватил тощего разносчика за плечо. От этого рама совсем соскочила с плеч, и кувшины, соприкасаясь, раскололись один за другим. Шипящее пиво брызгами разлетелось во все стороны, замочив ноги многих смеющихся. Толпа через мгновение разразилась руганью и проклятиями. Двое молодых горожан схватили разносчика за руки и бросили его в площадную грязь. На него поспешил наброситься и седобородый бюргер. Но неожиданно для себя он сам оказался в грязи. Над ним, заходясь в крике, кружились люди.
Разносчик оказался очень ловким и, бросив свой нарамник, на четвереньках уполз под повозки. Оставшись без виновного, толпа быстро успокоилась.
Огорченно осмотрев свою испорченную вонючей грязью одежду, бюргер стал подниматься. Его тут же под плечи подхватил молодой парень и с необычной для его худощавого тела силой поставил седобородого на ноги. Не успел бюргер поблагодарить своего доброго помощника, как тот уже затерялся за спинами затихающей толпы.
Патрик был доволен. В тайном мешочке на груди уже лежал срезанный его замечательным ножом увесистый кошель. Он не мог взглянуть на его содержимое, но вес украденного веселил душу. Даже привычная при таком деле дрожь в ногах очень быстро прошла. На губах заиграла улыбка. Можно было уходить. Но молодая кровь бурлила в нем, окрыляла и делала беззаботным.
Ему было весело. На груди вора в несколько мгновений оказался кружок колбасы и небольшой хлебец. «Вот и в дороге будет веселее», – потешался молодой вор. Оглянувшись на суетящийся рынок, Патрик уже готов был уйти, но его взгляд упал на неподвижно стоящего господина в синих одеждах.
Веселая мысль мелькнула в его голове, и, поддавшись ей, молодой вор направился к позорному столбу.
Подойдя вплотную к помосту, Патрик склонил голову на плечо и попытался заглянуть под капюшон. Но синяя ткань была очень низко опущена, и он так и не увидел выражения лица местного палача.
Парень отошел на несколько шагов, но и оттуда ничего не разглядел. Шмыгнув носом, молодой вор круто повернулся и неспешным шагом покинул площадь. Насвистывая веселую песенку пастушка, Патрик миновал несколько улиц и направился к кладбищу, чтобы попрощаться с могильщиком Ешко. Завернув за угол низенького дома, он уже готов был увидеть старую часовню и почерневшие кресты могил, но…
Не успев замедлить шаг, Патрик с ходу уткнулся лицом в широкую грудь… господина в синих одеждах. Застыв от ужасной неожиданности, молодой вор глухо замычал и почувствовал, как слабеют ноги.
А палач, взявшись обеими руками за гарнаш, легко рванул его в стороны. Домотканое полотно разорвалось посередине, обнажив висящий на шее заветный мешочек. Патрик зарычал, и его правая рука, до боли сжимая нож, устремилась к шее этого страшного человека. В тот же момент она была перехвачена огромной ладонью палача. Еще миг – и молодой вор дико закричал. Он вдруг упал лицом в землю, а его правая рука оказалась высоко на отлете в крепком захвате железных пальцев господина в синих одеждах.
Палач оттолкнул Патрика, и тот с силой ударился о россыпь камней. В левой руке его обидчика остался сорванный мешочек со всей добычей этого веселого дня. Господин в синих одеждах просунул руку в хитро устроенный воровской кармашек и неторопливо извлек и положил на грудь перевернувшегося Патрика хлеб, колбасу, два яблока и кошель с монетами. Сюда же палач добавил острейший нож, который едва не вонзился в его шею.
– Вор, – глухо промолвил он и сбросил с головы капюшон. – Тебе очень хотелось взглянуть в лицо палача? Что ж, смотри. Твое любопытство тебя погубило. И мне было любопытно, почему у селянина такие добротные сапоги. И почему его руки не раздавлены тяжелой работой, а белы и нежны, как у сказочных принцесс. Уже завтра я отрублю тебе правую руку. Но это в том случае, если судья Перкель пожалеет для тебя веревку.
Горячая волна прошла по телу молодого вора. Он бывал во многих опасных переделках и всегда находил способ спасти свои тело и душу. Но сейчас, глядя в звероподобное лицо палача, он ничего не мог придумать. И еще боль, чудовищная боль в вывихнутом правом плече.
Неспешно собрав добычу в воровской мешочек, господин в синих одеждах взял Патрика одной рукой за шею и легко, как ребенка, поднял.
Затем он велел вору идти впереди себя, совсем не беспокоясь о том, что тот может броситься наутек. Из-за боли, что огнем терзала плечо вора, каждый шаг давался ему с трудом.
Медленно пройдя несколько десятков шагов, вор грустно вздохнул и как можно жалостливее произнес:
– Господи, вразуми судью Перкеля и напомни ему, что некоторые доктора канонического права оправдывают необходимостью даже воровство. «Если кто-либо украдет по необходимости что-то из пищи, питья или одежды по причине голода, жажды или холода, совершает ли он в действительности кражу? Нет, он не совершает ни кражи, ни греха…»
– «…если речь идет о действительно необходимом», – закончил за него палач и усмехнулся.
Патрик обернулся и, с изумлением посмотрев на странного господина в синих одеждах, неожиданно для себя рассмеялся:
– Наверное, мне будет интересно на эшафоте с палачом, знающим строки из книги «Свода» самого Раймунда де Пеньяфорта[36].
– И мне будет забавно повозиться с вором, имеющим университетское образование, – выдавил улыбку палач Гудо. – Можно понять голодного, укравшего хлеб, но серебро… Нет. Стремиться раздобыть себе большее – это грех гордыни, superbia, одна из самых тяжких разновидностей греха.
– Ого! – морщась от боли, присвистнул молодой вор. – Из какого университета вылетают воры, мне известно. Но какой из них готовит к ремеслу палача, ума не приложу.
– Есть такой, – печально выдохнул воспитанник подземелья Правды. – Воли моей в этом нет. Так судьбе было угодно.
– Вот и моя судьба сбросила меня с дубовых скамеек правоведения и толкнула на печальный путь «легкой жатвы». А ведь не доведи епископ Мюнстера моего отца до разорения и скорой смерти, из меня мог бы получиться судья.
– Епископ Мюнстера? – глухо спросил палач.
– Он самый. Поговаривают, что он вот-вот отправится в ад…
– Там ему и место, – прошептал Гудо и громко велел:
– Стой. Сегодня Господь к тебе милостив. Я дам тебе возможность искупить грех. Ты вернешь все, что украл. Да так, чтобы никто ни о чем не догадался.
– Нужно поспешить. Но мое плечо…
– Шесть месяцев ты будешь искупать свой грех, выполняя ту работу, на которую я укажу. Если надумаешь обмануть и сбежать, знай – разыщу и отрублю обе руки выше локтей. Через шесть месяцев ты сам решишь, как тебе дальше жить. Но если попадешь ко мне по воровству еще раз, муки твои будут страшнее адских. Давай руку…
Патрик с опаской протянул искалеченную руку и закрыл глаза. Резкая боль пронзила все тело. От этой боли он на несколько мгновений провалился в беспамятство. А когда открыл глаза, то почувствовал, как его ослабевшее тело поддерживает палач. Боль в плече стала утихать, и от этого на его полноватых губах заиграла улыбка.
– Воры говорят, что тот, кто обнялся с палачом, остался жить и не стал калекой, будет жить долго.
Гудо посмотрел в большие голубые глаза вора и с сомнением покачал головой.
Две пожилые горожанки, идущие навстречу, заметив молодого человека в руках палача, в страхе несколько раз перекрестились и, перейдя на другую сторону улицы, пустились во всю старушечью прыть.
Глава 7
Венцель Марцел готовился омыть свое большое тело.
Ему нравилось погружаться в теплую воду и лежать в ней среди пучков размокшей травы и резаных яблок. Но такое блаженство бюргермейстер мог позволить себе не чаще одного раза в три месяца. Уж очень дорого обходились ему дрова, сжигаемые для недолгого блаженства. Да и дел всяких множество. А еще не хотелось, чтобы кто-то распускал язык, обвиняя бюргермейстера в глупости, а то и в ереси, что еще хуже.
В глупости – это еще куда ни шло. Ведь каждому известно, что водные ванны утепляют тело, но ослабляют организм и расширяют поры. Поэтому они могут вызвать болезни и даже смерть. Ибо в очищенные поры проникает воздух, в котором множество частичек всяких болезней. Так указывается во многих медицинских трактатах. И вот почему уже многие столетия в городах не строят бань, подобных греческим и римским.
Но куда печальнее было то, что в эти мрачные века уход за телом считался грехом. Ходить в рванье и никогда не мыться – вот к чему постоянно призывали церковные проповедники, убеждавшие паству, что это и есть путь к духовному очищению. А тот, кто нежит себя водой, совершает великий грех – смывает с себя святую воду, к которой прикоснулся при крещении. Так учил святой Иероним, гневно отрицая даже простое умывание и доказывая, что после обряда крещения в этом нет ни малейшей нужды. Грязь на теле и вши – вот признаки святости. Монахи и сейчас, подражая святым, называют мерзких кусачек не иначе как «Божьими жемчужинами» и кичатся тем, что вода не касалась их ног, за исключением тех случаев, когда они вынуждены были переходить реки вброд.
И хотя вряд ли церковники Витинбурга захотят выяснять, сколько раз в году их бюргермейстер омывает тело, тем не менее…
К тому же можно оправдаться, что он принимает ванну в лечебных целях, потому что Венцель Марцел всегда перед омовением ставил клизму. Конечно, не сам, ему помогает служанка Хейла, большая мастерица. Этому ее научил отец Венцеля Марцела. Тогда она была еще совсем ребенком. Научил многому нужному и полезному. А затем, умирая, передал свою ученицу сыну. Тогда Венцель Марцел был уже два года вдовцом и преданная, все умеющая и все понимающая Хейла стала для него бесценным подарком.
Хотя ему нужно было снова жениться.
Это сейчас Венцель Марцел так спокойно думает об этом. Но не в первые годы после того, как умерла его дорогая Гертруда. Смерть жены так потрясла Венцеля Марцела, что он вряд ли перенес бы утрату своей следующей избранницы, которую могла постичь та же участь. Кроме того, он уже занялся делами города, а вскоре император, при поддержке городского совета, назначил его бюргермейстером.
Это в больших и богатых городах многие рвутся во властители. Там едва ли не каждый год переизбирают бюргермейстеров. А в Витинбурге этого можно не опасаться. Сонный город с сонными горожанами…
Венцель Марцел тяжело поднялся с деревянной лоханки. Сморщив нос, он с отвращением посмотрел на то, что вылилось из него после клизмы. Ничего, сейчас придет Хейла и унесет нечистоты. Унесет и выльет в домашнюю выгребную яму. За этим строго следит бюргермейстер. Ведь он не ленивый бюргер, выливающий свои испражнения на улицы города. О, как это бесит Венцеля Марцела! Но за столько лет даже он не смог ничего с этим поделать. Так было во всех городах.
Давным-давно, несколько веков назад, в благородной Римской империи все было продумано. А в самом Риме был построен подземный туннель – cloaca maxima, – по которому нечистоты силой воды уносились далеко за город. Венцель Марцел читал и вздыхал, представляя роскошные латрины[37], которые служили не только для того, чтобы благородные властители того мира испражнялись там, но и местом встреч и бесед, происходивших под журчание сливных ручьев. Даже налог на латрины не смог отвратить граждан от приятного посещения этих мест. Именно тогда римский император Веспасиан на робкие укоры некоторых сенаторов ответил: «Pecunia non olet»[38].
О, как было бы замечательно, если бы и в Витинбурге удалось построить хотя бы несколько таких латрин! И, конечно же, можно было бы брать деньги за их посещение. Хотя в это очень и очень плохо верится: вряд ли прижимистые бюргеры захотят платить. Им и в голову не придет идти куда-то и платить, когда нужду можно справить на любом углу улицы.
А ведь как это ни смешно, моча тоже стоит денег. Все в том же Древнем Риме ее продавали из тех же латрин красильщикам шерсти и дубильщикам кож. И даже художникам, которые замешивали на ней краски.
Венцель Марцел опять поморщился. Перед глазами предстала картина сегодняшнего утра. Проходя мимо дома колбасника Рута, бюргермейстер увидел, как тот вместе с братом и старшим сыном разделывает только что зарезанную свинью. Шел снег, и на фоне грязного месива особенно неприятно выделялась большая рыжеватая лужа крови и серо-голубые внутренности животного.
Вошла Хейла.
– Все готово, хозяин, – не глядя ему в глаза, сказала она и, взяв деревянную лоханку, поспешила с ней за дверь.
Венцель Марцел медленно разделся, натянул на себя длинную, ниже колен, рубаху и, взяв восковую свечу, стал спускаться в каминный зал. Холодная деревянная лестница поскрипывала под его тяжелым телом, а пламя свечи, подчиняясь сквознякам, кланялось во все стороны. Ведь на крышу и стены дома непрерывно набрасывался ледяной декабрьский ветер, который непременно находил щели, противно воя и пугая.
Осторожно передвигая ногами в толстых шерстяных носках, бюргермейстер вошел в комнату и сразу же направился к камину.
Хейла опять бросила три лишних полена. И без них в комнате было тепло. Глупая женщина. Была бы она женой, хозяйкой дома, наверняка бы подумала, как сделать так, чтобы было тепло, но при этом поберечь дрова. А Хейле что… Она ни за что не платит. Да и нечем ей платить. Ведь денег ей мог дать только Венцель Марцел. А он ох как давненько не баловал ее серебряными монетками. Впрочем, зачем они ей? Живет на всем готовом. Кормится сытно. Вон какие крутые бедра. А осенью получила теплую накидку и добротные кожаные башмаки. И когда служанка сопровождает его дочь, идущую на рыночную площадь за продуктами, многие бюргеры с одобрением смотрят ей вслед, ибо в их глазах она выглядит замечательно.
Рядом с камином на двух принесенных Хейлой бревнах стояла купель. Она представляла собой широкую полубочку из тонких еловых дощечек, уже потемневшую за долгие годы службы.
Венцель Марцел опустил в нее руку и с удовольствием почувствовал, что вода была достаточно теплой. Да еще на крюке в камине закипало в большом медном казанке полведра воды.
Не снимая рубахи, бюргермейстер опустился в купель и блаженно прикрыл глаза. Тут же, ребячась, Венцель Марцел стал гонять между ладонями волну, покачивая в ней пахучую траву и половинки яблок.
Неслышно подошла Хейла и застыла в ожидании приказов хозяина.
– Вина, – улыбаясь, велел Венцель Марцел и бережно принял от служанки большой стеклянный кубок с чудеснейшим сицилийским вином.
Да, теперь и такие вина стали привозить в Витинбург расторопные купцы. Молва о витинбургском рынке уже успела разойтись по многим городам. Еще бы! Не в каждом городе столь строгие и правильные порядки торговли. Да и налоги справедливые. А еще… А еще ни разу не было такого, чтобы у кого-то пропали деньги или товар. Правда, был один случай. У почтенного старшины цеха пекарей в потасовке на рынке оборвался кошель с двадцатью пятью пражскими грошами. Обнаружив это, старик, вместо того чтобы осмотреться, схватился за сердце и едва не отдал Богу душу. А оказалось, что кошель лежал в нескольких шагах, покрытый толстым слоем грязи.
Сейчас на рыночной площади этой грязи уже нет.
И надо признать: порядок в торговле и чистота на рынке – это заслуга господина в синих одеждах. Ведь не ошибся в нем Венцель Марцел, достойного слугу привел в город. Казалось бы, просто стоит на своем помосте у позорного столба и ничего не делает. Разве что в конце дня пройдется по купцам и соберет налог на проданный товар. Но его грозного вида вполне достаточно, чтобы людишкам не хотелось обманывать и обворовывать.
А еще у него есть помощник по этой же должности. Красавчик Патрик. Странный молодой человек.
Когда палач привел парня и выразил желание взять его в помощники, удивился весь городской совет. Честно говоря, слишком трудно было представить столь утонченного молодого человека с раскаленными щипцами в руках или со свежесодранной собачьей шкурой. Но палач просил для своего помощника половину положенной платы. Как уж тут не согласиться. Тем более что за первый месяц бесплатной работы молодой человек проявил столько рвения, что в это с трудом верилось. А чего стоит уборка грязи на рыночной площади! Сам Венцель Марцел этого не видел, но не единожды слышал о том, что в предрассветное время этот Патрик собирает грязь лопатой и вывозит ее в городскую выгребную яму. Благо, уже имеется сток и грязь вытекает за городские стены. И в этом тоже заслуга палача, приглядывающего за ленивыми золотарями.
Впрочем, почему ленивыми?.. На улицах уже нет павших животных, а собак и этих противных кошек заметно поубавилось.
Но главное заключается не в этом! Главное, что в город потянулся торговый люд. И в казне города появились монеты. А потому как же было не выплатить господину в синих одеждах его вознаграждение? И почему не дать малое золотарям и этому молодому человеку с его привлекательной улыбкой.
И вот еще что немаловажно! Прослышав о такой важной и нужной персоне, из соседних городов поступили уважительные просьбы. Венцель Марцел в согласии с городским советом откликнулся на них. И их искусный палач уже был в трех городах. В одном он применил свое мастерство в пытках разбойника. В двух других повесил воров так, что народ остался доволен зрелищем. Да и сейчас он в Дортмунде, где ему предстоит казнить фальшивомонетчика.
Венцель Марцел уверен: этот палач Гудо обязательно покорит сердца пресыщенных зрелищами дортмундцев. И от тех, что уже состоялись, и от последней казни в городскую казну была внесена оплата серебром и золотом. Так что и палачу скучать не приходится, и Витинбургу явная выгода.
Хейла медленно вылила в купель кипящую воду. Бюргермейстер одобрительно закивал и допил остатки вина. Замечательное вино у этих сицилийцев. Крохотными язычками пламени оно пробежало по жилам и приятнейшим теплом сгустилось в большом животе Венцеля Марцела.
И все же странные отношения у палача и его помощника. Чего только стоит их совместное чтение тех немногих книг, что есть в архиве Витинбурга. Впрочем, он сам дал разрешение на это. Ведь в этих книгах нет ничего интересного и полезного. Видно, им обоим хочется вместе скоротать время безделья. Ну и пусть. Древние верили – в каждой книге есть крупицы богатства. Вот пусть и богатеют. И работают. Много работают. На благо города, а значит, и на благо самого Венцеля Марцела.
Хотелось выпить еще один кубок вина. Но это лишние расходы, да и может повредить тому важному и нужному, что произойдет после омовения.
Венцель Марцел скосил глаза и с вожделением посмотрел на большую грудь служанки. Та, увидев обращенный на нее взгляд, заулыбалась и прикрылась рукой. Бюргремейстер почувствовал напряжение в самом низу живота, и его толстые губы растянулись в улыбке.
– Налей полкубка вина, – мягким голосом велел Венцель Марцел и глубоко втянул в себя аромат купели.
Хейла протянула вино и спрятала руки под передник. На ее полных щеках появились ямочки, а густые брови взлетели вверх.
Бюргермейстер осушил половину кубка. А оставшееся протянул служанке:
– Выпей. И поторопись.
Венцель Марцел, с удовольствием постанывая, выбрался из купели и ступил в прогретые Хейлой войлочные тапочки. Оставляя за собой влажные следы, бюргермейстер быстро поднялся по лестнице и, сбросив мокрую рубаху, нырнул под толстое пуховое одеяло. Немного подрожав, он почувствовал себя тепло и уютно.
Уже не хотелось ни о чем думать. Венцель Марцел напряг слух, пытаясь услышать скрип ступенек, по которым должна подняться служанка. Однако это произойдет только после того, как и она окунется в такую приятную теплую воду.
Хейла не заставила себя долго ждать. Она толкнула ногой дверь в опочивальню бюргермейстера и боком вошла в нее. На ней поверх голого тела была наброшена подаренная накидка, а в руках дымилась металлическая жаровня, в которой весело потрескивали угольки из камина.
«Вот и славно», – подумал Венцель Марцел и откинул край одеяла. Поглядывая на Хейлу, которая установила у лежанки жаровню и, скинув накидку, сладко выгнулась, бюргермейстер представил, как уже в следующее мгновение она будет под ним. Но будет лежать как жена, которую строгие церковники перед венчанием заклинали исполнять супружеский долг неподвижно, вытянув руки вдоль тела, чтобы ни в чем не мешать мужчине.
Пожалуй, это главный ее недостаток.
А в Древнем Риме женщины ласкали мужчин…
* * *
Судебный пристав, чуть склонившись, подал на вытянутых руках медную жестянку.
Гудо скосил взгляд. В металлическом чреве лениво пузырился свинец.
«Бедный городишко», – подумал палач и сбросил свой капюшон.
Увидев отвратное лицо палача, толпа радостно всколыхнулась. Пришло время самого важного и интересного.
Палач нагнулся и поднял с деревянного помоста конусообразную лейку. Затем его взгляд вернулся к опрокинутому на спину худощавому мужчине, которого, придавив его свисающую с колоды голову, держали два крепких стражника.
Глашатай свернул в трубку только что прочитанный приговор и с любопытством уставился на перекошенное от страха лицо преступника.
Гудо подошел к несчастному и приставил лейку к крепко сжатым губам. Преступник замычал и замотал головой. Однако стражники тут же пресекли его попытки к сопротивлению.
Палач вздохнул и с силой нажал на железную лейку. Та, подчиняясь грубой воле, обрезала губы и, выдавив зубы, глубоко вошла в глотку. Преступник задергался. Из глубины его тела послышался придавленный крик. Он тут же стал судорожно глотать выбитые зубы и потоки хлынувшей крови.
Гудо протянул руку и взял поданную ему жестянку с кипящим свинцом. Сейчас он ни о чем не думал. Он выполнял работу палача. Хотя некоторым из толпы показалось, что господин в синих одеждах уж очень скоро вылил в рот преступника кипящий металл. Слишком быстро, всего после нескольких конвульсий, фальшивомонетчик затих, а из прожженной дыры в основании черепа тут же вытек свинец.
Гудо посмотрел на остывающее пятно окрасившегося в кровь металла и еще раз подумал о том, что в былые годы, по словам мэтра Гальчини, фальшивомонетчику в глотку заливали серебро.
«Бедный городишко», – повторил про себя палач и грустно посмотрел на застывшую толпу. Та явно ожидала большего, надеясь, что зрелище растянется на более длительное время. Со вздохом поняв, что все закончилось, собравшиеся стали медленно расходиться.
Палач спустился с помоста и уселся на нижнюю ступеньку.
Через некоторое время к нему подошел пристав и передал то, что полагалось палачу по договору. Гудо вытащил из-под помоста свой полотняный мешок и с безразличием положил в него то, что было на преступнике ниже пояса, – кожаные штаны, зеленого цвета чулки и еще очень крепкие сапоги. Отдельно, в нагрудный карман, он спрятал свой заработок – восемь серебряных монет.
Теперь он был свободен и мог распорядиться этим утром по своему усмотрению. Но прежде нужно было покинуть город, ибо за нанятого палача была внесена страховая оплата и местные власти несли ответственность за то, чтобы с ним ничего не случилось в пределах крепостных стен.
Да и сам Гудо всей душой стремился уйти из города, в котором он только что лишил жизни человека. Хотя многие богословы и законники не причисляют преступников и закоренелых грешников к роду человеческому.
Палач встал и, не оглядываясь на место казни, не спеша направился к заезжему дому, где он оставил еще совсем молодого коня, выданного ему городом Витинбургом.
Он шел по узким улочкам, не поднимая головы, которая и так была надежно упрятана под широким капюшоном. Но, тем не менее, его огромное тело и синие одежды были легко узнаваемы, так как почти все жители этого города присутствовали на казни. Шедшие за палачом люди не спешили его обогнать, а идущие навстречу останавливались и жались к стенам домов и заборам.
Гудо нигде не останавливался, ибо ничего не интересовало его в этом городе, и вскоре оказался в конюшне заезжего дома.
Не удивившись тому, что никто не бросил его коню даже пучка соломы, палач развязал свой полотняный мешок и, вытащив из него свою старую одежду, все так же не спеша переоделся.
Теперь можно было отправляться в путь.
Гудо легко вскочил в седло и тронул коня. Застоявшееся животное сразу же пустилось вскачь, заставив всадника прильнуть к гриве, чтобы не расшибить лоб о низкую балку ворот конюшни. Краем глаза палач заметил высунувшегося из дверей заезжего дома старика хозяина, но и не подумал остановиться.
Благодарить было не за что, а все расходы по пребыванию приглашенного палача должен оплатить городской совет Дортмунда.
Молодой конь быстро вынес всадника за городские ворота и сбросил скорость, едва его копыта попали на ухабистую дорогу. Точнее, в месиво из грязи и снега. И так как хозяин не подавал никаких команд, конь вскоре перешел на шаг, время от времени косясь на правую коленку всадника.
Гудо не торопил коня, хотя понимал, что уже через несколько часов начнет смеркаться, а затем на темные леса упадет непроглядная зимняя ночь.
Нет, его не мучили угрызения совести, как это наверняка было бы со всяким добрым христианином, только что отобравшим жизнь у совсем незнакомого ему человека. Он уже выбросил из головы то, что бюргеры этого городка за кружкой пива будут обсуждать до первых весенних дней. Более того, в его большой голове не было ни мыслей, ни воспоминаний, ни желаний.
А все потому, что в душе Гудо образовалась пустота – неизбывная и холодная.
Такое уже бывало с ним. Причем бывало не раз. Началось с того дня, когда он едва не был убит отцом. Потом это повторялось, особенно в первые годы пребывания в подземелье Правды, когда душе было страшно, а телу невыносимо. Мэтр Гальчини, видевший своего уродливого ученика насквозь, давал такому состоянию латинское определение. Но только мудрая латынь была тогда для Гудо тем же самым, что и язык птиц, зверей или мавров. А жестокосердному учителю было интересно наблюдать, как пустые, безразличные ко всему глаза этого сильного мужчины наливаются злостью и ею же наполняется его душа.
Мудрый Гальчини знал, как выплеснуть накопившуюся в душе ученика злость и куда ее направить. Вскоре в подземелье спускался епископ, и начиналось то, о чем Гудо не расскажет даже в день Божьего суда.
Конь уже долгое время нес безучастного седока по извилистой дороге, не решаясь свернуть с нее в глубокий и рыхлый снег. На развилках дорог он выбирал ту, которая была лучше утоптана. По ней было легче идти. Хотя под тяжелым всадником идти не хотелось. Он и совсем остановился бы. Но небо уже стало сереть, а в оставшихся за спиной лесных зарослях протяжно завыл голодный волк.
Это завывание извечного врага заставило коня ускорить шаг и не сбрасывать его даже тогда, когда пришлось по брюхо в снегу обойти повозку, крытую старым войлоком.
– Эй, добрый человек! Ради Христа, нашего спасителя, помоги. Эй, добрый человек!
Гудо встрепенулся и непонимающе уставился на маленького круглолицего мужчину в облезлой лисьей накидке и в таком же треухе.
– Видишь, добрый человек, эти гнилые ступицы колеса вот-вот треснут. Хотел же поменять колесо еще в городе. Да торопился. Хорошо, что прихватил с собой запасное. Это Господь меня надоумил. Помоги, добрый человек. Я вижу, Создатель не поскупился и дал тебе силушку. Ты только приподними повозку, а я мигом сменю колесо. Так что, добрый человек, поможешь?
– Не называй меня «добрым человеком», – глухо отозвался Гудо и, стиснув зубы, спешился.
– Повозка не очень тяжелая, хотя товара в ней немало. Но все мелкое, почти без веса. Я маленький купец. Торгую по мелочи.
Гудо посмотрел на покосившееся колесо и, став спиной к повозке, легко, без малейших усилий приподнял ее.
– Вот и славно, – повеселел купец. – Я сейчас. Я быстренько.
Этот маленький человечек действительно очень быстро заменил колесо. Было видно, что такое с ним не впервые и что он привык к трудностям дороги.
– Вот и все! – громко воскликнул купец. – Уж и не знаю, как тебя отблагодарить, добрый человек…
Гудо опустил повозку.
– Не называй меня «добрым человеком», – повторил он. Потом удивленно осмотрелся и спросил:
– Куда ведет эта дорога?
Купец перестал улыбаться и попытался заглянуть под капюшон «доброго человека». Затем он внимательно с головы до ног осмотрел его большое тело и стал боком продвигаться к передку повозки. Уже сидя на скамье передка, купец ответил:
– Это дорога ведет в Мюнстер.
– В Мюнстер?! – удивленно воскликнул Гудо. – Почему же я не узнаю ее? И почему я здесь?
Купец пожал плечами и тронул свою вислозадую лошадь. К своему немалому огорчению он увидел, что его добрый помощник уже в седле и едет рядом с ним. Купец озабоченно оглянулся на свой товар и, опустив руку под скамью, почувствовал прикосновение холодного лезвия короткого меча.
Проехав несколько сот шагов, всадник неожиданно сказал:
– Это потому, что я никогда не видел эту дорогу зимой.
Купец облегченно выдохнул:
– А я и зимой, и осенью, и весной, а уж летом несколько раз. И так год за годом. Беру товар у городских ремесленников и везу по селениям и замкам. Меня давно в городе знают. Многие товары дают и без денежек. Знают, что Арнульф – честный купец. Арнульф из Мюнстера – это я…
Помолчав немного в ожидании, что попутчик назовет свое имя, и не дождавшись этого, говорливый купец продолжил:
– И в селениях меня знают. И благородные хозяева замков просят привезти то одно, то другое. Все по мелочи, конечно. Но жить-то нужно. У меня трое детишек. Товар так себе. Но всегда подобран и к поре года, и к святым праздникам. Завтра Рождество. Великий праздник. Вот и везу селянам игрушки для их деток. А еще медовые пряники. Одни сделаны коровками, другие козликами. Есть и ослики, и петушки. Такие пряники и деткам, и женам сгодятся. А еще чепчики, рукавицы и… Да много всякого… Скоро уже начнет темнеть. Мы сейчас проедем небольшое селение, а чуть далее селение будет покрупнее. Там я и заночую. У лесничего Ансена. Мы с ним давно знакомы. А ты?
Всадник кивнул.
– И мне нужно где-то заночевать.
– Вот и правильно. Ансен дорого не возьмет. Зато у него всегда в камине огонь и есть отменная колбаса. А тут мы ненадолго остановимся. Здравствуй, Грета!
Купец остановил повозку, и его круглое лицо расплылось в добрейшей улыбке.
В нескольких шагах от дороги, на маленьком пеньке, стояла девочка лет десяти, в старой овечьей шубке почти до пят, из-под которой выглядывали тупые носки деревянных башмаков. Из-под многослойно намотанной на голове рогожи смотрели большие синие глаза и выглядывал маленький красный носик. На приветствие купца девочка счастливо улыбнулась и низко поклонилась.
– Я же обещал, что под Рождество мы обязательно увидимся. Вот и я! – Арнульф подтащил к себе один из мешков. – Угадай, какой я тебе привез подарок.
– Вы так добры ко мне, что даже ваша улыбка – уже подарок, – звонко произнесла девочка и опять поклонилась.
– Ты красивая и умная девочка. Давай-ка сюда свой хворост.
Девочка спрыгнула с пенька и с радостной улыбкой на лице поднесла перевязанные ветки к повозке. Купец наклонился и, взяв протянутый хворост, бросил его за спину в повозку.
– А это твоя монетка. – Арнульф протянул девочке серебряный полугрош, а затем, повозившись в мешке, прибавил к нему медовый пряник-лошадку. – А вот и твой подарок. Ведь ты весь год была хорошей девочкой. Я это знаю. Все сороки в лесу об этом говорят.
– Спасибо, добрый Арнульф. Дай тебе Бог легкого пути и хороших торгов.
– Спасибо и тебе. А теперь беги. И смотри, не потеряй монетку. Отдай ее сразу же маме. Счастливого Рождества!
Девочка, крепко сжав в маленькой ладошке серебро, поклонилась и побежала в сторону черневших между соснами домиков. Пробежав с десяток шагов, она остановилась и весело крикнула:
– Счастливого Рождества вам, добрые люди!
Затем помахала рукой и продолжила свой путь.
Купец перебрал в руках вожжи и хлестнул концом по лошадиному заду. Та вздрогнула и потянула повозку. Повернув голову к своему попутчику, Арнульф мягко произнес:
– Какая славная девочка. Просто ангел. Она и тебя назвала добрым человеком. – Всадник промолчал, и купец после паузы продолжил:
– А ведь горько подумать, сколько несчастья эта девочка принесла своей матери…
– Что ты говоришь, купец? – Гудо слегка повернул голову и внимательно посмотрел на попутчика.
– Правильнее сказать, не сама девочка, а ее рождение. Много зла на этой грешной земле. И много страданий приходится вынести хорошим людям из-за негодяев, что живут с сатанинским сердцем. А ведь Адела, мать этой девочки, – чистейшей души женщина. И труженица великая. А какая красавица! Только нет ей счастья. Растоптал ее жизнь проклятый наемник, навеки загубил. Тогда таких по нашим краям много проходило. Они шли в нормандские земли под знамена Эдуарда. Вот тогда-то один из этих подонков и надругался над Аделой, в то время совсем еще девочкой. Мало того, дьявол опять его принес, и он опять терзал ее тело и рвал душу. Его схватили и отправили к епископу в жуткое подземелье. А вот что с ним дальше было, не знаю. Говорят, что хозяин-дьявол не оставил свое исчадие без покровительства. Жив он или нет, не знает никто. Но многие думают, что он еще прилетит на дьявольских крыльях, чтобы утащить несчастную женщину и свою дочь Грету на шабаш ведьм, где напьется ее крови и съест маленькое сердце. Вот поэтому красавицу Аделу обходят стороной, а с ее дочерью запрещают играть детям. Но в чем же вина ребенка? Глупые люди. Вот только отец Еромин добр к этим несчастным. Да еще лесничий из Черного леса. Тот даже глаза прикрывает, позволяя девочке собирать хворост в лесу. Так и стоит она днями на дороге. Иногда покупают у нее хворост. Особенно те, кто знает печальную историю ее матери. Но не местные. Те все ждут, когда дьявол снова появится на их головы. Все ждут беду от маленькой девочки.
– Так это дочь того наемника? – с надрывом спросил всадник.
– Точно, его. Больше мужчин Адела и не знала. Да и какой мужчина захочет взять в жены женщину, которая дважды была под наемником и родила от него дочь? И при этом такую красавицу. Хотя, говорят, тот был уродливее самого уродливого демона. Так что красота девочки тоже от дьявола.
Всадник остановил коня и, медленно выговаривая слова, попросил:
– Остановись. Покажи свои товары.
* * *
– Где вы, мой добрый господин? Где вы? Позови его, Грета. Твой голос звонче…
– Где вы, добрый господин? Мы хотим поблагодарить вас за великую щедрость и узнать ваше имя. Мы будем молиться за вашу светлую душу…
Гудо чувствовал, как горячие слезы струятся из глаз, наполняя ушные раковины. Он перевернулся на живот и уткнулся лицом в рыхлую подушку.
Да, он плакал. Плакал во сне. Плакал первый раз в жизни. Но разве это были слезы из глаз? Нет, это были капли горести и страданий, выдавливаемые тем, что еще можно было назвать душой.
Душа сжималась и раздвигалась, давила на сердце, а потом резко освобождала его. И этот главный телесный мускул повисал в пустоте на тоненькой нити, что зовется самой жизнью. Не будучи уверенным в том, что эта нить сейчас не оборвется, сердце звало на помощь невероятной болью и страхом.
Было предрассветное время. В крошечное окошко проникал уже посеревший свет. За стенами домика палача гулял злой ветер. Очаг погас еще с вечера, но Гудо не ощущал холода. Его тело пылало жаром. Да еще эта пульсирующая боль в сердце.
Нужно было заставить себя подняться и принять несколько капель того удивительного настоя валерианы и базилика, что остался еще со времен мэтра Гальчини. Уж никак не думал Гудо, что именно ему понадобится это лекарство.
До нынешнего утра палач не был уверен, что у него есть сердце. Хотя за свою жизнь он разрезал множество тел, и в каждом из них сердце находилось там, где ему и положено. А значит, оно должно было быть и у него. Но для Гудо этот факт не имел значения, ибо он не испытывал чувств, которые рождаются и умирают именно в сердце. Это особые чувства, которые далеки от тех, что вырабатывает мозг, желудок и низ живота.
И вот выяснилось, что существует крепкая связь между душой и телом. И стоило душе прийти в несоразмерные колебания, вызвавшие внутренние муки, как сердце тут же отозвалось телесной болью.
Это нужно было почувствовать еще в тот момент, когда он оказался у домика Аделы. Почувствовать и подготовиться, используя те знания, что оставил в голове ученика великий Гальчини.
Но тогда все было не так тревожно и мучительно. Его сердце и душа были накрепко защищены броней холодного разума, чему научил его все тот же славный во многом мэтр.
А маленькая трещинка в броне уже образовалась, когда Гудо понял, что купец Арнульф рассказывает историю о нем и о той худенькой девчонке, которая едва не стоила ему жизни. А еще о другой маленькой девочке, чей образ поначалу едва ли мог протиснуться в его понимание.
И в эту маленькую трещинку вдруг вползло желание увидеть, увидеть хотя бы мельком, какая она сегодня, та, что вызвала столь сильное телесное желание и заставила наемника Гудо покинуть свой отряд, свою кровавую жизнь и отправиться навстречу счастливой жизни. Просто увидеть ее и… хотя бы попытаться испросить у нее прощения за сломанную жизнь, каждый год и каждый день которой не приносил ничего, кроме бедности и унижений.
Вот тогда-то он и обратился к купцу, чтобы тот показал товары.
Гудо быстро отобрал для Аделы лисью шапку, чепец, пару сапог на заячьем меху и отрез шерстяной ткани в три локтя и положил все это в предложенный торговцем мешок. Немного поколебавшись, он добавил еще несколько медовых пряников и две расписные деревянные игрушки для девочки.
Обрадованный столь скорой и достаточно крупной продажей, купец не скупился и отдал все это за четыре гроша. Затем он охотно согласился отнести подарки в дом Аделы и даже под каким-то предлогом вывести ее во двор. Он же и указал своему неожиданному покупателю плетеную изгородь, за которую когда-то загонялась на ночь живность. С ее угла хорошо был виден двор и маленькая дверь в домик.
Уже возле изгороди Гудо остановил купца и протянул ему оставшиеся деньги:
– Пусть купит весной поросят или овечек… Или что захочет.
Он узнал… Он вспомнил этот домик, этот дворик, эту изгородь. И его лицо запылало, а руки задрожали. Сюда привел его дьявол в первый раз. Сюда же он отправил своего раба и во второй.
Но что же произошло сейчас?
Неужели враг рода человеческого так и не оставил в покое горестную душу Гудо? Может, злая воля затуманила голову несчастного и, пользуясь этим, направила неразумное животное в это злосчастное место? Да к тому же еще дьявол подослал ему купчишку, встреча с которым грозила жестоким разоблачением.
И вот он стоит почти у того самого места, где, бросив девчонку наземь, прожигал ее душу фаллосом, возбужденным сатанинской кровью. Значит, Гудо опять во власти демонов и долгие годы невзгод и страданий, проведенных в мрачном подземелье Правды, не искупили его ужасные грехи. Напротив – не смея вырвать душу, дьявол превратил ее в ледышку и сковал семью печатями зла.
Гудо крепко стиснул зубы и закрыл глаза. Неужели Господь не смилуется и не убьет его в этот же миг? О милосердный Господь…
Но Господь распахнул двери домика, и за его порог ступила она…
Не имея имени, она приходила к нему множество раз то во сне, то в те мимолетные мгновения, когда Гудо закрывал глаза, жалея себя. Она приходила всегда безмолвная, со скрещенными на груди руками, и от ее обнаженного тела исходил слепивший его яркий свет.
Вот и сейчас сквозь закрытые веки Гудо почувствовал этот призывный свет и, сам того не желая, открыл глаза.
Не было никакого обнаженного тела, не было мучительно яркого света. Он увидел все еще молодую женщину, в старом тряпье и с непокрытой головой. Он всматривался в ее лицо, чистое, белое, с маленьким носиком и огромными, как у Божьей Матери, глазами, и чувствовал, как замирает дыхание.
В затылок ударила волна крови, и Гудо, согнувшись, поспешил за ближайшие деревья.
– Где вы, мой добрый господин? Где вы? Позови его, Грета. Твой голос звонче…
– Где вы, добрый господин? Мы хотим поблагодарить за великую щедрость и узнать ваше имя. Мы будем молиться за вашу светлую душу…
Он слышал их голоса, привалившись спиной к старой сосне и опустив свою огромную голову на грудь, и никак не мог отдышаться.
У девочки действительно был очень звонкий голос. Звонче любого колокола, нет, сотен колоколов. Этот голос способен был разбудить даже мертвую душу. И душа Гудо проснулась, согрелась и сбросила печати сатанинских сил. И если еще оставалась броня, созданная человеком из мрачного подземелья, то она уже вся покрылась трещинами. Но она все еще оберегала холодный разум и способность понимать происходящее. Возможно, только сейчас он понял, что не дьявольские козни, не случай привели его на это место, а что-то внутреннее, что сидело в нем и было сильнее дьявольской воли… и даже Божьей. Нет, он не провалился в беспамятство, а всего лишь на время усыпил разум и отдался тому, что было ему почти всегда запрещено, – желанию… Оно, именно оно маленьким свечным пламенем стало отогревать душу.
И вот желание сбылось. Мужчина увидел женщину. Но он видел ее глазами грешника, долгие годы пребывавшего в пустыне. Она же наверняка посмотрит на него, как невинно осужденная жертва смотрит на приближающегося к ней палача, вооруженного топором.
Но ведь на самом деле он и есть палач! Гудо-палач!
Человек в синих одеждах, оттолкнувшись от старого дерева, быстро, почти бегом бросился к своему коню и, легко вскочив в седло, пустился в надвигающиеся сумерки…
Гудо еще долго прислушивался к своей сердечной боли. Наконец он решился и очень медленно поднялся. Маленькими шажками добравшись к недавно сколоченным полочкам, он на ощупь нашел небольшую стеклянную бутылочку. Вместо нескольких капель Гудо сделал глоток и, поставив лекарство на место, такими же семенящими шажками вернулся в постель.
Вскоре ему полегчало. Боль притупилась, биение сердца стало ровнее. Он хотел было поблагодарить мэтра Гальчини, но сразу же отбросил эту мысль.
Гудо больше не мог о чем-либо думать и не желал ничего вспоминать.
* * *
В его дверь несколько раз постучали, но Гудо не открыл и не откликнулся. Он ожидал, что пришедший к нему Патрик решится толкнуть дверь и войдет, чтобы удостовериться в том, что палача нет дома, или в том, что палач дома, но скорее мертв, чем жив.
Но Патрик, пробормотав проклятия, так и не осмелился переступить порог его дома и, насвистывая, удалился прочь. Даже Патрик, по ремеслу вор, а по сути философ, не смог пересилить свое суеверие и принятые обычаи. Вот так, скорее всего, и умер в этом доме старый палач. Вот так, возможно, умрет и сам Гудо. И, наверное, умер бы.
Но над ним безотлучно висела тень мэтра Гальчини – и ненавистного врага, и добрейшего друга. Он бледнел, вспоминая учителя, и светлел лицом, используя его наставления.
А ученость мэтра Гальчини была воистину великой. Он знал и умел все. И как только это могло уместиться в одном человеке? Странным было то, что этот великий человек и словом не обмолвился, кто же, в свою очередь, был его наставником. В каких краях, в каких странах он побывал, и сколько лет ему понадобилось, чтобы достичь великих знаний. А больше всего Гудо мучил вопрос: почему Гальчини выбрал именно его? Раньше он очень много думал об этом. Но так и не пришел к окончательному решению.
Гудо скривился. Тень Гальчини опять превратилась в дымку. И не приведи Господь, чтобы дымка обрела телесные формы…
Гудо вздохнул и поднялся с кровати. Так как он, как и большинство людей, спал в одежде, ему понадобилось совсем немного времени, чтобы натянуть сапоги и укутаться в плащ.
Сердце уже полностью успокоилось, жар спал. Несмотря на то что он более суток не держал даже крошки во рту, есть ему не хотелось. Ему нужно было двигаться и немного побыть среди людей. Как бы странно это ни звучало для Гудо.
Вскоре он прошел через городские ворота и, как всегда, не поприветствовал охранников. Впрочем, как и они его. Ему не о чем было говорить с вечно сонными городскими стражами. А им и вовсе не хотелось обращать на себя внимание господина в синих одеждах.
Правда, в начале зимы самый молодой из них попытался заговорить с палачом. Подставляя ладонь первому снегу, он сказал: «Снег идет – значит, наш палач пощипал своих гусей». В ответ на известную шутку Гудо вплотную подошел к стражнику и, сняв капюшон, тихо произнес: «У меня нет гусей. Это щиплет гусей другой палач. Может быть, твой».
Стражник отскочил в сторону и несколько раз перекрестился. С тех пор ни стражники, ни служащие муниципалитета не заговаривали с палачом первыми. Да и он не нуждался ни в каких разговорах. Будь его воля, он бы охотно заменил слова жестами.
Ему и сейчас вспомнился один из уроков, когда Гальчини говорил тихим, надтреснувшим голосом:
– Слова были и есть колдовство. Словом можно осчастливить или повергнуть в отчаяние. Благословить или наложить проклятие. Словом обнадеживают и обманывают. На слова надеются, но и веры им нет. Куда надежнее понимаемые жесты. Особенно для тех, кто их придумал и посвятил людям разумным. Ведь каждый палец руки является определенным символом. Большой палец имеет значение духовности и божественности, указательный – логики и ума, средний – добродушия и милосердия, безымянный – раскаяния и просьбы о прощении, мизинец – веры, надежды и доброй воли…
О, как долги и утомительны были уроки Гальчини!
Гальчини… Гальчини… Воспоминания о нем по-прежнему мучили последнего ученика старого палача, не желая покидать несчастную голову Гудо.
Стремясь освободиться от преследования тени учителя, Гудо остановился посреди улицы и трижды обернулся вокруг себя. Порывшись в карманах штанов, он достал кусок мела, которым делал записи на стене рыночной площади, чтобы знать, кто и сколько должен пошлины по проданному товару. Повертев его в руках, господин в синих одеждах подошел к стене дома и нарисовал почти правильный восьмиконечный крест тамплиеров.
Точно такой же рисовал Гальчини, когда хотел на время освободиться от назойливой мысли или нежелательной работы, а затем, стерев его, предаться им на свежую голову и с пониманием. Получалось, что этот крест принимал на себя человеческую неготовность к размышлениям или действию.
Гудо осмотрелся. На город надвигалась предвечерняя пора. Еще не стемнело, но на сжатой домами улочке было сумрачно. Ни в начале, ни в конце улицы Гудо никого не заметил и даже улыбнулся.
Что за ребячество – трижды вращаться вокруг себя. А крест?.. Пусть немного побудет. Ему действительно в эти дни нужно освободить себя от мыслей и всякого труда. И хорошо было бы выпить кружку густого, хмельного пива.
Гудо похлопал по правой стороне своего камзола. В его потайном кармане были надежно спрятаны деньги, полученные за выполнение обязанностей палача. И если в первый месяц бюргермейстер с кислым лицом выдавал ему серебро, которого едва хватало на пропитание, то перед Рождеством он был необычайно щедр.
Еще бы! По первому снегу и в последующие торговые дни в город пожаловало столько продавцов и покупателей, что их стало едва ли не вполовину больше жителей Витинбурга. Теперь его мастеровые бюргеры с двойным усердием трудились, чтобы подготовить к следующему торговому дню не только заказанные товары, но и те, что составят определенный запас. Изготовление впрок не поощрялось уставами цехов, и даже наоборот, цеха седельщиков, кожевников и скорняков запрещали это. Но возросший спрос подстегивал мастеров, и многое уже производилось на возможную продажу.
К тому же появление в городе множества гостей и деньги, которыми теперь располагали бюргеры, оживили харчевни, где все больше и больше продавалось пива, вина, окороков, сыров и много другого съестного. И опять же, сытые гости и охмелевшие горожане чаще стали посещать домик старой Ванды, где их с восторгом встречали гулящие девки. И от этого налога в казну города потек все набирающий силу ручеек серебра.
Бюргермейстер был доволен. Он так много делал для города и его бюргеров. Хотя, стараясь быть справедливым, кое в чем благодарил и господина в синих одеждах. Вот поэтому в потайном кармашке Гудо теперь было серебро и он мог свободно им распоряжаться.
Гудо для порядка прошагал по нескольким улицам города, побывал на рыночной и Ратушной площадях, а затем зашел в лучшую харчевню на улице Трех гусей.
Здесь было шумно. Раздавался смех, и подвыпившие компании за разными столиками поочередно затягивали песенки и даже цеховые гимны, которые пели с гордостью.
Хозяин харчевни Кривой Иган с застывшей слезой счастья в здоровом правом глазу то и дело наливал пиво в кувшины и едва успевал покрикивать на своего сына и двух нанятых мальчишек, чтобы они поскорее подавали на столы выпивку и закуску, которую непрерывно жарили и варили старая жена и сестра хозяина.
Да, начало зимы очень радовало Игана. Вот так хотя бы до весны. А дальше…
Дальше мысль Игана оборвалась. Его счастливый взгляд, непрерывно блуждающий от наливаемого кувшина к столам, где усиленно поглощались прикупленные им запасы, застыл. Почувствовав, как по руке течет не попавшее в горлышко кувшина пиво, хозяин харчевни тихо выругался.
Иган был рад увидеть любого, кто входил в двери его харчевни. Любого, но только не его… Господина в синих одеждах.
Те, кто сидел за столиком при входе, первыми заметили палача и вмиг прервали свой разговор. Вслед за ними болтовня, веселье и песни стали затихать от столика к столику.
Гудо сбросил с головы капюшон и медленно осмотрел помещение. Под его взглядом только что веселившиеся мастера, подмастерья и старшие ученики опустили головы и кружки. За многими столами послышался сдавленный шепот. Это бюргеры спешили сообщить гостям города, кого они видят в мерцающем свете восковых свечей, которыми Кривой Иган щедро утыкал свою харчевню. Бюргеры не знали, что первым делом вновь прибывшие торговать гости отправлялись к позорному столбу, чтобы посмотреть на того, о ком они уже были наслышаны от своих родственников, друзей, соседей или просто в пути. Этому же господину в синих одеждах они выплачивали долю с проданных товаров. Так что палача увидели и узнали все.
Слеза счастья в правом глазу Игана сменилась слезой печали, едва он заметил, как его гости торопливо опрокидывают в себя пиво и, не разжевывая, глотают пищу.
Первыми поспешили уйти гости крайнего у входа стола.
Палач, воспользовавшись освободившимся местом, присел на краешек скамьи и положил обе руки на стол. Его взгляд был устремлен вперед, но он не видел ни одного из посетителей харчевни, в спешке покидавших ее. Только когда у стола появился хозяин харчевни, Гудо посмотрел на свои руки и едва слышно произнес:
– Пива, лучшего. Большой кувшин.
Кривой Иган шмыгнул носом и, сгорбившись от неожиданного горя, поплелся в подклеть за темным пивом, которое держал для себя. Долго провозившись, хозяин харчевни выставил перед неприятным гостем большой кувшин и, всхлипывая, сказал:
– Каждые два дня я буду наливать в этот кувшин пиво не хуже того, что в нем сейчас. Кувшин будет ждать у твоего дома. Не нужно приходить сюда за ним.
Губы Гудо сжались в нитку, и он хмуро посмотрел на отшатнувшегося хозяина харчевни. Затем палач сделал большой глоток пива, встал и вместе с кувшином вышел за дверь.
* * *
Ранним утром следующего дня Гудо и его помощник Патрик встретились у городских ворот. По выражению лица молодого человека было видно, что у него срочное и важное дело и лишь присутствие стражников сдерживает парня немедленно рассказать о нем.
Только оказавшись в нескольких десятках шагов от воротной башни, Патрик начал с упреков:
– Я не видел тебя уже четыре дня. С того самого дня, когда ты отправился выплавлять душу фальшивомонетчика. И все эти дни я на своих плечах ношу груз твоих забот. Мы так не договаривались. Я помогаю тебе и делаю то, что ты велишь. Но никак не ту работу, что должна выполняться тобой…
Гудо остановился и посмотрел на помощника. Тот в силу своей свободной души и учености спокойно переносил любое настроение палача и поэтому даже бровью не повел, глядя на угрюмое лицо. Правда, красные усталые глаза и запах перегоревшего в желудке пива все же несколько смутили Патрика. Но он только присвистнул и продолжил:
– Два дня назад лесничий связал и притащил в Ратушу двух мальчишек-браконьеров. Они то ли убили, то ли пытались убить косулю. Хорошо, что судьи Перкеля не было в городе. А если бы он был? Он же так любит быстрое судебное разбирательство. Представь, что он присудил бы повесить их! Или еще того хуже – отрубить им руку и ногу! Тебе не привыкать. А я и топора толком никогда в руках не держал. Да и как это…
– Я тебе покажу, как это. На первом приговоренном. А второго можешь и сам. Ведь ты прилежный ученик.
Гудо скривился в гримасе.
– Я – вор. Ну, могу еще ножом. Случается. А вот так взять и махать топором… Для тебя это просто… как улыбнуться. Честно говоря, у тебя неудачная улыбка. Как и твои шутки. А тут еще эти золотари второй день на улицу не выходят. Зря им бюргермейстер выдал по два гроша. Наверное, купили бочку вина и где-то спрятались от меня. Но я не сказал еще о самом главном… Что это?
Гудо стоял напротив нарисованного им вчера креста и покусывал нижнюю губу. После некоторого раздумья палач произнес:
– Крест этой ночью мне не помог. – И полой плаща затер мел.
– Да я не о кресте. Посмотри под ноги.
Гудо опустил взгляд. В этом месте на несколько десятков шагов исчезла смесь желтого от нечистот снега и толстого слоя грязи. Непривычно смотрелся уложенный камень мостовой и скользящая по нему тощая свинья, недоумевающая, куда подевались городские отбросы.
Гудо пожал плечами и продолжил путь. Продолжил и Патрик:
– Ну а самое интересное – в голубятне[39] старой Ванды. Уже вторую ночь Ванда и ее девки перемывают друг другу косточки. И это при гостях. Так что гости не задерживаются не то что на ночь, а даже для того, чтобы под юбку заглянуть.
– Это убыток для города. Это уже мое дело, – мрачно произнес палач и свернул в улочку налево.
Бордель старой Ванды находился в сотне шагов от Ратушной площади. Почти в центре города. Сейчас в центре города. А в те далекие времена, когда город принадлежал сеньорам, баронам из рода Фрильке, этот дом был построен за старой замковой стеной. Он располагался в стороне от жилища знатных господ, а маленькая замковая церковь была отделена от места греха толстой и высокой стеной. Теперь из окошек третьего этажа борделя были видны острые шпили Кафедрального собора и многие из жителей города шли на божественные службы мимо большого старого дома, который изначально строился для сладостного, но греха.
И во времена сеньоров, и в годы муниципальной власти города этот дом находился под покровительством, ибо был во многом полезен и оправдан. Покровители получали денежную выгоду – налог, гулящие девки – средства для жизни, а Церковь, присматривающая за жизнью своей паствы, избавлялась от больших грехов.
Ведь в городах всегда был избыток женщин. Даже высокая женская смертность от болезней и родов, при которых умирала каждая третья первороженица, не шла ни в какое сравнение с гибелью мужчин во время войн, междоусобиц, драк, опасных путешествий и неумеренности во всякого рода наслаждениях. Одинокие женщины пытались выжить благодаря собственному труду. Но работа прачками, плетельщицами корзин, белошвейками, торговками яиц, сыров, овощей и фруктов едва позволяла выжить. Нужда гнала женщин к тем занятиям, что так или иначе сводились к плотскому греху. Служанки в богатых домах, при харчевнях и в цирюльнях были обречены на греховные утехи. Но с них город не имел дохода, и поэтому такие женщины в силу доносов и обид других женщин подвергались жестокому преследованию властями. Как и те, кто сводил замужних женщин с искателями их утех. В особенности строгому наказанию подвергались обитательницы борделя, если они в силу любовной привязанности отдавали свое тело без оплаты или часто нарушали устав, в котором прописывались правила и взаимоотношения между обитателями борделя, а также многочисленные запреты.
В каждом ремесленном цеху был свой устав. И каждый нарушивший его подвергался немедленному суду и наказанию старейшинами цеха. В силу обязанностей перед городом старшиной борделя являлся палач Гудо.
Именно поэтому он с большим вниманием во время пути слушал рассказ своего помощника о многочисленных нарушениях, ставших ему известными.
Гудо совсем не был удивлен тому, как много Патрик знает о внутренней жизни греховного дома. Палачу было известно по отчетам, а точнее, благодаря наушничеству содержательницы борделя, старой Ванды, что его молодой помощник два, а то и три раза в неделю ночует у ее подопечных.
Это было понятно. Молодой сильный парень, пристрастившийся к плотским утехам еще в годы университетской учебы, он нуждался в регулярном освобождении от семени, что так вредно молодой крови. Но непонятно, как при своем мизерном жаловании Патрик позволяет такие растраты. То, что он мог заниматься своим воровским ремеслом, Гудо и не думал. Он был достаточно убедителен, когда обещал отрубить руки. И молодой человек это твердо осознал. Тем не менее у него хватало денег и на оплату девок, и на подарки им, и для себя – на свежую пищу и на пиво с вином.
Может, он имел небольшой доход от того малого, что было его наследством. А может, приберегал деньги на приятное, так как ютился в маленькой комнатушке могильщика Ешко. А может, помогал угрюмому копателю могил в дни похорон.
Так или иначе, но факт был налицо: Патрик стал своим человеком в доме старой Ванды, перепробовал всех одиннадцать ее содержанок и разве что не возлежал на самой старухе, сорокапятилетней Ванде, и на ее подруге, учетчице Агнессе, которая была на пять лет ее старше. А может, пользовался и ими, поскольку их услуги в силу преклонного возраста стоили едва ли не вполовину дешевле. Во всяком случае, посетители их пользовали не реже, чем других. Особенно ученики и начинающие подмастерья.
– Я этих сестер плотского греха очень хорошо знаю, – не умолкал Патрик. – Это только кажется, что все они разные. Но дьявол-искуситель дал их праматери Еве одно общее и вечное – способность соблазнять и получать радость от своего умения. Не думай, что им нужны одни только деньги, нет. Им нужно приблизить мужчину и завладеть им. Это только глупцы думают, что они соблазняют и овладевают женщиной. Глупцы… Они и не подозревают, что соблазняет и овладевает ими женщина. Я-то знаю. Ведь во всех университетах писцы[40] – главные знатоки женщин. И я был не из последних. Всем известно изречение: «Красивые женщины и виноградный сок – возлюбленные всех писцов». У нас в Кельне были классы на втором и третьем этажах. А на первом был бордель. Так иногда они пробирались к нам во время занятий. Вот была потеха. Наставник читает лекции, а на задних рядах…
– Хватит, Патрик. Мы пришли.
Мужчины остановились у большого дома в три этажа, над дверью которого никогда не угасала свеча, закрытая красным стеклом. Для еще большей узнаваемости все пятнадцать окон дома были зарешечены и выкрашены в пестрые цвета. В основном преобладал красный цвет.
Гудо толкнул дверь и вошел в большую комнату для гостей. Здесь стояли три стола со скамьями и два высоких шкафа с кухонной утварью и множеством кувшинов и кружек.
За дальним столом, обхватив руками седую голову и широко расставив ноги, сидела Ванда, содержательница борделя. Из кухни, находившейся справа от нее, доносилась громкая женская перебранка, часто подкрепляемая ругательствами. С лестницы слева лился такой же поток упреков и сквернословия.
Гудо уселся напротив содержательницы борделя и грозно уставился на нее. Ее лицо перекосилось от страха, вызванного внезапным приходом палача. Он тут же приложил палец к своим устам, запретив Ванде издавать какие-либо звуки. Так они просидели достаточно долго, пока из кухни не выглянула одна из содержанок и, увидев господина в синих одеждах, ойкнула и спряталась.
Шум на кухне тут же утих. После этого замолкли и те, что были на верхних этажах.
– Гости есть? – тихо спросил Гудо.
Ванда, глотая слюну, отрицательно покачала головой.
– Зови всех, – велел палач и сбросил свой плащ.
На зов Ванды из кухни робко вышли пять девок, а с лестницы, все еще пылая гневом, спустились остальные шестеро. Увидев столь нежеланного гостя, они тут же побледнели и, сбившись в кучку, застыли на нижних ступеньках.
– Кто желает что-либо сказать? – не повышая голоса, спросил палач и, выждав некоторое время, продолжил:
– Вы уже все сказали. Я слышал. Слышал и мой помощник. Ваши слова подтвердит Ванда. Вы опозорили честь вашего устава, который дали вам городской совет и бюргермейстер. В редких городах есть такие уставы. А бюргермейстер побеспокоился и о вас. И чем же вы отблагодарили его? Злостными нарушениями. Вы все виновны. Маленькая Анхен, ты увидела, что твой гость еврей, но не сообщила об этом содержательнице. Нехристианам вход в этот дом запрещен. За это ты будешь наказана десятью ударами кнута. Жирная Редвига, ты принимала мужчин в свои недозволенные дни. Тебя ждет позорный столб и ошейник на рыночной площади. Хитрая Хейла, ты знала, что плотник Питер имеет жену и прелюбодействует. Ты понесешь тяжелый камень до конца городского округа, а затем удалишься из этих мест навсегда. Безносая Метц из Ульма, ты обманом пробралась в аббатство и осквернила его с тремя монахами. Старый осел повезет тебя обнаженной через весь город, а затем я поставлю на твоем лице клеймо. Оно будет ярким дополнением твоему безносому лицу. Раскрашенная Анна, ты соблазняла мужчин прямо на улице. Это строго запрещено. За это я отрежу тебе уши. Та из Ботцена, твой позор велик. Ты приходила в дом кузнеца Раульфа и отдавалась ему без оплаты…
– Он желает на мне жениться, – всхлипнув, сказала совсем еще юная девушка.
– Эта бездоходная любовная связь принесла убыток городской казне. За это я отрублю тебе руку. Шанен, девушка погонщика скота. Ведь именно так ты значишься в списке этого дома. Ты свела замужнюю женщину с любовником и за это получила вознаграждение, которое утаила. Тебя ожидает петля. Агнесса, сестра Лоренца, твой грех настолько велик что, языки пламени будут облизывать твое тело. За остальными тоже грех. И вы мне об этом расскажете. Я знаю путь к правде. Путь этот начинается с боли. Ужасной боли.
Гудо встал, набросил на себя плащ и медленно подошел к двери. Здесь он поправил свою накидку и обернулся. Все содержанки и старая Ванда стояли на коленях. Женщины смотрели на господина в синих одеждах с еще большей мольбой, чем на распятие самого сына Божьего.
– И все это будет. Если еще раз…
Палач громко захлопнул дверь.
Патрик громко рассмеялся и поднялся со скамьи.
– Ну вот, я же говорил, что у нашего палача есть душа. Не такая, как у людей. Но есть. Теперь нужно отблагодарить его большими трудами и звонкой монетой городу, ну и… Мы же заботимся о вас. Смотри, Анна, какую волшебную мазь дал тебе палач. На твоем лице уже совсем нет этих противных белых червей. Да и у тебя, Агнесса, перестали гноиться ногти. Все будет просто хорошо.
– Да уж, хорошо, – надувшись, промолвила Агнесса. – Вот только учетчица, наша любезная Грекхем, будет и впредь указывать цену гостям со своим интересом.
– И почему Ванда заставляет нас прясть вместо двух оговоренных мотков шерсти три? Ведь гостей прибавилось и у нас меньше свободного времени, – поднимаясь с колен, промолвила Та. Вслед за ней поднялись и все остальные.
Девки сразу стали говорить, перебивая друг друга.
– Да, и у нас должна быть кухарка, как во всех других борделях.
– И она должна быть за счет Ванды.
– А вчера к мясному обеду Ванда не отсчитала денег на суп и капусту…
– В уставе указано, что она должна честно о нас заботиться…
Патрик прижал руку к правому уху и громко прокричал:
– Вы что, не слышите? Палач возвращается.
Девки тут же умолкли, искоса поглядывая на содержательницу борделя. Патрик рассмеялся.
– Ну, вот и хорошо. Хорошо, когда в доме тишина и общее согласие. А мы в этом поможем. Палач поможет. Да и я замолвлю за вас словечко. Ведь вы – ценное имущество города. Бюргермейстер каждую неделю о вас справляется. А будет шумно – будут слезы. Кровавые слезы. А чтобы их не было, держите язык за зубами. Сварливый язык доведет до беды. А чтобы ее не было, выставляйте на стол рейнское вино, золотистых гусей, нежных зайцев или что там сегодня есть. Будем пить и есть, как в добром доме, где живет крепкая семья. А потом маленькая Анхен и ты, милая Та, уложите меня между собой. Только ты, Грекхем, уступи не как прежде, а вдвое. Ведь сегодня у вас праздник. Ваших тел не коснулся господин в синих одеждах… И не снимайте своих красных чепчиков вне ваших комнат.
Глава 8
– «…Один из рукавов реки Об, протекая через многочисленные мастерские аббатства, снискал себе повсюду благословения за те услуги, что он оказывает обители. Река принимается здесь за большую работу; и если не вся целиком, то, по крайней мере, она не остается праздной. Русло, излучины которого разрезают долину пополам, было прорыто не природой, но сноровкой монахов. И таким путем река отдает обители половину самой себя, как бы приветствуя монахов и извиняясь, что она не явилась к ним вся целиком, поскольку не смогла найти канал, достаточно широкий, чтобы ее вместить.
Когда подчас река выходит из берегов и выплескивает за свои обычные пределы слишком обильную воду, то ее отражает стена, под которой она вынуждена течь. Тогда она поворачивает вспять, и волна, которую несет с собой прежнее течение, принимает в свои объятья отраженную волну. Однако, допущенная в аббатство – в той мере, в какой ей это позволяет стена, исполняющая роль привратника, – река бурно устремляется в мельницу, где она сразу же принимается за дело, приводя в движение колеса для того, чтобы молоть тяжелыми жерновами пшеницу или трясти решето, которое отделяет муку от отрубей. И вот уже в соседнем здании она наполняет котел для варки пива и отдается огню, который кипятит воду, дабы изготовить напиток дня монахов. Если виноградник ответил на заботу виноградаря дурным ответом бесплодия или же кровь грозди оказалась негодной, нужно заменить ее дочерью колоса. Но и после этого река не считает себя свободной. Ее зовут к себе стоящие подле мельницы сукновальни. Она уже была занята на мельнице приготовлением пищи для братьев; есть, стало быть, резон потребовать, чтобы она позаботилась и об их одежде. Она не спорит и ни от чего не отказывается. Она попеременно поднимает и опускает тяжелые бабы, или, если угодно, молоты, а еще лучше сказать, деревянные ноги (ибо это слово более точно выражает характер работы сукновалов), и сберегает сукновалам много сил.
О мой Бог! Какое утешение даруешь Ты своим бедным слугам, дабы их не угнетала великая печаль! Как облегчаешь Ты муки детей своих, пребывающих в раскаянии, и как избавляешь их от лишних тягот труда! Сколько бы лошадей надрывалось, сколько бы людей утомляли свои руки в работах, которые делает для нас без всякого труда с нашей стороны эта столь милостивая река, которой мы обязаны и нашей одеждой, и нашим пропитанием. Она объединяет свои усилия с нашими и, перенеся все тяготы жаркого дня, ждет от нас лишь одну награду за свой тяжелый труд: чтобы ей позволили свободно удалиться после того, как она старательно сделала все, что от нее требовали. Заставив стремительно вращаться множество быстрых колес, она вся покрывается пеной, словно ее саму перемололи, и ее течение становится более вялым. Покинув сукновальню, она устремляется в дубильную мастерскую, где выказывает столь же живости, сколь и тщания, дабы изготовить материал, необходимый для обуви братьев. Потом она разделяется на множество мелких рукавов и посещает в своем услужливом течении различные заведения, проворно разыскивая те, что имеют в ней нужду. Идет ли речь о том, чтобы печь, просеивать, вращать, дробить, орошать, поднимать или молоть, – везде она предлагает свою помощь и никогда в ней не отказывает…»
– Скажи еще раз, кто написал этот чудесный гимн машинам?
Патрик закрыл книгу и вновь открыл ее на главной странице.
– Какой-то монах из Клерво. Но почему ты все эти мельницы и прочее называешь машинами? Ведь известно, что это слово применимо более к военным механизмам. Всяким там «онаграм», «мангонно», «требюше» и «скорпионам»[41], а также к штурмовым башням.
– Я знаю, что machanici от времен последних дней древнего мира и по сей день называют людей, которые строят и приводят в действия эти оборонительные и осадные механизмы. Но в дни мира эти люди придумывают хитроумные, полезные для жизни устройства. В прошлые века их было больше, чем в наши дни. Так почему все эти мельницы, дробилки, трепалки и прочее не называть одним словом – машины? Ведь мы никогда не узнаем имен тех, кто придумал и построил то, что приносит пользу и облегчает труд. А так назовем ремеслом тех, кто жил ради этого ремесла.
– Ну, не знаю, Гудо. Тебе это понятнее. Вот только я думаю, если бы у этого городишки была такая речушка, а на ней все эти, как ты говоришь, машины, то уж очень скоро все горожане сгибались бы от огромных кошелей с серебром и золотом.
– Для города этого недостаточно, – после долгого молчания ответил палач. – А вот если бы на такой речушке поставить лесопильню с особыми машинами… Ведь леса сколько угодно, но много ли его обработаешь топором и заступом? Да еще короткими пилами.
– А ты смог бы сделать такие машины для леса?
– Зачем это мне? Я для этого города – палач. Да и много денег нужно для такого дела. Хотя… Тогда балки можно было бы делать быстро и большой длины. А это дорогой товар. И доски – тонкие и ровные по ширине. Вот только… Выбрось это из головы. Давай задувай свечи и пойдем отсюда. Бюргермейстер разрешил читать книги архива при свете дня и во время, когда город не требует выполнения наших обязанностей. А мы…
– Так ведь свечи-то наши, – засмеялся Патрик.
– Это верно. Но сегодня понедельник и нужно собрать налог со старой Ванды. Как там?
Патрик вновь засмеялся.
– Вот уже два месяца, как девки друг другу – родные сестры, а старая Ванда им – мать.
– Глупые женщины. Почему бы женщинам не быть сестрами? Им бы помогать друг другу. Ведь женщинам много тяжелее, чем мужчинам.
– А всем мужчинам стать братьями. Вот было бы смешно. А еще смешнее, что братья будут ублажать сестер. Все вокруг братья и сестры. Потеха! Церкви это вряд ли бы понравилось. Что полагается за кровосмешение?
– Ты вор. И это грех. Тебе отрубить руки – и больше не будет вреда никому. А кровосмешение – это великий грех. И этот грех ляжет на многие поколения кровосмесителей. Пожалуй, тут без костра не обошлось бы.
– Тогда бы у тебя была работа и днем и ночью. Палач Гудо стал бы самым богатым человеком в городе. Да и во всей Священной империи. Ну, если так строго, то и сейчас можно выжечь половину селян, да и в городах бы народу поубавилось. Хорошо, что женщины завидуют друг другу, а мужчины в каждом готовы увидеть врага. Пусть так будет и дальше.
– Пусть, – согласился палач и даже выдавил из себя нечто похожее на смех. – Пошли…
Дверь за мужчинами захлопнулась.
В дальнем темном углу архива, под самым потолком, медленно встал на место небольшой камень.
Закрыв слуховое окно, Венцель Марцел мысленно поблагодарил отца, мудростью которого было придумано и сделано это устройство для подслушивания.
Бюргермейстер задумчиво потер свой бритый – во спасение лица от вшей – подбородок и, усевшись на лавку, налил себе вина.
* * *
Венцель Марцел с нетерпением всматривался в маленькое стеклянное окошко своей спальни.
Он уже давно проснулся и успел с полдюжины раз перевернуться на правый, а затем на левый бок. Эта карусель ему надоела, и он сел на краешек кровати, сунув ноги, обтянутые толстыми шерстяными носками, в разношенные войлочные полусапожки. Завернувшись поплотнее в пуховое одеяло, бюргермейстер сосредоточил свой взгляд на поблескивающем стеклом окне.
Вот-вот оно должно посереть, и тогда можно будет разбудить служанку Хейлу, да и, пожалуй, дочь. Приготовить к обеду нужно много и обильно. А Эльва поможет. Она послушная дочь. Ей не привыкать работать руками. И в кухне она часто помогает Хейле. А все для того, чтобы порадовать отца вкуснятиной, сделанной ее собственными стараниями.
Какая замечательная дочь! Во всем мире такую не сыскать. Огромное богатство у Венцеля Марцела – его дочь. Только одна печаль. Ей скоро семнадцать. Ее сверстницы уже три года как замужем и успели нарожать по двое деток. Хотя она не какая-то там селянка, которую спроваживают замуж в четырнадцать лет, чтобы лишний раз не покормить.
Ну, ничего… Скоро, очень скоро…
И Венцель Марцел почувствовал, что опять готов окунуться в сладостный розовый океан своих мечтаний.
«Но почему мечтаний, – тут же встрепенулся он. – И совсем не мечтаний. Это правильные рассуждения о недалеком будущем. И все это имеет основу и здравый смысл. У меня все получится!»
Приятнейшая улыбка расплылась на лице бюргермейстера.
Как все славно складывается.
Вот оно, решение всех проблем и города, и самого бюргермейстера. И все так просто. Соединить эти проклятые ручейки, которые только разводят болото, в запруду, а с нее пусть уже течет вода, способная вращать колеса. Много колес.
Венцель Марцел желает и мукомольни, и сукновальни, и дробилки. А более всего Венцель Марцел желает лесопильню с хитрыми машинами.
О! Это да!
Венцелю Марцелу представились бесконечные вереницы повозок, груженных балками, досками и всякой другой столярной всячиной. И они расползаются во все концы. Нет, не так. Они потянутся на север. В богатейшие города Ганзейского союза. Ведь там вечное строительство соборов, домов, амбаров и заборов, заборов, заборов…
А что еще более важное, так это постройка кораблей. Вот куда пойдет лес Венцеля Марцела. Всем известно, как трудно, да нет, почти невозможно выпилить точный брус, который так необходим в строительстве больших кораблей. А дать крепкую и ровную доску…
Эти ганзейские купцы, зазнайки и гордецы, будут руки целовать Венцелю Марцелу! Да что руки…
А сколько горожан получат работу. О! Как они будут счастливы. И они, и их жены, и вечно голодные детишки. Они будут денно и нощно молиться за своего великого бюргермейстера.
И потекут ручейки, нет, потоки серебра и золота в Витинбург. И, конечно же, в сундуки Венцеля Марцела. И тогда…
Да что там богатейшие купцы Ганзы! Бароны. Нет. Графы и князья будут добиваться руки милой Эльвы. Пусть только доченька потерпит. Все будет сказочно прекрасно…
Ну вот, наконец-то наступил рассвет.
Венцель Марцел быстро оделся и спустился на первый этаж. Он широко открыл дверь и подошел к лежанке Хейлы.
Крупная, разгоряченная сном женщина спала, отбросив ветхое одеяло. Ее большая, упругая, никогда не знавшая ребенка грудь мерно поднималась и опускалась. На розовом сонном лице ярко пылали пухлые губы.
Венцель Марцел почувствовал волнение в самом низу живота, но тут же отбросил греховную мысль. Сейчас не до этого. К великому пути нужно готовиться серьезно, не давая себе расслабиться. А когда все получится, тогда уж… Да что Хейла. Будет столько служанок… Можно и о женитьбе подумать.
– Эй, вставай. Скорее вставай!
Хейла открыла глаза и глупо уставилась на хозяина.
Венцель Марцел скривился, но все же как можно ласковее сказал:
– Уже утро. Ты все помнишь, что я велел сделать?
Хейла улыбнулась, обнажив на редкость здоровые зубы. Может быть, из-за этих зубов она и продолжала оставаться в доме бюргермейстера.
Венцель Марцел попытался улыбнуться, но, вспомнив о великом пути, сдвинул брови.
– Вставай. Принимайся за дело. И разбуди Эльву. Она тебе поможет. Скажи, что я просил. Она не откажется. Она славная девочка.
– Она ангел, – подтвердила служанка и отбросила одеяло.
Волна опять прошла по низу живота Венцеля Марцела. Но он стиснул зубы и вышел из комнаты служанки.
В прошлую субботу купцы из Любека привезли бюргермейстеру давно заказанную им редкую и полезную вещь – очки. И на счастье, не одни, а сразу несколько. Венцель Марцел долго примерялся и выбрал такие, что позволили ему видеть буквы на расстоянии в полруки.
Этот день стал для него счастливым. Теперь он мог перечесть любимые с юности книги. К ним прибавить те, что за невозможностью прочитать складывались в архиве. И более того, теперь он мог писать сам!
О, как много он хотел написать! И об отце, и о себе, и о городе. Но прежде всего несколько философских работ. Однако все это потом. Через несколько лет, когда сундуки не будут закрываться от груд серебра и золота, а в городском совете будут править умные и распорядительные ставленники Венцеля Марцела.
А пока…
Венцель Марцел поднялся в свою спальню и подобрал с пола несколько листков итальянской бумаги. Очень хорошей бумаги. Умные итальянцы ввели в практику проклейку бумаги животным клеем, что повысило ее прочность и улучшило использование. Эта хорошо проклеенная бумага не пропускала чернила, и писать на ней было одно удовольствие. А чернила стояли на столе в бронзовой чернильнице и ждали часа, когда смогут пролиться мудростями хозяина. Чернил много. Венцель Марцел заказал много чернильного порошка из смеси сажи, высушенных чернильных орешков, что были наростами на дубах, и живицы сливового дерева. Этот порошок быстро растворялся в теплом вине и так же быстро высыхал на поверхности пергамента или бумаги.
Рядом с чернильницей лежали два ножа. Один с тонким лезвием для заточки гусиных или лебединых перьев, а второй с широким концом, для стирания пятен и ошибок. А еще циркуль для разметки строк, линейка и свинцовый карандаш. Им-то бюргермейстер и расчерчивал листы бумаги. Хотя это можно было поручить и помощнику писца. Ведь удовольствие доставляло только то, что он писал на бумаге.
Вот и сейчас, перечитывая свои записи, Венцель Марцел радовался тому, как правильно и удачно он расписал каждый шаг, который, несомненно, приведет его к несметному богатству и…
Наверное, к славе!
Все это он желал сегодня на обеде преподнести пяти самым важным и нужным людям города. Вот только жаль, что в эти февральские дни приходилось поститься. И нельзя было подать такие кушанья, от которых язык проглатывают. Ну ничего. И того, что приготовят Эльва и служанка, будет достаточно, чтобы гости были довольны и с особым почтением прислушались к хозяину дома.
Чем ближе подходило время обеда, тем более волновался Венцель Марцел. Хотя и совершенно напрасно. Он все рассчитал и все взвесил. У него нет ни одного ошибочного шага. Последний, немаловажный шаг он сделал вчера.
Палач оказался упрямее, чем можно было ожидать. Но бюргермейстер был к этому готов. И когда палач трижды произнес «нет», Венцель Марцел заговорил о воровском ремесле и о тех, кто покрывает преступников. Нет никаких прямых доказательств, никаких имен. Так, все в общем.
Но он понял!
Он сразу же понял и опустил до колен свою омерзительную голову. Он почувствовал за собой вину. А еще, быть может, побоялся за своего помощника. Да и самому ему пришлось бы несладко. А к юноше палач все же привязался. Этот Патрик, пожалуй, едва ли не единственный человек, с которым палач обменивается более чем десятком слов за одну беседу. Во всяком случае, с горожанами и муниципальными служащими диалога у него не получалось.
Пусть так. Важно, что этот урод согласился. Иначе Венцель Марцел стер бы этого господина в порошок. А как же иначе? Никто не смеет помешать великому пути Венцеля Марцела!
Правда, денег этому уроду Гудо тоже пришлось пообещать. А еще все сохранить в тайне. И это к лучшему. Зачем людям знать, что и идея и главное дело – машина – принадлежат какому-то палачу? Нет, народ будет знать и помнить только своего великого бюргермейстера.
Охваченный душевным волнением, Венцель Марцел часто сбегал вниз, в кухню. Здесь он давал бесконечные поручения и советы как служанке, так и дочери. Вначале они отвечали ему улыбками, но потом лишь сердито фыркали и отворачивались.
Через какое-то время Венцель Марцел все же чуть поостыл.
Во-первых, он убедился, что у него все получается, как и задумано. А во-вторых, увидел множество прекрасно приготовленных блюд. И, в-третьих, бюргеймейстер почувствовал, что проголодался.
«Скорее бы они уже пришли», – думал Венцель Марцел, удивляясь самому себе.
Он впервые за свои тридцать девять лет с нетерпением ждал гостей в надежде, что они съедят все, что будет подано на стол. «А что поделаешь? Чтобы переплыть большую реку, нужно построить лодку», – решил бюргермейстер и еще раз перечитал свои листы.
Первым, как всегда, пришел Гельмут Хорст.
Он не был важной персоной в игре Венцеля Марцела. Но рассуждения молодого и очень образованного лекаря, обычно направленные на благо бюргермейстера, были приятны Венцелю Марцелу. Тем более что молодой человек приходился племянником старейшины гильдии купцов Витинбурга Отто Штуферу. Этот уважаемый и богатый человек очень интересовал бюргермейстера и как денежный мешок, и как купец, имеющий много дел с купцами Ганзейского союза.
Отто Штуфер пришел вслед за племянником и, окинув взглядом стол, долго не мог вымолвить и слова, ибо пребывал в крайней задумчивости. Уж он-то, купец, лучше всех понимал и знал людей. А своего бюргермейстера он знал, как родного отца, но… Внимательно осмотрев блюда, стоящие на столе, купец решил, что еще не до конца понял хозяина этого дома. Ведь о скупости и сверхбережливости семейства Марцелов знал весь город. И если уж приходится лицезреть такое изобилие, значит, Венцель задумал нечто необыкновенное.
Вскоре пришел и настоятель Кафедрального собора отец Вельгус.
Первосвященник города тоже с недоумением посмотрел на роскошно накрытый во время поста стол, но ничего не сказал. По-видимому, утренняя служба в соборе отняла у него много сил и он был дьявольски голоден. Впрочем, в последнее время особого рвения на ниве богослужения, отличавшего святого отца в первые месяцы, заметно поубавилось. Это и понятно. У епископа он не имел таких подношений и услуг, как в этом городе. Он даже поправился, и морщины на его лице стали уже не столь глубоки.
Чуть с опозданием, но спешным шагом вошли судья Перкель и старейшина цеха кузнецов Андрес Офман, огромный, как гора.
Каждого из пришедших Венцель Марцел встречал со счастливой улыбкой на губах и лично усаживал за стол. Когда все гости были за столом, хозяин дома обратился к отцу Вельгусу:
– Святой отец, благословите наш стол.
Священник встал и вновь с сомнением осмотрел накрытый стол.
Большая парующая супница с бульоном, приправленным белыми грибами и мелко рубленными овощами. Овощное пюре из протертых моркови, лука, яблок и груш с мукой и яйцами. Порезанная на куски твердая пшеничная каша. Десяток норвежских селедок, истекающих жирной слезой. Ломти ржаного хлеба. Все это по Писанию и с благословения Церкви. А вот насчет сыра мягкого и твердого, рыбной каши, искусно напиханной в рыбью кожу и отваренной и слегка поджаренной, меда и белого пшеничного хлеба можно было бы и поспорить. Особенно о двух кувшинах, в которые, несомненно, было налито вино и крепкое черное пиво. К тому же перед каждым гостем стояли красивые кружки из белой обожженной глины.
Но с каждым из гостей святой отец уже сиживал за столом, причем не единожды. К тому же они были добрые христиане, всегда посещали церковную службу и исповедовались.
Отец Вельгус наскоро прочитал молитву и широко перекрестил стол. Он же первый опустил оловянную ложку в посудину и испробовал вкусного горячего грибного супа. Затем он с удовольствием заметил, что перед каждым из гостей лежит ложка и нет необходимости обтирать эту ложку и передавать ее другому. Богат дом у Венцеля Марцела. Да и кружки такие красивые.
Повертев в руке кружку, святой отец тем самым благословил трапезу. И тут же служанка разлила душистое и ароматное вино.
– Кровь Христова. – Кивнув, отец Вельгус сделал большой глоток.
Когда стол почти опустел, а в кувшинах показалось дно, Венцель Марцел сказал:
– Вот и потрудились мы во славу Господу и на пользу своим животам. Голод нам сегодня не страшен.
Гости тихо рассмеялись, осторожно поглядывая на святого отца. Тот прищелкнул языком и, запустив пальцы глубоко в горло, достал рыбную косточку.
– Голод – одна из кар за первородный грех. Человек был сотворен, чтобы жить не трудясь, пожелай он этого. Но после грехопадения он мог искупить свой грех только трудом… Бог, стало быть, внушил ему чувство голода, дабы он трудился под принуждением этой необходимости и вновь обратился таким путем к вещам вечным – божественным. Так что голод человеку полезен и даже нужен.
Венцель Марцел поклонился отцу Вельгусу за мудрые слова и продолжил:
– Истина в ваших словах, святой отец. Так обратимся же к вечному посредством тяжкого и постоянного труда…
Отец Вельгус икнул и, высоко подняв палец, назидательно промолвил:
– Труд имеет четыре цели. Во-первых, он должен давать пропитание; во-вторых, должен изгонять праздность – источник многих зол; в-третьих, должен обуздывать похоть, умерщвляя плоть; в-четвертых, он позволяет творить милостыни…
Священник еще не отошел от воскресной проповеди, а в его животе разлилось приятное тепло от выпитого вина и крепкого пива.
Присутствующие за столом согласно закивали. Дольше всех кивал хозяин дома.
Выдержав паузу, Венцель Марцел промолвил:
– После долгих лет раздумий я хотел бы сказать вам следующее. Во благо Господа и нашего города я готов предложить Витинбургу большую работу, которая обогатит и сделает счастливым каждого его жителя…
С удовольствием заметив внимание и интерес в обращенных к нему взглядах гостей, Венцель Марцел подробно изложил все, что он всю неделю записывал на листках бумаги.
Когда он закончил, присутствующие еще долго не решались сказать хотя бы слово. Первым прервал тишину отец Вельгус:
– Бог и Церковь благословят этот тяжкий труд. Собор еще не достроен, а уже нуждается в ремонте и в материалах для него. Да и два колокола нужно перелить. Хотя в последнее время пожертвование добрых мирян возросли, но… Этого недостаточно. А вы, достопочтенный Венцель Марцел, утверждаете, что от этой лесопильни и прочего для нужд Церкви будут поступать щедрые пожертвования?
– Более чем щедрые, – ответил бюргермейстер и улыбнулся.
– И каждый цех получит множество заказов? – ладонью вытирая пот на лице, спросил старейшина кузнецов.
– В первую очередь и по большей части именно кузнецы. Ведь машинам нужны железные детали. А еще лопаты, топоры, буравчики, кирки и… Очень много нужно.
– И на все это потребуется немало серебра и золота. А еще – оплачивать труд многих людей. – Отто Штуфер с сомнением покачал головой. – Где же столько набраться?
– Дядюшка, если начать земельные работы ранней весной, то многие селяне придут работать за хлеб и кашу. К тому времени они уже съедят свои запасы и будут согласны на все, лишь бы не голодать, – улыбаясь, ответил вместо бюргермейстера молодой лекарь.
– Может, и так, – сказал все еще сомневающийся купец. – Но достаточно ли у города этого хлеба и каши? И еще. Железо все равно денег стоит, как и многое другое.
Венцель Марцел согласно кивнул.
– Благодаря Господу и удачным торговым дням осени и начала зимы в амбарах города собран запас зерна. Не так уж и много, но достаточно. К тому же, я думаю, нам помогут ганзейские купцы.
– Помогут ли? – неуверенно произнес Отто Штуфер.
– Когда они увидят машину для распиловки леса и то, что она делает, – помогут и еще просить нас будут взять деньги, – твердо заявил Венцель Марцел.
– А так ли уж хороша эта машина? – задумчиво протянул судья Перкель.
– Можете не сомневаться, – без колебаний сказал бюргермейстер и, встав, добавил: – Ее я построю за собственные деньги.
Слова Венцеля Марцела заставили гостей с уважением посмотреть на него.
– Значит, дело стоящее и прибыльное, если Венцель Марцел готов выложить собственное серебро, – подытожил старейшина цеха кузнецов.
– Прибыльное. И каждый будет иметь прибыль в зависимости от участия, – выпалил бюргермейстер и почувствовал, как кровь подступает к лицу. – Вчера я говорил с рыночными менялами. Они готовы под слово городского совета ссудить значительную сумму денег.
– Ну, уж если и менялы… – протянул Отто Штуфер. – Что ж, я готов отправиться в Любек[42] и поговорить с ганзейскими купцами.
– Я думаю, все цеха поддержат этот великий труд, – с важным видом сказал Андрес Офман. Я скажу свое слово цеховым старейшинам. Они поддержат.
– Поддержат. Можно не сомневаться, – весело произнес Гельмут Хорст. Он уже прикинул, сколько больных и раненых будет на строительстве, и эта мысль, как и добрые напитки хозяина, развеселила его душу. – Да и народ будет рад потрудиться. А то скучно ему. Торги прошли. Теперь начнутся только с посева. Так что от скуки уже собственные улицы от дерьма чистят. Когда такое было.
– Такого еще не было, – согласился судья Перкель, – и это меня беспокоит. Особенно эти кресты.
– Да это шутки мальчишек, – рассмеялся лекарь.
– Все же я бы прислушался к старухе Верте, – настаивал судья.
– К полоумной и слепой старухе?! – Венцель Марцел тоже хохотнул. – Что за глупость! Хотела вылить с третьего этажа горшок со своим дерьмом, а ей помешал палач. И как же она сослепу разглядела, что вместо палача был сам дьявол? Да еще крутился волчком и какой-то крест нарисовал под заклинание. А все потому, что она чуть не вылила ему на голову свою гадость.
– Но ученые мужи говорят, что в момент страха человек прозревает, – задумчиво произнес лекарь.
– А кресты эти не что иное, как проклятые Церковью кресты еретиков тамплиеров, – тяжело дыша, сказал отец Вельгус. – И самое страшное, что они продолжают появляться на стенах.
– С чего вы взяли, что это кресты тамплиеров? Такие же кресты носят сейчас госпитальеры. Так что никакой это не еретический знак. – Венцель Марцел повертел в руках пустую кружку и добавил:
– А вот польза от него явная. Наши глупые бюргеры, едва завидев крест, не высовываются из окон и не выливают помои. Они теперь носят свои горшки в отстойные ямы. Да еще и улицы скребут. Удивляются, как приятно им стало ходить. Да и сами же между собой говорят, что при первых горожанах на улицах не было столько дерьма.
– Тогда они были подневольные, и барон брал штраф за каждое ведро вылитых помоев, – вздохнув, сказал судья Перкель. – Теперь они вольные бюргеры. Опора города и ее защита. Всех не накажешь и штраф не наложишь. Еще за оружие возьмутся. Пусть уж палач рисует кресты и пляшет под окнами.
– Пусть этот палач пляшет в адском огне, – гневно промолвил отец Вельгус и пьяно пошатнулся.
– Палач прилежно выполняет свою работу. Этим он замаливает, наверное, свои неправедные поступки. – Венцель Марцел уже обходил стол с высоким бронзовым кувшином и щедро наливал вина каждому из гостей. – В том, что к нам потянулись купцы, есть и его заслуга. Однако нам предстоит еще очень многое сделать. И на пользу города, и на пользу Церкви. Давайте выпьем это вино за наш великий труд!
Гости встали.
– Да будет на то Божье благословение, – промолвил отец Вельгус и первым выпил вино.
Гости расходились в сумерках. Они громко обсуждали предстоящие работы и все больше соглашались с бюргермейстером. Хотя умудренный жизнью купец Отто Штуфер все еще продолжал сомневаться. Поэтому Венцель Марцел провел его до самого дома, с успехом рассеяв все его опасения.
Назад бюргермейстер возвращался затемно. Улицы были пусты, окна плотно закрыты ставнями.
В душе Венцеля Марцела гремела музыка, а воображение рисовало картину: молоденькие девушки-пастушки кружатся в хороводе, а он пытается присоединиться к этому танцу. Неожиданно правая нога бюргермейстера соскользнула и он упал на колени.
– Грязь, проклятая грязь, – чувствуя, как улетучиваются пастушки, сердито вымолвил бюргермейстер и достал из кармашка кусок мела.
Сегодня крест у него вышел скошенным вправо и незаконченным снизу.
* * *
Венцель Марцел чувствовал, как его глаза наполняются слезами. Если бы рядом с ним находился любой другой человек, бюргермейстер, скорее всего, шмыгал бы носом и даже зло сопел. Но сейчас напротив него сидел палач Гудо.
Их разделял маленький столик в комнате для заезжих гостей города Мюнстера. На столике стояли два столбика серебряных полновесных пражских грошей[43] и золотых рейнских гульденов[44]. И золото, и серебро принадлежали Венцелю Марцелу. Пока еще принадлежали. Но уже сегодня вечером, а может, и завтра они навсегда покинут своего доброго хозяина. Так нужно. Ведь без них мечта о большой дороге, начинающейся от лесопилки, почти невозможна. Или начнется очень не скоро. В этом бюргермейстера убедил палач Гудо.
Сегодня он необычайно многословен. В его голосе звучит уверенность, хотя сам Венцель Марцел, и это печально, чувствует, как трясется его толстая правая ляжка.
– Я еще раз напомню то, что говорил в Витинбурге. Вы, бюргермейстер, отправитесь в епископский дворец. Епископ мертв. Вы сами это видели, будучи на его погребении. Новый епископ все еще в пути. Ведь путь из Рима так долог. Во дворец попадете без труда. Сейчас нет той строгости, что была при старом епископе. Там вы спросите архивариуса Мориали. Скажете ему, что приехали забрать Святое Писание, писанное в Испании тридцать лет назад. Его вам завещал покойный епископ. Он, конечно же, усомнится в сказанном. Тогда вы постараетесь убедить его, что книга дорога вам как память о покойном и предложите ему десять грошей. Но при условии, что книгу он принесет вам сюда, на постоялый двор.
– А если он не согласится? – все же шмыгнув носом, спросил Венцель Марцел.
– Увидев деньги, он согласится. Сейчас только сумасшедший не растаскивает из дворца то, что у него под рукой. Тем более что эта книга не имеет никакой ценности, кроме той, что содержит слово Божье.
Бюргермейстер перекрестился дрожащей рукой.
– Когда придет архивариус, вы заберете у него книгу и полностью расплатитесь. Провожать его не нужно. Оставайтесь в своей комнате. За час до того как начнет темнеть, велите запрягать коней и ждите меня в конюшне.
– А если закроют городские ворота? Ведь их закрывают при первом факеле.
– Мы успеем выехать из города. В ночь за нами никто не отправится в погоню. Все будет так, как задумано.
Не давая бюргермейстеру еще более разволноваться от собственных вопросов, Гудо встал, сгреб в свой тайный карман золото и ушел в снятую для него комнату за стеной. Там палач прилег на низкую лежанку и, поправив короткий меч, с которым он никогда не расставался, уставился в черный от времени потолок.
Даже находясь здесь, в Мюнстере, он не хотел верить, что ему придется еще раз оказаться вблизи епископского дворца и страшного подземелья Правды. В голову хитрыми лисами стали протискиваться воспоминания, одно неприятнее другого. Они не вытесняли друг друга, не выстраивались в очередь по времени и важности, а накладывались одно на другое. Стало трудно дышать. На лице выступили мелкие капельки пота.
Хлопнула дверь. Это бюргермейстер отправился во дворец. Немного выждав, Гудо поднялся, плотно закутался в свой старый плащ и опустил почти до носа капюшон. Затем он спустился по лестнице и вышел на широкую, в две повозки, улицу перед постоялым двором.
Он не стал далеко удаляться и привалился к углу этого же дома, откуда была хорошо видна входная дверь.
Мимо него проходили мастера и подмастерья, женщины вели за руку детей, пробегали собаки и со скрипом тянулись повозки. И никому не было дела до стоящего на углу огромного мужчины, лицо которого скрывал низко надвинутый капюшон. Как было бы чудесно, если бы на него не обращали внимания даже тогда, когда он был с обнаженной головой. Но он узнаваем. Однажды его увидевший уже никогда не забудет уродливое лицо палача. Особенно в Мюнстере, где его помнили все – от ребятни до дряхлых стариков. Особенно те, чьих знакомых или родственников палач Гудо клеймил, истязал кнутом, колесовал и вешал.
Пожалуй, его растерзали бы на месте, если бы узнали. В этом городе у Гудо только враги. И лучше бы ему скрыться в комнатушке постоялого двора.
Палач оттолкнулся от стены и направился к входу. Но, пройдя с десяток шагов, он был вынужден вновь прижаться к стене. Ему навстречу двигалась повозка, крытая старым войлоком.
Гудо поднял голову и с немалым удивлением увидел на передке повозки знакомого ему маленького круглолицего мужчину. Без всякого сомнения, это был купец Арнульф. Одним прыжком Гудо оказался на передке повозки, легко сдвинув на край малорослого купца. Тот от неожиданности икнул и, уставившись на непрошеного гостя, глупо захлопал глазами.
– Что тебе нужно, добрый человек? – едва выдавил он из себя.
– Не называй меня добрым человеком, – тихо сказал Гудо и, обхватив купца за плечи, прижал его к себе.
– Я помню твой голос. Я помню тебя. Ты добрый человек. Ты не сделаешь мне ничего худого…
– Нет, не сделаю, если ты выполнишь мою просьбу. Я верю, ты честный человек. Если я ошибся, то муки твои перед смертью будут страшнее, чем в аду.
Купец еще раз икнул и дрожащим голосом ответил:
– Я честный человек.
– Эти три золотые монеты разменяешь на мелкое серебро и каждые два месяца будешь отдавать в тот дом по четыре гроша. Ты помнишь тот дом? – спросил палач, и купец молча кивнул. – Хорошо. Себе за труды можешь взять три денария[45]. Когда будет нужно, я найду тебя.
С этими словами Гудо соскочил с движущейся повозки и поспешил назад.
Купец выглянул из повозки, посмотрел ему вслед и громко крикнул:
– Что сказать Аделе и Грете, добрый человек?
Не оборачиваясь, Гудо ответил:
– Скажи им, что дьяволу оторвали крылья. Он не прилетит.
Купец задумчиво покачал головой и продолжил свой путь. Гудо быстро прошел в свою комнату и с ходу свалился на лежанку.
Многие тысячи ненужных мыслей стрелами вонзились в его мозг. Он и сам до конца не понимал, что с ним происходило. Да лучше бы он был пьян. Тогда бы он ни о чем не думал и ничего не понимал. Но он был трезв и с каждым мгновением чувствовал себя все хуже и хуже.
«Это ненадолго, это совсем ненадолго», – пробормотал Гудо.
И это «недолго» нужно пережить.
Но если в мрачном подземелье Правды Гудо снилась тоненькая девчушка и он просто пожимал плечами и печально вздыхал, как и всякий раз, когда случалось какое-то недоразумение, то после того как он увидел Адель, превратившуюся в красивую молодую женщину, она стала приходить не только в ночных снах, но и в дневных видениях. Сначала он просто испугался, ибо считал, что это не что иное, как промысел дьявола, который наводит на него соблазн, чтобы ослабить и покорить. Но потом Гудо стал мучиться от понимания того, что это он сам призывает своим разумом и душой образ, который всякий раз приукрашал, и теперь все более желал, чтобы видения стали явью.
Но это было невозможно. Если Гудо окажется рядом с ней, она увидит в нем дьявола, явившегося украсть ее душу, а самое главное – ребенка. И от этого она сойдет с ума. Или еще хуже – ее сердце разорвется.
Сейчас нужно перетерпеть ту предательскую страсть, от которой волнуется кровь, заставляя его часто и тяжело дышать. Сейчас он успокоится и…
Гудо встрепенулся. В соседней комнате скрипнула дверь, и он услышал:
– О уважаемый архивариус, вы принесли желаемую книгу.
Голос Венцеля Марцела звучал слишком громко и фальшиво.
– Вот она, завещанная вам епископом.
– Вы осчастливили мою душу.
И опять это было неубедительно и фальшиво.
– Мое серебро?
– Да, да. Вот оно. Какая прекрасная книга. Благодарю вас от всей души. – Бюргермейстер несколько раз тяжело вздохнул.
Уж слишком тонки эти стены. Гудо отчетливо слышал каждое слово и эти непонятные вздохи.
– Я ухожу, – промолвил архивариус, и после этих слов натужно скрипнула дверь.
Гудо чуть-чуть выждал и, вскочив с лежанки, бросился вниз по лестнице.
Он шел за архивариусом в десяти шагах и с кривой усмешкой наблюдал, как тот радовался столь счастливому случаю. Архивариус насвистывал веселую песенку и даже приплясывал.
Вскоре служащий покойного епископа подошел к маленькому, отдельно стоящему домику и, повозившись с запором калитки, распахнул ее. И тут же сильный толчок в спину опрокинул его на землю.
Огромная сильная рука схватила его за шею и подняла на ноги.
– Ты узнаешь меня?
Архивариус задергался и замычал.
– Узнаешь? – грозно повторил Гудо и сбросил капюшон.
Архивариус побледнел, его тело обмякло, и он с трудом выдавил:
– Да.
– Кто в доме?
– Жена и дети, – едва слышно пролепетал сразу ставший несчастным хранитель рукописей.
– Хорошо. Мне нужен мешок. Мешок из черной кожи. Мешок мэтра Гальчини и все то, что в нем находится.
– Это невозможно, – прохрипел архивариус. – Он не в архиве, а в спальне покойного епископа.
Гудо немного ослабил хватку и протянул к лицу архивариуса горсть золотых монет.
– Возьми это золото. Распорядись им, как пожелаешь. Подкупи кого нужно или оставь себе. Если вернешься со стражей или без мешка, я убью всех, кто находится в этом доме.
Гудо вывел архивариуса на улицу и подтолкнул его.
– Торопись, у тебя очень мало времени.
Несчастный, едва переставляя ослабевшие ноги, побрел в сторону замка епископа.
– Беги! – грозно рявкнул палач, и архивариус враскачку побежал вверх по улице.
* * *
Гудо с трудом разлепил веки. Нужно было вставать. Утро уже давно наступило и готово было смениться днем, передав ему свои права.
«Бюргермейстер, скорее всего, вышагивает на ступенях ратуши и во все глаза высматривает меня», – с усмешкой подумал палач. Он поднялся и неторопливо подошел к столу.
Прежде всего он собрал книги и несколько листов пергамента, которые были помечены крестом тамплиеров и еще какими-то непонятными для Гудо символами. Об этих символах мэтр Гальчини никогда не говорил своему ученику. А тот, зная тяжелый нрав учителя, не задавал вопросов, если к этому его не подталкивал главный палач подземелья Правды.
Гудо ранее видел всего лишь две книги из тех пяти, что сейчас находились в его распоряжении и были небрежно разбросаны по столу. Если бы мэтр Гальчини явился из ада, он, скорее всего, жестоко покарал бы нового владельца черного кожаного мешка. Но суровый наставник уже никогда не восстанет из праха, так что Гудо может распоряжаться его наследием как ему заблагорассудится.
Ведь даже бюргермейстер не знает, что в этом черном мешке.
…Когда палач наконец-то зашел в конюшню постоялого двора в Мюнстере, он увидел Венцеля Марцела, который, несмотря на зимний день, обливался потом.
– Это то, за что я выложил кучу золота и серебра? – с сомнением в голосе спросил бюргермейстер.
Гудо лишь молча кивнул ему.
– И это позволит за неделю, а не за несколько месяцев построить машину?
Гудо опять кивнул и легко вскочил на лошадь…
Да, именно одна из книг очень была нужна палачу, чтобы в точности нарисовать схему машины, а также отдельные детали к ней.
Это была странная книга. Кроме многих полезностей, пригодных для облегчения человеческого труда, на ее страницах были начертаны совершенно непонятные схемы и рисунки.
Гальчини много времени и сил отдал тому, чтобы его взрослеющий ученик смог понять, а затем оценить чудесный дар человечеству, что хранили листы этой книги. И дар этот, несомненно, был Божьим. Ибо только Господь может вселить в головы людишек столь мудреные и сложные механизмы и машины.
Хотя сам Гальчини смеялся над этой неосторожно высказанной мыслью своего ученика. Он даже сказал, что многое из этой книги было известно еще до того времени, как люди познали Господа. И, продолжая насмехаться, добавил, что тогда у людей были другие боги. И многие рисунки – это копии с рисунков «Аристотелевой механики».
Он переворачивал листы книги и убежденно говорил:
– Вот смотри. Это ветряная мельница. Ты, скорее всего, видел мельницы с четырьмя крыльями, на которые натянуто полотно. Это на севере. На южном море мельницы с косыми полотнами, которые поддерживают тросы. А то, что ты видишь, – это мельница без крыльев. Она построена со сквозными проемами в стене, которые направляют ветер на большие вертикальные колеса. А вот мельница, в которой колесо вращает вода. Эти мельницы существовали тогда, когда еще не родился Христос. И еще задолго до этого. Они были в Китае, Персии, у арабов. Но у нас такие мельницы большая редкость. Люди приписывают их сооружения святым! Мы вращаем жернова вручную или при помощи животного. А много ли так перетрешь зерен?..
– А вот смотри, – продолжал Гальчини, переворачивая несколько листов. – Если на горизонтальный вал посадить для ускорения шестерни, а потом шатун и кривошип и прикрепить к ним пилу, можно распиливать толстенные бревна. Какой угодно длины и толщины. Высокий ствол – большая редкость. Погубить его небрежной ручной обработкой проще простого. А такая машина справится с любым желанием мастера. Представь, сколько будет стоить обработанный таким образом лес. Но это что… Взгляни-ка сюда…
И Гальчини показал «беличье колесо», которое поднимало на большую высоту тяжелые грузы, дробилки и кузнечные молоты, сложнейшие машины для спуска огромных кораблей на воду и многое, многое другое. И это все были нужные и полезные дары Божьи. Однако Гудо далеко не все сумел понять.
Даже сейчас, пересмотрев некоторые листы и крепко задумавшись, он так и не решил, зачем нарисован человек с большими крыльями, летящий над облаками. Или человек в большой бочке среди морских рыб. Или пороховая пушка в руках воина.
Все это Гальчини не успел или не захотел разъяснить своему ученику. Он сказал, что ему вполне достаточно того, что Гудо понял и сможет сделать. За всем этим непонятным придут другие люди, с другими головами. И при этом он с особой нежностью поглаживал тайные знаки и крест тамплиеров, имевшиеся на каждом листе книг или пергаментных свитках.
Много, очень много интересного, полезного, а порой и забавного было в этой книге. Но Гудо лишь перелистал ее. Все его внимание, время и труд были направлены на то хитроумное устройство, которое позволит опускать и поднимать пилу, не давая ей дрожать и косо входить в дерево.
Этим он занимался в течение нескольких дней. Еще столько же он обдумывал и рисовал всю машину целиком и по частям. И лишь вечером пятого дня он в основном закончил столь трудную работу.
Только после этого он вытащил из черного мешка остальные книги и свитки. Но ничего полезного для лесопильни Гудо в них не нашел. К тому же многие листы были написаны непонятными ему буквами и знаками. Поэтому они так и остались лежать на столе до утра в том беспорядке, что, несомненно, взбесило бы покойного мэтра Гальчини.
Гудо поднял с глиняного пола черный мешок и с особой бережностью вложил в него наследство своего наставника. На столе остались лежать двенадцать листов итальянской бумаги, которые дал палачу Венцель Марцел по его просьбе. На этих листах был запечатлен плод его многодневного труда, и Гудо приходилось подолгу всматриваться в схемы и рисунки, начертанные в книгах Гальчини, а также многократно перечитывать и тщательно обдумывать их описание и пояснения.
Гудо отнес мешок в дальний угол дома, где он несколько месяцев назад сделал тайник, вырыв яму и прикрыв ее досками, сверху которых притаптывал глину. Хотя он и был уверен, что ни один человек не войдет в его дом, но, памятуя восточную пословицу «На Аллаха надейся, но верблюда привязывай», которую очень часто повторял учитель, решил не рисковать и схоронить ценное наследие Гальчини.
Затем он взял со стола листки бумаги и, свернув их в трубочку, перевязал кожаным ремешком.
Пора было идти к бюргермейстеру.
Прихватив с собой кусок засохшего хлеба и жуя его на ходу, Гудо поспешил в город.
На ступенях Ратуши Венцеля Марцела не оказалось.
В зале городского совета собрались почти все значительные люди Витинбурга. Гудо постоял возле открытой двери и некоторое время послушал, как, сменяя друг друга, высказывались старейшины цехов, купцы, менялы и другие витинбуржцы, которых Венцель Марцел призвал для участия в его важном замысле. Почти все они высказывали сомнения. Часто весьма убедительно.
Сам бюргермейстер таким разговорам не препятствовал. За последние дни он так много и громко говорил, что его голос охрип, а затем и вовсе пропал. Теперь он только взмахивал руками и гримасничал, пытаясь придать лицу то гневное, то оскорбленное выражение.
Гудо спустился в архив и уселся на деревянную скамью с высокой спинкой. Городской архивариус пробормотал что-то невразумительное и поспешил удалиться. Палач прикрыл глаза и представил себе большое, вырытое людьми озеро, окруженное высокой каменной стеной. Из стены выходит широкий деревянный желоб, по которому струится водный поток. Вода с высоты падает на колесо, заставляя его непрерывно вращаться. Вал этого колеса приводит в движение пилу. И вот к ней на четырехколесной тележке подкатывают бревно…
Нет. Стоп. Колеса тележки должны двигаться в металлических пазах, как стрела в арбалете. И еще. На тележке, в поперечине бревна, должны быть круглые деревянные катки. Нет. Железные. И они должны вращаться. Так спускают корабли на воду…
Не все продумал Гудо. Нет, не все. Нужно еще размышлять и рисовать. Все должно быть обдумано более тщательно. Значит, предстоит потрудиться.
Гудо резко встал и быстрым шагом покинул здание Ратуши.
Конечно, бюргермейстер будет очень недоволен, что Гудо задерживает работу. Но он делает это с пользой. Бюргермейстер позже обязательно поймет это. Хотя ему сейчас очень тяжело. Противники его замысла ежедневно прибавляют в весе и могут задавить смелую идею бюргермейстера. Поэтому он должен поспешить, предоставить что-то более весомое. И этим должна стать машина.
Гудо не подведет. Но сейчас нужно все заново обдумать. Ведь каждый подмастерье, желающий заполучить звание мастера, обязан предоставить свой шедевр, то есть изделие, в котором он полностью покажет себя, чтобы им остались довольны старшины цеха и те, кто будет этим изделием пользоваться долгие годы.
Вот и Гудо должен создать свой шедевр. И шедевр не палача, искусного в терзании человеческой плоти, а истинно ремесленного мастера, создающего нечто, чему будут удивляться, возможно, и после его смерти.
Палач ускорил шаг. Листы бумаги жгли ему руку. Он спешил в свой дом, за стол, готовый трудиться весь день и всю ночь, пока не будет удовлетворен достигнутым результатом.
Мэтр Гальчини должен быть горд за своего ученика. По крайней мере, доволен.
Гудо спешил. Но если бы он на мгновение обернулся, то увидел бы, как за ним, с трудом передвигая толстые ноги, весь в поту спешит бюргермейстер и гневно машет кулаками.
Венцель Марцел сдался, не добежав до городских ворот с полсотни шагов. Он остановился и долго не мог отдышаться. Его губы безмолвно кривились в ругательствах. Глаза метали молнии, а руки изгибались в неприличных жестах.
Две старушки остановились неподалеку и с нескрываемым интересом уставились на Венцеля Марцела. Когда тот наконец заметил любопытствующих, он свернул им из толстых пальцев дьявольский нос.
Старушки перекрестились и поспешили прочь.
На следующий день весь город решал, мучил ли бюргермейстера сатана или он просто хлебнул веселого вина. Большинство отдало предпочтение вину.
Глава 9
Венцель Марцел заболел.
Он лежал, укрывшись с головой пуховым одеялом, и не желал показываться из-под него. Никакие уговоры не помогали, как ни просили бюргермейстера служанка Хейла, его дочь Эльва и приглашенный лекарь Гельмут Хорст.
Поразмыслив, молодой лекарь велел служанке принести любимое и удобное кресло бюргермейстера и поставить его у кровати больного. Затем Гельмут удобно расположился в нем и потребовал большую чашу вина. Но даже присутствие чужого зада в любимом кресле и наглое потягивание дорогого вина не впечатлило Венцеля Марцела и не заставило его показать носа.
Он всерьез воспринял свою болезнь. А что же это, как не болезнь? Ведь у него тряслись руки, подкашивались ноги. В груди словно поселился камень, а голова постоянно кружилась. И было отчего. О, проклятый палач! Лучше бы тебя съели крысы в епископском подземелье. Сколько несчастий принес он бедному Венцелю Марцелу!
Воистину бедному.
Венцель Марцел тихо застонал и перевернулся на правый бок. Он совсем не слышал вопросов молодого лекаря и не собирался на них отвечать. Попробуй ответь, и тот сразу возьмется за лечение. А лечение стоит денег. Денег, которых уже совсем нет у некогда обеспеченного бюргермейстера Витинбурга.
Все сожрала машина. Машина дьявола – палача. О проклятый палач!
Венцель Марцел выполнил все требования этого слуги дьявола. Ни в чем ему не отказывал. А этот господин в синих одеждах по наущению сатаны творил что хотел, полностью подчинив себе волю бюргермейстера.
Сначала он за огромные деньги вытащил из замка покойного епископа черный мешок дьявола. И даже не заикнулся о том, что в нем такого нужного и полезного для великой затеи Венцеля Марцела. А сам бюргермейстер не рискнул заглянуть в кожаный мешок, даже когда тот ненадолго оказался в его руках.
Да бог с ним, с мешком. Куда хуже, что дьявол отнял у Венцеля Марцела разум и сделал его послушной игрушкой в коварном замысле палача.
Вначале у того все не складывалось с рисунками машины. И вместо семи дней он провозился с ними вдвое дольше. Весь город уже смеялся над бюргермейстером, и каждый считал своим долгом при встрече поинтересоваться с наглой улыбкой на губах, когда же наконец цех кузнецов возьмется за изготовление знаменитой машины.
И вот тот день настал. Палач принес исчерченные и многократно переделанные рисунки на бумаге. Сам сатана не смог бы на них что-либо разобрать. Только палач. Но как представить человека подлого ремесла горожанам? Как признаться, что Венцель Марцел совсем не мудрый бюргермейстер, а всего лишь вор, укравший чужие мысли? Нет, это было категорически невозможно.
Венцель Марцел, скрипя зубами, уселся вместе с палачом за его рисунки и долго пытался вникнуть в них. И особенно в сам механизм машины. Потом стало совсем невмоготу. Требовалось изучить и понять каждую отдельную деталь, каждый винтик, каждый крючочек и пружинку. На этом бюргермейстер готов был полностью сдаться и завыть по-волчьи.
Но палач, долго смотревший на вспотевшего от учения Венцеля Марцела, предложил разумный выход – назначить от города механика, который бы знал полностью машину и отвечал за ее изготовление. И, конечно же, этим человеком должен быть не палач, а… его помощник Патрик.
Оказалось, что этот Патрик не только вор, но и недоучившийся студент университета. И ему будет легче и проще понять все то, что никак не укладывалось в голове бюргермейстера. К тому же палач часто сможет находиться рядом со своим помощником и постоянно подсказывать ему решение того или другого вопроса. А значит, и сам будет в курсе возникающих проблем и сможет указать путь их устранения. Вот только нужно увеличить жалованье молодого человека. Значительно увеличить. И тогда Патрик со всем рвением отнесется к порученной работе.
Ну, сделать вора ответственным в таком сложном деле и легко, и трудно. Легко потому, что всегда можно держать его на крючке как грешника. А в случае неудачи все свалить на него и примерно наказать как виновника. Тогда насмешки бюргеров будут адресованы тому, кто заявил о своей готовности представить им чудо-машину.
Но уж слишком хитер и пронырлив был этот молодой человек. К тому же вор. Как такому доверить деньги и тайны? А если он раскроет, что все это придумал палач? И потом испарится с деньгами… Тогда хоть петлю на шею.
Хотя петлю можно набрасывать уже и сейчас.
Позавчера Венцель Марцел отдал Патрику последние десять золотых гульденов. Машина оказалась дьявольски дорогой. А самое страшное заключалось в том, что она никак не желала выполнять требуемые от нее действия.
То она ломала детали и чудовищно дорогие пилы, то впивалась в дерево и трясла им, то работала так медленно, что просто хотелось выть. И при этом, как правило, присутствовали до полусотни бюргеров, которые степенно, но с глумливой улыбкой обсуждали всю машину целиком и каждую деталь отдельно.
Но у проклятого палача на все были свои объяснения. Он неустанно требовал новых деталей, каких-то невероятных полотен для пил и более дорогого железа для их изготовления.
Двенадцать дней подряд бродил Патрик от дома палача к бюргермейстеру, от него – к старейшине цеха кузнецов, а от того – за город, к ручью, где собирали и испытывали машину. А на дьявольский тринадцатый день этот молодой вор пришел к Венцелю Марцелу и потребовал еще золота. «Для филигранной отладки машины!» – сказал он. И одураченный дьяволом бюргермейстер со слезами на глазах протянул ему последнее.
После этого тело Венцеля Марцела отказалось подчиняться разуму и ослабело настолько, что готово было рухнуть там, где стояло.
– Дорогой бюргермейстер, для того чтобы определить вашу болезнь, мне нужно осмотреть вас и вашу мочу. Вы должны подробно рассказать, что вас беспокоит и в чем заключается ваше недомогание. А как же я смогу это сделать, если вы не желаете отбросить одеяла и предстать перед вашим лекарем? Ну же, вы ведь не малое неразумное дитя. Смелее. Позвольте, я сниму с вас одеяло.
Венцель Марцел не подал даже звука и только крепче ухватился за одеяло.
Гельмут Хорст печально вздохнул и, допив вино, сказал:
– Оставляя меня в бездействии, вы еще более радуете вашу болезнь. Так нельзя. Будьте благоразумны. Вы поступаете, как некоторые наши бюргеры. Отказываетесь принять мою ученую помощь. Может, вам, как и этим тупым бюргерам, проще обратиться к палачу? Они так и поступают, пользуясь его сомнительными настойками и мазями. Говорят, они им помогают. Но это не лекарства. Это козни дьявола. Ведь все знают, что палачи выпрашивают снадобья у демонов и их слуг – ведьм и колдунов. А вы человек ученый, как и я. Значит, мы должны помочь друг другу. Ну же, смелее. Позвольте вас осмотреть и назначить лечение.
– У-у-у, – тихо завыл Венцель Марцел.
Лекарь подался вперед.
– Это уже лучше. А теперь отбросьте одеяло.
Гельмут Хорст еще выждал и тяжело вздохнул.
– Хейла, принеси вина.
– У-у-у, – опять завыл бюргермейстер.
Дверь распахнулась. Вошла служанка с чашей вина и протянула ее лекарю. Затем она обратилась к лежащему под одеялом хозяину:
– К вам пришли гости. Много гостей. Что им сказать?
Венцель Марцел молчал, и Хейла, пожав плечами, вышла.
Не успел молодой лекарь сделать и двух глотков, как в спальню ввалились непрошеные гости. Хейла пыталась их остановить, но крепкие мужчины, не обращая внимания на ее уговоры, заполнили собой все помещение.
– Венцель Марцел, мы пришли к вам с радостной новостью.
Бюргермейстер высунулся из-под одеяла и увидел прямо перед собой Андреса Офмана, старейшину цеха кузнецов.
– Свершилось! Удалось получить точнейшую балку длиной в двенадцать локтей. Поздравляю. Это великое начало нашего общего дела.
Оттесняя кузнеца, вперед выступил купец Отто Штуфер.
– Если сделать еще с дюжину таких дубовых балок, – сказал он, – можно их сразу грузить на корабль и везти в Любек. За них дадут большие деньги. Я сам отправлюсь вместе с этим товаром. А оттуда я вернусь с ганзейскими купцами. Когда они увидят машину в работе, то денег не пожалеют. Правда, придется здорово поторговаться.
– Бюргермейстер, народ у ручья выкрикивает ваше имя и готовится устроить веселье в вашу честь, – радостно сообщил судья Перкель.
– А старейшина цеха каменщиков готов за счет своего цеха поставить каменную стену на том месте, где Патрик собирается сделать запруду. Да и цех столяров согласен хоть завтра приступить к сооружению для укрытия машины, изготовлению колеса и желоба для воды. Ко мне уже подходили и старейшины других цехов. Они просят принять от них работу и даже деньги, – продолжил старейшина кузнецов.
Из-за широких спин послышался голос Вертиса, главного городского менялы:
– Мы поговорили между собой. Менялы согласны предоставить городскому совету ссуду золотом под малые проценты и некоторые льготы.
– Мы готовы вас поддержать…
– Бюргеры довольны…
– Для всех будет работа…
Голоса членов городского совета и богатых бюргеров не умолкали.
Одеяло вновь надвинулось на лицо бюргермейстера. Венцель Марцел молчал.
– Достойнейшие бюргеры Витинбурга, наш бюргермейстер немного захворал. Уже завтра я поставлю его на ноги и работа закипит во славу нашего города. А сейчас прошу всех удалиться. Бюргермейстеру нужен покой и мой лекарский уход.
С этими словами Гельмут Хорст широко раскинул руки и, вытеснив гостей из спальни, провел их до главных дверей. Когда он вернулся, Венцель Марцел, отбросив одеяло, надрывно плакал и одновременно смеялся. То ли от боли, то ли от счастья.
– Что ж, приступим к осмотру…
* * *
Патрик стал самым востребованным и важным человеком в городе. Хотя по важности он был равен бюргермейстеру, к нему теперь обращались чаще и с бóльшим количеством вопросов, чем к самому Венцелю Марцелу.
А тот похудел после перенесенной болезни и стал несколько растерянным, односложно отвечал на все вопросы бюргеров и плебеев города. Поэтому почти всем заправлял Патрик. А когда ему не хватало полномочий, он без труда обеспечивал себя поддержкой бюргермейстера, готового делать все, что ускоряло процесс его великого замысла.
Постепенно втянувшись в общий процесс, молодой Патрик и сам не заметил, как ему стало до глубины души интересно в нем участвовать. Тем более не в качестве какого-то кузнеца или землекопа, а как важная персона, отдающая приказы и контролирующая их исполнение. С нескрываемым удовольствием он следил, как день за днем совершенствуется машина. Конечно, сейчас она работала медленно, ибо ее приводила в движение старая, мерно бредущая по кругу лошадь, но к лету животное будет заменено силой ниспадающей воды, которую не нужно кормить, поить, давать отдохнуть и ждать, пока она испустит свои потребности. Запрягать других лошадей на смену старой кляче палач строго запретил, резонно опасаясь, как бы другое животное не стало брыкаться и не поломало дорогостоящую машину.
А вода будет день и ночь беспрерывно вращать колесо и приводить пилы в движение. И каждая секунда такой работы будет приносить каплю серебра и даже золота. Ведь те балки, брусья и доски, что выходили позади пил, стоили очень дорого, ибо были совершенны в своей заданной толщине и ограничены лишь длиной бревна.
А палач все еще обдумывал возможности своей машины и стремился ее усовершенствовать. Об этом он часто беседовал с Патриком наедине, опасаясь любых посторонних ушей.
Но Патрика уже волновала не сама машина, а то, что должно было обеспечить ее беспрерывное действие. Многое решалось быстро и со знанием дела. На том месте, где была установлена машина, цех столяров уже начал воздвигать большую постройку, предназначенную для того, чтобы уберечь и железные детали машины, и людей, работающих возле нее, от невзгод природы и, прежде всего, от дождя. Особенно они старались над теми ящиками, которые должны были скрыть от посторонних глаз секретные механизмы машины, указанные им палачом Гудо.
Рядом с постройкой пятеро столяров трудились над большим деревянным колесом, вернее, над двумя его колесами, которые должны были соединиться лопастями, так что вода, падая на них, будет толкать их вниз и тем самым приводить этот важный механизм в движение.
Даже каменщики не подвели и в указанном месте в срок возвели стену из тесаного камня. И столяры, и каменщики, и кузнецы, и нанятые для работы с машиной пятеро молодых мужчин – все работали за питание и данные городским советом расписки об оплате их труда после полугодия работы лесопильни.
Но не все было так замечательно, как хотелось. Самые трудоемкие работы так и не начались. Вначале работу задержал Гудо. Он долго и тщательно изучал и вымерял то место, где должна быть запруда. Затем он еще дольше чертил на земле те изменения русел трех ручьев, что должны были питать водой запруду. Отвести правильно воду, изменив природное течение, оказалось не так-то просто. Еще сложнее был вопрос о том, куда дальше будет течь отработанная вода. Ведь Венцелю Марцелу уже мечталось поставить поблизости от лесопильни и другие полезные постройки. И, прежде всего, мельницу и сукновальню. А еще ему виделись совсем уж чудные машины, услышав о которых, палач только пожал плечами.
Но все равно, даже если выполнить то реальное, чего желал бюргермейстер, выходило, что для этого нужно несколько длинных желобов, которые будут в отдельности вращать еще и колеса. А значит, после них останется большой поток, который уже можно было назвать если не рекой, то полноправной речушкой.
Вот ее-то и требовалось направить в нужное русло. И желательно не в местные болота, которые распространяли зловоние и болезни по всей округе, а подальше отсюда, в большую реку Рейн. И для этого требовались землекопы, много землекопов. Около двух сотен. Трудиться им предстояло не менее полугода.
Так что рассчитывать только на местных селян, готовых за бесценок рыть землю, было мало. А горожане, конечно же, потребуют достойной оплаты. Да и какие цеха надолго отпустят своих подмастерьев, учеников и слуг от собственного ремесла?
Пока в распоряжении Патрика было всего лишь тридцать землекопов, да и те пришли из окрестных селений и арендных хозяйств. А это означало, что большинство из них во время посевных работ уйдут в свои хозяйства.
Сейчас они перебивались собственными продуктами, согласившись за малую плату рыть углубление для запруды. Благо палач так удачно выбрал место, что земляных работ было не слишком много. В этом месте ручей протекал в широкой ложбине, с двух сторон которой высились продолговатые холмы. Оставалось перегородить путь ручейку каменной стеной, а с середины противоположной стороны углубиться на три человеческих роста и воздвигнуть вал, чтобы предотвратить отток воды.
Палач Гудо часто навещал строительные работы. При этом он всегда молчал, лишь иногда делал короткие записи на маленьких клочках бумаги. В городе у него не было особенной работы. Рыночная площадь, как и прежде, работала на пользу торговцев и самого города. Золотари, получая постоянную оплату, старались во всем угодить Гудо. Так же обстояли дела в борделе, который в последний месяц, благодаря притоку торговцев и рабочей силы, давал все возрастающий доход.
Бюргеры и простой люд днем трудились, выполняя городские заказы, а по вечерам мирно сидели за кружкой пива и чашей веселящего вина. В городе не было наказуемого греха. Город трудился и жил в ожидании скорого и неминуемого благоденствия.
Лишь иногда, не чаще двух раз в месяц, палача призывали в соседние города на пытки и совершение казней. И каждый раз он с особым старанием выполнял свою работу и за это снискал уважение и признание как местных властей, так и простого люда.
Каждая его казнь оставляла приятное впечатление у народа, ставшего свидетелем этого события, и давала пищу для долгих бесед и пересудов за кружкой хмельного напитка.
Патрик был доволен своей работой. Он искренне радовался новострою и возможности находиться в гуще всех событий, отдавать приказы и видеть, как к нему с огромным уважением относятся убеленные сединой и умудренные жизненным опытом старейшины многих цехов.
К тому же у него в подчинении оказалось немало молодых женщин и девушек. Он умел сделать так, что редкая ночь обходилась без того, чтобы он не пользовал очередную веселушку, затащив ее в укромное местечко. Хотя после этого ему приходилось идти на некоторые уступки, а то и подкидывать избраннице несколько монет.
А уж эти звонкие кружочки у него стали водиться в достатке. Нет, он не обворовывал бюргермейстера и город. Он брал лишь малую часть. Свою. Ведь он честно и много трудился.
Правда, иногда палач косо посматривал на него, но не задавал лишних вопросов. Ведь дело ладилось. Работа продвигалась, и народ был счастлив, оттого что в скучную жизнь Витинбурга ворвался бюргермейстер со своим великим делом, а при нем состоял не менее значительный Патрик.
Только несколько огорчал могильщик Ешко. Иногда доводилось приходить на ночлег в его дом, и могильщик всякий раз, выставляя на стол вино и еду, долго всматривался в лицо молодого человека. И когда тот, усиленно налегая на дармовое угощение, пьянел, настойчиво выспрашивал, как продвигаются работы.
Довольный ответами, Ешко неизменно заключал:
– Значит, скоро золотишко потечет ручейком. За ним вслед потянутся и богатенькие купчишки. Вот будет потеха. Вот будет работа.
Патрик отмалчивался и, хлебнув напоследок вина, отползал в тесную конуру, на выделенную ему могильщиком лежанку.
Завтра будет новый день. Новые заботы и новые дела.
* * *
Хейла вся измучилась. Никогда прежде ее хозяин не одевался с такой тщательностью и требовательностью.
Начал он с умывания лица теплой водой. Затем потребовал давно отставленные пахучие мази и жидкости. Он долго и с удовольствием натирал свое большое тело мазью, приобретенной им у знаменитого императорского алхимика Цельмуса. Это была воистину пахучая смесь, настоянная на кастереуме[46] и выделениях из желез цибетовой кошки. К ним добавлялись цветы гвоздики и незабудки. А подмышки и лицо бюргермейстер смочил спиртиусом, в котором был растворен, все тем же Цельмусом, мускус половых желез самца кабарги.
От этих животных запахов воздух в спальне загустел и стал приторно сладким.
Хозяин облачился в шелковую тогу, на которой не могли удержаться ни блохи, ни вши, а затем надел новый камзол вишневого цвета. На ногах его были высокие сапожки с серебряными пряжками и задранными кверху носками. Завершали наряд плащ на бобровом меху и глубокая шапка из бурой лисицы.
На дворе уже вовсю хозяйничала весна, солнечными лучами растапливая серый снег и сгоняя его ручейками с малых возвышенностей. В небе резвились и оглушительно пели лесные птицы. Земля набухла и задышала гнилостью близлежащих болот.
Уж слишком по-зимнему оделся уважаемый бюргермейстер. Но как еще показать себя? Разве что нанизать на пальцы большие кольца с горящими камнями и повесить на грудь огромную золотую цепь с гербом города.
После вчерашнего сообщения, что к городу приближаются знатные ганзейские купцы из самого Любека, Венцель Марцел словно заново родился. Исчезла его растерянность, он весь подтянулся, и голос его зазвучал, как и прежде – властно и уверенно. Теперь он был на коне. На очень крепком рыцарском коне.
Для еще большей уверенности он отпил глоток итальянского вина и, легонько похлопав служанку по крепким ягодицам, поспешил в Ратушу. Здесь Венцель Марцел, гордо ответив на приветствия заседателей городского совета и служащих одним лишь кивком, сел в свое высокое бюргермейстерское кресло и окинул взглядом зал.
О Господи, о каких пустяках говорили сейчас эти людишки! Им не дано понять и осмыслить всего, что задумал славный Венцель Марцел.
Почувствовав это, заседавшие постепенно умолкли и уставились на своего бюргермейстера.
А тот не спешил со своим драгоценным словом.
Неизвестно, сколько бы это продолжалось, но на середину зала влетел запыхавшийся перепуганный стражник и закричал:
– Они в двух сотнях шагов от городских ворот!
Венцель Марцел сорвался с места и устремился в двери. За ним поспешили самые достойные члены городского совета.
У ворот уже собралась большая толпа, ибо интересные вести по городу разлетались со скоростью хорошей беговой лошади. Впереди, оттеснив рядовых бюргеров и разношерстных плебеев, стояли первые старейшины цехов и богатейшие из горожан. На всех лицах сияли приятнейшие улыбки. Увидев приближающегося бюргермейстера, все собравшиеся низко поклонились и расступились, давая широкую дорогу.
Венцель Марцел вышел на полсотни шагов вперед и устремил свой взгляд вдаль. Он долго смотрел, но желанные гости так и не появились. Зато показался совсем еще юноша, спешащий во всю свою молодецкую прыть.
Не добежав до городских ворот, он уже издали начал кричать:
– Гости завернули к ручью! Они осматриваются! Им интересно.
Но это было совсем не интересно Венцелю Марцелу. Он сердито топнул ногой и, тихо выругавшись, поспешил к новострою.
Здесь уже вовсю распоряжался купец Отто Штуфер. Он со знанием дела водил богато одетых ганзейцев и по лесопильне, и по строящейся запруде. Но туда он уже мог и не водить. Гостей до глубины души проняла хитроумная машина, способная выпиливать столь редкостную и драгоценную древесину. Но, будучи опытными и разумными, они прикинулись всего лишь любопытствующими простаками.
Они не задавали вопросов и не выражали восхищения, зато с необычайным интересом разглядывали машину и механизмы, приводящие ее в действие. Они уже готовы были заплатить, чтобы им позволили приподнять ящики, скрывающие секретные узлы машины. Но тут подоспел Венцель Марцел.
После взаимных приветствий бюргермейстер взял гостей под руки и вывел на высокий холм. Отсюда открывался восхитительный вид на все работы.
– Смотрите, вон там ручьи, соединяясь, вольются в запруду и заполнят ее. Затем по желобу вода обрушится на это колесо и станет его вращать. В свою очередь вращение позволит пиле вгрызться в дерево, чтобы отрезать от него все ненужное. И мы получим то, чего желаем. Крепкие, правильной формы брусья пойдут на сооружение кораблей. Длинные балки позволят соорудить грандиозные соборы и замки. А тонкие доски будут использованы для строительства жилищ и заборов. Разве это не удивительно? Машина, которую приводит в движение вода, произведет много полезных и необходимых товаров. А товары – это деньги. Большие деньги.
Трое ганзейцев молча кивали, соглашаясь с Венцелем Марцелом. Их глаза загорелись, ибо они понимали, что происходит и какую выгоду все это сулит.
– Но сколько нужно людей и времени, чтобы получилось достаточно товара? – спросил старший из них.
– Здесь все закономерно. Ускорить работы позволит золото. Ваше золото. Оно сразу же будет окупаться тем, что вы закажете. Доставку мы оплатим пополам. В первый год. Далее согласуем этот вопрос. Хотя у нас уже были купцы из южных областей. Они тоже очень заинтересовались. Но что они. Они далеко. Нам более интересен союз с Ганзой. С ее кораблями и большими морскими связями. Вот поэтому мы готовы обсудить все до мелочей. А чтобы не быть голословным, за те несколько дней, что вы проведете в Витинбурге, наша машина изготовит то, что вы сейчас закажете.
– О-о-о, – протянул старший из ганзейцев. – У нас особенный заказ.
– Сейчас мы его запишем. Патрик!
Патрик, возникший словно из-под земли, явился с листом бумаги, пером и бронзовой чернильницей.
– И как же вы успеете срубить дубы для нашего заказа? – с сомнением в голосе осведомился ганзеец.
– Вам нужно просто отдохнуть после долгой дороги. Патрик, подробно запиши заказ гостей. И пусть они поставят свои имена. Это наш первый и главнейший заказ.
– Но все же, – не унимался ганзеец, – когда же будут закончены работы? И сколько дерева вы сможете обработать за день и за месяц?
– О! Это мы с вами подробно обсудим. Но не здесь. Вы наверняка проголодались и хотели бы промочить иссохшее горло. Прошу вас за мной. Хотя сейчас и пост, но вы останетесь довольны нашим гостеприимством. Не будь я Венцелем Марцелом – бюргермейстером Витинбурга.
* * *
Венцель Марцел находился в глубокой задумчивости. Он никак не ожидал от ганзейских купцов такой деловитости. Их не брало ни вино, ни крепчайшее пиво. Их не расслабили музыканты и девки старой Ванды.
Наутро, проведя ночь в доме бюргермейстера, они поднялись свежие, как будто в их желудки не были влиты большие кувшины вина и полбочки пива. Они задержали фрюштюк[47] и, плотно обсев Венцеля Марцела, засыпали его сотней вопросов.
А у самого Венцеля Марцела голова кружилась, и он едва успевал отбиваться от них. Землекопы, кирки, железные лопаты, стоимость работ, правильность расчетов движения воды, сколько еще можно построить лесопилен, как и откуда будут доставляться стволы, как будет осуществляться проверка готового товара, как он будет и в какое время доставлен…
От всего этого Венцель Марцел почувствовал, что в голове у него затуманилось. Единственное, что он правильно сделал, так это то, что не ответил ни на один вопрос. Он все вопросы отсылал в городской совет. И наконец гости не выдержали и, подхватив бюргермейстера, отправились в Ратушу.
Здесь, как великий знаток права и составления документов, вперед выступил судья Перкель. Он взял гостей на себя, чем бесконечно обрадовал Венцеля Марцела.
Судья Перкель оказался весьма сведущим законником, чем явно были опечалены ганзейцы. И все же в договоре были указаны по большей части их требования, хотя не обошлось и без городских обязательств.
Главное же заключалось в том, что уже через пятнадцать дней в Витинбург должны были привезти две тысячи любекских гульденов с условием поставки указанного товара не позже второго месяца лета. И это понятно. К концу лета закончатся боевые действия в непрерывной войне за французский престол. И англичанам потребуются корабли для переброски на свои острова уставших рыцарей и лучников.
Ганзейцы должны взять на себя эти обязательства и успеть построить большие корабли. К тому же им и самим нужны «когги»[48] для собственной защиты от морских разбойников и для контроля над морской торговлей. А это огромные корабли, на которых было по две мачты и до двух с половиной сотен служивых людей. А еще на них было до полутора дюжин пушек.
Чтобы построить такой корабль, нужен лучший лес и его точнейшая обработка. Вот почему гости были на многое согласны. А то, что это будет так, они не сомневались. Ни один город Священной Римской империи не смел подвести Ганзу. Это все равно что плюнуть под ноги самому Папе Римскому. Отмщение будет скорым и жесточайшим.
Венцель Марцел, крепко стиснув зубы и противно шмыгая мокрым носом, долго смотрел вслед удаляющимся повозкам ганзейцев.
* * *
Бюргермейстер стоял на вершине холма и с гневом смотрел то на неоконченный котлован запруды, то в спины удаляющихся трех десятков селян. Вчера после рабочего дня городской казначей выдал им три четверти договоренных денег за последний месяц. Селяне благодарили и низко кланялись.
А сегодня поутру старший из них заявил Патрику, что они уходят в свои хозяйства на посевные работы. При этом он клялся и божился, что они вернутся через две недели и будут продолжать работать на тех же условиях. Эти тугодумы понятия не имеют, что такое задержать земляные работы на две недели. А точнее, сорвать и без того уже нарушенный график работ. Если они не успеют со своей запрудой, то это приведет к невыполнению заказа ганзейцев. А значит…
Венцель Марцел даже не желал думать о последствиях.
Проклятые селяне и их посевные! Впрочем, посев для города тоже важен. Не будет посева – не будет урожая. И что тогда? Витинбург ждут голод и сумасшедшая дороговизна. Тут уже и лес не спасет.
Но что же делать?
– Уходят, – печально промолвил Патрик, стоявший за спиной бюргермейстера.
– И винить их особенно не за что, – добавил судья Перкель.
– А мы через две недели закончим стену, – важно сказал старейшина цеха каменщиков.
– Так, может, возьметесь за лопаты? – с надеждой спросил Патрик.
Старейшина выдержал паузу и, придав себе важности, ответил:
– Отчего же не взяться. Если город будет платить как за каменные работы, я думаю, что мне удастся склонить братьев моего цеха к этой подлой работе.
– Вот-вот, подлой. Какие все благородные в нашем городе! На пользу ему и лопату в руки не возьмете, – разгорячился судья Перкель.
– Возьмут, – гневно сказал Венцель Марцел и, глубоко вздохнув, добавил уже более спокойно:
– Возьмут, если город заплатит ту цену, которую просят горожане. Ладно бюргеры, у них есть кое-какая работа и заказы. А плебеи? У этих бездельников от бедности крысы дохнут, а все туда же – дорожат своим трудом. И все оттого, что витинбуржцам стало известно о ганзейском золоте. А его едва хватит, чтобы покрыть половину всех затрат на работы. Если же платить втридорога, то можно и вовсе остановить строительство. И забросить. Да, положение… Хоть самому лопату в руки бери.
Стоявшие за спиной Венцеля Марцела, переглянувшись, невольно улыбнулись. Они одновременно представили себе веселую картинку: бюргермейстер с лопатой.
– И все же приходится идти на значительные расходы. Патрик! Постарайся сегодня нанять двадцать горожан по три гроша в неделю. Но при условии, что у них будут свои кирки, железные лопаты, корзины и одноколесные тележки для вывоза земли. А городской инструмент мы прибережем. Палач!
– Здесь, – раздался голос Гудо, стоявшего позади всех.
– Сколько у нас в тюрьме бездельников?
– Трое должников, двое нарушителей городского устава и двое бродяг. Но они добровольно там. Делают всякую порученную работу. Все же теплее, чем на улице. А питаются милостыней.
– Ты, палач, поговори с ними. Построже. Незачем им бездельничать. Кому долги спишем, кому пива поднесем и немного каши. А если что, то и в зубы дай. Для большего понимания…
– Верно, – поддакнул судья Перкель. – И я их припугну.
– Вот-вот. Все думайте, как быть, – сурово велел бюргермейстер.
– А давайте конную стражу пошлем по дорогам. Людей всяких много шатается. Может, согласятся, – задумчиво предложил Патрик.
– И такие подойдут, – согласился Венцель Марцел. Потом скривился и добавил:
– Согласятся, не согласятся. Воли много. При баронах так себя не вели. А то город – община вольных… Нужно подумать об изменениях в городском уставе. Иначе всякий селянин, прибывший откуда угодно и проживший у нас год и еще один день, легко становится свободным жителем имперского Витинбурга.
– Такое положение записано в уставах всех вольных городов, – напомнил бюргермейстеру судья Перкель. – Чем больше горожан, тем крепче город. Ведь каждый бюргер обязан с оружием в руках встать на его защиту.
– Да, все это так. Только кто землю рыть будет? – Венцель Марцел сердито фыркнул и, не попрощавшись, стал спускаться с холма в сторону городских ворот.
– Если бы половина жителей вышла копать, можно было бы закончить все земляные работы за пять-шесть недель, – мечтательно произнес Патрик и посмотрел вслед палачу, который шел к каменной кладке.
Патрик поспешил за ним. Может, он что-нибудь придумает.
* * *
Венцель Марцел не слышал ни единого слова, произнесенного в зале городского совета. Да и что их слушать? Лучше бы взяли в руки кирки и лопаты и отправились землю копать. Сколько же их?
Он привстал со своего бюргермейстерского кресла и стал пальцем пересчитывать тех, кто в это утро был, согласно своим обязанностям, в зале совета.
Что за дурацкие правила – три раза в неделю собирать совет! Кроме того, приходится и в другие дни держать людей на случай скорого рассмотрения всяких неожиданных происшествий и, не приведи Господь, бед.
Насчитав двадцать двух здоровых мужчин, Венцель Марцел опечаленно сел на место. Сколько бы они могли вырыть земли! Но эти представители цехов, купечества, содержатели домов и городские служащие никогда не возьмутся в душевном порыве за нужный городу труд. Они сразу же потребуют оплаты.
А где ее взять?
Венцель Марцел, конечно, лукавил. В его распоряжении были уже значительные денежные средства. Но, помня перенесенную тяжелую болезнь, вызванную безденежьем, он каждую монетку отдавал, как каплю собственной крови.
И все же бюргермейстер понимал, что наступит тот час, когда он выложит золото и серебро, данное ганзейцами, местными купцами и менялами, а также некоторыми богачами. И этот час близился. Вот-вот он отдаст все, чтобы не рухнула его великая затея и он не стал посмешищем всего города. Тогда Венцелю Марцелу никогда не быть бюргермейстером и даже уважаемым бюргером. А за это он готов был даже заложить свой дом, повозку, лошадей – все, что у него есть. О! Не приведи Господь!
Все присутствующие в зале увидели направленный на каждого из них бюргермейстерский палец. Большинство пожало плечами, предвкушая, как эту выходку Венцеля Марцела будут вечером обсуждать за кружкой пива с друзьями, а ночью с женами. Но были и такие, что покраснели, чувствуя за собой мелкие и не такие уж мелкие прегрешения. Но после этого никто уже не стал ни высказываться по прошлым вопросам, ни поднимать новых. А так как обсуждать было больше нечего и некому, совет откланялся впавшему в задумчивость бюргермейстеру и удалился по своим более важным делам.
Венцель Марцел еще долго сидел в своем бюргермейстерском кресле, склонив голову на правую ладонь. Он бы просидел и дольше, но тихо подошедший городской писец опустил ему на плечо руку.
Бюргермейстер хмуро посмотрел на здоровенного писца-бездельника (тот, разумеется, не рыл землю) и устало спросил:
– Что еще?
– Вашу милость просит принять чужеземец.
– Какой чужеземец?
Писец пожал плечами.
– Он говорит, что у него важнейшее дело.
Венцель Марцел устало кивнул.
– Проведи в мою комнату.
– Он уже там…
«С чего бы это писец провел незнакомого человека в мою комнату? Видно, уже погрел свои руки дарами», – неприязненно подумал бюргермейстер, нехотя встал и пошагал в дальний конец Ратуши.
В комнате его приветствовал высокий старик с совершенно седыми длинными волосами и бородой. Лицо его было в строгих морщинах, а через всю правую щеку тянулся глубокий шрам. Несмотря на все еще прохладные весенние дни, одет он был в подобие сутаны священника, только белого цвета. Правда, от времени и долгой дороги она уже стала серой. На ногах старика были поношенные пулены, тоже когда-то белого цвета. У его ног лежали увесистый дубовый посох и большая кожаная сумка на длинном ремне.
– Меня зовут Доминик. Я послан братьями и сестрами Христа. Их путь лежит через ваш город, достойный Венцель Марцел.
Старик говорил на вполне понятном северогерманском наречии, но в его произношении угадывалась принадлежность либо к итальянцам, либо к южным французам. Такой распев Венцель Марцел уже слышал, когда по делам был в портовых балтийских городах, куда приплывали купцы со всех стран Европы.
– И что это за братья и сестры? – присаживаясь на скамью, спросил бюргермейстер.
Старик так и остался стоять перед ним.
– Это истинные христиане, ежедневно приносящие покаяние во славу служения Господу Богу.
– Что за покаяние?
– Братья и сестры каются и принимают муки телесные, умерщвляя плоть на глазах других людей во искупление собственных грехов и грехов тех, кто присутствует при этом. Мы – братья и сестры Христа!
– Если я правильно понимаю, то в булле Римского Папы Климента вы названы флагеллантами[49], точнее сектой флагеллантов.
– Бог возвеличил флагеллантов и оттолкнул от себя Папу. Другого спасения души не существует, как только путем нового крещения крови, а именно одним средством – сечением и бичеванием.
– Так, так, так – протяжно произнес Венцель Марцел и надолго замолчал.
Конечно же, бюргермейстер не мог не знать о существовании этих религиозных фанатиков и всего того, что было связано с ними.
Прошло уже более ста лет, как возникла эта секта из глубин народа и уверенно расползлась по всей Европе.
«Тогда вся Италия была охвачена различного рода преступлениями. Люди боялись выходить из дома, боялись, когда к ним приближалась толпа, боялись друг друга. И эта боязнь ярче всего проявилась в городе Перузе, где всех жителей охватил такой страх, что он одновременно вывел всех на улицы, бросил на колени и заставил молиться Богу. Затем это чувство охватило жителей Рима, а позже и всю Италию.
Люди были преисполнены невероятного ужаса, ожидали чего-то страшного от Бога, и все без исключения, молодые и старые, знатные и простонародье, расхаживали в обнаженном виде по улицам, не испытывая никакого стыда. Знакомые и незнакомые выстраивались в два ряда и шествовали процессией, подобно церковной. У каждого в руке была плеть из кожаного ремня, которой они с особым рвением хлестали друг друга. При этом отовсюду раздавались душераздирающие стоны и вопли, все молили Бога и Деву Марию простить их и не отказать в покаянии.
Так проводили итальянцы время не только днем, но и ночью. Тысячи, десятки тысяч кающихся грешников в зимнюю стужу брели едва одетые по улицам и потрясали своими воплями церковные стены. У каждого в руке была зажженная свеча. Эти процессии обычно вел священник. За ним несли крест и хоругви…
Войдя в церковь, все смиренно бросались пред алтарем. То же происходило в маленьких городах и даже в деревнях. Все вокруг сотрясалось от воя человеческого, взывавшего к Создателю. Музыка замолкла, миннезингеры[50] перестали ласкать ухо своими песнями. Единственная музыка, которая тогда раздавалась, представляла собой ужасные вопли кающихся, которые не могли не тронуть самое зачерствелое, каменное сердце самого бездушного человека. На глазах даже закоренелого и отъявленного грешника при подобных звуках появлялись слезы…
Тогда происходили удивительные явления: лютые враги становились задушевными друзьями; ростовщики и грабители возвращали нечестным трудом нажитые деньги прежним своим жертвам. Многие приносили повинную в совершенных преступлениях и отказывались от человеческих удовольствий. Двери тюрем открывались, заключенные выпускались на свободу, изгнанным разрешалось вернуться из ссылки.
Было проявлено столько христианской сострадательности, что казалось, будто все человечество охвачено неописуемым ужасом и безграничным страхом. И всемогущество Божье не в силах было подавить эти чувства. Самые мудрейшие из мудрых поражались внезапно возникшему движению, которое охватило всех. Они никак не могли отдать себе отчет в том, откуда именно могло взяться подобное лихорадочное благочестие. До этих пор публичные раскаяния в грехах вовсе не существовали.
Ни сам Папа Римский, ни кто-либо другой из влиятельных духовных особ ни словом не обмолвились о них и не рекомендовали применение их.
Среди публично кающихся были не только плебеи, черный люд, но и множество богатых и весьма образованных людей.
Святой Антоний упорядочил и вывел процессии флагеллантов на дороги Европы. Уже через несколько десятков лет многие и многие тысячи кающихся перешагнули Альпы, появились в Эльзасе, Баварии, Польше, а далее и во Франции. И никакие усилия властей не могли остановить это движение, ибо она находило поддержку народа.
Интерес и воодушевление, проявленные по отношению к этой секте, были настолько велики, что Церковь пришла даже в некоторое смущение. Флагелланты постепенно распространили свое чарующее влияние на все церкви, а их новые псалмы и песни, преисполненные глубокой святости, как нельзя более подходили для того, чтобы в сильной степени возбуждать и без того повышенную религиозность народа.
Но времена изменились.
Изменились и вожди флагеллантов. Некоторые из них настолько в себя уверовали, что пытались творить чудеса. И даже воскрешать мертвых. Но вследствие неопытности, неловкости и «нечистой работы» сектанты подобными поступками только вредили себе, ибо ограничивали круг действия лишь изгнанием злых духов с помощью божественного вдохновения»[51].
Этим они вызвали гнев и презрение влиятельных церковников. В конце концов Папа Климент VI, занимавший этот пост с 1332 по 1352 год, издал против секты флагеллантов особую буллу. Немецкие епископы обнародовали апостольский указ и запретили сектантам селиться в их епархиях.
«И у меня они не задержатся», – твердо решил Венцель Марцел.
– Ворота Витинбурга для вас будут закрыты.
Старик тяжело вздохнул.
– Вы опасаетесь гнева Папской курии. Вас можно понять. Ведь вам еще неизвестно, что греховностью своей и мерзкими поступками Папа накликал на христиан Божий гнев. Черная чума, рожденная пустынями Востока, уже сожрала миллионы людей. Желтые люди, приверженные своей поганой вере, решили уничтожить христиан. Но они ничто. Это Бог их руками посылает на нас величайшее горе за наши грехи, которые во множестве остаются незамоленными. Это Бог надоумил ордынского хана Джанибека во время осады христианской крепости Кафу[52] забросить катапультой труп умершего от чумы. Заболевшие генуэзцы оставили крепость и привезли болезнь к порогу Авиньона[53]. И Папа Климент в страхе перед наказанием Божьим оставил свою паству и накрепко закрылся в своем дворце. В начале прошлого года[54] чума унесла в могилу королеву Арагона и короля Кастилии вместе с сотнями тысяч их подданных. Весной этот ужас убил половину жителей Парижа и младшую дочь короля, принцессу Жанну. Осенью чума уже свирепствовала на английском острове. Очень скоро она достигнет и ваших земель. Так не пора ли задуматься о покаянии? Покаянии всеобщем и угодном Богу. И, может быть, тогда Господь простит нас. Тогда черная смерть уберется в свое азиатское логово.
– Италия, Франция, Англия… Все это очень далеко. А мы народ смиренный, богобоязненный и добросовестно выполняющий Божью волю. Так что… – Венцель Марцел с сомнением покачал головой.
– Братья и сестры Христа смогут своими покаяниями уберечь вас от неминуемой гибели. Молитесь с нами. Ведь когда придет чума, будет поздно. От чумы нет человеку спасения, где бы он ни жил – на острове, в пещере или на вершине горы. Там, где она прошла, дома стоят пустые, ибо живые, не успевая хоронить в огромных общих ямах мертвых, падают в них, уже будучи и сами мертвыми. На морях по воле ветра и волн качаются корабли с мертвой командой. Торговля замерла, потому что не стало ремесленников. Землю пахали одни люди, а зерно сеяли другие, и те, что сеяли, не дожили до жатвы. Селения опустели…
Старик устало провел рукой по лицу и с надеждой посмотрел на бюргермейстера.
– Господь справедлив. Наша вина перед ним настолько мала, что о ней не стоит и говорить. Мы молимся, причащаемся, соблюдаем пост и много, очень много работаем. – Венцель Марцел встал, давая понять, что беседа закончена.
– Да, подходя к городу, я видел, что вы действительно много трудитесь, – голос старика стал вкрадчивым. – Большой труд – это тоже покаяние перед Господом. Мои братья и сестры часто предаются большому труду. Особенно когда это на благо людей. Мы трудимся много и бескорыстно. И этим мы тоже обращаемся к Богу за прощением грехов людских.
– Бескорыстно? – Венцель Марцел вновь опустился на лавку. – Что ж, вы делаете доброе дело. И сколько же у вас братьев и сестер?
– В нашей процессии не более ста пятидесяти человек.
– Сто пятьдесят! – воскликнул бюргермейстер и расплылся в счастливой улыбке.
Глава 10
Первыми приближающуюся процессию увидели мальчишки, разоряющие птичьи гнезда в лесу. Сбившись в стаю, они какое-то время наблюдали за странной колонной едва одетых людей и с недоумением вслушивались в их громкое хоровое пение. Вскоре они поняли, что эти странные люди не собираются сворачивать с дороги и что их путь лежит в Витинбург. Тогда ребятня во весь дух бросилась к городским воротам и, сбивчиво рассказав стражникам об увиденном, разбежалась по домам.
Уже очень скоро весть о приближении странных людей облетела город и множество горожан поспешили к воротам, чтобы своими глазами увидеть необычную процессию. Народ высыпал на широкий луг перед городской стеной и уставился на дорогу.
И вот из леса на слякотную дорогу вышли первые ряды процессии. Самые зоркие из горожан увидели и громко возвестили о том, что впереди колонны с огромной зажженной свечой идет священник, а над его головой развеваются церковные хоругви, в основном пурпурные, из дорогого шелка.
Процессия медленно двигалась по дороге, и по мере ее приближения все отчетливее слышалось хоровое пение. Множество женских и мужских голосов, слитых воедино, четко выпевали каждое слово. Едва заканчивался один псалом, как идущие начинали следующий, и это многоголосие разливалось по широкой поляне, отражалось от по-весеннему взбухшей земли и, набравшись природных сил, устремлялось в неожиданно прояснившееся небо, в его божественную бесконечность.
Среди собравшихся горожан нашлись люди бывалые, и они, немного посомневавшись, все же правильно определили:
– Это флагелланты!
Бюргеры заволновались, но не спешили покинуть своих мест. Не каждый день увидишь процессию тех, кто кается за весь род человеческий.
Пение становилось все громче, и уже понятно было каждое произносимое слово. Солнце подобрело и, расшвыряв белесые тучки, залило лучами и поляну, и чавкающую грязью дорогу. А более всего взор умиляли многочисленные хоругви, подобные славным флагам над могущественной и непобедимой армией.
Армией самых преданных Господу рабов, его надежды и любимейших детей.
Из ворот показался отец Вельгус. Узрев процессию, он невольно стиснул зубы. Его лицо помрачнело, а руки бессильно повисли вдоль тела. Однако уже в следующее мгновение он встрепенулся и, не увидев подле себя достойных граждан Витинбурга, мелко закрестился и поспешил обратно в город.
И вот процессия подошла настолько близко, что можно было в деталях рассмотреть лица людей и их одежды. Одежды, в которые, наверное, были облачены самые первые христиане-подвижники. В такие же был одет сам Христос в своих долгих странствиях. В своих коротких полотняных туниках, босые, эти люди скорее были раздеты. Но они этого даже не замечали и не стыдились. Их лица были светлы и устремлены к небесам.
Все: их одежда, великолепное пение и одухотворенность лиц – указывало на то, что для них существует только одно сокровище – вечная жизнь в царствии Божьем. А здесь, на пропитанной грехом постылой земле, они всего лишь случайные гости.
И горожане, сами того не заметив, подхватили это божественное пение, и их лица так же засияли, освещенные улыбками доброты и благолепия. Жители Витинбурга расступились, давая дорогу великим страдальцам и, пропустив их, пристроились в конец процессии.
А в городе их уже поджидали те, кто был на цеховых работах, но, покинув свои места, поспешили навстречу божественному пению.
Только сами флагелланты, казалось, не замечали, сколько радости вызвало у горожан их прибытие. Они по-прежнему смотрели в золотисто-синее небо и продолжали петь, не обращая внимания на то, что оплывшие свечи залили их руки горячим воском.
Ведомая священником процессия проследовала по улицам Витинбурга и вышла на Соборную площадь. Здесь, замедлив шаг, флагелланты приблизились к Кафедральному собору, образовали круг и, опустившись на колени, умолкли.
Священник вышел в центр круга и трижды прочел Pater noster[55]. Затем он развел руками и воскликнул:
– Братья и сестры Христа! Согрешившие да покаются. И их услышит Господь. И примет это громкое покаяние и тем самым смягчит свою волю, ибо мы каемся в собственном грехе за грехи многих, и это покаяние многоголосно! Братья и сестры, покайтесь!
Из круга флагеллантов вышла совсем еще молодая женщина. Вслед за ней шел мужчина – экзекутор. В его руке была кожаная плеть, три длинных конца которой змеями волочились по грязи Соборной площади.
Подойдя к священнику, женщина опустилась на колени и, несколько раз перекрестившись, сказала:
– Меня зовут Эльга. Мой грех велик. Я согрешила в супружеской жизни. Пусть Господь примет мое покаяние и мою кровь.
– Да будет так! – провозгласил священник и перекрестил кающуюся.
Женщина спустила ветхое одеяние до пояса и легла лицом в холодную грязь. Экзекутор тоже подошел к священнику, опустился на колени и, приняв его позволение, встал и направился к кающейся.
Под общее молчание он поднял плеть и с силой обрушил ее концы на узкую женскую спину. Женщина, не выдержав, вскрикнула, но уже второй удар приняла молча, как и все последующие. Экзекутор раз за разом наносил удары, слегка улыбаясь только тогда, когда удачный удар располосовывал кожу кающейся и всепрощающая кровь обагряла кожу плети. Наконец он устал и, вытерев пот с лица, поклонился священнику. Затем он громко произнес:
– Встань, прошедшая через пытки чести, и остерегайся от дальнейших грехов.
Священник произнес Advaniat regnum tuum[56], и женщина, поднявшаяся с огромными усилиями, ответила:
– Fiat voluntas tua[57].
– Кто еще желает обратить свое слово к Господу? – спросил священник у своих братьев и сестер.
Уже готовый к покаянию, из круга выступил седобородый мужчина со своим экзекутором.
Он сбросил с себя все одеяние и громко признался:
– Я Теренс. Я клятвопреступник. Пусть Господь примет мое покаяние и мою кровь.
Все повторилось до мельчайших подробностей, с той лишь разницей, что мужчина лег на бок и поднял кверху три пальца правой руки. Кроме того, он несколько раз болезненно закричал и поднялся с земли со слезами на глазах.
Священник перекрестил кающегося и повернулся к собору. На его ступенях стоял отец Вельгус и растерянно наблюдал за происходящим.
Священник флагеллантов встал на колени и таким образом приблизился к настоятелю Кафедрального собора. Перед ступенями он произнес: «Прими нас, святой отец, в доме Господнем». И лег лицом вниз.
Отец Вельгус отступил на шаг и увидел сотни глаз, устремленных на него. Он не выдержал и согласно кивнул.
И тут же над площадью раздалось пение. Ряды флагеллантов пошатнулись, и люди, бережно держа свечи, медленно двинулись к входу в собор. Вслед за ними потянулись крестящиеся горожане.
В соборе кающиеся легли вниз лицом и продолжили петь. Отец Вельгус оторопело посмотрел на новую паству и медленно взобрался на кафедру. Он еще не знал, что будет говорить, но в его душе уже разгорался Божий огонь.
* * *
Отец Вельгус молчал. Он слушал и все более и более не понимал. Вся его жизнь была посвящена Церкви. Еще ребенком он знал, что Божья благодать лежит на нем и что его путь – это путь, выбранный для него Церковью. Он всю жизнь верил ей и подчинялся. Каждому слову, каждому направляющему персту, каждому решению курии, каждой папской булле.
И сейчас он должен был метать молнии и разить словом Божьим неугодных высшему духовенству флагеллантов. Этих сектантов, еретиков, отступников и нарушителей устоявшихся церковных правил.
Но всего лишь два дня назад на него снизошло что-то важное, может, то, что было с рождения в его душе и при этом укрепилось осознанием. После своего слова в защиту необходимости общественного покаяния, которое он произнес на кафедре собора, отец Вельгус уже сам себя не понимал.
Он впервые в жизни видел настолько искреннее желание покаяться и настолько великие жертвы для этого, что готов был поверить, что люди понимают, в чем состоит настоящее служение Господу.
Может быть, там, в далеком Риме и в папском Авиньоне, не видно и не слышно песнопения этих братьев и сестер Христа? Может, они чего-то не поняли, издав такую строгую буллу относительно этих святых людей? Разве можно осудить великое покаяние, пусть даже оно происходит столь кровавым способом? Но человек рожден для мук. А если эти муки принимаются во имя Господа? Тогда он почти святой. А может, и святой.
И это их великое вдохновение помочь ближним своим… То есть всем, кто рядом с ними. И при этом они не требуют и не просят даже малого. Трудно понять. Может, это трудно священнику, принимающему людей как агнцев Божьих, без всякого умысла? А может, умысел и полезен. И их страдания во имя всех нужны и важны? И даже полезны.
Вот бюргермейстер увидел в них полезность. Полезность и для служения Богу и, конечно, для города.
– О том, что десять женщин и восемь мужчин будут трудиться на благо собора, нами уже принято. Остается святому отцу Вельгусу правильно направить их труд и выделить из церковной казны средства на их пропитание. Волею и по желанию жителей Витинбурга большинство наших гостей-флагеллантов уже нашли себе жилье. Горожане довольны своими постояльцами, поскольку те непритязательны в еде и довольствуются малым. Гости не принимают даров, а если и берут деньги, то в малых количествах – на свечи и для святых хоругвей. Зато Божье слово теперь в каждом доме. И правила их жизни строги и согласуются с заповедями Господа во всем. Для остальных мы уже начали возводить несколько дощатых домиков поближе к отводному каналу…
Венцель Марцел вытер пот со лба, окинул взглядом собравшийся в полном составе городской совет и продолжил:
– У нас уже есть достаточно кирок и лопат для земляных работ. Но необходимо еще шестьдесят кирок и пятьдесят лопат. Андрес Офман, оплата твоим кузнецам произведена вчера. Когда город получит эти инструменты?
Старейшина кузнецов поднялся и, огладив бороду, ответил:
– Кузнецы работают даже сверх установленного для них времени. Думаю, что не позднее чем через три дня все будет готово.
– Два дня, – жестко сказал Венцель Марцел и добавил:
– Несмотря на столь большую помощь, работы еще много, ее хватит для всех желающих. Ко мне и надзирателю работ Патрику уже обращались горожане. Мы примем на работу этих людей. Но оплата будет значительно скромнее той, что они просят. Сейчас мы можем обойтись и без лишней помощи. Но мы обязаны думать и заботиться о наших славных горожанах. Каждый, кто принял участие в работах, будет наполовину освобожден от городского налога в течение трех лет. Уважаемые старейшины цехов, объявите об этом своим братьям. Сегодня об этом на Ратушной площади для остальных возвестит глашатай.
Есть ли другие предложения или возражения?
Бюргермейстер, прищурившись, обвел взглядом зал.
Собравшиеся только согласно кивали. А как иначе? Венцель Марцел сегодня на коне. Сильном и резвом. Вон как все придумал. Вон как все славно устроил. И даже пришедших людей подрядил работать за хлеб и скудные деньги. Как тут быть против? И отец Вельгус доволен. Ведь и ему перепало на собор и деньгами, и трудовыми руками. Да еще лес обещан.
Вот только есть вопрос. А как долго братья и сестры Христа смогут работать на скудном хлебе? И не вздумается ли им вскорости побрести дальше по их бесконечным дорогам?
Но, похоже, Венцель Марцел уверен в них. И что ему дает такую уверенность?
– Людей на земляных работах уже достаточно. Но будет ли порядок и контроль над их трудом?
Это кто? Венцель Марцел не узнал противный голос. Волшебные очки лежали в его кармашке на поясе, но он не желал при всех водружать их себе на нос. Ладно, потом у писца уточнит.
– И священник, и их супериор[58] Доминик в присутствии отца Вельгуса на кресте поклялись не покинуть работ до их полного выполнения. Таково решение всех пришедших гостей. Так что в этом опасности нет. Но и порядок, несомненно, должен быть. И у нашего города есть такой человек. Это городской палач Гудо. У него нет большой работы по своему ремеслу. На рынке и других службах уже устоявшийся порядок. Так что, думаю, при определенном вознаграждении ему можно поручить контроль за порядком среди гостей города.
– А он согласен в дополнение к своим обязанностям прибавить еще и эту? – раздался все тот же противный голос.
Венцель Марцел строго посмотрел в сторону задавшего вопрос и уверенно ответил:
– Он согласен на все, что постановит городской совет. К тому же он сам просил меня об этом.
* * *
Весна передавала свой королевский жезл рвущемуся в город лету. Поляны и холмы уже покрылись густой зеленой травой. Над ней, выискивая первые полевые цветы, кружилась мошкара и натужно гудели пчелы. Солнце подолгу висело в небесах, поливая все живущее своим благодатным теплом. Легкий ветерок приятно обдувал лицо и приносил на своих крыльях чудесный аромат цветущих растений.
Гудо сидел на вершине холма и в полной мере отдавался этой благодати, радуясь, что не приходится думать о том, что случится завтра и сегодня, даже в следующий миг. Его никто не смел потревожить. Он был предоставлен самому себе. Ну, хотя бы в этот короткий час. Он заслужил это.
Как бы то ни было, а он выполнил и продолжал выполнять данное им слово. Работа была в самом разгаре. Большая и полезная. Не пройдет и месяца, как все, что задумал бюргермейстер, будет воплощено в жизнь. И бюргермейстер, и горожане останутся довольны. Много ли им надо? Набить желудки и разбавить еду добрым вином.
А что нужно самому Гудо? Неужели ему мало того, чтобы созерцать, как растут его труды, наполняясь необходимым содержанием? И нет никакого расстройства, связанного с тем, что все это не имеет отношения к его имени? Да и зачем оно ему…
Возможно, раньше он, раздавливая и уничтожая людей, желал, чтобы его имя произносили с ужасом и животным трепетом. Но все это так ничтожно! Теперь он жил, понимая, что возвеличивание имени и возвышение человека – это всего лишь соблазн и ступенька для греха. От всего этого можно освободиться. Вернее, освободить душу и в дальнейшем не принимать в нее ничего постыдного. Он уже с содроганием подумывал о том, что, может быть, сегодня или завтра явится гонец из какого-нибудь городка и его опять пошлют, дабы совершить казнь или жестокие пытки.
А это было совершенно несовместимо с чувствами, навеянными приятным, теплым днем, легким ветерком и беззаботным птичьим щебетом. Вот бы просидеть так всю жизнь, наслаждаясь одиночеством!
Но нет. Вероятно, это возможно в пустыне, куда и птица не долетит. А пока…
Гудо поморщился.
К нему по холму поднимался супериор Доминик и неразлучный с ним помощник Мартин.
Старик уже изрядно надоел Гудо. Непонятно почему он постоянно искал общения с господином в синих одеждах. То он предлагал отведать доброго вина, то приносил с собой крепкое пиво с истекающим янтарем окороком, то звал на сборище своих флагеллантов. И всегда пытался втянуть Гудо в разговор. И ладно, если бы речь шла о работах, в которых были заняты его братья. Но нет, он пытался поговорить на мудреные и даже философские темы. Такая назойливость очень скоро надоела Гудо, и при встрече со стариком он чаще всего отвечал односложно, а то и просто молчал.
Да еще этот Мартин с перерубленным носом.
В первые дни знакомства тот даже не смотрел Гудо в глаза, а в разговоре не проронил ни единого слова. Зато через месяц он уже искал возможности быть замеченным палачом, низко поклониться или придумать любой предлог, чтобы обратить на себя внимание.
Тяжело взобравшись на холм, старик вытер лоб и поприветствовал палача:
– Пусть будет день твой легок и угоден Господу.
Гудо в ответ едва кивнул ему.
– Сегодня пятница, – продолжил супериор флагеллантов. – Нужно получить все, о чем договаривались. Хлеб и зерно заканчиваются. А завтра праздник святой Эльзы. Неплохо было бы налить братьям и сестрам по кружке пива. Как ты думаешь?
Гудо снова кивнул.
– Мартин готов отправиться в поселения и к арендаторам. Да, Мартин?
Глаза Мартина забегали. Почесав свой перерубленный нос, он ответил:
– Да, Доминик, я готов.
– Ладно, – выдавил Гудо. – Ступай к Патрику и скажи, что я… – Палач долго подбирал слово и наконец вымолвил:
– Прошу выдать в серебре плату сегодня вечером. И пусть попросит бюргермейстера добавить на три бочонка пива. Пусть скажет, что я просил.
Мартин лениво поклонился и стал неспешно спускаться с холма.
– Я доволен Мартином. Хотя он не наш, не брат Христа. И никогда им не станет. – Старик уселся рядом с Гудо и погладил свою длинную бороду. – Не открывает он душу. Не кается. Но мы никого и не заставляем. Это придет с Божьей благодатью. Зато он очень расторопный и хозяйственный. Куда ни пошлешь его, даже с малыми деньгами, всегда он выполнит все в точности и привезет больше, чем ожидаешь. И как ему это удается? Очень полезный для нас человек.
Гудо молчал. Его взгляд был обращен к лесу, стоявшему стеной. Буйная зелень радовала глаз.
Доминик прокашлялся и невозмутимо продолжил:
– А ведь я его подобрал неподалеку от этих мест. Он уже совсем был плох. Горячка иссушила его силы, и он был готов отдать Богу душу. Тогда он едва вымолвил свое имя – Мартин. Ему повезло, что я разбираюсь в травах и целебных настойках.
Гудо повернул голову к супериору и с некоторым вниманием посмотрел на него.
Старик улыбнулся.
– В благодарность за это он отправился за мной в мои странствия и стал верным слугой. И даже больше. Он заботится обо мне. К тому же у него неплохо выходит зайчатина в кислом соусе. Но о себе он говорить не желает. Видно, он хлебнул немало и, скорее всего, в семейной жизни. Как он упорно сторонится женщин! А ведь наши сестры в раскаянии часто бывают добры и участливы. Но он избегает этого общения. Да и печальный он частенько. Я думаю, он скоро покинет нас. Наверное, ему нужна какая-нибудь добросердечная вдовушка. Она-то его и развеселит. Да и он ей пригодится. Все же расторопный малый.
Гудо продолжал молчать и еще ниже надвинул свой капюшон.
Но это совсем не смутило старика. Немного помолчав, он улыбнулся и снова заговорил:
– Да, хорошие у вас края. Здесь спокойно и не хочется думать о трудностях. Вот только я все удивляюсь. В чью же голову пришла мысль сделать все это? – Доминик широко развел руками. – Это смог бы только достаточно знающий человек. Все говорят о бюргермейстере. А он не показался мне таким способным механиком, чтобы придумать столь сложную машину. И эти отводные работы… Вода – сложная стихия. С ней нужно быть умелым. Да и в вашем архиве я не нашел чего-либо такого, что могло бы помочь в таком непростом деле. Что за светлая голова придумала все это?
Гудо встал и отряхнул свой плащ. Не попрощавшись, он направился в сторону запруды. У него было много вопросов к старику, но он чувствовал, что их время еще не наступило.
* * *
– Поднимай! – громко крикнул Венцель Марцел.
Люди, стоявшие на каменной стене, кивнули и стали вращать колесо. Повинуясь его вращению через зубчатые передачи, поднялся деревянный щит. Первая струя воды потекла по желобу, нарастая и пенясь по мере подъема щита. И вот поток, набрав силу, заставил, в свою очередь, вращаться мельничный круг. Бюргермейстер довольно улыбнулся и поспешил в помещение, где уже машина пришла в движение, опуская и поднимая полотно пилы.
– Подавай, – велел Венцель Марцел, и двое работников лесопильни освободили от зажимов бревно. Оно по наклонной стало приближаться к пиле.
Железо и дерево соприкоснулись, издав визжащий звук, пересиливший грохот машины. Яма под пилой стала наполняться опилками. В помещении запахло сосновой смолой.
Вскоре бревно вышло по другую сторону машины, отделив от себя доску толщиной в два пальца. Работники споро перевели бревно в исходное положение и, прижав, опять направили его на пилу. Железо вгрызлось своими многочисленными зубьями и отделило от него ровненькую доску. Ее тут же поднесли к бюргермейстеру.
– Хороша. Ведь правда хороша?
Венцель Марцел поглядел на известных людей города, собравшихся здесь, и весело рассмеялся. Его радостный смех подхватили присутствующие и стали поздравлять бюргермейстера и самих себя с удачным началом работы лесопильни.
– Я думаю, это событие нужно отпраздновать. Сегодня вечером. Верно?
«Верно! Верно!» – раздалось со всех сторон.
– А пока все за работу. День только начался. Нам еще много трудиться.
Бюргермейстер замахал на присутствующих руками, чтобы те покинули помещение. От счастья сердце его пылало, а душа готова была петь. Жаль, что Венцель Марцел совершенно не умел петь. Да и не бюргермейстерское это дело. И все же интересно, как бы к этому отнеслись горожане? Наверное, сегодня они бы поняли своего бюргермейстера.
Венцель Марцел вышел из помещения и радостно оглядел несколько десятков огромных, заранее заготовленных бревен. Рядом с ними лежали распиленные доски и балки. Возле них в задумчивости стояла старая лошадь, еще вчера приводившая в движение чудо-машину. Теперь животное заменила природная сила, которую нет нужды поить, кормить и останавливать на отдых.
«На смену хорошему приходит лучшее», – усмехнулся Венцель Марцел и, решив первым подать пример правильного отношения к труду, направился в Ратушу.
О Господи, сколько еще дел и забот! Сегодняшнее утро – это всего лишь начало. Нужно приступать к сооружению второй машины, а там и третьей, и…
«Не нужно так далеко забегать вперед», – попытался сдержать себя бюргермейстер, но, не выдержав, размечтался о столь многом и счастливом, что и не заметил, как оказался на ступенях Ратуши.
– Бюргермейстер, как все прошло? – в поклоне спросил городской писец, который, казалось, только тем и занимался, что дожидался прихода бюргермейстера, стоя у входа.
Но сегодня у Венцеля Марцела это не вызвало раздражения.
– Замечательно, просто замечательно, – похлопав писца по плечу, ответил он и даже улыбнулся.
– А в архиве вас дожидается палач. Он там с самого открытия Ратуши. И уже дважды спрашивал о вас.
– Странно, а я и не заметил, что его не было на пуске водного колеса. Ну и ладно. Где он?
– В архиве. – Писец еще раз изящно поклонился и указал рукой на правый коридор.
Венцель Марцел кивнул ему и пошел в полуподвальное помещение архива.
Палач, как и всегда, встретил его стоя и с опущенной головой.
– Садись, – доброжелательно произнес бюргермейстер и уселся на лавку напротив. – Сегодня наконец-то состоялось. Люди в восторге. Теперь заживем. Леса у нас хватит. Ну, что там у тебя?
– Я хочу, чтобы вы прочли этот отрывок, – глухо промолвил Гудо и положил перед Венцелем Марцелом старинную книгу.
– Что это? – недовольно спросил бюргермейстер, но все же водрузил очки на нос.
– Это хроника Сигеберта Жамблузского.
– И что там…
Бюргермейстер повернулся к небольшому окну с драгоценным стеклом и стал читать, шевеля губами:
– «1090 год от Рождества Христова был годом великой хвори, особенно в Западной Лотарингии. Многие гнили заживо под действием “священного огня”, который пожирал их нутро, а сожженные члены становились черными как уголь. Люди умирали жалкой смертью, а те, кого она пощадила, были обречены на еще более жалкую жизнь с ампутированными руками и ногами, от которых исходило зловоние…» Что это?
– Это болезнь, называемая «огненной чумой».
– Ну и что! – нетерпеливо воскликнул Венцель Марцел.
Палач тяжело вздохнул.
– Эта болезнь развивается после долгого поглощения пищи со спорынью и некоторыми другими травами.
– А нам-то что до этого?
Гудо снова вздохнул и положил перед бюргермейстером черный кусок хлеба.
– Этот кусок почти на четверть состоит из спорыньи.
– Да?
Венцель Марцел с удивлением посмотрел на хлеб, но в руки его не взял.
– И откуда он у тебя? Неужели на рынке…
– Нет. На рынке я проверяю. Этот хлеб дали вчера на вечер флагеллантам. Они давно звали меня разделить с ними пищу и воду. Вчера я пришел сам. Мне дали этот кусок. Но мой нос отвратил меня от их подношения. Потом я обнаружил в этом хлебе довольно большой стебель этой самой травы.
– Они пытались накормить тебя этим хлебом? То есть отравить. Но отравить можно и более простым способом. Если уж и они твои враги… И с чего бы это? Что ты им сделал?
– Чтобы отравить хлебом со спорынью, нужно есть его несколько недель. За один день человека не отравишь. Этот хлеб они едят сами. И едят уже много дней.
Венцель Марцел скривился, и только.
– Послушай, палач, ни мне, ни городу нет никакого дела до этих еретиков-сектантов. Пусть едят что хотят. Тем более через неделю город уже не будет нуждаться в их помощи. Может, мы избавимся от них даже раньше. А там уже воля Господня. Пусть себе мрут, если желают.
– Они даже не понимают, чем их кормят. Многие не знают, что пищу им дает не город. Город лишь выдает серебро на ее приобретение. Но когда начнется общее недомогание, их легко можно будет убедить в том, что за этим кроется умысел города.
– Как же так, – растерялся бюргермейстер, – кому и зачем это нужно?
– Пока не знаю. Но мне сразу пришлись не по душе их священник и супериор. К тому же под рукой у этого Доминика пятеро экзекуторов.
– И что же?
– Эти не работают и питаются мясом. Я уже несколько раз видел, как они упражняются с длинными дубовыми палками. Редкий копейщик так хорошо владеет этим мастерством, как братья Христа.
– Странно все это, странно, – задумчиво произнес бюргермейстер. – А остальные что?
– Остальные, как и прежде, разбиваются по парам, ранним утром и поздним вечером вышагивают босые и полураздетые по улицам, молятся о прекращении смертоносной чумы и угощают друг друга плетями. Народу это уже надоело. Теперь очень немногие флагелланты находят приют в домах горожан. Почти все они ночуют под звездами.
– Да, если бы они меньше сил тратили на свои плети, быстрее закончили бы работу на отводном канале. Впрочем, слава Богу, все движется к завершению. Да, кстати, хотел тебя поблагодарить за твою подсказку насчет озера. Это очень умно – спускать воду в ложбину, пока не готов полностью канал. Теперь с твоей легкой руки в этом озере мы заведем рыбу. Лучшую рыбу. Видишь, насколько полезна лесопильня.
– Я знаю, – угрюмо ответил палач и после недолгого молчания продолжил:
– И вот что еще я заметил. И догадкам моим нашел подтверждение в этой хронике. Хорошо, что мы с Патриком прочли почти все книги в архиве.
– Что еще? – Настроение Венцеля Марцела заметно испортилось.
– Этот «священный огонь» часто называют «антоновым», так как в аббатстве Сент-Антуан-ан-Вьеннуа находились привезенные из Константинополя мощи святого Антония. Вера в них излечивала пострадавших от этого огня. При аббатстве был госпиталь. Большой госпиталь. Его основателем был знаменитый проповедник Фульк из Нейи, который начал с того, что метал громы и молнии против ростовщиков, скупающих продовольствие в голодное время, а кончил проповедью крестового похода. Активными участниками этого похода как раз и были в основном бедняки из тех мест, где свирепствовал «священный огонь». Они легко поддались на призыв идти в далекие земли. При этом у них был огромный прилив религиозного сознания…
– Речь идет о делах Церкви, палач. Вряд ли тебе нужно вмешиваться в это. И мой совет – никогда и никому об этом не говори.
– И не скажу. Только еще добавлю, что у многих этих больных были видения и судороги тела. То же самое я несколько раз наблюдал и с нашими флагеллантами.
– От ежедневной плети еще и не так задергаешься, – горько усмехнулся Венцель Марцел.
Палач медленно встал и, чуть повысив голос, сказал:
– И последнее. На лицах некоторых братьев и по большей части у сестер Христа я увидел признаки еще одной болезни, за которую по уставу города следует изгнать за пределы стен и не допускать под страхом смерти. Если священник и супериор позволят мне осмотреть этих людей, я буду более уверен в своих догадках.
Венцель Марцел поднялся и вытер капельки пота. Его утреннее замечательное настроение как рукой сняло, а в душу начала вползать все возрастающая тревога.
«Этот палач не иначе, как слуга демонов. Прав отец Вельгус. Это же надо так испортить один из лучших дней жизни», – с досадой подумал Венцель Марцел и, даже не попрощавшись, вышел из архива.
Глава 11
Для встречи славного рыцаря Гюстева фон Бирка бюргермейстер не пожалел двенадцати серебряных грошей. К тому же он сам встречал молодого барона у городских ворот. Тот, как и извещал в короткой записке с множеством ошибок, прибыл в полуденный час.
Рыцарь был одет в ярко-голубой камзол, расшитый серебром, и того же цвета короткий плащ. Под ним резвился тонконогий гнедой жеребец, покрытый алой бархатной попоной. Его богато украшенная золоченая сбруя отсвечивала на солнце. За рыцарем следовали два конных оруженосца. Первый высоко держал рыцарский вымпел своего хозяина. Второй вел боевого рыцарского коня, на котором едва уместились доспехи и оружие молодого барона.
Едва Гюстев фон Бирк приблизился к бюргермейстеру, тот тронул своего коня и поравнялся с рыцарем.
– Я, бюргермейстер города Витинбурга, и все добрые горожане рады приветствовать нашего большого друга и спасителя, славного рыцаря Гюстева фон Бирка.
После этих слов нанятые Венцелем Марцелом молодые девушки, стоявшие на башне, стали бросать на всадников первые полевые цветы и листья дуба.
«Эх, еще бы народу. Но мои добрые горожане, добра не помнящие, просто так не выйдут навстречу рыцарю. Ах, эта вечная вражда горожан и рыцарей. А могли бы в память о спасении города от разбойников хотя бы собраться у городских ворот. Но…» – Венцель Марцел прикусил губу.
Все ж таки жители Витинбурга – люди занятые. У них сейчас много заказов. Город переполнен купцами, селянами и бюргерами из соседних городов, которых привели сюда как дела, так и личные заботы. Но почти все они пытались то ли любопытства ради, то ли ради учения, а скорее всего, от зависти пробраться на лесопильню, дабы увидеть удивительную машину. Машину Венцеля Марцела!
Бюргермейстер уже подумывал о том, чтобы брать с них хотя бы маленькую монетку. Однако после тяжелых раздумий отказался от этого. Кто знает, не найдется ли среди любопытствующих великий мастер, который, уяснив, что и как, возьмет и построит у себя что-то подобное. Тогда лесопильни расползутся по миру и жизнь Венцеля Марцела омрачится до конца его дней.
Обменявшись приветствиями, Венцель Марцел и молодой рыцарь стремя в стремя въехали в город.
Улицы, к досаде бюргермейстера, были пустынны, а случайные прохожие со скучающим видом рассматривали богатое убранство рыцарского коня. Немного оживления привносили в эту встречу с рыцарем все те же нанятые девушки, которые через каждые два дома высовывались из окон второго этажа и, прокричав что-то невразумительное, бросали под копыта коней цветы и дубовые листья.
Зря все это затеял Венцель Марцел. Ведь знал, что его строптивый народ, памятуя об осадах города рыцарскими отрядами, не выйдет приветствовать подобного тем, кто держал их Витинбург по нескольку месяцев в голоде и страхе. Да, это было давно, но все же было. Однако же и не поприветствовать молодого рыцаря было нельзя. Ведь пути Господни неисповедимы. А если еще придется прибегнуть к помощи рыцаря и его конного отряда? Зачем бегать к другому, если этот испытан и еще достаточно молод, чтобы покрывать рыцарские доспехи ржавчиной корысти и личной выгоды.
«Лучше бы он не пригодился. Но…» – Венцель Марцел украдкой перекрестился и, повернувшись к фон Бирку, широко улыбнулся.
– Радостные ли причины привели нашего героя в Витинбург?
Рыцарь потрогал рукой свою отросшую с прошлого года бороду, что совсем не шла его молодому лицу, и печально посмотрел на бюргермейстера.
– Мое путешествие началось приятно, ибо цель его была в высшей степени радостна и желанна. Но… Пять лет назад мой отец, храбрый рыцарь Аргольц фон Бирк, обручил меня с третьей дочерью своего верного друга, графа Вюртембергского. Каждый год граф посылал мне нарисованный облик своей дочери Иммы. И с каждым годом ее лицо становилось все краше и краше…
Венцель Марцел неуверенно прокашлялся, вспоминая умелые руки заезжавших в его город живописцев, но не посмел перебить Гюстева.
– В этом году должна состояться наша свадьба. Ведь Имме исполнилось семнадцать лет. Для девушки благородного рода это важный возраст. Ей пора стать замужней дамой. Да и отец мой настаивает. Он очень постарел. Ему хочется взять на руки внука, а не держать в них меч. Старость, что поделаешь. К тому же граф за дочь дает приличный кусок земли и, хотя и старый, но большой замок. А к нему еще пятьдесят всадников. Все это мне сейчас очень нужно. Английский король взял Кале. В этом году я решил воевать на стороне французского короля. Если он не струсил и еще не заключил перемирие. А дальше посмотрим. Ага! Я помню твой дом, бюргермейстер.
– А в доме нас ждет прекрасный обед и сладкое вино, – пытаясь сохранить на лице улыбку, промолвил Венцель Марцел.
Оставив коней на попечение оруженосцев рыцаря и на специально нанятого слугу, бюргермейстер поклонился и пригласил гостя в дом.
В каминном зале уже ждал накрытый стол и… молодой лекарь Гельмут Хорст. Весь его вид говорил о том, что он вынужден был побеспокоить бюргермейстера в столь важный час из-за очень важного дела. Но Венцеля Марцела трудно было обмануть. Молодой лекарь, скорее всего, узнал у колбасника Рута о заказе ветчины, окороков и колбас для бюргермейстера, а его развитый в студенческие годы нюх привел на эту вкуснятину.
Ну и пусть. Все же Гельмут интересный собеседник. Да и, похоже, у него действительно есть какое-то дело. И, конечно же, пустяк.
– Барон, позвольте вам представить Гельмута Хорста. Вы его не могли видеть в прошлом году во время вашего героического подвига. Он еще приобретал знания лекаря. Теперь он усердствует на благо жителей Витинбурга. Но надеюсь, что его усердие не пригодится вам еще очень долгие и счастливые годы.
Молодой рыцарь приветливо улыбнулся.
– Лучше, чтобы лекари мне вообще не понадобились. Я молод и силен. В бою стремителен и искусен. К тому же мои доспехи сделаны из прекрасной миланской брони, а чудесный тевтонский меч надежен, как ни одно другое оружие.
– Хорошо бы присоединить к ним еще эту чашу рейнского вина и этот кусок мягкого окорока, – сказал, приглашая гостя к столу, Венцель Марцел и первым занял свое любимое кресло.
Сегодня, как должно быть и впредь, он здесь хозяин, поэтому рыцарь может посидеть с правой стороны. Ну а Гельмут, как всегда, расположился напротив, чтобы, глядя в глаза, предугадывать желания своего бюргермейстера.
Не дожидаясь повторного приглашения, Гюстев уселся за стол и сразу же протянул руку к большому куску окорока. Он разорвал его на две части и с удовольствием впился в сочное мясо. Обед проходил как обычно: гости много ели, запивая каждый кусок большим глотком вина. Служанка Хейла едва успевала приносить из погребка вино и подливать его в чаши хозяина и гостей.
Обильное угощение и крепкое вино развеселили молодого рыцаря. Он тщательно вытер жирные руки о белоснежную фламандскую скатерть и расстегнул пуговицы своего камзола.
– Славные окорока в вашем городишке, – похвалил он. – Да и колбаса. Особенно эта – с кусочками сыра. А вино… Такое и у императора не каждый день подают. Император оценит все это. Ведь я же не сказал… А сейчас скажу. Так вот, наш великий император Карл через несколько дней прибудет в ваш город…
Молодой рыцарь, довольный тем, что ошеломил горожан своим сообщением, лукаво подмигнул и продолжил:
– Он держит путь в балтийские города. И прежде всего в Любек. После того как в начале года на его голову была возложена императорская корона, он лично желает принять денежные повинности и подарки в честь своего вступления на престол.
– Да, мы знаем об этом и уже многое сделали для почетной встречи нашего императора. Но никак не ожидали, что он прибудет уже через несколько дней. – Венцель Марцел покачал головой.
– С этой вестью он и послал меня. Хотя все началось с того, что я сам просил нашего императора отпустить меня к моей невесте. Император дал согласие, но приказал мне возвестить всем городам на пути о его приближении. Что я с охотой и делаю.
– Мой дорогой рыцарь совсем недавно говорил о том, что путешествие началось радостно. А затем сказал «но»! Что за печаль заставила произнести это «но»? – поинтересовался Венцель Марцел, откидываясь на спинку кресла.
– Это «но», бюргермейстер, некоторая досада, поселившаяся в моей душе.
– Вы поделите ее с нами? – как студент студента спросил охмелевший лекарь Гельмут.
– Да. Ведь мне придется просить твоей помощи, бюргермейстер.
– Всем, чем смогу, – медленно произнес Венцель Марцел и напрягся всем телом.
– Дело в том, что, прибыв в замок моей невесты, я не застал ее там. Добрый граф Вюртембергский с печалью поведал мне, что прошло уже более полугода, как она тайно покинула стены родного дома и, окрыленная высокой целью служения Господу, отправилась с добрыми монахами и монахинями для совершения богоугодных дел. Вот она у меня какая. Чистая и богобоязненная. Не такая, как большинство женщин, которые сопровождают нашего императора. На таких я уже насмотрелся. Моя Имма с детства набожна, и слово Господа для нее превыше всего.
– И вы думаете, что ваша невеста находится где-то в нашем городе? – Бюргермейстер икнул и как-то странно посмотрел на Гельмута Хорста.
– Я уверен, что она где-то здесь. Мне указали путь этих добрых странствующих монахов и монашек, и он привел меня сюда.
– Может быть, речь идет об этих наших флаг… – начал было молодой лекарь, но осекся, увидев гневное лицо Венцеля Марцела, и уткнулся носом в чашу с вином.
Крупная капля пота скатилась по щеке Венцеля Марцела. Он задумался и, как всегда, когда волновался, громко засопел. Вдруг счастливая мысль посетила его большую голову, и он сказал:
– Мы, конечно, будем рады помочь славному рыцарю. И я знаю, кто наверняка справится с этой задачей. Хейла!
На зов хозяина тут же явилась служанка.
– Пошли кого-нибудь за господином в синих одеждах.
Хейла коротко кивнула и скрылась за дверью.
– А кто он, человек в синих одеждах? – осведомился барон.
– О! Этот человек вам знаком. Теперь он палач нашего славного Витинбурга.
– Неужели речь идет об ужасноликом Гудо? – со смехом спросил молодой рыцарь.
– О нем самом, – грустно ответил Венцель Марцел.
– Вот о палаче я и пришел поговорить, – вдруг вспомнил лекарь Хорст. – Согласно вашей просьбе, бюргермейстер, я несколько дней бывал у… этих, наших… И никакого хлеба с дрянной травой у них не обнаружил. Да и людей я посмотрел. Ничего такого подозрительного я не увидел. Они веселы и трудолюбивы. Конечно, их тела несколько изуродованы шрамами. И свежими, и зарубцевавшимися. Ну а как же иначе, учитывая все их самоистязания…
– О каких самоистязаниях ты говоришь? – ковыряясь в зубах, спросил Гюстев фон Бирк.
– Это все во славу Божью, – торопливо пояснил бюргермейстер. – Наверное, вам будет интересно увидеться с палачом.
– О да! Еще как! Ведь я сам видел, как изуродована его рука. Из жалости к нему я готов был сам отрубить это месиво, чтобы он выжил. Но он так просил за свою руку, что я не выдержал и согласился отпустить его на все четыре стороны. Зачем мне однорукий? А зачем этот однорукий городу?
– К счастью, все обошлось. И к этому приложил свои знания и умения наш лекарь. Палач Витинбурга о двух здоровых руках, – улыбаясь, ответил Венцель Марцел. Хотя капли пота все еще продолжали скатываться по его щеке.
– Ты, Гельмут, великий лекарь! – удивленно вскинув брови, промолвил молодой рыцарь. – Не желаешь ли присоединиться к моему отряду? С твоим умением ты заработаешь на войне груды золота и серебра.
– Нет. Меня часто призывают мои горожане. Я им нужен. Мои знания академические. Не то что у этого выскочки палача.
– А что, он занимается врачеванием? – потянувшись за вином, спросил молодой барон.
Гельмут Хорст пьяно вскинул голову и со злостью произнес:
– Этот палач решил, что и он может быть лекарем. Тыкает некоторым глупым горожанам свои мази и снадобья. Думает, что они им помогают…
– Но, Гельмут, согласись, многим они помогли, – неожиданно для себя возразил Венцель Марцел. – А тот случай, когда ты отказался вправлять ногу старому рыбаку? Палач это сделал в мгновение. А еще…
– Будь он проклят, ваш палач! – гневно выпалил лекарь. – Какое право он имеет лечить людей? Отнимать их у меня? И что самое страшное, так это то, что он позволяет себе поправлять меня. Я уже вам, бюргермейстер, говорил, чтобы вы запретили ему его колдовство. Иначе… Я ему отомщу, очень жестоко отомщу. Не будь я Гельмутом Хорстом…
– Ну, ну, Гельмут. Ты разгорячился. Он всего лишь палач. Я ему скажу, чтобы он даже не приближался к больным. Но ты же сам отказался помогать этим, нашим… А палач берется лечить их недуги. Если бы не он, многие не смогли бы работать. А так уже почти и закончили канал. Но горожан я ему запрещу лечить. Это да. Хотя он денег не берет. И как-то у него получается. Вот и тянет людей к нему, если случается несчастье.
– Все это у него от дьявола. Отец Вельгус тоже об этом часто говорит и не допускает его к своему причастию. В душе этого Гудо – демоны ночи и зла. И каждый, кто принимает помощь палача, соприкасается с дьяволом.
– Да, что-то от дьявола в нем есть, – согласился молодой рыцарь. – Наверное, с ним в душе он и родился. Недаром в моем отряде все обходили его стороной. Да и он ни с кем не сблизился. Хотя я ему благодарен. Рукой он пожертвовал, когда опасность угрожала мне. Но он был моим слугой. Это был его долг. И все же, лекарь, как тебе удалось вылечить его руку?
Гельмут Хорст допил свою чашу вина и гордо выпрямился.
– То, что у меня были хорошие учителя, – это половина моего умения. Но основное – это моя собственная…
Лекарь прервался на полуслове и замер. В дверях стоял господин в синих одеждах.
– О! Гудо! – воскликнул молодой рыцарь и подошел к прибывшему. – А мы говорим о тебе. Покажи свою руку.
Палач медленно, с неохотой завернул рукав.
– Вот это да! Всего несколько шрамов. И ты владеешь ею, как и прежде? Ну-ка, дай свою руку.
Барон схватил левую руку палача и попытался ее выкрутить. Палач ухмыльнулся и легко высвободился из его хватки.
– Силен. Да, силен, – пьяно похвалил его Гюстев фон Бирк и отправился обратно за стол. Здесь он сам налил себе вина и выпил все до последней капли. – Вот что, Гудо. Мы сейчас пойдем и найдем мою невесту Имму. Она где-то здесь. Я, наверное, зря тебя отпустил. И с рукой у тебя все было не так, как мне показалось. Может, поедешь со мной? К французскому королю. Теперь я думаю послужить ему. Знаешь, будут великие битвы, если не помешает перемирие. А пока идем искать Имму…
Рыцарь вновь налил полную чашу вина и осушил ее.
– Мне думается, сегодня уже поздно. Монахи и монахини разбрелись по всей окрестности на свои вечерние молитвы. – Венцель Марцел заговорщически подмигнул палачу и продолжил:
– Сейчас нужно выпить вина и отдохнуть. А уж завтра палач отправится с вами на поиски благородной Иммы.
– Да, выпить, – согласился молодой барон. – А еще послушать песни. Эти славные песни. Я помню их. Их так хорошо пела твоя дочь. Где же она? Где эта прелестница?
Венцель Марцел хмуро посмотрел на палача, потом, натянуто улыбнувшись, обратился к барону:
– Дочь сегодня гостит у родственников. А завтра, когда мы найдем вашу невесту, она обязательно споет. А пока выпейте еще вина и прилягте немного отдохнуть.
– Да, можно и немного отдохнуть. Долгий путь несколько утомил меня.
– Вот и хорошо. А я объясню палачу, как ему завтра поступать. Ведь Имма – благородная дама.
– Да, она само совершенство, – согласился Гюстев фон Бирк и склонил голову над столом.
* * *
Барон с нескрываемым раздражением запахнул на груди плащ своего оруженосца и сердито произнес:
– Бюргермейстер, ты продолжаешь просить об этом глупом переодевании?
– Да, мой славный рыцарь. Не нужно отвлекать божьих людей от работы. Да и вам будет приятнее потом предстать перед невестой во всем блеске. Какой для нее будет подарок, когда мы ее торжественно сопроводим на встречу с вами в здание Ратуши. Но мы же должны узнать ее. Если бы у вас был ее портрет, все было бы проще. А сейчас вам нужно ее только указать. Нам ведь еще предстоит поговорить со священником и супериором и все подготовить. Вы только укажите на нее, и вскорости она предстанет перед вами в подобающей одежде и с благословением ее священника.
– Ладно, бюргермейстер. Будь по-твоему. Но сегодня в обед я ее увезу.
– Вот и славно. Эй, палач, ступайте.
Гудо поднялся с бревна, лежавшего во дворе Венцеля Марцела, и, отворив калитку, вышел на улицу.
День выдался солнечным и тихим. Даже вездесущие мухи, необычайно прилипчивые сегодня, спрятались от палящих лучей, так что Венцель Марцел, по привычке вышедший из дома с огромным платком, не сразу заметил перемену. Обычно в летние месяцы многие горожане спасались от огромного количества мух с помощью огромного платка, которым приходилось взмахивать часто и широко. Сегодня платок повис в руках бюргермейстера, ни разу не описав привычный круг.
Бюргемейстер вышел за калитку и посмотрел вслед уходящему господину в синих одеждах и уже подвыпившему рыцарю, плетущемуся в пяти шагах от него.
«Что будет? Ох, что-то будет…» – в тревоге думал Венцель Марцел, сердито сплевывая себе под ноги.
Гудо так ни разу и не обернулся. Да и зачем? О чем ему говорить с этим молодым рыцарем? Он еще слишком молод. В его голове – ржание боевых коней, треск сломанных копий и звон булатных мечей. А теперь вот надумал жениться. Пусть так. Рыцари еще нужны. Может, рождение маленького рыцаря хоть немного отвлечет его и он на время покинет тот круг, куда был брошен с юных лет. Что он видел в своей жизни? Турниры, пиры, битвы, опять пиры и ожидание все тех же турниров, битв и пиров. Так и пройдет жизнь, вовсе и не начавшись. Дай Бог ему не пасть на поле битвы, ведь он совсем молод, этот барон Гюстев фон Бирк. Да и человек неплохой. Никогда не убивал в свое удовольствие, предпочитал ослабить, а затем взять в плен противника. Он не был жаден до кровавых пыток, истязаний и наказаний. Его воины никогда не голодали. Для этого он готов был отдать последнее. И ко всему прочему – искренне верит в Бога. Вот только вино…
А теперь еще и невеста…
Гудо тяжело вздохнул.
Судьба часто испытывает человека. И эти испытания порой страшнее и ужаснее пыток, ибо они рвут душу в клочья. А тело без души – это корабль без команды. Швыряют волны, и рвет ветер… Его место – глубокая пучина.
Гудо и барон миновали городские стены и теперь шли вдоль отводного канала на запад. На широкой поляне уже давно поднялась трава, и над ней узорчато пестрели полевые цветы. Небо было безбрежным в своей прозрачной синеве, и быстрокрылые птицы с радостью купались в ней. Дышалось свободно и легко. И в этой благодати могло показаться, что Господь ненадолго вздремнул и не видит, не слышит своих грешных рабов. Иначе за что же им дарован этот прекрасный день?
А может, и дарован. Дарован за покаянные молитвы и тяжкий труд. Вот, например, эти флагелланты. Они так же трудолюбивы, как и муравьи. И двухмесячный тяжелый труд все еще не убил в них желание и возможность во имя Господа и искупления грехов приносить пользу другим. Для этого они взяли на себя их грехи и их труд.
И все же хорошо, что земляные работы уже почти завершены. Следующую неделю они бы точно не выдержали. Почти все они – кости да кожа. И кожа исполосованная, постоянно сочащаяся сукровицей и гноем. Сколько же мазей и притирок использовал Гудо, чтобы хотя бы ненадолго облегчить их боль! Но, едва подлечившись, эти братья и сестры Христа опять принимались за привычное и подставляли плечи, грудь, спину под рвущие кожу удары плети.
– Вы что, бьете этих людей? Они рабы города? Или пленные, которые не в состоянии заплатить выкуп? – наливаясь краской гнева, спросил молодой рыцарь.
– Ни один житель города или окрестности не прикоснулся к ним и пальцем, – глухо ответил Гудо, делая вид, что не замечает приветствий флагеллантов.
– Ведь они истощены и едва одеты. Где же ваше христианское сострадание? А бюргермейстер здесь бывает? Он что, не христианин?
– Эти люди сами выбрали свой путь. Так они призывают Христа к себе. Хотя, скорее всего, это он призовет их раньше. Город не имеет права вмешиваться в их общинную жизнь. Тем более что-либо указывать. Это их жизнь. Это их воля и назначение.
Гудо остановился и с сожалением посмотрел вниз. Здесь, во рву, на глубине человеческого роста наполняли глинистой землей корзины две совсем еще юные девчушки. Их короткие туники едва держались на костлявых плечах, а в глубоком вырезе вздрагивали острые холмики маленьких грудей.
– Посмотрите на них.
Молодой рыцарь присел и с ужасом уставился на девчушек. Те, почувствовав на себе пристальный взгляд, подняли головы и устало улыбнулись. Потом одна из них пробормотала несколько слов молитвы и они опять взялись за свои лопаты.
– Нет, не она. Пойдем дальше.
Гудо и его бывший молодой хозяин не спеша брели вдоль канала, всякий раз останавливаясь, когда замечали молодую девушку. И с каждым шагом, с каждым неузнанным юным лицом рыцарь становился все угрюмее и молчаливее. Хмель уже давно выветрился из его головы. Да и как он мог удержаться при виде этих изнуренных тяжелой земляной работой тел? Каждый, кто увидел бы эту картину, погрузился бы в печаль, а в его душе поселилась бы жалость к этим несчастным. Но сами люди, которые своим видом могли вызвать слезы даже у тюремщиков, не понимали этого. Они радовались каждому своему усилию, ослаблявшему их тело. Они радовались, что наказывали тело – этот сосуд греха и самый уязвимый для дьявола набор костей и мяса.
Они радовались и постоянно улыбались.
Только от этих неестественных улыбок Гюстеву фон Бирку становилось все тяжелее и тяжелее. И даже больше – они пугали молодого рыцаря. Тем не менее он взял себя в руки и дотерпел до конца, продолжая всматриваться в лица всех молодых девушек, занятых на работах.
– Иммы среди них нет, – с некоторым облегчением вымолвил барон и озадаченно взглянул на палача.
Гудо помрачнел.
– Здесь не все. Есть еще женщины и мужчины. Но супериор Доминик и священник запретили им быть на работах. Их еще не изгнали, но к общим службам они не допускаются.
– И за что они наказаны?
– Свои грехи они же сами и замаливают. Но мне думается, супериор больше жалеет этих людей за их заблуждения, вызванные болезнями. К сожалению, бюргермейстер запретил мне их осматривать. Да и священник против. Пусть так и будет. Главное, что они не переступают черту города. А дальше уже не моя служба.
– И где мы их можем увидеть? – поколебавшись, спросил барон.
– Днем они прячутся по лесу в разных местах. А ночью собираются вместе на общую трапезу и…
– И что? – молодой рыцарь уставился на палача.
– Этого лучше не видеть. – Гудо надвинул на лицо капюшон плаща, в котором он ходил даже в летнюю жару.
– Ты отведешь меня туда. Я желаю убедиться, что моей Иммы среди них нет, – жестко произнес Гюстев фон Бирк и попытался заглянуть под капюшон палача.
Гудо тяжело вздохнул и кивнул.
* * *
Венцель Марцел был вне себя от ярости.
«Проклятый палач. Тупой осел. Дьявольское отродье. Ведь говорил, объяснял, разжевывал, вбивал в эту чудовищную голову. И что же! Ну нет здесь благородной Иммы. Ушла с другими монахами. Их вон сколько бродит по дорогам Европы. И везде они находят приют и пищу. Зачем нужно было говорить о каких-то лесных бродягах? А ты, любезный бюргермейстер, не спи, волнуйся. Переживай всю ночь, пока молодой рыцарь будет шастать по лесу, заглядывая под кусты и деревья. Ну просто сама честность, а не презренный палач. Видите ли, он не мог скрыть всей правды от благородного господина. И что теперь? А ну их к лесным демонам! Пусть выколют себе глаза сухими ветками в темноте».
– Желаю скорейшего возвращения. На всякий случай я велел выслать нескольких стражников в помощь тем, что обычно стоят у городских ворот. Туда же направил и ваших оруженосцев. Они глаз не сомкнут до вашего прихода.
Венцель Марцел заискивающе улыбнулся и придержал стремя коня молодого барона.
«Хорошо, что отговорили. Только на коне, без тяжелого оружия и без брони. А то прямо на войну собрался. И чем его так напугал проклятый палач? Хотя все же кони пригодятся. Мало ли что. Вот только ноги в темноте не поломали бы», – вновь вернулся к своим раздумьям бюргермейстер и тут же спохватился. Ведь это не его кони. Барона. Так что как им Бог пошлет.
«А вот Патрика могли бы и не брать. Не дай бог что-нибудь… Нужный молодой человек. Ох, нужный. Даже не верится, что воровского ремесла человечек. Но зато умен и расторопен. А что вор… Может, оно и хорошо. Всегда на крючке будет. А тут еще император. Ох, сколько же приготовлений. Ох, сколько серебра и золота придется выложить из городской казны. Слава Господу, драгоценный ручеек в нее не иссякает. Эх, принесли демоны этого рыцаря. А то спал бы я сейчас в свое удовольствие. И еще этот император. Других дорог ему мало…»
– Ну, что же, трогайте. Господь с вами.
Венцель Марцел легко хлопнул по крупу рыцарского коня. Тот недовольно покосился на чужака и переступил с ноги на ногу.
– Пошли! – Теперь уже дернул поводья фон Бирк и, не взглянув на бюргермейстера, выехал за городские ворота.
За ним последовали палач и его помощник Патрик, восседавшие на лошадях оруженосцев. На присутствии последнего настаивал Гудо. Это был единственный человек, которому он мог довериться. К тому же его роль в этой вылазке совершенно проста – оставаться с лошадьми, пока молодой рыцарь не будет удовлетворен своими поисками.
В продолжение прекрасного дня ночь выдалась на славу. Теплая, безветренная, с бесчисленными мерцающими звездами и огромной, в полнеба, луной, сверкающей на фоне темно-синего купола. В травах звенели цикады, из кустов доносился шорох мелких грызунов, с ветвей деревьев тяжело падали стремительные совы.
В такую ночь спится особенно приятно. Но люди – странные существа. Они часто сознательно путают добро и зло, день и ночь. Понятно, если человек вынужден это делать. А если с умыслом…
Когда всадники добрались до опушки леса, вперед выехал палач и осторожно повел своего коня между деревьями. Непонятно, каким образом он определял направление пути. Ведь деревья, кусты, пни и ветви в свете огромного серебряного блюда луны были хорошо видны всего лишь на полдюжины шагов. А дальше стояла стена – черная и оттого пугающая.
Но вот в трещинках этой стены замерцал огонек.
– Здесь мы оставим лошадей. Патрик о них позаботится. Вон за теми деревьями уже виден костер тех, кто нам нужен. Дальше, благородный рыцарь, мы будем ступать как можно тише и в полном молчании. И помните, вы хотели только посмотреть, нет ли среди них вашей невесты. После этого мы тихо удалимся и все правильные решения примем поутру.
Барон молча кивнул и поправил меч, с которым никогда не расставался.
Ступая как можно мягче и осторожнее, Гудо и молодой рыцарь вскоре добрались до густых кустов, за которыми начиналась небольшая поляна.
На поляне полыхал огромный костер, с одной стороны которого торчали направленные к нему тонкие шесты. На них обтекали жиром лесные обитатели: несколько зайцев, сусликов и тушки диких уток. Вокруг костра, в основном у шестов, сидели до трех десятков обнаженных до пояса женщин и мужчин. Перед костром медленно ходил тощий мужчина в набедренной повязке и голосом, который едва покрывал треск огня, вещал:
– Наши молитвы чисты и откровенны. Мы не просим золота и серебра. Мы не просим земли и скота. Мы не просим милости благородных господ и любви плотской. Мы не ищем богатства на земле, ибо собрано оно нашими молитвами и страданиями на небесах. Наши молитвы и страдания не за себя, не за каждого из нас. Они – за всех детей Господних, за всех живущих на земле. Мы просим простить Господа не кого-то одного, или его семью, или даже целое племя. Мы просим за всех – и добрых христиан, и грешников, и даже язычников, не познавших Господа из-за своей глупости или козней дьявола.
Среди нас и монахи, и славные мастера, и пастухи, и воины, и несчастные вдовы, и благородные господа, и сироты, не знавшие отца и матери. Мы были разными. Мы были другими. А сейчас милостью Господа нашего мы – братья и сестры во Христе. Наши молитвы тихие и простые, но они слышнее для Господа, чем трубы иерихонские, ибо они от глубин душ наших. И они в сердце Бога. И он ответил нам.
Ангел, легкокрылый посланник Христа, принес в церковь Святого Петра в Иерусалиме письмо. Святое письмо. В нем сам Иисус Христос сожалеет о тяжких грехах нашего подлого времени. Особенно об осквернении субботы. А также о богохульстве, ростовщичестве, клятвопреступлении и несоблюдении установленных постов. Так ответим на это письмо общей молитвой и направим ее Деве Марии и всем ангелам. Через их уста попросим прощения у Иисуса Христа. И, может, тогда он заступится за людей и попросит Отца Небесного прекратить наказание свое, что было ниспослано им в образе черной чумы.
Собравшиеся стали тихо напевать псалмы и раскачиваться из стороны в сторону.
– Тот, который говорил, – их ночной супериор. Они зовут его Петром, – шепотом сообщил Гудо. – Он из беглых монахов. Я дважды с ним беседовал, и мне кажется, что он не в своем уме. А сейчас наберитесь терпения и выдержки. Это отвратное зрелище.
Молодой рыцарь сморщился и отмахнулся.
Ночной супериор Петр, не останавливаясь, возвел руки к небесам.
– Господи, прими наши молитвы. Братья и сестры, вознесем их.
После этих слов мужчины и женщины поднялись и сбросили то немногое, что на них было. Они выстроились попарно и стали медленно двигаться вокруг костра. В их руках гибкими змеями извивались увесистые плети.
Пение не прекращалось, но теперь стали отчетливо слышны отдельные молитвы. Они были просты. Таких не услышишь в церкви. Эти люди, пренебрегая святой латынью, взывали к Господу на простом языке, лишь иногда подкрепляя свое воззвание заученными с детства фразами канонических молитв. Едва умолкал один голос, молитву тут же подхватывал другой, за ним – третий, следующий и следующий. Голоса становились все громче. Громче стали звучать и хоровые псалмы.
В руках супериора оказался большой кувшин. Петр произнес хвалу Господу и плеснул из кувшина на костер. Пламя взлетело высоко в небо, ярко осветив круг обнаженных людей. И эта вспышка послужила сигналом. Жутким сигналом. Молящиеся стали наносить на идущих впереди себя сильные удары плетьми по голове, плечам, спине и ногам.
– Смотри, Гудо, смотри. Я, кажется, узнал ее. Вон, смотри, та, что ближе к нам! – закричал молодой рыцарь, указывая на тоненькую девушку.
– Прошу вас, не выдавайте нашего присутствия, – сердито промолвил палач и даже сделал попытку закрыть ладонью рот благородного господина.
Тот мотнул головой и оттолкнул руку Гудо.
А удары становились все чаще и сильнее. Теперь уже стали отчетливо слышны болезненные выкрики и стоны.
– Господи, спаси нас от чумы. Всех нас спаси. Грешны мы. Но, согрешив, мы множество раз покаемся, чтобы не прекращались наши слова к тебе, Господи. Вот он, грех… Прими его, как и те покаяния, что последуют за ним…
После этих слов супериора Петра люди, собравшиеся у костра, бросили наземь плети. Руки женщин и мужчин потянулись друг к другу. При этом на каждую женщину приходилось по двое мужчин. Круг распался на группки прижавшихся телами людей, что продолжали петь и раскачиваться, опускались на колени, а затем ложились на землю. Их руки и губы нежно касались только что нанесенных ран. Послышались первые стоны сладострастия.
– Да что же это?! – опять воскликнул молодой рыцарь. – Там же моя Имма! Я узнал ее. Кто тянет к ней свои грязные руки…
– Вы ошибаетесь, мой господин. Это не может быть она, – заволновался Гудо.
– А если я не ошибаюсь и она там? Ничтожные людишки терзают ее благородное тело. Тело, которого не касался даже я. Да я изрублю их в куски!
Гудо запоздало потянулся к молодому рыцарю. Тот уже выскочил из своего укрытия и, на ходу обнажив меч, поспешил к тому месту, где ему привиделась невеста.
Палач выругался и поспешил за ним.
– Стойте, прислужники дьявола! – закричал барон и стал наносить удары ногами в сплетение человеческих тел. – Я разгоню ваш шабаш ведьм и колдунов. Я изгоню из вас демонов. Слышите, слуги дьявола! А Петра вашего изрублю на куски.
Молодой рыцарь в подтверждении своих слов поднял над головой меч.
Неожиданное нападение напугало людей. Они вскочили и стали метаться, кричать и сбивать друг друга с ног, тем самым преградив путь Гудо. Расталкивая их, он даже не заметил, как барон покачнулся и выронил меч.
Когда палач пробился к молодому рыцарю, тот уже стоял на коленях, держась обеими руками за голову. Между его пальцев обильно текла кровь. Гудо подхватил обмякшее тело и взвалил его на свое могучее плечо.
– Вот они, слуги ада. Они поднялись из чрева земли, чтобы прервать наш молитвенный голос. Убейте посланников сатаны! – дико вскричал супериор и выплеснул в огонь всю жидкость из своего кувшина.
Пламя вновь взвилось высоко вверх, и взоры флагеллантов обратились на огромное тело палача. С его головы сполз капюшон, и теперь его лицо в зареве пламени действительно казалось дьявольским. Женщины истерично закричали, а мужчины стали хватать из костра горящие сучья. В руках многих оказались к тому же еще палки и камни.
Гудо наклонился и поднял рыцарский меч.
– Патрик! – громко позвал палач и, вытянув руку с мечом, двинулся на толпу.
Но толпа в своем религиозном экстазе даже не шелохнулась. Окаменевшие лица людей выражали лишь одно понятное желание – убить демонов, посмевших нарушить молитвенный процесс. Обезумевшие флагелланты готовы были разорвать непрошеных гостей. Их не страшил ни вид палача, ни тяжелый меч в его руке.
И тут, разбрасывая религиозных безумцев в стороны, в толпу врезался огромный конь. Это был рыцарский конь, стоимость которого была равна целому поселению. На коне, размахивая коротким кинжалом, восседал добрый друг Патрик. Крича во все горло, изрыгая ругательства и угрозы, всадник направил коня на беснующихся сектантов, чтобы оттеснить тех из них, кто устоял на ногах.
– Держи рыцаря!
Гудо подлетел к гарцующему коню и, улучив момент, положил молодого барона впереди Патрика.
– Пошел, пошел! – закричал палач и сильно ударил животное плашмя мечом.
Конь заржал и, давя копытами не успевших увернуться флагеллантов, поскакал между деревьями. За ним тут же рванулась добрая половина толпы, проклиная и грозя смертью. Оставшиеся, едва придя в себя, окружили Гудо, взяв его в плотное кольцо.
Но теперь могучие руки палача были свободны. Тем более в них находился славный рыцарский меч. Описав им несколько кругов, Гудо без труда разорвал кольцо и бросился вперед. Множество рук потянулось, чтобы схватить непрошеного гостя, и некоторым это удалось. Но палач мощными ударами ног отбросил цепляющихся за него флагеллантов, а тех, кто приближался, отпугивал выпадами меча.
Так он добрался до деревьев и, высматривая наиболее темные места, стал уходить от погони.
Но флагелланты и не думали прекращать преследование. Потеряв из виду нарушителя их святой церемонии, они рассеялись и, окликая друг друга, стали бегать по лесу. Некоторые из них все же наталкивались на палача, но тот мощными ударами кулака заставлял их прекратить погоню.
– Безумцы, – зло шипел Гудо и тут же поправлял себя, – нет, это люди, познавшие болезнь.
Вскоре он выбрался из леса. Вдали, за широкой поляной, отчетливо виднелись городские стены, приворотные башни и маленькие огоньки факелов. Значит, Патрик уже добрался туда и поднял тревогу.
Гудо широко перекрестился. Бог не позволил ему сегодня обагрить руки убийством этих несчастных.
* * *
Городские ворота распахнулись, и первым из них выехал Венцель Марцел. На нем был стальной нагрудник, а голову защищал рыцарский шлем с забралом. За спиной на широком ремне висел отцовский щит из крепкого дуба с железными полосами в виде креста. Никогда не умевший управляться с копьем, бюргермейстер и на этой вылазке обошелся без него. Зато слева по ноге бил длинный меч в замечательных кожаных ножнах.
За восседавшим на рыцарском коне бюргермейстером следовал судья Перкель, облаченный в более дорогие доспехи и вооруженный копьем. Конных замыкали двое оруженосцев молодого рыцаря. На их гневных лицах без труда читалось желание обагрить свои мечи предательской кровью тех, кто посмел напасть на их хозяина.
За всадниками строем вышли до двух десятков городских стражников. Далее толпой вывалилось городское ополчение, грозно ощетинившееся копьями и алебардами.
Вся военная мощь города Витинбурга в первых лучах восходящее солнца свернула направо и, дойдя до отводного канала, двинулась вдоль него.
– Как на войну идут, – тихо сказал палач и хмуро посмотрел на супериора Доминика.
Тот глубоко вздохнул и коротко бросил:
– Пошли.
– И все же, старик, тебе следовало отправиться вместе со своими.
– Я их привел, мне за них и отвечать. К тому же я задержу бюргермейстера и его людей хотя бы еще на некоторое время. Мои братья и сестры уже три часа как ушли. Хвала Господу, в эти жаркие ночи они все ночевали в душистых лугах вдоль канала. Да еще этот час… Их будет трудно настигнуть. Тем более четырем конникам.
– Трем, – поправил Гудо, – бюргермейстер вряд ли станет трястись по дорогам и лесам. Тем более, что главный виновник сам идет ему в руки.
– Спасибо тебе, палач. За всех моих братьев и сестер. Вот как все печально закончилось. И все же ты спас их.
Гудо, поморщившись, сказал:
– Скорее, я избавил себя от лишней работы. Кто знает, чем бы все обернулось, но, без всяких сомнений, судья Перкель назначил бы наказание пытками для многих из вас, если не для всех. И уж будь уверен, в моих руках каждый из вас признался бы в том, что именно он нанес рану благородному рыцарю. Мне известно, что виновных среди тех, кто работал на канале, нет. Это другие, те, кто отошел от вас. Я хорошо знаю свою работу. А судья Перкель знает свою. Так что признавшихся было бы столько, сколько пожелал бы судья. А остальные просто стали бы рабами города. Бюргермейстер бы постарался. У него для таких много работы. Невинные люди не должны страдать за грехи других.
– Да, это вина Петра. Безумный человек. Зря я не удалил его из наших рядов еще до того, как мы направились в ваш город. Он всегда противопоставлял себя священнику братьев и сестер. Да и меня он едва терпел. Ему нужна власть над людьми, чтобы предаваться собственным обрядам, которые больше похожи на сатанинские. Но я никак не мог подумать, что так много братьев и сестер последуют за его греховными затеями. Ведь еще несколько недель назад у нас были полное согласие и послушание. И вдруг самые верные нашему делу стали впадать в какую-то непонятную религиозную агрессивность. Каждый из нас до конца предан Господу. Но преданность эта основана на мире и добре, уважении и послушании. А те, кого я отделил, с каждым днем становились все более дерзкими и к тому же замкнутыми. Они не желали работать и все дни проводили в молитвах и песнопениях. Многие довели себя до того, что у них начались видения и припадки, а тела стали страдать от судорог.
– Я думаю, их специально травили, – грустно сказал Гудо.
– У меня были такие мысли, – признался супериор, – но я гнал их от себя. Все мои братья и сестры чисты душою. Я знаю их долгие годы. И с каждым из них я вел многочасовые беседы. И все же этот предатель среди нас. Теперь я в этом уверен. Более того, я, кажется, догадываюсь, чьих это рук дело.
– Это их ночной супериор Петр?
– Нет. Не он. Петр – просто свихнувшийся еще в монастыре глупец. К тому же он не имел доступа к воде и продуктам. А чтобы приготовить отраву, нужно знать, из чего и как.
– А тебе это известно?
Доминик с грустью кивнул.
– У меня даже была книга. В этой книге рассказывается о многих растениях и всякой мелкой живности, из которых можно приготовить целебные снадобья и мази. И в ней же говорилось о вреде от тех же растений и живности, если неправильно их совместить или не следовать дозировке.
– И где же эта книга? – насторожившись, осведомился палач.
– Я часто оставлял ее, ибо мои обязанности супериора требовали длительных странствий. Не каждый город соглашается пускать в свои владения моих братьев и сестер. Несколько месяцев назад книга исчезла. Мне было жаль ее терять. Теперь я молю Господа, чтобы она не оказалась в руках человека, способного на самые тяжкие грехи.
Гудо внимательно посмотрел на старика и с нескрываемым интересом спросил:
– Откуда у тебя эта книга?
Доминик дружески улыбнулся.
– Об этом и о другом у нас еще будет время поговорить. Я надеюсь. Я долго и настойчиво искал возможности поговорить с тобой, достойный ученик мэтра Гальчини!
Гудо остановился и с изумлением уставился на старика.
Тот опять улыбнулся.
– Теперь у нас будет время и возможность. А пока… Я предаю себя в руки закона!
Супериор громко выкрикнул последние слова и встал на колени.
Конь, на котором восседал Венцель Марцел, остановился в нескольких шагах от него. Бюргермейстер с тоской осмотрел местность и, не обнаружив ни единого флагелланта, зло выпалил:
– Отвечай, старик, где твои кровожадные братья и сестры?
– Они невинны и чисты, мой добрый бюргермейстер. Их путь лежит к Господу. Там уже давно их сердца.
– Быстро же они смогли собраться и убежать.
– У нас нет ничего такого, что нужно собирать. Но братья и сестры не бежали. Это Господь велел им отправляться в путь. И они не могли ослушаться слова Божьего.
– Бежали, бежали! – закричал Венцель Марцел. – Но ничего, мы их отыщем и предадим суровому закону города Витинбурга. Укажи, в каком направлении скрылись твои дружки.
Старик виновато улыбнулся и опустил голову.
– Хорошо. Значит, упорствуешь. Судья Перкель, вяжите этого старика. Он ваш. Палач, за то, что ты его выловил, получишь награду. Теперь еще потрудись над ним, как скажет судья. – Венцель Марцел посмотрел на судью, и тот важно кивнул ему в ответ.
– Я не вылавливал его. Этот старик сам шел к городу. Он ищет правосудия, – глухо произнес палач.
Бюргермейстер отмахнулся.
– Будет ему правосудие. В полной мере.
Стражники связали старика и, поставив его на ноги, стали древками копий подталкивать его вперед, в сторону города.
Венцель Марцел озадаченно посмотрел на свое внушительное войско. Затем как-то неуверенно обратился к судье:
– Перкель, нужно послать погоню за флагеллантами.
Судья Перкель тоже оглянулся на стоящих за ним вооруженных горожан и тихо ответил:
– Они едва доползли сюда. А сколько потрачено труда, чтобы поднять их и заставить вооружиться. Флагелланты ничего дурного не сделали им. А то, что проломили голову рыцарю, так горожанам от этого только весело. Есть о чем поговорить. Вы же знаете, как бюргеры относятся к рыцарству. Так что они вряд ли бросятся в погоню, чтобы отомстить за молодого глупца, таскающегося ночью по лесным чащобам. К тому же опасности для города нет. А рабочий день уже начался. Да и стражников у нас маловато. Не дай бог догонят и еще головы им проломят. Хотя… не думаю, что догонят. Да и в какую сторону они подались? Один Господь ведает.
Венцель Марцел грустно покачал головой.
– Все верно говоришь, судья. Но мне жаль, что нам не удалось их схватить. Очень жаль. Городу от этого была бы польза. Ну что ж, напишем письма, чтобы другие города их перехватили. Может, что-нибудь получится. Поехали, судья, выпьем по чаше вина и отведаем окорока. У меня еще остался хороший кусок.
Венцель Марцел повернул коня. Тут его взгляд упал на господина в синих одеждах.
– И ты иди с нами. Расскажешь, что там произошло. В подробностях расскажешь.
Палач кивнул и пошел следом за рыцарским конем. Немного поколебавшись, Гудо спросил повернувшегося к нему спиной Венцеля Марцела:
– А что с рыцарем?
Бюргермейстер, не оборачиваясь, ответил:
– Может, до обеда протянет. Хотя лекарь Хорст не ручается. Все-таки дырка в голове. А при таком сквозняке жизнь быстро улетучивается. Думаю, еще успеешь попрощаться с ним.
– Я могу его осмотреть? – глухо спросил палач.
– Как хочешь, – равнодушно ответил бюргермейстер. – Он у меня в доме.
– Тогда я прихвачу кое-какие инструменты…
– И свечи заодно прихвати, – рассмеялся Венцель Марцел.
* * *
Конечно же, никто и не ожидал господина в синих одеждах. Да и место ли ему в бюргермейстерском доме? Сюда он может явиться только по приказу. Так он всегда и поступал. Но сегодня Гудо напросился сам. Признаться, он не понимал, зачем пришел. То ли действительно попрощаться с тем, кто был в какой-то мере звеном цепочки судьбы, которая способствовала его освобождению из подземелья Правды. То ли чувствовал себя виноватым в том, что произошло в лесу. То ли в нем пробудился азарт мэтра Гальчини, когда тот делал невозможное и потом несколько дней казался человеком. А может, все вместе. И еще ему было жаль молодого человека, который, возможно, еще сделает что-то важное и нужное в жизни.
Во дворе Венцеля Марцела было множество народа. Сам бюргермейстер заявил, что он сегодня отдыхает после ночных переживаний, утомительного сбора городского ополчения и выхода за стены города. А еще он должен подумать, как городу правильно встретить приближающегося императора. А это куда важнее пустых разговоров в Ратуше.
Но уединиться Венцелю Марцелу так и не удалось.
Восседая в своем кресле в каминном зале и смакуя вино, он принимал всех желающих пообщаться с ним. И этих желающих сегодня было больше, чем на обычном заседании городского совета.
Услышав о скором приезде императора, в первую очередь взволновались старейшины цехов. Собравшись вместе, они решили, что им принадлежит главенство в городе, а значит, все значительное должно начинаться с них. Тем не менее, покричав и приняв важные решения, они разбрелись по своим цехам и успокоились. В конце концов, есть же городской совет. Есть бюргермейстер. Как-то оно будет. Подскажут, подтолкнут.
Но сегодня старейшинам предстояло услышать о важном визите из уст самого бюргермейстера. И при этом сделать многозначительное лицо. И, конечно же, напомнить, что именно их цех является опорой города и должен первым приветствовать императора. Так говорили кузнецы, бондари, седельщики, оружейники, свечники и многие другие.
Венцель Марцел делал вид, будто он смертельно устал от неисчислимых забот о благе города. Соглашался с тем, как важен для города каждый цех и при этом, прощаясь, говорил всем одно и то же: «Главное, чтобы мастера и подмастерья были веселы, добротно одеты, а улицы перед их мастерскими были чисты. Ведь кто знает, возможно, император пожелает увидеть ваши мастерские и ваши изделия. Он такой любознательный, наш император».
За старейшинами потянулись купцы и менялы. Затем городские чиновники и все более-менее значительные люди города. И все эти посетители находили разнообразные, но правильные слова в честь бюргермейстера и его славных дел. При этом они не забывали упомянуть о вооруженном выдворении порядком поднадоевших и теперь уже кажущихся кровожадными флагеллантов.
Ну как тут остановить прием гостей и отказаться от столь важного выражения любви города своему бюргермейстеру!
– А золотари так и не явились. Наверное, свой цех они не считают главной опорой города, – со смехом сообщил лекарь Хорст, потягивая вино бюргермейстера. Он сидел в углу зала в ожидании кончины молодого рыцаря и одновременно комментировал визиты и тем веселил Венцеля Марцела.
– Если наш славный Витинбург будет опираться на кучу из дерьма, то город придется назвать по-другому, – поддержал лекаря бюргермейстер. Он уже был под хмельком.
Сначала он просто хотел успокоиться после ночных волнений, а затем начал запивать сладостные речи бесконечных гостей. И то и другое доставляло удовольствие.
Гельмут Хорст тоже чувствовал приятную расслабленность от вина. Перебрав всех в городе, он вспомнил:
– Еще у нас есть старуха Ванда и ее одиннадцать девок. Ах да, я забыл нашего мрачного господина в синих одеждах. Он наверняка не отказался бы прикоснуться к вашим стопам.
– Нет, – раздался мрачный голос, – я хотел бы осмотреть рыцаря.
Лекарь Хорст от неожиданности едва не уронил чашу, оставив несколько пятен на своем камзоле. Отряхивая жидкость, он нахмурился и пробормотал: «Что же это за сатана… Едва его упомянешь, он сразу же и встает у порога».
Да и сам Венцель Марцел был не слишком рад видеть этого посетителя. Он поморщился и взмахнул рукой, словно хотел отогнать от себя надоедливую муху.
– Он там, в моей спальне. Нужно будет потом сменить постель.
Гудо склонил голову и направился наверх.
В спальне он застал сидящую у кровати раненого дочь бюргермейстера. Увидев входящего палача, девушка вскочила и, молитвенно сложив руки, обратилась к нему:
– Гудо, спаси его. Я знаю, ты можешь. Ты все можешь.
– Я не Господь, – сухо отозвался господин в синих одеждах и подошел к кровати. Осторожно опустив на дощатый пол принесенный им мешок, Гудо склонился над молодым рыцарем, лежащим вниз лицом.
– Он так и не приходил в себя?
Девушка отрицательно покачала головой.
– Это печально. Помоги мне. Подержи его за плечи.
Эльва с готовностью исполнила просьбу, а когда палач снял с головы раненого повязку, лишь тихонько ойкнула. Гудо внимательно посмотрел на дочь бюргермейстера и, сосредоточившись, стал изучать рану.
– Есть ли в доме ножницы?
– Да, у нас хорошие венецианские ножницы, – едва смогла произнести Эльва. – Ты ему поможешь, мой дорогой Гудо?
От произнесенных девушкой слов палач вздрогнул и засопел, как и всякий раз перед тяжелой работой.
– На это мне нужно разрешение твоего отца. И… горячая вода. Много воды. А еще…
Эльва осторожно уложила голову рыцаря на подушку и выпрямилась. Ее прекрасные глаза были сухими, а губы слегка подрагивали.
– Сейчас все будет.
– О Господи, что же ты меня так жестоко испытываешь? – оставшись один, пробормотал Гудо и с жалостью посмотрел на молодое лицо рыцаря.
Очень скоро прибежала запыхавшаяся Эльва. К груди она прижимала ножницы изумительной работы.
– Вода уже почти готова.
– А бюргермейстер?
– Они с лекарем Хорстом посмеялись, но согласились. Гельмут еще сказал, что смерть рыцаря от руки палача развеселит город.
– Ладно, – глухо произнес палач. – Состриги с его головы все, что можешь состричь, но так, чтобы в рану ничего не попало. Затем я его побрею и расширю рану. А далее все в руках Господа.
Он еще что-то хотел добавить, вспомнив о Гальчини, но сдержался.
Гудо развязал мешок и стал выкладывать прямо на пол свои многочисленные инструменты. Затем он достал несколько кожаных ремней и, задумавшись, шагнул к столу. Освободив стол от всего, что на нем было, палач перенес на него раненого и быстро его привязал.
Эльва побледнела и по знаку палача стала срезать с головы молодого рыцаря длинные волосы. Гудо смотрел на ее дрожащие руки и не смел взглянуть в лицо.
Вскоре появилась Хейла с большим котелком пузырящейся воды, от которой шел густой пар.
– Нужны еще тазы и котелки, – велел палач, – а также жаровня с пламенем.
Служанка почему-то всхлипнула и поспешно скрылась за дверью. Когда она принесла все, о чем просил Гудо, тот заканчивал брить раненого.
– Какой он молоденький, совсем еще юноша, – не выдержала Хейла, увидев бритое лицо барона.
Теперь всхлипнула и бюргермейстерская дочь.
– Выйдите, – строго велел палач.
Служанка тут же скрылась за дверью. Эльва отступила лишь на шаг и отрицательно мотнула головой.
– Как знаешь, – раздраженно произнес Гудо и, прогрев на открытом огне тонкий нож, стал разрезать кожу на месте ранения. – Такие раны часты на войне. Если сразу не умер, то еще есть надежда. Правда, она настолько мала…
Господин в синих одеждах быстро посмотрел на девушку и замолк.
Раздвинув пальцами кожу, Гудо увидел трещину на затылочной кости. Хотя трещина была не такой уж и большой, несколько осколков малюсенькими остриями впились в сам мозг.
– Крепкий был удар. Уж никак не удар тощего сектанта, – пробормотал Гудо.
Он перекрестился и взял в руки странный инструмент. На одном конце его был небольшой цилиндрик с острейшими зубчиками, а на другом – деревянная вращающаяся ручка. Соединял их стержень из белого металла, посреди которого был приспособлен маленький лук с хитро закрученной тетивой.
– Начнем, – выдохнул палач и, прижав с помощью ручки зубчики цилиндрика к трещине черепа, стал водить правой рукой из стороны в сторону луком, как пилой. От этого цилиндрик стал вращаться, врезаясь зубчиками в кость.
Гудо услышал, как за его спиной на пол рухнуло тело бюргермейстерской дочери. Но это его не отвлекло. Чувствуя, что бурав вошел в кость, он ослабил давление. Легчайшими ударами и прокручиванием он отделил кусок кости и взглянул на открывшуюся мозговую поверхность.
– Тебе повезло, рыцарь, – тихо произнес Гудо, но не стал объяснять, в чем именно повезло Гюстеву фон Бирку.
Очистив тонким пинцетом серую узловатую поверхность мозга от осколков, палач вложил на место высверленного отверстия серебряный кружок и слегка вдавил его в кость.
– Теперь я зашью рану и попрошу эту девушку, чтобы она долго и горячо молилась за тебя. А еще ей придется ухаживать за тобой. Я думаю, она не откажется. Я расскажу, как это нужно правильно сделать, и она все сделает. У нее душа ангела. Но прежде мне придется и ее поднять на ноги. Ох, люди, люди… Твари Божьи! То рожают, то убивают. То калечат, то лечат. И что же вас так тянет друг к другу…
Глава 12
Гудо стоял на своем привычном месте у позорного столба на рыночной площади. Сегодня площадь просто кипела от огромного количества приезжих и местных жителей. Особенно хорошо в этот день продавались украшения, одежда и дорогое оружие. Город готовился к прибытию императора.
– Гудо, тебя зовет судья Перкель.
Палач посмотрел на стоящего внизу Патрика и, тяжело вздохнув, спрыгнул к нему.
– Я думаю, здесь ничего греховного не случится, – сказал Гудо.
– Я постою вместо тебя, – улыбнувшись, ответил помощник.
– Хорошо, у тебя острый глаз. Ты все увидишь. А ведь скоро закончится уговоренный срок и ты будешь свободен.
– Это так. Уйду к себе на родную землю и построю там лесопильню.
Патрик рассмеялся. Палач не выдержал и, скривив губы в подобии улыбки, спросил:
– Честный труд?
– Как получится. У меня же не будет такого палача, как ты… Такого человека, как ты. А может, в гости пожалуешь, когда город освободит тебя?
– Ладно, поживем – увидим. Как там наш рыцарь?
– А что ему остается? После твоих рук и мертвые оживают.
– Не болтай лишнего. – Гудо строго посмотрел на помощника.
– Я-то ничего. А вот когда наш барон открыл глаза, Эльва была в таком восторге, что всему свету вознесла благодарность… И тебе. Полгорода ахнуло. А лекарь Хорст стал таким зеленым, что даже приболел. И как тебе это?
– Глупая девчонка. Ведь просил же… Ты передал ей мои настойки и мази?
– Из рук в руки.
– Сказал дословно все, что я велел сделать?
– И даже больше. – Патрик засмеялся.
– Ох, и смешливый же ты. – Палач покачал головой.
– А чему печалиться? Жизнь – это такая веселая и забавная карусель. Только успевай круги считать.
– Ладно, наблюдай и будь построже. Интересно, что же судья решил.
– А что ему решать? Ему некогда. Он торопится высунуться навстречу императору. Как и весь город. Вот народу набьется. Все рты раскроют и про кошели забудут.
– Помни о своих руках. – Палач похлопал помощника по плечу и отправился в сторону городской тюрьмы.
Гудо пришел под самый конец вынесения приговора. Писец, держа в руках лист желтой бумаги, заканчивал дочитывать приговор:
– «…тем самым едва не лишив жизни благородного рыцаря Гюстева фон Бирка. Так как не установлено личное участие в этом преступном деле человека по имени Доминик, но учтено, что он является супериором преступной шайки и несет полную ответственность за нравственность и порядок среди своих братьев и сестер, суд города Витинбурга приговаривает его к выставлению на сутки у позорного столба, с предварительным нанесением на его тело двадцати ударов кнута».
– Старик, ты еще очень мягко наказан, – сказал судья Перкель, обращаясь к коленопреклоненному супериору. Вознеси молитвы Господу за то, что он сохранил жизнь благородному рыцарю. И больше никогда не появляйся в наших краях. А вот и ты, палач. Знай свое дело. И сегодня же вечером его привяжешь. В полдень дай ему хорошенько, а перед закатом солнца выброси его за городские ворота. Императору незачем смотреть на эту грешную душу. Все. Я спешу. Писец, все остальное уладишь сам.
Судья Перкель трусцой поспешил к выходу из тесной судебной комнаты. Писец поклонился ему и стал торопливо собирать свои бумаги, пергаменты, перья и множество чернильниц.
– Палач, тебе известно, как надобно поступать. Знай свое дело.
Последние слова писец произнес уже в дверях.
Гудо снял со стены моток веревки и подошел к супериору.
– Пойдем. Я должен исполнить свое дело.
Старик тяжело поднялся и посмотрел на палача.
– Каждый из нас исполняет свое дело, но при этом мы помним, что так угодно Господу.
– У нас еще есть время до вечера. Ты голоден?
Супериор равнодушно махнул рукой.
– Ладно, пойдем.
Палач отвел Доминика в тесный каменный мешок, служивший местом пребывания преступников, и запер за ним дверь. Очень скоро он вернулся и положил перед сидящим на охапке соломы стариком кувшин молока и свежий хлеб.
– Набирайся сил. Хотя сутки без воды и пищи не так уж и страшны, зато мой кнут может причинить тебя большие страдания. Чтобы их вынести, нужны силы.
– Гудо, во мне столько силы и человеческой, и данной Богом, что я выдержу и сотню ударов. Лишь бы это помогло тому, ради чего я в этом городе.
Палач внимательно посмотрел на супериора.
– Я уже слышал, как ты произнес имя Гальчини. Ты сделал это с умыслом. Значит, тебя привела сюда его тень?
– Мне так хотелось с тобой поговорить. Но ты меня упорно избегал. А мне нужно многое тебе сказать. От этого зависит жизнь достойных людей.
– Все, что связано с Гальчини, чаще приносит мне боль и душевные страдания, – склонив голову, признался Гудо.
– Но иногда ты вспоминаешь о нем с благодарностью.
– Я бы не назвал эти воспоминания благодарностью.
– Он не всегда был таким. Суровое время и подлые люди заставили его укрыться под маской сурового и беспощадного человека. Но поверь старику, когда-то Гальчини был веселым и жизнерадостным молодым человеком. Впрочем, тогда его звали не Гальчини.
– Он никогда не рассказывал о себе.
– Это была не его собственная тайна. Это тайна лучших людей.
– Тамплиеров, – выпалил палач и не мигая уставился на старика.
Тот отломил кусок хлеба и стал его тщательно разжевывать. Затем он отпил из кувшина и вытер бороду.
– Он не ошибся в тебе. Ты умный человек.
– Нет, это не так. Это он сделал меня таким. Сделал благодаря своей невероятной жестокости и величайшим знаниям. Этот старик до последних дней жизни казался железным как телом, так и душой. И каждый день рядом с ним был адом.
– Он знал, что делал.
– Знал? Да уж… Гальчини знал, что он в полной безопасности только в подземелье Правды, где своей мантией, словно щитом, его прикрывал помешанный на пытках епископ. Он имел большое влияние на этого кровавого старика. Но Гальчини нужно было сохранить, а главное, передать свою тайну. Теперь я знаю, что это была не его тайна. И он выбрал меня. Меня всегда легко разыскать. Любой укажет на палача с лицом, от которого даже сам сатана отворачивается.
– И ты знаешь, что это за тайна? – Старик отломил еще кусок хлеба.
– Я догадываюсь, что она заключена в документах, помеченных крестами тамплиеров. А документы эти находились в черном кожаном мешке. Мэтр показывал мне некоторые книги. Наверное, епископ был очень удивлен, когда после смерти своего любимца Гальчини обнаружил в его тайнике этот мешок. Скорее всего, он до последнего дня жизни пытался вычитать что-то очень важное в документах Гальчини.
– Он никогда бы не смог этого сделать. Некоторые тайные знаки неизвестны даже мне – последнему рыцарю тамплиеров.
– И что же тебе до этого черного мешка? – удивился Гудо.
– Я знаю, где его место. И он должен быть там. Такой приказ нам отдал последний магистр – Жак де Моле. Мы с Гальчини были тогда самыми молодыми рыцарями ордена бедных братьев Христа из храма Соломона. Но своим умом и воинской доблестью мы снискали уважение наставников. И нас посвятили во многое тайное. Великий магистр учел, что молодых рыцарей, возможно, не арестуют. И нам действительно удалось избежать ареста, а затем скрыться в чужих землях. Но наши пути разошлись. Храмовников[59] люто преследовали почти во всех христианских странах. Однако у нас была тайная переписка, и мы знали друг о друге многое.
– Гальчини никогда об этом не говорил.
– Он не мог тебе этого рассказать. Тогда и твоей жизни угрожала бы опасность.
– Моя жизнь ничего не стоила.
– Жизнь каждого человека – большая ценность. И мы, храмовники, оберегали каждую душу. Начиная с тех славных времен, когда мы первыми стали сопровождать паломников в святую землю. Мы бились насмерть, защищая жизнь и имущество пилигримов, идущих в святую Иерусалимскую землю от проклятых Богом сарацин. Потом мы помогали голодным и страждущим во всех странах Европы. Мы давали им зерно для полей, машины для облегчения труда, золото и серебро для ремесла и торговли. Мы владели многими землями и замками. Ни один король, ни одна страна не могла сравниться с нами в могуществе и доброте. Господь во всем и всегда помогал нам. Но завистливый французский король Филипп, одержимый дьяволом, склонил Папу Римского к величайшему преступлению. В один день наших братьев бросили в темницы. А потом подвергли чудовищным пыткам и казням, заставляя признаться в проведении сатанинских обрядов. Бог справедливо наказал и короля, и Папу Климента, лишив их жизни. Но великий орден был разгромлен и уничтожен. Прошло уже более сорока лет с тех черных дней, но еще придет время справедливости, и наши великие тайны послужат добрым людям. А в великих тайнах скрыты великие знания. И они не должны исчезнуть или, хуже того, попасть в руки злых людей.
– Эти тайны и знания находятся в черном мешке Гальчини?
– Это только часть. Но значительная часть.
– И ты, старик, решил, что этот мешок у меня?
Доминик с надеждой посмотрел на палача.
– Ты ошибся, старик. А сейчас тебя ждет позорный столб на рыночной площади.
* * *
Гудо стоял у края помоста, в центре которого высился позорный столб. У столба сидел старик супериор; его руки, скованные цепью, были высоко подняты. Как и положено по закону Витинбурга, старик был обнажен.
«Хорошо, что сейчас теплые летние ночи, – подумал палач. – Вот только комары здорово над ним поработали».
Был уже полдень, но ни судьи, ни писца все еще не было. Гудо послал за ними своего помощника, однако и это не ускорило прибытия законников.
Народ, который собрался поутру, не выразил ни сочувствия, ни осуждения супериору флагеллантов. Только озорники мальчишки, которым было лет по десять, швырнули в старика пару камней и с десяток гнилых овощей. Но не поддержанные взрослыми, они утратили интерес к этому действию и смирно сидели на камнях площади, с нетерпением ожидая ударов палача.
Старик молчал, зная правила наказания позорного столба, но его взгляд неотрывно был направлен на фигуру палача.
Его взгляд был прикован к фигуре палача.
Наконец появился Патрик. Рядом с ним торопливо семенил городской писец. У последнего был такой вид, будто его оторвали от очень важного дела. Он еще издалека крикнул: «Начинай!» – и махнул рукой.
Гудо поднялся и сбросил с плеч плащ. В его руке был свернутый кольцами кнут, сплетенный из кожи годовалого быка. Палач отошел на нужное расстояние и примерился, распуская кнут.
На помост взобрался писец. Растерянно посмотрев на свои пустые руки, он, казалось, только сейчас обнаружил, что даже не взял бумагу с приговором. Недолго думая, он стал громко кричать, обращаясь к нескольким десяткам собравшихся ротозеев:
– Высокочтимый судья города Витинбурга Перкель, согласно слову Божьему и справедливому закону, приговорил супериора флагеллантов Доминика к двадцати ударам кнута за действия, которые привели к нарушению городских порядков! Или за бездействие… Вот так… Палач, знай свое дело. – Набрав в грудь воздуха, он крикнул:
– Раз!
Кнут палача, описав в воздухе круг, хлестко опустился на подставленную спину старика.
«Два», «три», «четыре»…
Писец считал удары быстрее, чем Гудо успевал их нанести. Поэтому его замахи не были достаточно высокими, а удары сильными. Но все же, когда прозвучало последнее «двадцать», на спине наказуемого было до десятка полос, сочившихся кровью. За все время наказания старик вскрикнул всего несколько раз.
– Все, можешь сейчас выбросить его за ворота. Ты хорошо выполнил свое дело, палач. Я доложу судье Перкелю, – уже на ходу бросил писец и поспешил в сторону Ратуши.
– А судья так и не пожелал присутствовать, – почему-то виновато сообщил Патрик. – Город ждет императора. Тебе очень повезло, старик. Тебя просто погладили доброй ладошкой.
Гудо уже возился с цепями, освобождая руки супериора.
– Я бил прямым ударом, без оттяжки. Так что разошлась только кожа. Мышцы я не порвал. В твоем возрасте это бы кончилось весьма печально.
– Я свободен? – спокойно спросил старик.
– Ты же слышал писца. Я должен выбросить тебя сейчас. Его слова слышал и Патрик, и эти у помоста. Так что ты свободен.
Палач швырнул супериору его белую сутану.
– Одевайся, пошли. Патрик, присмотри здесь. Потом отмой от крови кнут.
Палача и его жертву до ворот провожала лишь стайка мальчишек, которые, не решившись ни на какие шалости, вскоре убежали по своим важным делам.
Старик шел впереди Гудо. На его ссутулившихся плечах сквозь одежду сочилась кровь.
– Как ты себя чувствуешь? – осведомился палач и поправил свой капюшон.
– Как побитая собака, – почему-то весело ответил Доминик.
– Ты железный, старик.
– Да, мы одной ковки с Гальчини. Я тебе об этом говорил.
– Гальчини умер от старости. Сколько же дней осталось тебе?
– Я не могу умереть, не выполнив долга. Иначе на том свете мои братья не примут меня.
Гудо промолчал. Так, в молчании, они прошли половину пути к лесу.
– Иди. Возле опушки подожди меня. Я постараюсь что-нибудь сделать для тебя. В добрую или недобрую память о Гальчини я облегчу твои страдания. Недостойно умереть рыцарю от кнута палача.
Доминик обернулся и с улыбкой сказал:
– Таковой была смерть многих моих братьев-рыцарей.
– Жди меня.
Гудо в глубоком раздумье свернул к своему домику.
Каждый человек по воле Господа рожден со своим предназначением. Кому всю жизнь землю пахать, кому ковать железо, кому поражать врага, а кого-то Бог наделяет особым поручением. Когда же предназначение выполнено, человек покидает грешную землю – и в зависимости оттого, как он это делал, ангелы провожают его либо в желанный рай, либо в огнедышащий ад. Вот только как не ошибиться в Богом данном предназначении? Как выполнить его волю? От этого зависит продолжительность пребывания человека на земле.
Ведь какую долгую дорогу жизни прошел этот старик. Он уже прожил едва ли не вдвое дольше, чем многие тысячи других. Если большинство людей едва дотягивали до тридцати или чуть более того, этот человек и в глубокой старости был еще крепок и телом, и умом. Значит, так нужно Господу.
Гудо вошел в дом и присел у стола. Сомнения по-прежнему терзали его душу. Но все же победило чувство, наиболее свойственное ему.
– Есть проблема – есть мучения. Нет проблемы…
С этими словами палач открыл свой тайник и вытащил черный кожаный мешок. Немного подумав, он сунул его в старый конопляный и, положив сверху немного хлеба, запечатанный кувшин пива от щедрот кривого Игана, пару баночек лечебной мази и маленький нож, крепко завязал этот мешок.
– Это наследство от Гальчини мне не нужно, – пробормотал Гудо и поспешил на опушку леса.
Приблизившись к первым деревьям, палач, к своему немалому неудовольствию, не увидел старика. Зло выругавшись, он пошел по дороге. Может быть, Доминик хотел найти уединенное место, откуда хорошо просматривался путь? А если нет…
«Ладно, пройду сто шагов. Но бегать за ним я не буду», – решил Гудо, углубляясь в лес.
Он шел, осторожно неся на плече льняной мешок, и часто смотрел по сторонам. Но разве можно разглядеть человека за густыми кустами и толстыми стволами деревьев?
Гудо остановился и затем резко повернулся. В десяти шагах от него стояли двое крепких мужчин с дубовыми шестами наперевес.
«Копейщики», – сразу же узнал экзекуторов палач.
Флагелланты или скорее те, что состояли при сектантах и занимались лишь избиениями несчастных и упражнениями со своими увесистыми копьями, улыбались. Но добрыми их улыбки назвать было нельзя. Они больше походили на ухмылки охотников, увидевших, как добыча идет в их руки.
– Заблудился? – спросил тот, что был повыше.
– Наверное, вышел подышать лесным воздухом, – поправил его низкорослый напарник.
– А у нас уже один такой любитель прогулок есть, – сообщил первый копейщик. – Эй, Йорган, покажи нам его.
Гудо повернул голову и увидел, как из кустов вышли еще три копейщика. Тот, кого назвали Йорганом, ответил:
– В лесу опасно. Сопровождение нужно. Под руки.
И действительно, за его спиной двое других крепко держали за руки старика Доминика. Йорган и те, что шли за Гудо, окружили палача, угрожающе направив в его сторону оружие. То, что в их умелых руках шесты являлись оружием, палач видел неоднократно.
– Положи на землю мешок и можешь вернуться к своим пыткам и казням, – предложил высокий и ткнул в грудь Гудо своим копьем.
Палач посмотрел на Доминика. По щекам старика текли слезы, смешиваясь с ручейком крови, что струился с его лба.
– Это же твои люди, – сказал Гудо, обращаясь к старику.
– До этой встречи я тоже так думал. Я хотел видеть в них братьев-тамплиеров, – тяжело выдохнул он.
– Очнись, старик, – грубо прервал его низкорослый. – Все тамплиеры уже давно в сырой земле, если их не развеяло ветром после сожжения. По твоим следам давно идет святая Церковь. Но твое дряхлое тело ей не нужно. А вот то, что в этом мешке, стоит многого. Во всяком случае, нам обещали столько золота, сколько по весу потянет этот мешок. Мы долго терпели тебя и твоих проклятых еретиков-флагеллантов.
– Да, мы терпеливые, – подтвердил Йорган. – Сколько понадобилось терпения, чтобы слушать твои бредни о славных рыцарях-тамплиерах. И вот наше терпение вознаграждено. А твои уроки владения оружием нам пришлись по душе. За это мы не пожалеем черствого хлеба и холодной воды до тех пор, пока не передадим тебя в руки святой Церкви.
– Я научил вас многому. Но, видит Господь, не всему, – вздохнув, сказал старик.
– Хватит болтовни, – сурово произнес высокий копейщик. – Палач, брось мешок и уходи, если тебе дорога жизнь.
Гудо с сожалением посмотрел на супериора и осторожно положил на землю свой груз. Он медленно повернулся и сделал шаг.
– Гудо! – раздался предупредительный крик старика.
«Затылок», – молниеносно сообразил палач и пригнул голову. Тупой конец тяжелого шеста пронесся над опущенной головой и ушел вперед на два локтя. Тут же левой рукой палач схватил смертоносное дерево, а правой мгновенно вынул из ножен меч и повернулся к нападавшему.
Меч глубоко вошел в живот высокого копейщика и, не задержавшись, с брызгами крови вышел наружу. Все произошло очень быстро, но опытный низкорослый воин был готов к этому. Удар шеста пришелся Гудо в голову и опрокинул палача на землю. Тут же низкорослый стал наносить сильные удары, используя шест как двуручный меч. Ожидая этого, палач несколько раз перевернулся и, скатившись в большую яму, укрылся за росшим в ней кустом.
Тяжелое копье стало рвать кусты, но Гудо уже был на ногах, успевая отбивать удары мечом. Затем он бросился к деревьям, где длинный шест не мог быть тем грозным оружием, каким был на открытом месте.
Однако низкорослый был опытным воином, и один из его ударов пришелся по руке, в которой Гудо держал меч. Уронив оружие, палач взревел и, пересилив боль от соприкосновения шеста с подставленным плечом, ринулся вперед и схватил противника руками за шею. Тот сразу же бросил шест и железной хваткой вцепился в руки Гудо. Но противостояние было коротким. Большими пальцами палач вдавил гортань копейщика до самых шейных позвонков и отпустил противника только тогда, когда его тело полностью обмякло.
Гудо поднял меч и бросился на дорогу. Но было уже поздно. Хотя двое из напавших без чувств лежали на земле, третий, Йорган, успел вонзить нож в живот супериора. Затем он нанес еще один удар и повалился вместе со своей жертвой в пыль дороги. В его спине торчал короткий меч палача, брошенный им с пяти шагов.
Старик еще дышал. И хотя льющаяся из горла кровь мешала ему говорить, он прохрипел:
– Добей и этих двоих. Я же говорил, что не всему их научил. Не отдавай… мешок… Он нужен тем, кто после нас… Нашим добрым потомкам…
Старик улыбнулся. С этой улыбкой он и скончался.
Гудо с досадой посмотрел на старика и, вытащив клинок из спины Йоргана, по очереди воткнул его в горло двух бесчувственных копейщиков.
Совсем немного времени назад палач шел по дороге и чувствовал в душе облегчение. И вот его плащ в крови. Он – среди мертвых тел, а в душе его поселились тревога и возрастающее чувство обреченности. Наверняка его ждут скорые беды и несчастья.
Гудо закусил губу и поднял голову к небу. Оно было ясным и божественно высоким.
– Господи, когда же ты услышишь мои молитвы.
Но небеса хранили суровое молчание.
Палач тяжело вздохнул и стал стаскивать тела убитых в ту яму, в которой уже лежал низкорослый копейщик. Затем он нарубил сосновых ветвей и прикрыл ими тела. Не произнеся молитвы, Гудо выбрался на дорогу и услышал шум приближающейся телеги. Тогда он повернулся в сторону города и, тяжело ступая, направился к нему. Но, не пройдя и десяти шагов, палач возвратился и, взяв покоившийся в пыли мешок, забросил его за плечо.
* * *
– Свершилось. Вот и свершилось. Господи, помоги рабу твоему Венцелю Марцелу. Это великий день…
– Бюргермейстер, что вы там постоянно шепчете? – обернувшись, спросил судья Перкель.
Венцель Марцел дернул плечом и не ответил. Все его внимание было приковано к приближающемуся кортежу. Впереди на огромном коне ехал знаменосец. На большом белом полотнище, расшитом золотом, чернел гордый римский орел с распростертыми крыльями. Будучи некогда римским символом, эта птица теперь украшала стяги почти всех германцев. Ведь они стали преемниками могущественнейших римлян – завоевателей и властителей мира.
За знаменосцем, по два в ряд, ехали всадники в богатых одеждах, потом – большие и удобные кареты, а за ними – отряд рыцарей. Далее виднелись повозки попроще, толпа слуг, многие из которых держали в поводу собак, и до трех десятков пехотинцев-лучников. Ехавший первым знаменосец даже не придержал коня и, хлестнув полотнищем по лицу бюргермейстера, въехал в широко распахнутые ворота. Следовавшие за ним двое всадников, весело переговариваясь, тоже не собирались останавливаться.
Венцель Марцел растерянно посмотрел на судью и пошел рядом с лошадью, на которой восседал один из богато одетых всадников. Миновав ворота, бюргермейстер решился и громко сказал:
– Я – Венцель Марцел, бюргермейстер имперского города Витинбурга, от лица всех горожан верного вам города коленопреклоненно приветствую нашего славного императора!
– Мой добрый друг Вольсдемар, тебя опять приняли за императора, – обращаясь к соседу, произнес тот всадник, что был с другой стороны от бюргермейстера. – Император Карл – это я!
– О-о-о! – застонал Венцель Марцел, вмиг опечалившись неудачным началом, и торопливо перебежал на другую сторону.
– Город Витинбург и я, его бюргермейстер Венцель Марцел…
– Мы чертовски голодны, и у нас мало времени. Где накрыты столы для пиршества? – прервал его император.
– В здании Ратуши, – бодро сообщил Венцель Марцел и махнул рукой.
Стоящие плотной цепочкой горожане попытались изобразить ликование и стали бросать всадникам пучки полевых цветов и венки из дубовых листьев. И хотя ликование – то ли не отрепетированное, то ли не искреннее – получилось отнюдь не всеобщим и негромким, Вольсдемар весело сказал, обращаясь к еще совсем молодому императору:
– Твой народ счастлив тебя видеть. Народ тебя любит.
После этих слов он громко рассмеялся.
Император поморщился и ответил:
– Друг мой, оставь это. Если бы мой народ знал и любил меня, он ликовал бы в той мере, как сейчас, провожая нас с отобранными у них налогами и подарками. Признайся, бывало, что нас встречали куда веселей. Но всегда провожали в гробовом молчании. Конечно, если бы у меня были время и желание, я бы мог постараться очаровать этих мужланов. Но ты и сам знаешь, как мы спешим. Поэтому, пока я буду насыщаться и кормить своих собак, вытряси из этого бюргермейстера все, что сможешь, и двинемся дальше. Что-то в этом маленьком городишке мне неуютно.
Венцель Марцел, хорошо слышавший все, что сказал император, покрылся пунцовой краской. Он вспомнил о приветственной речи, написанной им прошлой ночью и свернутой в трубочку, которая была зажата в его правой руке.
– Иди рядом со знаменем и показывай дорогу к своей Ратуше, – велел бюргермейстеру Вольсдемар и продолжил веселую беседу с императором, прерванную въездом в город.
Возле Ратуши собралась большая толпа народа. Завидев императорское знамя, люди заволновались, и задние ряды стали напирать на передние. Появившиеся всадники в богатых убранствах вызвали еще большее оживление. Послышались приветственные возгласы, и к копытам лошадей были брошены припасенные цветы и венки.
Всадники остановились, и к высокому, широкоплечему мужчине в пурпурном одеянии подбежали несколько оруженосцев, чтобы помочь ему сойти с коня. Он величественно поднялся на ступени Ратуши и высоко поднял руки.
– Я, милостью Божьей ваш император Карл IV, принимаю вас под свою высокую руку и обещаю защиту и покровительство!
Народ радостно взвыл, и на площади раздался взрыв оваций. Венцель Марцел шагнул к императору и низко поклонился.
– Это ты, бюргермейстер. – Карл положил свою руку на его плечо. – Веди к столу.
Венцель Марцел еще раз низко поклонился и повел высокого гостя внутрь Ратуши.
Очень скоро на площадь прибыл кортеж императора. Множество коней и повозок заполнили все ее пространство, выдавив собравшуюся толпу. Пришедшие последними пешие лучники прогнали самых настойчивых горожан на соседние улицы и окружили образовавшийся на площади лагерь. В результате жители Витинбурга не смогли в свое удовольствие поглазеть на богато одетых вельмож, лязгающих доспехами славных рыцарей, а также на увешанных драгоценностями благородных дам, облаченных в меха, шелк и парчу. Лишь немногие, более догадливые, напросившись к тем, чьи окна выходили на Ратушную площадь, имели возможность увидеть изысканные наряды и украшения тех, кто волею Господа вершил судьбы многих людей.
После долгих разговоров со стражей императора Венцель Марцел оставил на ступеньках Ратуши старейшин цехов, знатных купцов и лучших людей города. Все они приготовили подарки и приветственные слова для императора. А вот места за столами им не хватило. Свита Карла, не очень-то считаясь с правилами этикета, шумно и суетливо заняла все столы и, не дожидаясь ни благодарственной речи бюргермейстера, ни разрешения самого императора, тут же принялась за еду.
Герцоги и графы, бароны и рыцари, их жены и попутчицы даже не заметили, с каким изяществом Венцель Марцел велел накрыть столы. Ведь возле каждого места лежала оловянная ложка и тонкий стальной нож. Чтобы гости не обжигали пальцы и не клали куски мяса на скатерть, бюргермейстер велел положить плоский кусок твердого хлеба.
Но гости даже не дождались, пока слуги обнесут всех тазами с водой для ополаскивания рук. Те, кто попроще, запустили голые руки (а вельможные в тонких перчатках) во множество плоских блюд, политых острыми соусами.
Скорее всего, они и не заметили, как вкусны были рагу из мяса оленя, колбáсы из мяса каплуна, жареные бараньи ножки с шафраном, мясо кабана со сливами и изюмом, тушеные крольчата и зайчата, мясо гусей и диких уток. Все это вынималось из блюд большими кусками, разрывалось и тут же проглатывалось. Изящные ножи для порезки мяса, что с такой любовью и мастерством были изготовлены цехом оружейников, по большей части так и остались нетронутыми. Зато местное пиво гостям пришлось по душе. Не стоит упоминать о том, что и вино не задерживалось в кувшинах и слуги едва успевали наполнять их, чтобы затем разлить чудесный напиток по чашам.
Венцель Марцел стоял справа от стола императора. С его лица не сходила радостная улыбка, но душа обливалась слезами. Ему не терпелось произнести приятную для слуха императора и гостей большую речь и поднять чашу в честь коронования Карла и за его долгое императорство. Но ему не досталась чаша, а общий крик и смех не давали вставить хотя бы слово.
Больше всех смеялся сам император. В этом ему усердно помогал Вольсдемар. Он непрерывно шутил и рассказывал забавные истории. Наконец он что-то напомнил Карлу, и тот, посмотрев на бюргермейстера, спросил:
– А скажи-ка мне, любезный, нет ли под полом этого зала выгребной ямы?
Венцель Марцел, сконфуженный столь непонятным вопросом, едва смог выдавить «нет».
– Значит, мы могли бы еще и потанцевать, – улыбнулся император. – Но, но… Так где мои подарки?
– Лучшие люди города и старейшины цехов ждут вашего повеления, – поклонившись, ответил бюргермейстер.
– Велю. Только покороче. Я спешу. И, Вольсдемар, мой преданный друг, возьми под ручки бюргермейстера и посмотри, что там у него с налогами.
С этими словами император подозвал пажа и вытер испачканные жиром руки о его длинные кудрявые волосы.
– Давайте этих бюргеров! – крикнул он страже и сделал большой глоток вина.
– Мне бы тоже следовало присутствовать на приветствии моих людей, – слабо запротестовал Венцель Марцел.
Вольсдемар плюнул на свои руки, затем вытер их об шерсть возившейся у его ног огромной собаки и встал. Он сладко потянулся и подошел к Венцелю Марцелу.
– Все твои люди – это люди самого императора. Его дети. А он знает и без подсказчиков, как разговаривать с детьми. Пойдем в сокровищницу, посмотрим, что ты для императора припас.
Вольсдемар махнул рукой, и возле бюргермейстера выросли четыре лучника.
– Я должен послать за городским казначеем, – печально произнес Венцель Марцел. – Я уже приготовил ночлег для императора и его свиты. А утром думал все пересчитать и написать бумаги об уплате налога.
– Тебе же сказано, мы очень спешим.
Преданный друг Карла IV слегка подтолкнул бюргермейстера, и тот, опустив голову, повел людей императора в подземелье Ратуши. Весь недолгий путь Венцель Марцел просил разрешения послать за городским казначеем или советниками, но на все эти просьбы Вольсдемар отвечал шутками и громким смехом.
Перед входом в городскую казну находилась массивная решетка с маленькой дверцей. За ней, коротая время, сидели на полу два стражника и играли в кости. Заслышав голоса и увидев зажженные факелы, они нехотя оставили игру и поднялись.
– Кто там? – спросил старший из них.
– Бюргермейстер, – грустно ответил Венцель Марцел и с еще большей грустью добавил:
– Открывайте.
Старший стражник, громыхнув увесистыми ключами, открыл дверцу решетки, а затем дубовую дверь, что вела в помещение казны.
Вольсдемар зашел первым и сразу же уселся за стол, стоящий посередине подземелья.
– Ну, что тут у нас…
Венцель Марцел снял с полки большой ящик и открыл его. Недолго повозившись, он вытащил несколько листов бумаги и положил их перед другом императора. Вольсдемар поморщился и отодвинул их на край стола.
– Золото, серебро…
И он призывно стал загибать и разгибать пальцы.
Бюргермейстер тяжело вздохнул и отправился в темный угол комнаты. Очень скоро он вернулся с кованым сундуком. Сопя и переминаясь с ноги на ногу, Венцель Марцел снял тяжеленный замок и отбросил крышку.
Вольсдемар привстал и опустил руки в сундук. Он долго мыл руки в груде благородного золота, затем захлопнул крышку и устало опустился на лавку.
– Ты – славный бюргермейстер. Об этом я сказал императору сразу же, как только увидел, что улицы и площади чисты, а в воздухе не витает вечный городской смрад. Я слышал о твоей удачной городской торговле и лесопильне. Ты – истинный хозяин города. Будешь им до самой смерти. Особенно после того, как порадовал полной суммой налога. В других городах мы не набрали и четверти…
Венцель Марцел закусил губу. Его душа обливалась слезами, а сам он готов был по-собачьи заскулить.
Вольсдемар продолжал:
– Оно и понятно. Ремесло и торговля в других городах слабеют день ото дня. Проклятое время. Вот каков первый год императорства Карла. Что поделаешь, когда Господь решил наказать нас за грехи наши безмерные. Но ты держись. Ты – достойный бюргермейстер. К сожалению, я вынужден забрать все золото. В другое время я был бы рад снизить тебе налог для расширения торговли и ремесла. И это было бы правильно. Но сейчас… Живем одним днем. Ложась ночью, не знаем, проснемся ли утром. Однако Бог милостив к своим верным слугам. Может, он вас и простит. И все у вас будет хорошо. Вот уже и музыка слышна…
Венцель Марцел напряг слух и едва из-за толщи камня смог услышать перебранку лютни и свирели.
– Теперь я знаю, что под залом нет выгребной ямы, – весело рассмеялся Вольсдемар.
– А почему ей здесь быть? – недоуменно спросил Венцель Марцел.
– Да, нет… Ничего такого. Это наша с императором шутка. Ему недавно прочли отрывок из печальной хроники. Под императором Фридрихом и его рыцарями провалился пол большого зала в Эрфуртском замке. Так что все пролетели шагов двадцать и окунулись в находящуюся под залом выгребную яму. Смешной случай произошел давно. Только смеха мало. С десяток рыцарей так и утопли в дерьме[60]. Император часто рассказывает эту историю, и каждый раз с новым нравоучением. А по-моему, он просто боится оказаться в дерьме. А дерьмо что… Оно всегда вокруг нас. Я и сам готов каждый день в него нырять, лишь бы спастись.
– Спастись? – совсем ничего не понимая, спросил бюргермейстер.
– Вот именно. Ах, да. Вот еще что. В ваши края отправился доблестный рыцарь Гюстев фон Бирк. Добрался ли он к вам?
Венцель Марцел замялся и после паузы выдавил:
– Гостил у нас. Но вышла неприятная история. Он ранен. В голову.
– Да? Ну, ничего. Я не знаю ни одного рыцаря, который бы не был ранен в голову. – Вольсдемар весело рассмеялся. – Лишняя шишка только укрепляет рыцарские головы.
– Да, собственно говоря, у него не совсем шишка. Скорее дырка. Но он идет на поправку.
– Если поправится, то у него двойное счастье. И жив остался, и неожиданно разбогател. Теперь он очень богат. Его несостоявшийся тесть неожиданно умер, но перед смертью завещал ему свои земли и замки. И это независимо от того, разыщет ли Гюстев свою сбежавшую невесту. Император желает и с него взять наследственный налог. Так что передай Гюстеву фон Бирку, что Карл желает поскорее увидеть его.
– О нет… Нет. Молодой рыцарь все время без памяти. За ним ухаживает моя дочь и я сам. Но надежд мало. Очень мало. Почти совсем нет, – скороговоркой вымолвил бюргермейстер и опустил глаза.
– Что ж, пусть Господь будет к нему милосердным. Он славный юноша. И крепкая рука. Будет жаль его потерять. Хотя… Кто знает, будем ли мы сами живы завтра. Так что в путь. В путь.
Венцель Марцел не выдержал и сказал:
– Прости, мой добрый господин. Все так скоро… Мы готовились. А император не желает даже переночевать в нашем городе.
– Не стоит обижаться. Это не причуда императора, а печальная необходимость. Необходимость бежать, причем бежать как можно быстрее и дальше.
Бюргермейстер в огромном удивлении вскинул свои густые брови.
– Какой же враг преследует нашего императора?
– Самый могущественный из врагов. Враг, который легко переступает границы и крепостные стены. Его не способны остановить ни реки, ни болота, ни леса, ни даже бронированная рыцарская конница.
Венцель Марцел почувствовал, как на его лбу выступила испарина.
Глава 13
Палач провел рукой по своим синим одеждам. И камзол, и плащ уже достаточно подсохли. И, кажется, ему удалось отстирать все пятна крови. Недаром же он несколько ночных часов провел на берегу запруды, где замочил, а потом долго стирал каждую вещь в отдельности. Он еще долго колебался, стоит ли ему появляться в городе, для которого сегодняшний день стал большим и радостным праздником в связи с прибытием императора.
Но на каждом празднике бывают моменты, когда веселье подвыпивших людей превращается в ссоры и даже драки. Не дай бог это случится. Но если случится, не спросит ли потом бюргермейстер, где был палач, который одним своим присутствием может остановить любое нарушение порядка в его славном городе.
Гудо набрал полную грудь воздуха и с шумом выдохнул. Сначала медленно, а затем постепенно ускоряя шаг, он двинулся к городским воротам. Он прошел по дороге, усыпанной начавшими увядать цветами и венками, и, не взглянув на стражу, направился к Ратуше. Не пройдя и ста шагов вдоль улицы, палач был вынужден прижаться к стене дома. По улице вскачь неслись богато одетые всадники. Они так спешили, что готовы были сбить с ног всякого, кто не успел уступить им дорогу. За всадниками прогромыхали рыцари и потянулись крытые повозки, из которых доносились пьяные женские голоса и смех. Им вторили такие же мужские голоса. Слышались скабрезные шутки и звонкие поцелуи. А из одной повозки доносился томный женский голос, часто прерываемый вздохами сладострастия:
– О-о-о! Да, да… Ищите эту блоху. Ниже, ниже груди. Ах-ах! Барон, вы подарите мне золотую блохоловку?[61]
Гудо пожал плечами и пошел дальше, к Ратушной площади. Пропустив едва ли не бегущий отряд лучников, палач удивился пустынным улицам и закрытым окнам. Обиженный город не провожал своего императора.
Ближе к Ратушной площади Гудо увидел несколько открытых повозок, на которых вповалку лежали пьяные господа, а на их телах восседали не менее пьяные слуги. Многие из них все еще дожевывали то, что схватили с господских столов, и наспех запивали куски вином и пивом прямо из кувшинов.
Палач хмуро посмотрел на это пьяное прощание и взглянул на небо. Ничего не изменилось: ласковое солнце, пронзительная лазурь и стремительный полет птиц.
Гудо опустил глаза, и ему показалось, что в глухой проулок шагнул его помощник Патрик. Чтобы проверить себя, палач бросился туда.
В этом узком месте, над которым почти срослись крыши, он увидел лежащего на земле господина в дорогих одеждах и стоящих возле него Патрика и могильщика Ешко. Помощник держал за руки могильщика и что-то горячо ему шептал. Ешко с гневом освободил свои руки и зарычал:
– Ты тоже не Божья овечка. И если ты забылся, то я кровью омою твою память.
Патрик повысил голос:
– Только не сегодня. У тебя будет время и возможность.
– А у тебя их не будет! – зло воскликнул могильщик и замахнулся.
Но тут Ешко увидел палача и вместо удара погладил Патрика по его волнистым волосам. Затем он опустил голову и проскользнул мимо Гудо, став едва не вдвое меньше ростом.
– Что это было? – спросил Гудо у помощника.
Патрик рассмеялся:
– Да так, не поделили одну вдовушку.
– А это кто? – палач указал на валяющегося благородного господина.
– Не знаю. Видно, зашел помочиться. Ну и свалился.
– Ладно, брось его в повозку.
Гудо придержал одну из них и дождался, пока она не приняла мертвецки пьяного человека из свиты императора.
– Веселенький получился праздник, – грустно произнес палач и, бросив взгляд через площадь, увидел на ступенях Ратуши бюргермейстера. Тот стоял сгорбившись, а над ним нависал тощий старик в поношенной сутане священника.
– Пойдем, может какие-то приказы будут, – велел палач, и Патрик послушно поплелся за ним.
– А, Гудо… – устало произнес Венцель Марцел и, указав на господина в синих одеждах, сообщил священнику:
– Это наш городской палач. А тот юноша – его помощник.
– Палач – это сейчас то, что нужно, – хрипло промолвил священник и внимательно осмотрел огромное тело Гудо. – У нас скоро будет много работы. Очень много.
– Гудо, это отец Марцио. Он из святой инквизиции[62]. Император оставил его в нашем городе. Святой отец может оказать помощь в надвигающейся беде. О Господи, прости нас грешных…
Венцель Марцел несколько раз перекрестился и уставился в небо. Оно по-прежнему было безмятежным.
– О какой беде говорит бюргермейстер? – Гудо почему-то сразу заговорил со святым отцом. Бюргермейстер даже не обратил на это внимания.
– Кара Божья постигла грешную землю. Черная чума глотает людей и выплевывает зловонными лепешками гниющего мяса. Бег этого чудовища стремителен. Его невозможно остановить. Еще день-два, и это проклятие покроет ваши земли. Покроет, если не принять жесточайших мер. А еще необходимо уже сейчас вознести наши покаянные молитвы и церковными шествиями опрокинуть это исчадие ада. Почему до сих пор молчат колокола?
– Да, да. Я скажу отцу Вельгусу, – растерянно пробормотал бюргермейстер.
– Нужно, чтобы народ собрался в храме и пал на колени перед святым распятием. Пусть каются и молятся. Молятся и каются. И псалмы. Божественные псалмы. Их нужно петь не прекращая. Пусть каждая улица, каждый дом взывает к Господу и просит о прощении. А еще… Еще нужно оградить земли от тех, кого Господь уже наказал. Чтобы они не принесли свой непрощенный грех на еще чистую землю. Не пускать никого. Ни тех, кто носит явные признаки болезни, ни тех, кто в данный момент их не имеет. А они могут быть в душе. В грешной душе.
– И как же их не пустить? – вяло спросил Венцель Марцел. – Для этого потребуется армия. А у меня только два десятка стражников. Да и бюргеры вряд ли согласятся бросить свои мастерские и стеречь дороги и лесные тропы.
Отец Марцио с жалостью посмотрел на поглупевшего от надвигающейся беды бюргермейстера и жестко ответил:
– У тебя есть армия. И эта армия – страх. У тебя есть вождь этой армии – твой палач. И, наконец, у тебя есть дух армии. И он в лице святой инквизиции. Палач, сколько сейчас преступников в тюрьме?
– Сейчас наша тюрьма пуста, – глухо ответил Гудо.
– М-да… – удивился инквизитор. – Странный город. Но ничего. Скоро, очень скоро под стенами появятся толпы бродяг. Нужно их хватать.
– Зачем? – спросил Патрик и спрятался за спину палача.
От этого глупого вопроса взгляд святого отца стал ледяным. Сверкнув глазами, он жестко произнес:
– Часть из них палач вздернет на виселицах, которые нужно завтра установить на дорогах. Вторую часть разрубит на куски и развешает по деревьям. И пусть каждый, кто приблизится к границам этой земли, испытает страх еще больший, чем перед самой чумой.
– А за что их вешать и рубить? – встрепенувшись, осведомился Венцель Марцел.
Святой отец быстро нашелся с ответом:
– Если человек бродяжничает, значит, он болен телом, умом или душой. Каждый больной – грешник. И наказание за его грех – смерть. Так пусть же их мертвые тела послужат для острастки тех, кто здоров. А здоровы они по воле Господа. Посему выходит, что в твоем городе, бюргермейстер, нет грешных душ. Пока нет. А если появятся, то я их увижу, а тела их уничтожу.
– Завтра соберем городской совет, – устало промолвил бюргермейстер. – А сейчас мне нужно выпить хорошего вина и съесть большой кусок свинины с перцем и толченым мускатным орехом. И хорошо бы с приправой из имбиря и гвоздики на рыбьей требухе. Если, конечно, все это не съели и не выпили наши дорогие гости. Вы, святой отец, поселитесь в доме судьи Перкеля. Вам будет о чем поговорить. О Господи, что же будет с моей лесопильней…
* * *
Гудо открыл глаза. В затянутое бычьим пузырем окошко настойчиво стучался солнечный луч. Палач тоскливо обвел взглядом давно опротивевшую ему серость убогого жилища и медленно сел на кровати. Не хотелось ни есть, ни пить, ни спать, ни даже пускать в голову какую-либо мысль.
И все же мысли пришли. «Еще один день. Зачем? Для чего? Что было в жизни хорошего? И чего еще ждать? Зачем, Господи, ты позволил мне появиться на свет, тобой созданный? Убивать, калечить, лечить, жалеть и быть безжалостным. Как все это совмещается в одной душе и в одном теле? Неужели и на это воля Господня? Что-то я слишком долго живу…»
Затем и эти мысли исчезли.
Он еще долго сидел, не желая ни о чем думать. Он бы еще долго просидел. Неподвижно и бессмысленно. Наверное, все то время, что ему было отпущено. Если бы не люди. Люди, желающие нарушить его покой, – счастливый от отсутствия мыслей.
– Гудо! Гудо, ты уже проснулся? Выходи, Гудо. Тебя ждут!
Он бы не вышел. Не вышел бы ни на один другой голос. Только на этот. Уж очень привязался хмурый господин в синих одеждах к молодому человеку. У Гудо не было братьев, и он не знал, что такое братская любовь. Он даже не мог объяснить себе те чувства, что испытывал к недоучившемуся студенту, выбравшему постыдное ремесло вора. И все же за прошедшие полгода Патрик изменился. Если в первые месяцы его еще тянуло на легкую обманную жизнь, то в последнее время, глядя на тяжкий труд людей и сам много работая, он понял, что труд необходим как лучшее лекарство, способное на все годы сохранить здоровье тела и души.
Наверное, если бы жизнь изменилась, Гудо не прочь был бы завести вместе с Патриком что-то подобное лесопильне или, что еще лучше, – мельницу.
– Гудо! – опять напомнил о себе помощник.
Палач встал, набросил на плечи плащ и распахнул двери.
– Что, чума пришла? – спросил он.
– Ты это во сне увидел? – удивился Патрик. – И пришла, и приехала. Пошли, тебя ждут. Сам все увидишь.
– Я уже вижу…
На опушке леса стояли десятки повозок, боязливо прижимаясь к вековым соснам.
На дороге, в ста шагах от них, Гудо разглядел бюргермейстера, судью и инквизитора Марцио, которых сопровождали все городские стражники. Пока господин в синих одеждах подходил, взгляды тех, кто собрался на дороге, были направлены на него. Палача ждали, ждали с нетерпением.
– Ну, наконец-то явился, – вместо приветствия сказал бюргемейстер и сразу же велел:
– Палач, бери с собой Патрика и стражников и выясни… Все выясни. В первую очередь узнай, не больны ли эти люди.
– Выяснить я могу. Вот только больны ли они… Это дело лекаря Хорста, – вздохнув, ответил Гудо.
– Я сам знаю, – грубо прервал его Венцель Марцел. Затем, пытаясь загладить свою грубость, он улыбнулся и сказал мягче:
– Лекарь Хорст… Он не смог. Он…
– Его жалкая душонка обделалась, – рассмеялся Патрик.
– Что-то такое, – быстро согласился бюргермейстер. – Но ты ведь кое-что понимаешь в болезнях. Я это знаю. Весь город знает. Посмотри. Прошу тебя…
Гудо окинул бюргермейстера внимательным взглядом и согласно кивнул.
«Что-то слишком долго я живу», – вновь подумал палач и направился к непрошеным гостям славного города Витинбурга.
За ним последовал Патрик. После долгих криков и угроз нехотя поплелись за господином в синих одеждах и стражники. Но их хватило ненадолго. На половине пути они остановились и остались стойко стоять, несмотря на все ругательства, которые в их спины отпускал гневный бюргермейстер.
– Не страшно, Патрик? – тихо спросил палач.
Патрик промолчал.
– Как окажемся за первой повозкой, там и оставайся. У тебя есть нож? Хорошо. Можешь показать его всем, кто посмеет к тебе приблизиться менее чем на пять шагов.
Но тут Гудо увидел выходящих из-за повозок мужчин и женщин различных сословий: от нищего калеки до одетых в бархат и парчу благородных господ. К ногам многих прижимались дети. Где-то между повозками ревели младенцы, выпрашивая материнского молока.
На лицах тех, кто вышел навстречу палачу, застыло выражение печали и отчаяния. Еще несколько дней назад, а может, даже вчера, им в самом дьявольском сне не мог присниться весь тот ужас, что вышвырнул их из родных домов. Подгоняемые страхом, эти люди бросились в путь – от родного порога к неизвестности. Мучительной неизвестности.
Гудо остановился в десяти шагах и громко сказал:
– Я – палач города Витинбурга.
На эти слова вперед вышел богато одетый мужчина преклонных лет[63].
– Мы знаем тебя. Большинство тех, кто стоит за моей спиной, из Мюнстера. Чума уже подступила к его стенам. Нам посчастливилось вырваться, когда в городе еще не было ни одного зачумленного. Теперь уже в Мюнстере трупы валяются на улицах. Мы несколько дней прятались в лесу, но поняли, что деревья и кусты не могут быть надежной защитой от черной смерти. У нас есть продовольствие и оружие. Мы просим поселить наших жен и детей за стенами, а мужчины останутся на дорогах, чтобы не пропустить больных и остановить наплыв бегущих.
– Как тебя зовут? – с раздражением в голосе спросил Гудо. Этот человек говорил верные слова. И можно было не сомневаться в том, что его рука не дрогнет, чтобы остановить тех, кто шел вслед за ним на спасительную землю Витинбурга. Но что-то настораживало в нем палача.
– Я – Альберт, первый из купцов города Мюнстера. Меня вчера назначили в старшины этого обоза.
– Так значит, это ты выбрал Витинбург для спасения от чумы? – Гудо нахмурился.
– Я, – честно признался купец. – Я часто бываю в разных городах. В Мюнстере и в некоторых других городах я присутствовал на казнях и наказаниях, в которых ты проявил свое мастерство. Многие знают господина в синих одеждах из Витинбурга. И если у города такой палач, значит, в нем мудрый бюргермейстер. Такой город сможет противостоять многим бедам. Я так и сказал тем людям, что стоят за моей спиной.
– Сколько у вас мужчин?
Альберт нагловато усмехнулся и гордо произнес:
– Около ста. И все вооружены. Они выполнят любой мой приказ.
– Хорошо, оставайтесь на месте, – велел палач и, махнув рукой Патрику, направился к бюргермейстеру и тем, кто был рядом с ним.
Еще издали Венцель Марцел спросил палача:
– Они принесли чуму?
Гудо молча подошел к бюргермейстеру и, глядя себе под ноги, ответил:
– Не знаю. Там сотня вооруженных мужчин, в отчаянии готовых на все. Старший у них Альберт, купец из Мюнстера. Кажется, он имеет на этих людей большое влияние.
– И что они хотят? – бледнея, спросил бюргермейстер.
– Они хотят, чтобы вы впустили под защиту города женщин и детей. А мужчины готовы встать карантином на границах Витинбурга и никого больше не впустить.
– О, слава Господу! Все, как я говорил. – Отец Марцио перекрестился. – Пусть сегодня же строят на границах виселицы и вздергивают всех строптивых. Чем больше виселиц, тем лучше. А почему прекратили звонить в колокола?
– Так вы, святой отец, предлагаете впустить этот сброд в город? А как на это посмотрят бюргеры? Вы думаете, они с радостью распахнут свои двери и впустят незнакомых людей? – Венцель Марцел посмотрел на судью.
Перкель согласно кивнул и добавил:
– А если уже завтра к нам сбежится вся округа? Все селяне, которые проживают на наших землях?
– И их на карантинный дозор, – уверенно произнес отец Марцио.
– И дать каждому оружие! – крикнул в отчаянии Венцель Марцел.
– Если селян убедить, что они под нашей защитой, вряд ли они станут покидать дома и бежать под стены города, – разумно заметил судья.
– Вот и отправляйся сегодня же к ним. Они послушают судью.
– А может, они еще и не знают о черной смерти, – пролепетал побледневший Перкель.
– Вот еще! – разозлился Венцель Марцел. – Об этом уже знают все птицы и звери в лесу. Что же делать? Что делать? Говорите!
– Я все сказал еще вчера, – насупившись, напомнил священник.
– Что ж, если городу нужно, я готов отправиться в путь, – неожиданно смело заявил судья Перкель.
Венцель Марцел с удивлением посмотрел на городского судью и немного успокоился.
– А ты что скажешь, палач?
Гудо, не поднимая головы, долго молчал. Потом он тяжело вздохнул и произнес:
– Если ничего не сделать, то уже завтра здесь будут многие тысячи. Надеюсь, мы сможем уговорить их несколько дней пожить в повозках здесь, на поляне. А большинство мужчин все же отправить на организацию карантинов…
– Вот-вот… И пусть сразу же строят виселицы, – вставил отец Марцио.
– …Одиноких беженцев и неорганизованные толпы можно легко остановить. Если у них не найдется такой же Альберт. Но на поляну нужно пропускать только тех, на ком нет признаков болезни. Людей нужно осмотреть.
– И кто же их осмотрит? Проклятый мальчишка Хорст заперся в своем доме и слышать ничего не желает, – печально произнес бюргермейстер.
– Я осмотрю, – с натугой выдавил палач. – Мне известны признаки этой болезни.
Судья Перкель неожиданно рассмеялся.
– Чтобы они позволили осмотреть себя палачу! Бред какой-то. А еще их жены, сестры. Дети, наконец.
Палач промолчал.
– А может, выдать палача за лекаря? – тихо предложил судья Перкель.
– Нет. Им известно, кто я, – отозвался Гудо.
– Вот задача, – вздохнув, пробормотал бюргермейстер. – И что теперь делать?
– Я поговорю с этим Альбертом, – после паузы предложил отец Марцио. – Слово Церкви – важное слово. Особенно в такие трагические дни. К тому же этот осмотр и им полезен, если они хотят жить.
* * *
– Он долго не соглашался, но мне удалось убедить его. Главное, что Альберт поверил в то, что я не только отпущу невольный грех, но и сниму проклятие, если даже палач прикоснется к кому-либо из них…
– А вы, святой отец, можете снять и проклятие? – спросил Венцель Марцел, вытирая лицо. Его большой платок уже давно был пропитан потом так, что хоть выжимай.
Отец Марцио с высоты своего роста надменно посмотрел на бюргермейстера и с гордостью ответил:
– На это меня благословил сам Папа Климент. К тому же отцы святой инквизиции дали подробные инструкции.
– А кто не пожелает пройти осмотр? – поинтересовался судья Перкель.
– Альберт должен своими силами изгнать непослушных. Такие нам не нужны. Ведь все это мы делаем только для них самих. Этот купчишка меня правильно понял и согласился всю неделю провести в поле. И, конечно, организовать карантины. Вот только виселицы они строить не умеют.
– Ничего. Город заплатит цеху столяров. Они покажут и научат, – уверенно произнес Венцель Марцел. – А мне сейчас нужно вернуться в город. Предстоит тяжелый разговор с советом и лучшими людьми Витинбурга. О Господи, помоги нашему городу пережить эти ужасные времена. Палач, не подведи. В твоих руках жизнь двух тысяч жителей города. Вернее, в твоем знании и понимании. Город отблагодарит тебя, когда это все закончится. Только бы все хорошо закончилось. Стража останется. Для порядка и присмотра. И пусть не ленятся, сразу же начинают ставить этот загон для осмотра. Доски возьмут на лесопильне.
– Это долго, – сказал Гудо. – Просто нужно вкопать несколько столбов и обтянуть их полотном.
– Да, да. Все равно никто его назад не возьмет. Придется покупать. Конопляный холст подойдет. И, Гудо, отправляйся сразу на северный карантин. А ты, Патрик, на южный. И чтобы ни одна мышь не проскочила. Ни одна птица не пролетела. А то головы поснимаю…
Венцель Марцел посмотрел на палача и покраснел. Насчет голов что-то не то сказал. Но не извиняться же. Затем он махнул рукой и поплелся в город, на стенах которого уже давно стояла едва ли не половина Витинбурга.
Ближе к полудню к назначенному месту в поле двинулись первые повозки. Впереди них шел мрачный Альберт, крепко сжимая в руках огромный меч. Он сразу же направился к палачу и, посмотрев на него с ненавистью и едва разжав губы, спросил:
– Как все это будет?
Гудо сбросил с головы капюшон и уставился на купца. Тот опустил глаза и примирительно повторил:
– Как будет?
– Первыми пройдут женщины с детьми. Мужчины пусть ждут в сотне шагов. До окончания осмотра женщин ни один мужчина не должен сдвинуться с места. Кто не послушается, пусть сразу же уходит…
– Такие уже ушли. Их было более тридцати. Более тридцати сильных и здоровых мужчин. Они бы очень пригодились, – печально сказал Альберт.
– Придут другие. Их будет много. Будешь отбирать лучших и надежных. У тебя есть семья? Она здесь?
– Моя семья – главная причина того, что я с тобой сейчас беседую. Жена, две дочери и годовалый внук. Еще брат с семьей. И некоторые родственники.
– Вот с твоей семьи и родственников и начнем.
Купец покраснел. Его дыхание участилось. Он опустил голову и положил вторую руку на рукоять меча.
– Ты прав. Пример должен подать я.
– Ты умный и благородный человек, – тихо произнес Гудо. – Все пройдет и забудется.
– Забудется? Это уж вряд ли. Ладно, что нам нужно делать?
– Видишь, вон там огорожены полотном три участка. В первом женщины должны раздеться…
– До полной наготы? – скрипнув зубами, уточнил Альберт.
– Как Ева в раю. В среднем участке буду я. Это не очень долго. Затем в третьем они оденутся. И там святой отец отпустит невольный грех. И помни, пока не пройдут осмотр все женщины и дети, мужчины должны оставаться на месте. За этим будет следить мой помощник Патрик. Все будут делать то, что я велю. Если что-то пойдет не так, я сразу же прекращу осмотр. Поверь, мне глубоко безразлично, убьет ли вас всех чума или нет. Ну, может быть, кроме нескольких человек в этом городе.
– Первыми будут моя жена и дочери, – вздохнув, сказал Альберт и направился к приближающимся повозкам.
Гудо стоял в углу огороженного холстом среднего участка и чувствовал, как в его душу вползает тень покойного мэтра Гальчини.
«Вот уж кому было бы весело, если бы он мог сейчас меня видеть, – думал палач. – Он бы хохотал до слез, до колик в животе, до судорог. Интересно, чему бы он больше веселился? Что безмозглое существо Гудо объявил себя спасителем людей или тому, что сам Гальчини сожрал, переварил и выложил на свет Божий подобие себя – без души, но с чувством превосходства, которое должны через боль прочувствовать другие? Или же… Что или?..»
Палач вздохнул, к горлу подступил комок. Его уже расстроил тихий женский плач в первом отгороженном участке и постоянно бормочущий молитву священник в третьем.
– Заходи! – едва сдерживая гнев, крикнул Гудо и чуть успокоился, когда святой отец прервал свою бесконечную молитву.
Приподняв холст, который служил вместо двери, вошла женщина, давно переступившая порог молодости. Она прижимала к обнаженному телу скомканную одежду и к тому же распустила свои длинные, наполовину седые волосы.
– Положи одежду на траву, – как можно мягче велел Гудо.
Женщина с ненавистью посмотрела на палача и бросила свои одеяния. В ее покрасневших глазах плавала огромная слеза, готовая в любое мгновение сорваться и покатиться по морщинистым щекам.
Гудо подошел к женщине.
– Покажи язык.
Женщина, сглотнув слюну, повиновалась.
«Язык без белого налета, губы без выраженной сухости, нагноений в глазах нет, лицо покраснело, но это, скорее всего, от стыда», – мысленно отметил палач.
– Подними руки…
«Уплотнений и покраснений под мышками нет. Здесь узлы мокрот в порядке».
– Расставь ноги…
Женщина сжалась в комок. Потом медленно подняла голову и прошептала:
– Будь ты проклят, человек с грязной душой. Гореть тебе в аду.
– Расставь! – Палач гневно посмотрел на нее.
Женщина вновь подчинилась.
«Здесь тоже нет видимых изменений. Правильно было бы еще прикоснуться ко лбу. Но старая ведьма еще бросится душить».
– Нет ли у тебя постоянной жажды?
Женщина мотнула головой, и слезы потекли по ее щекам.
– Хорошо. Спокойно ли ты спала эту ночь?
Опять только утвердительный кивок.
– Нет ли у тебя болей в животе и не больно ли тебе мочиться?
– Нет, – выдавила женщина и зашлась в тихом плаче.
– Проходи, там тебя ждет священник.
– Проходи, там тебя ждет священник…
«Наверное, это уже сотая женщина. Проще, конечно, с детьми. А вот как будет с мужчинами? Кто знает, не припасли ли они для меня острый нож. Но, может, не сегодня…»
– Следующая!
После долгого молчания в участок шагнул Альберт.
– Это уже все женщины и дети. Мужчин осталось семьдесят два.
– Что ж, до захода солнца все это закончится.
– Я побуду здесь с тобой?
Гудо почувствовал, как к его сердцу подкатила теплая волна.
«А он хороший человек, этот купец. Может, он действительно желает мне добра? Или он не желает зла от одного из своих, который может погубить всех? Пусть остается. Ему тоже полезно кое-что узнать о признаках черной болезни. Пусть расскажет их другим. Это пригодится, особенно в карантине. Хотя зачем это в карантине? Нужно просто угрозой смерти всех отгонять, не давая подойти ближе чем на десять шагов».
– Ладно, оставайся, только сначала я тебя осмотрю.
Осмотр мужчин проходил намного быстрее. В отличие от женщин они не проклинали палача, не желали ему скорейшей смерти и не грозили пламенем ада. Они просто испепеляли его гневными взглядами и сердито отфыркивались. Направляясь к священнику, они уже знали, что было здесь с их женщинами, и Гудо слышал, как несколько мужчин разрыдались, горячо нашептывая святому отцу о своем горестном возмущении и неизбывном теперь стыде.
Но отец Марцио за долгие годы церковной службы с великим мастерством находил правильные слова утешения и вразумления. И Гудо, проклиная себя за то, что взялся помочь этим совсем чужим людям, порадовался, что рядом с ним оказался такой нужный и сведущий человек.
Наверное, после пятого десятка зашел он. Гудо сразу же узнал этого маленького человечка. Сомнений не было: это был купец из Мюнстера, Арнульф.
Он дрожал и заикался и, когда его осмотр закончился, вытер пот со лба и перекрестился.
Гудо склонился к его уху и как можно тише, чтобы не слышал Альберт, шепнул:
– Жди меня невдалеке.
Арнульф содрогнулся и со страхом посмотрел на ужасное лицо палача. Потом он обреченно кивнул и, подхватив свои одежды, вошел к священнику.
Теперь Гудо ускорил осмотр. Ему не терпелось переговорить с маленьким человечком. Он уже едва мог оставаться по-прежнему внимательным. В его голове все настойчивее всплывали два важных для него образа.
А они часто виделись ему в последние месяцы. Гудо гнал эти видения с небывалой решимостью и убежденностью. И ему удавалось, ибо это было правильно. Но сейчас, в день, когда смерть постучалась в двери, он уже был не в силах выбросить из головы мысли о беззащитных созданиях. Тревога и волнение за их жизни сжимали сердце.
Гудо едва дождался, когда последний вошедший мужчина, испепелив его взглядом, ушел. Помедлив, палач направился к священнику.
Отец Марцио, завидев палача, слабо улыбнулся. Длительные молитвы и утешения совсем изнурили его. Лицо и руки его были покрыты потом, а губы едва двигались.
– Это все, палач?
Гудо кивнул.
– Значит, все эти люди здоровы?
– Здоровыми всех не назовешь. У многих заболевание кожи, сухость в легких, различные травмы и повреждения. Но явных признаков чумы я не обнаружил. Через два дня нужно повторить осмотр. И тогда все станет ясно.
Священник замахал на него руками, но быстро успокоился.
– Наверное, ты прав. Только как им об этом сказать? Ну ничего, что-нибудь придумаем. Тебе нужно отдохнуть. А уж мне тем более…
Гудо снова кивнул и покинул священника.
Осмотревшись, палач увидел сидящего на траве Арнульфа и сразу же подошел к нему. Маленький человечек в страхе вскочил на ноги и уставился в страшное лицо господина в синих одеждах.
– Я хочу спросить тебя об Аделе и ее дочери.
Арнульф облегченно выдохнул и еще пристальнее посмотрел на палача.
– Я не видел твоего лица, но запомнил твое большое тело. Это ты тот путник, что не велел называть себя добрым человеком.
Гудо усмехнулся.
– Вот это да-а-а, – протянул маленький купец и закатил глаза. – Ты, наверное, желаешь узнать, отдавал ли я им те деньги, что ты велел?
– Я знаю, ты поступил по-честному. Когда ты их видел в последний раз?
– Я понимаю, о чем ты хочешь спросить. Последний раз я проезжал возле их дома три недели назад. Они были веселы и счастливы. На твои деньги Адела завела корову и несколько овечек. А еще домашнюю птицу. Так что все у них было хорошо. Но…
– Говори. – Гудо сжал плечо купца.
– Пусти, мне больно. Я ничего сейчас о них не знаю. Но поговаривают, что чума перелетела черный лес, и, скорее всего, они уже мертвы.
– Нет. Господь не может так жестоко поступить. Не может! – вскрикнул палач. Стоявшие неподалеку люди с опаской посмотрели на него и отошли на несколько шагов.
Гудо огляделся вокруг, затем поднял лицо к небу. Он почувствовал, как сжимается сердце.
– Где твоя повозка? – Палач снова сжал плечо Арнульфа.
Купец поморщился от боли и махнул рукой в сторону леса.
– Там.
Гудо отпустил маленького человечка и вытащил из тайного кармана три золотые монеты.
– Это тебе за повозку и коня. Когда вернусь, они опять будут твоими.
– Вернешься ли… – Арнульф с сомнением покачал головой.
– Вернусь, – твердо сказал палач.
– Ты можешь сократить путь. С половины пути на Мюнстер сверни вправо. Там есть лесная дорога. Она ведет к черному лесу. Перед ним еще раз направо. А там, если что, спросишь. Хотя… Если будет, у кого спрашивать.
Гудо похлопал по плечу купца и побежал к повозке. Нырнув под навес, он стал сбрасывать на траву все, что было в ней. Затем он сильно хлестнул лошадь и заставил ее сразу же перейти на бег.
– Бедная лошадка, – с грустью произнес Арнульф. – Что с тобой будет…
* * *
Лошадь уже перестала чувствовать боль и заметно сбавила ход. Гудо посмотрел на бесполезный хлыст в своей руке и тихо завыл. Ему хотелось спрыгнуть с повозки и дальше продолжить путь бегом. Пока хватит сил. А что потом? Нет, нужно успокоиться и поступать правильно. Только так можно добиться победы. Горячка смешивает мысли и заставляет ошибаться. А ему сейчас никак нельзя делать ошибки. Ведь от него зависит жизнь двух людей, самых дорогих людей.
Он понял это сейчас, когда осознал, что может потерять их навсегда. Если уже не потерял. Может, они лежат мертвыми у порога своего дома и их прекрасные глаза устремлены в небеса. Туда, где сейчас их души.
Нет… Нет…
Они не могут умереть. Не может судьба быть вечно против него. Ведь должна и она отдыхать от постоянного издевательства над ничтожным человеком.
А что, если Адела ушла, как и многие, в поисках мест, куда еще не добралась проклятая старуха-чума? И тогда Гудо никогда не увидит и не узнает, что с ними и как сложилась их жизнь. Но все же это лучше. Пусть он просто не застанет женщину и ребенка дома. Это много лучше, чем увидеть их неподвижные глаза и прикоснуться к их холодным телам.
А что ждет Аделу и дочь в пути? Маленьких слабых созданий среди тысяч озлобленных и отчаявшихся людей… Их может обидеть и оскорбить любой. А еще найдутся такие, что покусятся на их тело и, насытившись, бросят умирать среди лесной чащобы или болота. Ведь именно туда стремятся многие. Подальше от себе подобных. Вглубь непроходимых лесов. В надежде, что чужой человек не придет к ним и не принесет с собой ужасную и неотвратимую смерть. Только очень скоро и эти умрут. Умрут от неминуемого голода в диком лесу. Или тот же голод выгонит их из укромных мест и бросит на дороги, по которым едва бредет множество таких же изголодавшихся людей, готовых на все ради того, чтобы удовлетворить его величество собственный желудок.
И сколько же их – покинувших родные дома в малейшей надежде убежать от чумы?
Гудо даже не смотрел в сторону тех, кто, скорчившись, лежал у обочины дороги или протягивал к нему в безмолвной просьбе скрюченные руки. Их были десятки, сотни. Столько же брело навстречу друг другу, ничего не видя и ничего уже не воспринимая.
Дважды палач видел, как волки рвали клыками мертвые тела. Они выхватывали вкуснейшее мясо и бежали к следующему телу. Они ласкали друг друга окровавленными языками, ибо никогда в жизни не были так дружны и беззаботно веселы. Никогда у серых разбойников не было такого изобилия пищи. Они с ленцой провожали взглядом шатающихся людей. Эти не стоили никаких усилий. Ведь не пройдя и пятидесяти шагов, люди валились с ног и, еще не оказавшись во власти смерти, были вспороты волчьими клыками. И волки, вылакав горячую кровь и наспех ухватив горячую утробу, спешили к другим жертвам легкой охоты.
«Пить, пить, пить…» – завидев повозку издалека, просили эти несчастные. И при ее приближении десятки рук тянулись к палачу. А другие десятки хватались за гриву лошади, борта повозки и вращающиеся колеса.
Гудо вытащил меч и вначале легко, а затем обозлившись, бил по этим протянутым рукам плашмя. Ему еще хватало сил отталкивать ногами тех, кто пытался взобраться на повозку. Но не было никакой жалости и возможности придержать лошадь, когда она копытами давила тела тех, кто распростерся на дороге.
Лошадь уже совсем выбилась из сил, и палач был вынужден соскочить с повозки и, взяв поводья, тянуть ее со всей чудовищной силой. Теперь он шел впереди повозки, грозно взмахивая мечом. Человек рычал по-звериному на каждого, кто делал шаг к нему!
Но не все встреченные им путники были больны и обессилены голодом и лишениями. Уже на выезде из Черного леса, оказавшись в полной власти ночи, Гудо увидел огромный костер. Острые языки пламени под звуки лютни, свирели и барабана весело взлетали до самых небес. А вокруг костра плясали десятки обнаженных мужчин и женщин, прерываясь лишь для того, чтобы отпить очередной глоток вина или вонзиться зубами в последний в их жизни окорок. Тут и там, не стесняясь и не боясь ока Господнего, они совокуплялись попарно или вповалку, визжа и хохоча от безумного восторга. Восторга последних мгновений жизни, осчастливленных плотским удовольствием.
Гудо миновал огненный шабаш и вынужден был остановиться. Ночь смешала деревья, кусты, дорогу и закрытые тучами небеса.
Палач пал на колени и молил ангелов, святых и угодников, чтобы они, вопреки воле Господа, раз и навсегда установившего ночь и день, как можно скорее даровали рассвет. Или святостью своей указали путь в этом море липкой темноты. А еще он просил силы небесные воздвигнуть каменный забор до самых небес, чтобы ни чума, ни озверевшие люди не смогли обидеть двух беззащитных существ, подобных ангелам, ибо красивее и чище их господин в синих одеждах не видывал и знал точно – таких нет. И в этих непрерывных просьбах палач впервые назвал маленькую Грету дочерью. Это должно было придать весомости его словам. Но чем чаще он называл девочку дочерью, тем все более глубоко входило в него осознание того, что он отец. А значит, теперь он не одинокий и презираемый всеми палач, а отец семейства.
У него есть семья! И он – глава этой семьи. Теперь он будет жить с пониманием того, что его жизнь необходима, важна и стоит того, чтобы слышать поутру детский смех и добрые слова женщины. Как он этого не понимал? И почему? Неужели должно было произойти это огромное несчастье, чтобы разбудить, а скорее оживить то человеческое, что все же было в его душе.
Наконец небо посерело и своей свинцовой тяжестью начало выдавливать проклятую темень. Теперь уже можно было различить деревья, а главное – стала видна узкая дорога.
Когда он выбрался из леса, было уже светло. Через поля и луга на дорогу выходили поодиночке и группами люди. Они спешили к дороге и, попав на нее, крестились, как будто пыльный путь обязательно вел к спасению.
Гудо несколько раз хватал за грудки встречных, но спросить у них что-либо было невозможно. Люди или плакали, или смеялись ему в лицо. Другие падали на колени и просили найти и спасти своих детей, которых они потеряли, сами того не заметив. Но большинство просили, как величайшую милость, краюху хлеба и глоток воды.
И Гудо повезло.
Хотя нет, он так не считал. Это было Божьим позволением. Милостью Господа за все те годы, когда Всевышний или наказывал его, или не обращал на него внимания. Но все же Господь смилостивился и вывел палача к тем нескольким домикам, что навсегда врезались в память Гудо.
Палач направил свою повозку к хозяйству, которое искал, и стиснул зубы.
Из дверей домика Аделы выглянул оборванец и громко крикнул:
– Эй, где вы там? У меня хорошенькая селяночка и девочка. Ну, просто ягодки. Ох, и повеселимся. Они еще шевелятся. Эй, поспешите…
Из соседнего дома не спеша вышли еще два разбойника с узлами отобранного добра в руках. Они засмеялись и направились на зов.
– Уходите! – громко крикнул Гудо и потряс мечом.
Разбойники остановились и удивленно посмотрели на него.
– Чего ты? Тут на всех хватит. Бери – не хочу. Уже ничего и никому не нужно. Смотри.
Гудо оглянулся и увидел несколько неподвижных тел, застывших там, где их настигла смерть.
– Я убью вас раньше, чем ваших тел коснется черная смерть, – грозно произнес палач и, подняв меч, шагнул к разбойникам.
– Глупец, бери все. Зачем тебе наши жизни? Они не стоят взмаха твоего меча. Живи сейчас. Завтра уже не будет! – вскричал тот, что стоял у дверей домика, но, увидев приближающегося к нему мужчину, бросился в сторону леса.
За ним, подхватив узлы с добром, поспешили и двое его приятелей.
Гудо вложил меч в ножны и вошел в дом.
Его Адела стояла на коленях, прижимая к себе свое дитя. В ее вытянутой руке холодно блестел нож. Лицо женщины было направлено к двери, но ее глаза были закрыты.
Палач крепко сжал губы и медленно подошел к женщине. Как можно нежнее он взял ее за руку и освободил от ножа.
Он сразу же почувствовал, как горит кожа Аделы.
– Нет, так не должно быть. Этого не может случиться! – вскрикнул Гудо.
Этот крик привел в чувство несчастную женщину. Адела с трудом подняла веки.
У нее не было сил кричать. Только губы, ее чувственные губы, раскрылись в желании издать крик ужаса, но его не последовало. В это мгновение болезнь отступила, ибо более ужасное овладело несчастной женщиной.
Она увидела дьявола! Она узнала его, будучи уже почти мертвой. И в этом не приходилось сомневаться. Очень часто, едва ли не каждую ночь, это исчадие ада приходило к ней в образе крылатого демона, похищающего ее дочь, и опять, опять и опять насилующее ее пропащее тело. И сейчас он стоял в свете проема двери с опущенными крыльями и чудовищно огромной головой. Было только странно, что крылья, трепещущие на ветру, походили на полы длинного плаща.
Адела уже ничего не могла сделать. Даже вонзить нож в тело Греты, а затем полоснуть себя по горлу. Единственное, на что ее хватило, так это на поток слез, горьких и кипящих.
А демон вырвал из ее руки нож, это последнее средство противостояния, а затем отнял самое дорогое, что было в ее жизни…
Гудо чувствовал, что нужно говорить, говорить много и как можно нежнее. Но никогда не испытанное чувство крепко сжало его горло и надавило на грудь. Он только и мог, что бесконечно повторять:
– Я здесь… Я здесь… Я здесь…
Палач сильно укусил себя за руку. Острая боль освежила голову. Затем он несколько раз ударил себя по щекам.
– Вот так. Они живы. Теперь все будет хорошо.
Почувствовав возвращение сил, Гудо стал действовать. Он вырвал девочку из объятий матери и, перевернув, схватил за ноги. Туника скользнула вниз, обнажив худенькие ножки. Палач взглянул между ног и увидел шишкообразные наросты на внутренних сторонах маленьких бедер. Он тихо застонал:
– Бубоны, проклятые бубоны…
Да, эти красные опухлости, в центре которых уже просматривалась синева, не оставляли сомнения в том, что в теле девочки поселилась чума.
– Возьми меня. Убей меня. Проклятый демон, будь ты проклят. Не дай увидеть, как ты надругаешься над ребенком. Гори в аду, – тихо завыла женщина и попыталась подняться на ноги.
Гудо мельком взглянул на обезумевшую женщину и одним рывком сорвал с девочки одежду. Затем он осторожно положил ребенка на глиняный пол и принялся за женщину.
Его сильные руки ухватились за надплечники платья и с силой рванули. Куски одежды остались в руках палача, а женщина обреченно рухнула к его ногам.
Гудо сбросил с себя свой огромный плащ и разорвал его надвое. В одну половину он закутал девочку, в другую завернул бесчувственное тело Аделы.
– Я спасу вас. Бог мне в этом поможет. Он поможет. Ты ведь поможешь, Господи?!
* * *
Отдохнувшая за ночь лошадь, изведавшая на своем крупе жесткую и тяжелую руку погонщика, лихо мчалась, оставляя позади лесные мили. До обеда с перерывами шел дождь. Он прибил пыль и освежил лес. На ветвях деревьев покачивались птицы и звонко щебетали, занятые своими обычными заботами. Им не было дела до того, что творилось на грешной земле. Их охраняли небеса. Они это знали. Вот только не могли представить себе, что через полгода лишь немногие из них переживут зиму и опять поднимутся на крыло. Почти все птицы будут выловлены и съедены обезумевшими от голода людьми. Теми, что наслаждались их пением и высоким полетом.
Теперь Гудо хорошо знал дорогу и управлялся с лошадью так, чтобы она тянула повозку скоро, но без лишней тряски. Он часто поглядывал внутрь повозки, где лежали связанные Адела и ее дочь. На его голове и плечах был надет старый мешок, оставшийся на дне повозки маленького купца, а теперь разрезанный по шву и заменявший ему капюшон.
Палач был вынужден связать своих дорогих девочек. Женщина, находясь в бреду, все же несколько раз ссаживала с задка повозки маленькую Грету и тут же пыталась перевалиться через бортик и свалиться на дорогу. В последний раз Адела проделала это очень быстро. Эта вспышка сил опечалила Гудо. Значит, болезнь уже проникла глубоко. Ведь такое возбуждение у больных чумой появляется тогда, когда кровь несчастных загрязнилась.
Чтобы больше не останавливаться и не переносить Аделу и дочь вновь в повозку, Гудо был вынужден связать их ноги и руки ремешками, которые всегда были при нем. И как это было ни больно, он подчинился своему разуму, понимая, что так нужно.
А еще палач понимал, что необходимо поговорить с Аделой. Успокоить ее, все объяснить. Рассказать многое. О том, как он прожил последние одиннадцать лет. Как он живет сейчас. А главное, сказать, что он уже давно не тот чудовищный демон, каким она его видела и каким еще более свирепым и кровожадным сделала в своих страхах и видениях. Нет, он уже не такой. Ведь он помогает людям. Нужно рассказать о тех, кого Гудо вылечил в Витинбурге, кому помог словом и даже деньгами. Как он участвовал во вчерашнем осмотре. Ведь этот осмотр был проведен на пользу людям.
А то, что было, давно прошло. Конечно, этого нельзя забыть, но нужно видеть и понимать день сегодняшний. Сегодня необходимо просто выжить, вылечиться. И только Гудо способен сделать для этого что-то правильное. Ведь он четко помнил, перелистывая книги Гальчини из черного мешка, страшные слова о черной болезни и читал о том, как с ней бороться. Да и сам мэтр, приступая к науке о болезнях человеческих, в первую очередь поведал о страшнейшей из них – черном море – ЧУМЕ!
Это болезнь прикосновения. Она таится в мехах животных, перьях птиц и одежде человека. Только поэтому Гудо сорвал с женщины и девочки их одежды. А когда все образуется, когда Адела и Грета будут здоровы и веселы, он и пальцем не прикоснется к ним. Но до этого времени нужно потерпеть и даже пострадать, ибо он будет вынужден причинить им боль. А сейчас они спешат к домику палача, где есть почти все, что нужно для лечения и ухода. Только потерпите, милые и дорогие, потерпите…
Все это нужно было сказать. Потому что его слова хоть немного, но успокоили бы Аделу и дочь. Даже если они обессилены болезнью и почти ничего не понимают. Но…
Гудо всю дорогу молчал. Сначала он не мог подобрать правильных слов, а потом, найдя их, не смог быть убедительным. Совсем запутавшись в своих мыслях, он разозлился и счел, что лучше молчать. Может, его голос еще более пугает несчастных. Ведь сейчас они успокоились. Во всяком случае, перестали выть и плакать. Особенно маленькая Грета. Она очень долго просила воды, но Гудо не мог напоить дочь. Он выбросил все имущество маленького купца вместе с кувшинами и бутылками. О воде палач и не подумал.
Лишь далеко за полдень сквозь частокол стволов он разглядел серебряное блюдце маленького озерка. К нему нельзя было подъехать, поэтому пришлось на руках отнести дочь, а затем и Аделу, чтобы они смогли утолить жажду, особенно жестокую в теле, в котором властвует чума.
О карантине Гудо вспомнил уже под вечер, когда до его домика оставалось не более пяти миль. Где-то здесь, уже недалеко, должен быть выставлен вооруженный дозор с непременной виселицей. И хотя повозку палача вряд ли решатся обыскивать, Гудо решил все же поостеречься.
Он остановил лошадь и, с большой ловкостью орудуя мечом, нарубил множество веток – и сухих, и с листвой. Затем он как можно строже велел Аделе и дочери лежать тихо, потому что демоны смерти где-то близко. Они вряд ли поняли смысл его слов, но голос заставил их крепко молчать. Гудо печально покачал головой и тщательно укрыл их хворостом.
Альберт сдержал свое слово. Его люди уже перекрыли дорогу, а рядом установили несколько шалашей из мохнатых сосновых веток. Здесь же разожгли костры, над которыми висели медные котелки. У самой дороги два витинбургских плотника заканчивали простенькую виселицу.
– Стой! – заорал высокий рыжебородый мужчина и, поигрывая топором с длинной рукоятью, стал подходить к повозке.
Не дойдя шагов пять, он остановился и, сощурившись, уставился на сбросившего с головы мешок палача.
Гудо придержал лошадь. Повозка медленно проехала мимо выстроившихся по обеим сторонам дороги дозорных.
– Палач, что у тебя в повозке? – поинтересовался рыжебородый.
Гудо громко, чтобы слышали все, сказал:
– Это хворост. На нем будет сожжен тот, кто пропустит хоть одного заболевшего чумой.
Рыжебородый заглянул в повозку и отшатнулся.
Гудо хлестнул лошадь. Теперь нужно было торопиться.
В первых сумерках палач добрался до своего домика. Его никто не остановил, никто ни о чем не спросил. Город уже запер ворота. На его стенах и башнях было втрое больше факелов, а значит, и людей, чем в былое время.
Лагерь Альберта стянул повозки в круг и выставил дозорных с факелами.
Гудо перенес в дом свой бесценный груз и уложил женщину и ребенка в свою постель.
– Ну, вот вы и дома. То есть я хотел сказать, что здесь вы в безопасности… Сейчас я вас напою. Простите меня, пока я не могу вас развязать. Простите.
Первым делом он набросил на себя старый плащ и натянул на голову спасительный капюшон. Затем Гудо натаскал в дом хвороста и быстро развел огонь. После палач бегом отправился к запруде за чистой водой. Этой водой он напоил Аделу и дочь. Немного отдохнув, палач еще раз сходил за водой и поставил котелок на огонь. Затем Гудо вытащил все свечи, что у него имелись, и зажег их на столе и у кровати.
– Вы пока отдыхайте, а мне нужно кое-что посмотреть…
Хозяин дома открыл свой тайник и вытащил черный кожаный мешок. Перебрав книги, он схватил самую толстую из них и поспешил к столу.
«Так, это должно быть здесь. Я уверен. Я здесь это видел. Отвар полыни с чабрецом. Это от пьянства… А эти настои от болезней печени… Кишечник… Жаропонижающие… Противовоспалительные. А вот и то, что нужно. Но вначале…»
Гудо отправился к своим полочкам и долго перебирал настойки, сухие травы и связанные корешки. Потом он отобрал нужное и бросил в закипающий котелок. Одной рукой помешивая варево, другой он держал книгу и беззвучно шевелил губами.
– А этого у меня нет! – громко воскликнул Гудо и выругался.
Скосив взгляд на испуганно смотревших на него женщину и девочку, он прикусил губу. Хотя они вряд ли что сейчас видели и слышали. Они уже были в бреду.
– Ничего, ничего… Это мы заменим. Думаю, чистотел будет в самый раз. И паутины у меня с избытком. Ромашка, горькая полынь или чернобыльник… Эстрагон… А этот минерал? И этот? Пусть так. Сушеная кожа саламандры… А это что такое? О Господи! Только бы Гальчини и его братья рыцари не ошибались. Только бы это помогло…
Гудо положил книгу на стол и снял с пламени котелок.
– Пусть немного остынет. Да не смотрите вы на меня так. Если Господу будет угодно забрать вас к себе, то, по крайней мере, я похороню вас по-человечески. Но этого не случится. Верьте мне. Я знаю, сейчас ваши тела горят и кости ломит, но нужно потерпеть. Выпейте этого отвара, и ваша боль притупится.
Палач подошел и сел на край кровати. Он поднес котелок к губам Аделы, но та отвернулась.
– Я говорю, пей. Ты же хочешь, чтобы твоя дочь выжила? Покажи ей пример, пусть и она выпьет. Умереть всегда успеешь. Нужно попробовать выжить. Пей! Иначе выбью зубы и вставлю лейку. Пей.
Женщина заплакала и, обжигаясь о края горячего котелка, стала отхлебывать парующий отвар.
– Ничего, ничего. Чуть обожгла губы. Это ничего. Ожоги скоро пройдут. Отвар нужно пить очень горячим. А для девочки я немного подую, остужу. Немного. Ей тоже необходимо горячее… Чтобы потом было легче перенести…
Гудо не договорил. Заставив Аделу отпить половину котелка, он подтащил к себе девочку. Грета была уже настолько слаба, что почти не сопротивлялась. К тому же ее руки и ноги по-прежнему оставались крепко связанными.
– Скажи ей, чтобы открыла рот и все это выпила, – велел палач и грозно посмотрел на Аделу.
– Пей, доченька. Нам уже недолго осталось мучиться, – неожиданно ласково и вполне осмысленно произнесла женщина и отвернулась.
– Вот так, хорошо. Пей, пей… Ну вот, молодец. А теперь немного отдохните. Если сможете, усните. Я должен приготовить еще один отвар и смешать несколько настоек. Отдохните, пока я все приготовлю. Скоро я вас развяжу. Скоро все закончится. Все самое болезненное.
Гудо наполнил котелок водой и вновь поставил его на огонь. Несмотря на пламя, он так и не сбросил плащ и даже не снял капюшон с головы. Не мог он обнажить свое лицо перед той, которая и без того уже почти переступила порог смерти.
Палач полностью погрузился в чтение книги.
Время от времени он что-то бормотал, соглашался и сам с собою спорил. Вскакивал и начинал ходить из угла в угол. Потом застывал у своих полок с баночками, бутылочками, коробочками и обнюхивал их. Наконец он взял бронзовую чашу и стал ступой растирать то, что положил в нее. Покончив с этим, мужчина приготовил травы и соцветия. Затем тщательно и с небывалым терпением собрал всю паутину, что в изобилии свисала с потолка и стен.
Часть отобранного палач бросил в котелок, другую – в кувшин из прозрачного стекла, в котором находилась какая-то жидкость.
– Кажется, готово, – выдохнул Гудо и освободил стол от всего лишнего. – Ну что ж, моя девочка, начнем с тебя. Ты не бойся. Хотя я знаю, что это больно. Пережив боль сегодня, ты будешь жить завтра и еще многие, многие годы.
В его руке оказался тонкий острый нож и длинный металлический прут, чуть приплюснутый на конце. Этот приплюснутый конец Гудо сунул в огонь и над огнем же прокалил свой нож.
– Приступим, как любил говорить Гальчини. Он говорил это весело.
Ученик мэтра Гальчини подошел к кровати и тяжело вздохнул. И девочка, и ее мать после выпитого настоя крепко спали.
– Это хорошо. Но нужно сделать и другое.
Он поднял на руки Грету и положил ее маленькое тело на дощатый стол.
– Тебе не будет очень больно. Твой отец все сделает быстро. А ты не будешь кричать и плакать. Хотя ты этого и не желаешь, но ты дочь палача.
Палач развязал девочке ноги и широко раздвинул. Затем он перекрестился и прочел короткую молитву.
Его тонкий нож вошел в чумной бубон возле паха и вскрыл опухлость. Густая черная кровь вышла из раны. Девочка тут же очнулась и заплакала. Но затем, увидев занесенный над ней раскаленный добела прут, громко закричала.
– О Господь милосердный. Господь справедливый, покарай своей молнией этого демона. Или ослепи меня, залей свинцом уши, умертви меня…
Гудо печально посмотрел на произносившую эти слова женщину, которая тоже очнулась, и не придумал ничего другого, как сказать:
– Когда я закончу с девочкой, я прижгу и твои бубоны. Так нужно. Поверь. Придется потерпеть…
Глава 14
Уже наступило утро, когда Гудо доварил кашу и поставил котелок на стол. Несмотря на то что палач уже около двух дней ничего не ел, он не испытывал особенного голода и сон не одолел его. До сих пор в его теле не ощущалось никаких признаков болезни или слабости. Но Гудо не исключал того, что чума могла проникнуть и в него. Согласно учению Гальчини явные признаки чумы появляются на третий, а то и на четвертый день. Внезапно жар охватывает все тело, начинает сильно болеть голова, появляется тошнота и рвота, на языке образуется белый налет, краснеют лицо и глаза, болят мышцы и возникает такое чувство, будто ты выполз из ужасной драки, где тебе порядком досталось.
Окончив вскрытие и прижигание бубонов у Аделы и дочери, Гудо силой заставил их выпить то, что сам назвал волшебным зельем Гальчини. Назвал потому, что оно должно быть таким. Если оно не является таковым, то в последнее мгновение жизни Гудо назовет его иначе – скорее всего, ядом Гальчини.
Но пока он верил, очень верил в волшебство своего учителя и в вековую мудрость рыцарей тамплиеров, которые начали борьбу с чумой еще несколько веков назад, столкнувшись с ней на дорогах, ведущих в святую землю Иерусалима.
Веря в это зелье, Гудо и сам допил то, что не поместилось в телах дорогих ему Аделы и Греты. Может быть, этим он отпугнет болезнь или выставит надежный щит против ее атаки.
Но все же для поддержания сил нужно было съесть хотя бы немного каши. У него есть хлеб, правда черствый, и несколько кружков колбасы. А еще немного сыра, овощей и большая корзина яблок. Хорошо, что у него образовался запас пищи. Значит, Бог предупредил его об этом необходимом действии. Но надолго ли этого хватит? Ведь когда его девочки поправятся, им нужно будет много еды, причем еды хорошей.
А еще им нужна одежда и обувь. И, конечно же, игрушки для маленькой Греты. Игрушки он сделает сам. Он придумает и сделает много интересных и даже забавных игрушек. Таких, каких и у детей императора никогда не бывало. Веселые, разноцветные, они будут сами двигаться и вращаться. И Грета будет улыбаться и смеяться.
Может, она даже улыбнется и ему – ее отцу! Может, скажет доброе, ласковое слово…
Но пока, кроме проклятий, он ничего не слышал от своих славных девочек. А в глазах дорогих ему людей он видел лишь жгучую ненависть и желание скорейшей смерти. Для них он демон, прилетевший исполнить чудовищное предназначение.
Но это пока. Они узнают, кто он, и он будет добр к ним и терпелив. Он отдаст им все, что накопил за этот год. Да что там… Он отдаст всего себя. А если такой он им не нужен, то Гудо станет другим – добрым, внимательным и даже угодливым. Он сможет, это нетрудно, когда очень хочешь понравиться.
А если этого не случится, если они не поймут и не простят… Что ж… он все равно будет где-то рядом и, невидимый и неслышимый, будет заботиться о них. Заботиться и оберегать от всех бед и несчастий. Они должны быть счастливыми, и жизнь должна стать для них постоянным праздником.
Нужно только поправиться, а дальше все будет хорошо.
Гудо подошел к кровати и наклонился. Измученные болезнью и причиненной палачом болью, они, хотя и тревожно, но спали.
Еще начиная лечение, Гудо решил, что если они доживут до утра, значит, Господь позволил им остаться в живых. Значит, болезнь приостановилась. Вот только бы она не проникла в его, Гудо, тело. Тогда все будет значительно сложнее.
Пусть девочки еще немного поспят. А ему нужно приготовить соляной раствор и раздобыть немного свежей крови. Лучше, конечно, свиной. На этой смеси Гудо приготовит новое зелье и попробует его на себе. Именно это зелье, как указано в книге, убивает чуму. Вот только почему-то состав его написан сложно, а в некоторых местах – и таинственными знаками. Получалось, что нужна чужая кровь, едва ли не слуги дьявола. Свинью часто воспринимают как животное сатаны. И даже некоторых демонов изображают с рылом свиньи. Так что свиная кровь, наверное, то, что нужно. И эта кровь должна бродить и созревать в закрытом сосуде. Затем в этот сосуд следует пустить посланников ангелов, которые победят то, что родит нечистая кровь. И эта победа посланников ангелов изгонит чуму. Уж очень сложно и непонятно для Гудо. Как бы он хотел, чтобы Гальчини оказался сейчас – хотя бы на несколько мгновений – здесь, в доме палача. За это Гудо готов был отдать несколько лет жизни. А может, и саму душу дьяволу, только бы тот отпустил мэтра и отдал его в руки господина в синих одеждах.
А уж тогда бы Гудо сумел выведать всю правду об этом спасительном зелье, как бы ни повел себя Гальчини. В его руках даже тень, прибывшая из ада, заговорила бы и во всем созналась бы. Ведь так велико желание господина в синих одеждах искупить свой грех и подарить его девочкам вторую жизнь. Для этого он готов на все.
А может, это и не понадобится. Ведь подарил Господь ему Аделу и Грету. Может, это означает, что он простил великие грехи Гудо? И теперь, в продолжение своей великой милости, Бог защитит и его, и девочек от проклятой болезни. Как бы это было прекрасно! Тогда можно начинать новую жизнь.
Гудо присел за стол и усмехнулся. Но усмешка вышла горькой. Новая жизнь среди тысяч смертей – это звучало смело.
Как хорошо, что в своих тревожных заботах город позабыл о нем. Вот уже приближался полдень, но палача никто не звал. Даже Патрик не явился спросить, где пропадал Гудо столько времени. И это просто здорово. Совсем не нужно никому, даже Патрику, знать, что в доме палача находятся двое больных черной чумой. Люди глупы, а напуганные – безумны. Кто знает, уж не захотят ли они выгнать Аделу и Грету в ужас рушащегося мира. А может произойти и совсем страшное. И запылает домик палача. Ведь он не позволит выгнать дорогих ему людей навстречу смерти. Он будет защищать их до последнего вздоха. И он убьет, убьет каждого, кто посмеет прикоснуться к его девочкам. Лучше уж он сгорит вместе с ними в очищающем огне. Вместе.
Гудо показалось, что Адела застонала и склонила голову. Он тут же вскочил и подошел к кровати. Нет. Она еще не пришла в себя.
Гудо посмотрел на своих девочек и улыбнулся. Они спят, они останавливают болезнь. А ему можно сходить в город и прикупить кое-что необходимое. Он успеет еще до того, как они откроют глаза. Они не уйдут. Им некуда идти. Да и уж очень слабы их тела. Хотя они уже и свободны. Опротивевшие даже самому палачу ремешки валялись у кровати. И не уйдут же они, обернувшись в обрывки плаща палача.
Ах да, плащ. Старый плащ не годился для господина в синих одеждах. Что ж, пока можно обойтись и без плаща. Дни стоят жаркие. И кто еще на этой земле не имел неудовольствия увидеть его безобразное лицо? Можно, конечно, надеть и старый плащ. Но есть ли в этом необходимость?
Достав из тайника пригоршню золотых и серебряных монет и сунув в мешок пустые кувшины и бутылки, Гудо еще раз посмотрел на своих девочек и вышел за дверь.
В лагере Альберта мирно клубились многочисленные дымы. Люди, по-видимому, подчиняясь строгому приказу, не выходили за круг своих повозок. Только несколько крепких парней с мечами на ремнях таскали с запруды большие котелки воды. Их-то и попросил палач отдать лошадь и повозку купцу Арнульфу.
После этого Гудо направился к городским воротам. Непривычно было видеть то, что ворота в дневной час были закрыты и перед ними не торчали стражники, не разгуливали парочки, покрикивая на шустрых детей.
Его заметили еще издали и приоткрыли одну половинку ворот. Стражники пытались с безразличием смотреть на палача города, но дрожь в руках не оставляла сомнений, что страх сегодняшнего дня проник глубоко в их сердца. Каждая перемена в это мгновение вызывала у них чувство беспокойства. И каждое непонятное движение – необъяснимый страх.
– Что там, палач? – робко спросил один из стражников.
– Все хорошо, – неожиданно для себя ответил Гудо.
Стражники переглянулись и с недоумением посмотрели на удаляющегося палача. Они еще не видели его без привычного плаща и натянутого на лицо капюшона.
Улицы были пустынны. Горожане в предчувствии чего-то ужасного не покидали своих жилищ. Даже дети не носились в своих постоянных играх. Только привычно бродили тощие козы и грязные свиньи копались в уличных отбросах.
Гудо сразу же направился к Ратуше. Если и были какие-то новости, то, скорее всего, о них можно было узнать там. К тому же за время его отсутствия в нем могла возникнуть потребность. Это тоже нужно было узнать.
На Ратушной площади Гудо, к своему удивлению, обнаружил множество дров, сложенных в пирамиды, а также почти все доски и балки, которые за последний месяц произвела лесопильня.
Здесь же, на ступенях Ратуши, стоял бюргермейстер в окружении известных в городе людей. Но вопреки обычаю он молчал и внимательно слушал. А говорил лекарь Хорст:
– Чума, иначе называемая «черный мор», происходит обычно от черного колдовства, и с ветром зараза переносится из одного места в другое. Болезнь эта скоротечна и очень заразна. Более всего бедствий приносит она городам, где люди живут тесно. Если в округе начался черный мор, надлежит, прежде всего, отделить больных от здоровых и стараться, чтобы как можно меньше народу соприкасалось с заболевшими. Случается, что у человека достает жизненной силы, чтобы одолеть чуму и он безо всяких лекарств, хотя и ценою страшных мук, выздоравливает. Поэтому нужно поддерживать силы заболевших и надеяться на счастливый жребий. А дабы зараза не распространялась, вокруг места, где собраны больные, следует жечь костры, и все, кто выходит оттуда, должны между тех костров проходить и окуриваться их дымом. Еще черный мор случается от мертвого тела, которое не похоронили. Когда оно начинает разлагаться и гнить, то испускает миазмы, разносимые ветром. Поскольку мы не можем покинуть город, то его нужно изолировать. Не допускать никого из чужаков. И хорошо бы в эти трудные дни не ходить в гости и в харчевни. Уже сегодня мы начнем жечь костры для очистки воздуха. Кто знает, может быть, ветер успел занести в город заразу. Это все, что касается улиц и площадей. А в доме каждый бюргер должен окурить помещения смолистыми веществами. И почаще вдыхайте пары сожженной селитры.
А если, не приведи Господь, чума все же проникнет в ваш дом, не подходите близко к больному. Подавайте ему пищу и воду на длинных шестах. И сразу же поставьте у кровати несчастного блюдце с молоком. Молоко тоже очищает отравленный воздух. Надеюсь, уже все умертвили своих кошек и котов, этих слуг дьявола, которые на своей шерсти приносят болезнь…
Многие из тех, кто слушал лекаря, согласно закивали.
– Вот и хорошо. Мы должны пережить это тяжелое время. Господь не оставит нас. Мы будем денно и нощно возносить к нему свои молитвы. Я правильно говорю, отец Марцио?
Стоящий возле бюргермейстера священник возвел руки к небесам.
– Господь милосердный, спаси и сохрани нас! Братья и сестры, ваши молитвы – это ваше спасение. Молитесь и днем и ночью. Молитесь с чистым сердцем и открытой душой…
Гудо протиснулся к бюргермейстеру и стал рядом с ним. Венцель Марцел грустно посмотрел на городского палача и ничего ему не сказал. Облегченно вздохнув, Гудо решил, что пора выбираться из толпы. У него было сегодня очень много дел.
* * *
Гудо с волнением в сердце распахнул дверь своего домика. Нет, они не ушли. Да и не могли уйти. Для этого его девочки были очень слабы. Да и куда бежать без одежды, денег… Остаться без крыши над головой, среди властвующего повсюду черного мора?
Все, на что хватило их сил, были слезы. Гудо укутался в плащ и посмотрел на своих девочек.
Они лежали, крепко обнявшись, и плакали. Жалость кошачьей лапкой сдавила горло палача, потом скользнула по сердцу и уселась где-то глубоко в печени.
Гудо положил возле кровати мешки, корзины и лыковые короба. Не понимая почему, он вдруг ощутил дрожь в ногах и небывалую усталость.
«Неужто болезнь добралась-таки до меня? Господь не может этого позволить. Нужно готовить зелье тамплиеров. Оно обязательно поможет. Только бы все правильно понять. Думай, думай, Гудо… У тебя такая большая голова. Такой чудовищно огромной головы больше ни у кого нет. Я буду думать и молиться всю ночь. Все время, пока мои дорогие девочки будут спать. Им хорошо спится после зелья Гальчини. Спасибо тебе, злой и добрый Гальчини…»
Низко опустив голову, Гудо немного посидел за столом. Нужно встать и говорить с ними. Ведь слезы забирают силу. А они ох как нужны.
Палач встал и подошел к принесенным вещам. Пытаясь не показывать из-под капюшона своего лица ни Аделе, ни дочери, он опустился на колени и начал выкладывать на пол все, что было куплено сегодня. Придавая доброты голосу, Гудо говорил медленно и очень тихо:
– Вам еще больно. Я знаю. Те раны, которые я прижег, перестанут болеть к вечеру. Сейчас посмотрим, что у нас есть, и я приготовлю снадобье. От него вам станет лучше. Через несколько дней вы поправитесь. А пока нужно спокойно лежать, много есть и пить то, что я приготовлю. Вот посмотрите. Это замечательный кусок окорока, самый большой, что был у колбасника Рута. Еще я купил у него отличные колбасы и большой круг сальтисона. А в этой бутылочке свиная кровь. Она почти такая же, как человеческая. Эта кровь нам поможет. Но это вам неинтересно. А вот смотрите, я купил тебе, женщина, красивое платье. Оно из фламандской шерсти. Проклятый портной долго не соглашался продавать платье, но я убедил его. Я умею убеждать. А еще он едва не плакал, когда уступил мне платьице для девочки. Из этих кусков материи мы сами сошьем все, что вам нужно. Но что было самым сложным, так это найти у башмачников готовые туфельки. И для тебя, Адела, и для тебя, крошка Грета. Теперь у вас есть что надеть и в чем выйти. Дни еще теплые и солнечные…
Гудо не сразу понял, что произошло. И только чуть приподняв голову, он заметил напуганные и побледневшие лица женщины и ее дочери. Гудо крепко сжал веки. Не нужно было называть их по именам.
– Нет, нет… Вы не подумайте, что я дьявол и знаю ваши имена. Нет. Мне сказали ваши добрые соседи. И я не прилетел на крыльях ночных мышей, чтобы похитить вас… Нет… Я просто проезжал мимо. И случайно зашел. Я могу лечить… И поэтому пожалел вас и привез к себе. У меня вам будет хорошо. Пищи хватает. Вода в запруде свежая. Не та, что раньше текла из-под стен города. Одежда у вас уже есть. Вот одеяло из козьей шерсти. А это горшок. Ночной горшок. Ну и дневной тоже. А то, что сейчас кровать в этом самом… Ну… Я это сейчас уберу и положу другие покрывала. А вот, смотрите, я еще много чего принес. Но это потом. Сейчас я вас покормлю. Чтобы поправиться, нужно много есть.
Гудо принес на доске сваренную утром и уже застывшую кашу, предварительно порезав ее на маленькие кусочки. На каждом кусочке каши лежали пластины розового окорока и душистого овечьего сыра. Все это он протянул женщине.
Однако Адела, крепко обняв девочку, отвернулась от пищи. Палач нахмурился, но при этом как можно ласковее произнес:
– Ешь, Адела. Ты должна показать пример дочери. Если вы не будете есть, то до утра Грета может и не дожить. Ты же не хочешь, чтобы твоя единственная дочь умерла на твоих руках. Помоги ей, помоги себе, помоги мне… У меня много дел. Постарайся ее покормить сама. Мне еще нужно подумать, как сделать снадобье. Я пойду за водой.
Гудо поднял с пола купленный сегодня медный котелок, побольше того, что был у него, и шагнул к двери. Задержавшись у двери, он сказал, четко выговаривая каждое слово:
– Вы можете уйти, когда пожелаете. Но за порогом этого дома вас ждут ужасные испытания, скорее всего, смерть. Тот, кто спасает жизнь человека, не может быть дьяволом или демоном.
Гудо вернулся скоро. Он разжег очаг и поставил греть воду. Его девочки лежали, повернувшись к нему спиной. Адела что-то очень тихо нашептывала дочери. Доска лежала на краю кровати. Все, что он положил на нее, было съедено. Палач усмехнулся и, налив в чашу свежего молока, поднес женщине.
– Нужно пить молоко, – сказал он. – В нем для человека большая польза.
Адела повернулась и, все еще не смея взглянуть в лицо своему лекарю, протянула руку. Палач улыбнулся и вложил в нее чашу.
– Отдыхайте. Я пока займусь книгами. Может, я что-нибудь пропустил или неправильно понял. А еще мне нужно подумать. Это не мешает, это помогает. Вы живы, значит, снадобье Гальчини приостанавливает болезнь. Отдыхайте.
Гудо широко открыл дверь и подтащил к ней стол. При дневном свете читать было намного приятнее и полезнее. Палач перелистал все книги и пересмотрел все пергаментные свитки, но о проклятой болезни нашел только три страницы. И из этих трех страниц последнюю, как и ранее, он не смог до конца понять. Теперь он читал медленно, слово за словом, часто возвращаясь к началу предложения, а то и всего отрывка. Значения некоторых слов, а также знаков он, как и прежде, не понял и поэтому решил поискать их в других текстах. И только уже в полночь Гудо решил, что сумел познать смысл написанного. Свиная кровь в этом зелье ни при чем.
Осознав то, что ему предстояло, господин в синих одеждах застонал. Тихо, чтобы не разбудить своих девочек. Застонал, а потом почувствовал, как пот покрывает его лицо. Холодный пот страха. Каждая его мышца задрожала, а стук сердца колоколом отозвался в голове.
Гудо вспомнил все свои волнения, что были связаны с его искалеченной рукой. И даже то, как он примерялся маленьким топором отсечь себе руку. И тогда ему было страшно. Но этот страх не шел ни в какое сравнение с тем страхом, что охватил его сейчас. О, сколько же он видел смертей на своем веку! Сколько слышал криков пытаемых и последних всхлипов умирающих. И крики, и всхлипы – это страх. Страх перед болью и наступающей за ней смертью.
Гудо увидел приближающуюся смерть. Но он не будет ни кричать, ни всхлипывать. Просто его девочки сейчас спят. Их не нужно тревожить. До утра.
Гудо и сам не заметил, как уснул. Он только на мгновение положил голову на руки, лежащие на столе. И этого оказалось достаточно, чтобы провалиться в глубокий сон.
А под утро из глубин сознания вдруг вынырнули картинки и стали выстраиваться в определенной очередности. В этом сне Гудо увидел себя капельками крови. Нет, не капельками, а мельчайшими точками. Много, много Гудо… А еще больше едва заметных злых демонов, многоруких и беспрерывно атакующих. По два, по три на одного крошечного Гудо. И демоны были воинственны и до ужаса свирепы. Многие Гудо уже исчезли, пораженные теми топорами, мечами и копьями, которыми были вооружены беснующиеся слуги дьявола. И тогда Гудо взмолился. Он попросил у Господа дождя, и не просто дождя, а дождя из святой воды. И Господь явил свою милость. Каждая капля хлынувшего дождя была посланником ангелов. Они метали в демонов острые стрелы и копья, и каждое из них попадало точно в цель. Демоны корчились от боли и гибли во множестве, пока их вовсе не осталось.
А Гудо смеялся и радовался тому, что сумел выжить. А еще больше тому, что Господь смилостивился над ним и защитил его святой водой, состоящей из посланников ангелов. Дождь еще не прекратился. На радостях Гудо подставил лицо, и жизнеутверждающая жидкость вошла в него. Он попробовал ее на вкус и в то же мгновение проснулся.
Палач удивленно осмотрелся. Он все еще был за столом у открытой двери. На кровати в наступающем утреннем свете тихо спали его дорогие девочки. Они еще были живы. Они и будут живы. Живы, потому что теперь Гудо точно знал вкус божественного дождя. Теперь он наконец-то понял, из чего складывался вкус того зелья, что спасет их от страшной болезни. А главное – ему было известно, как приготовить это зелье.
* * *
– Я принес свежего молока, пейте. А потом вы покушаете яблок. Это лучшие яблоки, которые тут растут. Дайте я посмотрю…
Гудо осторожно снял с женщины и ее дочери покрывало. Адела тут же покраснела и укрыла руками свои женские места. По примеру матери поступила и дочь.
– Я должен убедиться, что моя мазь успокоила ожоги и на их месте нет воспалений, – как можно мягче произнес палач. – Я не сделаю вам ничего плохого. Закройте глаза и поднимите руки. Вот так, хорошо. Теперь откройте ноги. Хотя бы немного. Ладно, и так хорошо. Все у вас хорошо. А теперь я положу на ваши лица руку. Я хочу убедиться, что жар покидает ваши тела. Хорошо, хорошо, отворачивайтесь. Я уже убрал свою руку. Видите, даже вечером жар не такой изнуряющий. Еще два-три дня, и вы встанете на ноги. Я почти приготовил то снадобье, что нас спасет… Я еще подумаю, как его назвать. А теперь пейте молоко…
Вечерело.
Гудо поднял ночную вазу и вышел с ней за порог. Он вдохнул полной грудью и ощутил прилив сил. На небе уже появилась луна и стала зажигать звездные точки.
«Сегодня все случится. Никакой страх меня не остановит…»
Гудо выплеснул содержимое вазы и вытер ее пучком травы.
«Сегодня ночью я могу смело заснуть, ничего не опасаясь. Это будет хороший и приятный сон».
Гудо согласно кивнул и вернулся в дом. Не снимая капюшона, он долго смотрел на своих девочек, а те со страхом взирали на него. Наконец он решился.
Палач подошел к кровати и быстро схватил Грету. Ее мать только успела вскрикнуть. На этот крик у нее ушли все силы. Их не осталось даже на то, чтобы поползти за чудовищем, схватившим ее ребенка. Она только услышала, как закричала Грета, и тут же зашлась в плаче.
Адела зарыдала. От бессилия и обреченности. Она продолжала плакать и тогда, когда это чудовище в синем плаще, скрывающее половину своего лица огромным капюшоном, принесло ее дочь. На запястье левой руки Греты была чистая повязка с маленькой каплей просочившейся крови.
«Демон пил кровь моей девочки», – сразу же поняла Адела и потеряла сознание.
Адела очнулась от разрывающего горло желания пить. Возле кровати стояла зажженная свеча, и в ее мерцающем свете к ее губам спасительная рука поднесла кружку с теплой горьковатой жидкостью. Плохо понимая, что она делает, женщина с жадностью выпила содержимое кружки и опять погрузилась в беспамятство.
Она и сама не знала, сколько времени находилась в плену вязкой черноты, но ощущала, что то, в чем она находилась, было теплым и подвижным. Время от времени эта чернота сползала с век и ее глаза приоткрывались. Но лишь затем, чтобы увидеть протянутую к ней руку со спасительной кружкой жидкости и успеть заметить, что ее Грета рядом, что она тихо и спокойно спит.
Так, погружаясь в вязкое озеро черноты, Адела иногда приподнимала голову над его волнами. Только вместо воздуха она глотала то, что было в кружке возле кровати, или то, что протягивала чья-то рука. Однажды она ощутила на своих губах тепло человеческой кожи. Только кожа была рассечена и из нее выливалась соленая и горячая кровь. Но Адела и кровь восприняла как спасительную влагу, способную хотя бы ненадолго утолить ее иссушающую жажду.
Но ничто не длится вечно. Чернота постепенно отпустила Аделу. Да и горло уже не сжимала железная рука жажды. Однако тело все еще было слабым от неимоверной усталости, а вялые мышцы едва повиновались проснувшемуся мозгу.
С трудом протянув руку, Адела нащупала тельце дочери. Слава Господу, девочка была рядом, а ее грудь приподнималась и опускалась, как и у всякого, кто пребывает в здоровом сне. Так, положив руку на грудь Грете, женщина и пролежала, пока в распахнутую дверь не заглянули первые лучи солнца. Веселая игра солнечных бликов заставила Аделу медленно повернуть голову и осмотреть жилище. Она тяжело вздохнула. Здесь живет демон. А самое ужасное то, что она слышала беспокойное дыхание и прерывистый храп на полу у кровати.
Он здесь. Всего лишь на расстоянии вытянутой руки. А значит, рядом с ее дочерью. Но Адела больше не позволит исчадию ада пить кровь ее девочки. Она собственными руками задушит мучителя.
С огромным трудом женщина повернулась на бок. Еще некоторое время понадобилось ей, чтобы набраться храбрости взглянуть в лицо этого чудовища. «Я должна спасти дочь», – твердо решила Адела и почувствовала, как эта внутренняя твердость заставила ее напрячь мышцы.
Она приподнялась и взглянула…
Мужчина лежал на спине, на старом тощем матрасе. В беспокойном сне его плащ оказался под ним, так что огромный капюшон сполз с лица…
Это был не демон. Это было еще страшнее и печальнее.
Адела узнала своего насильника… И отца Греты!
О, сколько лет прожила она, так и не сумев вытравить из своего сердца чудовищный лик этого негодяя! Тысячи и тысячи раз она воображала, как вонзает в это лицо огромный нож. В глаза, рот, щеки, лоб. Она даже ощущала струи проклятой крови, фонтанирующей из ран. И теперь Господь предоставил ей эту возможность. К тому же Адела увидела лежащий рядом с телом этого чудовища короткий меч.
Осталось только дотянуться до него и заставить свои руки окрепнуть настолько, чтобы проткнуть ненавистное лицо до самого мозга.
Мужчина застонал и с трудом пошевелил рукой. Адела замерла и с удивлением уставилась на эту руку. По самый локоть она была перевязана. Но перевязана неудачно, так как во многих местах на полотне проступили большие пятна крови. Страшная догадка пронзила мозг женщины. Этот непонятный человек поил ее своей кровью! И если ее, то, значит, и маленькую Грету. Но девочка спит спокойным сном. Да и в теле самой Аделы нет уже тех разрывающих болей, что так ее мучили.
И все же ее рука потянулась за мечом…
* * *
Гудо открыл глаза, и тут же склонившееся над ним женское лицо исчезло. По скрипу кровати он понял – Адела вглядывалась в его ужасные черты. Что за мысли были в этот миг в ее прекрасной голове? Добрые или… Может, она хотела поблагодарить за свое чудесное спасение? А может, присматривала место на шее, куда повернее всадить острый меч?
В углу еще теплился очаг. Над ним висели несколько колечек колбасы и свежий окорок, которые он надеялся спасти от семейства крыс.
«Надо завтра купить каплунов или гуся. Жирная пища теперь им полезна. А еще немного вина. И, возможно, что-нибудь для Аделы. Интересно, что бы ее больше всего порадовало? Нужно было бы спросить у Патрика. Он все знает о тайнах женской души. Вот только интересно, куда это мой помощник запропастился? Уже который день, как он и носа не показывает. Совсем от рук отбился. Чем же он так занят? Обо мне все забыли. Наверное, все же Господь простил меня. Как все хорошо! Хорошо, что у девочек новый, набитый шерстью матрац. На нем им удобно. Ах да! – встрепенулся Гудо. – Скоро Грета уже сможет подняться. Ей нужны какие-то игрушки. Завтра… Завтра утром я за них возьмусь. И с чем любят играть девочки? Да и не такая уж она и маленькая. Сколько ей? Одиннадцать? Десять? О, годы, годы…»
Гудо еще долго ворочался, заставляя замирать сердце Аделы, но так и не придумал, какой игрушкой можно порадовать дочь.
«Ах, если бы Патрик был рядом. Он бы подсказал. И где его дьявол носит? Ему можно было бы поведать об этих днях. И, может быть, о зелье тамплиеров. Особенно о том, как я в нем разобрался. Нужно в собственный сосуд собрать дьявольскую кровь. То есть отравить себя чумой. И потом в этот же сосуд ввести зелье. Нет. Основу зелья. А само зелье – это кровь. Моя кровь спасла их и меня же. Гальчини, я шагаю рядом с твоей мудростью. Но теперь она у меня собственная».
Палач медленно поднялся. Он уже не прятал лицо. Отойдя на несколько шагов, он тихо сказал:
– Адела, мне нужно пойти в город. Не выходите за дверь. Вы еще слабы, и… Может случиться беда. Хотя ты вольна поступать, как тебе хочется. Теперь вы здоровы. Я думаю, ты уже можешь встать и сама накормить дочь. Все, что в этом доме, – это ваше. Только то, что на полках, не трогайте. Там есть такое, что опасно для человека.
Адела, отвернувшись к стене, молчала. Палач покачал головой и закрыл за собой дверь.
Прежде чем отправиться в город, Гудо завернул в лагерь Альберта.
Несмотря на утренний час, жизнь в лагере кипела. Мужчины раскладывали костры, носили воду. Женщины покрикивали на детишек и пересматривали свои запасы. Со стороны леса у лагеря стояли несколько повозок местных селян. Пользуясь такой замечательной возможностью, они привезли в лагерь продукты на продажу. К повозкам были привязаны овцы и даже годовалый теленок. К повозкам селян еще никто не приблизился, но они были уверены, что у них все купят, и поэтому вели себя с большим достоинством.
Немного подумав, Гудо решил не входить на территорию лагеря, а посидев в задумчивости на холме пару часов, отправился в город. И если еще несколько дней назад ворота распахивали при его приближении, то сегодня пришлось постоять. Наконец створка вздрогнула и приоткрылась. Показавшийся стражник едва кивнул ему:
– Заходи…
Гудо протиснулся в узкий проем и с удивлением уставился на городского воина.
– Что-то произошло?
Стражник огляделся и тихо сказал:
– Вчера несколько семей наших богачей выехали со всем своим имуществом. Бюргермейстер велел держать ворота закрытыми. А ночью многие спускались по веревкам. Бегут бюргеры. Не верят, что город устоит против чумы. На север бегут, за императором. Может, и правильно делают, а, палач? Говорят, сегодня утром старая Эрми вынесла на рынок паршивого цыпленка, а попросила цену хорошего гуся.
Гудо ничего не ответил. Он пожалел, что не взял с собой деньги. В трясущемся от страха городе все стало стремительно дорожать. Да и денег у палача оставалось не так уж много. Теперь нужно покупать только необходимое. И в первую очередь, травы, минералы и настойки для его зелья… которому он еще не придумал название.
Но прежде Гудо решил отправиться в Ратушу. Раньше он так и поступал. Лишь в последние несколько дней он обходил и саму Ратушу, и ее площадь.
Эти последние дни стали самыми страшными и тревожными в его жизни. Но теперь они позади. Болезнь утихла и скоро совсем исчезнет. А когда не будет угрозы жизни ни ему самому, ни его девочкам, Гудо сможет назвать себя самым счастливым человеком на земле. Только бы карантины выдержали и не подвели. При первых же холодах чума пойдет на спад, если совсем не отступится.
Гудо вошел в здание Ратуши. Коридоры и залы, всегда полные народа, были удивительно пусты, и поэтому шаги палача звонко разносились по всем уголкам и лестницам. Немного побродив, он решил заглянуть в зал заседаний.
Из обычных заседателей в зале сидело не более одной десятой. Перед ними держал слово купец Альберт, но обращался он к восседавшему в своем бюргермейстерском кресле Венцелю Марцелу:
– Мы ничего в дополнение не просим. Всего лишь то, о чем мы договаривались. Нашим женщинам и детям нужна крыша над головой. Не сегодня-завтра пойдут дожди. Что же нам, мокнуть и болеть? Да, у нас пока все есть. И вода, и продуктов почти на две недели. Но мы не можем оставаться без поддержки города. Тем более, что ваши селяне уже предлагают нам продукты по высоким ценам. А что они будут с нас просить, когда у наших жен и детей не станет еды? Город должен позаботиться об этом. Ведь мы защищаем не только сам город, но и этих жадных селян. Примите решение. Правильное решение. Это не только наша беда, она общая. Так почему бы городу не послать несколько десятков мужчин на карантины? Мои люди смогли бы немного побыть с семьями, да и для нашей дружбы это полезно. Мы не рвемся в город. Тем более что его ворота уже крепко захлопнуты. Но мы просим рассмотреть все те просьбы, о которых я упомянул. И как можно скорее.
Альберт умолк и оглядел присутствующих. Так же внимательно посмотрел на них и Венцель Марцел. Особенно на судью Перкеля и отца Марцио.
– Если больше вопросов к совету нет, можешь идти, Альберт. Мы сообщим свое решение. – Бюргермейстер махнул ему на прощание рукой и подождал, пока он выйдет за дверь. – И что же вы, умные головы, посоветуете? Молчите?
– Но ведь впустили же наши бюргеры в свои жилища некоторых флагеллантов… – робко заметил судья Перкель. – А люди Альберта тоже христиане.
– Да, это так. Но сейчас наши бюргеры напуганы и никогда на это не согласятся, – мрачно заметил Венцель Марцел.
– Нужно с ними поговорить, – подал голос отец Марцио.
– Вот и говорите. А пока, я думаю, ворота нужно открыть. Пусть селяне и дальше торгуют на рыночной площади. Пусть те, у кого поджилки трясутся, бегут. Нам от них пользы не будет. А может, и легче станет. Сколько у города продовольствия? На какой срок его хватит? Думайте, думайте, как быть дальше. И я пойду думать. У меня еще есть немного мяса и круп. А что будет дальше? Я вас спрашиваю! Пусть старейшины проведут собрания в своих цехах. Завтра мы заслушаем всех, кто пожелает сказать что-либо полезное.
Венцель Марцел встал и направился к двери. Здесь он увидел палача и остановился.
– С каждым днем все больше и больше забот. Проклятая чума. Проклятое время.
– Нужно продержаться до холодов, – спокойно произнес Гудо.
– Да, до холодов… Продержаться. А как с этим народом продержишься? Бегут из города. Вот в их жилища я и впущу пришлых людей. Может, тогда и станет полегче.
– Захотят ли они тогда выходить на карантин?
– Тоже интересно… Послушай, палач, что-то в тебе не так. Ты здоров?
– Здоров. И думаю, что смогу помочь, если кто-нибудь заболеет этой проклятой чумой, – слабо улыбнувшись, сказал Гудо.
– Ну-ну. Наш палач – сам Господь Бог. А мы трезвоним в колокола и молимся. Знаешь что, палач, наведайся-ка ты к могильщикам. Пусть они на всякий случай роют ямы. И пусть не ленятся. Пошире и поглубже.
– А для меня нет какой-либо работы? – с надеждой спросил палач.
– Ее всю забрала чума.
– Бюргермейстер, а вы не подскажете, где Патрик?
– Нет, не знаю. Возможно, тоже побежал на север. Пусть все бегут. И я побегу. Там и построю новый Витинбург и заселю его умными и трудолюбивыми бюргерами. Я понял, что в тебе не так. Без плаща и своего капюшона ты выглядишь… как-то странно.
* * *
Венцель Марцел пил вино и улыбался.
Все горестное и печальное осталось за порогом его дома. А здесь, утонув в любимом кресле, с чашей чудесного рейнского вина он предавался сладостным мечтам. Ведь не вечно же будет чума пожирать людей. Насытится и уйдет прочь, за моря, в дикие степи и пустыни. И тогда наступят радостные и счастливые дни.
Будет работать лесопильня, и множество ценного распила принесет бюргермейстеру груды серебра и золота. Потом они построят еще одну… Нет, две лесопильни. Леса хватит на многие годы. Селяне будут рубить его за сущие медяки, поскольку, освободив от деревьев новые участки, они получат места для будущей распашки. И это тоже польза для города и Венцеля Марцела. Ведь новые пашни дадут зерно. А вот его-то и можно будет молоть на мельнице, которую ниже по течению канала устроит бюргермейстер.
Можно еще что-нибудь придумать. Если не он сам это сделает, то палач. Как странно – в такой чудовищной голове и такие здравые мысли.
И за это спасибо дочери. Ведь именно она настояла на том, чтобы покалеченный Гудо отправился с ними в Витинбург. В сущности, с этого Гудо и начались хорошие дни и для города, и для самого Венцеля Марцела.
Спасибо Эльве. Она притягивает удачу. А может, и счастье. Как же иначе. Кому как не прекрасной девушке притягивать столь изменчивое человеческое счастье. Это позже она станет всем озабоченной женщиной, а затем и сварливой старухой. Благо, что отец до этого события не доживет. А сейчас Венцель Марцел улыбался. Он был счастлив. Счастлив тем, что судьба дала ему в руки еще один источник, фонтанирующий золотом и серебром. И бюргермейстер уже заранее задумал, как использует это неожиданное пополнение. Хотя за него еще нужно побороться.
Хотя о чем это он? О какой борьбе? Все происходит по воле Божьей!
Венцель Марцел отпил вина и стал ритмично покачивать головой. И хотя он не был знатоком музыки и совсем не чувствовал ритма, музыка доставляла ему огромное удовольствие. Его дочь играла на лютне и божественным голоском пела какую-то старую и добрую балладу.
Не зря. Ох, не зря Венцель Марцел пять лет назад нанял странствующего миннезингера. Тот, правда, ел за двоих и мог выпить бочку пива, но свою музыку и стишки о благородных рыцарях и прекрасных дамах исполнял с удивительным мастерством. Этому он и обучил тогда еще маленькую Эльву. И хотя Венцелю Марцелу было жалко тратиться на эти благородные развлечения и на долгое обучение, сейчас он был счастлив, что все же переборол свою врожденную скупость. Да, как чарующе играет дочь! А как мило поет! Кто перед этим устоит? Наверное, даже сам император пал бы к ногам Эльвы, а не только какой-то барон Гюстев фон Бирк. Или теперь его называть графом? Нет, пока ему не стоит знать о привалившем счастье – о том, что он стал владельцем замков и земель. Пусть пока слушает балладу о благородном рыцаре Роланде, павшем в битве с сарацинами, сладостную пастораль[64] о страстной любви пастуха и пастушки или простенькую сельскую песенку о полях и лугах.
Он должен отдать свое сердце милой Эльве, а ее отцу – возможность правильно распорядиться наследством умершего графа.
Вот только бы не выплыла на поверхность пропавшая невеста. Пропала, так и пропала. Чего ей выплывать? И зачем? Ведь несколько дней после того, как молодой рыцарь пришел в себя, Венцель Марцел и вторивший ему лекарь Хорст убеждали барона, что он действительно видел у костра свою невесту Имму. Падшую невесту. Только сошедшая с ума могла прибиться к флагеллантам, только омерзительная грешница могла участвовать в свальном грехе, что устраивался еженощно, только наказанная Господом могла впустить в себя смертельную болезнь – сифилис. Это подтвердил лекарь Хорст. Он сам осматривал сектантов и был убежден, что все те, кто грешил в ночных оргиях, были больны этой второй после проказы страшнейшей болезнью.
Впрочем, многие лекари при любых сомнениях приговаривали больного к сифилису, следуя правилу «In dubio suspice luem»[65].
Да и где искать эту невесту? Тем более среди океана чумы. И зачем? Чтобы коснуться прогнившего тела и не иметь наследника?
И пусть молодой рыцарь несколько дней проплакал и не хотел никого видеть. Это прошло. Ведь рядом, ничего не желая и не навязываясь, все же была Эльва. А как она ухаживала за раненым рыцарем! Кормила его из белых ручек, меняла ему повязки и даже выносила за ним ночную вазу. Постепенно молодые разговорились. И вот уже второй день из спальни доносится сладкий голосок милой Эльвы. Она читает ему поучительные книги, поет и просто беседует. Уже несколько раз раздавался веселый смех Гюстева. А после того, как он согласился принять горячую ванну, Венцель Марцел твердо убедился, что рыцарь готов пойти на все, о чем попросит его спасительница.
Очень скоро барон (или все же лучше граф?) не сможет обходиться без нее. И тогда он падет ей в ноги.
А Венцель Марцел? О, он будет рад. Какой добрый отец не желает счастья своей дочери? Да и самому себе.
– Отец! Смотри, отец!
Бюргермейстер едва не поперхнулся вином, услышав громкий возглас дочери. Он тут же поспешил на ее голос и увидел Эльву и молодого рыцаря, спускающихся по лестнице под руку.
– Отец, наш гость уже твердо стоит на ногах. Он почти здоров, – со счастливой улыбкой сообщила девушка.
– И это только благодаря вам, – тоже улыбаясь, сказал фон Бирк, который не отрывал глаз от своей спасительницы. Хотя благодарность относилась и к самому бюргермейстеру.
– Хвала Господу, дети мои… – Лицо Венцеля Марцела светилось от счастья. Особенно ему были приятны собственные слова «дети мои».
– А почему непрерывно звонит колокол? – спросил молодой рыцарь.
– Так ведь чума… – бюргермейстер развел руками.
– Да, проклятая чума. Наверное, мне придется надолго задержаться у вас.
– Если угодно Господу, то и на всю жизнь. – Венцель Марцел засмеялся и подмигнул дочери.
Эльва смутилась и прикрыла лицо ладонью.
Гюстев взял ее руку в свою и с нежностью поцеловал.
– А теперь можно выпить и вина! – воскликнул счастливый отец.
Глава 15
Гудо потрогал свой синий плащ. Ткань была еще влажной, хотя за ночь должна была высохнуть. Палач присмотрелся и еще раз убедился, что пятна крови за две стирки почти полностью исчезли. Этой ночью он почти час полоскал и мял его руками. И хотя плащ несколько утратил свой цвет, теперь он был чист и от крови, и от чумы.
Адела и дочь только что закончили обед и запили еду кувшином молока. Теперь уже женщина могла вставать и помогать Гудо готовить пищу. Она даже несколько раз посмотрела ему в лицо, и палачу показалось, что гнев и страх в ее глазах исчезли. Или, во всяком случае, где-то глубоко спрятались.
Она даже попыталась усмехнуться, когда Гудо сказал, что рад тому, что платья как нельзя лучше подошли и Аделе, и Грете. Правда, туфельки оказались немного велики. Но это не страшно. Будут еще и другие, к зиме. Когда же у дочери вырастет ножка, можно будет подобрать сапожки.
Гудо сел за стол и взял в руки иглу и тонкую шерстяную нить. Он облизал конец нити и, выставив ушко иглы на просвет, попытался протянуть через нее нить. Конечно же, с первого раза ничего не получилось. Палач посмотрел на свои грубые руки и криво улыбнулся.
Адела, повозившись у очага, села рядом с дочерью на кровать и, подперев голову руками, уставилась на хозяина дома.
– Мы уже здоровы?
Гудо вздрогнул, и нить опять прошла мимо ушка. Она говорила с ним. Говорила!
Палач отложил швейные принадлежности и попытался по-доброму улыбнуться.
– Уже прошло десять дней, как вы в этом доме. Если за это время вы не умерли, значит, здоровы.
Она не продолжила беседу. И Гудо не знал, что сказать. Поэтому, выждав некоторое время, он опять взялся за иглу.
– Как мне называть тебя? – опять спросила Адела.
– Гудо. Мое имя Гудо, – с волнением произнес палач и почувствовал, как в его руках появилась дрожь.
– Я помню тебя, – в голосе женщины опять зазвучала печаль.
Гудо вздохнул.
– Ты помнила другого человека. Того уже нет. Освободи свою душу и сердце.
– Ты спас нас. А что с теми, кто жил с нами?
– Они все мертвы. Чума никого не щадит.
– Значит, мы с Гретой остались одни. – По щекам женщины потекли слезы.
– Нет, нет! – горячо воскликнул палач и тут же осекся. – Главное, что вы живы.
– Я просила Бога и добрых ангелов, чтобы они убили тебя…
– Таких просьб было много. Но Господь продлил мою жизнь, чтобы я спас ваши.
– Нам нечем тебя отблагодарить, – вздохнув, сказала Адела.
– Лучшей благодарности, чем та, что вы рядом, мне и не нужно…
Гудо почувствовал, как его грудь стала наполняться волнением. Он поднялся и, прихватив нож и тонкую дощечку, вышел из дома.
Палач быстро взобрался на холм и долго сидел, опустив голову. Тысячи мыслей и сотни разрозненных воспоминаний едва умещались в его огромной голове. Безумные глаза голодного отца, пьяный хохот наемников, скрежет оружия на поле битвы, рыдающая девчонка под ним, холодный голос Гальчини, люди, казненные и подвергнутые пыткам, бюргермейстер, Эльва, Патрик, лесопильня, изнуренные флагелланты – все это перемешалось, заставив сердце бешено биться, а мысли лихорадочно метаться.
– Все! Стоп! – громко воскликнул Гудо, проваливаясь в темную пропасть подсознания.
Когда палач почувствовал, что разум, сердце и душа освободились от печальных гостей, он был немало удивлен. Ему казалось, что он долгое время лежал в беспамятстве. Но это было не так. А может, и так. Все, что терзало его изнутри, на некоторое время покинуло тело, хотя само тело жило. Мало того, теперь он держал в руке выструганный меч, а на его коленках было много стружки и щепок.
Удивленный и даже обеспокоенный случившимся, Гудо поднялся и осмотрелся. День близился к концу. В лагере Альберта, как всегда, дымили костры. Гулявшие за стенами города горожане спешили к закрывающимся воротам. Птицы возвращались в гнезда, а где-то в глубине леса трубил олень.
Гудо словно с похмелья поплелся домой. В голове звенело от пустоты. Даже войдя в дом, он не сразу понял, что к чему. Он даже не понял, зачем протянул дочери игрушечный меч и почему его девочки рассмеялись при этом.
Он стал приходить в себя только после того, как подошел к столу и взял в руки свой синий плащ, умело сшитый женщиной.
* * *
Гудо насадил маленькое колесико на ось и еще раз оценил свою работу. Вышла очень удачная игрушечная повозка. Он повертел ее в руках и протянул стоящей у стола Грете. Девочка улыбнулась и прыгнула к матери на кровать. Теперь они уже вместе любовались мастерски сделанной игрушкой. Здесь же, на кровати, лежали вырезанные из дерева ослик, не виденный никогда Гретой слоник и свирель, которую девочка тоже видела впервые.
– Сегодня я принесу еще яблок. Грета, ты любишь яблоки?
– Люблю, – звонко ответила девочка и положила голову на плечо матери.
– Гудо, а ты мог бы принести моток шерсти и сделать спицы? Я бы связала шапочку для Греты и чулки для нас.
Адела приподняла голову и с надеждой посмотрела на мужчину.
«Для нас…» – подумал Гудо и прикусил нижнюю губу.
– Принесу, обязательно принесу.
– Гудо, а мы могли бы и этой ночью сходить на озеро?
– Это не озеро. Это запруда. Ее выкопали в начале лета.
– Грета бы побегала там и побросала камешки в воду.
– Если все будет спокойно, мы пойдем вместе.
Девочка заулыбалась и поцеловала мать.
– Я хотела сварить мясную похлебку, но проклятая крыса стащила кость. Прости, я не доглядела. – Адела виновато улыбнулась.
– Я накажу эту старую воровку. Мы из нее сварим похлебку.
Грета скривилась и вопросительно посмотрела на мать.
– Гудо шутит, – сказала Адела и нежно погладила дочь по голове.
Палач улыбнулся и согласно кивнул. Он посмотрел на свои полки и решил проверить, что у него еще есть в запасе. Но едва он подошел к ним, как из-за двери послышался голос:
– Эй! Выходи! Тебя требует бюргермейстер.
Гудо почувствовал, как кровь прилила к вискам. Он с тревогой посмотрел на Аделу и медленно поднялся. Ему совсем не хотелось оставлять одних своих милых девочек.
– Я… Я вернусь. Скоро вернусь. У нас будет другая жизнь. Верь мне.
Гудо набросил на себя плащ и, печально опустив голову, вышел.
В десяти шагах от дома стоял стражник и неизвестно чему улыбался. Палач положил руку на меч и с ненавистью посмотрел на пришедшего.
«Может, просто выбить ему зубы? – с тоской подумал Гудо. – Но в чем его вина?»
– Пошли, – коротко бросил господин в синих одеждах и заметил, как стражник таращится, пытаясь что-то разглядеть за его плечом.
Гудо оглянулся и совсем пал духом. На ступенях его дома, положив руки на плечи дочери, стояла Адела. Палач тихо застонал и легонько толкнул в плечо стражника.
– Пошли. И помни: ты ничего не видел.
Стражник пожал плечами и пошел за широко шагающим Гудо.
– А мы не в город, – сообщил он, заметив, что палач свернул к воротам. – Бюргермейстер ждет тебя в лагере Альберта. Точнее, в лесу, за лагерем.
– И что он там делает?
– Грустит над мертвой девчушкой, – почесав бороду, ответил стражник.
Палач тяжело посмотрел на сопровождающего и с грустью промолвил:
– Господь, кажется, от нас отворачивается.
Лагерь Альберта почти опустел. Мужчины, женщины и их дети собрались в пятидесяти шагах от крайней повозки лагеря, возле густых зарослей волчьей ягоды. Гудо с трудом протиснулся сквозь толпу и подошел к бюргермейстеру. Тот стоял, склонив голову, и слушал взволнованного Альберта.
– Чем же дитя провинилось? За что Господь так жестоко ее наказал? Какой человек… Нет. Только зверь способен на такое.
– Ума не приложу, – честно сознался Венцель Марцел. – У нас такого никогда не случалось. Ну, были убийства. Но детей не убивали. Это точно.
Затем он поднял голову и увидел Гудо.
– А, это ты… Ты должен во всем разобраться. Посмотри, что и как.
И бюргермейстер указал рукой на лежащее в пяти шагах тело, полускрытое ветками кустов.
Гудо кивнул и подошел к мертвой девочке. Он опустился возле нее на колени и долго не решался взглянуть на мертвую. Наконец он пересилил себя и стал внимательно осматривать лежащую на спине обнаженную девочку, которая на год или два была старше его Греты. Затем он встал и подошел к бюргермейстеру и Альберту.
– Ее убили ножом в сердце. Сегодня утром. Вначале придушили. Потом надругались и вонзили нож. Больше мне нечего сказать.
– О Господи милосердный, – застонал Альберт.
– Мои бюргеры этого не могли сделать, – уверенно произнес Венцель Марцел. – Это или твои люди, или селяне. А может, кто-то прошмыгнул через карантин.
– Все мои люди – семейные и добрые христиане. Они не могли такого учинить.
– Это был удар воина, умеющего убивать. Удар сильный и точный. Это сделал безжалостный человек, – уточнил Гудо.
– Мы должны ее похоронить на освященной земле, – произнес Альберт и с надеждой посмотрел на бюргермейстера.
– Да, безвинное дитя. Мы похороним ее на нашем кладбище. Думаю, городской совет не будет возражать. Палач, отправляйся к могильщику Ешко. Пусть он все приготовит. Отец Вельгус проводит ее в последний путь. Тяжелые времена. Ужасные люди.
Гудо коротко кивнул и отправился в город. Возле ворот он вынужден был остановиться и пропустить несколько повозок. Бюргеры продолжали покидать Витинбург. Над городом беспрерывно раздавались монотонные удары колокола.
Палач прошел пустынными улицами и оказался у низкой каменной изгороди кладбища. Пройдя через деревянную арку ворот, Гудо побрел к большому дому, что высился над многочисленными крестами из дерева и камня.
У раскрытых дверей дома, опершись на косяк, стоял могильщик Ешко и, срезая с яблока маленькие кусочки, не спеша отправлял их в рот.
– Что привело на кладбище палача? Город собирается развлечься казнью? – с усмешкой спросил Ешко.
Гудо уставился на тонкий, слегка изогнутый нож в руках могильщика. Лишь через некоторое время он мотнул головой и посмотрел в лицо Ешко.
– Сегодня в лагере Альберта горе. Убили девочку. Бюргермейстер пообещал похоронить ее по-христиански. А еще раньше он велел присмотреть за тем, чтобы ты и твои люди выкопали могилы. Поглубже и пошире.
– Это он и мне говорил. Мы уже одну такую выкопали. Завтра будем копать другую. А если чума нас помилует, то наша работа будет впустую и ямы придется закапывать.
– Дай то Бог, – глухо отозвался палач, снова уставившись на нож.
– Все в руках Господа, – произнес могильщик и отрезал еще один кусочек яблока. – Хочешь, вместе выберем место для покойницы? Заодно и яму для чумных посмотрим. Только думается мне, что наши бюргеры не захотят бросать в них своих родственников. Совсем это не по-христиански. Так что бюргермейстер тут ошибается.
– Пошли, покажешь, – глухо произнес Гудо.
– Пошли, – согласился Ешко и скрылся за дверью.
Очень скоро он вышел, держа в руке целое яблоко.
Гудо шел возле могильщика и словно завороженный смотрел на правую руку Ешко, в которой тот держал такой знакомый палачу нож. А тот все отрезал кусочки яблока и набивал ими рот.
– А вот и яма, – весело сообщил могильщик.
Это и в самом деле была большая яма, предназначенная для нескольких десятков покойников. Не приведи Господь, чтобы она пригодилась. Но в уме и опыте Венцелю Марцелу нельзя было отказать. Он смотрел дальше других людей. Но если бюргеры прознают про эту яму, ему будет тяжело держать перед ними ответ.
– Вот проклятые помощники! – вдруг разгневался Ешко. – Смотри, побросали у ямы лопаты и отправились набивать свои брюха. А лопаты у меня из хорошего железа. Еще от отца достались. А если кто их украдет? Пусть только вернутся. Я им пущу кровь из носу.
– У нас в городе нет воров. Или я ошибаюсь? – Гудо выжидательно посмотрел на могильщика.
Тот попытался улыбнуться, но улыбка вышла кривой и вымученной.
– Где им у нас взяться? Может, только пришлые. А так все люди у нас честные и трудом своим зарабатывают на жизнь.
– А в городе за последние десять дней кого-либо хоронили? – задал неожиданный вопрос палач.
– Да. Двух старух. Их могилы вон там, возле часовни.
Гудо отошел на несколько шагов и указал рукой на прямоугольный кусок земли, грунт которой просел на две ладони.
– А здесь чья могила?
Могильщик нахмурился. Но тут же овладел собой и с показным весельем ответил:
– Это не могила. А может, какая-то очень старая могила. Кладбище старинное. Грунт часто проседает.
– А мне кажется, этой землей недавно что-то засыпали. Что? Или кого?
Ешко отбросил недоеденное яблоко и, поигрывая ножом, ответил:
– Да не могли здесь ничего засыпать. Я бы знал. А если это мои помощники без меня тут копались… Я с них спрошу, когда они вернутся.
– Я хочу посмотреть, что в этой земле, – медленно произнес Гудо и еще раз указал рукой на участок.
– Без священника нельзя. А вдруг там и впрямь могила. Нельзя беспокоить покойников, – начал сердиться могильщик. – Это великий грех.
– Ничего. Еще один грех мне не в тягость. Копай, – строго велел палач.
– Побойся Бога. В своем ли ты уме?
Гудо не выдержал и указал на нож.
– Откуда он у тебя? Необычный нож, очень приметный. Такой на рынке не купишь. Он для воровского дела – кошели срезать.
Ешко побледнел.
– Нашел я его, – пролепетал он. – Несколько дней назад. На улице. Возле площади. Потерял, наверное, кто-то.
– Я знаю одного человека, который ни за что не расстался бы с этим ножом. Копай, – с угрозой произнес Гудо и стал приближаться к могильщику.
Ешко не выдержал. Он издал злобный крик и, подняв руку с ножом, бросился на приближающегося к нему палача. Гудо успел отступить. Нож прошел у самого его лица. Могильщик тут же развернулся и попытался нанести удар снизу. Но палач перехватил его руку с ножом и попытался выкрутить ее. Однако Ешко обладал достаточной силой, чтобы не позволить ему сделать это. Противники схватили друг друга за горло свободной рукой. Их лица покраснели, вены на шее вздулись.
Пошатываясь, они приблизились к яме и какое-то время топтались у ее края. Еще миг – и оба в крепкой хватке рухнули вниз.
И все же Бог был на стороне Гудо. Могильщик упал на спину и хрипло застонал. Боль на мгновение пронзила его тело, и палач, воспользовавшись секундной слабостью Ешко, вывернул ему руку и направил нож в бок противника. Могильщик вскрикнул и обмяк.
Гудо резко дернул кисть противника и вырвал нож. Затем, сразу же встав на ноги и тяжело дыша, он спросил:
– Этим ножом ты убил Патрика?
Ешко сквозь стон промолвил:
– Я никого не убивал.
Гудо в гневе поднял над собой могильщика и выбросил его из ямы. Затем схватил лопату и выбрался сам.
– Раскапывай, – едва сдерживая себя, приказал палач и протянул лопату стоящему на коленях могильщику.
Тот отрицательно замотал головой. Но тут же сильный удар в лицо опрокинул его на землю.
– Вставай. Копай. Или я разорву тебя на куски.
Ешко посмотрел на страшное лицо палача и, схватив лопату, пополз к осевшей земле. Так, стоя на коленях, он и начал отбрасывать землю.
– Копай быстрее, – грозно сказал Гудо и занес над могильщиком руку с ножом.
Тот застонал и, пересиливая боль, быстрее заработал своим орудием. Но с каждым движением лопаты его силы убавлялись. Он рухнул лицом вниз, едва ли выкопав половину.
Палач схватил его за одежду и выбросил из могилы. Он сам взялся за лопату и стал выгребать мягкую землю. Наконец он почувствовал, что лопата уткнулось в тело. Гудо встал на колени и стал дальше руками освобождать мертвеца от земляного укрытия.
Патрик лежал на боку. Его горло было глубоко перерезано, а глаза так и остались открытыми. Палач прислонил его голову к своей груди и тихо застонал. Одна огромная слеза скатилась по его щеке, обжигая так, что Гудо не выдержал и громко крикнул:
– Господь, ты вырвал кусок из моего сердца!
Потом он встрепенулся и, осторожно положив тело на землю, побежал за отползающим могильщиком. Тот испуганно повернулся к палачу и пробормотал:
– Что тебе до него? Он вор. Вор всегда останется вором.
– Ты не палач. Я палач. И казнил бы его, как требует закон.
– В нашем ремесле свой закон. Он правильный и честный. Это ремесло не позволено предавать. Его казнь справедлива.
– Ты сказал, что в этом городе нет воров. Сейчас ты признал себя вором и убийцей. В ремесле палача тоже есть свои законы. Вот этот закон.
С этими словами Гудо глубоко всадил нож в шею могильщика. Затем он с силой рванул. Из чудовищной раны фонтаном брызнула кровь. Тело Ешко несколько раз дернулось и мешком рухнуло на землю.
Когда пришли могильщики, они увидели сидящего на земле палача, который что-то тихо бормотал. Возле него лежала лопата.
– А, пришли… – Господин в синих одеждах поднялся с земли. – А Ешко где? Ладно. Копайте яму. Будут хоронить девочку. Смерть распростерла свои черные крылья над городом.
* * *
В тот вечер Гудо зашел в харчевню и купил большой кувшин вина. До полуночи он сидел на холме возле своего дома и пил вино маленькими глотками. Он и сам не помнил, как зашел в дом и свалился у кровати, разбудив своих девочек. Те в страхе прижались друг другу и до утра не сомкнули глаз, вслушиваясь в пьяные возгласы хозяина дома.
Палач проснулся, когда солнце было высоко в небе, и, не притронувшись к еде, приготовленной Аделой, долго сидел у стола, не проронив ни единого слова. Потом он поднялся и, пошатываясь, вышел из дома. До самого вечера палач бродил вдоль канала, вырытого под начальством Патрика, и вспоминал прошедшие месяцы. Было странно и удивительно. Вот канал. А человека, приложившего столько труда и усилий, уже нет.
К вечеру, сам того не желая, Гудо оказался возле лесопильни. Здесь его окликнул бюргермейстер:
– А, вот ты где. Ты стал плохо относиться к своим обязанностям.
Гудо ничего не ответил. И прочесть на его лице ничего было нельзя. Синий капюшон, как и прежде, скрывал пол-лица.
– Чума чумой, а о долге забывать нельзя, – строго сказал Венцель Марцел. – Мог бы и сам заметить, что наши селяне устроили торги у лагеря Альберта. Торгуют и продают. Много продают. А вот пошлину не платят. И почему? Потому, что тот, кто должен ее собирать, уклоняется от своих обязанностей. Ты не получишь оплату за этот месяц, если не возьмешься за работу. Ступай. Палач, знай свое дело.
Гудо поклонился и пошел прочь от бюргермейстера. Весь вечер он молчал. Задавшая несколько вопросов и не услышавшая ни слова в ответ Адела растерялась и рано улеглась спать, крепко обняв дочь. Палач, съев кусок хлеба, уснул за столом.
Он проснулся поздно и, открыв глаза, увидел стоящую рядом Грету. Девочка грустно смотрела на мужчину. В ее руках был игрушечный меч.
«Да. Нужно продолжать жить. Ради нее, ради ее защиты и завтрашнего дня».
Гудо улыбнулся и увидел улыбку в ответ. Адела стояла у очага и помешивала варево в котелке.
– Я пойду, – мягко сказал палач и, помолчав, добавил:
– Я принесу что-нибудь вкусное. Может, даже мед.
«Да, мед. Именно мед. Он развеселит душу. Жизнь станет веселее. Селяне должны торговать медом. Лето кончается. Меда должно быть много. И почему я раньше об этом не подумал?»
Мысль о меде взбодрила его. На душе стало легче. Но все равно хотелось выпить несколько больших кружек пива. Лучше вина. Однако денег осталось мало. А тут еще грозное предупреждение бюргермейстера.
«У меня есть право брать оплату продуктами. Столько, сколько я могу унести за раз. А унести я могу много. Почему я этого не делал раньше? Зачем и кого жалел? Мне тогда было не нужно. А сейчас нам это нужно». – Гудо утвердительно кивнул и, укутавшись в плащ, помахал рукой Грете. Девочка ответила, тоже помахав ему рукой.
Палач опоздал. Многие селяне быстро распродали свои продукты и, едва заметив приближающегося палача, поспешили в лес.
Гудо огорченно посмотрел на их спины и хотел уже вернуться в дом. Но тут он увидел, как один из селян повернулся и пристально посмотрел на него. Заметив ответный взгляд палача, селянин поправил свою кожаную шапочку и поспешил скрыться за деревьями.
Погрузившись в размышления, Гудо вернулся домой. Здесь, как и несколько дней назад, на него взобралась Грета и он на четвереньках стал объезжать стол. Маленькая девочка покрикивала на свою «лошадку» и легонько толкала ее босыми пятками. Это была самая приятная ноша, которую когда-либо пришлось нести палачу. А оттого, что наблюдавшая эту сценку Адела несколько раз улыбнулась, в душу Гудо вернулся покой, сердце перестало ныть.
Ранним утром Гудо посмотрел на спящих женщину и ребенка и тихо сказал:
– Сегодня я точно принесу мед.
Потом он поспешил в лагерь Альберта и пришел вовремя. Селяне только начали раскладывать продукты, привезенные на продажу. Увидев рядом палача, они не посмели спрятать их или скрыться. Гудо оценил каждый товар и назначил пошлину.
После этого он направился к тем, что торговали с тележки или с рук. Здесь товара было поменьше, зато Гудо сразу же присмотрел худенького парнишку с несколькими горшочками меда.
– Один маленький горшочек оставишь мне в пошлину, – строго велел палач.
Парнишка согласно кивнул.
– Я тебе и завтра принесу. В лесу много меда. Только пчелы слишком кусачие.
– А ты их выкуривай ветками можжевельника, – посоветовал Гудо.
– Они при любом дыме жалят. Но я уже привык, – рассмеявшись, ответил сборщик меда.
Пока Гудо беседовал с парнишкой, несколько селян потащили свои тележки в лес. Среди них был и вчерашний наблюдатель с большим мешком на плечах.
«Что тебе здесь нужно? Чем же ты торгуешь? Завтра ты от меня не уйдешь», – решил Гудо и стал дожидаться конца торга.
Присутствие сборщика торгового налога повысило цену на продукты, что вызвало неудовольствие людей Альберта. Но зато Гудо собрал серебро для города и мешок продуктов для себя.
«Нет, для семьи», – поправил себя палач и, довольный собой, отправился домой.
Мед осчастливил всех. Адела сварила сладкую воду с корешками, и они съели по нескольку ложек тягучей вкуснотищи. Особенно радовалась Грета. Мед она ела второй раз в своей маленькой жизни.
Этой ночью Гудо и его девочки долго бродили возле запруды, бросая в лягушек камешки и слушая их громкое кваканье. Они почти не говорили, но шли, едва не касаясь друг друга.
Глава 16
Гудо поднялся еще до восхода солнца. Он миновал спящий лагерь и, пройдя по лесной дороге две сотни шагов, остановился. Сюда, к большой дороге, вели две более узкие дорожки, а еще в тридцати шагах от них выходила лесная тропа. Палач выбрал старый дуб и удобно устроился на толстой нижней ветке. Гудо и сам еще не решил, что будет делать. Для начала он дождется этого человека, а уж потом поступит так, как посчитает нужным.
Ждать пришлось недолго. Этот человек первым показался на лесной тропе. Он шел, все время оглядываясь, как лисица, стащившая курицу. Как и вчера, на его плечах был большой мешок из домотканого холста и увесистая палка.
Гудо тихо сполз с ветки и двинулся вдоль дороги, все время оставаясь за деревьями и кустами. Наблюдая за человеком с мешком, он припоминал все, что ему было известно о нем. В сущности, не так уж и много. И все это со слов одного мужчины. Но этот мужчина сказал достаточно, и если сопоставить услышанное с тем, что произошло несколько недель назад, то вывод был правильным. Даже если палач ошибался, он всего лишь пожертвовал одним часом сна. Но если нет…
Селянин с мешком ускорил шаг и вскоре свернул с дороги в лес. Здесь он продолжал оглядываться и прислушиваться. Наконец он подошел к лагерю и, присев за куст, стал за ним следить.
Солнце успело подсушить росу. Его лучи пробудили птиц, и они уже поднялись в небо.
В лагере раздались голоса.
Селянин приподнялся, присмотрелся к группкам женщин и детей, выходивших из-за повозок и направлявшихся в лес по простой человеческой нужде. Мужчина перебежал маленькую полянку и, остановившись возле дерева, повесил на сук свой мешок. Скрывшись за деревом, он стал наблюдать, как к густым кустам выбежали несколько молоденьких девушек и, смеясь, присели, высоко задрав свои платьица.
Затем девушки поднялись и быстро скрылись за кустами.
Гудо из своего укрытия увидел разочарование на лице мужчины. Селянин уже было вышел из-за дерева, но тут на полянке появилась еще одна девушка. Она торопливо присела. И в этот момент селянин нанес несколько ударов палкой по стволу. Девушка вздрогнула и посмотрела в сторону раздавшегося шума.
Она сразу заметила висящий на суку мешок. Поднявшись, девушка стала медленно подходить к неожиданной находке. Она остановилась у мешка, не зная, как поступить. И тут из-за кустов вышел хозяин мешка.
– Я тоже увидел этот мешок. Кто же его забыл? Интересно, что в нем?
Девушка отступила и уже готова была броситься бежать, но мужчина сделал несколько шагов назад и, по-доброму улыбаясь, ласково сказал:
– Ты не бойся меня. Я селянин. Я приношу в лагерь овсяный хлеб на продажу. Ты же видела меня? Ведь так?
Девушка кивнула.
– Вот видишь. Нам повезло. Какой-то растяпа потерял мешок. Давай посмотрим, что в нем.
Мужчина подошел к дереву и снял находку. Девушка недоверчиво держалась от него в пяти шагах, но уже не спешила уйти.
– Так, посмотрим, что здесь, – весело произнес селянин и развязал мешок. – Ого! Посмотри. Хлеб, сушеное мясо. Много хлеба. А это что? Да ты посмотри, какое красивое платье. А вот и туфельки.
Девушка вытянула шею и сделала пару шагов к нему. Селянин встал и показал на вытянутых руках красное шерстяное платье с розовыми вставками.
– Нравится?
Девушка молча кивнула.
– Мне платье ни к чему. Поступим так. Раз уж мы одновременно увидели этот мешок, давай разделим то, что в нем. Тебя как зовут?
– Берта. – Девушка улыбнулась.
– Вот и хорошо, Берта. Я оставлю тебе платье и туфельки, а себе возьму все остальное. Только ты об этом никому не говори. А откуда у тебя обновки… Сама придумаешь.
Селянин положил на траву платье и туфельки, завязал мешок и скрылся за кустами. Осчастливленная таким щедрым утренним подарком, Берта засмеялась и взяла в руки платьице. Она несколько раз покружилась, держа его в руках, и приложила к телу. Потом оглянулась и, схватив туфельки, побежала вглубь леса. Ей не терпелось примерить подарок судьбы, но сделать это на глазах тех, кто мог прийти сюда из лагеря, она не решилась.
Девушка пробежала несколько десятков шагов и, выбрав большой куст, быстро сбросила с себя серую полотняную тунику. Не мешкая, Берта просунула руки в проемы рукавов и стала надевать платье через верх. И тут из-за ближайших деревьев выскочил селянин и свалил ее сильным ударом в голову.
Тяжело дыша, мужчина попытался схватить Берту за горло. Но так как оно было прикрыто платьем и девушка начала сопротивляться, он несколько раз ударил ее по лицу. Девушка попыталась закричать, но руки насильника уже дотянулись до горла и сомкнулись на нем.
– Тебе будет хорошо. Сейчас будет хорошо, – просипел селянин, придавливая свою жертву к земле.
Но в этот миг сильный удар кулаком в голову лишил его сознания.
* * *
Когда Мартин очнулся, он сразу почувствовал, что его руки крепко связаны кожаным ремешком. Он тихо завыл и стал кататься по траве. Затем, немного успокоившись, он приподнял голову и увидел, как несколько мужчин отталкивали рвущихся к нему женщин. На крики и проклятия стали подходить другие женщины. Теперь мужчинам было сложнее их удерживать. Но рядом с лежащим Мартином стоял палач. Подняв руки, он громко произнес:
– Этот человек должен о многом рассказать. Его будет судить город. Справедливо судить. Он до последнего вздоха будет в моих руках и пожалеет о том, что родился. У меня есть дочь. Она тоже могла стать его жертвой. Я его выследил. Он мой. Расступитесь. Иначе я вас прокляну и наложу руку.
Палач поднял преступника за шиворот и поволок за собой. Толпа расступилась, освобождая путь.
Мартину казалось, что его ноги превратились в мокрую глину и вот-вот расползутся, а его несчастное тело рухнет на землю. Постепенно в глину превращалось все тело, и, если бы не сильная рука палача, которая его почти несла, он бы не смог переставлять ноги. Ему хотелось кричать и плакать. А еще рвать волосы на голове. Но от страха у него отнялся голос и высохли слезы, да к тому же мешал кожаный ремешок.
Палач вел его по лесной дороге, по которой он сотни раз ходил к ненавистному городу. И сейчас подлая судьба и крепкая рука господина в синих одеждах тащили его к стенам, за которыми он видел казнь своих друзей-наемников. Тогда он только смотрел и не испытывал никаких переживаний. Ему было даже интересно наблюдать, как железная палица палача ломала кости тех, с кем он провел последние два года. Теперь это ждало и его.
«Нет, этого не может произойти. Я что-то придумаю. Я всегда что-то придумывал и обманывал смерть. Так будет и в этот раз. Я придумаю. Обязательно придумаю. Проклятый палач. Проклятые людишки. Как они ненавидят меня. И за что? Ведь каждый из этих мужчин или убивал, или насиловал, или совершал другой тяжкий грех. Эх, если бы Господь только пожелал и указал каждому его вину и грех, стали бы они плевать мне в лицо и так ужасно кричать?»
Когда они вышли из леса, к ним тут же бросились уже извещенные о случившемся обитатели лагеря. Мужчины грозно размахивали оружием, а женщины держали в руках палки и камни. Затем появился Альберт. Ему тоже все рассказали.
Глядя на него, Мартин подумал: «Зачем этот глупец сдерживает своих людей? Пусть они разорвут меня на куски. Это быстрая смерть. Это лучше, чем пытки палача и казнь. Впрочем, не нужно об этом думать. Я все равно найду выход. Не может завтрашний день быть таким неудачным, как сегодняшний. Что же я сделал не так? Как этот проклятый палач выследил меня? Ведь я хитрый и опытный…»
Альберт с перекошенным от гнева лицом подступил к палачу и его жертве.
– Это тот проклятый зверь?
– Он во всем сознается, – уверенно произнес господин в синих одеждах. – Удержи своих людей. Его ждут судья Перкель и мое умение поступать так, чтобы правда открылась во всей своей ясности.
– Хорошо. Я пойду с тобой к бюргермейстеру. И буду сам присутствовать при допросе и на суде.
Несколько острых камней ударили Мартина в грудь. Он закричал и стал вертеть головой, бросая ненавистные взгляды на разгневанную толпу. Оглушенный криком и проклятиями, Мартин хотел как можно скорее избавиться от этого нестерпимого шума. Это желание подгоняло насильника, его ноги окрепли, и он сам ускорил шаг.
Вскоре они добрались до городских ворот, стражу которых уже оповестили о поимке убийцы. Охранники закрыли ворота и потребовали, чтобы толпа не подходила к воротам ближе, чем на двадцать шагов.
Поддавшись на уговоры и клятвенные заверения Альберта, разгневанные мужчины и женщины остановились. Но их крики и проклятия не прекратились.
К палачу и Альберту присоединились еще два стражника и подхватили Мартина под руки. Теперь он был под стражей города и в полной его власти.
– Проклятый город! Скоро от тебя не останется камня на камне! – воскликнул Мартин и тут же получил удар в лицо от одного из стражников.
Когда они шли по городу, из окон стали высовываться бюргеры и их жены, привлеченные криком. Они еще не знали причину шума, но, увидев человека в руках стражников и шагающих за ними палача и Альберта, тут же придумали множество грешных дел, совершенных преступником.
Теперь уже за Мартином шла толпа горожан и допытывалась у стражников о вине этого по-деревенски одетого мужчины. Но сопровождающая преступника стража отмалчивалась, тем самым подогревая любопытствующую толпу.
А вот и узкое, высокое здание тюрьмы. Сам того не ожидая, Мартин даже обрадовался, завидев мрачное здание, в котором почти не было окон, выходящих на улицу.
«Я там не задержусь. Я что-нибудь придумаю», – продолжал успокаивать себя Мартин, когда его втолкнули в тесную камеру и закрыли тяжелую дверь.
Его не развязали, но теперь он был свободен от хватки сильных рук палача и стражников. Мартин стал ходить вдоль покрытых мохом и слизью стен мрачного тюремного помещения, куда через узкое окошко, находившееся где-то под самым потолком, едва пробивался свет.
Прошло довольно много времени, но ничего спасительного для себя он не придумал. От безысходности Мартин стал злиться и бить ногами в дверь. Однако очень скоро он почувствовал боль в ногах, и ему стало жаль себя. Мартин сел на холодный пол и по-волчьи завыл.
Мысли вернулись к тому, что случилось сегодня утром.
Что же такого он сделал? То же, что делают сотни тысяч мужчин с таким же количеством женщин. Только те мужчины покупают женщин. Едой, питьем, серебром, ласковыми уговорами, обязательством быть главой семьи и многими другими вещами и хитростями. А женщины продают себя, при этом скаля зубы в улыбке и делая вид, будто им многого не нужно. Только чуть-чуть. Но всего! Они готовы терпеть унижения и думают только о том, что можно взять от мужчины, которого собираются допустить к своему телу. А мужчина, движимый природным желанием, готов обмануться и вылезти из шкуры, лишь бы угодить своему неполноценному подобию, которое Бог сотворил в насмешку над ним. Зато он позаботился о воротах рая между ногами своего творения, за которыми пылает ад.
Так велика ли вина Мартина, который не желает быть обманутым и свое природное, пусть даже и звериное, желание удовлетворяет грубостью, что разрывает все хитрые женские сети? Терпят они других, потерпят и его. И он не понесет им серебро и вкусный кусок мяса. Это ему и самому нужно. А принимать его похоть должны, ибо для этого и только для этого создал их Господь. Главное в грешной жизни женщины – это удовлетворение мужчины. Без этого он превратится в зверя. А зверья у Бога и так хватает.
Так велика ли его, Мартина, вина? Ведь он ничего и не успел сделать. А о той девчушке, которую Мартин убил, он будет молчать. Так молчать, что удивятся и немые. Хотя кто ей виноват? Могла бы немного полежать и не кричать. И зачем Господь дал женщинам это оружие защиты? Но против этого оружия у Мартина есть сильные руки и острый нож. Иначе девчушка подняла бы на ноги и лагерь, и этот проклятый город. Сама виновата в собственной смерти. Была бы умней – подчинилась. А так получается, что ее убила собственная глупость.
А что убьет Мартина? Убьет, если он ничего не придумает?
* * *
Только после обеда открылась дверь и вошли два стражника. Они развязали Мартину руки и дали ему кувшин с водой и маленький кусочек черствого хлеба. Стражники подождали, пока узник доест хлеб и утолит жажду. Затем они опять связали ему руки и вытолкали за дверь.
В небольшой комнате, куда стражники привели Мартина, стоял стол, за которым сидели бюргермейстер, судья Перкель и священник. В дальнем углу, где горели свечи, готовился к записям писец, тихо и беспрерывно поругивая своего помощника.
Несмотря на яркий солнечный день, комната освещалась двумя факелами, так как узкие окна в толстых стенах не пропускали достаточно света.
Стражники вывели Мартина на середину, а сами встали у дверей.
– Начнем, – сухо сказал Венцель Марцел.
Судья Перкель прокашлялся и уставился на узника.
– Как твое имя?
Мартин склонил голову. Можно было бы назваться другим именем. Но проклятый палач, скорее всего, помнит его. Тем более, что за этим именем не числится никаких других преступлений. А назвавшись чужим, он сразу же станет явным преступником, присвоившим имя другого человека.
– Мартин, – ответил он после паузы. – Мое имя Мартин.
– Откуда ты?
– Я не знаю ни своей родины, ни отца, ни матери. Меня воспитали монахи-цистерцианцы в обители братства Святого Бернара.
– Ты отступник? – священник поддался вперед.
– Отец Марцио, ваши вопросы вы можете задавать после проведения досудебного дознания, – учтиво произнес судья, повернувшись к тощему старику в поношенной черной сутане. – Сейчас вопросы задаю я. Ты отступник?
Мартин замотал головой.
– Нет, я добрый христианин. Знаю все молитвы и захожу во все церкви, что случаются на моем пути. А из монастыря меня выгнали за пьянство и за то, что посмел приводить в кельи к братьям грешных женщин. Слаб человек перед дьявольскими искушениями…
– Каково твое ремесло? – прервал его судья.
– В монастыре я был огородником. А после прибился к рутьерам[66] и переходил из отряда в отряд. Мы воевали то на стороне французов, то за английского короля. Потом я получил ранение и меня оставили лечиться в маленькой деревушке в Нормандии. Но там я не прижился и с тех пор хожу по дорогам от города к городу и прославляю имя Божье. А год назад я пристал к братьям и сестрам во Христе и так оказался в ваших краях.
– Где живешь сейчас и чем занимаешься?
– Добрая вдова Мабилия из деревушки у болота приняла меня для работы по хозяйству. Она выпекает хлеб. Я ношу дрова, воду. Замешиваю тесто. А иногда я продаю готовый хлеб. И сегодня я шел сюда для того же. Не понимаю, почему человек в синих одеждах избил меня и назвал убийцей и насильником.
Мартин сморщился, показывая свое недоумение. Он даже пожал плечами.
Судья Перкель посмотрел на бюргермейстера и велел стражникам:
– Приведите свидетелей.
Один из них скрылся за дверью и вскоре вернулся, сопровождая палача и испуганную девушку. Под руку ее поддерживал Альберт.
– Девушка, твое имя? – задал вопрос Перкель.
– Берта, – едва вымолвила она.
– Этот человек причинил тебе зло? Расскажи, как это было.
– Я увидела мешок на дереве. А потом этого человека. Он предложил поделить то, что в мешке. Там были платье и туфельки. Он ушел, а я решила примерить платье. Тогда он вернулся и напал на меня. Он стал душить меня, но тут подоспел человек в синих одеждах…
– Палач, как ты оказался в это время в лесу? – спросил судья.
– Я следил за этим человеком, – ответил Гудо.
– Почему ты следил за этим человеком?
– Я знаю его как помощника супериора флагеллантов. Он поставлял пищу для своих братьев и сестер. Хлеб, который им давали, был со спорынью и другими травами, вызывающими у человека болезни. Я решил проверить, что он продает. А теперь, узнав, что он бывший наемник, я уверен, что он не в первый раз нападает на девушек. Смерть, случившаяся в лесу несколько дней назад, – это дело его кровавых рук.
– Этот мешок его?
– Да. Он принес его, а затем повесил на дереве, чтобы приманить какую-нибудь из женщин, живущих в лагере.
– Ты посмотрел, что было в мешке?
– Да. И увидел в нем еще и хлеб. Это нечистый хлеб. В нем есть травы.
– Мартин, что это за травы в хлебе?
Мартин сжался и со злостью посмотрел на палача.
– Я не понимаю, о чем говорит этот человек. Об убийстве, отравленном хлебе… Откуда мне знать, что хозяйка кладет в тесто? Я только ей помогаю…
– У супериора Доминика была книга о травах. О полезных и болезнетворных травах. Эта книга исчезла. Доминик показывал ее этому человеку и многое ему объяснял. – Палач махнул рукой в сторону Мартина.
– Что говорит этот глупец? Какая книга? Я ничего не знаю. Я только продаю хлеб. Ну, может быть, я немного и помял девушку, но я никого не убивал и не насиловал. Я говорю правду. Бог тому свидетель, – горячо промолвил Мартин и уставился в деревянный потолок.
– Не призывай Господа в свидетели! – гневно воскликнул священник.
– Отец Марцио, позвольте мне. – Судья посмотрел на разгневанного церковника, а затем на Венцеля Марцела.
Бюргермейстер кивнул. Судья Перкель строго взглянул на допрашиваемого и произнес:
– Ты отрицаешь явное и не признаешь свою вину. Значит, ты лжец и за тобой есть другие грехи, которые ты скрываешь. Но мы узнаем все. Правду от суда не скрыть. Палач, знай свое дело. Он в твоих руках. Мы хотим услышать правду. Да укрепит тебя, Мартин, сам Господь. Заседание переносится в комнату пыток.
* * *
Мартин крепко сжал зубы. Палач медленно приближался к нему, хмуря и без того уродливое и грозное лицо.
– Проклятый палач! Что ты хочешь со мной сделать?
Палач криво усмехнулся:
– Пока твои судьи пьют вино, я приготовлю для них закуску из твоих правдивых слов. Ты скажешь всю правду. Боль заставит тебя сделать это. Ты сам себе не поверишь. Но сегодня ты расскажешь больше, чем в аду, куда ты скоро угодишь.
Мартин побледнел. А затем его лицо покрылось мелкими каплями пота. Он заискивающе посмотрел на господина в синих одеждах.
– Что тебе до моего тела и души? Они не тобой созданы. Не касайся их и не бери еще один грех на душу. И за мою душу тебе отвечать перед Всевышним.
Палач приблизил свое ужасное лицо к Мартину и тихо произнес:
– Мне и вечной жизни не хватит, чтобы ответить за все грехи. Грех за тебя Господь и не заметит. Не все люди достойны жизни на земле. От таких, как ты, нужно освобождать землю.
Палач развязал руки своей жертве и велел:
– Стань на колени и, если сможешь, помолись. Хотя множество молитв ты скоро произнесешь, сам того не желая.
Мартин свалился на колени и стал с жаром бормотать молитвы, которые добрые монахи цистерцианцы втолковывали ему в голову с младенчества и которые не помогли изменить его природные наклонности, переданные безызвестными родителями или же выпрошенные в пьяном бреду у самого дьявола.
– Все, хватит. Судья желает услышать правду. Расскажи ему все, – сказал палач и начал снимать с Мартина одежду.
– Я не знаю, что он желает от меня услышать. Я уже все сказал. А если он безвинного человека…
Палач снял с Мартина короткую тунику и полотняные брэ. И только теперь, оставшись в греховной наготе, тот почувствовал, как его горло сжалось, а сердце замедлило свои удары.
– Что ты со мной сделаешь? – едва вымолвил узник, с ненавистью взглянув на рассаживающихся за столом людей.
Палач стянул ремнями локти и кисти наказуемого и повернул его лицом к массивному треножнику, на вершине которого была деревянная пирамида. Затем он наклонился к уху Мартина и прошептал:
– Иногда на иконах святых мучеников изображают с теми орудиями пыток, которыми их истязали. Святой Бенигна Дижонский – с сапожным шилом. Святой Яков Младший – с сукновальным вальком, которым палач Иерусалима проломил ему голову. Тебя не будет ни на иконах, ни на стене в сельской харчевне. А если бы это случилось, то тебя изобразили бы на этом треножнике. Этот треножник с пирамидой наверху называется «бдение». Еще его называют «колыбелью Иуды». Почему? Скоро ты это поймешь.
– Палач, знай свое дело! – громко произнес судья Перкель.
Господин в синих одеждах кивнул и легко, как ребенка, поднял узника. Он подошел со своей ношей к треножнику и осторожно посадил Мартина на острие пирамиды.
Тело Мартина мгновенно сжалось. Его мышцы превратились в камень. Но этого было недостаточно. Проклятая деревяшка плавила камень и, войдя в задний проход, болью пронзила все тело и заставила дико закричать. Если бы острие пирамиды было более вытянутым и глубже вошло вовнутрь, тело не посмело бы сопротивляться. Но верхушка ужасной «колыбели» была сделана так, чтобы заставить тело поверить, что еще можно сопротивляться проникновению в себя. И поэтому само тело, помимо сознания Мартина, с чудовищной силой напряглось, превратив мышцы в боевую сталь.
На одно мгновение, и только на одно мгновение, пытаемый почувствовал облегчение. Он даже улыбнулся палачу. Но в следующую секунду сжавшиеся мышцы зазвенели такой болью, что не дали возможности даже открыть рот в непреодолимом желании освободиться от раскаленного крика. И этот крик разлился внутри Мартина, заставив сердце, легкие, печень и кишки сжаться до того состояния, в котором они были еще в утробе матери. И это вызвало еще один сильнейший удар боли, от которого мозг потух, как факел, опущенный в воду.
Вода. Она обожгла лицо и грудь. Она вернула к жизни несчастное тело. Зачем ее живительная влага разбудила от спасительного сна? Сна, в который его заставила впасть «колыбель Иуды».
– Плесни еще раз, – послышался голос судьи.
И новый поток обжигающей влаги обрушился на Мартина. Он вздрогнул и почувствовал, что лежит на дышащем холодом каменном полу.
Мартин застонал и зашелся в рыдании:
– О Господи, Господи, Господи… Защити меня и сохрани…
– Он уже пришел в себя. Можно задавать вопросы.
Это голос палача. Проклятого палача, приоткрывшего дверь в вечные муки ада.
– К преступнику применена щадящая пытка. «Бдение» не ломает кости, не рвет мышцы и связки. Он в полном сознании и может отвечать на вопросы. Ты будешь говорить правду?
А это голос судьи. Проклятого судьи. И все, кто вокруг Мартина, – люди проклятые, желающие боли несчастного узника. И чтобы избежать этой боли, нужно говорить все, что они желают услышать. Все. Все…
И Мартин медленно, а затем все живее и живее заговорил, отвечая на вопросы судьи и тех, кто был рядом с ним.
Да, Мартин желал воспользоваться телом этой глупой девчушки. Она сама к этому призывала, раздевшись донага. Она звала его. Если не голосом, то обнаженным телом. Грешным телом. Грешным, как и у всех женщин. Ибо женщина – порождение греха и его родительница. Родительница от связи с дьяволом. И яблоко в райском саду, протянутое Адаму, – это плод совокупления с врагом Господа и человека. С дьяволом!
Однако он, Мартин, ничего не знает о другой девчушке, над телом которой надругались, а затем вонзили нож в сердце.
И вот ужасные руки палача опять хватают слабое тело узника. И он опять на вершине страшной деревянной пирамиды. И боль, боль, боль… Но она не так уж и остра, как в первый раз. Хотя она вырывает из Мартина крик и забирает его сознание.
И опять этот крутой кипяток воды. Палач не жалеет его. И льет, и льет.
Он все скажет. Он во всем признается. Правда – вот его спасение от многорукой боли, что тянет каждую мышцу и крошит каждую косточку несчастного тела Мартина.
Да, он убил девчушку. Он. Зачем же ей было кричать и звать Деву Марию на помощь? Зачем было призывать на душу Мартина все муки ада? И это всего лишь из-за скупости собственного тела и ненависти к мужскому желанию. Она не могла остаться в живых. Тогда бы Мартин не смог приходить в лагерь и продавать свой хлеб.
А этот хлеб с добавками. Плохими и вредными добавками. Они ослабляют человека и подчиняют его волю. И флагеллантам он давал такой хлеб. Это правда. Давал, чтобы они подчинились его желаниям. Каким желаниям? Многим. Особенно желаемы коленопреклоненные женщины. Нет, они не отказывали в совокуплении. Но одурманенные сестры Христа требовали после греховных объятий очищения и долгих совместных молитв под ударами своих жгучих плетей. Иначе они не соглашались принять в себя Мартина. А кожа Мартина не шкура лошади, запряженной в повозку.
Те же, кто отделился от секты и устраивал оргии в лесу, уже вдоволь искушали хлеба Мартина. И удар по голове рыцаря фон Бирка нанес он, Мартин. Ведь его ожидали веселье и покорные женские тела. А этот молодой рыцарь пожелал отнять у него эту радость. Радость, которой в его жизни было так мало.
Он еще многое мог рассказать. Но ни судья, ни сидящие рядом с ним бюргермейстер и священник не хотели его слушать. Уже была глубокая ночь. Писец записал самое важное из признаний Мартина. Тяжкая вина преступника была понятна и неоспорима. Она вела его к смерти. Осталось только решить, как еще более наказать его тело, перед тем как душа отправится в ад.
– Ну, нет. Веревка для него слишком просто. Может быть, колесование? Или четвертование…
– Нет, уважаемый бюргермейстер, это тоже быстрые муки. Этот человек заслужил более ужасную казнь.
– А если на медленном огне? – послышался голос священника. – Огонь хотя бы немного очистит его черную душу.
– Мне думается, он заслуживает «кошачий коготь». Не сомневаюсь, наш палач сумеет трехпалым крюком медленно снять с преступника кожу, потом оборвать мышцы и выломать кости. Он прочувствует каждое свое преступление… Так что нет нужды тянуть. Казнь должна состояться завтра.
О проклятый судья, что он удумал! Завтра, уже завтра. И опять боль. Адская боль. Мозг Мартина воспылал, а сердце почти застыло. Нет, это еще не все. Мартин найдет спасение. А пока нужно оттянуть решение судьи.
Мартин с трудом стал на колени.
– Вы хотели услышать правду, и вы ее услышали. Но вы хотели услышать всю правду, и я ее произнесу, чтобы хотя бы немного очистить душу. Знайте всю правду! Этот супериор Доминик – великий преступник и слуга дьявола. Я слышал его беседы с некоторыми погубленными им душами. В этих беседах он прославлял слуг дьявола – тамплиеров. Он и меня ввел в тяжкий грех. Это от него я получил книгу тамплиеров с их знаками и научился, как при помощи колдовского снадобья привлекать этих еретиков флагеллантов, слуг дьявола…
– О чем он говорит? – возмутился бюргермейстер. – Мою запруду и канал строили слуги дьявола? Слуги дьявола, которые ежедневно возносили молитвы Господу… Уведите его!
– Нет, постойте. Дьявол, еретики и колдовство – это уже дело инквизиции. Кайся. Говори все, – грозно промолвил отец Марцио и встал над кающимся грешником, подняв руку над его головой.
– Проклятый тамплиер говорил богопротивные слова и призывал сатану к борьбе с Церковью. Также он говорил, что короли и императоры должны быть уничтожены, ибо они – опора Папы Римского, главного виновника в том, что сатана и демоны еще не в полную силу властвуют над людишками. Околдовав меня, он велел при помощи книги вызывать сатану и прославлять его. Я видел сатану!
Сидящие за столами бюргермейстер, судья, писец и его помощник резко вскочили и стали неистово креститься. Только палач тихо сказал священнику:
– Этот человек обезумел от пытки.
– Нет. Как раз все наоборот. Пытки прояснили его разум и сняли колдовские чары. Теперь он уже не защищает своего господина сатану, а также его слуг. Говори, несчастная, погубленная душа. Говори! – Инквизитор улыбнулся и положил руку на голову преступника.
– Но я плохо читаю, еще хуже запоминаю. И поэтому Доминик велел мне отправиться к маленькому селению у болота и отдать эту книгу старой колдунье. Она – мать той женщины, что потом взяла меня в работу над сатанинским хлебом. Она, ее дочь Мабилия и внучка Сузи вызывали по книге дьявола и устраивали с ним греховные оргии. Дьявол проникал в их тела и наполнял их ненавистью к Господу и к тем, кто верует в него.
– Это страшное обвинение. Оно должно быть расследовано. Бюргермейстер, с этого мгновения суд инквизиции берет под себя этого человека и его сообщников. Утром пошлите стражников за названными женщинами. Завтра мы продолжим дознание.
«Значит, еще день, а может, и больше у меня есть», – затеплилась надежда в грязной душонке Мартина.
* * *
Стражники уволокли преступника. Вслед за ним для покаянной беседы отправился отец Марцио. Судья подошел к писарю, чтобы проверить записанные им показания. Палач раскладывал по местам свои страшные инструменты, которые сегодня так и не понадобились.
– Палач, у тебя сегодня хороший день, – заметил Венцель Марцел. – Ты поймал преступника, и он во всем сознался. Жаль, не удастся его завтра казнить. Отец Марцио вытянет у него все о сатане и его слугах. – Он устало посмотрел на палача и продолжил:
– Завтра предстоит еще больше работы. Три колдуньи – это утомительно. Мне придется присутствовать. У тебя будет работа. Ведь ты о ней спрашивал, и я знаю почему. В твоем доме находится женщина…
Гудо вздрогнул и опустил голову. Бюргермейстер усмехнулся:
– Ты нарушил закон. А он гласит: палач не должен держать никакой «бедной дочери», то есть служанки, работающей за харчи, кроме своих. А своими можно считать родственников, детей и… жену. Та женщина, что живет в твоем доме, не родственница и не жена, – сказал бюргермейстер, и Гудо отрицательно покачал головой. – Я знаю и помню, сколько добра ты принес нашему городу. И поэтому все нужно решить без огласки. Я думаю, тебе следует поговорить с отцом Вельгусом. Он добрый пастор. Хотя у него остались на тебя обиды со времен службы у епископа. Иди. К обеду ты понадобишься. Мне кажется, несчастные женщины будут удивлены, узнав, что они колдуньи. Но, впрочем, в этом я не силен. Оставим козни дьявола для инквизиции.
Венцель Марцел вздохнул и отправился в сопровождении стражника домой.
В столь поздний час ворота города были накрепко закрыты. Поэтому Гудо решился нарушить еще один закон – не оставаться в городе в темное время суток. Но это нарушение было вызвано не его желанием или прихотью. Он выполнял свой долг.
Да и не хотелось ему спорить с городскими стражниками. А еще он не желал беспокоить в поздний час своих девочек. Кроме того, ему нужно было подумать, как поступить. Пока бюргермейстер говорит с ним скорее как друг. Кто знает, что будет у него завтра на уме. Не пожелает ли он выгнать несчастную Аделу и дочь из городских владений? А если и того хуже… Если кто-то в городе прознает о том, что он привез двух заболевших чумой, вряд ли они поверят в то, что Гудо излечил их и даже умудрился не заболеть сам.
Палач в тяжелых раздумьях уселся за стол и обхватил голову руками. Нужно поступить правильно. Сейчас нельзя уходить из города. Рядом, за лесом, бродит черная чума и, взмахивая косой, собирает многотысячную жатву.
– Ты не спишь, палач?
Гудо с трудом отнял руки от головы. Рядом присел отец Марцио. Старик не устал за день, а может, даже взбодрился, узнав, что ему предстоит схватка со слугами дьявола.
– Я столько месяцев провел в бесплодных поисках, и вот сегодня такая удача.
– Святой отец, вы говорите о женщинах-ведьмах?
– О них особый разговор. Но завтра. Сегодня мои мысли об этом супериоре Доминике. Ты же знал его. Говорят, твой кнут прошелся по его спине.
– Он был наказан за своих флагеллантов.
– Его следовало наказать строже, но наказать совсем за другое. Ты уже слышал, что он последний из тамплиеров. Этих еретиков и безбожников.
– Я почти ничего не знаю о них, – ответил палач, низко опустив голову.
– О них уже давно следует позабыть. Святая инквизиция и могущественные короли вырвали это зло с корнем. Но мелкие корешки остались. И они по сегодняшний день дают свои ядовитые всходы. Их богатства были велики, ибо поклонялись они только золоту. Это учение они приняли еще во времена крестовых походов. Там, на Востоке, тамплиеры усвоили греховное учение, уходящее вглубь веков, к древним финикийцам. У язычников эти бедные братья Христа из Храма Соломона научились прославлять желтый металл, наделяя его магической способностью притягивать власть и удачу. Поэтому они отреклись от Христа. Уже будучи под арестом, тамплиеры сознались в страшных для христиан грехах: в поклонении дьяволу, осквернении причастия, в принесении в жертву сатане новорожденных младенцев, содомском грехе и еще во многом другом. Церковь отнеслась к ним по-доброму, казнив не всех, а только самых ярых слуг дьявола. Но уже очень скоро стало ясно, что все рыцари-тамплиеры были страшными врагами и светской, и церковной власти. Жаждущие мести и вооруженные колдовством, они наводили безумие на народ, желая его руками убить королей и осквернить Церковь.
Не прошло и десяти лет после оглашения Папой Климентом буллы, упразднявшей орден тамплиеров, как вся Франция вновь была охвачена безумием. Тысячи юношей и девушек из бедных селян и горожан, повинуясь их колдовству, сбились в бродячие банды и двинулись в якобы новый крестовый поход. К ним присоединились воры, разбойники, гулящие девки, беглые монахи и монашки. Они назвали себя «пастушками». И вот эти «пастушки» прошли по Франции, как саранча, грабя все на своем пути. Впереди пьяной, распутной толпы они несли черный крест, а по ночам устраивали оргии и служили черную мессу. Они даже напали на Париж. Когда возле города Каркассона королевские рыцари изрубили несколько тысяч этих безумцев, они обнаружили свинцовые сосуды наподобие церковных, но с кощунственными для христиан предметами. То были свечи из черного и красного воска, используемые ведьмами и колдунами, амулеты и талисманы, а также отрубленные и засушенные руки младенцев.
Но и этим не закончилось. Храмовники отравили воды колодцев и озер. Множество народа умерло в горячке и при большой потере веса. Эти безбожники даже вошли в союз с прокаженными, намереваясь передать эту болезнь тем, кто противостоял им. Вот почему инквизиция была вынуждена вступить в жестокую борьбу с тамплиерами и теми, кого они привлекли, чтобы осуществить свой черный замысел.
Утомленный долгим рассказом, старый священник умолк и тихо вздохнул.
Палач посмотрел на иссохшее лицо инквизитора и глухо произнес:
– Я не знаком с тамплиерами и их поступками. Я родился в глухих лесах. И потом я ничего такого не слышал. Зачем вы мне о них рассказали?
Отец Марцио уставился на палача. Он долго молчал, и это молчание встревожило Гудо. А еще этот взгляд помог ему понять: перед ним совсем другой человек. Человек с обостренным умом и холодным расчетом. Он уже не казался тем простаком, который пытался остановить чуму колокольным звоном и трупами на виселице.
– Ты, палач, знал этого Доминика как супериора еретиков. Церковь осудила движение флагеллантов. Если кто-либо так легкомысленно проливает свою собственную кровь, то он поступает так же дурно, как если бы он сознательно себя кастрировал или как-нибудь иначе изувечил. С таким же успехом он мог наносить себе ожоги при помощи раскаленного железа, что до сих пор не наблюдалось и что никто не находил разумным и желательным, за исключением разве лжехристиан и индийских идолопоклонников, которые считают священной обязанностью крестить себя посредством огня. Святая инквизиция долго присматривалась к этим несчастным. Теперь нам понятно, что этих сектантов ведут преемники тамплиеров. И есть явные доказательства, что Доминик – тамплиер. Если он окажется в наших руках, то наверняка мы многое узнаем от него. В том числе и о его участии в безумствах «пастушек». А рассказал я тебе все это затем, чтобы ты вспомнил каждое слово, произнесенное Домиником. Все хорошенько вспомнил. Еще до того, как мы его поймаем. За ним уже посланы пятеро служителей Церкви. Они где-то рядом. У них важное задание. Ведь кроме самих грешников тамплиеров, существуют и их черные книги. И очень важные документы. Настолько важные, что многие люди, прикоснувшиеся к ним или знавшие о них, умерли в тяжелых муках. Последний, о ком я знаю, это архивариус покойного епископа Мюнстера. Его семью вырезали, а самого архивариуса замучили пытками, выколов глаза и обстругав голову. Подумай об этом, палач. Может, что-нибудь и вспомнишь. Скоро мы будем знать все. Нас не остановят ни чума, ни колдовство.
– Значит, эти книги написаны дьяволом и во вред человеку? – как можно спокойнее спросил Гудо.
– Не совсем так. Некоторые написаны и людьми. Мудрыми людьми о мудрых вещах. Но тайные мудрости нельзя всюду и всем излагать, ибо не всем и всюду они понятны. И посему было сказано в Писании, что во многой мудрости много печали, а кто умножает познания, тот умножает печаль… Человек, который передаст в руки инквизиции эти книги и документы, будет возвеличен святой Церковью. Все, пора отдохнуть. Завтра интересный день.
* * *
Гудо не сомкнул глаз. Он никак не мог решить, чьи слова более правдивы – старого рыцаря Доминика или старого инквизитора отца Марцио. Но очень скоро его мысли вернулись к Аделе и дочери. И это было намного важнее. Едва дождавшись рассвета, Гудо покинул здание тюрьмы и отправился к Кафедральному собору.
В соборе каждую ночь проходила служба. Нашлось много горожан, которые возносили и ночные молитвы. Также они находили утешение своим тревогам в праведных словах отца Вельгуса. Вот и этой ночью настоятель собора пребывал со своей паствой в мольбах и покаяниях.
Как и положено палачу, Гудо долго стоял у входа, не смея войти в собор. Священник несколько раз взглянул на него, но, занятый службой, не заговорил с палачом.
Наконец, когда большинство утомленных горожан покинули святой дом, отец Вельгус подошел к господину в синих одеждах.
– Что привело тебя в собор? – сухо спросил он.
Гудо опустился на колено.
– Святой отец, прости мои грехи, вольные и невольные.
– Бог простит. Господь милосерден даже к таким, как ты. Хотя от прихожан о тебе я слышал только добрые слова, но не могу забыть тех зверств, что творились в подземелье Правды. Сколько безвинных душ приняли свою смерть от ваших кровавых рук!
– В этом не было нашей воли, – тихо сказал палач.
– Знаю. Поэтому и готов услышать тебя.
– Святой отец, я приютил в своем доме женщину и ее дочь. Они верные католики, чистые души. Я хочу взять на себя заботу о них.
– В доме палача не могут жить чужие.
– Я знаю, святой отец, и хочу, чтобы они стали моими. У них нет дома и нет родных. О них больше некому заботиться.
– Забота о несчастных – дело богоугодное. Ты готов назвать женщину своей женой?
– Да, святой отец.
– И она готова стать женой палача?
Гудо едва выдавил из себя:
– Да.
– Из какого она сословия?
– Она из селян.
Отец Вельгус грустно покачал головой.
– Я не могу вас обвенчать. Если бы она была из такого же подлого ремесла, как твое…
– Без меня эти люди могут погибнуть. Город их не примет. А за лесом их ждет чума. Не дайте пропасть чистым душам.
Священник надолго задумался. Произнеся короткую молитву, он обратился к палачу:
– Я смогу вас обвенчать, если она некоторое время пробудет в подлом ремесле. Палач может взять в жены гулящую девку. Отправь ее в тот дом, за которым ты присматриваешь.
– Надолго? – глухо спросил палач.
– Ну, скажем, на месяц. Я думаю, этого достаточно, чтобы в своих грехах она приблизилась к твоим.
– Пусть будет так.
Гудо встал и перекрестился. Не дождавшись крестного знамения от священника, он покинул собор.
Всю дорогу к дому он придумывал те слова, которые должен был сказать Аделе. Разве можно просить женщину, всю свою жизнь ненавидящую проклятого ею мужчину, стать его женой? А еще куда сложнее объяснить, что стать мужем и женой они могут только в том случае, если женщина согласится стать гулящей девкой и своим телом зарабатывать деньги.
Гудо уселся на холме неподалеку от своего жилища и с глубокой печалью уставился на двери дома. Теперь он в полной мере осознал, что это действительно дом палача. Можно ли быть счастливым в таком доме? И что может дать палач дорогим ему людям? Быть женой палача – это позор и унижение. А каково быть дочерью палача? Это значит навсегда стать отверженным людьми и Богом.
Гудо застонал. Ему был противен сегодняшний день. Ему был противен этот холм и дом внизу. Он был противен самому себе.
Но будет завтрашний день. И что принесет он?
Палач представил Аделу и свою дочь, бредущих по дорогам, усеянным трупами. И вот они попадают в лапы полуживых обезумевших людей, для которых этот день последний. В желании прожить этот последний день в сладости, они набрасываются на беззащитную Аделу и терзают ее прекрасное тело. А рядом, боясь, что ее постигнет та же участь, рыдает маленькая Грета. Потом Адела встает и идет навстречу злу и насилию. И так продолжается до самой ее смерти… А что же будет с Гудо? Ему не нужно жить, зная, что его сильное тело и великие знания не способны защитить даже дорогих ему людей.
Нет, этого не будет. Они должны жить и наслаждаться жизнью. Все в этом мире можно исправить. Пока бьется сердце и есть душа.
Гудо встал, перекрестился и направился к дому.
Открыв дверь, палач увидел играющих на полу Аделу и Грету. Расставив игрушки, сделанные и купленные палачом, они вспоминали свою маленькую деревню, счастливые дни, когда занимались хозяйством и ходили в гости к соседям.
– Тебя не было ночью, – с тревогой сказала Адела.
– Я был в городе. У меня была работа, – как можно спокойнее ответил Гудо и сел за стол.
На столе стоял горшок со свежей кашей, а рядом с ним – большой кусок хлеба и чаша с остатками меда. Палач отломил хлеб и погрузил его в пахучий мед.
Он ел медленно, не отрывая глаз от своих девочек. Как они веселы и довольны! Может, даже счастливы. Счастливы в доме палача.
И Гудо решился.
– Адела, мне нужно с тобой поговорить, – глухо произнес он.
Женщина посмотрела на поникшего мужчину и подошла к столу.
– Вам с Гретой некоторое время придется пожить в другом доме.
Адела побледнела и с тревогой посмотрела на дочь.
– Что я могу сказать? Ты наш хозяин, и мы в твоей власти. Мы поступим так, как ты желаешь. Так угодно Господу.
– Нет, нет… Я не выгоняю вас. Я никогда не прогоню вас. Вы – единственное, что есть у меня. Единственное, для чего я живу. Но так нужно. Поверь. Вы поживете в другом доме. Месяц. Может быть, чуть дольше. К вам будут относиться хорошо. Я за этим пригляжу. А потом ты решишь. Решишь, хочешь ли ты стать хозяйкой этого дома, хочешь ли, чтобы я называл Грету своей дочерью. Я знаю: она моя дочь. Ты помнишь причину ее рождения. Но поверь, я уже не то чудовище. Жизнь и Господь стерли меня в порошок и вылепили заново. Я знаю, ты никогда не сможешь простить меня. Простить за свою сломанную жизнь. За позор и унижение. Я прошу простить, но не ожидаю этого прощения. Ибо этому нет прощения. Однако я готов искупить свою вину и безмерный грех преданной заботой о вас. Я знаю, ты никогда не захочешь лечь рядом со мной. И даже за руку ты никогда не возьмешь меня. Пусть так. И я никогда не прикоснусь к тебе. Но я хочу быть рядом. Я хочу, чтобы вы были сыты и одеты. Я хочу защитить вас от злых людей и болезней. Я смогу. Я достаточно силен и умен. Ты должна решить сейчас. Но начинай это решение с дочери. Времена всегда были трудные, а сегодня – труднее некуда. За чумой придет голод. Выживут только сильные.
Адела печально опустила глаза и, обняв дочь, уселась на кровать.
Гудо смотрел на своих девочек и не смел пошевелиться. Он не сказал всей правды. Он не мог ее сказать. Нужно было сделать первый шаг. Потом уже будет легче. Он в это верил. Верил всей душой.
Адела поцеловала дочь и тихо произнесла:
– У нас с Гретой нет дома. У нас нет родных и соседей. Мы даже не знаем, где сейчас находимся. Мы едим твою пищу и носим твои одежды. Значит, мы должны поступать так, как ты пожелаешь. Я не хочу, чтобы моя дочь умерла.
Гудо вскочил из-за стола и рассмеялся. Рассмеялся едва ли не в первый раз в жизни. Он хлопнул в ладоши и весело воскликнул:
– Вы ни о чем не пожалеете! Я обо всем позабочусь. Я всегда буду рядом. Все будет хорошо! Господь нам поможет.
* * *
– Что это за дом? – спросила Адела, с любопытством осматривая цветные окна и красный фонарь над входом.
Гудо понял: если Адела и слышала о борделях, то никогда не приближалась к ним.
«Все устроится. Я все устрою», – решил Гудо и открыл дверь.
В борделе стояла непривычная тишина. Палач напрягся, припоминая, когда в последний раз был здесь. Получалось, что больше двух недель. И даже бюргермейстер не напомнил ему о том, что нет поступлений от налога на ремесло девок. Да и не до них было. Столько событий! Неприятных и даже жутких событий.
За столом привычно сидела старая Ванда. Непривычно было то, что перед ней стоял кувшин вина и она уже с утра была пьяна. Только поэтому она не поклонилась палачу и встретила его с наглой усмешкой:
– А вот и наш господин пожаловал. А я-то думала, тебя демоны с собой на пир позвали. У нас, как видишь, полный порядок и могильный покой. Так что деньгами я тебя не порадую. Наши бюргеры зажимают серебришко. А гостей, сам знаешь, в городе нет. Чума! Проклятая чума!
Затем она уставилась на Аделу и рассмеялась.
– А ее ты напрасно привел. Нет для нее работы. И мои девки уже наполовину разбежались. Не осталось у мужчин между ног ни капли греха. Забежит сопливый мальчишка, и тот над медяшкой трусится.
– Гудо, что это за дом? – с тревогой спросила Адела.
– Тебе незачем волноваться. У тебя будет комната и хорошая еда. Тебя никто не побеспокоит. Верь мне. Тебе здесь недолго жить. Скоро мы будем вместе. В нашем доме.
Затем палач подошел к подвыпившей содержательнице борделя и строго посмотрел ей в лицо. Старая Ванда похолодела и утерла лицо морщинистой ладонью.
– Значит, комнаты освободились? – едва слышно спросил Гудо.
Ванда кивнула.
– Так вот. Эту женщину и ребенка отведешь в лучшую. Составишь контракт и впишешь ее в девки. Гостей сейчас нет, и это хорошо. Я сам буду вносить оплату за ее услуги. Я буду ежедневно приходить.
– Я поняла. Она твоя родственница. Или еще важнее. Но если она девка, к ней может зайти любой. И ни я, ни ты не сможем в этом ему отказать. Таковы правила.
– Я знаю, – тихо произнес палач. – От тебя только требуется шепнуть каждому желающему, что она была в объятиях палача. Слышишь, не забудь. И будь с ней поласковее. Она будет моей, а значит, и твоей госпожой.
Старая Ванда снова кивнула и, с трудом встав, подошла к Аделе.
– А она хорошенькая. Могла бы заработать звонкую монету. А это ее дочь. Миленький ребенок. Для тебя, красотка, я приберегла хорошую комнатку. И для девочки место найдется, если случится гость…
– Какой гость? – Адела растерянно посмотрела на Гудо.
– Твой гость – это я, – уверенно произнес палач и крепко сжал плечо содержательницы борделя. – Поменьше болтай, старая. Теперь я буду постоянным гостем в этом доме.
Побыв некоторое время с Аделой и дочерью в их новом жилище и еще раз строго поговорив с Вандой, Гудо отправился в здание тюрьмы.
Был уже полдень, и, значит, должны были привезти колдуний из деревни на болоте.
Гудо вошел во внутренний дворик и увидел двух стражников. У их ног сидела девочка лет десяти и играла цветными камешками и косточками мелких обитателей леса.
– Это девочка из деревни на болоте?
Один из стражников ответил:
– С ее матерью сейчас беседует инквизитор. А старуху мы связали и посадили в нижнюю камеру. Мы не знаем, чего можно ждать от ведьмы. А ты?
Гудо пожал плечами.
– С такими я не встречался. До пыток.
Палач спустился в комнату пыток и уселся за стол. Он долго ждал и смотрел на то место, где вчера ползал преступник Мартин. На прелой соломе остались его испражнения и сгустки почерневшей крови. Палач тяжело вздохнул и принес со двора свежей соломы. Затем он метлой сгреб в старый мешок прежнюю подстилку.
Просидев еще некоторое время, Гудо подошел к своим инструментам и осмотрел множество щипцов, крюков, игл и шипов. Все они были в рабочем состоянии, без намека на ржавчину. Далее палач проверил работу многих механизмов, особенно внимательно отнесся к подъемнику и поворотному колесу дыбы для подвешивания. После некоторых колебаний он направился в угол комнаты, где находился механизм для пытки водой.
Гудо еще долго ждал, но его так никто и не потревожил. Тогда он покинул здание тюрьмы и отправился в бордель. Палач даже сам себе улыбнулся. Он впервые шел в гостиный дом не в назначенное время. До этого дня у него не было причины и желания проведывать старую Ванду и тем более ее девок.
А старая Ванда принялась за новый кувшин вина. В этом ей помогали безносая Метц и маленькая Анхен. Увидев палача, девки тут же убежали, а содержательница борделя сердито засопела.
– Еще раз почувствую от тебя запах вина, сломаю палец, – твердо пообещал ей Гудо и поднялся в комнату Аделы.
Адела сидела на широкой кровати и грустно смотрела на дощатый пол. Она уже поняла, куда ее привел Гудо. Но, не имея возможности что-либо изменить, она предалась грусти и печали. Она так и не посмотрела на вошедшего палача и на все его вопросы отвечала коротким кивком.
Ее не обижали и не беспокоили вопросами. Ей и Грете дали хороший и обильный обед. Гости не шумели и даже не приходили…
О подробностях Гудо расспрашивать не решился и, понимая, что Аделе нужно побыть самой, вскоре ушел.
Он долго не мог заснуть. Отвыкший за последнее время от кровати, Гудо часто ворочался и даже несколько раз произнес бранное слово. Уже под утро он бросил на пол плащ и улегся на нем. Только после этого он почти сразу провалился в сон.
На следующий день с утра Гудо отправился на полевой рынок возле лагеря, а вторую половину дня провел в здании тюрьмы. Но его опять не беспокоили. Стражники с неохотой рассказали, что со старухой и ее дочерью Мабилией и днем и ночью беседует инквизитор. Дважды отец Марцио спускался и к преступнику Мартину. Он никому не позволяет беседовать с убийцей и его сообщницами.
Гудо пожал плечами и отправился к Аделе. Но и в этот визит беседы не получилось. Палач вручил старой Ванде полгроша за два визита и с печалью в сердце отправился домой.
В обед следующего дня Гудо пошел в Ратушу, чтобы внести в городскую кассу деньги, собранные как налог за торговлю. На ступеньках здания он остановился. В нескольких шагах от него гневно говорил Альберт. Его слова были обращены к согласно кивающему бюргермейстеру.
– Мои люди устали жить в лесу. Их жены не дают мне покоя, требуя вернуть своих мужей и братьев. Скоро начнутся дожди. Мы не можем жить без крыши над головой. Почему наших людей не пускают в город? Вы нарушаете договор.
Бюргермейстер устало вздохнул.
Альберт раздраженно схватил его за руку и угрожающе сказал:
– Нам ничего не остается, как не пропускать селян в город. Может быть, голод заставит вас понять наши трудности. Да и продукты нам понадобятся. Нас становится больше.
– Как больше? – спросил Венцель Марцел. Эта новость заставила его встревожиться.
– К нам присоединились родственники и соседи. Я сам их осматриваю. Среди них нет больных.
– Вы погубите и себя, и нас! – испуганно воскликнул бюргермейстер.
– Мы должны защитить себя. Город не желает видеть нашего горя. Но мы и сами справимся с ним. Когда состоится казнь убийцы? Он же во всем сознался.
Венцель Марцел неуверенно пожал плечами.
– Тогда мы придем и сами его разорвем.
Альберт гневно посмотрел на бюргермейстера и, повернувшись, стал спускаться со ступенек.
– Отец Марцио все еще занят расследованием! – в спину ему крикнул Венцель Марцел.
Бюргермейстер тяжело вздохнул и уже собрался войти в Ратушу. Но тут его взгляд упал на палача.
– А вот и ты. Пойдем, проведаем наших ведьм. Отец Марцио действительно не торопится. А эти могут… Да, они могут.
Солнце уже завершало свой дневной поход, когда в комнату для пыток вошел Венцель Марцел.
– Готовься, палач. Я все же уговорил старого инквизитора. Он согласился ускорить дело. Нужно бросить кость людям Альберта. И как можно быстрее.
Через некоторое время в комнату вошли отец Марцио, настоятель собора отец Вельгус, алтарник Хайнц и писарь. Церковники уселись за стол, писарь занял место за маленьким столиком в углу.
– Согласно положению о святом трибунале инквизиции суд над ведьмами справедлив, так как присутствует три священнослужителя и писарь для записи дела. Бюргермейстер, если желает, может остаться.
Инквизитор посмотрел на Венцеля Марцела. Тот кивнул и сел рядом с писцом. Отец Марцио также кивнул и торжественно произнес:
– Цель инквизиции – уничтожение ереси. Ересь же не может быть уничтожена без уничтожения еретиков. А еретиков нельзя уничтожить, если не будут уничтожены также защитники и сторонники ереси, что может быть достигнуто двумя способами: обращением их в истинную католическую веру или обращением их плоти в пепел после того, как они будут выданы в руки светской власти. Согласно булле папы Григория IX «Голос в Риме» и постановлениям Папы Александра IV суду инквизиции подлежит всякое колдовство – все, что явно пахнет ересью. Суду инквизиции предается некая Эльза. На предварительном следствии инквизиция установила неоспоримые факты ее связи с дьяволом. Она неоднократно подтвердила это словами покаяния и просьбой избавить ее от чар сатаны. Но едва женщина предстала перед судом, она, наущенная дьяволом, отказалась от многих своих слов. Поэтому суд счел себя вправе требовать применения допроса с пристрастием в виде утвержденных инквизицией пыток. Палач, тебе известны те пытки, что утверждены святым трибуналом?
– Да, – глухо ответил господин в синих одеждах.
– Хорошо. Стража, введите эту женщину.
Дверь медленно, со скрипом отворилась, и двое стражников подвели к столу сгорбившуюся старуху в грязном тряпье. Она была согнута в дугу и, если бы не палка, то, наверное, совсем бы легла на каменный пол.
– Женщина, назови свое имя.
– Ох, давно меня им не называют. А когда-то парни с нежностью называли меня Эльзира. Дрались из-за меня, – хриплым голосом ответила несчастная.
– Ты можешь произнести молитву. Хотя бы «Отче наш».
– Я уже настолько стара, что заговариваю сама с собой. Многое и не помню. Но могу сказать о своей соседке, рыжей Марте, что она шлюха. Я ей это в глаза говорю, как услышу ее голос.
– Значит, ты не произносишь молитв. Об этом мы с тобой беседовали. Ведьмы отказываются от молитв. Писец, сделай запись, – строго велел инквизитор.
– Ведьмы? Кто ведьмы? – Старуха приложила руку к уху.
– Ведьма – это колдунья, которая с помощью открытого или тайного союза с дьяволом сознательно и умышленно использует его мощь, чтобы творить чудеса, – четко произнес отец Марцио.
– Какие чудеса? – Старуха сделала один шаг к столу.
Инквизитор сердито засопел и еще громче сказал:
– Мы беседовали с тобой, и ты во всем призналась. Ты согласилась с тем, что ведьмой или каргой является та, которая, будучи введена в заблуждение союзом, заключенным с дьяволом, убеждаема, побуждаема или обманываема им, полагает, будто она может сделать по злому умыслу или с помощью проклятия сотрясение воздуха молниями и громом, чтобы вызвать град и бури, передвинуть зеленые поля или деревья в другое место, перемещаться на своем домашнем духе (который обманом принимает форму козла, свиньи, теленка и прочего) на некую достаточно отдаленную гору в удивительно короткий промежуток времени. А иногда летать на посохе, вилах или некоторых других предметах и проводить всю ночь напролет со своим возлюбленным сатаной, играя, пируя, танцуя, развлекаясь и ублажая дьявольское вожделение тысячей непристойных забав и чудовищных насмешек над Господом. Ты признаешь за собой такое?
– Мои уши не успевают услышать всех твоих слов, мой добрый святой отец. Но это было. Я улетала с возлюбленным на высокие горы и предавалась греху. А кто без этого…
– Ты признаешь, что твоим возлюбленным был дьявол?
– Потом он стал дьяволом, – грустно ответила старуха.
– С тобой на шабаш летали твоя дочь и внучка? – громко спросил отец Марцио.
– Нет. Такого не было и не могло быть.
Инквизитор устало вытер ладонью вспотевший лоб.
– Вчера ты говорила мне другое. Палач, покажи ей твои инструменты.
Гудо тяжело вздохнул и подошел к старухе. Он взял ее за костлявые плечи и повернул к себе. Старуха запрокинула голову. На испещренном морщинами лице с глубоко вдавленным беззубым ртом и гниющей в нескольких местах коже мутными льдинками слезились глаза.
– Она слепа. Или почти слепа! – невольно воскликнул палач.
– После долгих сношений с дьяволом это не мудрено, – сухо ответил инквизитор. – Знай свое дело, палач. Приступай к первой пытке. На дыбу ее.
Господин в синих одеждах протянул руки и стал стаскивать со старухи тряпье.
– Ты что позоришь меня? Отойди прочь! – хрипло вскрикнула она и замахнулась куда-то в сторону своей палкой.
Палач вырвал и отбросил старушечье оружие и несколькими движениями оголил сморщенное тело несчастной. Та заплакала и уселась на пол. Гудо подхватил старуху и быстро связал ее руки сзади веревкой, что свисала с поворотного блока, укрепленного на балке под потолком.
Затем палач занял место возле подъемного механизма и начал вращать рычаги, приводящие в движение барабан. Барабан стал наматывать на себя веревку, и руки старухи поползли вверх.
Ссохшиеся кости и сухожилия сразу же заставили старуху закричать от боли:
– О Господи! О Святая Дева Мария!..
– Достаточно. Она скажет все, – уверенно произнес инквизитор.
Глава 17
Инквизитор задавал свои бесконечные вопросы до позднего вечера. Когда все закончилось и Гудо остался сам в комнате, его охватила страшная усталость. Она и должна была прийти. Ведь многие дни он недосыпал и терзал свою душу сложными вопросами. Поэтому он лег на стол и сразу же уснул.
Спал он долго, будто провалился в глубокую яму. Его едва смог растормошить тупым концом алебарды молодой стражник.
– Эй, палач! Просыпайся. Суд над ведьмой уже начался.
– Какой ведьмой? – спросонья спросил Гудо.
– Над дочерью старухи. Она покрепче. Тебе придется повозиться с ней. Инквизитор послал предупредить, чтобы ты был готов.
Гудо сел за стол и, ни разу не пошевелившись, сидел до тех пор, пока двое стражников не втащили в комнату упирающуюся женщину. Сильные мужчины, злорадно ухмыляясь, тут же стали срывать с нее одежду.
– Теперь ты в руках палача. Слышишь? Палача, – приговаривал один из них. – Теперь ты почувствуешь его ласки.
– Тебе не нравились наши руки и тела. Ты выгибалась и сопротивлялась. Но мы с тобой этой ночью были нежны. А теперь испытай нежность палача.
Гудо поднялся и медленно подошел к веселящимся стражникам.
– Прочь! – громко крикнул он и стал вытаскивать из ножен свой меч.
Стражники испуганно уставились на грозного палача и, попятившись, выскочили за дверь. Гудо шагнул за ними, но в проеме двери уже стоял старый инквизитор. Посмотрев на обнаженную женщину, он удовлетворенно кивнул:
– Ты уже приступил. На дыбу эту ведьму.
Пока священники и писарь занимали свои места, палач стал связывать веревкой свою жертву. К ее левой ноге он прикрепил тяжелый камень. Женщина не сопротивлялась. Она тихо плакала и, едва шевеля губами, произносила молитвы.
Отец Марцио ласково сказал:
– Мабилия, зачем ты упорствуешь? Мы зачитывали тебе показания Мартина и твоей матери. Мартин дал свои показания по доброй воле. Старуха – после первой пытки. Их слова совпали. Сознайся во всем, и тебе не причинят боли.
– Моя мать – полоумная старуха, – неожиданно твердо произнесла женщина. – А этот негодяй Мартин хочет погубить нас и мою маленькую девочку.
– Он раскаялся и рассказал правду.
– Он все выдумал. Он лжец. Когда он появился у нас, то предложил хорошие деньги за выпечку хлеба. Он хитрой лисой втерся в нашу семью. Затем ночью забрался в мою постель. Я терпела, чтобы не напугать дочь. Так продолжалось долго. Но ему было мало моего грешного тела, и он стал хватать своими грязными руками мою маленькую дочь. Я прятала ее то у соседей, то в лесу. Теперь он решил погубить и ее. Это истинный слуга сатаны. Гореть ему в аду.
– Значит, ты все же отрицаешь, что призывала дьявола и отдавалась ему?
– Единственного дьявола, которого знало мое тело, зовут Мартином.
– Ты нам все расскажешь. Палач, знай свое дело.
Гудо на мгновение представил свою дочь в объятиях Мартина, и его руки, начавшие вращать барабан, замерли.
– Палач, знай свое дело! – громко велел инквизитор.
– Палач, суд инквизиции не должен ждать.
Это произнес отец Вельгус. В его глазах горели злорадные огоньки, а в руках была судьба самого Гудо.
Палач с силой стал вращать рычаги, и обнаженное тело с вывернутыми вверх руками поднялось до самого потолка. Распущенные волосы цвета остывшей после плавки меди упали на искаженное болью лицо женщины, но не смогли укрыть все еще молодое тело с большими упругими грудями и крепкими бедрами.
Гудо опустил глаза. Ему на мгновение показалось, что это ослепительное в правильности строения тело принадлежит его милой Аделе. Он глубоко вздохнул и замер. Но, услышав сдавленный женский стон, господин в синих одеждах отпустил рычаги и, вновь схватившись за них, остановил барабан. От этого рывка руки женщины выскочили из плечевых суставов, причинив ей невыносимую боль.
– Вы слышите, она даже не рыдает. Это дьявол укрепляет ее тело! – воскликнул инквизитор, обращаясь к членам суда.
– Сознание покинуло ее, – глухо сказал палач.
– Да? Зачем же ты так быстро вырвал ей руки? Она должна была повисеть и сказать суду всю правду. Тогда мы можем пообедать. А ты, палач, приготовь ее ко второй пытке, утвержденной святой инквизицией.
Оставшись наедине с несчастной женщиной, палач перенес ее на стол и стал внимательно осматривать ее припухшие плечевые суставы. Тяжело вздохнув, Гудо перевернул тело лицом вниз и сдвинул на край стола. Теперь рука могла свободно свисать. Но палач не дал ей повиснуть, понимая, какую боль это может вызвать у Мабилии. Прежде всего ее нужно вправить в сустав.
Гудо напрягся и, сделав вращательное движение, быстро рванул правую руку на себя. Женщина тихо ойкнула и со страхом открыла глаза:
– Убей меня, палач. Богом прошу.
Господин в синих одеждах не ответил. Он передвинул женщину на другой край стола и взялся за левую руку. Слезы потекли из глаз Мабилии. Она хотела что-то сказать, но ее горло сжимала ужасная боль.
– Сейчас тебе станет легче. Потерпи.
Палач рванул руку. Женщина дико закричала и опять потеряла сознание.
Когда она пришла в себя, то была уже одета. Ужасный господин в синих одеждах сидел рядом у стола и с печалью смотрел на несчастную. Она не смела пошевелиться. Палач в свете факелов казался ей дьяволом. Точно таким, каким он изображен в книге, которую принес проклятый Мартин.
А в первые недели Мартин был добрым, ласковым и очень щедрым. Он ездил на старой повозке по селениям и покупал продукты. Познакомившись с Мабилией, он щедро расплатился за мешок брюквы и предложил заработать еще немного денег. Вскоре пришел мастер и быстро сложил большую печь. В ней-то и выпекался хлеб, замешанный руками Мабилии и старухи матери. В эти замесы Мартин постоянно что-то добавлял и, смеясь, просил старуху поколдовать над тестом.
Выжившая из ума старуха действительно что-то бормотала и смеялась вместе с поселившимся у них мужчиной. Не она ли и призвала в их дом беды и несчастья? Ведь мать и раньше занималась ворожением и заклинаниями. Она пользовалась травами и амулетами. Она была повитухой и даже лечила женские хвори. Кто берет на себя чужие болезни, не может не знаться с демонами, насылающими их. Этим старуха погубила дочь, а вместе с ней и внучку.
Но нет. Эти злые люди не посмеют причинить вред ее девочке. Ведь ее душа чиста, а тело безвинно. И пусть судьи тысячи раз зачитывают слова проклятого Мартина и безумной бабки. От нее они не услышат и полслова о дочери. Для матери дитя свято.
– Боль прошла? – едва слышно спросил палач.
Женщина приподняла руки.
– Хорошо. – Гудо кивнул. – Но тебе будет лучше, если ты подтвердишь все, что от тебя требуют. То, что ты испытала, это еще не боль. Вон в углу узкая скамья. Я привяжу тебя к ней и механизмом подниму ее середину. Ты выгнешься, насколько будет возможным. Затем в твой рот я впихну солому и старые тряпки. А после этого вставлю лейку и буду медленно вливать воду. Медленно и много. Если ты не прервешь пытку, твои легкие начнут сжиматься и рвать те нити, на которых они держатся. Грудь и горло пронзит такая боль, что твое сердце, возможно, разорвется…
– Пусть бы оно разорвалось скорее, – спокойно сказала Мабилия.
– А если сердце выдержит, то кровь, посланная им в голову, лишит тебя разума.
– Бог лишил меня разума, когда я, изменив покойному мужу, открыла объятия другому мужчине.
– И последнее. Если ты будешь упорствовать и совсем разгневаешь судей, они наверняка прикажут мне стащить тебя на пол и прыгнуть на твой раздувшийся живот. Такое мне приходилось видеть.
– Значит, тогда с меня вылетит плод проклятого Мартина. Я умру счастливой. Но не погублю свою дочь. Ее уже погубил ты! В прошлом году, перед казнью разбойников, моя несчастная Сузи притронулась к твоей проклятой железной палице. Соседи ее жалели, но все знали – она проклята и ее скорая смерть будет ужасной. Но мои слова не станут причиной ее смерти.
Гудо содрогнулся и отвернул свое лицо от женщины. Он еще хотел рассказать о третьей пытке святой инквизиции. Это когда ступни ног пытаемого человека смазывают жиром и пододвигают к ним жаркий огонь, не давая ему коснуться плоти. Но он понял: никакая боль, ни тем более слова о ней, не заставят эту настоящую мать оговорить свое дитя.
Палач тихо застонал, отошел к стене и припал лицом к покрытым плесенью камням.
* * *
– Трибунал святой инквизиции, имея признания виновных, не может вынести решение до проведения последнего этапа следствия. В силу того, что степень признания вины обвиняемых различна – Эльзира после первой пытки, а Мабилия во время третьей сознались частично, – необходимо произвести осмотр тел для обнаружения на них печати дьявола. Святая Церковь исходит из того, что во время пыток тело находится во власти дьявола и может управляться им. А вот печати, они же клеймо, оставленные нечистым, уже не управляемы им. Они могут перемещаться по телу, но уже никогда исчезнут. Никто не служит сатане и не призывается к поклонению перед ним, не будучи отмечен его знаком. Клеймо – это самое высшее доказательство, гораздо более бесспорное, чем обвинения или даже признания. Еще не представал перед судом ни один человек, который, имея клеймо, вел бы безупречный образ жизни, и ни один из подозреваемых в колдовстве не был осужден, не имея клейма. Палач, ты закончил обрывание волосяного покрова на телах обвиняемых?
Отец Марцио посмотрел на палача и продолжил:
– Для более правильного понимания этого процесса суд счел необходимым пригласить лекаря Хорста, который имеет подтвержденную степень доктора. Палач, подведи к нам старуху.
Господин в синих одеждах приподнял старую Эльзиру и принес ее к судейскому столу.
– Придерживай ее, палач, – улыбаясь, сказал Гельмут Хорст и склонился над обнаженным телом.
Он тщательно осмотрел каждый участок кожи, надолго задержавшись на лице, груди, ниже спины и между ног. Старуха охала и ахала. Из ее подслеповатых глаз беспрерывно текли слезы. Но руки лекаря безжалостно заставляли ее открываться и подвергаться насилию.
– На теле обвиняемой очень много подозрительных мест. Теперь можно и иглой, – весело сказал лекарь.
Инквизитор подошел к старухе и усадил ее на табурет.
– Палач, смотри. Видишь сосок дьявола?
Святой отец показал пальцем на морщинистое вздутие между дряблыми мешочками грудей старухи.
– Проткни его.
Гудо, который провел бессонную ночь, пытая несчастную Мабилию, а затем страдая от душевных мук, бросил на инквизитора мутный взгляд. В его ушах еще стоял крик несчастной женщины, признавшейся в том, сколько раз, где и в какой позе она отдавалась сатане.
Заметив неуверенность Гудо, отец Вельгус встал справа от Эльзиры и настороженно посмотрел на палача. Господин в синих одеждах кивнул и, выбрав длинную тонкую иглу, медленно погрузил ее в указанное место.
Старуха замотала головой, но ни крови, ни крика проникновение железа у нее не вызвало.
– Это печать дьявола. Бескровное и безболезненное место. Из этого соска нечистый пьет кровь и вытягивает душу своих слуг, – возликовал инквизитор. – А вот, посмотрите, на животе отметина в виде лягушачьей лапки. Да вы посмотрите, старуха вся в белых пятнах и язвах. А опухлости век! Палач, проткни это место, и это, и вот это… Игла почти чиста, и болей она не испытывает. Дьявол долго владел ее телом. Убери ее, палач. Давай другую.
Над телом несчастной Мабилии возились долго. Оно было почти чистым, за исключением родимого пятна на правом предплечье и желтых пятен вокруг сосков.
После вчерашних пыток она едва вздрогнула от проникновения иглы. Да и кровь, чуть выступив, быстро свернулась. Вместо нее сочилась прозрачная жидкость.
В заднем проходе Мартина Гельмут Хорст обнаружил и указал инквизитору на контур зайца, а также обратил внимание на искривленный мужской фаллос, что приподнялся после изучения его руками лекаря.
У маленькой Сузи на ножках были обнаружены ранки и гнойнички. И хотя девочка кричала и плакала, а из ран текла кровь, инквизитор торжествующе заключил:
– И у этого создания в теле демоны. Это они, защищаясь, вызывают боль и стачивают свою кровь. Писец, все запиши.
Затем отец Марцио сел за стол и повернулся к судьям:
– Вина подсудимых доказана полностью. Теперь мы передадим их городским властям. Думаю, городскому суду вполне достаточно тех доказательств, что имеются в распоряжении инквизиции. Господь благословит судей, если завтра в полдень тела колдуний будут сожжены на кострах, а их души предстанут перед судом Божьим.
– Это справедливо перед Богом и людьми, – громко сказал отец Вельгус.
– Это справедливо, – подтвердил алтарник Хайнц.
После этих слов священнослужители стали обсуждать детали, необходимые для написания приговора.
Палач подошел к Гельмуту Хорсту и тихо обратился к нему:
– Ты же лекарь и не можешь не знать, что те места на теле этих людей связаны с болезнями.
– Особенно у женщин, – подтвердил Гельмут. – Мне думается, они больны проказой.
– Так и есть. У старухи, с ее хрипотой, увеличенными мочками ушей и бугристостью кожи, это предпоследняя стадия болезни, – добавил палач.
– Святая Церковь разбирается в этом лучше нас. И если она видит в пятнах и опухлостях печати дьявола, значит, так нужно.
– Кому нужно? – удивился Гудо.
– Тебе, мне, другим – всем, кто не желает захворать болезнью, от которой гниет тело. Дай Бог, святая инквизиция сожжет всех ведьм и колдунов. И тогда на земле не останется людей, передающих другим эту страшную болезнь. Костры инквизиции очистят землю и людей. А то среди нас слишком много слабых, больных и увечных. Но Господь уже очищает ее, послав чуму. Слабые вымрут и останутся только сильные и здоровые, способные рожать крепких детей.
– Ты не лекарь! – гневно раздувая ноздри, вымолвил Гудо. – Ты, ты…
– Хочешь сказать, палач? – нагло улыбнулся Гельмут Хорст. – Странно слышать это от палача. Но ответить, заявив, что ты лекарь, я не могу. Ты всегда позорил меня. В этом городе мне счастливой жизни не будет. Да и у тебя.
Лекарь зло поглядел на Гудо и вышел за дверь.
– А ведь он прав. Святая Церковь знает, как правильно поступать. Больные – это те, кто имеет тяжкие грехи за душой. Таким лучше умереть.
Палач устало посмотрел на отца Марцио. Инквизитор каким-то чудом услышал их разговор.
* * *
Обессиленный событиями последних дней, Гудо не решился проведать Аделу, боясь своей мрачностью вселить в ее душу еще большее беспокойство. Он отправился в свой дом и рано лег спать, едва перекусив хлебом и затвердевшим сыром.
Где-то посреди ночи ему приснился убиенный Патрик. Он тряс за плечи окаменевшего Гудо и требовал, чтобы тот проснулся. Патрик называл его братом и толкал палача к городским воротам. Но Гудо был не в силах ступить и шагу. Непонятная сила сковала его стальными обручами.
Гудо проснулся поздно. Он долго не мог очнуться, а когда почувствовал себя лучше, отправился на свой холм. Отсюда ему было хорошо видно, как на другом холме, возле городских ворот, плотники устанавливали четыре столба, а стражники носили к ним дрова и хворост.
Палач сидел и предавался тяжелым раздумьям.
«Завтра огонь сожрет еще четверых, трое из которых ни в чем не повинны. Умрут в угоду человеческой глупости и злости. Разве мало смертей? Даже чума не урок и не причина жалеть друг друга. Вместо взаимопомощи и понимания – озлобленность и желание смертей. Еще и еще смертей. Неужели это то, что Бог тайно вложил в каждого? И зачем? Что пользы Всевышнему в зверином желании человека видеть смерть ему подобных? Кто защитит, кто поможет слабым и убогим? Церковь? Инквизиция? Отец Марцио? Он тоже желает смерти людской. Может, и правы тамплиеры, восстав против лицемерия церковников. Их книги облегчают жизнь человека. Механизмы, машины, лекарства и многие другие знания. Захочет ли Церковь передать это простому человеку? Вряд ли, ведь ей не нужны знающие и думающие. Такие непокорны и во всем ищут пользу и смысл. А от людей требуется труд. Тяжелый и как можно более продолжительный. Пока они, истощенные, не умрут. Такова судьба человека. И самого меня. И Аделы? И маленькой Греты?..»
Гудо не хотелось прожить сегодняшний день. Еще больше – завтрашний. Он был бы рад, если бы жизнь вычеркнула весь предстоящий месяц и перенесла его в счастливое время, когда он сможет постоянно быть возле своих дорогих девочек. Этим и только этим он защитит их. И себя…
И все-таки он заставил свое тело подняться и пошел к месту предстоящей казни. Его, как одного из главных действующих лиц завтрашнего представления, встретили весело. А он не поднимал головы и все указания, как правильнее разложить хворост и дрова, давал коротко и очень тихо.
Приготовления к казни продлились до сумерек. Возвращаться в город было уже поздно. Впрочем, Гудо не хотелось в таком печальном состоянии показываться на глаза Аделе и Грете. Завтра. Завтра утром он пойдет к ним и сделает все возможное, чтобы его девочек не постигла та же участь, чтобы они не оказались возле костров, пожирающих человеческие тела.
Ночь он провел беспокойно. Опять снился Патрик. Но этой ночью он не прикасался к палачу и ничего не говорил. Он только грустно смотрел на Гудо и с сожалением покачивал головой.
Гудо едва дождался, когда сонные стражники откроют ему половинку ворот. Быстрым шагом он прошел по еще не пробудившимся городским улицам и очень скоро оказался у дверей борделя. Палач долго и громко стучал, прежде чем перед ним распахнулась дверь.
– Какого дьявола!.. – закричала открывшая дверь безносая Мец и, увидев палача, кисло улыбнулась.
Гудо отодвинул ее от двери и вбежал на второй этаж. Но…
Комната, где должны были еще спать Адела и Грета, была пуста. Палач долго смотрел на широкую кровать и не верил своим глазам.
«Нет. Они где-то здесь. Они не могли уйти. Они здесь», – твердил Гудо, распахивая двери всех остальных комнат. Очень скоро он убедился, что комнаты были или пусты, или в них находились заспанные девки.
Затем он медленно спустился по лестнице и сел за стол напротив пьющей вино безносой Мец.
– Где Ванда? – едва выдавил он из себя.
– Она прячется. Хотя и зря. От смерти не спрячешься. Ведь ты ее убьешь, палач? Правда, убьешь?
Девка быстро пьянела. Этой ночью она уже выпила кувшин вина.
– Где… Где они? – сглотнув горькую слюну, спросил палач.
– Они? А… Адела и девочка? А их нет. Эта старая ведьма Ванда каждую ночь пускала к ней за два гроша гостя. А тот нежный такой. В кровать к ней не лез. А все говорил, говорил и говорил. И даже стихи читал. Говорил, что баллады Петрарки. Я все хорошо слышала. Стены между нашими комнатами в одну доску.
– Какой гость? – опустив голову, спросил Гудо.
– Еще он сказал, что тот, кто привел Аделу и ее дочь, – палач, который завтра сожжет невинных людей. Да, очень много плохого он говорил о тебе. А больше давил на то, что только подлец может отдать дорогого ему человека в бордель, принудив его зарабатывать деньги грехом. А еще он клялся в любви и обещал заботиться о них всю жизнь. А она красивая, эта Адела…
– Кто он? – простонал несчастный палач.
– Кто? Да лекарь, Гельмут. Он как узнал, что это ты привел девку… так сразу на следующую ночь и пришел. Она долго не соглашалась. А когда услышала, что ты палач, заплакала. Еще он обещал любить ее и Грету. А еще… Он все же раздел ее и увидел раны. Адела плакала и сказала, что это от болезни. Но он ее успокоил и заявил, что это он ее вылечил, дав палачу хорошее снадобье, спасшее и ее, и дочь.
– Когда они ушли?
– Да еще темно было.
Гудо вскочил и бросился к двери.
– Так ты убьешь старую каргу? – спросила напоследок девка.
Палач выбежал на улицу и, недолго раздумывая, бросился к дому лекаря. Его сердце бежало впереди него, но проклятые ноги не хотели слушаться, и Гудо дважды упал в грязь улицы, но, быстро вскочив, продолжил свой бег.
Калитка в деревянном заборе лекаря Хорста была накрепко заколочена крест-накрест. Гудо ударами ног выбил ее и бросился к дому. Но и двери дома были тоже забиты досками.
«Южные ворота. Он не желал встречи со мной и поэтому выбрался через южные ворота», – догадался палач и поспешил к ним.
Еще не добегая до ворот, Гудо прокричал:
– Лекарь Хорст… Проходил? Проезжал?
Стражники с удивлением посмотрели на запыхавшегося господина в синих одеждах, и один из них сказал:
– Как только рассвело… Недавно проехал через ворота, дал крепкого кнута своей лошади. Его повозка просто летела по дороге. Сейчас он далеко…
Гудо выбежал на дорогу и во весь дух помчался по ее ухабам.
Он бежал долго, пока его легкие не отказались дышать, а ноги отнялись. И тогда он рухнул лицом вниз. Слезы смешались с пылью, и эта горькая каша забила рот.
– Я найду вас. Без меня вы погибнете. И я без вас не хочу жить… Буду искать. И если услышите, что я мертв, – не верьте этому. Я не умру, пока не найду вас. И я, и вы… Мы будем жить вечно…
Потом Гудо встал и, шатаясь, пошел дальше. Но каждый шаг давался ему все с большим трудом. И ноги опять предательски отказали ему.
Палач свернул в лес и сел под кустом. Сознание покинуло его точно так же, как и раньше, в мгновения, угодные Господу.
Он дважды приходил в себя. Но вокруг него непроглядной стеной стояла темнота. Он обреченно опускал веки и снова проваливался в непроницаемую тьму.
Только утренняя роса привела его в чувство. Жить, жить…
Сердце рвало грудь, а отдохнувшие ноги уже повели его по дороге. Он шел и шел, пока не уткнулся в виселицу. Это был карантин. Но ни на дороге, ни возле виселицы, ни в шалашах не было ни одного человека.
Тогда он сел у виселицы и прислонился к столбу.
Так он сидел долго. Очень долго. Он ничего не слышал и не видел. И, конечно же, не заметил, как возле него остановилась повозка со старым войлочным покрытием.
– Эй, палач. Эй, добрый человек. Ты слышишь меня? Это я, Арнульф. Ты знаешь меня. Ты жив?
Гудо с трудом открыл глаза.
– Жив, – улыбнулся маленький купец. – Это хорошо. А то живых скоро совсем не останется.
– Господь справедлив. Он усмирит смерть, – вяло произнес господин в синих одеждах.
– Это так. Но только после вчерашнего трудно в это верить. Пролилось много крови. В этом есть и твоя вина.
Гудо поднялся и нетвердым шагом подошел к повозке.
– О чем ты говоришь?
– Все началось с тебя. Ты уж прости, но это так… Казнимых колдуний привязали к столбам и стали искать палача. Тебя. Но не нашли. И тогда инквизитор предложил выйти любому. Никто не вышел. Бюргермейстер пообещал большие деньги. И опять не нашлось желающих. Горожане, люди Альберта, церковники и бюргермейстер не знали, что делать. Тогда этот убийца и насильник Мартин предложил себя в качестве палача. И ему не только позволили это сделать, но даже посулили свободу. Альберт долго спорил с бюргермейстером, а тем временем костры воспылали. Люди Альберта бросились, чтобы убить негодяя Мартина, однако инквизитор и город встали на его защиту. Началась свалка, кулачная драка. Пролилось много крови. А потом противники разошлись и взялись за оружие. Альберт собрал всех людей и достойно встретил отряд горожан. Даже рыцарь фон Бирк во главе отряда не помог бюргерам. Их загнали за ворота. Теперь люди Альберта желают захватить город и убить Мартина, а заодно и проучить горожан. Только Мартина уже не смогли найти. В этом клялся бюргермейстер.
– А те несчастные колдуньи? – тихо спросил палач.
– Они кричали и призывали Господа. Но их уже никто не слышал. В свалке люди не слышали и себя. Так они и превратились в головешки. Где их души сейчас? В раю или в преисподней? Только Господу известно.
– И это все началось из-за меня… – не то спрашивая, не то утверждая, произнес господин в синих одеждах.
– Тебе нельзя возвращаться в город, – вздохнув, сказал Арнульф. – Там будет война. Альберт пополняет свои отряды всеми желающими. За желающими придет и чума. Нужно уходить. Я еду на юг. Там уже была чума. Может, она утихла. Если Господу будет угодно. Поехали с нами. Ты добрый человек, вернул мне повозку. Да и защита моей семье не помешает. Я не воин. Я маленький человечек. Поехали…
Гудо подумал и отрицательно покачал головой.
– Мне нужно вернуться за своим крестом…
Эпилог Венеция, 1352 год
– Эй, вставайте. Ну, живее. Поднимайтесь…
Стражники, закованные в блестящие нагрудники, в крепких шлемах с поднимающимися забралами, кончиками копий подняли с холодных камней моста Риальто оборванцев – худого мужчину в рваном плаще, двух женщин и девочку лет десяти. Женщины тут же схватили свои корзины, а мужчина, защищаясь от копий, прижал к животу полупустой мешок.
– Откуда вы? Что вам нужно в Венеции? – громко спросил старший стражник и заглянул в одну из корзин.
Ничего особенного. Старые тряпки, несколько яблок и еще вперемешку овощи.
– Мы из… – заикаясь, начал мужчина.
– Что вы здесь делаете? – перебил нетерпеливый страж порядка и вырвал из его рук мешок.
И здесь ничего. Старый медный кувшин, котелок, позеленевший от старости, пара стоптанных башмаков.
– Мы пришли искать работу, – испуганно произнесла одна из женщин.
– Работу… – засмеялся старший стражник. Его смех подхватили еще трое крепких служителей закона. – Кто же возьмет к себе в услужение таких оборванцев? Девочка, подойди ко мне. Почему у тебя такие красные глаза? Почему у тебя пот на лице?
– Мы не ели два дня и шли всю ночь, – жалостливо промолвил мужчина.
– А мне кажется, что девочка больна… Ее нужно осмотреть. И ты поднимайся. Пойдешь с нами. О Господи, какое у тебя уродливое лицо. Что у тебя в мешках?
Мужчина, к которому обратился стражник, медленно поднялся и загородил своим огромным телом два больших мешка.
– Это мои мешки, – спокойно сказал он и отбросил полу синего плаща.
Стражник посмотрел на меч, потом на внушительного вида мужчину.
– Ты пойдешь с нами. Таков приказ дожа[67] Венеции. Все прибывшие в город должны быть осмотрены лекарем и допрошены приставом. Пошевеливайтесь. Вы не единственные бродяги в нашем славном городе.
В большом закрытом дворе, куда привела бродяг стража, уже толпилось множество народа. Почти все они ждали, когда пристав допросит их. Много быстрее проходил осмотр у лекаря.
К сидящим у входа людям подошел высокий человек. На нем была кожаная накидка с капюшоном, а лицо его скрывала маска с длинным птичьим клювом и стекляшками вместо глаз.
– Когда же вы прекратите водить ко мне всяких бродяг? Я даже через травы в своем птичьем носу чувствую вонь от их проклятых тел. Если эти травы и не спасают от чумы, то должны спасти хотя бы от гнилого запаха! – воскликнул лекарь, обращаясь к стражникам.
Те равнодушно пожали плечами и отошли к противоположной стене.
– Так, что тут у нас? Здоров. И ты, женщина, и ты. А у тебя что, девочка? А вот тебе не повезло. Скорее всего, у тебя чума, – не прикасаясь к ребенку руками, заявил лекарь, закончив осмотр.
– Девочка просто истощена, – глухо сказал мужчина с двумя мешками на плече.
Лекарь повернул к нему свой птичий нос и отшатнулся.
– Ты, ты, ты… О Господи… Палач…
Мужчина сбросил с плеча свой груз и медленно потянулся к лекарю. Дрожащей рукой он схватил маску за длинный клюв и резко сорвал ее с лица.
– Благодарю вас, Господи и святая Дева Мария. Вы указали мне верный путь и в мыслях, и в поступках… Где они? – Господин в синих одеждах приблизил свое ужасное лицо к покрытому мелким потом лицу лекаря.
– Я… Они… Что ты сделаешь со мной? Ты, исчадие ада…
– Однажды я просил тебя, лекарь Хорст, помочь мне спасти руку. И я сказал, что Бог поможет мне ответить тем же добром, а может, даже и большим. Я не убью тебя. Это и есть то большее, о чем я говорил. Я не убиваю людей. Теперь я возвращаю людей к жизни. И Господь знает, что таких во много раз больше тех, кого я умертвил. Только поэтому он привел меня сегодня к тебе. Где они? Говори правду, только правду. Ложь не убьет тебя, но сделает калекой на те несколько лет, что ты проведешь в ежедневной боли, прежде чем отправишься в ад…
Лекарь обреченно кивнул.
– У меня теперь другая женщина. У нее большой и богатый дом на Старой площади. А эта… Адела… И ее дочь… Они заболели. Да, да… Заболели. Это чума. Проклятая чума…
– Они не могли заболеть. В этом я уверен. Да и Господь не допустил бы…
– Значит, мне показалось. Но в Венеции такой закон. Я должен был отправить их на остров. Там карантин для всех, у кого есть признаки чумы. Но с острова еще никто не вернулся. Тем более что они там уже больше месяца…
Голос лекаря окреп, и его жалкое тело стало выпрямляться. Заметив, что на лице лекаря нет его привычной маски, к нему направились трое стражников.
– Эй, лекарь! Ты не можешь снимать маску во время службы. Таковы требования твоего договора с городом. Выполняй его.
– Да, да. – Гельмут Хорст замахал руками, чтобы успокоить их. – Вот эту девочку отправляйте на остров. Остальные здоровы. А мне пора отдохнуть.
Лекарь поспешно натянул на лицо свою птичью маску и повернулся спиной к Гудо. Он шагнул к двери и, открыв ее, не поворачиваясь, процедил сквозь зубы:
– Поступай, палач, как знаешь. Может, тебе удастся всех их спасти. И нашего с Аделой сына…
Едва до его слуха донесся хруст сжатых в кулаки пальцев палача, как он поспешно захлопнул за собой дверь и закрыл их на засов.
Через несколько часов стража под крик и возмущение несчастных, отобранных лекарем, стала усаживать их в широкую лодку. Рядом стояла еще одна лодка с четырьмя гребцами.
Тощий мужчина и две женщины уже не кричали. Они рыдали и тихо скулили, как собаки, у которых люди забрали последнего щенка. Да и девочка уже не билась в руках сердобольной старушки, которая прижала к себе связанного ребенка и тихо плакала, прислонившись спиной к борту проклятой лодки.
В десяти шагах стояли случайные прохожие и печально смотрели на тех, кого отправляли на остров.
Мужчина в синих одеждах окинул взглядом толпу и выбрал стройного юношу в чистой, добротной одежде. Он подошел к нему и внимательно посмотрел в юное лицо. От этого взгляда юноша побледнел, но глаз не отвел.
– Я хочу тебе кое-что подарить. Примешь ли ты мой дар?
– Если это добрый дар, то почему бы и не принять.
– Как тебя зовут?
– Я Луцио, из рода де Винчи. Мы с отцом в Венеции по торговым делам, – гордо сказал юноша, но затем печально добавил:
– Эти несчастные уже не вернутся. Так говорят все. Они обречены.
– Если так пожелает Бог. Возьми это. Если поймешь – используй. Если нет – передай сыну. И так до того наследника, которому это пригодится.
С этими словами человек в синих одеждах достал из мешка другой мешок – кожаный, черного цвета, и положил его у ног юноши.
– Вечером посмотришь, что в нем. А мне пора.
Не попрощавшись, мужчина подхватил свои мешки и неожиданно спустился по ступеням, чтобы прыгнуть в лодку к несчастным.
– Эй, берите весла и гребите! – крикнули стражники с другой лодки. – Гребите, а не то мы вас утопим.
Другие стражники шестами оттолкнули лодку от берега и направили ее к острову Лазаретто[68] в Венецианской лагуне.
* * *
Дож сидел в темном, узком переходе своего огромного дворца.
Он любил это место. Только здесь он мог отдохнуть от множества важных дел своей великой республики. Ему было хорошо в глубоком и мягком кресле.
– Мой господин, – послышался из темноты почтительный голос.
«О мой милый Анжело. Ты только и думаешь, что о своих обязанностях», – мелькнуло в голове стареющего правителя республики Святого Марка[69].
– Говори, – тихо велел дож.
– Они здесь.
– Пусть подойдут.
Из темноты возникли маленькие фигурки.
Дож протянул руки и ощупал тельца двух девочек и мальчика.
– Пусть их покормят и уложат спать.
Фигурки растаяли в темноте.
– Мой господин, – опять раздался почтительный голос.
После долгого молчания дож промолвил:
– Говори.
– Этот инквизитор…
Дож уселся поудобнее и велел:
– Пусть подойдет.
– Великий дож, я Марцио. Святая инквизиция прислала меня…
– Я читал письмо нашего Папы, – перебил священника правитель республики, – говори главное.
Человек в темноте прокашлялся и произнес:
– Вы должны нам помочь в поисках этого еретика.
– А из письма Папы следует, что он едва ли не новый мессия. Прогоняет чуму и воскрешает мертвых.
– Нет. Мертвых он не воскрешает. Но вылечил многих. Мы долго шли по его следам, и они привели нас в Венецию. Но святую инквизицию он интересует не как чудотворный лекарь. После расследования мы поняли, что у него в руках то, что должно принадлежать Церкви.
– И что же это? – в голосе дожа появился новый оттенок.
– Это тайна Церкви.
– Я должен помочь найти то, что мне неизвестно?
– Нужно найти этого человека. Это несложно. Он там, где больные чумой. И он лечит, давая пить больным… свою кровь.
– Кровь?
– Может, что-то и еще. Но этим он желает уподобиться Господу. Это страшный еретик. Он уже погубил коварством целый город в Германии. Он породил там войну. А потом на ослабленный город набросилась чума. Вымер почти весь город. Я чудом спасся. Его нужно остановить и передать Церкви. Папа Климент настаивает на этом.
– Мы поможем Папе. Если только этот человек в пределах нашей республики. Ступай.
Дож еще долго сидел в полном молчании. Он знал, что более месяца на острове Лазаретто врачует человек, дающий пить собственную кровь больным. И многие выжили. А значит, чуму можно побороть и нет нужды ссылать на остров больных. Но тогда куда же он будет отправлять неугодных ему людишек?
– Анжело, – после довольно продолжительной паузы позвал дож.
– Да, мой господин.
– Ты все слышал. Первое. Возьми… ты знаешь что. Подмешай в пищу. На острове не должно быть тех, кто знался с этим еретиком. И второе. Место еретика в моем подземелье. Сделай это тайно. Сегодня же.
– Да, мой господин.
Сколько же важных дел у республики Венеция…
Дож уже был в постели, когда к нему приблизился Анжело.
– Говори, – потребовал правитель республики.
– Первое я выполнил. А второе… Многие говорили, что он умер. В его теле не осталось крови. Но могилу указать не успели. Наверное, я использовал бóльшую дозу, чем нужно было.
– Тебя следовало бы убить, – раздался голос, приглушенный балдахином.
«Но где мне найти второго такого милого, как Анжело? И что за тайна у святой Церкви? Может, это великое богатство? Однако же Христос учил: «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небе».
Но кто знает, что там на небесах…
* * *
Анжело костяшками пальцев трижды ударил в низкую дверь, потом выдержал паузу и еще трижды постучал. Дверь тихо отворилась, и секретарь великого дожа юркнул в образовавшуюся щель.
Сквозь узкое решетчатое окно едва проникали лучи закатного солнца. Молодой человек постоял некоторое время, пока его глаза привыкли к темноте, и увидел в дальнем темном углу человеческие фигуры, в полном молчании сидящие на мешках с сарацинским зерном[70].
– Нам нужно уходить. В городе инквизитор, и оставаться здесь опасно. Я проведу вас на корабль, который отправляется в Сицилию. Там вас встретят наши братья и предоставят убежище.
– Это твои братья, – донесся из темноты глухой мужской голос.
– Мои, наши… Мне казалось, мы договорились на острове. Ты же сразу узнал тайные знаки храмовников на внутренней стороне моего кольца. И это открыло твое сердце мне как брату…
– Любое сердце откроется, когда ему сообщают, что все, кто на острове, обречены и есть только единственная возможность спасти себя и дорогих этому сердцу людей.
– Однако же мы договорились, что это сердце откроется братьям…
– Да, – после долгой паузы промолвил мужчина.
– Нам нужно поспешить. Через час лодки отбуксируют корабль в лагуну.
Фигуры в темном углу зашевелились. Слабые солнечные лучи осветили огромного роста мужчину в синем плаще с глубоко надвинутым на лицо капюшоном. Через правое плечо у него свисали два мешка, а огромные кулаки с нежностью держали ладошки двух детей. Из-за его огромной спины робко выглядывала женщина с грудным ребенком на руках.
– Пошли, – тихо произнес мужчина в синих одеждах, и Анжело, улыбнувшись, отворил дверь.
Они шли вдоль канала, на котором уже завершалась работа. Десятки длинных лодок, привязанные к высоким шестам, застыли у каменной набережной. Их хозяева вяло переговаривались друг с другом и сгружали корзины и мешки с товарами на верхние ступени широких лестниц.
– Гудо, – раздался тихий голос, и от стены высокого дома отделился высокий монах в старой сутане.
Анжело отшатнулся и испуганно вскрикнул:
– Отец Марцио…
– Да, мой мальчик. Ты можешь обмануть своего хозяина, но тебе никогда не удастся скрыть свои тайные замыслы от святой инквизиции. Ступайте за мной, и это сохранит вам жизнь.
– Нет, – твердо промолвил Гудо и ускорил шаг.
– Ах, как это опрометчиво! Ведь ты не глупец, палач.
– Я не палач, – зло выдавил мужчина в синих одеждах.
– Палач, палач… Так было угодно Господу. И только святая Церковь может вымолить у Всевышнего другой путь для тебя. Ты нужен ей. Ты и… этот черный мешок. Оставь этих людей и подчинись воле Церкви.
– Церкви нужен не я, а тайны тамплиеров. И как только они станут известны, Церковь избавится от всех свидетелей. Оставь нас, старик. У меня нет этого проклятого мешка. Я заслужил прощение Господа. Прощение и счастье…
– Постойте. Мне, старику, тяжело за вами угнаться…
Но Гудо все ускорял и ускорял шаг. Затем он подхватил детей на руки и бросился бежать, часто оглядываясь на спешащую за ним Аделу и трясущегося от страха Анжело.
– Вы не уйдете от святой инквизиции! – уже кричал отставший инквизитор.
– Сюда, – велел мужчина в синих одеждах и, спустившись по лестнице в конце улицы, пересадил детей на покачивающуюся на волне пустую лодку.
Пока на ее днище устраивались Адела и девочки, Гудо ударами меча обрубил веревки и велел венецианцу:
– Садись за правое весло. – Затем он оттолкнул спасительную лодку и, усевшись за левое весло, крикнул:
– В наших руках наша жизнь!
Весла упали в мутную воду и, выгнувшись, сдвинули лодку, а затем мужчины сильными гребками направили ее в открывшуюся между домами лагуну.
– Быстрей, быстрей, – требовал Гудо, но тонкокостный венецианец явно не успевал за мощнейшими гребками мужчины в синих одеждах.
– Эй, Гудо! Ты так ничего и не понял в этой жизни. Хотя твои знания и мудрость могли бы открыть глаза и душу. – Отец Марцио уже стоял на небольшой площадке над каналом, впадающим в открытую лагуну. С обеих сторон от него выстраивались вереницей до десятка крепких мужчин в черных длиннополых плащах. Они поспешно натягивали тетиву арбалетов. – Я не могу тебя отпустить. Я не могу отдать тебя этим проклятым тамплиерам.
– Они засыплют нас стрелами, – дрожащим голосом произнес Анжело. – Мы умрем…
– Это легкая смерть. Куда ужаснее умирать от пыток. Еще никто не смог их выдержать. Ты выдашь своих братьев. Я – все, что знаю. А чего не знаю, буду додумывать, когда на моих глазах начнут мучить Аделу и детей. Греби, греби, Анжело. А вы, мои дорогие девочки, смирно лежите на дне лодки и молитесь. Господь спасет нас.
Едва Гудо закончил говорить, как с ужасом увидел приближающийся к лодке рой арбалетных стрел. Закончив свой свистящий полет, большинство из них пронзили волны, и лишь несколько со звонким стуком вгрызлись в дерево лодки.
– А нас не так уж и легко достать, – нервно засмеялся Анжело.
– Они всего лишь пристреливаются. Греби, греби, брат…
Они сделали еще пару десятков гребков, и посланницы смерти вновь обрушились на преследуемых. Гребцы вскрикнули одновременно.
Гудо скосил взгляд и горько усмехнулся. В его правом предплечье, пробив мышцы, торчала короткая стрела с черным древком и оперением. В то же мгновение он почувствовал, как лодка ушла вправо.
Анжело наклонился вперед. Он уже готов был рухнуть со скамьи гребца, но крепкая рука мужчины в синих одеждах удержала его. Однако это уже не могло помочь венецианцу. В его груди, ближе к сердцу, торчала черная стрела.
Гудо с тревогой осмотрел Аделу и детей. Они были целы.
– Сейчас, сейчас…
Мужчина подтащил тело убитого и прикрыл им девочек.
– Потерпите, потерпите. Вам тяжело. Но так нужно. Адела, прижми мальчика к телу. Вот так. А мне нужно… Нужно.
Адела послушно придвинулась к мертвецу, но все же старалась защитить кричащего младенца своим телом.
– Господи, Господи, Господи, – не прекращала всхлипывать женщина. – Грета, мои дети. А-ах.
Злое железо вновь впилось в спасительное дерево. Адела приподняла голову. Девочки кричали, но кричали от страха. Господь отвел от них посланников сатаны. Только в спине мертвого Анжело торчали две стрелы.
А Гудо?
Гудо молчал. Хвала Господу!
Женщина повернулась к нему и… едва не задохнулась от ужаса.
В правом предплечье и плече мужчины торчало по стреле. Та же черная посланница вгрызлась в левое бедро. Но, несмотря на ужасные раны, Гудо греб двумя веслами. Греб и улыбался ей. Отброшенный капюшон освободил его огромную голову и уже не скрывал уродливого лица.
А эта улыбка… Она совсем… Совсем до неузнаваемости изменила жуткий дар природы.
Слезы наполнили глаза Аделы. Слезы человека, которому посчастливилось увидеть чудо при жизни. Это невероятно, но сейчас она видела притягательное лицо благородного мужчины. Ее мужчины…
И она улыбнулась Гудо. В первый раз душой и сердцем. Она не перестала улыбаться, когда проклятая стрела пробила ее ступню.
И он улыбался. И продолжал грести, даже почувствовав, как глубоко в живот вошло проклятое черное дерево.
Новая счастливая жизнь приближалась с каждым взмахом весел. Он видел этот дар Господа в глазах улыбающейся женщины.
И она видела – заходящее солнце за спиной мужчины сказочным волшебством золотило его синие одежды…
30.11.2009
Киев – Херсон
Примечания
1
Римская империя XIV века включала в себя земли современных стран – Германии, Чехии, Швейцарии, Северной Италии, Голландии.
(обратно)2
Полноправный гражданин средневекового города.
(обратно)3
Тирольцы – жители графства Тироль (южные земли Германии).
(обратно)4
Кондотьер – начальник отряда наемников, служивших за деньги. Определяясь на службу, кондотьер заключал письменный договор с королем или другим военачальником.
(обратно)5
Котта – верхняя шерстяная рубаха.
(обратно)6
Омюсс – во времена Средневековья головной убор на основе капюшона, носился преимущественно женщинами.
(обратно)7
Шемизетка – вставка, закрывающая декольте.
(обратно)8
Мауатр – женские плечевые валики для придания пышной формы рукавам.
(обратно)9
Блио – мужская и женская верхняя одежда. Мужское блио было узким, без рукавов или с короткими рукавами, женское – с рукавами разнообразных форм и размеров, украшалось поясом.
(обратно)10
Брэ – короткие штаны во времена Средневековья.
(обратно)11
Пулены – средневековая мягкая кожаная обувь без каблуков.
(обратно)12
Авиценна – арабский ученый раннего Средневековья.
(обратно)13
К описанному времени Салернская медицинская школа пришла в упадок, но была все еще самой «просвещенной» в Европе. Салерно носил название Гиппократова города.
(обратно)14
Роберт Сорбонна – духовник Людовика Святого, короля Франции, из рода Капетингов, правившего в 1226–1270 гг.
(обратно)15
Ги де Шолиак (1300–1367 гг.) – самый знаменитый хирург Средневековья.
(обратно)16
Врачеватели раннего Средневековья.
(обратно)17
Роль мандрагоры в мифопоэтических представлениях объясняется наличием у этого растения определенных снотворных и возбуждающих свойств, а также сходством его корня с нижней частью человеческого тела. Пифагор называл мандрагору «человекоподобным растением». В старых травниках корни мандрагоры изображаются как мужские или женские формы. Часто мандрагору связывали с нечистой силой и называли это растение «цветком ведьмы».
(обратно)18
От латинского слова «искусство». На факультете изучали классические науки – грамматику, риторику и диалектику, арифметику и геометрию, музыку и астрономию.
(обратно)19
Речь идет об историческом факте, имевшем место в 1185 году.
(обратно)20
Слава Богу.
(обратно)21
Кисть, отрубленная у преступника.
(обратно)22
Дословно: «бродячие девки», или проститутки.
(обратно)23
В других городах, к примеру, в Аугсбурге – вуаль с зеленой полосой, шириной в два пальца. В Вене – желтый шарф на плече, шириной в ладонь, длиною в один шаг. В Лейпциге – желтый кусок материи; домовые проститутки должны были носить колпак на голове. Во Франкфурте – желтый убор. Запрещено носить золотые цепи, бархат, атлас и дамаск. В Страсбурге – черная с белым шляпа. В Авиньоне – черный бант при светлом платье и белый бант при темном платье на левой руке, между локтем и плечом. В Безансоне – красный бант на рукаве. В Фаэнце – желтая вуаль, корзинка на правой руке. В Болонье – капор с погремушками. В Пьемонте – большой неуклюжий чепчик, с двумя рогами снаружи, длиной около полфута.
(обратно)24
Первоначально – широкий воротник монашеской одежды с капюшоном, позднее – это свободный плащ с пришитым капюшоном и черно-белыми квадратиками, а с XIV в. – это уже чисто театральный или маскарадный костюм.
(обратно)25
Тапперты – в Германии в период Средневековья: верхняя крестьянская одежда с узкими длинными рукавами, вшитыми в прямоугольную пройму и с застежкой или завязками спереди. Шился из домотканого холста или сукна.
(обратно)26
Труакар – удлиненный жакет.
(обратно)27
Гарнаш – верхняя одежда с капюшоном и боковыми разрезами.
(обратно)28
Блио – глухая одежда с низкой отрезной линией талии. Верхняя часть прилегает по линии плеч, груди, талии, расширяется к линии бедер. Нижняя часть выкроена в виде двух полукружий, пришитых к талии спинки и полочек. Общая длина достигает линии колен – середины икр. Рукава блио цельнокроенные, узкие, с воронкообразным расширением книзу.
(обратно)29
Чудовищный по масштабам и жертвам голодомор 1315–1317 гг.
(обратно)30
Кота – у мужчин – нижняя рубаха, у женщин – нижнее платье. Как правило, узкое одеяние с короткими или длинными рукавами.
(обратно)31
В средние века ремесленники объединялись в сообщества, цеха.
(обратно)32
Кожное заболевание, известное как рожистое воспаление.
(обратно)33
Любек – город на севере Германии, центр Ганзейского союза.
(обратно)34
Иов – святой, особо почитаемый в Венеции, где имеется церковь Сан Джоббе, и в Утрехте, где построили госпиталь Святого Иова.
(обратно)35
Нижняя узкая часть шоссов, подобная чулкам.
(обратно)36
Раймунд де Пеньяфорт – ученый богослов 1-й трети XIII века, католический святой.
(обратно)37
Латрины – общественные туалеты Древнего Рима.
(обратно)38
Деньги не пахнут.
(обратно)39
От «columbaria» – голубятня. Таково было неприличное название так называемого genicium (от «gynaeceum») – дома служанок в имениях знатных вельмож, который уже в VI и VII веках считался форменным борделем и в котором служанки проституировались сами или их проституировали господа.
(обратно)40
Юристы того времени.
(обратно)41
Метательные машины во времена Средневековья.
(обратно)42
Главный город Ганзейского союза на севере Германии.
(обратно)43
Грош – (польское grosz, немецкое groschen) – монета различных стран и времен. Впервые грош был отчеканен в Италии в конце XII века.
(обратно)44
Первоначально гульденом называли золотую монету, чеканившуюся в Германии с XIV века в подражание золотому флорину.
(обратно)45
Мелкая серебряная монета.
(обратно)46
Бобровая струя.
(обратно)47
Завтрак.
(обратно)48
Когг (от древнегерманского «kugg» – выпуклый) – средневековое деревянное парусное одномачтовое или двухмачтовое судно с высокими бортами и мощным корпусом.
(обратно)49
Флагелланты (бичующиеся) – братство XIII–XV вв., стремившееся истязаниями тела искупить грехи; странствовали по Италии и Германии, особенно в 1348 г., когда свирепствовала «черная смерть».
(обратно)50
Миннезингеры (нем. minnesinger – певец любви) – немецкие рыцарские поэты-певцы XII–XIV вв.
(обратно)51
Автор использовал отрывок из «Chronicon Urlitius Barsiliensis», написанной монахом – святым Иустинианом из Падуи.
(обратно)52
Современная Феодосия.
(обратно)53
В то время резиденция Папы Римского находилась в маленьком городе Авиньоне, на юге Франции.
(обратно)54
Имеется в виду 1348 год.
(обратно)55
Отче наш.
(обратно)56
Да придет царствие Твое.
(обратно)57
Да исполнится воля Твоя!
(обратно)58
Начальствующий над флагеллантами.
(обратно)59
Тамплиеры, храмовники (от лат. templum, франц. temple – храм) – духовно-рыцарский орден Храма Соломона.
(обратно)60
Эта зафиксированная документом история произошла в 1183 году.
(обратно)61
Блохоловка представляла собой коробочку с отверстиями, внутри которой находился клок шерсти, пропитанный кровью животного. Ее носили все благородные господа. Спасаясь от блох, благородные дамы часто носили с собой собачек, горностаев, хорьков и другую живность, температура тела которых была выше человеческой. Поэтому блохи перебирались на ручных зверьков.
(обратно)62
От латинского inquisitio – расследование. Трибунал католической церкви, осуществлявший сыскные, судебные и карательные функции, направленные против еретиков.
(обратно)63
В те времена мужчина пятидесяти лет считался человеком преклонного возраста.
(обратно)64
Короткая музыкальная пьеса.
(обратно)65
«В сомнительных случаях ищите сифилис».
(обратно)66
Рутьер – бандит-наемник.
(обратно)67
Глава Венецианской республики.
(обратно)68
Остров дал миру известнейшее название лечебного учреждения – лазарет.
(обратно)69
Официальное название Венеции в XIV веке.
(обратно)70
Рис.
(обратно)
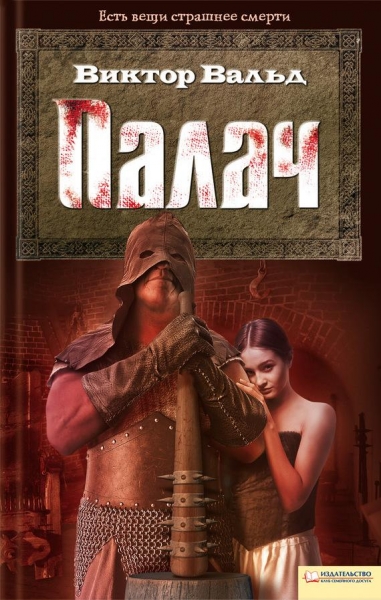






Комментарии к книге «Палач», Виктор Вальд
Всего 0 комментариев