Александр Струев Царство
При создании романа автор опирался на воспоминания Н.С. Хрущева, Л.М. Кагановича, А.И. Микояна, книги Светланы Аллилуевой, Уильяма Таубмана, Юн Чжан и Джона Холлидея, на документальные издания «Международного фонда «Демократия»» (Фонд Александра Яковлева), на сборник документов «Политбюро и дело Берия», на изданные в серии «Архивы Кремля» «Президиум ЦК КПСС. 1954–1964 гг. Черновые протокольные записи заседаний» под общей редакцией академика А.А. Фрусенко, на его работы и архивные материалы, и, безусловно, на личные воспоминания.
2 января 1955 года, воскресенье
Новогодние праздники самые долгожданные. Кто не любит Новый год? Вряд ли отыщется такой. Площади столицы украсили нарядные елки, кое-где зажгли разноцветные фонари. Настроение отличное, даже дышится в Новый год по-иному, легко и непринужденно.
Хрущевы всей семьей отправились в Парк Горького, папа давно обещал свозить детей на большой каток, купить цветных петушков-сосалок, покатать на каруселях.
— Пап, мы с горы поедем? — спросил маленький Илюша.
— Обязательно! — пообещал отец.
Ох, и крутые горы в парке отдыха! Неимоверно быстрые, на самый берег Москвы-реки санки выносит! Главное — ненароком шею не свернуть, а катается здесь пол-Москвы. Оседлаешь саночки и мчишь стремглав: «О-го-го-го-го!» Нина Петровна с девочками три раза с хохотом вниз скатилась. Напроказничались, так уж напроказничались!
Народу в парке — видимо-невидимо! Снег мягкий, податливый. Всякий, кому не лень, может сделаться скульптором. Тут и там детвора и взрослые катают снеговиков. Теперь они стоят повсюду: на центральной площади, на аллеях, вдоль набережной, даже у центральных ворот, где крутится веселая карусель, помигивающая разноцветной иллюминацией, выстроилась армия забавных снежных фигур. Сколько их здесь? Пятьсот, тысяча? Повсюду снеговики и снежные бабы: высокие и поменьше, толстенные, в три обхвата, и худышки — добродушные, улыбчивые, новогодние! А какая нарядная елка при входе! Никита Сергеевич с детишками слепил целую семью снеговиков: маму, папу и сыночка.
Два часа, без передышки, под лирические песни репродукторов хрущевские дети носились на коньках. Илюшу поставили на салазки, и папа, как лошадка, с громким криком возил его по ледяному полю, пытаясь догнать шуструю Иришку или угнаться за быстроходным Сергеем. Одним словом, накатались, накричались, нагулялись! Еле увели разгоряченную компанию домой. Нина Петровна нервничала: как бы Илюша простуду не подхватил. Вернулись домой уставшие, но такие счастливые! Приятная истома растекалась по телу, ноги гудели. Нина Петровна с Иришей устроились на диване перед телевизором, усовершенствованная модель которого, с увеличенным вдвое экраном, была установлена в гостиной.
— Научились телевизоры делать! — радовался Никита Сергеевич. Он прилег рядом, пытаясь смотреть передачу, но сон сморил — отец со свистом похрапывал.
В кабинете зазвонил телефон.
— Будь ты неладен! — вздрогнул первый секретарь и неуклюже поспешил в соседнюю комнату.
— Хрущев! — рявкнул он в трубку.
— Извините, что беспокою, это Серов.
— Чего тебе?
— Хочу о Василии Сталине доложить.
Никита Сергеевич понял, что ничего хорошего не услышит.
— Тут такое дело, не хочу вас расстраивать…
— Да говори, в самом деле!
— Василий четвертый день в загуле, — доложил председатель КГБ.
— Он в Барвихе?
— Да, в санатории «Барвиха». К нему друзья понаехали, спортсмены и бывшие сослуживцы, потом грузины какие-то появились. Пьют, медицинский персонал посылают. Вчера пьяной гурьбой гуляли, отдыхающих перепугали, на катке гвалт устроили, мат-перемат!
— Никто безобразие пресечь не может?! Главврач в санатории на что?!
— Пытались, а он в ответ: я — сын Сталина!
— Сын Сталина… — протянул Хрущев.
— В даче сидят, пируют. Девушек привезли, — докладывал генерал. — На ночь оставили, одна под утро сбежала, плачет, еле, говорит, вырвалась. Изнасиловали ее.
— Кто, Васька?! — вскипел Хрущев.
— Точно не скажу, мы без вашей команды не вмешиваемся.
— Так вмешайтесь, мать вашу! — не удержался Никита Сергеевич. Хорошо, разговаривал при закрытых дверях, дети брани не слышали.
— Есть! — отрапортовал Серов. — По этому поводу мне уже Молотов звонил.
— А этому что надо?
— Требует Василия немедленно в тюрьму.
— Пронюхал, шакал!
— В Барвиху Полина Семеновна на лечение приехала, вот ведь как совпало.
— Наводи порядок, — проговорил Хрущев. — Всех гостей за дверь, хулигана запереть, установить пост! Докторов ему дай своих, чтобы язык был на замке.
— Слушаюсь! — отчеканил генерал-полковник.
— Ты зачем, Ваня, мне праздник портишь? — устало вымолвил Никита Сергеевич. — Почему не бережешь меня?
— Извините, что огорчил, — оправдывался Серов, — не хотел до утра беспокоить, но без вас никак не обойтись, Молотов телефон оборвал.
В этот момент на столе тяжелым утробным звуком зазвонил белый аппарат правительственной связи.
— Молотов наяривает! — сообщил Никита Сергеевич. — Сейчас будет кровь пить!
— Ну, я вас предупредил, — отозвался Иван Александрович.
— Ладно, давай! — и Первый Секретарь положил трубку.
В правительственном санатории «Барвиха», на затерянной в дремучем лесу даче, шло шумное веселье. Прямо на крыльце два немолодых грузина развели между поставленными на ребро кирпичами огонь, и ловко жарили шашлыки. Рядом стоял полупустой ящик коньяка, это был уже третий ящик «Энисели».
— Автандил, что, готово?
— Сделал, сделал! — отозвался лысоватый Автандил. — Через минуту снимаю.
Напарник подал блюдо и Автандил водрузил на него шампуры с дымящимся мясом. Повара поспешили в дом. В столовой находилось пятеро мужчин и женщина. Все были мертвецки пьяны. Мужчины держались лучше, самыми трезвыми оказались два грузина, те, что готовили шашлыки. Один из них долгое время работал администратором ресторана «Арагви», где еще при жизни товарища Сталина часто пировал Василий Иосифович. Блюдо с шашлыками установили по центру стола, рядом выложили зелень, сыр и обжигающую дыхание аджику.
— Где Василий Иосифович?
Один из гостей, здоровяк в морской форме капитана третьего ранга, кивнул на закрытую дверь. Из-за двери слышалась возня и голоса.
— Не уходи! Куда ты? Постой! Я же тебя люблю!
— Отпусти!
— Стой, дура!
Из спальни выскочила совершенно голая женщина и, пробежав через комнату, скрылась в соседнем помещении. Через минуту она появилась уже в одежде, надетой кое-как, видно, одевалась наспех. Не говоря ни слова, беглянка схватила с вешалки пальто и выскользнула на улицу.
— Пусть уё…ывает! — провожая ее мутным взглядом, выдавил Василий Сталин.
Он появился вслед по пояс голый с жутко всклокоченными волосами.
— Где рубашка моя?
— Вот, товарищ генерал! — протянул скомканную рубаху коренастый капитан третьего ранга.
Василий Иосифович взял рубашку и стал натягивать на себя.
— Сбежала, дрянь!
— Не расстраивайтесь, — уважительно проговорил Автандил. — Вам разве прошмандовки нужны? Вам нужны красавицы, королевы! — закатил глаза солидный грузин.
Его щуплый товарищ начал раздавать мясо:
— Кюшайте, пака горячее!
В одну руку Василия сунули шампур с шашлыком, в другую рюмку с коньяком.
— За вашего великого отца, Иосифа Виссарионовича Сталина! — провозгласил Автандил.
Все мужчины, кроме Василия, который завалился в кресло, встали со своих мест.
— До дна! — гаркнул капитан третьего ранга.
— Забыли отца! — выдавил пьяный Василий. — Забыли! — и залпом опрокинул рюмку.
— Никто не забыл! Только вот эти, — показав глазами наверх, отозвался администратор «Арагви», — хотят, чтобы великого Сталина забыли, а забыть его невозможно!
— Невозможно! — хмуро подтвердил Василий.
Второй грузин долил всем коньяк.
— За вас, товарищ генерал! — продолжал администратор «Арагви». — Вы, Василий Иосифович, надежда и опора русского народа. Теперь вы за собой должны государство вести!
— Поведу! — икнул Сталин-младший.
— Таких людей как мы — вся страна, а страна — с вами! А те, — и он снова показал глазами наверх, — сраная кучка!
— Сраная кучка! — повторил Сталин-младший. — Убили отца, отравили! — блеснул мокрыми глазами Василий. — Изжили со света!
— В Грузии вас ждут, Василий Иосифович! С нетерпением ждут, с любовью!
— И американцы за вас, — поддакнул второй грузин. — Они вас обязательно поддержат, товарищ Сталин!
— Хватит мне здесь сидеть! — вставая и пытаясь надеть пиджак, прохрипел Василий. — Везите меня в Кремль, морды бить буду! Я им, сукам, задам! — оступившись, он чуть не упал, в последний момент его удержал капитан третьего ранга, бывший хозяйственник футбольной команды авиации Московского военного округа.
— Вы сначала шашлычка покушайте, а тогда поедем! — отозвался плечистый футболист, что сидел за капитаном третьего ранга. — Как вас не стало, так всю нашу команду разогнали.
— Где мой друг, Автандил? Почему не вижу? — потеряв администратора «Арагви» из виду, вымолвил Василий Иосифович.
— Блюет, — объяснил капитан.
Маленький грузин, который помогал жарить шашлыки, глупо хихикнул, и обернувшись к Василию Сталину, с чувством проговорил: — Я вашего папу вот где ношу, — он полез за пазуху и извлек на обозрение фото генералиссимуса. — У сердца ношу! Я за Иосифа Виссарионовича, за его сына умереть готов!
— Не умирай, друг! — простонал очнувшийся от спиртного тренер военной футбольной команды. — Вася, иди, я тебя поцелую!
Василий, шатаясь, побрел на зов, пожилой тренер распростер объятия и стиснул обожаемого генерала. Они долго обнимались и целовались в засос.
— Ну, хватит, хватит! — оторвал Василия капитан. — Чаю не желаете?
— Давай, — выдавил Сталин и, завалившись на соседний стул, оказался за столом. Голова у него гудела, он с трудом различал собеседников, стараясь сосредоточиться на девушке напротив. Она спала, облокотившись на стол и положив голову на руки.
— Как звать ее, Тая, Майя? Забыл!
— Марина, — подсказал капитан третьего ранга.
— Мариночка! — заулыбался Сталин-младший.
Капитан слегка потряс девушку:
— Маринка, вставай!
Она не реагировала.
— Хочу ее! — простонал Василий Иосифович.
— Так кто мешает! — отозвался щуплый грузин.
— Не здесь же!
— Сейчас отнесем ее в вашу спальню.
— И разденьте, ладно?
— Разденем! — хмыкнул грузин. — С таким человеком общаться будет!
Грузин с моряком подхватили спящую и понесли в комнату.
— А может, и мы ее тоже — того? — ухмыляясь, сощурился капитан.
— Офонарел?! Она сталинская! — грозно выдавил подручный.
Мужчины уложили Марину на постель и принялись раздевать. Последние несколько лет Василия Сталина совершенно не смущало, есть ли у понравившейся ему женщины муж или любимый человек. Без разговоров уводил с собой, если надо, то и силой, и держал взаперти до тех пор, пока пленница на все не соглашалась, правда, никогда женщин не бил, не обижал. Вернувшись из заключения, Василий вообразил себя снова тем же властным, способным управлять миром командиром. Казалось, ему снова все дозволено, его снова боятся, любят, обожествляют. Сколько их было, обожающих его женщин — сто, двести? Неважно. Сейчас ему хотелось эту, а потом — в Кремль, учинить разнос папиным холуям, поднять на дыбы страну!
У телефона был Молотов.
— С Новым годом, Никита Сергеевич!
— С Новым годом, Вячеслав Михайлович!
— Ты в курсе, что в «Барвихе» творится?
— Знаю, — отозвался Хрущев. — Васька нажрался.
— Нажрался?! — взвизгнул Молотов. — Он ведет антисоветские разговоры! Призывает к мятежу! Ты, Никита Сергеевич, на себя ответственность брал, а дело чем обернулось? Вопиющее предательство! Я тебя поддержал, а теперь — уволь, отправляй Ваську назад. Сажай его, Никита Сергеевич, иначе мы с тобой поссоримся!
Решение о смещении Маленкова с поста председателя Совета министров еще не было опубликовано, и хотя вопрос этот, казалось, был решен, однако все могло поменяться с точностью до наоборот, особенно теперь.
— Я виноват, Вячеслав Михайлович! — уступил Хрущев. — Думал, исправился парень, осознал.
— Горбатого могила исправит! — желчно выговорил министр иностранных дел и, не прощаясь, кинул трубку.
Никита Сергеевич с минуту сидел, не шевелясь, потом взял телефон и соединился с Серовым.
— Грузин, баб и гостей выпроводили. Василию делают капельницу, он притих, испугался, — доложил председатель Комитета государственной безопасности. — Девушка заявление об изнасиловании писать не стала. С каждого участника застолья взяли объяснение.
— Вот что, — перебил Хрущев, — вези, Ваня, Ваську назад.
— Куда назад? — не понял Серов.
— Куда-куда, в тюрьму!
9 января 1955 года, воскресенье
— Подайте-ка мне иконки! — протянула ладошки Марфа.
— Все, матушка?
— Все.
Иконки были простенькие, бумажные, одна лишь старенькая, в затертом медном окладе — Николай Угодник. Марфа раскладывала их на постели, перебирала, так и засыпала среди икон. Утром иконы оказывались на прежнем месте, в уголке, где горела лампадка.
— Кто их туда ставит? — удивлялась помощница.
— Живые они! — объясняла Марфа.
Целовала ей руку Надя.
— Храни тебя Бог, матушка!
— Храни всех нас!
Марфа молилась неустанно, могла забыть покушать, про все забыть, так велика была ее молитва. Очень радовалась она, когда на подоконник садились птицы, сразу поворачивала в их сторону свою незрячую голову.
— Голубушки разгуливают! — улыбалась Марфуша, словно видела их.
Поест, а крошки соберет для пернатых, потому на узеньком подоконнике постоянно ворковали сизые голуби.
Ходила Марфа плохо, шажок, другой и садилась — ноги не держали. Слабые ножки, маленькие, тоненькие, словно детские, такие же ручки и уже ничего не видящие, всегда закрытые глаза. Зато когда молилась — словно расцветала, преображалась, становилась как будто больше — все вокруг накрывала идущая из самого ее сердца молитва. Великая сила жила в этом плохоньком недоразвитом теле.
Отец Василий смотрел на Марфу и не понимал: как женщина-инвалид может так усердно молиться? Глядя на нее, и он, священник со стажем, начал молиться прилежней. Теперь Василий не скороговоркой выплескивал перед прихожанами проповеди, а каждое слово произносил отчетливо, емко, точно переживая его, и говорить он стал тише, как Марфа, но слова сделались доходчивыми, осмысленными, нужными людям, — а все ведь, глядя на нее, несчастную!
Не уставала Марфа беспрестанно осенять себя крестным знамением, отбивать Господу земные поклоны и просить, не переставая просить помощи для всех, кто нуждался, для хороших людей и для плохих, ведь плохим жить куда тягостнее.
Вчера зашла в ее каморку женщина тридцати пяти лет, ревет навзрыд: «Нет детишек, не дает Господь!» Два мужика по этой причине хлопнули дверью: «Бездетная ты, чего с тобой жить!» А она на ткацкой фабрике с пятнадцати лет, вроде и видная, чернобровая, а не нужна никому. Рыдает, жалуется подруге: «Вчера Боречка накричал, а все из-за того, что деток нет. И этот уйдет, что я буду делать, ведь старею?» Вешаться хотела. Вот Надя и привела ее к матушке. Женщина эта несчастная, как взглянула на молитвенницу, сразу успокоилась, так хорошо ей на душе сделалось, и о горе своем позабыла. А Марфа сидит на сундучке, сложив ручки, головку свою детскую в сторону гостьи повернула и говорит:
— Что-то ты, милая, мне не то рассказываешь. Вижу я твоего мальчика.
Та прямо запнулась, смотрит во все глаза:
— Как же это?
— Беременная ты, — Марфушка ответила и по голове женщину ручонкой погладила.
Та, не попрощавшись, убежала.
— Мальчика Сашенькой назовет, — вослед изрекла Марфа.
И правда, беременной оказалась.
14 января, пятница
— Куда это ты собрался таким щеголем? — глядя на принарядившегося сына, спросила Нина Петровна.
— В гости пригласили, — делая перед зеркалом идеально ровный пробор, ответил Сергей. Вчера он выпросил у отца флакон одеколона с тонким ароматом и нарядный, с цветными разводами, галстук. — К Ладе Кругловой иду, будем Старый Новый год справлять.
— Придумали же, Старый Новый год! — всплеснула руками Нина Петровна. — Что за праздник такой?!
— Ты не понимаешь, мама! — недовольно отозвался сын. — Сейчас все его справляют.
— Кто это все? — не унималась Нина Петровна. — Мы с отцом про такое слыхом не слыхали.
— Теперь знайте! — придирчиво осматривая себя в зеркале, заявил Сережа. Он, наконец, закончил с пробором: — Мам, как я выгляжу?
— Хорошо выглядишь, — вздохнув, оценила мать. — А кто еще будет?
— Лада будет, — с придыханием ответил отличник.
— Про Ладу я поняла, еще кто?
— Наверное, Коля Псурцев придет, сын министра связи. Денис, возможно, внук академика Петрова. Валентин Полонский всегда с нами и Славик Смиртюков. Я, мам, специально не интересовался.
— А из девушек кто? — выпытывала мать.
— Катя Судец, Леля Лобанова, эти обязательно, Ира Брусницына обещала приехать. После расскажу.
— Прямо знать собирается, одни громкие фамилии! — с неудовольствием выговорила Нина Петровна. — Почему ты в нормальное общество не стремишься, к своим однокурсникам, к ребятам, с кем в школе учился? Все тебя к золотой молодежи тянет!
— Что ты придумываешь, мам, мы давно с Денисом дружим и с Валентином давно! Ребята как ребята, все учатся, студенты, никакие не шалопаи. Лично я к Ладе иду, мне все равно, кто там будет! — отрезал студент.
— Ох уж эти мне праздные вечеринки! — не унималась Нина Петровна. — Не расстраивай отца! — с укором проговорила она.
— Ты не забыла, что я сессию сдал досрочно, и все предметы у меня на отлично?! — возмутился Сергей.
— Молодец!
— Так зачем ругаешься?
— Переживаю за тебя. Боюсь, чтобы с никчемными приятелями не связался, с пути не сбился, ведь молод совсем! — вздохнула Нина Петровна. — Мы с отцом знаешь, как жили?
— Да знаю, мама, знаю! Только не забывай — сейчас время другое! — еле сдерживаясь, чтобы не сказать резкость, выговорил Сергей. Как трудно было объяснять что-либо родителям!
— Иди, жених! — смилостивилась Нина Петровна, мальчик и в самом деле был в институте лучшим.
— Никакой я не жених! — воскликнул Сережа.
— Ступай, ступай!
На даче Кругловых гостей собралось больше обычного. Родители Лады, как всегда, в подобных случаях находились в Москве. На этот раз они гостили у товарища Маленкова, и дача министра внутренних дел оказалась в полном распоряжении молодежи, правда, бдительный персонал изо всех сил приглядывал за весельем, в особенности за девятнадцатилетней красавицей Ладой. Говорили, что на вечеринку может приехать ослепительная Майя, дочь Лазаря Моисеевича Кагановича, с молодым женихом, военно-морским офицером. К счастью, в последний момент Каганович объявила, что ее не будет, чему Лада несказанно обрадовалась — не хотела видеть у себя жеманную кривляку. Майя Каганович могла стать на вечеринке центром притяжения, а Лада ни с кем не хотела делить первенство. Язвительная, высокомерная, себялюбивая Майя могла весь праздник испортить. Валентин грозился принести новые пластинки и танцевать до умопомрачения. Он вообще был первоклассный танцор, невозможное вытворял: по-всякому извивался, подпрыгивал, иногда точно заводная игрушка пойдет, движения резкие, короткие, а иногда плавно, точно его за веревочку тянут — не ходит, а плывет! Волосы танцора, круто зачесанные назад, блестят, набриолинил, видать, прическу. Забавный, симпатичный парень.
В гостиной накрыли стол. Лада выпроводила обслугу за двери, и пошло веселье! Музыку врубили на полную. Лишь Игорь Золотухин не веселился, бесхитростно налегая на водку. Через полчаса он был уже абсолютно никакой и дремал на диване, нелепо раскинув руки. Антон делал коктейли, мечтая подпоить недотрог-девчонок, чтобы стало веселей и чтобы затащить неприступную Катю Судец целоваться. Новым в этой шумной компании был Александр, сын советского посла в Нидерландах, он сразу стал приударять за Ладой, что деморализовало впечатлительного Хрущева, ведь Сергей рассчитывал на Ладину взаимность и именно сегодня, в канун Старого Нового года, решил признаться девушке в любви. Лада сначала строила Сереже глазки, даже два раза подходила с бокалом и чокалась, но потом ускользнула и все чаще оказывалась в компании высокого атлета в приталенном сером костюме. К тому же Александр разгуливал в модных английских ботинках на высокой, белого каучука, подошве. Невиданные ботинки еще больше привлекали к нему всеобщее внимание. Глядя на скромного Сергея, Лада почему-то вспомнила случайно услышанный разговор между отцом и товарищем Маленковым: взрослые осуждали Никиту Сергеевича, называли его недалеким, пустым и предрекали скорый политический крах его стремительной карьеры, высказывали предположения, кто станет во главе партии — либо Молотов, либо Ворошилов. Лада была целиком согласна со взрослыми, что Климент Ефремович больше подходил для руководителя Коммунистической партии, чем примитивный, лопоухий шутник и мужлан Хрущев. Из разговора было ясно, что у Хрущева с каждым днем уменьшались шансы сохранить пост Первого Секретаря. Лада краем глаза взглянула на хрущевского сына. Сережа, безусловно, был хороший, но очень серенький мальчик, он не конкурировал с высоким, хорошо сложенным Александром, который мог властно притянуть девушку к себе и томным, срывающимся от переполнявших чувств голосом, проговорить: «Хочу тебя целовать!» Сергей не мог на такое решиться. А ей так хотелось романтики, подвига в ее честь, хотелось принять в объятья красавца-завоевателя!
Этим красавцем, несомненно, оказался Александр, тем более что он был на целых четыре года старше, а хрущевский сынок — ровесник. Четыре года в юности — умопомрачительная дистанция. Разница в возрасте еще больше притягивала Ладу к Александру. И семья у Саши была заметная, хорошо образованная, интеллигентная. Папа — потомственный дипломат, в совершенстве владел английским и французским языками. Многие девушки на Сашу заглядывались, особенно лобановская Леля, которая, собственно, и познакомила красавца с лучшей подругой. Но ведь кто такая Лада Круглова, а кто — Леля Лобанова? И сравнивать смешно! Папа Лады работал министром внутренних дел, до этого долгое время возглавлял Главное Управление Лагерей. Леля же всего-навсего приемная дочь сельскохозяйственного руководителя, у которого не было детей и который удочерил двухлетнюю испанскую девочку. Поговаривали, что Лобанов плохой министр, волею случая проникший в Сельхозакадемию, как и Лысенко, ничего нового не придумал, а лишь передирал научные открытия других ученых, ни в чем толком не разбирался, неустанно сажая с Трофимом Денисовичем свеклу, картошку и морковь, умея лишь угождать и поддакивать начальству, а начальством у аграриев был все тот же губошлеп Хрущев. Так что в отношении Лели Лада была совершенно спокойна: она не отобьет широкоплечего красавца Александра! До этого дня Лада обожала Лелю. В институте они сидели рядом, вместе ездили по гостям, посещали выставки, ходили в театры, сплетничали, вместе учили немецкий. Теперь Лада смотрела на Лобанову как на врага.
— Ну и пусть, пусть! — вскинула бровки Круглова. — Сашенька будет мой!
Начались танцы, а Антон все мешал гремучие коктейли, обещая:
— Будет хорошо!
Чудо-напитки он готовил в обыкновенном граненом стакане, который обязательно приносил с собой. Полученный эликсир разливал по изящным рюмочкам и угощал друзей. Методика изготовления коктейлей была самая примитивная. Антон выкладывал рядом со стаканом спичечный коробок и на его высоту наливал коньяк. Затем коробок устанавливался на узкое длинное ребро — отметка долива становилась выше, по ней к коньяку присоединялся тягучий ликер, а иногда — шипучее шампанское. Когда коробок устанавливался в самом высоком положении, в стакан добавлялся сок или лимонад, правда, с соками Антон не любил возиться, давить фрукты было слишком хлопотно, для девушек лимонад заливался по края граненого стакана, они не одобряли в коктейлях повышенной крепости. Смесь коньяка с шампанским в пропорции один к одному именовалась «Огни Москвы», а если вместо коньяка за основу бралась водка — «Северное сияние». Этим «чудом» иногда до умопомрачения упивались.
— Может, вместо лимонада сюда пиво забубухать? — размышлял над компонентами естествоиспытатель.
— Ты всех уморишь! — протестовали друзья.
— От такой дозы даже воробей пьяный не будет! — уверял Антон, проглатывая очередную порцию горячительного напитка.
Смеси с добавлением рома получили название «Привет!» Скоро бармен сделался бесконечно разговорчивым и веселым. Смешав полусухое «Абрау-Дюрсо» с зеленым «Шартрезом», алхимик пошел соблазнять ослепительную блонду Катю Судец, о которой вздыхали все ребята.
Испанка с замиранием сердца наблюдала за обходительным Сашей, который крепче и крепче привлекал к себе кокетливую Ладу, и бесилась. Сережа Хрущев тоже во все глаза смотрел на их бесцеремонные милования, не понимая, что происходит, почему вдруг он оказался лишним и вообще, как такое могло произойти?! Улучив момент, когда Александр отошел, он набрался смелости и подошел к Ладе:
— Лада, Ладочка, я же к тебе пришел! Я здесь ради тебя!
— И хорошо, — снисходительно взглянула красотка. — Если б ты не пришел, я бы рассердилась!
— Я пришел… — еле слышно причитал Сергей не своим, а каким-то чужим, упавшим голосом.
В этот момент вернулся Александр.
— Лада, мне надо с тобой поговорить! — и, не обращая внимания на Хрущева, потянул девушку за собой.
Сережино сердце страдальчески сжалось. Юноша прислонился к стене, в глазах потемнело, слезы душили. Чтобы не расплакаться, он выскочил в прихожую и в полумраке, не решаясь зажечь свет, чтобы никто не обнаружил его душевного смятения, стал шарить по вешалкам, отыскивая одежду. Обнаружив пальто, молодой человек резко сдернул его и только тут услышал сдавленные рыдания. Уткнувшись в шубу, навзрыд ревела Леля Лобанова. Сережа робко прикоснулся к ней:
— Лелечка, что с тобой?
Несчастная подняла заплаканное лицо.
— Он со мной сюда пришел, этот мерзкий Сашка! Со мной!
— Не плачь, все обойдется!
— Предали они нас, предали! — всхлипывала Леля. — Ненавижу!
— Я ухожу, — процедил Сергей, ему было страшно разрыдаться на глазах у знакомой, страшно было обнажить свою безумную боль, признаться, что он безответно влюблен, отвергнут!
Несчастный взял шапку.
— Я пошел! — выдавил он.
— И я с тобой! — пискнула Леля.
Сергей помог ей надеть шубу и, придерживая, вывел расстроенную знакомую на крыльцо. Увидев дочь Лобанова, которую сложно было не узнать в ярко-рыжей лисьей шубе и такой же броской пушистой шапке, водитель министра сельского хозяйства завел огромный «ЗИМ» и подал к подъезду. Леля старалась себя сдерживать, но непокорные слезы упрямо текли по щекам. Сергей поспешил открыть дверь, девушка забралась вглубь салона.
— До свидания! — прошептал отвергнутый парень, и хотел было захлопнуть дверь, чтобы, наконец, остаться одному, дав волю бушевавшим в груди страстям. На душе у него скребли не кошки, а леопарды! Голова гудела.
— А ты? — спросила дочка Лобанова.
— Про машину своим не сказал, пешком дойду, здесь близко, — удрученно ответил Хрущев и принялся повязывать шарф.
— Так нельзя! — запротестовала Леля. — Садись, мы тебя подвезем.
— Неудобно, не хочу тебе мешать, — отказывался Сергей.
— Не спорь! — приказала девушка, и тут же, как-то совсем жалобно добавила: — Ну, сядь, пожалуйста!
Несчастный кавалер забрался в машину. Заурчав мотором, «ЗИМ» двинулся к воротам. Внезапно Леля положила свою руку на его ладонь и сжала, потом уткнулась лицом Сереже в грудь, в его шерстяное кашне, и разревелась. Молодой человек замер, он был совершенно ошарашен, но не отталкивал девушку, а наоборот, обнял, утешая.
— Хрущев-то с Лобановской Лелькой уехал, — проводив «ЗИМ» взглядом, подметил дежурный по даче.
— Сделали рокировочку! — подмигнул стоящий рядом порученец министра, которому было наказано: «глаз не сводить с Ладочки!» — Сейчас прямо в машине испанку зацелует!
Дежурный и порученец довольно переглянулись.
Леля уже не плакала, она желала любой ценой отомстить своей лучшей подруге, бывшей лучшей подруге и этому жалкому долговязому смазливому придурку!
В окнах мелькали силуэты веселящейся молодежи. В гостиной отплясывали заводные буги-вуги, — жгли как в последний раз! Изображая барабанщика, Антон энергично отбивал такт на перевернутых фаянсовых тарелках, эмалированном тазу и кастрюле, а в уютном министерском кабинете обаятельный Александр без стеснения целовал министерскую дочь, упрямо расстегивая на ее груди кофточку.
17 января, понедельник
Расположившись у окна, где больше света, Булганин разглядывал фотографии обнаженных женщин. Откровенные фото презентовал ему маршал Малиновский.
«Польки?» — потрясал стопкой Николай Александрович.
«Они самые!» — закивал Родион Яковлевич.
«В одном Бог прав, что создал для мужчины женщину!» — высказался Булганин.
«А не кошку!» — хмыкнул Малиновский. Он был доволен — угодил руководству.
Николай Александрович с нескрываемым удовольствием перебирал сейчас эти фотографии. Из кармана он извлек еще два снимка, размером больше предыдущих. С первого, стоя на коленях и прикрыв грудь руками, смотрела жгучая брюнетка. На втором она же стояла развернувшись к объективу спиной. Волосы у нее были распущены.
— Белла! — залюбовался маршал.
— А мне посмотреть? — раздался голос. Маршал вздрогнул. Прямо за спиной лыбился Хрущев. Николай Александрович не заметил, как он подошел.
— Хороша! — через плечо оценил Никита Сергеевич. — Папа, значит, профессор, а она в неглиже разгуливает?
— Подарок, на память, — смутился Булганин. — Еле уговорил сфотографироваться.
— А если балеринка найдет? — грозил пальцем Хрущев.
— Машка по карманам не лазит, — покачал головой Николай Александрович и, показав на сердце, добавил: — не отпускает Беллочка, моя козочка! Завтра с ней на Валдай едем. — Он бережно спрятал фотографии.
— Раньше ты, как Сталин, от евреев бежал, — подметил Хрущев, — а теперь милуешься.
— Не бежал я ни от кого, что за вздор!
— Ладно, ладно! — примирительно сказал Никита Сергеевич.
— Хочешь, анекдот расскажу?
— Валяй.
Николай Александрович тряхнул седой головой:
— Пришел еврей в синагогу и говорит: «Ребе, я на курорт еду. Это не опасно?» — «Не опасно», — отвечает ребе. «Но там много симпатичных девушек, мне можно будет на них смотреть?» — «Можно», — говорит раввин. «На пляже девушки ходят в купальниках. Мне позволительно на них смотреть?» — «Смотри!» — «Но есть места, где они загорают голышом. Мне можно смотреть на голых девушек?» — «Да!» — ответил раввин. «Ребе, а есть такие вещи, на которые еврей смотреть не может?» — «Есть, например, на электросварку!» — загоготал Булганин.
Хрущев тоже смеялся.
Николай Александрович часто заезжал к нему вот так, без предупреждения, по-товарищески.
— Хватит, Коля, прохлаждаться! Пришло время государственные вопросы решать. Евреи — это, конечно, хорошо, но кроме евреев, и китайцы есть, и индусы, и англичане с американцами, и турки попадаются, и кого только нет. Теперь мы с тобой у руля, надо за внешнюю политику браться!
— Надо чтобы Сессия поскорей мое премьерство утвердила! — с беспокойством ответил Булганин.
— Утвердит, три дня ждать осталось.
— Кажется, вечность! — вздохнул Николай Александрович. — А в мире, ты прав, не просто.
— Американцы Израиль окрутили, значит, нам следует арабов ближе подтянуть. В Египте полковник Насер власть прибрал, тут надо моментом пользоваться. Египет — это, прежде всего, Суэцкий канал! — Хрущев принялся расхаживать по кабинету: — И хорошо бы с Сирией завязаться, и Индию приручить. Как-то вяло Советский Союз на международной арене выглядит, сидим скромнее невесты!
— И по Австрии тягомотина не заканчивается: или выводим войска, или нет! — чесал голову маршал.
— Будем выводить! — заключил Хрущев. — Позиция Советского Союза от этого многократно усилится.
— Как я председателем правительства стану, так это дело толкну!
— Мы толкнем! — поправил Хрущев.
— Ну да, ну да! — закивал Булганин.
Первый Секретарь устроился рядом с другом на диване.
— С ракетами буксуем! — проговорил маршал. — Не летят ракеты!
— Зачем говоришь! — всплеснул руками Никита Сергеевич. — Королев с Челомеем разными путями идут. Не один, так другой ракету в воздух подымет! У нас мощнейшие кадры: Янгель, Келдыш, Пилюгин!
— Тихонравова прибавь и Глушко, — подсказал Николай Александрович.
— Точно. Все в один голос твердят: полетит! В Казахстане ракетный полигон Тюра-Там заканчиваем!
— Название дурное Тюра-Там. Тюра-мура! Там-здесь! Мура, одним словом, надо переименовывать! — высказался Николай Александрович.
— Может, Байконур?
— Почему Байконур?
— Название такое у казахов мелькало, означает «богатая земля».
— Байконур лучше, героические нотки проскакивают.
— Вот и переименовали. Ты, Коля, не переживай — бомбу сделали и ракету смастерим!
— С топливом жопа! Бьемся, бьемся, а топлива, чтоб крупный объект поднять, не придумали.
— Здесь затык! — подтвердил Никита Сергеевич. — Но нет таких высот, каких бы не смогли взять большевики! Придумаем топливо! Я тебе говорил, мой Сережка к Челомею нацелился.
— Это хорошо. Твой Сережка смышленый, — подтвердил Николай Александрович.
— Смышленый, Коля, смышленый! — тяжело вздохнул отец, — Только личная жизнь у него не ладится.
— У меня тоже не ладится, разрываюсь между бабами!
— Ты его с собой не равняй! — отрезал Хрущев.
— Не обижайся! — извиняющимся тоном пробасил Булганин. — Это я так, к слову.
— Обидно за него, втюрился в кругловскую дочку.
— Да ну?
— А она на него плюет!
— Выгоним Круглова к е…ней матери, если плюет! — возмутился Николай Александрович. — Где она парня лучше найдет? Дура! Она работает, учится?
— В МГУ иностранными языками овладевает.
— С иностранными языками мозги набекрень! — подытожил маршал. — Я свою Верку в медицинский определил, а иностранщина, гори она огнем, от нее одно разложение!
— Согласен. С женой-то у тебя как?
— Живем отдельно, она в Жуковке, в новой даче, я в казенной, в Барвихе. Заезжаю, конечно, даже на ночь остаюсь для приличия, чтобы детей не травмировать.
— Ты без минуты председатель Совета министров, будь внимательней!
— Внимательный я, внимательный! — отмахнулся маршал. — Белла мне всю душу перевернула! — горестно продолжал он. — Как я ее детям покажу, если она им ровесница?!
— За твоими бабами не угонишься! То Машка-балерина, то Белла, юное медицинское дарование!
— Ну, ты Беллу видел! — самодовольно заулыбался Николай Александрович. — Я свои чувства скрывать не умею! Она, кстати, пианистка, а не медработник, ты, видать, с Жуковым меня перепутал, у него пассия врач. А как Беллочка играет, как играет! Душа в небо рвется!
— Смотри, на луну не улети!
— Такая ласковая!
— По фотографии видно! Снимал-то сам?
— Ребята, разведчики, — с серьезным видом ответил Николай Александрович. — А кому такое доверишь?
— Тебя бы рядом с голой задницей заснять и в печать! — сощурил глаза Хрущев.
— Иди на х…! Сердца у тебя нет!
— Про сердце вспомнил! Если бы Молотов с Кагановичем подобную фотку заполучили, хана б тебе! И так разговоры кругом про твое рыцарство.
— Во завелся, угомонись!
— Я по делу говорю!
— Чего долдонишь, не глухой, слышу!
— Ты, Коля, с ума не сходи! Ты, считай, первое лицо в государстве! Я тебе добра желаю.
— Переделать себя не могу! Из-за любимой женщины английский король Эдуард VIII от престола отрекся, — с выражением выговорил Булганин.
— Зачем я тебя на председателя Совета министров тащу, если выгонят завтра?! — топнул ногой Хрущев.
— Поработаем, Никита, поработаем! — поднимаясь и одергивая мундир, проговорил военный. — Подумаешь, девку прижал, что тут, мировая революция совершилась? Я и при Сталине грешил, это всем известно, а ты как собака цепная набросился, все настроение испортил!
— Ладно, езжай на Валдай, но потом я тебе передышки не дам.
Николай Александрович понимающе кивнул, снова достал фотографии и стал их заново рассовывать по карманам.
— Ты прям как маньяк, из каждого кармана у тебя голые бабы сыплются!
— Спрячу получше. К дочери заехать хочу, — объяснил министр. — Что там твоя целина?
— Не представляешь, какую дыру целиной заткнем! В сорок восьмом году Маленков додумался сельскохозяйственный налог увеличить, смог Сталина убедить. И что из того вышло? — уставился на друга Никита Сергеевич. — Катастрофа! Фининспектор ходил по дворам и пересчитывал, сколько на приусадебном участке каких культур посажено. Что может быть глупее? Обмерял, сколько ржи растет, сколько пшеницы, картофеля, считал садовые деревья, плодово-ягодные насаждения, все учитывал, чтобы неподъемным налогом колхозника обложить. И обложили-таки! А потом запретили крестьянину на его собственном участке новые виды растений высаживать, так, видите ли, проще налоги взимать! Зачем это делали?! — возмущался Хрущев. — Труженика задушили и армию фининспекторов расплодили! А если колхозник по своему разумению возьмет и изменит посадки, что случится? Что это, потрясение колхозного строя? Ничего подобного! А финансисты до последнего по дворам лазали и собак дразнили. Вот и получилось, что человек на селе был поставлен в дикие условия, и итог поэтому один-единственный — резко сократились посадки! Многолетние сады стали вырубать, и они под налог пошли! — возмущался Никита Сергеевич. — Орава учетчиков, с карандашом в руках, бегала, каждый куст считала. Крестьяне стали сажать столько, чтобы можно было семью прокормить. А скот? Скот тоже сосчитали. Поросят резали перед приходом фининспектора, чтобы не начислил на них налог. А поросеночек еще веса не нагулял, в нем еще и кушать нечего! Все равно люди его под нож, чтобы лишний рубль сэкономить. И до куриц, и до уток добрались. И кто от этого выиграл? Никто. Крестьянин, ясно, потерял, а государство так в первую очередь! После принятия этого варварского закона с индивидуальных хозяйств в 1948 году в бюджет поступило десять миллиардов рублей, а уже в 1951, когда ставки налога повысили, собрали меньше девяти миллиардов, а в следующем году еще полмиллиарда не досчитались. Поголовье скота в личном пользовании за это время уменьшилось на шесть с половиной миллионов голов! Вдумайся, на шесть с половиной миллионов коров в стране стало меньше! — простонал Никита Сергеевич. — Сегодня крестьянин разленился, уже сажать не хочет, и нет у него кормов собственную скотину прокормить. Это, конечно, не везде, не повсеместно происходит, но процесс негативный широко пошел. А ведь, сколько продукции крестьянин на рынок привозил? Какой дефицит продовольствия покрывал? Я сам по колхозным рынкам ходил, все видел. Если сравнить сегодняшнюю ситуацию с 1928 годом, ясно, что сейчас мы имеем коров на девять миллионов голов меньше. А за двадцать пять лет города выросли, городское население увеличилось, потребление стало другим, а мы, как ни стараемся, все равно отстаем от растущих запросов, и покрывать эти все возрастающие потребности нет источников.
— С прошлого года налог с сотки взимаем, и совсем не значительный, — высказался Николай Александрович.
— Сделали, слава Богу! Я голос сорвал, пока докричался. А виноградники с садами вырубили, сколько лет пройдет, чтобы их восстановить? Эта культура, сад, требует постоянного ухода. Не будешь ухаживать, урожая сад не даст! Сегодня надо все сызнова начинать, — горестно заключил Хрущев. — Одна надежда — целина. С целиной дело должно по-новому пойти, побежать должно!
— Дай-то Бог! — закивал Булганин и перекинул ногу за ногу. Он не шибко разбирался в сельском хозяйстве. — Про Сережку мне рассказал, а что твоя Рада?
— Рада родит скоро. Нина с нее пылинки сдувает.
— А зятек?
— Вроде нормальный, пишет.
— Важничает сильно.
— Да ну?
— Может, кажется, не знаю. Вот Серега, тот труженик, а этот — прямо бубновый валет.
— Не замечал за ним.
— Присмотрись. Хотя вроде он и ничего, твой писака. Главное, чтобы у них между собой ладилось.
— Кажись, ладится.
— Тогда хорошо.
— А Вера твоя все за сыном адмирала Кузнецова, как у них-то?
— Живут, не жалуются.
— А что адмирал?
— Я с ним не общаюсь, так, здрасте — до свидания!
— Росли детишки, росли, и вот — самостоятельные! — с сожалением проговорил Хрущев.
— То — жизнь! — развел руками маршал.
— Жизнь! — кисло согласился Никита Сергеевич.
— Скажи, Никита, а что в авиации нового, в гражданской авиации, я имею в виду?
— Туполев отличный пассажирский самолет сделал — Ту-104. Мы на нем с тобой по миру полетим. И Илюшин старается, и Микоян, брат Анастаса, и Яковлев, правда Яковлева я не люблю, двуличный он, друг шнурка Голованова.
— Зато крупный конструктор.
— Польза есть, пусть работает, — отозвался Хрущев. — Гражданскую авиацию скоро до мирового уровня подымем. Посмотришь, самолеты у нас нарасхват пойдут! С истребителями мы уже первые. В Китай два железнодорожных состава МИГов отправили. Когда я в Пекин ездил, Мао вместо семидесяти сто самолетов выпросил!
— Наши МИГи точно ястребы!
— Китаец завод авиационный клянчит, плачется, что от врагов-империалистов защищаться нечем.
— Старые модели можно отдать, — не возражал Булганин. — Это лучше, чем бомбу.
— И бомбу дадим, тут делать нечего.
— Имея бомбу, китаец сразу с ума сойдет!
— Нет, Мао взвешенный.
— Твой Мао такой же деятель, как товарищ Сталин, алчный до власти.
— Это есть.
— Устроил охоту на шпионов — всех ловят, сажают, — говорил Николай Александрович. — А охота фальшивая!
— Понятно, фальшивая. Охота на шпионов — оправдание для пыток. Пытками и добился, чтоб люди друг на друга стучали, и власть свою бесконечно усилил.
— Ничем он от Сталина не отстал.
— Ничем. В Китае широко применяются излюбленные чекистские методы, например, метод лишения сна. Иногда до двух недель мучают без сна человека.
— Все под копирку! — вздохнул Булганин.
— Посол в Китае рассказывал, что людей часто пороли, подвешивали за кисти рук, устраивали вывих коленей и еще любили ядовитыми змеями пугать, тюремщики в камеру их запустить обещали. Змей китайцы больше всего на свете боятся.
— Жуть! — передернул плечами военный министр.
— Мао лично давал указания по пыткам: не следует, говорил, прекращать пытки слишком рано или слишком поздно. Если слишком рано прекращать, допрос не успеет развернуться, если же слишком поздно, ущерб, нанесенный жертве, окажется чересчур велик, надо делать все в свое время, и еще надо, чтобы жертвы оставались в хорошей форме, чтобы могли физически трудиться.
— Я бы давать в Китай современное оружие поостерегся, непонятно, чем эта дружба обернется! — высказался Николай Александрович. — Под руководством Мао Цзэдуна китайцы в фанатиков превратились. И с самолетами я б не спешил, и пушки со снарядами попридержал.
— Китай наш первый союзник, и какой бы товарищ Мао Цзэдун непредсказуемый ни был, он коммунист, а значит, нам вместе быть! С Китаем мы — стальной кулак!
— Согласен, согласен! — вздохнул Николай Александрович. — Но наш Егор, кажется, к Западу тяготел?
— От того и слетел! — насупился Хрущев.
— Одно пугает — китайцев-то чертова гибель!
— Коммунистов чертова гибель! — строго поправил Никита Сергеевич.
— И с бомбардировщиками творится херня, — возвращаясь к авиации, заметил Булганин. — Стратегического бомбардировщика нет. До Америки самолет долетит, бомбу сбросит, а назад как? Возвратиться домой не сможет, выходит, летчикам верная смерть. Пять лет бомбардировщик делали, а пока сделали, он уже устарел и дальность полета — говно!
— Ну как не можем сделать, не понимаю! — подскочил с места Хрущев. — Тогда красть надо!
— Ишь какой быстрый! Пойди, укради! Самолет не шапка. В прошлом году в районе Северной Монголии американец ё…нулся, так мы его по кусочкам собрали и Туполеву отдали.
— Туполев головастый, с лету схватывает. Когда он под арестом сидел, взглянув на модель, мог сказать, полетит самолет или нет!
— Ученых Сталин выдрессировал.
— Ученых! Он и нас, Коля, выдрессировал!
— А Васька там как?
— Снова закрыли. Нажрался в Барвихе и на чем свет стоит власть ругал.
— Я б за это не сажал.
— А что, по головке гладить? Сколько просидел, а ума не прибавилось! Я к нему и Светлану посылал — все пустое!
— Жалко парня.
— Полина Семеновна мужу нажаловалась. Вячеслав взбеленился — в тюрьму, в тюрьму! Пока тебя председателем правительства не назначили, я смолчал. А взбунтовался бы, и тебя, Коля, могли в последний момент не утвердить, все б переиграли. Маленков сейчас каждый день возле Молотова круги выписывает. Ручной стал.
— Жалко Ваську. Дурак несмышленый!
— Девку какую-то изнасиловал.
— Хоть до девки добрался!
8 февраля, вторник
Газеты опубликовали Указ Президиума Верховного Совета о назначении на должность председателя Совета министров СССР, Маршала Советского Союза Николая Александровича Булганина. В Указе говорилось, что Георгий Максимилианович Маленков ушел с поста председателя правительства по собственному желанию, в связи с резким ухудшением здоровья. Именно из-за слабого здоровья он должным образом не справлялся с возложенными на него обязанностями. Другим Указом товарища Маленкова назначили заместителем председателя Совмина и министром строительства электростанций. Георгий Максимилианович по-прежнему оставался в высшем органе управления страной — Президиуме Центрального Комитета. Газеты пестрели портретами Булганина и приводили его биографию.
— Какой все-таки товарищ Булганин красивый! — разложив на столе «Известия», любовалась буфетчица Нюра. — Как он мне нравится!
Лида исподлобья взглянула на подругу, она мыла посуду.
— Маленков — тот умный был.
— А Булганин какой?
— Не знаю, он военный.
— И что?! — с неудовольствием нахмурилась Нюра.
— Маленков зарплату поднял, налоги с крестьян снял, за что его турнули? — продолжала подавальщица.
— Потому что не справлялся, газеты читай!
Лида домыла посуду и, обтерев вафельным полотенцем руки, с долгим вздохом опустилась на стул.
— Мне, Нюрка, что твой Булганин, что Маленков — оба по барабану, лишь бы не трогали. Давай чай пить!
Нюра достала варенье, Лида расставила чашки, порезала хлеб и колбасу. За два года горкомовский спецбуфет стал жить богаче.
Подруги поели и теперь лениво сидели, глядя друг на друга. Нюра растолстела.
— Колька, брат, приезжал, — сказала Лида. — Все такой же деревенский, неотесанный.
— У меня братьев не осталось, все на фронте сгинули, — грустно отозвалась Нюра.
Лида подобрала со стола крошки и сунула в рот: не забыла, что такое голод.
— Когда в деревне жила, такие со мной странные вещи творились, аж вспоминать страшно! — неожиданно сказала она.
— Расскажи! — попросила Нюра.
— Слушай!
Жили мы с мужем в доме на самом краю деревни, скоро ребенок родится. Наша комнатушка малюсенькая была, решили перейти в комнату побольше, где раньше мать моя жила, уже с полгода, как ее не стало. Всю комнату от старых вещей освободили, потолок побелили, стены покрасили, кровать туда поставили собственную и шкаф занесли, лишь стол старый со светильником из маминой комнаты не убрали. После ремонта хорошая комната получилась. Но мне в этой комнате почему-то неуютно было. И вот как-то ночью проснулась я и не могу заснуть, лежу и тени разглядываю — причудливые тени ночью за окошком прыгают, особенно когда облака на луну наползают. Смотрела я в окошко, смотрела, пока в дремоту не потянуло. Глаза слипаются, а тут светильник сам по себе вспыхнул, разгорелся, и свет его, как вода из фонтана, стал на пол изливаться, и смотрю я, не светильник это вовсе и не свет водопадом льется, а огромный человек передо мной предстал. И замечаю, что он лишь до половины человек, а другая половина — черт с горящими глазами! Я мужа толкаю — смотри! Мы повскакивали с постели, громкими криками кричим: «Чур! Чур! Пропади пропадом! Пропади!» Пропал, — вздохнула Лида. — Вот какое случилось. Потом батюшку из церкви пригласили, он долго кадилом кадил, водою святой брызгал, молитву читал, пообещал, что всех выгонит.
— Кого — всех?
— Всю нечисть, — округлила глаза Лида.
— А-а-а-а-а… — передернула плечами Нюра.
— Потом со мной другое случилось, — наклонясь к подруге, продолжала подавальщица.
— Чего? — еле слышно прошептала буфетчица.
— Сплю я как-то в этой самой комнате и почему-то проснуться хочу, глаза приоткрыла, смотрю, кот Мурчик лижет мне руку, пригляделась, а это не кот! Сидит на краю кровати огромный зверь, лохматый-лохматый, и к моей руке противным языком тянется. Месяц светит, а косматый в свете месяца еще страшней! Я вся похолодела. Нализался, гад, от руки моей, отстал и на моего Сашу уставился, а тот себе храпит! А оборотень за ноги его схватить норовит и через окно в лес утянуть. Я как заору! Саша подскочил, оборотень за дверь. Переполох. Я мужу все как было, рассказала, он взял ружье, положил рядом, а заснули мы лишь под утро в своей старой комнате. На следующий день сколько Мурчика-кота ни искали, не нашли. Пропал окаянный. Может с этим страшным бесом в чащу убежал? — продолжала женщина.
Нюра слушала и боялась дышать.
— А еще были у нас картины в спальне. Мама вышивкой занималась, крестиком шила, вот и получались картины разные, много после ее смерти их осталось, штук десять, не меньше. Мы, как маму схоронили, почти все родственникам на память раздарили, но и себе кое-что оставили. На одной — три розы на черном фоне вышито было, эту картину я напротив нашей кровати повесила, нравилась мне она. Висит картина на стене, я в кровати лежу, любуюсь. Но вот однажды, а это зима была, темнело рано, тоже проснулась среди ночи, тьма кромешная, лишь лампадка под иконкой в углу мерцает. Тут и взглянула я на картину с розами. Смотрю, да только не розы на картине, а женщина лежит с распущенными волосами, строгая, холодная, понимаю, что неживая. Жутко! Наутро я все картины собрала и в сарай снесла.
— Ну и спальня у вас, прямо заколдованная! — содрогнулась Нюра. — Больше ничего с тобой не происходило?
— Ничего, Нюрочка, больше не было, а вот с Сашей, с мужем моим, было.
— А что с ним-то?
— Хочешь послушать?
— Хочу.
— С ним так случилось. Жил у нас в деревне очень старый дед. Он еще с японцами воевал, царя хорошо помнил, лет, может, под восемьдесят деду было, Паньком звали. Мужа мово с пчелами обращаться дед учил, семьи у него не было, никого вообще не было, вот мой Саша Паньку и помогал. Тот нам свое хозяйство после смерти передать обещал — и пчел, и козу с курами, и дом с барахлом, правда, дом его никому был не нужен, вроде и хороший дом, добротный, так ведь рядом с кладбищем, соседство не лучшее. «А я не боюсь! — смеялся старый дед. — Сколько лет тут живу, и ни разу покойник ко мне не наведался!» И однажды занемог дед Панек, занедужил крепко, лежит, хуже и хуже ему становится. Мой Саша говорит: «У Панька на ночь останусь». Я возражать не стала. Приходит муж с утра какой-то перепуганный. Спрашиваю: «Что такое?» — «А вот что, — он отвечает и начинает рассказ: — Попоил я деда перед сном чаем с медом, поставил горчичник, дед пропотел, захрапел, а я сижу, книгу с картинками перелистываю, вдруг слышу, ходит у дома кто-то, а может, мне показалось — то есть шаги, то нет. Листаю книгу дальше и тут — в дверь стучат. Я книгу отложил, подошел к двери, спрашиваю: «Кто там?» В ответ — тишина, а выйти на улицу, дверь отворить не решаюсь, чутье мне подсказывает — не открывай! Через занавесочку в окно выглянул — никого. Сел снова за стол, только читать уже не получается, мысли нехорошие голову переполняют, прислушиваюсь, каждый звук во мне, точно колокол, отзывается. Через некоторое время снова шаги — топ, топ, топ! — все отчетливей, все чаще. Я к окну бегу, занавесочку сдвинул, улицу темную разглядываю, и вдруг пред самым моим окном вижу, топают сапоги — одни сапоги, без человека, без ног, по двору разгуливают!» Саша с перепугу шторку задернул, в дверь снова стучат, а голосов никаких нет. Муженек мой похолодел от страха — как это сапоги сами собой, без хозяина идут? Потом Саша вспомнил, что перед сапогами, то есть перед шагами этими проклятыми, собака дворовая истошно выла, а как хождения начались, умолкла. Саша думал, может, зверь дикий из леса за курами пробирался, так ведь нет, хуже!
— Что?!
— Говорит, что это смерть за Паньком приходила. На следующий день дед Панек умер, — почти шепотом закончила Лида. — Хорошо, мой Сашенька на глаза смерти не попался! — передернула плечами подавальщица.
Нюра в ужасе молчала.
— Никогда больше в деревне ночевать не останусь! — пролепетала она.
— Но на этом история с Паньком не окончилась, — продолжала Лида.
— Так ведь дед умер? — изумилась Нюрка.
— Вот, слушай. Когда Панек умер, принялись мы дом его разбирать, нужные вещи к себе перетаскивать. Я уже на седьмом месяце беременная ходила, мужу особо не помогала, то, что принесет, разложу, а так сидела сложа руки. Приходит в очередной раз мужик мой домой, повечеряли и спать легли.
«Знаешь, — говорит мой Саша, — любопытная история со мною приключилась. Уж неделя, как я в дом Панька хожу. Третьего дня на дороге мне кот размером с собаку повстречался. Дымчатый кошак, глаза желтые, пристальные, я еще удивился — больно здоров для кота. И на другой день его увидел, и сегодня навстречу попался, все дорогу мне этот кошак переходит. С ленцой идет, нехотя, не трусит! Знаешь, где? В том месте, где березняк начинается, там еще полянка, на которой летом молодежь с гармошкой песни поет». Как раз за этой березовой рощей — кладбище, а перед кладбищем — дом Панька, — уточнила рассказчица. «Получается, кот третий раз тебе дорогу перебег?» — спрашиваю. «Так, получается», — отвечает мой Саша.
— Что дальше-то? — торопила Нюра.
— Слушай, слушай! И вот, Нюрка, пропал кот, не попадается больше мужу на пути, мы про него и думать забыли. Дни идут, дом Панька разгребли, на зиму закрыли, осень на исходе, два дня как снег с неба срывался, а к утру повалил так уж повалил! Холодно, дороги оледенели. Приходит в обед мой Сашенька и рассказывает:
«Шел домой и думаю, дай к Паньку загляну, лопата у него в сарае хорошая осталась, надо бы и ее забрать, в хозяйстве пригодится! Решил сходить, пока вконец не замело. Пришел, отыскал лопату, возвращаюсь по сугробам, по бездорожью бреду весь мокрый. Через рощу еле пробрался, столько кругом снега навалило! И тут этот самый жирный кот мне дорогу переходит и так еще отвратительно мурлычет. Я скатал снежок и как в него запущу, чтоб на глаза больше наглец не попадался. Увернулся кот, на меня своим желтым глазом уставился и говорит человеческим голосом: «Ну, мужик, скоро ты об этом пожалеешь!» — и исчез. Нахмурилась я, — продолжала Лида, — «Нехорошо это, Саша!» — а муж: «Да ладно!»
— И ведь не ладно, Нюра, не ладно! — всплеснула руками подавальщица. — Что же дальше было?
— Прошла неделя, надо дымоход от сажи чистить. Полез Саша на чердак, а ляда, то есть люк, за ним вдруг сам по себе захлопнулся, и кто-то невидимый набросился на моего мужа и стал душить. Саша вырывается, кричит, а вырываться не может, а я внизу как дура, а чем помогу?! Руки от бессилия заламываю, кочергу подхватила, стою, жду, что будет. Сашенька мой бьется, стучит ногами, вскрикивает, извернулся, ляду открыл, свет дневной на чердак хлынул — и исчез враг.
«Чудом я ляду открыл, — заикается Саша. — Чудом спасся!»
Следы на шее от удушения у милого целый год не сходили, и шерсть черно-дымчатая после боя в кулаке обнаружилась. Непростой, видно, был тот кот.
«Что делать теперь будем, Сашенька?» — спрашиваю. Он не отвечает, полдня сам не свой по дому ходил, потом говорит: «Давай тулуп, бутылку и закуску». — «Куда ты собрался?» А он: «Так, Лида, надо. Жди, скоро вернусь».
Ушел. К ночи возвращается. «На кладбище был, — объясняет. — Помянул всех, выпил, закуску на могильных холмиках разложил, бутылку поставил, в ней еще много самогона осталось, пусть побалуются». Я обняла его, плачу от радости, думала, что никогда не вернется. «Мне с прошлого года мать снится, а вчера и твоя привиделась, — признался Саша. — Вот я их и проведал».
— И что? — спросила перепуганная Нюра.
— Ничего. Больше никто не являлся.
— А еще что с вами было?
— Ничего не было. Как родила я Андрюшу, все как рукой сняло, никаких фокусов.
18 февраля, пятница
В приемной Хрущева толпился народ: одни приходили, другие уходили. Каждый день толчея, самая настоящая очередь, как на рынке. Секретарь Кировоградской области пришел со своим салом, пока ждал, выпросил у Букина нож и принялся нарезать сало и ломать хлеб, до того был голодный. Букин вызвал из буфета подавальщицу, и та организовала все, как положено: подала хлеб, аккуратно нарезала сало, не забыла и про горчицу, а еще принесла целую кастрюльку горячих сосисок. Дух по приемной пошел аппетитный, у посетителей слюнки потекли, даже в коридоре сосисками запахло, потом весь вечер помещение проветривали. Как ни уговаривали, кировоградский секретарь наотрез отказался идти в буфет, хотя буфет находился этажом ниже.
— Очередь пропущу, потом до Никиты Сергеевича не достучишься! — объяснил он.
Благодаря ему настоящий пир в приемной закатили и остальным ожидающим перепало. Костромской предоблисполкома проглатывал сосиски одну за одной, и Самарский второй секретарь не отставал, и из Курска директор колхоза, Герой Социалистического Труда в горчице перемазался, а сало, так то сразу убрали!
Никита Сергеевич проводил прием в порядке живой очереди, но случалось, запускал всех разом.
— Чего как сельди в бочке набились? — выглядывая в приемную, подмигивал он. — А ну, заходи!
— Кто заходи? — переспрашивал Костромской предисполкома.
— Кто, кто?! Все заходи!
Хрущев любил вести разговор целым скопом. Как правило, вопросы возникали похожие, поэтому получалось и делово, и скоро. Каждый областной секретарь наверняка знал, что Хрущев обязательно его примет, выслушает, поможет, главное — воду не лить, говорить по существу. Никита Сергеевич не выносил болтунов, больше всего возмущался, когда его вводили в заблуждение, таких умников он на дух не переваривал:
— Квакают, квакают, а толку чуть! «Сделаем, учтем, поправим, слово даем!» — а на следующий раз опять кваканье! Олух царя небесного на месте топчется, сам работать не хочет и другим не дает!
Чины для Хрущева мало значили. Если встречи добивался знающий специалист, новатор, изобретатель — примет, выслушает. Из таких не понаслышке знающих людей формировалась его команда.
Только ушел заведующий Транспортным отделом ЦК, вошел секретарь Орловского обкома. Следующим был первый секретарь Компартии Грузии — высокий, полнеющий человек в темном двубортном костюме. Волосы у него были красиво зачесаны назад, нос с горбинкой, казалось, он слегка сутулится.
— Привет, дорогой товарищ Мжаванадзе! Вспомнил про меня?
— Я, как в Москву приезжаю, сразу к вам! — двумя руками пожимая хрущевскую руку, отозвался грузин. Он не позволял себе, как некоторые областные руководители, тыкать Никите Сергеевичу, быть с ним запанибрата, называл исключительно на «вы», высказывая глубокую почтительность. В отличие от европейцев, кавказцы другие, уважительные. К пожилым и к старшим по положению, не говоря о родителях, проявляют подчеркнутое почтение. Уважительное отношение заложено в них с рождения. Недопустимо у горцев с пренебрежением относиться к старшим, и Василий Павлович никогда этому заветному правилу не изменял, хотя человек был при большой власти.
— Сулугуни привез? — улыбнулся Никита Сергеевич.
— А как же! И сулугуни, и коньяк.
— Коньяк Булганину отдашь, я к коньяку спокоен.
— Для товарища Булганина у меня свой имеется. «Энисели» и «Варцихе» — песня! Если Николай Александрович в гости зайдет, вы ему рюмочку предложите!
Никого из членов Президиума Василий Павлович не оставлял без внимания. И не только членам Президиума, и министрам, и их заместителям предназначались гостинцы. В каждый кабинет его суетливый помощник притаскивал завернутые в непрозрачную бумагу ящики. Наборы были не одинаковые: для членов Президиума одни, для министров, управляющего Государственным банком и Генерального прокурора — другие, для заместителей министров и прочих ответственных лиц скромнее коробки собирали, и техническому персоналу перепадало. Сладости, фрукты, овощи, колбасы, сыры, коньяки, вина, щедро раздавались и всегда оказывались к месту, ведь совсем небогато жили советские люди. Работники аппарата и обслуживающий персонал искренне радовались такому вниманию, и грузинской делегации во всем был зеленый свет: если вдруг, какая бумага понадобится — она уже есть! Или справка нужна, или копия решения правительства, или какой другой документ — без звука помогали. Нехитрыми, проверенными методами действовал Василий Павлович. Недаром полвагона грузинского секретаря было завалено коробками, свертками и кульками. Его юркий помощник с закрытыми глазами знал, какой куда. Василий Павлович скромно присел на уголке обширного стола.
В этот день у Хрущева перебывало много народа. Заходили Ставропольский, Иркутский, Кировский секретари, предсовмина Эстонии. Последним он принял заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками, Главного маршала артиллерии Варенцова. С Сергеем Сергеевичем выпили по рюмочке, помянули фронтовых товарищей. Теплые отношения сложились у Хрущева со многими военными, особенно с теми, с кем сталкивался в войну, вот и с Варенцовым на фронте пересеклись их пути-дорожки. Выпроводив маршала, Никита Сергеевич плюхнулся на диван, голова раскалывалась, видно, давление шалило. С минуту он сидел неподвижно с закрытыми глазами, потом маханул стопку «Варцихе». Стало легче, но мысли, мысли! — они не отпускали.
Никита Сергеевич решил круче развернуть государство к людям, сделать так, чтобы человек поверил в добро, в радость, в свою великую непобедимую страну, ведь многие годы у народа была не простая жизнь. Революционные события опрокинули старый уклад, распотрошили правду, перекроили сердца суровой неприглядностью, обнажили низменные страсти и пакостные страстишки; что только не прощупывало, не пробовало на зуб человека — и пуля, и голод, и предательство, и жадность. Сражения тогда шли повсеместно: били друг друга, стреляли, рубили, вешали, и конечно грабили, и, понятно, насиловали, не без этого, и снова, атаковав, лупили по соседу прямой наводкой, а уничтожив, принимались снова набивать карманы. Сначала со штыками наперевес приходили одни, потом, забросав противника гранатами, яростно врывались другие, многократно менялись на улицах флаги, а рубка и бесчинства не прекращались. Стреляли тогда кругом, и кругом лилась кровь, брат вставал на брата, сын поднимал руку на отца. Каким-то чудом, истинно благодаря божественному провидению, ведь все на белом свете происходит по воле Божьей, большевики отобрали власть, железной хваткой установили порядок, но чудо, приведшее их к власти, тоже оказалось замешано на крови, как и многие подвиги, о чем говорилось в Святом писании. Только библия у коммунистов была своя — красная, не сгибаемая.
Никакая война не бывает хорошей, пусть и именуется восторженными определениями. Да, бывают справедливые войны, наверное бывают, но ведь войны! Война — кривое зеркало, мрак, ужас, смерть! А назвать страшное можно по-всякому, историку в уютном кабинете с настольной лампой под зеленым абажуром перед сном в голову приходят удивительные мысли. Вот историк и размышляет о войнах, и мальчишки обожают играть в войну, стреляя друг в друга деревянными ружьями-палками. Но не может человеческое страданье стать благом, и тем более, когда одна часть человечества издевается над другой. Слава Богу, что войны кончаются, никогда бы им не начинаться! И Гражданская эпопея в России закончилась, пожженная, порушенная, разграбленная земля задышала, задвигалась, очнулась, точно человек после лютой болезни. Женщины стали охотней рожать, дети — задорней смеяться, потихоньку устраивалась жизнь. И все бы хорошо: и буржуев из России прогнали, и раскулачили прижимистых куркулей-кулаков, и промышленность мощно зашагала, салютуя пронзительными гудками, и поплыли по морю-океану величественные корабли, и полетели в небо дивные самолеты, да только напал на Родину коварный фашист. И поднялась рать, и заколотилось в груди ошпаренное кровью сердце, и великая битва случилась на земле, великая, суровая!
Разгромив фашизм, прошагав пол-Европы, советский человек воспрял, приосанился. С фронта возвращались крепкие духом люди, грудь многих украшали ордена и медали, но скупа была радость ступивших на родимую землю: перед глазами вставали до неузнаваемости изувеченные города, до основания порушенные села, сожженные деревни. Из полевых условий войны победители возвращались в такие же полевые условия, к тому же тыловое обеспечение было хуже армейского. Царила кругом нищета, процветала спекуляция, и, разумеется — воровство. Жить было практически негде, на площади из десяти квадратных метров обитали по пятнадцать человек, и этому счастью несказанно радовались — еще как там получалось жить — ведь не улица, а крыша была над головой! Кое-кто приспособился ночевать на работе: поспал в подсобке — и снова к станку.
С рассказами про добротные бюргерские дома под красными черепичными крышами, указывали герои войны на собственные покосившиеся избы, на скудные прилавки магазинов, с ненавистью плевали под ноги, обзывая власть нехорошими словами. Каждый солдат привез на родину трофеи: кто одежду да обувь; кто позарился на звонкоголосые настенные часы, на велосипед с хромированными спицами; кто-то прихватил надежную кухонную утварь. Везли ткани, ложки-вилки, люстры, швейные машинки, чего только не понабрали у побитого немца. Интеллигенты волокли книги. Бывшие воины наперебой хвастались трофеями, удивлялись ровным, без щербинки, шоссейным дорогам, грандиозной архитектуре. И заставляли задумываться воспоминания: «Все ли в родной стране правильно? Все ли хорошо?» И поползли кривотолки, перешептывания. Кое-кто стал громко высказывать неудовольствие. Припомнили и свергнутого русского царя, стали сравнивать, что было тогда и что — сейчас. «А ведь при царях жилось сытнее!» — подали голос те, кто много лет отмалчивался. И затыкая недовольным рты, покатились по городам и деревням аресты. Лагеря стали заполняться узниками, расстраиваться, снова лагерей не хватало.
«Во главу угла надо ставить человека!» — мыслил Хрущев. Но изменения были возможны только при условии бурно развивающейся экономики, меняющей образ жизни советских людей, в первую очередь, затрагивающей социальную сферу. А экономика могла развиваться исключительно в сплоченной, дружной стране, страна же была надломлена, измучена и нещадно бита. Любой человек желал жить лучше, верил в будущее, а за все плохое винил существующий порядок. Необозримые края и маленькие страны бесцеремонно объединили в непомерно большое государство. И хотя Иосиф Виссарионович провозгласил, что национальный вопрос в многоликом советском обществе не стоит, что решен окончательно и бесповоротно, с этим сложно было согласиться — пламя готово было вспыхнуть в любую секунду, и не просто вспыхнуть, а полыхнуть пожаром. Когда над страной был занесен карательный меч НКВД, даже тогда в головах обывателей роились крамольные мысли. Целеустремленная идеология и кулаки вышибли из голов вольнодумие, погасили свободолюбивую искорку. Человека подравняли, подправили, хотя, может, и перестарались: гордостью считалось донести на соседа, рассказать органам о вредительском заговоре, о любом «нехорошем» человеке, и ничего, что знакомых и родственников поубавилось. В небе, как черный коршун, парил страх. Особенно жутко было по ночам. Ведь ночами приходили, забирали и расстреливали. За портретами великих ленинцев, за вызубренными речевками пионерии, за истеричными лозунгами, брошенными пропагандистами в массы, терялся реальный мир, дрожал воздух, и все равно тут и там напарывались партийцы на националистические шипы. Особенно остро национальная тема поднялась во время войны, ведь для некоторых фашисты стали освободителями. В одночасье целые народы выселил на необитаемые островки империи мудрый Учитель. Не позволяя взять самые необходимые вещи, еду, теплую одежду, лекарства, запихивали людей в неотапливаемые железнодорожные телятники и навсегда увозили из родимых мест. «Хорошо не переубивали, не переусердствовали!» — радовались беззубые старики. Они всегда, даже в самом плохом, пытались отыскать хоть крупицу хорошего.
Товарищ Сталин кардинально решил вопрос с этническими немцами, ингушами, калмыками, крымскими татарами, чеченцами, карачаевцами, балкарцами. «Предатели!» — лишь одно слово напутствия произнес он. И никто, ни один человек не спросил: а как же так? Как могло получиться, что целые народы сделались изменниками? Почему с криками «ура!» приветствовали гитлеровский режим? Кто-то, безусловно, негодяем оказался, и может, не один и не сто человек, а гораздо больше, но кто выяснит сегодня, почему такое получилось? А среди русских или украинцев, или белорусов разве не находилось выродков? Были. И полицаями становились, и в концлагерях работали, и записывались в нацистские полки, иногда целыми подразделениями сдавались врагу красноармейцы. Каждый пятый солдат вермахта был русского происхождения. Но разве убитым лучше? Разве лучше получить в лоб свинец, остаться без ноги, без глаза, с издырявленным беспомощным телом? Кому такой герой нужен? А над страной гремел суровый сталинский приказ: «Ни шагу назад!» И подкреплялся этот приказ не пламенными призывами в газетах и хмурыми угрозами военных начальников, приказ этот подкреплялся безжалостными пулями заградотрядов, которые располагались за боевыми позициями Красной Армии, беспощадно уничтожающих своих же бойцов в случае отступления.
«Ни шагу назад! Сражаться до последней капли крови!» — громкоголосо повторяло радио. Теперь с двух сторон поджидала солдата смерть — и с вражеской, и со своей, родимой. Зато сражались, зато выполняли поставленную задачу, ну и погибали, само собою. Мало кто из героев спасся под танками, уцелел под снарядами, выжил под злыми пулями, в том числе и под пулями лютых сограждан в синих энкавэдэшных петлицах, которые с упорством охотника били по отступающим, смятым врагом красноармейцам.
Возвратившись из многолетнего похода, истерзанные, но закаленные опасностями победители все чаще вспоминали об утраченной Родине, не огромной — от океана до океана, а о крошечной, своей. Люди готовы были мстить за себя, за потерянное счастье, за загубленные мечты. Хрущева очень беспокоил этот затаившийся, замаскированный внутри людей, глубоко-глубоко, глубже глубокого, протест, бунт. Ведь невозможно отделить человека от его национальной истории, национальной гордости, уничтожить принадлежность к собственному народу. Люди крепко-накрепко связанны корнями с родными, в людях, хочешь — не хочешь, жива память прежних поколений и невозможно эту память насильственно истребить. Поляки, латыши, литовцы, эстонцы всегда считали себя пленниками Москвы.
По секретным соглашениям к Советско-Германскому договору о дружбе и ненападении Европа была разделена между Сталиным и Гитлером. В результате Сталинско-Гитлеровских договоренностей Советская Украина и Советская Белоруссия сделались намного больше, но до царского величия Союз не дотягивал.
На новых территориях карательные войска НКВД начали проводить очистительную работу, и бунтари покорились, и даже скрытые противники переделались, но в недрах человеческих сердец засела кровоточащая заноза, засела такой гнетущей болью, которая не притупляется, не проходит. Не один год понадобился для уничтожения националистов, схоронившихся в Карпатских лесах и на Львовщине. До 1950 года звучали гулкие выстрелы «лесных братьев» в Прибалтике. Получается, находили затаившиеся в лесах вооруженные отряды поддержку у населения. Значит, не были они для односельчан клятыми врагами, получается, верили им люди, сочувствовали, а может, боялись? И расстрел последнего пойманного в лесу несогласного с Советской властью не означал победу над его разумом, над мыслями, над желаниями, и значит, победа эта не являлась бесспорной. Так или иначе, делилось советское общество на своих и чужих, хотя своих было подавляющее большинство. Чтобы породнить, подружить народы, накрепко соединить сердца, требовались неимоверные усилия. Принципиальной задачей стало повышение уровня жизни людей, не формальное, не на скупых цифрах, а ощутимое каждым.
«Достаток семей должен неизменно расти!» — требовали партийные директивы. Хрущев настаивал на строительстве жилья, когда человек полжизни провел в полуподвале или в забитой до отказа коммуналке, своя квартира явилась бы великим счастьем и благодарностью государства за суровое прошлое. Темпы строительства стали рекордными, в каждом городе возводились жилые кварталы. Десятки тысяч семей заселялись в новые дома. Это был грандиозный шаг по восстановлению доверия к правительству, к Коммунистической партии. Хрущевым и Булганиным был поднят вопрос о реабилитации малых народов, все прямолинейнее заговорили о реабилитации и не просто об освобождении из тюрем заключенных, а восстановление их в гражданских правах, про открытое осуждение перегибов сталинского режима. Многие бывшие заключенные, бывшие «враги народа», заняли государственные посты. Государство потребовало увеличения числа детских садов, в том числе в сельской местности, в планах появилось строительство яслей, молочных кухонь, правительство заострило внимание на вопросах здравоохранения. В разных частях СССР открывались медицинские институты, училища. Студентам не зависимо от успеваемости выплачивались стипендии, предоставлялись общежития. Людей начали лечить, государство отпускало на медицину немалые деньги, что так же меняло облик и содержание страны. В школах поставили вопрос о проведении среди учащихся ежегодной диспансеризации. Стали задумываться о том, чтобы пожилой человек по достижении преклонного возраста или в случае нетрудоспособности, мог получать пенсию, которой бы хватило пусть не на богатую, но уж точно на скромную жизнь. Хрущев добивался постепенного сокращения рабочей недели, настаивал на обязательном втором выходном дне, стремился усилить роль профсоюзов, куда хотел передать существующие в системе Минздрава санатории, многочисленные дома отдыха, оздоровительные детские лагеря, с тем, чтобы профсоюзы не только за свой счет компенсировали трудовому человеку поездку на курорт и лечение, но и полностью содержали их.
Но не только в этом заключалась суть его реформ. Надо было так связать советские республики экономически, чтобы одна не могла обойтись без другой. Во время войны, когда под безудержным наступлением фрицев промышленность эвакуировали вглубь страны, на новых местах разворачивали заводы по производству военной техники, боеприпасов, возникали металлургические, химические, нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия легкой и пищевой промышленности. А это означало, что страна во многих своих уголках заполнялась сложнейшими хозяйственными механизмами, связывалась сетью транспортных артерий — железнодорожных, автомобильных, речных, морских, воздушных, а значит, можно было организовать дело так, что градообразующие заводы в разных частях государства не могли бы существовать друг без друга. Авиазаводы по сборке самолетов работали в Воронеже, Ульяновске, в Москве, в Киеве, а комплектующие для них делали в Риге, Харькове, на Урале, в Белоруссии, кое-что производилось в Армении, что-то в Азербайджане, и узбекам досталось. Подобный порядок предполагался и с автомобилями, и с тракторами, с электроникой и промышленностью средств связи.
«Данный подход, — думал Никита Сергеевич, — неизбежно завяжет государство в единый организм, заставит работать сообща, ни при каких условиях не позволит расчленить страну на самостоятельные части, и ни одна республика тогда не сможет обходиться без соседа. В результате получится неделимое хозяйственное пространство, не идеологическое, и не палочное, а экономически целостное, гармоничное. И никакой саблей такой клубок не разрубишь, навеки вместе будем!»
— На перевозках деньги потеряем, — заметил приглашенный к дискуссии Анастас Иванович Микоян.
— Хер с ними, с деньгами! — изрек Хрущев. — Суть не в деньгах, суть заключается в единстве народов. Тут нефть добывают, на другом краю перерабатывают, а потом в самые дальние уголки бензин и мазут везут. В едином экономическом пространстве смысл, понимаешь?!
— Без ликвидной экономики ни одно государство не просуществует, на ослах, что ли, будут бюджет наполнять? — возразил Микоян.
— Денег, конечно, получим меньше, но если подобная модель сложится, любой национальный бунт будет обречен. В каждом народе имеются подстрекатели и подонки, те, кто спокойствие, мир и дружбу ни во что не ставят, они-то и сбивают с панталыку. В семье, как говорится, не без урода. А если будет, как я задумал, этого урода граждане собственными руками в порошок сотрут, не потребуется ни милицию вызывать, ни госбезопасность беспокоить!
Никита Сергеевич мечтал каждому гражданину привить любовь к Родине, вселить в сердце гордость за свою бескрайнюю многонациональную непобедимую страну.
— Это сейчас тихо, — обращаясь к Микояну, добавил он, — а чуть зажрутся, загордятся, знаешь, какие страсти в башке запрыгают? Но к тому времени страна у нас будет, как розетка со штепселем — вместе работает, а по отдельности — фиг!
3 марта, четверг
Екатерина Алексеевна сняла перчатки и небрежно бросила их на столик у зеркала.
— Валера! — позвала она.
Никто не отвечал. Взглянув в зеркало, женщина поправила непокорный локон, который налезал на лоб, и по застеленной ковром лестнице стала подниматься на второй этаж.
— Валера! — снова повторила она и открыв дверь в спальню, наконец увидела обожаемого Валеру, который лежал в постели.
Мужчина лениво потянулся и проговорил:
— Спал.
Одеяло до пояса прикрывало мускулистое тело. Валерий протянул руку:
— Иди ко мне! — он потянул ее к себе и опрокинул на кровать.
— Задушу тебя! — навалившись на Екатерину Алексеевну, выдавил Кротов и принялся ее целовать.
Через полчаса они ужинали. На Валере был синий спортивный костюм олимпийской сборной. На руке, подчеркивая счастливое благополучие, красовались золотые часы на широком браслете.
— Почему не ешь? — спросила Фурцева, проглотив последний кусочек отварной телятины.
— Неохота.
Валера уже полгода числился заведующим архивным отделом в Правлении Всесоюзного общества «Знание», которое рассылало по стране лекторов, повествующих о достижениях советской науки и техники. Суть лекций сводилась к пропаганде социалистического образа жизни. Попав в здание Политехнического музея, где располагалось общество, Кротов получил просторный кабинет и четырех сотрудников в придачу, но скука на новой работе была смертная. Заваленный грудами требующей рассылки литературы, архивный отдел сортировал брошюры, писал отчеты и составлял планы на будущее.
С прошлой недели Кротов пошел на курсы повышения квалификации в Институт Марксизма-Ленинизма, но сидеть на лекциях оказалось еще невыносимей. Повысить квалификацию в столицу приезжали лекторы со всей страны. Командировочные селились в общежитии и моментально разбредались по городу. Приезжие без конца носились по магазинам, скупая всевозможные товары, так как на периферии купить вообще было нечего, а в Москве появлялась возможность хоть что-то ухватить. В Институте Марксизма-Ленинизма порядки были демократичные, присутствия слушателей на учебе никто не проверял, только на общую фотографию курса явка была обязательной. Фотографию эту прикладывали к итоговому отчету. В такой день аудитория набивалась битком. Валера решил вообще не торчать на бессмысленных занятиях, вместо этого он блаженствовал на правительственной даче, ходил на лыжах, парился в бане и, завалившись на диван, пролистывал цветастые зарубежные журналы, прихваченные с работы, вечерами смотрел иностранные фильмы, которые по заявке ежедневно развозились по дачам членов Президиума Центрального Комитета. В Министерстве кинематографии был создан особый фильмофонд. Фонд этот сформировали из многочисленных трофейных лент специально для товарища Сталина, сюда же поступали кинокартины, выходившие во Франции, Италии и Америке, которые втихаря копировали. Кроме товарища Сталина и его гостей фильмы эти никому не показывали. После смерти генералиссимуса кинотека продолжала пополняться, и чтобы в этом деле был порядок, создали Госфильмофонд. Создание такого фонда подразумевало, что советские кинодеятели могли прийти в Министерство кинематографии и посмотреть любой иностранный фильм с целью применения на практике режиссерских приемов иностранных коллег. Но до этого редко доходило, разрешение на просмотр давал министр, а кто к нему по такому пустяковому вопросу пойдет? Отпечатав список имеющихся кинокартин, его разослали по домам членов Президиума, они-то кино и отсматривали. В Институте международных отношений Валера неплохо выучил английский и немецкий, поэтому от переводчика-синхрониста отказывался.
Кротов отставил тарелку, перекинул ногу за ногу и уставился на белокурую хозяйку дачи:
— Пойдешь со мной кино смотреть? «В джазе только девушки», комедия. Обхохочешься!
— Сегодня на прием толпа народа пришла, — терла виски Екатерина Алексеевна. — Голова раскалывается.
— Посылай подальше этих ходоков! — с напором выговорил Валерий. — Они тебя замучают!
— Нельзя, не положено. Я первый секретарь горкома.
— Пусть другие граждан принимают! Что у тебя, замов нет?
— Смешной ты, Валера, работы партийной не знаешь! Члены Президиума должны пример подавать. А какой я пример подам, если на работу ходить не буду, — разве как с тобой целоваться?
— Значит, не пойдешь фильм смотреть?
Екатерина Алексеевна взяла его за руку:
— Пойдем лучше помилуемся, полежим! А после, если скажешь, и фильм поглядим.
Они снова скрылись в спальне. Кровать отчаянно скрипела, Екатерина Алексеевна вскрикивала, потом наступила тишина.
После фильма спать совершенно не хотелось. Настроение было приподнятое. Екатерина Алексеевна нахохоталась до слез.
— Почему у нас смешное кино не делают? — спросил любовник.
— При Сталине выпуск картин сократился до десяти в год, иногда и десять на экран не попадало. Сталин сам решал, что снимать, кто снимает, кто играет, сам вычитывал сценарий. Признавал только идеологически выдержанное кино. Каждую новую картину везли ему на просмотр. В фильме «Поезд идет на Восток» был эпизод, где действие происходит в купе вагона. Сидят люди в купе, общаются, а за окнами лес мелькает. И тут Сталин спрашивает: «Скажите, а в каком месте сейчас находится состав?» Все так и обомлели, — рассказывала Фурцева. — «В районе станции Новомосковская!» — нашелся министр кинематографии. На просмотре обязательно сидел и режиссер картины, вдруг у товарища Сталина вопросы возникнут. «Значит, еще долго ехать, — говорит Сталин. — Я, пожалуй, сойду!» — встал и вышел из кинозала. Режиссер фильма в обморок от испуга грохнулся, — заулыбалась Екатерина Алексеевна. — Это Сталин так шутил, — объяснила она и потрепала Валеру по волосам. — Тогда фильмов делали мало, зато сейчас кинематограф гудит, чего только не снимаем!
Екатерина Алексеевна подошла к окну, приоткрыла фрамугу, и, усевшись в ближайшее кресло, закурила.
— Скоро появится комедия «Карнавальная ночь» режиссера Рязанова. В главной роли там совсем молоденькая актриса Люда Гурченко, Царев играет закоренелого бюрократа — директора дворца культуры. Еще там лектор есть, — засмеялась Фурцева, — видать, из твоего общества «Знание», носит огромный портфель и рассуждает с важным видом: «Есть ли жизнь на Марсе?»
— Может, меня на съемки отправишь? Интересно посмотреть, как делают кино!
— Как-нибудь сходим!
Екатерина Алексеевна сделала глубокую затяжку. Валера поднялся, подошел к возлюбленной, встал за креслом и мягко обнял за шею. Женщина запрокинула голову и спросила:
— Ты скучал?
Он ничего не ответил. Настойчивые руки поползли дальше, нащупали под складками халата желанную грудь. Фурцева развернулась к нему:
— Иди ко мне!
Хлопнули двери, из столовой несли торт. Екатерина Алексеевна любила перед сном съесть сладенькое: или шоколадную конфету, или пирожное. В этот раз взбитые сливки перемешали с консервированными ягодами: малиной, голубикой, обернув хрустящими коржами. Торт исчез за считанные мгновенья.
— Вот мы обжоры! — утерла сладкие губы Екатерина Алексеевна.
— Я б еще съел! — отозвался Кротов.
— Нельзя, будешь толстый и некрасивый.
— Вку-у-сно!
— Я тут, Валерик, такое дело затеяла, — Екатерина Алексеевна придвинулась ближе. — Как тебе мое белье? — и она распахнула халат.
Белье на ней было фисташкового цвета, в лифчик вшиты кружева.
— Без белья ты мне больше нравишься.
— Ничего ты не понимаешь!
Женское нижнее белье привозили в Советский Союз исключительно из-за границы, в продаже его не было. Перед войной, в ГУМе, в спецателье, пытались шить на заказ, но это — слезы!
— Я в Москве фабрику открываю, где будут делать нарядное женское белье! Удобное, красивое и по цене доступное, — воодушевленно рассказывала модница. — Женщин, Валерочка, надо любить! Я с Никитой Сергеевичем и с товарищем Микояном о такой фабрике договорилась.
— Сиськи, что ль, им свои показывала? — откинулся в кресле Кротов.
— Дурак ты! — обиделась Фурцева.
7 марта, понедельник
Постель была разобрана, Нина Петровна сбила подушки и села на кровать. Супруги готовились ко сну.
— Вот, Ниночка, и завертелось, пошло-поехало! — удовлетворенно приговаривал Никита Сергеевич. — Леня Брежнев первую борозду на целине дал. Побежала, родимая! Надо в Казахстан лететь, своими глазами размах увидеть.
— Рада родит, поедешь! — отрезала мать и достала из тумбочки какую-то склянку.
— Ну да, ну да! — послушно отозвался Хрущев.
Нина Петровна старательно смазывала руки кремом.
— Давай тебе помажу, вон у тебя какие шершавые! — покосилась на мужа она.
— Да не-е-е, не надо.
— Подставляй, подставляй! — велела супруга и, завладев его ладонями, стала втирать крем. — У тебя не кожа, а не поймешь что!
— Потому что я везде бегаю, все трогаю, всем интересуюсь! — разъяснил супруг.
— Потому что ты без перчаток ходишь! Что у тебя, перчаток нет?
— Да есть у меня все!
— Вот и надевай!
Нина Петровна обстоятельно смазала мужу руки и спрятала крем.
— Маленков отставку пережил?
— Зеленый становится, как меня видит. Враг теперь, — вздохнул Никита Сергеевич.
— Напрасно ты его в Президиуме оставил, не простит он свое падение.
— Молотов задвинуть не дал, — приглаживая жалкие остатки волос, отозвался супруг.
— Они против тебя и сговорятся.
— Гнилая кучка! — выпалил Хрущев. — Мы с Булганиным им задницу надерем!
— Смотри, — нахмурилась Нина Петровна. — Пока будешь по казахам разъезжать, они и взбунтуются.
— Ну, с чего ты взяла, Нина, с чего?!
— Взяла! — прищурилась супруга. — Валерию вчера в поликлинике встретила, так она не то что не поздоровалась — в мою сторону даже не посмотрела! А я кто? Никто. Обычная жена. К политическим склокам отношения не имею. А ведь сколько дружили!
— Конечно, ей обидно, недолго Егор в премьерском кресле покомандовал, — тер нос Никита Сергеевич. — Сейчас хоть толк от Совета Министров есть. А раньше: это нельзя, это рано, это подумаем — и резинка тянулась. Стране, Нина, жить надо, не на месте топтаться! Мы уже сейчас рывок по жилью дали. За два месяца сколько новостроек развернули? Очумеешь сколько! А то как получалось — в Москве квартиры строим, а в других городах — кукиш! Опять у нас Москва на особом положении. Люди-то везде одинаковые, советские, и в Минске, и в Улан-Удэ, и в Урюпинске! Так почему, спрашивается, там жилье трудящимся никто не дает?! Им что, в Москву бежать, чтобы квартиру получить? Сейчас, Ниночка, повсеместно строить стали, и народ это сразу оценил, — стоя перед женой, вещал Никита Сергеевич. — Не поверишь, как дело завертелось!
— Косыгин выпуск товаров народного потребления наращивает, — продолжал он. — Обувь приличную делает, одежду добротную шьет. Холодильники в продажу пошли. Бритву, что Лешка из Америки привез, до винтика разобрали, и теперь портативная электробритва в продаже появилась, харьковчане постарались. У меня теперь такая! А телевизоры как раскупают? Только давай! Я радуюсь, когда об этом говорю. А ты про Маленкова вспомнила, да хер бы с ним!
— Ты прямо, как грузчик! В доме бы ругаться постеснялся!
— Извини, не сдержался, — Никита Сергеевич сел на кровать. — Что зять наш?
— За Раду трясется, — улыбнулась Нина Петровна.
— Нравится мне парень, смышленый.
— Слава Богу, а то ворчал!
— Ворчал, а теперь вижу — приличный.
— Рада говорит, отношения у Алексея с главным редактором натянутые. То ли завидует он ему, что молодой, талантливый, то ли боится, что подсидит. Алексей нервничает, а настроение его сразу Радочке передается, а она на сносях. Положение тревожное. Ты подумай, как быть.
— Газета комсомольская, — ответил Никита Сергеевич. — Там Шелепин заправляет.
— Чего вздор несешь? Шелепин от одного твоего взгляда трясется. Я тебе информацию донесла, думай!
— Ну шо я теперь должен сделать? Алексея утешить или шо?
— Делай выводы! А Радочку лучше на сохранение положить, мне за нее боязно, — с глубоким вздохом проговорила супруга.
— Ты, Нин, врачам позвони, разузнай, что к чему, может, ее и правда в больницу надо? — забеспокоился Никита Сергеевич. С утра же решил пригласить к себе главного акушера и министра здравоохранения, потолковать о здоровье дочери.
Хрущев встряхнул одеяло, торопясь залечь в кровать.
— Про душ забыл! — спохватился он. Не приняв душ, Никита Сергеевич в постель не ложился.
— Так иди! — махнула Нина Петровна. Все мысли ее были заняты беременной дочкой.
Никита Сергеевич вернулся замотанный в махровую простынь.
— Пижаму потерял, не знаешь, где?
— Да вот же, на стуле!
Супруг сбросил полотенце и стал натягивать пижаму.
— Знаешь, какая мысль, Нина, мне в голову пришла?
— Скажи.
— Страна наша социалистическая, за мир борется. Нам самое главное, чтобы харчи были и крыша над головой, и еще — чтобы мир на планете торжествовал!
— Дальше-то что?
— А министерство, отвечающее за нашу обороноспособность, Министерством Вооруженных Сил называется.
— Так! — кивнула Нина Петровна.
— Что — так?! Мы Вооруженные Силы взялись сокращать, армию в два раза режем! Какое к черту Министерство Вооруженных Сил, если коммунисты всем сердцем за мир выступают?! — горячился Никита Сергеевич. — Хочу переименовать Министерство Вооруженных Сил в Министерство обороны, чтоб даже дурак знал, что мы обороняемся и нападать ни на кого не желаем! Понятно?!
— Теперь понятно, — отозвалась жена.
— Что скажешь?
— Правильно задумал.
— А ведь никто до этого не додумался, ни Молотов, ни Ворошилов!
— Очень осмысленно — Министерство обороны! — еще раз одобрила супруга.
Никита Сергеевич придвинулся к ней и чмокнул в щеку. Нина Петровна довольно зажмурилась.
— С Шепиловым вчера общался, такой, знаешь, парень понятливый. Молодой, а уже профессор, лекции читает.
— Это главный редактор «Правды»?
— Он. Я его Секретарем ЦК выдвигаю, международные вопросы на него замкну.
— Симпатичный человек.
— И не зазнайка. Вот каким ребятам страной управлять, а не индюкам вроде Молотова. Хочу в выходные его в гости позвать?
— Если с Радочкой все обойдется! — назидательно отозвалась Нина Петровна.
— Это само собой!
15 марта, вторник
К маршалу Жукову в Сосновку приехали Серовы. Его Галина с утра суетилась, давала наставления по предстоящему обеду и самолично взялась за кулебяку. Повар сделал салат из краба, доставленного военными с Дальнего Востока, традиционный русский винегрет, из селедочки приготовил нежнейший форшмак, два вида жульена, в духовку поставил гуся с яблоками. Для себя супруга маршала заказала совершенно легкий салат из тертой свеклы, взбрызнутой лимонным соком с чуточкой оливкового масла. Галина берегла фигуру, не хотела полнеть, ведь мама ее, мягко говоря, была в теле, а значит, и у дочери имелась предрасположенность к полноте. За обедом она все-таки не удержалась и съела тостик с паштетом из печени лося. Накануне под Ржевом Георгий Константинович и Иван Александрович подстрелили лося. Повар Георгия Константиновича, привезенный из Германии, в обязательном порядке добавлял в состав паштета всевозможные травки-специи. С брусничным конфитюром пожаренная на решетке лосятина и котлеты — восхитительны!
За обедом мужчины выпили бутылку тридцатилетнего грузинского коньяка, шутили, вспоминали послевоенные будни в Берлине, где с 1945 года Жуков был главнокомандующим и главноначальствующим на оккупированной советскими войсками территории, а генерал-полковник Серов являлся у него заместителем.
— Когда тебе Хрущев очередное звание даст? — спросил маршал.
— Молчит! — грустно отозвался Иван Александрович. — Дело не в Хрущеве. Отдельные личности меня недолюбливают. Маленков из МГБ Министерство внутренних дел выделил, Круглова в министры протащил. А все для чего? Для того чтобы меня схарчить и хрущевскую власть урезать.
— Значит, несладко приходится? — глядя на товарища, прихлопнул по коленкам Георгий Константинович.
— Выживаем! — улыбнулся Серов. — Жду не дождусь, когда Никита Сергеевич с умниками разберется.
— Если не разберется, ему хана! — подметил Жуков. — Хрущев для многих явление неприятное.
— Вы бы послушали, что они про него говорят! — воздохнул председатель КГБ.
— Борьба, Иван, единоборство! А ты как хотел? Старики не успокоятся, будут Хрущева теснить. Он им как кость в горле. Я б Маленкова на выселки заткнул, а лучше — за решетку, на нем кровь не обсохла. Маленков не далеко от Берии ушел, душегуб, бл…! — тихо, чтобы не услышала брань жена, определил Георгий Константинович. — Неясно, кто у кого был подручный. А Никита в Президиуме Егора оставил. Неправильно это, получит по шапке.
— Пока мы рядом — хер им! — отозвался Серов. — Молотов, тот упорно выступает.
— Молотов. Молотов! Все лезет, змей, все шипит!
— Хрущев добьет, — убежденно проговорил генерал-полковник.
— Как бы они его не отоварили, — усомнился маршал. — Никита наивный.
— Не скажи!
— Как ты говоришь — хер им?!
— Георгий! — с укором произнесла Галина, услышав грязное слово.
— Извини, дорогая, не утерпел!
— Подайте-ка мне гитару! — попросил Серов.
Генерал знал, что гитара всегда у Жукова наготове, нет-нет, а кто-то приедет в гости и ударит по струнам. В Германии Серов часто развлекал главнокомандующего. Маршал встал и достал со шкафа инструмент.
— Не хватай, сейчас пыль оботру, а то скажешь, что запачкался! — министр обороны взял со стола салфетку, обстоятельно обтер инструмент и протянул товарищу. — Теперь лапай.
Иван Александрович сел удобнее и, сделав несколько мелодичных аккордов, заиграл. Он пел приятным баритоном. Песни лились рекой, их стали подтягивать, особенно лихо удалась «Гренада». Во весь голос, точно дирижер, помогая себе обеими руками, маршал подпевал:
— Гренада, Гренада, Гренада моя!
«Гренаду» повторили на бис. Спели «Соловьи-соловьи, не тревожьте солдат», «Катюшу», «Эх, дороги!» Потом упросили Анечку сыграть, она села за инструмент и заиграла не что-нибудь, а марш Мендельсона, который обычно встречает новобрачных, потом играла вариации на тему произведений Штрауса. Слушали ее с огромным интересом. Слух у девушки был совершеннейший. Недавно, наверное, с полгода, как пригласили в дом учителя, и теперь она делала выдающиеся успехи. Напоследок Анюта исполнила полонез Огинского, играла с чувством, музыка точно жила в ней, плескалась, как море. Все восторженно хлопали. Маршал встал и расцеловал пианистку, Галина обняла юное дарование и предложила за нее тост. Мужчины выпили до дна, а женщины лишь пригубили бокалы. Аня вообще раньше не пила, но в доме Ивана Александровича начала по чуть-чуть пробовать вина, уж очень часто приходилось сидеть за столом, посещая кого-то, либо приглашать гостей к себе. А вот жуковская Галина на дух не переносила спиртное. На фронте без ста граммов не обходилось ни одно застолье, а вдогонку за положенными фронтовыми всегда находился спирт либо самогон. А где выпивка, там, как известно — душа нараспашку, так и тянет на подвиги, какие только фортели после взятия на грудь бойцы ни проделывали, как только ни чудили, а шуточки отпускали не всегда безобидные — ничто человеческое на войне не чуждо! Поэтому жена маршала возненавидела спиртное и мужа не поощряла: при ней маршал пил в исключительных случаях, позволяя рюмочку-другую со старыми, проверенными друзьями, которых, впрочем, почти не осталось.
После импровизированного концерта Серов как медведь обхватил жену и расцеловал. В прошлом году, в декабре, они расписались, и Георгий Константинович с Галей были у них на свадьбе свидетелями, а буквально через месяц после этого события Серовы стали свидетелями на свадьбе маршала Жукова и Галины. После того как маршал Жуков официально признал молодую жену Серова, светское окружение стало еще больше шушукаться, перемывать Ане косточки, но и уважения, вернее благолепия, по отношению к ней прибавилось многократно. Поговаривали, что Галина, вторая супруга маршала Жукова, родная Анина сестра, и что раньше Аня работала со старшей сестрой в том самом госпитале, где маршал проходил обследование и повстречался с обеими женщинами.
Утверждали, что Жуков никак не мог решить, на ком остановить свой выбор — на улыбчивой пышечке Гале или на ее высокой, в самом соку сестрице — совсем юной чернобровой красотке, и что когда маршал Жуков избрал в жены докторшу — уж слишком молода была для него Анюта, его «лепший кореш» генерал Серов, не мешкая, признался в любви младшей. Еще поговаривали, что Аня только с виду простушка, а на самом деле с малолетства распущенная хитрющая сучка, охотница за видными мужиками и что до Серова она крутила роман с ответработником из Управления делами ЦК. А некоторые доказывали, что до этого романа она соблазнила начальника хрущевской охраны Букина, и тот не женился на ней лишь потому, что Анька бегала на свидания к хрущевскому сыну-студенту, что ей все было мало, и, в конце концов, подцепила вдовца Серова, и что Хрущевы ее на порог не пускают. Словом, много ходило нелепых разговоров. И Серов, и Жуков обрастали легендами.
После пения и игры на фортепьяно Галина предложила покататься на коньках. На месте теннисного корта обычно заливали каток. Сначала каждому подобрали теплую одежду. Ане Галя выдала толстый свитер и куртку, ведь не май месяц. Ивана Александровича обмундировали в военное. Нацепив коньки, на которых никто из женщин не мог ровно стоять, а уж ездить и подавно, компания двинулась на улицу. Галина за всю зиму лишь однажды составила мужу компанию. Вихляя, конвульсивно хватаясь за что придется, женщины ступили на лед. Поддерживая жен, Георгий Константинович и Иван Александрович держались орлами, в Берлине, пристрастившись к катанию, товарищи сделались настоящими мастерами. На закрытом, надежно охраняемом катке, где невозможно было организовать предательскую диверсию, они проводили каждый воскресный день. Так и пошло с Берлина — вместо лыж коньки.
— Держи крепче, уронишь! — смеялся Жуков, подмигивая Ивану Александровичу. Сам он крепко сжимал полненькую Галину, приговаривая: — Никуда от меня не денешься!
На катке веселья стало больше. Женщины, разумеется, по нескольку раз с громкими криками падали.
— Лови меня, Ваня, лови! — вопила Аня и неуклюже расставив ноги, неуправляемо ехала вперед.
Как ни старался наставлять жену Георгий Константинович, Галя, визжа, врезалась то в один сугроб, то в другой, так и не научившись поворачивать. Крики, смех! Сколько удовольствия, радости доставило это бесшабашное катанье! Наконец прямо здесь, на скамейке, сменив коньки на привычную человеческую обувь, как оголтелые принялись играть в снежки. Мартовский снег уже подтаивал, все вымокли насквозь, насмеялись. Маршал цвел, чуть что, прижимая к себе ненаглядную Галю, а Иван Александрович не спускал глаз с юной Анечки. Хохоча, Серовы побежали, соревнуясь, кто вперед, завалились в снег и принялись целоваться. Полноватому Серову было нелегко угнаться за шустрой Анютой, правда, она намеренно поддавалась, оказываясь в крепких любящих объятиях. Внезапно девушка побледнела.
— Голова кружится, — пожаловалась она, — мутит!
— Что случилась? — обеспокоился муж.
— Не знаю, Ваня, плохо сделалось.
Иван Александрович обхватил ее за плечи и повел в дом. Анечке принесли горячего чая. Галина, как профессиональный доктор, осмотрела девушку, ощупала с ног до головы.
— Руки-ноги целы! — убедилась она. — Головой не ударялась?
— Нет.
Доктор сосчитала пульс, потрогала теплые ладони, оттянув веки, осмотрела глаза и улыбнулась:
— Уж не беременна ли ты?
— Беременна? — поразилась Аня.
— Когда месячные были, считаешь?
— Вроде уже должны быть, а нет, — тихо проговорила Анечка.
— Так обычно и начинается, — ласково кивнула супруга маршала.
Когда Иван Александрович услышал это потрясающее известие, он просиял:
— Анюта, моя милая, моя родная! Мое золотце! Мое сердечко! — пританцовывал он и целовал ее и в лоб, и в глаза, и в ладони, и гладил, гладил.
— Устроили телячьи нежности! — погрозил пальцем Жуков. — Нам тоже хочется! — добавил он и притянул к себе Галю. — Мы сейчас тоже целоваться начнем!
31 марта, четверг
C назначением Булганина председателем Совета министров, Жуков возглавил Министерство Вооруженных Сил, переименованное теперь в Министерство обороны. Первое, с чего начал маршал, — кадровые перестановки. Открытым оставался вопрос о первом заместителе министра, главнокомандующем сухопутными войсками, той должности, которую при Булганине занимал сам Жуков.
— Малиновского зачем подсовываешь? — зло спросил Георгий Константинович.
Никита Сергеевич специально приехал просить за Родиона, с которым его сводила судьба на Южном, Юго-Западном и Воронежском фронтах, где во время войны Хрущев был членом Военного Совета, а Малиновский командующим.
— Не подсовываю, а предлагаю, — ответил Никита Сергеевич. — Родион толковый, я его хорошо знаю. И тебе Родион пригодится, он не хитрожопый.
— Ты, Никита Сергеевич, думай, что говоришь! Я армией командую, а не поведение разбираю, мне насрать, кто хитрожопый, а кто нет! Мне страну защищать, не тебе!
— А я, значит, мудак?! — взорвался Хрущев. — Ты, Георгий Константинович, страну защищаешь, а я, выходит, невесть кого к тебе веду, хочу авторитет Вооруженных Сил подорвать?! Ну, брат, ты скажешь!
— Почему за меня решаешь?! — размахивал руками Жуков.
Хрущев встал прямо перед ним.
— Упрямый! — вымолвил он. — Ты, конечно, стратег, ты победитель, Георгий, но и меня послушай. В мире совсем другая война назревает, не та, где ты из пушек палил. Ракеты, атомные бомбы — вот новый Бог войны, вот на чем сосредоточиться надо! А солдафон-Малиновский пусть обыденными делами занимается. Ты же будешь стратегические вопросы решать, главенствующие. Что тут плохого? Где не так говорю? Хорошо, если новой войны не случится! Сам сказал: атомная бомба — ключ к победе. Говорил или нет?
— Говорил, — потупился Жуков. Он уже перестал злиться, перекипел. Маршал терпеть не мог, когда ему указывали.
Никита Сергеевич добродушно улыбнулся:
— Нам, Георгий, скоро из автоматов стрелять не придется. Кто первый бомбу жахнет, тот и жив. Так?
— Так.
— А раз так, то давай к ядерной теме вернемся, нам, ежели что, надо врага опередить и непробиваемым щитом заслониться. Многое предстоит в Вооруженных Силах переиначить. Мыслить надо по-новому, это совсем иная работа! Вот я и предложил Малиновского — вояку, строевика, чтобы повседневную лямку тянул, мусор разгребал, а мы с тобой, Георгий Константинович, настоящими делами займемся, будем оборону против ядерных бомб выстраивать, а может — и нападение подготовим. В условиях новой войны сильно кумекать надо, а ты пристал — почему Малиновский? Не хочешь, не бери, но он, по крайней мере, не зубоскал, а честный, исполнительный человек, к тебе с пиететом. Чем он не угодил?
Маршал Жуков замялся.
— А тем, что я первый его предложил! — развел руками Никита Сергеевич. — А я ж от чистого сердца, потому как знаю, тебе надежные помощники нужны. А ты сразу в бутылку лезешь?
— Никуда я не лезу!
— Тогда чего кусаешься? Хочешь, чтоб тебе молотовцы Конева навязали, или Костю Рокоссовского из Польши вызвали? Конева, слава Богу, в Варшавский договор определили, теперь он там начальствует, при деле уже товарищ Конев. А вот у Кости с возникновением военного блока стран народной демократии власти поубавилось. Рокоссовский спит и видит в Москву перебраться, уже представляет себя первым заместителем министра обороны, а там, глядишь, и до министерского портфеля дотянется. Он, как и ты — герой, и парадом Победы командовал. Задумайся!
Жуков насупился.
— И кланяется он лучше, и видный, и обходительный, но ведь в Министерстве обороны работать надо, а не поклоны в нарядном мундире бить. Сколько лет Костя в Польше военным министром просидел, десять? Хватит, рассуждает, надо в Москву перебираться. И ведь многие за него, многие! — разогревал ситуацию Никита Сергеевич. — Не веришь, спроси Булганина, сколько к нему за Костю ходоков было! Для мудрых членов Президиума, ты, брат, слишком ершист. Молотов два раза о Рокоссовском упоминал, а у Молотова клещами слова не вытянешь.
Хрущев утер платком вспотевший лоб и, развернувшись от маршала, ушел на диван.
— Я, кстати, тебя в Президиум рекомендовал, — с дивана проговорил он.
Жуков замер. Никита Сергеевич весело смотрел на маршала.
— Ладно, возьму твоего Малиновского, — сдался Георгий Константинович. — Но ты не думай, ты меня не купил! Я решение взвесил, с доводами согласился, — и грустно добавил: — Я Костю Рокоссовского от расстрела спас, Сталина помиловать его упросил. Скажу правду, хотел его из Польши к себе забрать, а после твоих слов уже и не знаю.
— Не торопись, — отозвался Хрущев, похлопывая по кожаным подушкам дивана. — Забрать всегда успеешь. Лучше Малиновского мы с тобой никого не сыщем.
— Не искали, — огрызнулся министр.
Хрущев уже не слушал, Малиновского к Жукову первым замом протащил.
— Кому поручим противоракетную оборону Москвы? — спросил Никита Сергеевич.
— Москаленко.
— Одного пояса хватит?
— Лучше два строить, а верней всего три, — проговорил Жуков, — Тогда ни самолет, ни ракета к нам не подлетит.
— Расходы считать надо.
— Расходы не мое дело! — огрызнулся маршал.
В прошлом месяце с успехом прошли испытания ракетной системы С-25. Зенитно-ракетный комплекс состоял из шестидесяти ракет В-300, которые могли отслеживать двадцать целей одновременно на высоте до тридцати пяти километров. Комплексы эти предполагалась располагать на значительном расстоянии от столицы, расставляя поясами в шахматном порядке, так, чтобы ни одна бомба не могла достичь цели. Защита получалась действенная, ракеты наверняка поражали цель.
Жуков совершенно оттаял, повеселел.
— Слушай, — сказал он и снова нахмурился, — в печенках у меня сидит адмирал Кузнецов, давай его на хер!
— Кузнецов, Кузнецов! — задумчиво проговорил Первый Секретарь. — Сложно сейчас Кузнецову наподдать, молотовские в него зубами вцепятся. Вот ты в Президиум войдешь, тогда нагоним.
— Он им нравится, потому что шапку ломать перед министром не хочет! Чуть что — напрямую в Совмин бежит. Ну как это так: я приказ по министерству отдаю, а пока он свой, аналогичный, не подпишет, мой приказ на флоте не действует?! Почему Кузнецов на особом положении? Раньше существовало Министерство Военно-Морского Флота, он был министром, единолично там правил, но теперь такого министерства нет, его слили с военным, я — министр, он мой заместитель, как такое самоуправство понимать?! — нервничал Жуков.
— Потерпи, брат, выпрем Кузнецова.
— Да как терпеть, когда он даже на совещание зама присылает! Принц, мать его!
— Ты-то Булганину не очень-то подчинялся, — высказался Никита Сергеевич.
— Какой из Булганина министр! — отмахнулся Жуков. — Он не вояка.
— А субординация? — весело поддел Первый Секретарь.
— Иди к черту со своей субординацией!
— Не кипятись, Георгий Константинович, будет и на нашей улице праздник. Войдешь в Президиум Центрального Комитета, и пусть попробует адмирал дернуться, живо приструним, партбилет на стол — и весь разговор! Это я тебе твердо обещаю, а пока терпи.
— Терпи! — выдавил Жуков. — И за что его превозносят? Что он в войну сделал? Первым по немцам с корабля пальнул? Да, имел место такой случай. Нам Сталин категорически приказывал не вмешиваться, огонь не открывать, провокация, говорил, не верил, что Гитлер договор нарушил. Мы и сидели, как мыши! А когда отдал приказ: аэродромов нет, техники нет, паника, все отступают, а теперь Кузнецов — молодец!
— Чего завелся, Георгий, угомонись, сплавим Кузнецова!
— Сплавим! — повторил Жуков. — Вот он у меня где! — и маршал похлопал себя по шее.
— В баню в воскресенье придешь?
— Приду.
Вечером, уже дома, когда ложились спать, Никита Сергеевич поделился новостями с женой:
— Родиона замом к Жукову впихнул!
— Родион Яковлевич наверняка рад.
— Рад! — подтвердил Хрущев. — И я рад. Родион в доску мой. Не упрямец, слушает, что говорю. Надо мне Ване Серову звание дать, авторитет поднять, а то куда ни глянь — одни маршалы! Серов, Нина, это моя безопасность.
— Делай, как знаешь, — зевнула Нина Петровна. — Что-то твоего друга Булганина не слышно?
— Английский язык учит, — усмехнулся Хрущев. — Хочет на иностранных языках говорить.
— Да ну!
— Вот тебе и ну! Мечтал на английском с трибуны Организации Объединенных Наций выступить, чтобы поразить всех. Да только не идут у него языки. Коля себе задачу упростил, на отдельные фразы перешел, так, чтобы поздороваться мог, поинтересоваться, как дела, и все такое.
— Это ж сколько ему учиться?
— Какой из него ученик? Я ему: «А ну, скажи что-нибудь по-английски?» А он в ответ матом! Вот и все знания. Вчера очередного учителя прогнал, видать, скоро охота дурачиться пройдет. Ладно, Нина, давай укладываться, завтра вставать рано.
4 апреля, понедельник
Никита Сергеевич снял трубку. Звонила Нина Петровна.
— Что, родился?! Кто? Мальчик?! Мчусь! — Хрущев выскочил в приемную, крича: — Заводите машины! Едем! Мальчик родился!
Охрана помчалась за Никитой Сергеевичем. Как полоумные прыгали в автомобили шоферы, автоматчики. Кортеж мчался на улицу Веснина, где располагался родильный дом «кремлевки». Хрущеву не терпелось посмотреть на внука.
— Рада с Алешей решили назвать его Никита, в честь тебя! — торжественно произнесла Нина Петровна, она с утра находилась в клинике.
— Внук, Никита! — закатив глаза, чуть не расплакался счастливый дедушка.
Находясь в медицинском учреждении, старались не шуметь. Получив белые халаты и переодев обувь, поспешили в палату. Никита Сергеевич расцеловал дочку и осторожно заглянул в кроватку, где сопел новорожденный. У кроватки застыл довольный отец.
— Иди ко мне! — тихо, чтобы не перепугать малыша, проговорил Никита Сергеевич и заключил Аджубея в объятия.
— Молодчина, молодчина! Так держать! — хлопал зятя тесть. — Напьемся с тобой сегодня, Алексей Иванович, ох, напьемся!
Ребеночек спал, крохотный носик, крохотные ушки, губки, которые даже во сне забавно вытягивались, пытаясь отыскать материнскую грудь. А пальчики — боже мой! — какие малюсенькие пальчики! А на них ноготки-крохотули.
— Посмотри, и прическа есть! — умилилась Нина Петровна, указывая на темненький чубчик на головке младенца.
— Шатен! — с гордостью прошептал Хрущев.
Ребенок пискнул, потянулся и затих.
— Какой он маленький! — проговорила Рада.
— Не маленький, а нормальный, три двести, — с гордостью ответил отец.
— Пусть спит, — улыбнулся Никита Сергеевич. — Для него мир — диковинка, после маминого живота он еще не освоился. Сейчас для Никитки самое важное — мама! — и Хрущев ласково погладил дочку по голове. — Теперь ты, Рада, для него и любовь, и тепло.
— Полюбовались, и хватит! — не допуская возражений, сказала Нина Петровна. — Пойдемте, нечего мешать. Пусть маленький и его мамочка отдыхают.
— Правильно, правильно! — поддержал дед. — Уходим. И ты давай с нами, — кивнул он Аджубею.
— Иди, Алешенька! — позволила Рада.
Узнав радостное известие, к Хрущевым заторопились близкие. Через два часа гуляние было в полном разгаре. Во главе стола восседал молодцеватый Николай Александрович Булганин. Он привез огромный букет алых роз для Рады, который сразу же отослали в родильный дом, маршал почему-то решил, что ее с ребенком уже выписали. Другой букет, ничуть не меньше первого, из дивных белых лилий, сразу нашел свою хозяйку, так как предназначался для Нины Петровны. Его определили в огромную синюю вазу и поставили по центру стола. Букет этот очень принарядил незамысловатую, без излишеств, хрущевскую столовую.
— А мне что? — с хитринкой взглянул Никита Сергеевич.
— Что, что?! Тебе бутылка водки, вот что! — отозвался председатель Совета министров.
По сторонам от Булганина расположились маршал Жуков и Анастас Иванович Микоян.
— За новорожденного Хрущева, за Никиту Алексеевича! — поднял рюмку Булганин. — За нового гражданина Союза Советских Социалистических республик!
— Пусть, как дед, растет вершителем судеб! — добавил Анастас Иванович.
Выпили со смаком, прямо ухнули первую рюмку, такое славное событие справляли.
— Красивый парень, моя точная копия! — хвастался Никита Сергеевич.
— По-другому и быть не могло! — отозвался Булганин. — Ты чего нас голодом моришь?
— Сейчас, ребята, все будет, — пообещал хозяин. — Нина, Нинуля! Давай скорей закусить!
Стол стали заполнять разнообразные закуски. Гости первым делом набросились на картошечку, пожаренную с шампиньонами, которую подали на чугунной шкварчащей сковороде.
— Хороша картошечка! — нахваливал Жуков. — И грибочки что надо.
— Шампиньончики! — любовно проговорил Никита Сергеевич. — Их круглый год выращивать можно и зимой, и летом. Замечательный по качеству гриб, ничем не хуже белого. Лобанов прислал.
Николай Александрович разлил.
— Погодите пить, вон Шепилов идет. Дима, давай к нам, а то водка стынет!
— Бегу!
— Со мной садись!
Дмитрия Трофимовича только-только избрали Секретарем Центрального Комитета, одновременно он стал заведовать Международным отделом ЦК. В компании таких китов Дмитрий Трофимович чувствовал себя неуютно.
— Говори тост! — приказал Хрущев.
Шепилов поднялся с места и, развернувшись к Первому Секретарю, начал:
— Прежде всего, разрешите от всей души поздравить вас со знаменательным событием, которое, несомненно….
— Постой, постой! — перебил Никита Сергеевич. — Вот смешной, говорит так, будто мы здесь по какому-то официальному делу собрались. Ты это брось! Мы рождение моего внука празднуем, не министра иностранных дел Гватемалы!
Шепилов окончательно смутился.
— А еще профессор! Говори от души. Здесь выверты заумные зачем?
— За маленького Никитку, — смущенно улыбаясь, промямлил бывший редактор «Правды».
Осушив рюмку, Жуков зажмурил глаза.
— Давай, Георгий, я тебе фаршированных перцев положу, с утра сготовили. Перцы просто объедение!
— Клади.
Хрущев принялся выкладывать из глиняной миски пузатые дымящиеся перцы.
— К перцам сметанку необходимо!
Фаршированные рисом, морковкой и молочной телятиной перцы томились в духовке, покуда золотисто не запеклись и не пустили обильный сок, который пропитал несказанными ароматами всю их рыхлую внутренность.
— Ну, запах! — закатил глаза Жуков.
У Хрущевых всегда наедались до умопомраченья, и всегда было жутко вкусно.
После фаршированных перцев подали жареных карасей.
— На Москве-реке наловили. В сметане жарили, их можно прямо с косточками есть! — объяснил Никита Сергеевич и первым подал пример.
Гости налегли на карасей.
— Мировой у тебя зять, Никита, и не потому, что умеет детей делать, детей делать у всех с удовольствием получается! — хохотнул Николай Александрович.
— И хочется всем! — весело уточнил Жуков.
— Хочется, это само собой! — продолжал председатель Совета министров. — А Лешка твой — трудоголик, и отзываются о нем хорошо.
— Ты ж на него ругался? — напомнил Хрущев.
— По незнанию, брат, по незнанию!
— Стоящий работник, — поддержал Шепилов. — Я сразу его подметил, еще до того, как он с Никитой Сергеевичем породнился. Одна статья «Плесень» чего стоит! Как он там затхлую жизнь золотой молодежи подсветил!
— Статья стоящая, хотя, ребята, скажу по секрету, мой Сергей под это пагубное влияние чуть не попал, я Николаю Александровичу уже рассказывал, — невесело признался Никита Сергеевич.
— Так что у них с Ладкой, никак? — уставился на друга Булганин.
— Влюбился Сергей в кругловскую дочь, — для остальных разъяснил Хрущев. — А она — вертихвостка! Вокруг нее как раз самая настоящая плесень — модники, модницы, нелепая западная музыка, буржуазные ужимки, ничего стоящего внутри, только танцы, похвальба да выпивка! Какой с такой молодежи толк? А Сережка мой прямо прилип к этой фифочке, бегал в гости, гадостью заражался, — разоткровенничался отец. — Я ничего поделать не мог!
— Так встречается Сергей с кругловской дочкой или нет? — допытывался Булганин.
— Чего встречаться, замуж Ладка выходит! Нашла себе силача-переводчика, — зло проговорил Первый Секретарь. — И, главное, набралась наглости Сережу на свадьбу пригласить!
— Профура! — выругался Булганин. — Круглова давно гнать надо!
— Сучка! — поддержал Жуков.
— Не сучка, а дрянь, вся в отца! — вспылил Никита Сергеевич. — Влюбился сын крепко. Позавчера мы с Ниной ночь не спали, Нина слышала, как Сергей плакал. Меня прямо разрывало на части! Я б прямо этих Кругловых сгноил! — жахнул по столу оскорбленный отец. — Круглов при Берии ГУЛАГом командовал, сколько людей угробил!
— Он ингушей с чеченцами выселял, — подтвердил подошедший с опозданием Серов.
— Ты давай ешь, опоздавший! — прикрикнул Первый Секретарь и переведя взгляд на Шепилова, продолжил: — У Леши Аджубея какие-то сложности в газете, ты, Дмитрий Трофимович, разузнай, в чем дело, а то мои переживают, особенно Нина Петровна.
— Разузнаю и доложу.
— Ежели чего, меры прими.
— Обязательно! — пообещал Шепилов.
— Я с вашими разговорами рюмку устал держать! — буркнул председатель правительства.
— Давайте за Радочку! — поддержал Булганина маршал Жуков.
— За мамочку! — протягивая к Никите Сергеевичу рюмку, закивал Серов.
Ели уже медленно, насытились, выбирали, что повкуснее.
— Куда, Никита, за границу полетим? — поинтересовался Николай Александрович и макнул хлебный мякиш в соус, оставшийся из-под фаршированных перцев.
— Сукарно в Индонезии форум проводит. Двадцать девять государств Азии и Африки против Америки сговорились, против колониализма, против засилья эксплуататоров! И мы к этому форуму руку приложили, денежек дали, — заговорил Хрущев. — Правда, и товарищ Мао себя любящим другом показал, и финансы прислал и продовольствие.
— Китаец не скупясь раздает, говорит, что всем поможет, надо только его держаться, — высказался Микоян.
— Мао Цзэдун в региональной политике хочет преуспеть, — осмелился вставить Шепилов.
— И не только в Азии, — продолжил Анастас Иванович. — Недавно совершенно безвозмездно отправил голодающим Африки корабль с продуктами. В Судан, кажется.
— В Чад, — уточнил Шепилов.
— Да, в Чад, — поправился Анастас Иванович. — Хочет явить себя миру благодетелем, чтобы его считали первым марксистом.
— На Бандунгской встрече надо громогласно о Советском Союзе заявить! — выкрикнул Хрущев. — Россия, Советский Союз — вот единственный лидер!
— Летим туда, что ли? — уточнил Булганин.
— Нет, Коля, туда мы не поедем. Товарища Шепилова пошлем. Пусть передаст от всего Советского Союза революционный привет. Поедешь, Дима?
— Если партия скажет, поеду.
— А я кто тебе, уже не партия? — ухмыльнулся Хрущев.
— Извините! — смутился Дмитрий Трофимович.
— Шучу, шучу! — миролюбиво отозвался Никита Сергеевич и повернулся к председателю Совета министров. — Сегодня, Коля, у нас на повестке дня Германия. К восточным немцам отправимся, посмотрим им в глаза. Надо понять, готовы друзья-немцы к социализму или притворяются. И с западными немцами пора в диалог вступать.
— Может, стоит военнопленных отпустить? Уже десять лет, как немцы в плену сидят, — проговорил Микоян.
— Канцлер Аденауэр в сентябре приезжает, — снова сказал Шепилов.
— Надо немцев отпускать. Пусть это будет жестом доброй воли, — высказался Николай Александрович. — А не отпустим, так они перемрут.
— Перемрут, не перемрут, а война была! — назидательно ответил Никита Сергеевич. — Съездим, Николай, в Берлин, а там видно будет.
— Я в Германии не был, — пробасил премьер.
— Особо остро стоит югославский вопрос, — добавил Хрущев. — Как Сталин с Тито поссорился, мы с югославами на ножах. Совсем это ни к чему!
— Кровавая собака Тито! — применив сталинское определение, цинично ухмыльнулся Микоян.
— Точно, точно, так Тито называли! — оживился Николай Александрович.
— Югославия на Балканах должна стать надежным плацдармом социализма! — определил Хрущев. — Мириться надо ехать.
— Примет ли Тито? — засомневался Микоян.
— Добьемся встречи! — безапелляционно решил Хрущев. — Может, поначалу в Югославию рванем, а после — в Берлин.
— Можно и так! — не возражал председатель правительства.
— И об Индии помнить надо. С Индией у России целая эра впереди! Так что, Николай Александрович, не простые предполагаются гастроли.
— Молотов подскочит. Как так, скажет, без него решили?! — покачал головой Анастас Иванович.
— Вячеслав, окуклился как гусеница! А время пришло новое, горячее, только успевай поворачиваться! Дождется — попрем с работы! В Англии самого Черчилля на отдых отправили, не постеснялись, а мы все — Молотов! — заикаемся. У Черчилля заслуг больше, чем у Молотова. Молотов в сморчка на посту министра иностранных дел превратился, а все паясничает. У англичан рука не дрогнула Черчилля сменить, и у нас не дрогнет!
— Не помогает, так хоть бы не мешал! — буркнул Булганин.
— С прошлой недели Антони Иден английский кабинет возглавил, — опять дополнил Дмитрий Трофимович.
— И ведь без Черчилля землетрясения не произошло! — уставился на Шепилова Никита Сергеевич. — Все мы не вечные. Придет время, и мы будем места освобождать, даже с удовольствием, пусть молодые, более грамотные работают. В этом основной принцип социализма, а не так, чтобы до ста лет тебя в кабинет приносили. Вот Дима Шепилов, чем не министр иностранных дел?
— Во-во! — поддакнул Булганин. — Значит, и Англия у нас в списке?
— Поездок хватит. Анастас Иванович на хозяйстве останется, товарищ Жуков тыл прикроет. Такой расклад. Можно смело путешествовать.
— Что-то мы отвлеклись от главной темы, позвольте мне сказать? — Микоян поднялся с места.
Невысокий, щупловатый, с жесткими кучерявыми волосами, всегда улыбчивый и располагающий к себе, Анастас Иванович за последний год стал очень близок к Хрущеву.
— Если человек доживает до того времени, когда у него появляются внуки, значит, к нему благосклонна судьба, — начал он. — Ты, Никита, дожил до внуков! Хочу пожелать, чтоб был у тебя не один внук. Чтобы почаще радовали тебя дети внучатами, потому что маленькие детки — это не просто радость, а радость, помноженная на счастье! Как однажды подметил Георгий Константинович, ради детей, мы, в сущности, и живем на белом свете. За тебя, дорогой друг, и за маленького Никитку!
— Ура! — высоко поднимая рюмку, крикнул Жуков.
— У-у-р-р-а-а-а!!! — прокатилось по столовой.
— Дайте слово опоздавшему! — не допуская передышки, потребовал Серов, он появился за столом последним, и, встав перед Первым Секретарем, заговорил: — Я очень рад, что в семье Хрущевых пополнение, рад за Раду, за Алексея и, конечно, рад за вас с Ниной Петровной. Сердечно поздравляю! — чокался Иван Александрович. — Надеюсь, что скоро и мы с Анютой пригласим в гости, мы тоже ждем пополнение, — признался он.
— А уж мы как с Галей стараемся! — заулыбался маршал Жуков.
— Давайте за детишек, за всех детишек без исключения, и будущих и настоящих! — воскликнул Никита Сергеевич. — До дна!
— До дна! До дна! — раздались голоса.
Гости поднялись с мест и с энтузиазмом выпили. Булганин для убедительности потряс перевернутой рюмкой над головой, демонстрируя, что выпил до капельки.
— Мы в тебе не сомневались, Николай Александрович, ты ни в одном деле себя плохо не показал! — обнял его Хрущев. Он тоже махнул полную стопку, пятую по счету, и был уже здорово навеселе.
— Сейчас вам новый анекдот расскажу, — проговорил Булганин, но тут Никиту Сергеевича пригласили к телефону.
Через минуту он вернулся очень довольным.
— Брежнев звонил, наш целинник. И ему донесли!
— Как там дела, на целине?
— Работа разворачивается!
Стол между тем заставили пирогами, но есть уже не хотелось. Гости подхватили бокалы и перебрались на мягкие диваны в гостиную. Смилостивившись, Хрущев разрешил курить. Булганин, Серов и Жуков задымили у окна.
— Вчера у меня Руденко был, — устроившись на диване, проговорил Булганин. — Говорит, в этом году «Бериевское дело» закончим. Более ста человек привлечены к уголовной ответственности. Ты, Никита, материалы читаешь?
— Читаю. Дерьма там хватает.
Генеральный прокурор и у него бывал регулярно, кроме того, каждую неделю в ЦК поступали копии следственных документов.
— Заключенный Богдан Кобулов мне прошение о помиловании написал, — продолжал Николай Александрович. — Пишет он из Бутырской тюрьмы, из камеры смертников.
— Богдана Кобулова Берия взял себе заместителем, — припомнил Жуков.
— Кобулов просит заменить ему высшую меру, смягчить наказание. Пишет, что не являлся участником заговора против Советского государства, что лишь добросовестно выполнял распоряжения руководства.
— Сам и был руководство! — с раздражением проговорил Жуков.
Хрущев подозвал стоящего в стороне Букина.
— Сходи-ка, принеси из кабинета бумаги, на маленьком столе у окошка лежат.
— Кобулов кается, и Влодзимирский кается, и Багиров кается, — продолжал Хрущев. — Все, которых осудили, раскаялись.
— Меркулова, Гоглидзе и Рапаву уже расстреляли, — уточнил Серов.
Букин принес бумаги и передал Первому Секретарю.
— Богдан Кабулов, значит, пишет тебе, что невиновен. Я вам сейчас кое-что прочту. Это из Руденковского расследования.
Никита Сергеевич надел очки и поднес документ ближе.
— Слушайте. Свидетель Петросян на допросе 21 января 1954 года показал: «…в августе 1938 года, в Тбилиси, я был арестован НКВД по обвинению в подготовке теракта против Сталина и Берии. Следствие по моему делу вели Кримян, Савицкий, Повсесов и Пачулия. В период следствия по указанию Кобулова меня систематически избивали Кримян и Савицкий. Они избивали меня кулаками, ногами, били плетью, заставляли меня танцевать и всячески издевались, постоянно истязали так, что я не менее тридцати раз терял сознание и избитый, в синяках и кровоподтеках, доставлялся во внутреннюю тюрьму НКВД. Лично Кримян во время истязаний выбил мне кулаком четыре зуба, он же заставлял меня лизать кровь на полу. Они заставляли меня признаться в том, чего я не совершал».
— А эту гниду, Кримяна, расстреляли? — спросил Булганин.
— Расстреляли.
Хрущев поднял на присутствующих глаза:
— Не просто били, а истязали людей, и братья Кобуловы там в первом ряду. Младший брат Богдана Кобулова, Амаяк, тоже работал на больших должностях в НКВД. Зачитываю показания заместителя личной охраны Берии — Надарии:
«Работая начальником внутренней тюрьмы НКВД на протяжении трех лет, я был свидетелем избиения арестованных. Мне известно, что арестованных избивали систематически и очень жестоко. Их били ремнями, скрученными в жгуты веревками и палками, на которые наматывали материю. При избиении над арестованными издевались. Арестованных ставили на несколько суток в угол. По нескольку суток заставляли стоять с тяжелым грузом, стоять до тех пор, пока арестованный, изнемогая, не падал. Для этих целей к арестованному привязывали стол, на стол укладывали различный груз, и арестованный должен был держать все это на себе. В таком положении арестованный должен был стоять до полного изнеможения. Нередко арестованных избивали до того, что они умирали. Организаторами всех этих издевательств были Богдан Кобулов, Константин Савицкий, Кримян, Хазан и другие. Если посмотреть тюремные медицинские журналы с 1949 по 1952 год, можно встретить ряд записей “жалоб” арестованных на фурункулы и опухоли. Под такими записями в подавляющем большинстве случаев скрывались факты избиений подследственных, когда им после побоев требовалась медицинская помощь. Иногда в журналах вообще не записывались диагнозы, но по фельдшерскому журналу расходования медикаментов можно легко определить, кто из арестованных в связи с побоями подвергался лечению.
О масштабах избиений арестованных только во внутренней тюрьме МВД свидетельствует полученный протокол осмотра амбулаторного журнала и журнала фельдшерских назначений за время с 1 января 1950 года по 7 октября 1951 года, — читал Хрущев. — Из протокола осмотра следует, что за этот период лечение арестованных после применения к ним мер физического воздействия производилось более чем в трехстах пятидесяти случаях».
Шепилов передернул плечами:
— Жуть берет!
— Поэтому и боремся с этой нечистью, — перебирая бумаги, заметил Никита Сергеевич. — «В ночь с 18 на 19 июня находился на допросе у Хазана гражданин Вашакидзе. После возвращения в камеру через несколько минут он умер. В медицинском акте по поводу смерти значится, что Вашакидзе умер от паралича сердца. В деле нет ни протоколов допросов, ни других материалов, подтверждающих обоснованность ареста, за исключением заготовленной в декабре за подписью Кобулова справки о том, что, будучи наркомом соцобеспечения Грузии, Вашакидзе оказывал материальную помощь и давал проездные документы лицам, которые были разоблачены как враги народа.
15 июня 1937 года был арестован Арутюнов Г.К. Никакими материалами, компрометирующими Арутюнова следствие не располагало, а арестовали его лишь с целью получения показаний на его непосредственное начальство. На следующий день после допроса Арутюнов умер. В медицинском заключении указано, что Арутюнов умер от менингита, там же указано, что Арутюнов во время болезни падал с лежанки, и поэтому на трупе отмечено несколько кровоподтеков. Следователь Хазан на допросе в ноябре 1953 года заявил, что Арутюнова не избивал, а вызвал для этой цели двух вахтеров комендатуры. Он не отрицал, что Арутюнов скончался от полученных повреждений в результате избиений его вахтерами. Следователь ссылался на указания своего непосредственного начальника Кобулова — допросить арестованного по-настоящему».
А вот что показал на допросе бывший врач внутренней тюрьмы:
«Особенно отличались в избиениях арестованных подчиненные Кобулова — Кримян, Савицкий и Хазан. Проходя по коридору, можно было часто слышать истошные крики заключенных, их душераздирающие вопли, стоны, рыдания. Всех до полусмерти избитых во внутренней тюрьме не держали, а сразу отправляли в городские тюрьмы, где они затем и умирали. Кобулов часто сам присутствовал на подобных «допросах», принимал участие в избиениях и пытках подследственных. По его приказу некоторых держали месяцами в наручниках, с руками, сведенными за спиной, так что даже есть им приходилось лежа, подползая к миске с едой, стоящей на полу. Часто Кобулов приходил и ногой вышибал эту миску, к которой с трудом добирался человек. Как показали свидетели, и признало большинство обвиняемых, массовые аресты граждан производились по сомнительным и непроверенным материалам, а следствие по их делам велось так называемым “упрощенным” методом. Смысл “упрощенного следствия” состоял в том, что для предания обвиняемого суду требовалось лишь его личное признание и наличие одного, а лучше двух агентурных донесений без какой-либо проверки и сбора доказательств. При этом к арестованным, отрицавшим вину, применялись жестокие пытки и истязания в целях получения “нужных” показаний. Кобулов часто повторял: “Кто не бьет арестованных, тот сам враг народа!” Избиение арестованных производилось с применением самых разных орудий: резиновых палок, металлических прутьев, шомполов, плеток, линеек, ремней, кроме того, подследственные подвергались мерам воздействия в виде длительного стояния на ногах с поднятыми вверх или разведенными в сторону руками. Некоторые следователи прибегали к пыткам в виде надавливания на обнаженные пальцы ног каблуками, или затягивания половых органов мужчин специально сделанной петлей».
Никита Сергеевич оглядел гостей.
— И мне Кобулов подобное прощение о помиловании прислал. Пишет, что невиновен, что поступал в соответствии с распоряжениями руководства. Сообщает, что 17 марта 1937 года от товарища Сталина в НКВД поступила директива, в которой говорилось об ужесточении методов дознания, активном применении к подследственным мер физического воздействия. Это распоряжение было зачитано сотрудникам следственных органов, после чего пытки и избиения в НКВД начали применять с удвоенной силой, а тех, кто отказывался использовать физические методы, отстраняли от работы и самих привлекали к ответственности. После войны, в начале пятидесятых, это распоряжение снова вынули из-под сукна. Так! — перелистывал бумаги Хрущев. — Вот еще.
— Хватит! — попросил Микоян. Лишь Анастас Иванович в то страшное время имел смелость заступаться за обвиняемых. Его стараниями на волю выпустили не один десяток человек.
— Напоследок про Лаврентия зачту! — Никита Сергеевич поправил очки.
— «В приемной Берии, в письменном столе, в правой тумбочке, в нижнем ящике, хранились завернутые в газеты резиновые палки и другие предметы для избиений. Иногда Кобулов и Влодзимирский заводили в кабинет к Берии арестованного и уносили туда принадлежности для избиения. Через некоторое время оттуда были слышны вопли и крики. Окровавленных, полуживых людей часто выносили из кабинета сотрудники медчасти, так как сами идти они уже не могли». — Так «добросовестно» Кобулов выполнял свою работу, — заметил Никита Сергеевич. — Еще за это премии получал.
— Вещи арестованных часто делили, — вспомнил Микоян. — И не только вещи, но и квартиры со всею обстановкой забирали, и автомобили их присваивали.
— Прям опричники, — отозвался Хрущев.
— И военачальникам досталось, посидели по тюрьмам, помудохали их там, невзирая на ордена и на звания. Мне Мерецков с Рокоссовским рассказывали, — заговорил маршал Жуков.
— Было, было! — виновато кивал Серов. Он как никто другой знал, что творилось в НКВД.
— А это, Коля, тебя касается! — прищурился Никита Сергеевич.
Премьер-министр сделал серьезное лицо.
— Установлены факты морального разложения обвиняемых. Как и Берия, они сожительствовали с подчиненными им сотрудницами аппарата Совета министров и МВД. Так, например, в аппарате МВД, а затем в секретариате Берии, в Совете министров СССР, работала сотрудница Леонова, двадцати четырех лет. Начальник секретариата Берии Мамулов вступил в сожительство с Леоновой; с нею же сожительствовал и Берия.
Обвиняемый Людвигов сожительствовал со своей секретаршей Несмеловой, с которой одновременно сожительствовал и Берия. В то же время Берия сожительствовал с женой обвиняемого Людвигова. Обвиняемый Шария работал в ЦК Коммунистической партии Грузии и использовал для интимных связей с женщинами свой служебный кабинет в здании Центрального Комитета.
Хрущев поднял на Булганина глаза.
— А для чего ты меня приплел? — недовольно спросил тот.
— Не хочу, чтобы тебя, Коля, в газетах приложили, не выставляй свою похоть напоказ.
— Какую похоть, Никита? Я влюбчивый, а ты — похоть, похоть!
— Ладно, я тебя предупредил.
Жуков засмеялся:
— Товарищ Булганин у нас рыцарь, а не насильник.
— Рыцарь, правильно! — подтвердил Николай Александрович. — Чуть что, сразу на меня! Позабыл уже, что некоторые известные военачальники во время войны в каждом городе по семье заводили?
— Это дело прошлое, война была, Бог весть что творилось. А сейчас, дорогой, мы за нравственность!
— Опять завел свою шарманку!
— Кобулова и всех прочих, кого позабыли, надо казнить. Никакой им пощады! — высказался Микоян.
— Правильно! — поддержал Николай Александрович.
— Я вам, товарищи, вопрос доложил. Вы высказались, и я того же мнения. Пусть ответят за злодейства, — подытожил Хрущев. — Мы делаем это, чтобы наши дети и внуки жили в справедливом обществе, с мерзостью подобной не сталкивались. Вот вырастет мой Никитка и скажет спасибо всем нам за то, что свободу человеческую отстояли, проказу выскребли. А вон и Леша Аджубей, — завидел зятя Хрущев. — Алексей Иванович! Идите к нам!
24 апреля, воскресенье
Пасха, вот и Пасха! Как этот праздник ждали! У церкви с вечера толпился народ, и не только старики со старухами. Попадались женщины лет тридцати, и мужчины встречались не старые. Кое-кто приводил с собой ребятишек. Лица собравшихся были благодушные, настроение приподнятое. Множество людей толкалось подле храма, только вот школьников в толпе не отыскивалось, молодежи строго-настрого подходить к церкви запрещалось, так как церковь в СССР отделена от государства.
Святили в этот день куличи, куличики, пасхи, яйца. По случаю торжественного богослужения храмы украшали, прихожане вышагивали нарядные, готовили на утро мясные деликатесы, всякие лакомства и обязательно красили куриные яйца. При их окрашивании получались преимущественно охристые цвета, самое простое дело — отварить яички с луковой шелухой, именно луковая шелуха золотисто-коричневатый цвет скорлупе придавала, главное, чтобы не треснуло яйцо в кипятке, тогда внутренность, то есть белок, становился неряшлив, неопрятен. Положив яйца в кипящий свекольный отвар, добивались розоватых оттенков. Некоторые рвали веточки тополя или использовали для цвета крапиву — в обоих случаях светло-желтый окрас держался, а ежели крепко-накрепко привязать к яичку листочки петрушки, то листики эти, после варки, украшали скорлупу затейливым орнаментом.
Пасха на Руси — самый радостный православный праздник, к тому же весенний. Выстраивалась от оградки с распахнутыми воротами и дальше, к самому входу в церковь, живая очередь. Ожидали, когда из дверей появится батюшка в праздничной рясе и, читая молитвы, начнет обходить ряды с разложенными вдоль дорожки продуктами и кропить святой водой. Во время священной процедуры верующие старались придвинуться ближе, чтобы на одежду или на тело попала драгоценная влага. Кое-кто жмурился:
— С ног до головы окатил меня батюшка!
Радовались, ведь благостно было получить в лицо брызги не простой, а святой водицы. Батюшка специально макал кропило глубже, болтал им, а потом принимался с должным старанием разбрызгивать святую воду на умиленных прихожан:
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Вечером начиналась служба — долгая, торжественная, сложно без привычки такую продолжительную службу отстоять. В вечерний час в храме не протолкнуться. Стояли плотно, пели, крестились, повторяя за священником слова молитвы и хор небесными голосами звенел под куполом! Щемило сердце от такого, точно ангельского песнопения, а от зажженных повсюду свечей становилось жарко и благостно пахло ладаном.
По церковным канонам предшествует празднику Пасхи великий пост, символизирующий покорность и очищение. Не просто было на таком строжайшем посту долгие сорок семь дней продержаться. В пост этот ни мясо, ни птицу, ни яиц, ни молока, ни творога, ничего из животного происхождения употреблять не позволялось. А про спиртное и думать забудь! Кушали исключительно растительную пищу — каши, сухарики, грибы, варенье, мед. К рыбе разрешалось всего два раза притронуться: на Благовещение и в Вербное воскресенье. Главное в посте — молитва и воздержание. Особо строги первая и последняя, страстная, недели, когда даже подсолнечное масло из рациона исключается. Зато, как прозвонят колокола, как восславят голоса Светлое Христово Воскресение, как окончится литургия с положенными службами — ешь, пей, празднуй! — снова все становилось дозволено.
В полночь выходили люди из храма и шли за священнослужителями — благочинными отцами, дьяконами и служками, несущими высоко поднятые иконы и хоругви вкруг церкви Крестным ходом. Шли с пением, защищая ладонями от ветров игравшие веселыми огоньками свечки.
— Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ! — в едином порыве звучали голоса.
— Христос воскресе! — обойдя круг, восклицал батюшка, и восторженная паства отзывалась:
— Воистину воскресе!
— Христос воскресе! — еще громче повторял монах, и люди снова громогласно повторяли:
— Воистину воскресе!
— Христос воскресе! — торжественно радовался священник, и опять со всех сторон доносилось:
— Воистину воскресе!
Вокруг начинали троекратно целоваться, обращаясь друг к другу со словами: «Христос воскресе!» и отвечая: «Воистину воскресе!»
Радостным мелодичным перезвоном звонили колокола, возвещая об освобождении человека от рабства грехопадения, от бремени совершенного, прославляя бессмертие Иисуса Христа, принявшего на себя расплату за человеческие прегрешения — прошлые, настоящие и будущие.
Обойдя храм Крестным ходом, люди вновь устремлялись внутрь — служба продолжалась. Лишь под утро, вторично облобызав друг друга, прихожане торопились разговеться — кто спешил в трапезную к батюшке, кто — домой.
— Что ж это происходит? — нервничал Никита Сергеевич. — В церковь так и прут! Что там, медом намазано?! Сегодня каждому школьнику ясно, что Бога нет, что это выдумки, а народу на улице — пруд пруди!
Хотя люди и говорили, что в Бога не верят, на словах отреклись от него, продолжали ходить в церковь, осеняли себя крестным знаменем, шептали идущие от сердца молитвы, в которых просили у Всевышнего милости, ставили свечки за здравие близких и за упокой — тех, кого уже не было среди живых, втихаря крестили новорожденных. Во избежание конфликта с коммунистической властью, чаще приходилось делать это тайком. Строго следила партийная организация за теми, кто тянется к Богу. Церковь не просто отделили от государства, а изгнали из общества, очернили, поставили в один ряд с самым плохим, отобрали у верующих тысячи храмов, отдав их под склады, сельские клубы, ремонтные мастерские для вечно ломающиеся, пропахших несмываемым машинным маслом грузовиков, тракторов и комбайнов. Храмы закрывали, заколачивали досками. Так и стояли они безлюдные, заброшенные. Но это в лучшем случае: многие церквей снесли, не оставив камня на камне. Порушили искусные иконостасы, содрали со стен все сколь-нибудь ценное, разорили алтари, ризницы, церковные библиотеки, а после и кирпичи разобрали — строительный материал всегда в хозяйстве пригодится. Несколько зим подряд топили в советских учреждениях объемистыми библейскими фолиантами и иконами печки. Как-никак, а горит церковный хлам здорово!
И комсомол, яростно доказывая, что Бога не существует, что все это выдумки хитрых попов, выводил по ночам ребят бросать в сторону церкви комки земли, палки, а лучше — постараться угодить булыжником или ледышкой в икону, вделанную в стену над входом в православную обитель. И бросали, и попадали в заданную цель, и доказывали комсорги доверчивой молодежи, что Бог — выдумка, потому что никакое наказание за вопиющее кощунство никого не постигло, и кто хотел, мог в любое время прийти сюда снова, и уже самостоятельно метнуть через ограду камень, чтобы лишний раз убедиться в библейских россказнях. Но как ни старались партийные активисты, верующих оставалось много.
Возмущался Никита Сергеевич человеческой близорукости, отсталости:
— Мы плохо ведем разъяснительную работу! В церквях жиреют, а народ вкалывает! Все, что попы умеют, это зубы заговаривать. Навыдумывали с три короба и ходят, бабкам безграмотным небылицы рассказывают, народ обирают!
Но еще больше огорчало Никиту Сергеевича поведение его престарелой матушки — Ксении Ивановны, которая вот уже двадцать лет как жила с сыном под одной крышей. Как молилась она совершенно открыто, никого не стесняясь, так и продолжала молиться, и еще на все собственное мнение имела. Сидя на лавочке перед домом, высказывала вслух всякие несуразные мысли таким же чудным недалеким старушкам, что ежедневно просиживали у парадного, а те разносили слова хрущевской мамаши дальше. А кто знает, как эти наивные рассуждения малограмотной женщины могли истолковать чекисты? В тридцатые годы строго было. Очень нервничал Никита Сергеевич по этому поводу. Когда из «Дома Правительства», с набережной Серафимовича, переехали на улицу Грановского, стало легче, к престарелой бабуле на лавочку выходила лишь немощная мамаша маршала Судец. Однако Ксения Ивановна могла вступить разговор с кем угодно, хоть с дворником, хоть с консьержкой, круглосуточно находящейся в подъезде, хоть с водопроводчиком, да и просто могла заговорить со случайным человеком, идущим в гости или по делу, и говорить с незнакомцем о чем угодно. Повезло тогда, что не прислушались органы к хрущевской мамаше, не донесли ее нелепые рассуждения до товарища Сталина. Ворчал Никита Сергеевич на мать, но больше про себя, не мог на родительницу голос повысить, тем более что первым делом просила Ксения Ивановна у Господа для сына Никиты защиты. И сейчас Ксения Ивановна расставила в уголке своей комнаты иконы, и ни при каких обстоятельствах не желала их убирать. А еще каждый день подливала в лампадку масло, зажигала перед Николаем Угодником и Божьей Матерью Одигитрией огонек и послушно молилась, нестройно выговаривая звонким, хотя и старческим голосом:
— Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков! Аминь. Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого! — или еще что-то подобное, сердцу понятное, много раз повторяла.
Правильно Нина Петровна приставила к ней сухую как жердь немногословную уборщицу, которая держала рот на замке, а то как же — мама Первого Секретаря Центрального Комитета Коммунистической парии — верующая! Что скажут товарищи по Президиуму ЦК? Хотя ничего в этом предосудительного не было, многие пожилые люди оставались верующими, по-советски — несознательными, продолжали посещать храмы, им это не воспрещалось. На пожилых людей косо за такие прегрешения не смотрели, а вот всех, кто помоложе, брали на заметку:
— Кто такие? Почему здесь?
По церковным праздникам у храмов выставлялись отряды добровольной народной дружины, а на Пасху так настоящее милицейское оцепление появлялось. Молодежи не то что ходить — смотреть в сторону церкви было опасно.
— Мам, ты бы хоть свечки не жгла, дом спалишь, а он казенный! — не смог сдержаться Никита Сергеевич.
— Ты лучше за своей Нинкой следи, я твой дом не сожгу! — отвечала мать и осеняла сына крестным знамением.
— Не мой дом, мама, государственный! — уточнял Хрущев.
— Уйди, Фома неверующий! — хмурилась Ксения Ивановна.
Никита Сергеевич никогда с матерью не спорил, не перечил, уважение к родителям хранил с детства, хотя по натуре был человеком взрывным, вспыльчивым. Даже тогда, когда речь заходила о его супруге Нине Петровне, молча уходил, а речь о ней велась матерью постоянно. Лишь однажды он ответил:
— Мы как-нибудь без тебя разберемся!
— Да уж разберетесь, разберетесь! — охала мамаша. Не любила она властную Нину Петровну, хотя внуков, рожденных ею, обожала.
Облюбовав бревенчатый домик за садом, в стороне от Огаревского дворца, бабушка Ксения все прилежней читала молитвы, отбивала поклоны и просила Бога отвести напасти и болезни, заступиться за непутевого сына, за его непутевую жену, за их замечательных деток, и конечно за дочку, рожденную от первого брака, от милой Ефросиньи — за Леночку, которая не поехала в Москву, а так и жила в Киеве. Русоволосую Ефросинью Писареву Ксения Ивановна не забывала, поминала за душевность, безотказность, бесхитростность.
— Рано ее Бог забрал, но Ему с небес виднее! — вздыхала старушечка, а Нинку — ту терпеть не могла.
— Вон, жаба зеленая идет! — завидев невестку, шептали губы.
Внучата Сергей, Рада, Ириша и маленький Илюша регулярно заглядывали к бабуле, приносили пироги, пряники, баранки, конфеты. Подолгу сидели, гладили бабушкины ладони, им, естественно, она про маму плохого слова не говорила, но сама наверняка знала, что Никита Сергеевич с выбором жены не угадал.
26 мая, четверг
Булганин и Хрущев вернулись из Югославии. Иосип Броз Тито слышать не хотел о советской делегации, не желал принимать. Каким-то чудом растопили в нем лед. Безусловно, Хрущева заслуга. За два дня в Белграде со многими доверенными людьми югославского маршала Никита Сергеевич и Николай Александрович общались. Искренне, без прикрас говорили о Сталине, честно признались в перегибах, сказали о его лютой, не знающей границ мстительности. Сказанное передали президенту Югославии практически слово в слово и еще очень эмоционально, с хорошей стороны охарактеризовали Никиту Сергеевича. На Тито все в совокупности произвело впечатление, и он дал согласие на встречу.
Не разочаровал югослава Хрущев, и Булганин положительное впечатление произвел: интеллигентный, открытый человек, новый председатель Советского правительства. Конечно, президент наслышан был о его нескончаемых любовных историях, но это, как ни парадоксально, тоже на пользу сработало. Встреча состоялось на острове Брион, где в королевской роскоши проживал югославский маршал. Многие вопросы в разговоре затронули. Нельзя сказать, что сверхобстоятельно проблемы обсудили или о чем-то особенном договорились, нет, но то, что конфронтация двух стран окончилась, было понятно. На прощальном банкете маршал Тито по-доброму улыбался, похлопывал Хрущева по плечу, произнес тост за товарища Булганина, сам не одну рюмку выпил, а такое с маршалом случалось редко. Условились, что в ближайшее время государства обменяются послами, восстановят дипломатические отношения.
Докладывая на Пленуме Центрального Комитета о результатах поездки, Первый Секретарь сиял:
— На Балканах у нас снова надежный союзник!
В более узком кругу Никита Сергеевич поведал, как вместе с Тито ходили на охоту бить оленя, как доверительно говорили о перспективах советско-югославских отношений. Повторил, что президент высказывал в отношении политики Соединенных Штатов, ему так же не нравилось нарастающее влияние американцев в Европе. Тито остался доволен ликвидацией Берии, который по поручению Сталина неоднократно готовил на него покушения, два раза с удовольствием прослушал историю об аресте Лаврентия, похвалил за начало масштабной реабилитации невинно осужденных, интересовался ближайшими планами Булганина и Хрущева, сказал, что и он в первую очередь озабочен положением народа, что хочет сделать так, чтобы простой человек стал жить лучше, заявил, что государство призвано служить гражданину.
— А олени у него на острове исключительные! — восторгался Никита Сергеевич. — Просто царская там охота! Нам бы подобное охотхозяйство не помешало, с редкими зверями, с богатыми покоями. Стали бы звать к себе разных деятелей поохотиться. Сидя в костюмах не всегда разговор клеится. А в лесу походили, постреляли, пообедали, по рюмочке выпили, снова постреляли, глядишь и сложилось!
7 июня, вторник
Вчера члены Президиума Центрального Комитета посетили Китайское Посольство. Там был дан прием по случаю приезда китайской делегации. В рамках подписанного в 1950 году «Договора о дружбе и сотрудничестве», между странами шел многосторонний обмен. Восемь раз в неделю из Москвы в Пекин отправлялся железнодорожный экспресс. Каждый месяц из Китая в СССР привозили художественные коллективы, которые гастролировали по Советскому Союзу. Танцуя, распевая песни, показывая невероятные акробатические номера, китайские артисты радовали советских людей. В ответ наши артисты ехали в Китай. Особым успехом пользовались выступления ансамбля «Березка», танцевального коллектива под управлением Игоря Моисеева, Кубанского казачьего хора. За шесть лет в СССР показали 86 фильмов китайских кинематографистов. Советский Союз привез в Китай более двухсот кинокартин. На учебу в СССР ежегодно приезжало несколько тысяч китайских студентов. Только московские вузы в этом году ожидали принять более полутора тысяч человек. Существовал обширный обмен учеными, врачами, активно развивалась торговля. Такой масштабный договор ставил СССР и Китай особняком, казалось, что две самые близкие по духу страны скоро будут неразделимы. В Китае день подписания Договора отмечался как государственный праздник. Вот и вчера на приеме не раз говорилось об историческом значении советско-китайского Договора о дружбе и сотрудничестве. От китайской стороны с речью выступил заместитель Председателя Государственного Совета товарищ Чжоу Эньлай, от Советского Союза говорил Хрущев. Выпили, закусили, но раскрепощенности, которая царила на аналогичных приемах в посольствах Индии или у египтян, не получилось. Китай все круче поворачивал в сторону, отношения двух стран уже не казались безоблачными. Дружба с Китаем — как зеркало: вроде смотришь — нерушимая дружба, а протянул руку — оптический обман.
Больше трех часов товарищи Булганин, Хрущев, Молотов, Микоян и Жуков пробыли у китайцев. За Мао Цзэдуна бесконечно провозглашали тосты. Не обошлось и без торжественных слов в адрес советского руководства. Отдельно почтили память Иосифа Виссарионовича Сталина. На центральном месте в огромном холле посольства висела неимоверных размеров картина, запечатлевшая двух величайших гениев: учителя Сталина и преданного ученика Мао Цзэдуна. Напоследок гостей провели по внутренней территории, где поражали красотой клумбы с многочисленными цветущими растениями, отдельно были высажены пионы, любимые цветы председателя Мао. При посещении китайского посольства у Никиты Сергеевича родилась идея показать родным сталинский дом.
— Когда еще они «ближнюю» увидят, может, и никогда? — поделился он идеей с Микояном.
— Ну и мысли тебе в голову лезут! — удивился Анастас Иванович, но потом и сам изъявил желание ехать.
Никита Сергеевич не стал тянуть, тем же вечером объявил о намерении прокатиться в Волынское. Сергей тотчас согласился. Никита Сергеевич позвонил Раде, позвал и ее с мужем. Поразительно, что и Нина Петровна решила поехать, а вот Ашхен Лазаревна наотрез отказалась и детей не пустила. В 1950 году сын Микояна женился на дочери Секретаря ЦК Алексея Александровича Кузнецова, которого за день до свадьбы арестовали по «ленинградскому делу». Однако свадьба из-за этого печального события не расстроилась, хотя никакого празднования не получилось, выпили по рюмке, и разошлись — какой уж тут праздник, если отец невесты брошен за решетку и обвинен в государственной измене?
С тех пор Микояны, особенно Ашхен Лазаревна, очень настороженно относились ко всему, что было связано со Сталиным, и вообще старалась о вожде не вспоминать, ведь папа Нади вместе с остальными обвиняемыми был расстрелян. С утра вереница машин двинулась в направлении сталинской дачи. «ЗИС» Хрущева, как обычно, шел в сопровождении двух «ЗИМов», микояновский лимузин прикрывал всего один автомобиль охраны, а блестящая черным лаком «Победа» Алексея Аджубея, стараясь не отстать, замыкала колонну. День выдался теплый, солнечный, лишь на горизонте маячило небольшое облачко. Предусмотрительный комендант Кремля (ведь к его ведомству относилась сталинская дача) встречал посетителей у ворот.
На «ближней» так и не получилось сделать музей, как-то сама собой исчезла эта идея, и покинутый сталинский дом застыл средь темного леса, словно заколдованный, напоминая историю про принцессу, уколовшуюся веретеном, — жизнь в Волынском, как в сказке, остановилась. Не ходили по окрестностям хмурые автоматчики, не было вокруг свирепо гавкающих сторожевых собак, не стояли, глухо бубня моторами, громады тяжелых танков, увезли пушки, пулеметы, куда-то подевались бдительные глаза охранников. Дом казался заброшенным, навек забытым, лишь одинокий дворник, даже сейчас, знойным летом, расхаживающий в шапке-ушанке, как привидение, мел дорогу, по которой не ездила ни одна машина. Нарушая это бесконечное одиночество, автомобили «гаража особого назначения» один за другим подрулили к парадному.
Никита Сергеевич дождался Микояна и зятя с дочерью, которые подъехали следом, и, пропустив вперед Нину Петровну, принялся показывать сталинские владения.
— Смотрите и запоминайте. Может, снесут этот дом, кто знает? — Хрущев по-хозяйски вышагивал по дорожкам, обходя здание. Анастас Иванович был задумчив и держался поодаль.
— Вы на меня внимания не обращайте, — проговорил он и двинулся в противоположную сторону, хотел, видно, побыть один.
Никита Сергеевич сначала повел группу на пруд, но воды в пруду не оказалось — на зиму искусственный водоем с беседкой на южной стороне спускали, а с 1954 года уже не наполняли. Омываясь косыми дождями, весенним паводком и летними грозами, огромная чаша к середине июля безнадежно пересыхала, бетонное дно ее казалось грязным, замусоренным, в некоторых местах, там, где гнили прошлогодние листья, буйно подымалась трава, из трещин настойчиво рвались ввысь молодые побеги. Выше всех устремилась к небу тоненькая осинка. Обойдя место, где некогда сверкал живописный пруд, сразу за беседкой повернули налево и оказались у оранжереи. Здесь тоже царило запустенье: и снаружи, и внутри — неумолимое буйство диких растений.
— Раньше тут был идеальный порядок, — цокал языком Хрущев.
— Власик обслугу задергал, — припомнив сварливого начальника сталинской охраны, вступил в разговор Анастас Иванович. Обойдя дом, он присоединился к компании.
— А сколько диковинных цветов росло? А плодовых деревьев сколько? Даже абрикосы вызревали. Из абрикоса у Валечки отличное варенье получалось. А груша какая!
— Точно, точно! — подтверждал Микоян.
— Цветов тут, Нина, была гибель! — не унимался Никита Сергеевич. — Когда у Сталина случалось хорошее настроение, он шел в оранжерею и бутоны нюхал. Иногда цветами одаривал. Соберет букетик и вдруг — «на»! Три раза мне букет доставался. А тебе, Анастас, сколько?
— Пять.
— Везучий! Это сейчас вспоминать просто, а раньше букетик милостью считался, выражением особого расположения, — определил Первый Секретарь.
— Ты сам не свой от радости возвращался, — подтвердила Нина Петровна. — Мы один такой букетик засушили. Он где-то до сих пор хранится.
— Теперь можно выбросить! — отмахнулся Никита Сергеевич.
— Нет, Никита, пусть лежит!
— Ну, пусть, пусть.
Дорожки, по которым ходили, были запущены, ветки лезли в лицо, цеплялись за одежду. Лишь дворник как неустанный маятник ходил по двору, заметая все подчистую, и если бы не он, сталинский дом, лишившись подступов, врос в землю — столько листвы, сучков, веточек, стебельков, соринок, перышек, чего угодно, падало вниз; так бы и пропал этот дом на веки вечные!
Входные двери отворились. Прихожая выглядела точно как в ту роковую ночь, ничто здесь не поменялось. Оказавшись в сталинских покоях, человек словно попадал в прошлое — те же вещи, те же запахи, то же настороженное настроение. Все осталось как при нем, при Хозяине. Сергей, Рада, Алексей Иванович и Нина Петровна послушно шли за отцом. Дом правителя наполняла предельно скромная обстановка, точно такая, как и в других местах его обитания. Мебельная фабрика «Люкс» Хозяйственного управления Совета министров скрупулезно тиражировала незатейливые гарнитуры из красного дерева, дуба и светлой карельской березы. В Бухаре ткали привычные красные ковры, в спеццехе на заводе Ильича собирали громоздкие, скудно наделенные хрусталем люстры, на стены клеили однотонные бесхитростные обои. Паркет на полу отличался добротностью и незамысловатостью рисунка. Все делалось скупо, без излишеств, чтобы не раздражать вождя, не отвлекать от непростых государственных дум. Территорию ограждал выкрашенный зеленой краской деревянный забор, парковые дорожки были присыпаны измельченным красноватым гравием.
Архитектура сталинских резиденций была на удивление однообразной, что на Валдае, что в Гаграх, что здесь, под Москвой. А может, однообразие подразумевало величие, создавало впечатление, что невозможно от товарища Сталина ускользнуть — ни времени, ни человеку? Никому не получится перенестись в другое измерение, что-то переменить, переиначить, — на любом конце света будет поджидать тебя родной вождь, его несокрушимые, прозорливые мысли, привычная аскетическая обстановка.
Генералиссимус селился в красивейших местах, занимая чудесные дворцы и замки, но вдруг отдавал распоряжение строить по соседству дом и собственноручно делал набросок, определяя каким ему быть. Чтобы довести детали до совершенства, улучшить функциональность, придать величие формам, к проектированию привлекались самые значительные корифеи, они предлагали многочисленные эскизы, делали скрупулезные проработки тех или иных архитектурных решений, но неизбежно все сводилось к односложному сталинскому варианту и строилось будто бы под копирку. Таким стал и Мао Цзэдун, допускавший разнообразие исключительно в диковинных цветах и женщинах. Великий Сталин и великий Мао, точно как на картине в Посольстве Китая, были близнецы-братья.
— Засыпал он здесь, на диване, — показал Никита Сергеевич.
— А тут, — комендант Кремля распахнул тайную дверцу, в точности повторяющую дубовую стеновую панель, — у товарища Сталина был гардероб.
Хрущев с интересом уставился в проем потайной двери:
— Заглянуть можно?
— Разумеется.
— Недурно, — осмотрев гардеробную, произнес Никита Сергеевич.
В спрятанном от посторонних глаз помещении, кроме пустых полок и множества вешалок, ничего не оказалось.
— Одежду забрали в Музей революции, — уточнил комендант Кремля.
— Каганович вопил: «У Сталина одна теплая шинель, одни зимние ботинки!» — усмехнулся Хрущев. — Все думали, что Иосиф не выносит мелкобуржуазного многообразия. Так, Анастас?
— Он больше на публику работал, специально в одном и том же появлялся.
— Тактик! Однажды про ботинки мне рассказывал. Ботинки, говорит, это часть меня. Старая обувь на ноге сидит как влитая, а с новой — всегда неразбериха: то велики ботинки, то жмут или одеваются трудно. Мол, люблю в стареньких ходить, других и не надо!
Когда ботинки вождя снашивались, с них снимали мерку и шили новые, при этом нужно было сохранить абсолютное сходство. Главное, чтобы новизна в глаза не бросалась. Пошьют, потом разнашивают. Иосиф Виссарионович имел в штате специального человека, примерно с такими же по размеру ногами. Как свое полезное дело этот уважаемый человек сделает, то есть походит денек-другой в новых ботинках, и, стало быть, разносит, выставляют пару в прихожей, рядом со старыми башмаками. Бывало, товарищ Сталин на новую пару никакого внимания не обратит, что-то в ней, значит, не то. Тогда ее прятали и делали обувь заново. Следующую пару сошьют, ноги эталонные в ней потопчутся, и опять у вешалки ставят.
«Надел товарищ Сталин!» — с радостью докладывают.
А если пришлась обувь впору, значит, ходит в ней товарищ Сталин, не снимая. Через месяц старые туфли из прихожей убирали, ведь понятно, что Иосиф Виссарионович от них отказался, но ни в коем случае не выбрасывали, а начистив и набив упругой замшей, относили в специально отведенное место. С костюмами и пальто была та же история. Одежду шили на человека с фигурой, точно повторяющей сталинскую. Нашел его сам вождь. Вышло это так. Однажды проводил Каганович совещание в своем кремлевском кабинете. Лазарь Моисеевич возглавлял тогда Министерство промышленности строительных материалов. На это совещание неожиданно Сталин пришел, присел с краю и слушает. Каганович разошелся, никому спуску не дает, каждому вопрос, почти всех подчиненных с места поднял, покрикивает, а напоследок к одному заведующему отделом с вопросом обратился. Тот оробел, застыл как столб, ни бэ, ни мэ! Тут товарищ Сталин строго: «Раздевайся!» Завотделом: «Что?» — «Раздевайся, говорю!» Завотделом снял пиджак, рубашку, руки трясутся, не слушаются, а Сталин ему: «И штаны снимай!» И брюки снял. Иосиф Виссарионович забрал одежду и в соседнюю комнату удалился. В зале тишина, ждут, что дальше будет. Каганович сидит красный, не знает что думать, а мужик этот, начальник отдела, голый посреди зала торчит. Минут через пятнадцать Сталин возвратился, протянул одежду: «Одевай! Будешь вместо меня на примерки ездить. Мой размер у него, Лазарь, один в один, мой!» Лазарь Моисеевич расплылся в благодушной улыбке. Бывало, ведет Каганович коллегию министерства и тут правительственный телефон звонит. Лазарь Моисеевич трубку поднимает, а потом командует: «Манекен, на примерку!»
Так шили Сталину одежду, и немало шили, и летние вещи, и зимние, и демисезонные. Иосиф Виссарионович нет-нет, а что-нибудь новенькое возжелает. Вот Мао Цзэдун, тот не щеголял нарядами. Три халата для дома и два защитных френча полувоенного образца, на все времена, одно пальто и одна шинель. Вещи, как ни крути, приходили в негодность, портились, тогда отдавали их в починку. «Я не такой богатый, чтобы каждый раз покупать новую одежду!» — назидательно повторял Председатель. Одежду отправляли в одну из китайских провинций, где трудились самые искусные рукодельницы. Портнихи так виртуозно штопали дырочку за дырочкой, разыскивали еле уловимые потери на ткани, потертости, шероховатости, так заботливо, узорчато исправляли прорехи на платье, что поношенная вещь превращалась в произведение искусства. Они не просто шили, они накладывали невообразимые по орнаменту аппликации, неброские, еле различимые, так как Председатель Мао, следуя примеру товарища Сталина, был человеком предельно скромным. Но стоило внимательней присмотреться к его одежде — от восторга невозможно было глаз оторвать!
Осмотр сталинской дачи занял полтора часа, после все поехали к Анастасу Ивановичу, где Ашхен Лазаревна угощала долмой, азербайджанским пловом, и, конечно же, съели кю-кю, совершенно простое блюдо из всевозможных трав, обжаренных с добавлением куриного яйца.
— Под такую закуску, Анастас, выпить полагается! — взглянув на аппетитную долму, подметил Никита Сергеевич.
Анастас Иванович выставил на стол тутовую настойку. Сергей не пил, а вот Алексей Иванович Аджубей, подсев ближе к тестю, поддержал компанию.
— Вот осмотрели мы Волынское, пропадает дом! — заговорил Хрущев. — Музея, ясно, там не будет, а если дом лет семь-восемь простоит — никакой ремонт его не спасет, развалится. В домах жить надо, нет жизни — дому конец.
— Что придумал? — заинтересовался Микоян.
— Пускай в Волынском наши помощники сидят, доклады пишут.
Докладов у Хрущева становилось больше и больше. Над их созданием корпел не один десяток эрудированных людей. С учетом особенностей его фразеологии, они готовили всевозможные выступления. Чтобы работа шла сосредоточенно, помощников размещали за городом, хотя было это неудобно, терялась оперативность: захочет Первый Секретарь по тексту переговорить, а ехать в Москву из Семеновского часа два с половиной.
— В Волынском помощники будут под боком. Кухня есть, накормят, и отдохнуть можно — целых пять спален в доме. Уж тише места на всем земном шаре не сыщешь!
— Пускай работают, — согласился Микоян.
— Ну, где твоя тутовая? Давай помянем ирода, что ли?
11 июня, суббота
Чаек был жиденький, но все же чаек. В этот раз Надя принесла сахарка, бубликов и меда и устроила настоящее чаепитие! Только уселись за стол — отец Василий пришел, принес вареных яичек и хлебца, его попадья замечательно хлеб пекла.
— Кушай, Марфуша, кушай! — приговаривал отец Василий. — Спина моя, Господи! — хватаясь за поясницу, причитал священник. — Так болит, так болит! Сил нет! Сорвал я спину в отрочестве.
— Не спина это болит, душа твоя кается! — разъяснила Марфа.
— Я уже и раскаялся во всем! — искренне признался батюшка.
— Боль, милый, за грехи поминание. С болью пронзительной человек в жизни лучше будет — так Господь рассудил. Терпи!
— Эх! — протянул поп. — Твоя, правда, матушка, грешны! — и потянулся целовать ее маленькую мягкую ладошку.
Надя допила чай и спросила:
— Скажи, матушка, как такое бывает, придем в церковь на службу, молимся, поклоны бьем, а ребеночек несмышленый сидит на лавочке один-одинешенек, не капризничает, на улицу не просится, и разговаривает с кем-то, что-то лопочет, а вокруг — ни души?
— С ангелами говорит! У деток души чистые, вот они с небесами и общаются, а мы… мы-то уже и не слышим ничего, уже глухие. И уши глухие, и сердца! Молись прилежней, милая, молись без хитрости, и Господь спасет!
27 июня, понедельник
— Допрыгались?! — зло проговорил Хрущев, глядя на первого комсомольца Александра Шелепина и его юркого зама Володю Семичастного.
Сборная Советского Союза по баскетболу проиграла финал чемпионата Европы. До этого, на всех международных соревнованиях советские баскетболисты получали исключительно золото.
— Комитет по физической культуре подвел, — вымолвил Семичастный.
— Кто, кто?! — уставился на него Никита Сергеевич.
— Комитет по спорту! — повторил Семичастный. На Украине при Хрущеве Володя Семичастный возглавлял республиканский комсомол, с приходом в Москву Никита Сергеевич перетащил его за собой, симпатичен был ему парень.
— А комсомол прохлаждался! В команде, небось, одни комсомольцы прыгают?! — распалялся руководитель партии.
— Не доработали, исправимся, — потупился Шелепин. Он был и член коллегии Госкомитета по физкультуре и спорту. — Наш провал, Никита Сергеевич!
Первый Секретарь сидел чернее тучи.
— Несознательный вы народ, только паясничать умеете! На носу Олимпийские игры, а у нас не спортсмены, а размазня! Кто будет честь страны защищать?! — сверкал глазами Первый Секретарь. — И Олимпиаду провалите! Партия для спорта все условия создает, а вы контролировать не можете, на что ж вы годитесь?!
— Приложим все силы! — жалостно выговорил Семичастный.
— Приложим! Горе-комсомольцы! Стоите, как две оглобли! — Никита Сергеевич раскраснелся. — Спорт — это гордость страны! Советские спортсмены должны демонстрировать миру только успехи, комсомолу в этом деле отводится решающая роль! Нет более отважных, более честных людей, чем советские юноши и девушки! А если нет у молодежи успехов, кто виноват? Шелепин с Семичастным виноваты! — Хрущев неприятно грозил пальцем. Он вышел из-за стола и встал перед комсомольцами.
— Приходите на заседания Президиума ЦК, слушайте, что говорят, набирайтесь опыта, я не возражаю. Учитесь руководить, политические события осмысливать.
— Спасибо за доверие, — пролепетал Семичастный.
Никита Сергеевич вернулся за свой стол и жестом показал, что им позволено сесть.
— Поляки в августе фестиваль молодежи проводят, знаете?
— Да, в Варшаве.
Хрущев уставился на комсомольских вожаков.
— Что, если в Москве подобный форум провести? Невиданный по размаху. Не фестиваль, а триумф молодежи! Такой праздник закатить, чтоб люди всю жизнь помнили. Нараспашку души раскроем, объединим в России весь мир: и Африку, и Азию, и Европу с Америкой! Петь будем, плясать, радоваться дружбе! Каждому докажем, что Москва против войны, против насилия. Эх, развернемся! Как думаете, осилим такое?
— Осилим!
— Мы должны всему свету продемонстрировать искренность Советского Союза, чтобы никто не сомневался, что коммунисты никакие не агрессоры.
Комсомольцы понимающе кивали.
— Московский фестиваль молодежи должен стать событием мирового масштаба. Хорошо бы к этому времени успеть стадион в Лужниках открыть.
— Если летом 1957 года фестиваль проводить, основательно подготовимся, — пообещал Шелепин.
— Солидно будет! — поддакнул Семичастный.
— Хорошее ты слово, Володя, применил — солидно! Емкое. Смотри не опростоволосься! Тут простой баскетбол не смогли удержать, а уже на рекорды замахиваетесь!
— Мы на Олимпиаде докажем!
— Посмотрим. Идите, думайте!
28 июня, вторник
Гулять в лесу — одно удовольствие! Нога ступает мягко, по щиколотку проваливаясь в травы и мхи, лишь изредка под неловким движением треснет сломанный сучок. Смотри, не упади, земля влажная, скользкая!
Ничто так не восстанавливает силы, как прогулка по лесу. Вышагивая между высоченными стволами, разросшимися кустарниками, папоротниками, раздвигая непокорные ветки, устремляешься дальше, пробираешься, словно первопроходец по джунглям, в самую непролазную глушь. Сначала тропинка ведет среди высоких трав, кустов, потом деревья обступают теснее, лес становится темным, глухим, травы мельчают, тропка делается невидимой, путается меж кривыми корнями, выползшими точно змеи из подземелья на поверхность, теряется у истлевших стволов деревьев, давно упавших, покрытых скупыми лишайниками, но ты настойчиво пробираешься вперед, весь в паутине, в кусочках коры, в пыльце неведомых цветов, проникая в самые дебри!
Пролазав чащу, возвращаешься на еле различимую дорожку и торопишься обратно. Возле трухлявых пней попадаются грибы и ягоды, правда, для благородных грибов время не подошло. Кое-где торчат бледные поганки на тоненьких ножках или ярко-красные осанистые мухоморы. А бывает, встретишь белесо-коричневый, вытянуто-округлый, точно лампочка гриб, с морщинистой кожурой. Проткнешь этакий гриб прутиком, а из него дым идет! Не знаю, что это за гриб такой удивительный, но всякий его в подмосковном лесу встречал. Изредка наткнешься на мясистую, наверняка червивую сыроежку, а из сыроежек, даже если насобирать с полведра, толкового супа не сваришь. Когда выныриваешь из лесной тени на залитую ярким светом полянку, невольно жмуришься. Лес в любое время года хорош. Выйдешь на прогулку — и вся накипь с сердца долой! Ходишь по лесу, очищаешься, здоровеешь, и мысли дурные где-то далеко остаются.
— Никита Сергеевич! — послышался голос. — Ау!
— Ау! — недовольно отозвался Хрущев, ругнувшись про себя: «Кого черт несет?!»
— Это я, Серов! — прокричал Иван Александрович, выглядывая из-за куста бузины. — Ну и забрались вы в чащу, ей-богу!
— Тебе чего?
— Пришел по старту ракеты доложить.
Председатель КГБ наконец добрался до Первого Секретаря.
— Запустили, Никита Сергеевич, без сбоя пошла! — во весь рот улыбался генерал. — С восьмого-то раза!
— Неполадки устранили, Королев прямо расцвел.
Хрущев внимательно посмотрел на генерала.
— Не угодила в болото?
— Ни в коем случае. Теперь будем летать!
— Когда повторный запуск?
— Через две недели.
— Вот через две недели посмотрим, радоваться или нет.
Хрущев отмахнулся от назойливого комара. Шляпа его была сплошь в паутине.
— Здорово вы вымазались, — помогая стряхнуть со спины хрущевской куртки налипшую дрянь, проговорил Иван Александрович.
— Отзынь! — Первый Секретарь резко развернулся к генералу. — Главное, Ваня, дальность. Нам Америку за хвост ухватить надо. Ну, что стоишь? Иди теперь со мной, гуляй!
— Пойдемте.
— Королеву передай привет. А Челомей что?
— Трудится.
— Значит, полетела! — Никита Сергеевич потряс длинной палкой.
Серов следовал по пятам.
— Как тебе Шелепин? — спросил Никита Сергеевич, отшвыривая палку, которая при очередном нажиме подломилась.
— Прыткий, по-моему.
— Не будешь прытким, все проспишь. Не нравится тебе, значит?
— Ни он не нравится, ни ваш Семичастный.
— Комсомол! — проговорил Никита Сергеевич, — им после идти. Пока мы в своем уме, надо на смену лучших подобрать.
— Не уверен с лучшими! — буркнул Серов.
— На целине, Ваня, какое дело развернули! Гудит целина! А кто там впереди? Комсомол!
— Это вы, Никита Сергеевич, дело развернули. К Брежневу я лучше отношусь, а эти двое — молодо-зелено!
— Ладно, идем гулять, воздухом дышать, может, грибы хорошие попадутся. Я вчера лисичек набрал.
5 июля, вторник
Леля примеряла платье, привезенное отцом из Парижа. К платью прилагались и туфельки, которые на этот раз оказались совершенно впору, а то из бельгийской командировки ни одна пара обуви не подошла. А еще Павел Павлович подарил дочери магнитофон. Прелюбопытнейшая вещь! Леля прекрасно пела, теперь она сможет записывать и себя, и папочку, который совсем не умел петь, а лишь заунывно перечитывал свои доклады перед выступлениями. Папуле тоже магнитофон пригодится. И конечно, можно будет подурачиться с друзьями, записав всякую белиберду. Одно плохо, что был он крайне велик и тяжел!
Сергей обещал появиться вечером. Надев новое красное платье, красные на высоком каблуке туфли, накинув на смуглые плечи воздушную полупрозрачную и тоже ярко-красную косынку, Леля задумала Сережу поразить. Жаль, что в таком великолепии нельзя показаться противной Ладке Кругловой! В этом году Круглова оставила институт — они с мужем уехали работать в Гаагу. Боль по несостоявшейся любви с Александром Прохиным у Лели окончательно прошла, она была рада, что все сложилось именно так: во-первых, разобралась в лучшей подруге, поняла, что у женщин преданных подруг не бывает; во-вторых, разочаровалась в Александре, убедилась, что он ветреный, пустой. Пусть наставляет рога смазливой Ладке! И потому еще удачно сложилось, что Сережа Хрущев ей все больше нравился. Он был не красавчик, но разве это в мужчине главное? Зато умный, искренний и добрый! Когда он прикасался к ней, то чуть не вздрагивал, без конца повторяя: «Моя ненаглядная! Мое сердечко!» С таким человеком и под венец не страшно, к тому же авторитет и положение его отца, Никиты Сергеевича, стремительно росли, и как был убежден Лелин папа, Хрущев становился центральной фигурой государства. Девушке было приятно, что она встречается с сыном первого человека в Советском Союзе.
Леля подвела помадой губки, подушилась и, напевая, стала любоваться своим неотразимым видом.
6 июля, среда
В невыносимо жаркие дни московского пыльного лета хорошо было оказаться на Черном море. Никита Сергеевич полной грудью вдыхал бодрящий морской бриз, завороженно глядя на синюю даль, всегда разного, гипнотизирующего человека безбрежного морского пространства. Откуда эта неудержимая тяга к воде, к морской стихии, может, и верно предполагают ученые, что жизнь вышла из океана?
Регулярно в шесть тридцать утра Первый Секретарь спускался к воде, опускал свое грузное тело в соленые волны и до завтрака плавал. Чудесное место Ореанда! Недаром облюбовали его русские цари, но при Советской власти Южный берег доступен каждому — бери профсоюзную путевку и приезжай.
Хрущевская дача стояла почти на берегу, бывший царский дворец располагался выше. В прошлом году во дворце сделали сердечный санаторий. Круглый год санаторий принимал отдыхающих. И знойным летом, и бесснежной зимой, в бархатную осень, и в мартовские туманы, приезжали сюда обыкновенные люди со всей страны.
Чтобы создать полноценные условия прибывающим на лечение, не обошлось во дворце без перепланировок. Фанерными перегородками разгородили громадные апартаменты, разделив их на множество комнат, повсюду втиснули кровати, шкафы, тумбочки. Никто из отдыхающих на тесноту не жаловался, наоборот, «Ливадия» значилась в Крыму лучшим лечебным учреждением. Первый Секретарь несколько раз побывал в санатории, посмотрел, как в бывших покоях императорской семьи и их многочисленных придворных создали места для проживания советских граждан. Но даже при активном вмешательстве в дворцовую планировку, полезного пространства катастрофически не хватало. Никита Сергеевич посоветовал построить рядом дополнительные корпуса — место ведь уникальное! Отдых советских граждан был одной из приоритетных задач социалистического строительства, а профсоюзы, по определению Ленина, являлись «школой коммунизма».
Никита Сергеевич вернулся с купания и уселся завтракать. Сегодня он пытался плавать без круга, крутился на месте подгребая под себя по собачьи — но плыть плохо получалось.
— Я, Нин, метра четыре сам проплыл, — хвастался он жене.
Она благосклонно кивнула.
— Волны сегодня большие и ветер приличный, чуть полотенце не унес, — рассказал супруг.
— Спас полотенце?
— Ребята спасли.
Перед Никитой Сергеевичем поставили тарелку с пюре и куриными котлетками.
— Сергей так и не приехал?
— У Лели день рожденья, — объяснила Нина Петровна.
— И Ладка кругловская небось будет? — нахмурил брови отец.
— Леля с ней не общается. Говорят, она с мужем за границу уехала.
— В дипломаты заделались! — скривился Хрущев. — Доберусь до них!
От порывов ветра шторы на террасе раздувались как паруса. Небо хмурилось, шквальный ветер цепкими белыми барашками пенил море.
— Штормит, — посмотрев вдаль, определила Нина Петровна.
— Мы с Булганиным сегодня в Севастополь рванем, на линкоре «Новороссийск» отобедаем, — сообщил Никита Сергеевич. — Жаль, Сережи нет, ему б на крейсере понравилось.
1 августа, понедельник
Однообразный бесконечный пейзаж Северного Казахстана преследовал, угнетал, начинал упрямо сниться по ночам, как бывшему узнику беспощадно снится тюрьма. Степи, степи, степи, бескрайние, неизменно повторяющие друг друга, ничем не примечательные, одноликие. Лишь времена года, прикасаясь к их растянутому на унылые километры телу, хоть как-то меняли тягостный облик: жарким летом, окунали в изумрудную зелень; окропив осенними дождями, обращали бесконечно длящееся пространство в цвета червонного золота, а после душили однообразной ноябрьской серостью, и, в конце концов, хоронили дни в скупых холодных снегах. Но и в этих закономерных превращениях не делался неумолимый край краше, не вдохновлял, разве весною, когда просыпаются от зимней стужи сердца, и губы ищут долгожданного поцелуя, становилось не так уныло, не так однообразно.
Скуластые лица здешних обитателей в точности походили на долгие безымянные степи и мало чем отличались друг от друга — с узкими острыми глазами, настороженные, малоприветливые. А может, это только казалось? Может, чувство тревоги было здесь сильно преувеличено, а съедала приезжего человека тоска по дому, по родному Днепру или Орлику, по зовущим улыбкам чернобровых украинских девушек или голубоглазых русских невест, доступных в своей девичьей радости, готовых беззаветно любить и быть любимыми. Нет, во всякое время натыкались заезжие гости на смотрящие исподлобья недоверчивые лица местных обитателей. Так и ходили они из месяца в месяц, закутанные с головы до ног — то ли от лютых морозов, то ли от пронизывающих ветров, то ли от бездонности уходящего в бесконечность неба, которое хмуро и обреченно нависало над головой. От неуемной, царившей повсюду грусти хотелось бежать, спасаться. Однако они, рожденные на этой земле, пережившие суровые зимы, повзрослевшие в испепеляющем зное лета люди степей, не чувствовали своей неустроенности, обреченности на вечное однообразие. Может у кого-то глубоко в груди шевельнулось мимолетное ощущение одиночества? Скорее напротив: «Что пришлым надо? Что они задумали? Зачем здесь?» — повторяли пастухи и настороженно ждали, не застучат ли по рельсам вагоны, не привезут ли снова сюда обрусевших немцев, трудолюбивых крымских татар, выгрузят в чистом поле и бросят умирать, без пищи, без крова над головой, без божьего благословения! А может, в соседнем районе прогремит оглушительный взрыв, пригибающий к земле камни, и обрушится карающим мечом огненный смерч, испепеляющий и мертвое, и живое. Так секретные ученые испытывают очередную Царь-бомбу, еще более жуткую, чем прежняя. Опасались кочевники, что на месте пастбищ начнут строить железнодорожные развязки, устраивать бетонные бункеры, чтобы с отмеченного злым гением места покорять застывший над головой космос! А может, и еще что пострашнее бомб и ракет выдумают в Москве, и не найдут ничего более подходящего, чем отданный на растерзание ветрам длящийся на тысячи километров Казахстан.
Местные не хотели принимать ни озлобленных ссыльных, ни вдумчивых ученых, окрыленных гениальными замыслами, ни задиристых, беспробудно пьющих геологов, которые без устали долбили землю молотками. Остерегались тут любых командировочных, не одобряли, вот уже как год, гремящих над родными просторами комсомольских призывов: «Поднимем целину! Дадим стране хлеб!» Уходили кочевники подальше от палаточных городков озорной молодежи, которая взад-вперед гоняла по степи изрыгающие чад трактора.
Отстраненный от работы первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Жумабай Шаяхметов был категорически против сельскохозяйственного эксперимента, против распашки веками покоящихся в мире земель. Казах утверждал, что климат республики не позволит получать стойкие урожаи, говорил, что огромен риск потерь, вспоминал про суровые ветра, перед весной дующие с удвоенной силой, способные разорить созревающие урожаи, выдрать из земли семена, унести невесть куда тот самый черноземный слой, жизненно необходимый для сельхозрекордов.
— Не беспокойте землю, идите на Алтай, в Приморье! Сажайте там, где не бывает степных бурь! — умолял он.
Но его не слушали, лязгали гусеницы, сигналили грузовики. 250 тысяч квадратных километров плодородных земель, территория по размеру превышающая площадь Англии, днем и ночью распахивалась и засевалась. Шаяхметов хотел сохранить степи, где испокон веков, выпасался скот. Как мог он, выросший в нетронутом крае, лишить пастухов пастбищ, как мог разрушить вековой уклад? На все предложения Жумабай категорически отвечал «нет!» и, мало того, настраивал против воли Москвы население. Общего языка найти с ним не получалось.
Оставив пост казахского первого секретаря, с которого его, мягко говоря, подвинули, Шаяхметов не успокоился, не проходило дня, чтобы он не высказал своего негативного мнения. Обаятельному и обходительному Брежневу приходилось тяжко. Переубеждать и уговаривать он умел, и переубедил сотни, тысячи казахов. За долгие месяцы по нескольку раз объехал он Кустанайскую, Целиноградскую, Северо-Казахстанскую, Кокчетавскую, Тургайскую и Павлодарскую области, простирающиеся с запада на восток на тысячу триста километров, а с севера на юг на девятьсот. Начальству сулил повышения по службе, жадным обещал деньги, кому-то пророчил славу. Многие верили Брежневу, но далеко не все.
Мудро Никита Сергеевич придумал послать в Казахстан городскую молодежь. Эшелоны с комсомольцами шли из Москвы, из Ленинграда, из Киева, Минска, из других европейских городов СССР. Вчерашние школьники жаждали романтики, рвались на подвиги, стремились доказать, что стали взрослыми, самостоятельными, что не боятся трудностей. Заботами партии, Родина стала для них не пустым звуком. Выпускники с энтузиазмом брались за дело, разворачивали между бригадами, колхозами и областями соревнования, влюблялись, женились, рожали детей, тем самым еще больше привязываясь к суровой стороне, однако, с течением времени задора поубавилось, степь подбиралась ближе, подползала к самому горлу и душила. Тяжко приходилось тут жить. Невзирая на необустроенность, с которой еще как-то мирились, пытались веселиться, не закисать. В воскресные дни ходили на танцы, в гости, но изо дня в день караулила чужаков монотонная безысходность. Пленники сливались с безликим однообразием, как будто их заворачивали в нервущуюся серую бумагу, они скучали, плакали, впадая в еще большее уныние. Работа тормозилась, захлебывалась, шла вкривь и вкось.
Новый первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Пантелеймон Пономаренко, избранный вместо Жумабая Шаяхметова, был до отвращения требователен, он не щадил никого, главным для него было любой ценой выполнить заданный план, доказать, что он стоящий руководитель и его место — в Президиуме Центрального Комитета. Брежнев, являлся его абсолютной противоположностью, чуткий, отзывчивый. Нелегко приходилось второму секретарю при таком безапелляционном первом.
Каждый день Леонида Ильича начинался с разъездов. На местах шли совещание за совещанием. Намечали где пахать, откуда и куда вести дороги, где возникнут новые колхозы, как эти колхозы назвать, где закладывать жилые поселки, где расположить ремзоны для механизации, где поставить элеватор, куда в первую очередь давать трактора, где удобней разместить склады горючего. Схемы обустройства предельно напоминали одна другую, за основу был взят принцип единообразия: поселок — детсад, школа; на пять колхозов — больница; в каждом колхозе — клуб, где для целинников в праздники споют и станцуют артисты, по выходным — покажут кинофильм, но все равно возникали тысячи вопросов.
В каждом поселении обязательно имелись промтоварный и продовольственный магазины с разнообразным ассортиментом. Государство исправно и богато снабжало целинников, тут можно было купить все от телевизора до китайской рубашки, и водку, понятно, регулярно подвозили. Пили, к сожалению, и довольно крепко пили. Не выдерживали ребята тяжелой работы без градуса, но упрямо поля распахивались, засевались, намеченная программа выполнялась.
Чтобы выглядеть более авторитетно в сравнении с новым первым секретарем, бесцеремонным Пантелеймоном Кондратьевичем Пономаренко, второй секретарь Брежнев не жалел себя, стараясь доказать, что он — не хуже! — не до отдыха ему было. Несколько раз, прямо на совещании, Леонид Ильич падал, сраженный высоким давлением, однажды подхватил тяжелое воспаление легких, но так или иначе стал в Казахстане не чужим, нашел друзей, заслужил уважение. Симпатичным человеком оказался ученый Кунаев, которого Леонид Ильич настойчиво двигал в председатели Казахского Совмина. При всяком удобном случае, Леонид Ильич снимал телефонную трубку и просил соединить с Хрущевым. Не стеснялся даже через приемную передавать Никите Сергеевичу объективные, но исключительно позитивные сведения. Иногда рассказывал забавные истории, исправно звонил поздравить кого-нибудь из хрущевских родных с днем рождения или по другому торжественному поводу.
С собой в Алма-Ату Леонид Ильич прихватил двоих шоферов, охранника, повариху и безотказного помощника Костю Черненко, который приглянулся ему еще в Молдавии. Именно Костя Черненко разбудил ранним утром заспанного второго секретаря Компартии Казахстана и сообщил про беду.
Леонид Ильич трясущимися руками потянулся к аппарату ВЧ.
— Степь горит, тушить нечем, — жалобно простонал он. — Вагоны, бытовки, техника, все пылает. Не казните, Никита Сергеевич!
Хрущев тяжело дышал.
— Ты куда смотрел?
— Я предупреждал, что жара стоит адская, что опасно! Надо пожарные дружины выставлять, водой запасаться, оставлять на ночь дежурных, а Пономаренко отнекивался, на ЦК кивал, мол, в Москве не поймут, что вы будете недовольны, если людей с основной работы отвлечь. Вот и дождались, — жалко оправдывался Леонид Ильич.
— Провалили, бл…и! — выругался Хрущев и повесил трубку.
Брежнев сидел в задымленном Целинограде и плакал — вот и кончилась его скорая карьера, его слава. Вспыхнула и прогорела вместе с загубленным хлебом.
Пламя разрасталось, пожирало трактора, комбайны, на скорую руку построенные домишки, гудело в заваленных хламьем домах культуры, бушевало в детских садах, библиотеках. Бескрайние, уходившие к горизонту поля пропадали под немилосердным безумством ревущего огня. Яркие всполохи озаряли хмурое от дыма небо, люди начинали задыхаться, целинников надо было срочно эвакуировать.
— Гибнет целина, гибнет! — прокричал вбежавший в кабинет чумазый секретарь Целиноградского обкома.
Он был мертвецки пьян. Воды, чтобы тушить огонь не было. Горючее, хранившееся в железных бочках, глухо взрывалось, подсвечивая огрубевший горизонт слепящими вихрями.
Леонид Ильич поднялся из-за стола и застыл перед окном, смотреть, как догорает бескрайняя засеянная отборной пшеницей степь, его детище, его оборванное счастье.
Поздним вечером, когда звезды взошли на темном небе, Никита Сергеевич зашел в калитку микояновского особняка.
— Спит Анастас Иванович? — спросил он охранника.
— Не спит, товарищ Хрущев!
— Скажите, я тут.
Через минуту появился Микоян.
— Что случилось, Никита? — вглядываясь в потерянное лицо соседа, спросил он.
Хрущев заплакал:
— Нету больше целины, Анастас! Сгорела. Дотла сгорела!
Никита Сергеевич опустился на лавочку под пушистыми туями.
— Ничего не осталось, один пепел! Хлеба не будет!
— Успокойся!
— Сожрут меня теперь волки, сожрут с потрохами! — причитал несчастный.
Микоян обнял товарища за плечи. Хрущев взвыл.
— Я сейчас! — Анастас Иванович скрылся в доме.
Никита Сергеевич сидел на лавке перед крыльцом и всхлипывал:
— Как же такое случилось? Как же могло?
Непоправима была потеря, и слишком сильна обида, обида — на весь белый свет!
Через минуту Микоян вернулся, в руках у него была бутылка тутовой, два стаканчика, лаваш и сыр. Все это он положил на скамью, поломал хлеб, сыр, откупорил бутылку.
Выпили молча. Тутовка была крепкая, градусов пятьдесят. От крепости напитка Хрущев зажмурился, утер рукавом рот и заплаканные красные глаза.
— Весь вечер плачу, успокоиться не могу, душа разрывается! — выговорил он.
— Держись, друг, держись! — обнимал Микоян. — Мы и не через такое проходили!
Анастас Иванович снова потянулся к бутылке.
Уютно было сидеть здесь, под туями, на незаметной постороннему глазу лавочке. После третьей рюмки Хрущев захмелел и немного успокоился.
— Не буду больше, — отстраняя рюмку, запротестовал он, — домой не дойду!
Микоян не настаивал. Убрал бутыль на землю, чтобы случайно не разбить.
Стояли последние дни лета. Вот-вот задышит неуютной прохладой осень, остановит соки жизни, укротит силы. А пока кругом разливалась торжествующая тишина певучего августа, густого, сладкого и неповторимого. Хотелось дышать полной грудью, радоваться неясно чему, но чему-то приятному, волнующему.
Никита Сергеевич утер непокорные слезы, распрямил плечи, откинулся на скамейке, запрокинув голову выше, и, вглядываясь куда-то вдаль, начал читать стихи:
Август — месяц лета уходящего, Август — золотистые поля, Притомилось солнце, лес палящее, Утомилась расцветать земля. День еще прозрачен, и душистый Запах сена чуть щекочет нос. До свиданья, август, месяц чистый, Месяц солнца и твоих волос! Озеро с хрустальною водою Отражает с неба облака. Лето-лето, ты еще со мною. Лето-лето, ты со мной пока. Вот уже летят с березы листья, Вот уже дожди гулять пошли, Налились рябиновые кисти, Пролетают в стаях журавли. И под вечер, в зареве заката, Я шепчу прощальные слова: До свиданья, август синеватый! До свиданья, мягкая трава!Хрущев всхлипнул. Микоян обнял друга за плечи.
— Тебе книжку издать надо.
— Засмеют! — отмахнулся Никита Сергеевич. — Знаешь, сколько у нас поэтов, а тут еще один, безграмотный.
Он глубоко вздохнул и уставился ввысь. Анастас Иванович сидел рядом, откинувшись на спинку скамейки, и тоже разглядывал усыпанное звездами небо, которое, казалось, придвинулось ближе, наваливаясь на темные силуэты деревьев, припадая грудью к земле. Тысячи звезд, близких и далеких, мерцали в его нескончаемой высоте.
11 августа, четверг
В Свердловском зале Кремля открылся Пленум Центрального Комитета. Хрущев доложил членам ЦК о поездке в Германскую Демократическую Республику, рассказал, что они с товарищем Булганиным увидели.
— Удивительно, насколько рады были нам немцы! Встречали, словно родных, в глазах радость, кругом улыбки! — захлебывался восторгом Никита Сергеевич.
Радушие и гостеприимство немцев поразили Хрущева, он представить не мог, что люди, которые еще вчера стреляли в советского солдата, жгли русскую землю, впоследствии беспощадно поруганные, униженные и истерзанные армией победителей, смогли так искренне радоваться советской правительственной делегации.
— Очень радовались! — с места подтвердил Николай Александрович, — мы даже растерялись. Я уверен, что Германская Демократическая Республика — наш надежный друг.
Хрущев рассказал, что в ближайшее время в Советский Союз прибудет канцлер Федеративной Республики Германии Аденауэр, подтвердил, что международная обстановка теплеет, что наметился позитивный диалог с Западом.
— И Австрийский узел разрубили! — дополнил Булганин.
С участием США, Франции и Англии был подписан договор о нейтралитете Австрии, советские войска должны быть выведены с ее территории до конца года.
— При подписании договора, Никита Сергеевич обхватил одной рукой Рааба, другой Шерфа, — рассказывал Булганин. — Рааб — христьянский демократ, а Шерф — социалист, и закричал: «Смотрите, я одной рукой обнимаю социализм, а другой — капитализм!»
Члены ЦК смеялись.
— Это успех дипломатии, разрядка международной напряженности!
На этом же Пленуме Никита Сергеевич подверг резкой критике Молотова:
— Мы все очень уважаем товарища Молотова, мы знаем его как верного ленинца, но товарищ Молотов в последнее время высказывает противоречивые суждения и не считает нужным обсуждать внешнеполитическую стратегию с членами Президиума, ссылаясь на то, что она была ранее утверждена. Как такое может быть?! — развел руками Никита Сергеевич. — После смерти товарища Сталина мы каждое дело обсасываем, а тут — множатся неизвестные! Школьнику понятно: одна голова хорошо, а две лучше, но во внешней политике этот принцип потерян, наш министр иностранных дел, точно провидец, вершит дела сам. Непонятна позиция СССР в отношении Турции, Ирана, Египта, Сирии, Индонезии. Слава Богу, что отношения с Китаем, Югославией и Австрией взяли под пристальное внимание мы с Булганиным, о чем постоянно говорим на Пленумах Центрального Комитета. По Югославии дошло до прямого раздора! Товарищ Молотов категорически не соглашался, чтобы правительственная делегация посетила Белград. У Сталина было особое отношение к Тито, мы это знаем. У Тито, товарищи, была одна «беда», слишком он был самостоятельный, без Сталина обошелся, когда собственное государство строил и с закрытыми глазами слушать его не хотел. Тито задумывал создать Балкано-Адриатическую конфедерацию и Албанию туда тянул. Но это не означает, что Броз Тито не коммунист! У нас раньше как было — если кто-то не соответствовал линии Сталина, значит, враг! Товарищ Сталин был сильно упрямый человек. Но времена меняются, а товарищ Молотов, я извиняюсь за выражение — рогом уперся!
— Тито ставит национальные интересы Югославии выше ленинских принципов! — возмутился Вячеслав Михайлович. — Социализм есть единство, взаимовыручка, а где у Тито взаимовыручка, где единство? Если приглядеться, то и социализма нет! Сколько миллионов Тито от американцев получил? Немыслимо сколько! А люди ходят плохо одетые, голодные, а он во дворце на Брионах засел! Я это высказывал.
— У товарища Молотова через край накопилось! Он, как Сталин, на Тито взъелся. А то, что Вячеслав Михайлович на дворцы кивает — нелепость! Позабыл, наверное, что дворец Тито не принадлежит. Мы с вами тоже во дворце царском сидим, в Кремле, и что? А, что жизнь у людей трудная, не есть аргумент, она и у нас не сахар, но это не значит, что у нас социализма нет! — яростно рубанул Хрущев. — Трудности и лишения есть последствия борьбы с империализмом, борьбы за великое царство народа! — под аплодисменты прокричал он.
— Мир сегодня разделен на два противоборствующих лагеря: капиталистический, который возглавили Соединенные Штаты, и социалистический, во главе с СССР. Сталин считал, что Советский Союз — всеми признанный лидер социализма, а тут Тито взбрыкнул, начал своевольничать. Сталина это раздражало, он даже приказывал убить Тито. Абакумову Сталин Тито припомнил, что тот югослава не достал. Даже военное вторжение в Югославию планировали. Но ведь товарищ Тито за народ воевал! Живут бедно люди, верно! Но в Югославии вы богачей не найдете! — выпалил Хрущев. — Мы с Булганиным стали выступать за диалог с Броз Тито, и это разумно, нельзя нам Америку к югославам подпустить, а Молотов — не будет с Югославией диалога, долдонит!
Товарищ Сталин верил, что во всем мире победит коммунизм, и мы в это свято верим. Иначе и быть не может, потому что трудовой человек везде один и тот же: что у нас, что во Франции, в Америке или Югославии, это наглядно видно. Сегодня по всему миру угнетенный класс голову поднимает! Победа коммунизма неизбежна! Но разве ж она неизбежна только в результате войны? Я так не считаю. И мирным путем, путем открытых выборов, можно власть взять. В этом наше с товарищем Молотовым принципиальное разногласие. Своей безапелляционностью Вячеслав Михайлович значительный вред наносит, поэтому и имеем со стороны Запада негативное отношение, уже не настороженное, а полувоенное, полубоевое! Ведь товарищ Молотов, чуть что, армией пугает! Почему против нас создан военный Атлантический блок? Потому что боятся нас хуже чумы и объединяются против нас. Мы, правда, тоже не сидим сложа руки! — распалялся Никита Сергеевич.
— Мы, товарищи, воевать ни с кем не хотим, у нас своих забот полон рот! Сегодня накал страстей спал, СССР выступает за мир, стремится наладить отношения с соседями, войти с ними в контакт. А как это сделать, если министр иностранных дел постоянно грозится? Мы хотим мира! — громогласно объявил Первый Секретарь. — Хотим отдать основное внимание человеку, советскому гражданину! Хотим, чтобы детишки на улицах бегали, чтобы женщины были женщинами, а не солдатами с винтовками наперевес! А Молотов, как заведенный, — кругом враги засели, заладил! Бодание надо прекращать! Президиум Центрального Комитата должен работать во благо народа, а не в угоду чьим-то амбициям! Посмотрите на календарь, товарищ Молотов, сейчас не сорок восьмой год, и не тридцать девятый, сейчас на дворе тысяча девятьсот пятьдесят пятый год сияет! Почему мы должны испортить отношения с соседями? Почему беремся разговаривать исключительно с позиции силы? Где потеряли принцип мирного сосуществования? В Президиуме подготовлен документ о значительном сокращении Вооруженных Сил. Война закончилась десять лет назад, а армия у нас до сих пор грандиозная! На ее содержание миллиарды идут, и, главное, бессмысленна такая армия в современных условиях. А мы эту громаду тронуть пальцем боимся, потому что товарищ Молотов заявляет, что армия наша должна оставаться огромной затем, чтобы в любой момент выступить против врага! Пять миллионов солдат под ружьем, вдумайтесь? Перебарщиваем! — закрутил головой Хрущев.
Мир стоит на пороге новейших технологий и открытий! Современное атомное оружие страшнее любого количества солдат, хоть пяти миллионов, хоть десяти! Бабахнет и уничтожит пол-армии, а пока мы будем в панике бегать, остальную часть в клочья разнесет. Сегодня не удастся превосходством живой силы побеждать. Мои слова вам может маршал Жуков подтвердить, мы с ним часто мнениями обмениваемся. А товарищ Молотов, я опять к нему возвращаюсь, он у нас сам по себе, будто из другого теста — нет, и все! Ракеты и водородные бомбы — вот оружие сегодняшнего дня. Так зачем держать под ружьем несметные полчища? Деньги, что тратим на армию, можно в народное хозяйство пустить. У нас без конца телевизоры просят, а мы телевизоры дать в достатке не можем — денег не хватает! За два-три года сократим численность Вооруженных Сил до двух миллионов человек! — выкрикнул Хрущев. — А потом и милицию сократим, и органы государственной безопасности. Ни к чему такую карательную машину иметь, будто наш народ закоренелый разбойник! Когда сознание станет у всех социалистическое, выкинем наручники, позакрываем тюрьмы и заживем! Это очень скоро будет, если постараемся.
Люди у нас отличные. Я не знаю, где таких хороших людей еще найти, безотказные люди! Добровольцами шли на фронт, никто в шею не гнал. По зову сердца винтовку брали Родину защищать. Ребята-школьники на фронт бежали и сражались наравне со взрослыми, не боялись грудью под пули лечь. Герои наши люди! Так на черта нам столько карательных органов, кого караулить?! Оставим, разумеется, небольшое количество следить за общественным порядком, так как человек, я извиняюсь, он и в Африке человек. Выпить и погулять у нас с огоньком получается, да так — чтобы душа сначала развернулась, а потом, как говорится, свернулась! И мы точно такие. А если известно человеку, что присмотра за ним нет, тогда хлопот не оберешься. Для этого нам милиционер пригодится, но не двадцать два милиционера!
И снова Хрущева прервали аплодисменты.
— Так вот, армию, милицию и органы госбезопасности — под сокращение! Пусть идут в народное хозяйство, там места хватит.
Вы меня спросите: почему, товарищ Хрущев, раньше это не делали, раньше не сокращали? И правильно спросите. А я вам честно отвечу, потому не делали, что не сегодня-завтра товарищ Молотов опять кашу заварит и придется нам воевать!
Спрашиваю, Вячеслав Михайлович, почему не договариваться, почему не дружить? Плохой мир лучше хорошей ссоры! Не хочет товарищ Молотов слушать, на каждой международной встрече ругается, кулаком по столу бьет, не идет ни на какие уступки. Разве так можно?
Мы неоднократно пытались ему высказывать, и я, и Булганин, и Микоян, даже товарищ Шепилов не сдержался, хотя он человек исключительно деликатный. Нет! — фыркает Вячеслав Михайлович. Поэтому я сегодня обращаюсь к членам Центрального Комитета: давайте рассудим по совести, по партийному решим, что делать. Правильно товарищ Молотов поступает, противопоставляя себя мнению Центрального Комитета или нет?
Пленум целиком поддержал Первого Секретаря. Высказывались предложения освободить Молотова от обязанностей министра иностранных дел, некоторые намекали, что надо его и из состава Президиума попросить. Ни Каганович, ни Ворошилов, ни Маленков не подняли голоса в защиту. Критика получилась резкой.
На этом же Пленуме приняли решение провести в феврале будущего года очередной Съезд Коммунистической партии Советского Союза.
На заключительном заседании председатель Совета министров Булганин предложил освободить Молотова от должности министра иностранных дел и рекомендовал на этот ответственный пост Дмитрия Трофимовича Шепилова. Молотов сидел чернее тучи.
После Пленума в кабинете председателя Совета министров, Никита Сергеевич и Николай Александрович облегченно вздохнули и выпили по рюмке. Никита Сергеевич с ходу пропустил и вторую, он был необыкновенно взволнован, но доволен решениями, а вот на Николае Александровиче лица не было.
— С Машкой поссорился или с Беллой? — глядя на расстроенного друга, предположил Хрущев.
— Жуткий сон, Никита, приснился, — отозвался Булганин. — До сих пор отойти не могу!
— Какой сон?
— Какой, какой! — Николай Александрович плюхнулся на диван. — И ведь вчера много не пил. Проснулся не то что в холодном поту, а будто в жаркой бане побывал! Кровать мокрая.
— Может, ты обоссался случайно? — хихикнул Никита Сергеевич.
— Сам дурак!
— Да, ладно, шучу, шучу! Расскажи сон свой, если не позабыл.
— Такое разве забудешь!
— Что там было-то?
— Самое страшное, — загробным голосом начал Николай Александрович, — что я оказался бабой!
— Ты… бабой?
— Да. И меня е…т.
— Да ладно! — ошалело присвистнул Хрущев.
— Е…т! — подтвердил Николай Александрович. — Представляешь?
— Не представляю! — ужаснулся Никита Сергеевич.
— А во сне — было! — грустно подтвердил председатель Совета министров.
— Кто ж, Коля, тебя …? — ухмыляясь во весь рот, осведомился Хрущев.
— Мужик …, кто еще? Я же тебе объясняю, что бабой стал! — Булганин невесело хмурился. — Навалился он на меня, значит, а потом смотрю — сдох.
— Как сдох?
— Так. Издох прямо на мне, схватил ручищами, как краб, и не двигается. Я его трясу — уйди, слезь! А он не шевелится. Ох, мамочки, как я испугалась! — продолжал Булганин. — Это я от имени своего сна тебе рассказываю, не как я, а как баба! — уточнил он.
Никита Сергеевич понимающе кивнул.
— Люди прибежали, трясут его: «Умер, умер!», а он меня-бабу не отпускает. Попробовали оторвать — не отрывается! «Как же он так, наш Егор Тимофеевич? — вокруг народ перешептывается. — Получается, в сиськах ее здоровенных задохнулся!» — подсказывает знающий старикашка.
— У тебя, значит, и сиськи здоровенные были? — не удержался от восклицания Хрущев.
— Иди в жопу, дай доскажу!
— Рассказывай, рассказывай!
— Фельдшер подошел, на старичка цыкнул, и заявляет: «Сердце не выдержало, теперь руки его ни за что не разожмем. Придется их вместе хоронить, и эту — на меня кивает, — с ним тоже!» Тут я и проснулся.
— Ну сны тебе снятся!
— Какие есть.
— От твоего рассказа я тоже пропотел.
— Весь день хожу сам не свой! — тяжко вздохнул Булганин.
— Брось!
— Да не брось! — отмахнулся Николай Александрович. — Как на Пленум собрался ехать, еще одно известие пришло, — совсем заунывно добавил он.
— Какое? — насторожился Никита Сергеевич, гадая, что за известие могло расстроить председателя Совета министров.
— Белла беременна!
— Как Пленум прошел? — перед сном спросила Нина Петровна.
— Съезд на февраль назначили.
— А по Молотову что?
— И по Молотову единогласно. Сняли! МИД Шепилову отдали. Дима парень головастый, справится.
— Ох, Никита, как бы эта тактика боком не вышла! Теперь вместе с Маленковым и Молотов против тебя.
— Мы, Нина, его не на улицу выставили, он министром Государственного контроля идет. Министерство важнейшее, чего обижаться? К тому же он первый заместитель председателя Совета министров, мало, что ль?
— Оттого и беспокоюсь.
— За него не надо беспокоиться, ишь, второй Сталин выискался! И я за то, чтоб мощное государство строить, но не на горбу собственного народа! У людей только-только огонек в конце тоннеля забрезжил, а он их — взашей! Я доказываю — мы не имеем права народ мучить! Не хочет понимать. Разве можно такое? Карательными мерами людей не удержать, а Вячеслав — «удержим»! В войне мы потеряли треть национального богатства, шестую часть населения. Десятки миллионов людей живут в нищете, ишачат с утра до вечера! Рабочий день больше десяти часов с одним выходным в неделю! Завтра Молотов захочет, чтобы и в воскресенье работали!
Нина Петровна молчала. Хрущев неожиданно заулыбался:
— За такие разговоры меня б раньше к стенке поставили, а сегодня открыто говорю!
13 августа, суббота
Суббота предполагалась насыщенной, с утра должен приехать Лысенко, собирались говорить по целине. Академик все время предлагал всякие нововведения, на любые предложения Никиты Сергеевича откликался с энтузиазмом. Удивительно, но седовласый ученый сдружился и с маленьким Илюшей, у них был запланирован поход на реку, где они собрались ловить бабочек и стрекоз. Дядя Трофим приготовил для этой цели и сачки, и коробочки для крылатых пленников. Хрущев пообещал идти на реку с ними. Лысенко, как пацан, наперегонки с мальчиком носился по полям, отлавливая крылатую живность. В начале лета Трофим Денисович стал собирать с Илюшей гербарий Подмосковья. К ужину Хрущев ожидал Брежнева, которого, после пожара на целине, вместо провалившего дело Пантелеймона Пономаренко, он сделал первым секретарем Компартии Казахстана.
15 августа, понедельник
Понурив голову, Вячеслав Михайлович Молотов сидел напротив Хрущева в Центральном Комитете на Старой площади.
— Хочу сказать тебе, Никита Сергеевич, недопонял я твоей идеи по Югославии, не сориентировался.
Хрущев не отвечал, исподлобья глядя на посетителя.
— Наверное, стар стал, — упавшим голосом продолжал Молотов, — ведь нелегкую жизнь прожили, сам знаешь.
— А зачем статью в «Правде» написали, что вы единственный человек, который работал с Лениным? Что ваше заявление означает? Может, то, что, кроме товарища Молотова, достойных людей нет? — уставился на визитера Хрущев. — Может, вас пора на место председателя Совета министров ставить или, может, членам Президиума ваши распоряжения надо под козырек брать?!
— Написал, потому что считаю Ленина первым патриотом социализма, гением и предтечей революции!
— Раньше у вас Сталин предтечей был, — медленно выговорил Хрущев.
— Вождем всех времен и народов, — поправил Молотов. — Но тогда он и для тебя им был, Никита Сергеевич!
— Скажите честно, что вы нашего задора не выдержали, нового темпа испугались и решили всем место указать!
— В мыслях подобного не было! Признаюсь, в восторге от ваших заявлений не прыгал, считал и считаю их поспешными. Но я свое мнение не скрывал, в глаза высказывал. По Югославии был не согласен, потом по дружбе с американцами не соглашался. Считал и считаю, что невозможно с врагом подружиться. Притвориться можно, а дружить — нельзя! Как может настоящая дружба сложиться, если мы совершенно разные, какой между нами может быть толк? Ленин мечтал о мировой революции, и мы мечтаем, а американцы разве хотят мировую революцию? Рабочие их хотят, а буржуй ни за что не хочет! Не понимаю, чем я навредил, может, ты разъяснишь? Но, как большинство решало, так я и принимал, отдельное мнение тогда уже не важно, любое решение выполняю, как коммунист. За что меня крушить?
— Министр иностранных дел — голос страны! А вы на все с собственной позиции смотрите, с молотовской.
— Я же Молотов, а ты — Хрущев. И мне не все, что ты говоришь, нравится, но я тебя слушаю, и это нормально.
— В отличие от вас, я с Президиумом в разногласия никогда не вступал!
— Давай, Никита Сергеевич, не ссориться, — миролюбиво проговорил Вячеслав Михайлович. — Мы с тобой хорошо начинали, и продолжать нужно хорошо. Я против тебя ничего не имею, считаю, что ты в партии на своем месте, а я, если вдруг и выскажу что, то по делу. Вот и сегодня пришел, чтобы напряжение снять. Тебя я знаю давно, ты меня давно знаешь. Чего бодаться? Тем более я уже не министр иностранных дел. Я, Никита, в прошлом году два раза в больнице лежал, сердце прихватывало. Вроде Сталина нет, а оно, сволочь, ноет.
— Я вас, Вячеслав Михайлович, уважаю, вы для меня один из учителей, и обижаться на меня не нужно. Сегодня требуется усилить Министерство государственного контроля, крепко усилить. Сосредоточьте внимание на этом участке.
— Принято! — вздохнул Вячеслав Михайлович.
Он смирился, но как больно было оставлять Министерство иностранных дел! И главное, на кого оставлять — на мальчишку! Шепилов во внешней политике ничегошеньки не смыслил, одна в нем была отличительная особенность — на цыпочках ходил за Хрущевым. Хрущев подбирал на ключевые посты людей не по способностям, а по личной ему преданности.
«С такой политикой любое дело можно загубить!» — думал Молотов, но вид сделал, что полностью согласен с «Хрущем», даже подыгрывал: то кивнет покорно, то жалко улыбнется.
Никита Сергеевич общением с Молотовым остался доволен, на прощанье обнял и пригласил с Полиной Семеновной в гости, хотя наверняка знал, что Молотовы к нему не придут.
18 августа, четверг
Выпроводив очередного посетителя, Никита Сергеевич набрал жену.
— Нинуля, звонила?
— Звонила. Ты скоро будешь?
— Министр образования ждет, отпущу и — домой.
— Я грибной суп сделала, из подберезовиков! — проговорила Нина Петровна.
— Из подберезовиков! — у Никиты Сергеевича потекли слюнки.
— С Илюшей по лесу ходили и целое лукошко набрали. Он так радовался! Про тебя спрашивал. Мы соскучились, приезжай скорей!
— Прям еду! — отозвался супруг.
— Целую! — Нина Петровна положила трубку.
Никита Сергеевич нажал кнопку звонка. В дверях появился референт.
— Уезжаем! — скомандовал Первый Секретарь.
— Елютин подъехал, в приемной ожидает.
— С ним по ходу поговорим, пускай в мою машину садится!
26 августа, пятница
— Ну что, Ваня, работаешь?
— Так точно, работаю, — ответил Серов.
Никита Сергеевич достал носовой платок и принялся утирать нос.
— В поликлинике был, насморк лечил, чего только в мой нос не заткнули.
— Поправитесь, насморк — это не страшно.
— После поездки на Алтай никак оклематься не могу, нос не дышит, и постоянно потею. Продуло сильно. А сегодня положили меня на кушетку, и я куковал: ку-ку, ку-ку! — а мне в нос лекарство лили. Целую банку вылили. Теперь два часа ни чаю попить, ни пожрать!
— Надо было раньше к врачу идти, не стоило запускать.
Хрущев отмахнулся:
— Затуркали! То туда несусь, то сюда. Все на ногах, вот и доходился, нос не дышит, голос как труба, а вчера ухо стреляло. С утра Нина в поликлинику погнала.
— Правильно.
— Ну, да ладно, у тебя-то чего?
Председатель КГБ потянулся за папкой.
— Покажу вам кое-что, — доставая конверт с фотографиями, проговорил Иван Александрович.
Хрущев замотал головой:
— Ты мне на словах скажи, не хочу смотреть! Глаза устали, — и опять начал сморкаться.
Серов отложил папку.
— Разработан ряд мини-передатчиков. Под видом разных предметов записывающие устройства, прямо под нос будем давать.
— Неплохо!
— С большого расстояния, пока ясного звука нет, а вот когда близко слушаем — четкость великолепная. Решили сосредоточиться на миниатюрной технике. Чтобы нужную личность записать, приходится к разным уловкам прибегать. Например, английский посол каждое воскресенье в «Метрополе» обедает, а израильский полюбил ресторан «Пекин». Они, хитрецы, на одном месте не сидят, понимают, что под стол технику вмонтировать можно. То здесь сядут, то там, летом на открытую террасу идут, страхуются. Американский военный атташе ходил в «Прагу». В «Праге» мы каждый стол стационарно оборудовали, а как оборудовали, так он в «Прагу» ходить перестал.
— Кто-то сдал! — наморщил лоб Хрущев.
— Не исключено. Сейчас с персоналом «Праги» работаем, ищем утечку.
— Деньги на ветер выкинули!
— Не выбросили, Никита Сергеевич! В «Праге» уйма приемов, и дипломатических и государственных, банкеты идут разнообразные. «Прага» наш форпост, там много чего узнаешь. Тут не прогадали. Но во все рестораны подобную аппаратуру ставить накладно. Вот и решили миниатюрные приборы в серию запустить. Официант хлебницу принесет или тарелку с фруктами, или пепельницу, а там — техника! — заулыбался генерал.
— В тарелку из-под первого приборы ставите?
— Когда в глубокую тарелку жидкость нальют, передачи звука почти нет. Не умеем мы пока первыми блюдами слушать, да и скребут все время ложкой по дну, неудобно. Зато хлебницы на столе стоят и пепельницы тоже — все аккуратненько! Над вазами для цветов бьемся, их в спальне ставить можно, туда и камеру пытаемся вместить.
— Все у тебя, Ваня, просто, садятся обедать и тут же секреты выбалтывают!
— Не так, конечно, но человек есть человек. Когда-то он и похвалиться должен. Вроде внимательный, рот на замке, а взял и сболтнул. Особенно, когда выпьет, разоткровенничается или, если на веранде, на свежем воздухе сидит, думает, никто не услышит. Говорят, Никита Сергеевич, говорят, уж вы поверьте! Еще девушек используем.
— Девушки во все времена сладкой приманкой были, — согласился Никита Сергеевич. — Хорошо, я к женскому полу спокойно, а вот у товарища Булганина можно все секреты выведать.
— Мы за его подружками приглядываем, — доложил Серов.
— Неужто разведчики такие недалекие, на баб клюют? Разве их не инструктируют, не предупреждают?
— Инструктируй не инструктируй, а природа свое берет. И еще — девушки наши неотразимы! — разоткровенничался Иван Александрович.
— По тебе видно, сам на этот же крючок попался! — выпалил Хрущев.
— Я по любви!
— Ты-то по любви, а многие на удочку клюют, и тоже думают — по любви! Эх, из меня б крупный разведчик получился!
— У вас другие обязанности.
— Ладно, ладно! Расскажи лучше, как дело с агентурой обстоит?
— Агентура требует денег, я вам уже напоминал.
При слове «деньги» настроение у Хрущева испортилось.
— Я не про деньги спрашиваю, а про то, как агентура работает.
— Работает неплохо.
— Неплохо — значит, херово!
— Разные есть агенты, — не согласился председатель КГБ.
— Агент — это, прежде всего, преданный делу партии человек, а у вас всякая шантрапа попадается: судимые, пьяницы, не пойми кто! Сцапали за воровство человека — давай стучи! И он вам черт знает что лепит! Это, по-твоему, агентура? Ну и что он вам расскажет, пьяница, кто у кого бутылку украл? Нам, Ваня, замаскированного врага изловить надо, того, кто на вражескую разведку работает, за государственными секретами охотится, а вы девками парней щупаете! Что, атташе твой, за титьки бабенку тиская, будет ей новинками оружия хвастаться?!
— Здесь с вами не соглашусь. Бывает, так влюбляются — голову теряют. Девушки к ним жить переезжают. А на квартире, в отсутствие хозяина, можно многое узнать, да и когда хозяин с работы усталый пришел, подсмотреть кое-что удается. Здесь плюсы очевидны.
— Ну, может, спорить не стану, главное, чтобы работа шла.
— Каждый второй выезжающий в долгосрочную загранкомандировку является нашим сотрудником. Задача таких сотрудников — сбор информации и вербовка иностранных граждан, работающих в правительственных, военных и научных учреждениях. Где только можно, мы своих людей рассовали: по разным странам, по разным организациям. Информационный поток огромен, его надо обрабатывать, а возможности невелики, численность в этом деле маловата. Увеличивать надо, — осторожно сказал Серов. — И контрразведка работает. Вы вот требовали сокращения, однако задач при этом меньше не стало.
— Сокращение необходимо. Это очищение, без очищения нельзя. Такому приему нас великий вождь обучил, — припомнил Сталина Никита Сергеевич.
Хрущев имел в виду последнюю капитальную чистку в МГБ при Сталине, когда головой поплатился не только министр Абакумов, но и большинство руководящих работников центрального аппарата. Были арестованы генералы Питовранов, Судоплатов, Никифоров, Утехин, Селивановский, Королев, Шубняков, Чернов и многие другие. С 1 июля 1951 по 1 июля 1952 года, как не справившихся с работой, освободили от должностей 1583 человека, в их числе 287 входивших в номенклатуру ЦК. За нарушения советской законности, злоупотребление служебным положением, морально-бытовое разложение уволили из органов свыше 3 тысяч человек, из них 500 работников центрального аппарата. К началу 1953 года штаты МГБ сократили на 35 165 человек, в их числе 5 187 человек начальствующего состава, что составило 17 % от всей численности Министерства государственной безопасности. Под нож попал практически каждый пятый. Структура МГБ была полностью реорганизована.
Хрущев и перед Серовым поставил задачу полностью освободиться от бериевского наследия, он хотел иметь верный только себе Комитет государственной безопасности. С марта 1954 по июнь 1955 Серов уволил из КГБ 17 тысяч человек, 210 генералов лишились званий. На их место приходили исключительно хрущевские кадры. Никита Сергеевич не изменил проторенному сталинскому пути, вводил в госбезопасность верных людей. И хотя прежнее силовое ведомство разделили надвое, КГБ имело огромный вес. За Комитетом госбезопасности осталось: обеспечение государственной безопасности, включая разведку и контрразведку, борьба с антисоветскими националистическими и враждебными элементами внутри СССР, предварительное следствие по государственным преступлениям (делам по измене родине, терроризму, контрабанде, нарушению валютных операций в особо крупных размерах), охрана государственной тайны, охрана госграницы, охрана руководителей Коммунистической партии и правительства, правительственная связь, комендатура Московского Кремля, технические службы и пограничные войска.
Первый Секретарь постоянно требовал отчетов, но постоянно оставался недовольным. КГБ, по его мнению, работал не на всю мощь.
— Я, Никита Сергеевич, больше численность сокращать не могу, я дополнительные штаты хотел просить, — заговорил Серов.
— Ты на периферии численность подсократи, а Москву не трогай. Городские и районные отделы можно в несколько раз урезать. И областные управления ополовинь, ничего страшного не случится. Потом, зачем нужны отделы, курирующие отрасли промышленности? Образование проверять зачем? Медицину, легкую промышленность? Атомное оружие, ракеты, авиацию, химию — здесь согласен, здесь присутствие органов необходимо. А за Министерством мясомолочной промышленности следить для чего? С целлюлозно-бумажной промышленностью что будет? Чего там надзирать? А ведь целые организации созданы! Вот где разобраться стоит.
— Понял, Никита Сергеевич!
— Раз понял, хорошо! И по агентуре задумайся. Нам нужна грамотная агентура, мыслящая. Как твой пьяница или карманник законспирированного врага распознает? Сегодня требуется осмысленные агенты, интеллигентные, образованные, сознающие свое полезное дело. Надо, чтобы человек, которого вы подбираете как агента, был культурнее того, кого вы хотите разработать. Не может человек малокультурный, малоопытный разрабатывать более образованного, более умного, ничего у него не получится. Он сможет хорошо подсматривать, подслушивать, а разрабатывать — не сможет. Надо с умом вербовать. Ты, безусловно, прав — если не будешь вербовать, то заведомо проиграл. А у нас как зачастую? Или отписки, или случайные люди к работе привлечены. Твои лоботрясы для галочки последнего дурака завербуют! Нам разве требуется по базарам ходить и слушать, как Советскую власть ругают? Ерунда! Базары, рынки — милицейское дело. Для того чтобы разработать врага, агент должен суметь подчинить его морально. Если он не подчинит его морально, он не сможет его разработать. А подчинить морально — это значит заставить себя уважать. Поэтому вопрос подбора агентуры — очень серьезный вопрос.
— Учту, Никита Сергеевич! Большую сеть осведомителей в иностранных посольствах мы в виде обслуги имеем.
— А иностранцы не знают, кого вы им на работу подсовываете?! Дураки они? — всплеснул руками Хрущев. — Глупость! Пусть сами себе работников подбирают, а не так, чтоб на веревочке вели. Раз мы привели, значит точно из госбезопасности. Прямо завтра распорядись, чтобы самостоятельный подбор кадров иностранцам разрешили, и об этом посольства уведоми. Двойная польза будет. Во-первых, мы еще раз покажем себя вставшими на демократический путь, а, во-вторых, не все дипломаты себе работников найдут, по-любому будут за помощью обращаться. Тут МИД твоих архаровцев и предложит. Вот если вы завербуете человека, которого дипломат сам разыскал, сам место предложил, тогда честь вам и хвала! А так — стоит дворник с метлой, а толком не метет, потому что в тетрадку фиксирует: кто пришел, когда, с кем ушел. Смеются над нами!
— Это, Никита Сергеевич, тоже работа.
— Ну, дворников и мусорщиков, электриков там, и кого еще не знаю, оставь, а вот в дом, на квартиру, пусть самолично ищут. Если обратятся за подсказкой, другое дело. Непременно отношение к нам сделается лучше, раз мы выбирать разрешили.
— Сделаем, Никита Сергеевич!
— Пойми, Ваня, стукачи — это стукачи! А агент в высоком понимании слова — совсем иное. Ты копай глубже, ты близкого друга в разведчики завербуй! Не каждый агент может быть допущен к любому лицу, — продолжал рассуждать Хрущев. — Допустим, к лицу «икс» может подойти только агент «игрек», а другой уже не может, потому что он не годится, дурак потому что. А у нас, бывает, без разбора делается — к умному дурака подсылают, а к дураку — академика, и проваливаются агенты, и скандалы возникают. Никудышный агент часто для плана, в угоду собственной значимости оговаривает человека, сообщает о нем всякую муть, чтобы работу показать. Если агент не знает человека и не может к нему дорожку найти, а должен о нем доносить, то, чтобы оправдать себя как агента, он начинает выдумывать. Таким образом, создаются липовые дела, и потому многая информация — липа. А на все уходит время, а время — деньги, которые ты постоянно клянчишь.
— С подобными явлениями боремся.
— Получается, есть такие явления?
— Есть.
— В госбезопасности, Ваня, превыше всего должна быть партийная дисциплина, а у вас ведомственная давит, чтобы ведомство красиво выглядело. Все тот же план на уме, как его, по каким показателям перескочить, а тут не перевыполнение плана требуется, тут достоверность нужна, как на исповеди! Да и какой может быть план в подобном деле? Милиционеры тоже подобным пороком страдают, в этом году преступников поймали больше, рапортуют. По кражам, докладывают, на 20 % больше переловили; по хулиганству — на 15; по хищениям госсобственности на 22 % показатели улучшили. А на самом деле никакого улучшения нет, получается больше в стране стали воровать, преступность выросла, и значит, милиция плохо работает. А они — показатели! Круглов совсем сдурел, для красоты приписывать старается! За всем нужен неустанный контроль! — тяжело вздохнул Никита Сергеевич. — Неустанный! Контроль дисциплинирует. Я контролирую тебя, ты — своих заместителей, они — подчиненных, те — дальше, а иначе толку нет. Понимаешь?
— Понимаю.
— Я столько чепухи в ваших донесениях начитался, что иной раз противно! Не хочу больше белиберду читать! Извольте трудиться, как положено.
— Сделаем выводы, и, как требуете, на местах численность сократим.
— Не я требую, партия требует!
— Оговорился, партия. Извините.
Хрущев поднялся и поманил Ивана Александровича в комнату отдыха.
— Теперь давай я тебя чаем угощу, с клюквой!
Серов поспешил за Первым Секретарем.
— Садись! — выставляя на столик вазочку с клюквой, проговорил Первый Секретарь. — Угощайся!
— Давно я клюквы не ел. Откуда взяли?
— Лысенко привез. Самовар в розетку воткни!
Иван Александрович включил штепсель в розетку.
— Видишь, какое удобство? С виду самовар как самовар, а никаких дров не надо! Это я электрический самовар придумал! — похвастался Никита Сергеевич.
Самовар стал чуть слышно пыхтеть. Хрущев устроился напротив гостя.
— Ты давай клюкву наворачивай, сахарок возьми! Мне пока нельзя, лекарство еще не сработало.
Хрущев снова пробовал сморкаться.
— Как по охотохозяйству, Ваня, движется?
— Зверя разного завезли, даже зубров из Беловежской пущи. Ох, и намудохались с этими зубрами!
— Зубры — это позиция! — оценил Хрущев. — Приедет шах Ирана в гости и ох…еет. Шах первейший охотник, в Африке слонов бьет, тигров — в Индии, а мы ему такого огромного быка — хоп! Произведем впечатление.
— Произведем.
— Главное, чтобы в грязь лицом не ударить. Комфорту надо больше, чтоб пыль в глаза!
— По высшему разряду строим. Терема будут как в сказке. Две бани делаем: традиционную русскую и по-черному. А когда шах приезжает?
— Весной. Мохаммед Реза Пехлеви! — без запинки выговорил Хрущев.
— Как вы все помните! — удивился Серов.
Первый Секретарь усердно размешивал в чашке с чаем клюквенное варенье.
— Есть нельзя, так я его выпью!
— Так и пить вам нельзя, два часа еще не прошло.
— Не учи ученых! — Хрущев залпом выпил чай с клюквой. — За-ви-до-во! — нараспев пропел он. — И название подходящее, значит, завидовать нам будут!
— Булганин просит обслугу посимпатичней подобрать.
— Уже дед седой, а все козликом скачет!
— Такой неуемный человек.
— И ты у нас на молодку нацелился! — Хрущев игриво посмотрел на председателя Комитета госбезопасности: — И Жуков. Омолаживаетесь, значит? Хотите до ста лет прожить?
Серов растерялся.
— Ладно, ступай, и смотри — посерьезней, а то, невзирая на молодость жены, на пенсию спишем!
Ужиная дома, Никита Сергеевич все время смотрел на хлебницу. На симпатичном дулевском блюде, позолоченном, с выпуклыми красными цветами, под белоснежной салфеткой лежал порезанный батон и четыре кусочка бородинского. Хрущев выложил хлеб на стол, убрал салфетку, а хлебницу взял в руки и стал внимательно разглядывать.
— Тарелка как тарелка!
Он прислонил к ней ухо и прислушался — ничего. Тогда Никита Сергеевич прошел в туалет, коленом переломил хлебницу пополам, потом еще раз, и внимательно обследовал обломки — ни проводов, ни приборов.
— Береженого Бог бережет! — проворчал Никита Сергеевич и выбросил поломанную посуду в помойное ведро.
2 сентября, пятница
По Лужникам ходили долго. Хрущев обо всем спрашивал, окликал рабочих и задавал им вопросы. Отсчитав ногами расстояние от одной предполагаемой стены до другой, наглядно представлял размеры будущих зданий. Уточнив количество зрителей, предлагал делать аллеи шире, ругал за грязь и беспорядок.
— Стройка, Никита Сергеевич! — не отставая от Первого Секретаря, оправдывалась Екатерина Алексеевна. — Сейчас мы стоим на месте Малой спортивной арены, а главный стадион — Большая спортивная арена, где будет футбольное поле, дальше, — объясняла она, — уже фундаменты начали лить.
— За качеством бетона следите?
— Обязательно следим, — за Фурцеву ответил Промыслов. Больше всех сегодня потел начальник Главмосстроя.
Стройплощадка оказалась невиданно большая, площадь застройки — двадцать одна тысяча квадратных метров, а ведь надо было еще провести дороги, протянуть инженерные коммуникации, благоустроить парковую зону, организовать автостоянки. Хрущев третий час ходил взад-вперед. В конце концов, процессия направилась к одноэтажному сооружению, где в просторном зале можно было обменяться мнениями.
— К столу проходите, Никита Сергеевич! — подсказывала Екатерина Алексеевна.
В центре зала на столе был размещен макет будущего стадиона.
— Каков размах! — оценил Первый Секретарь. — Надо, чтоб и в жизни так получилось!
Народа в помещение набилось, хоть отбавляй: и непосредственные руководители стройки, и архитекторы, и поставщики, и партийное начальство, и советское. Понаехали руководители центральных ведомств, присутствовало руководство Российской Федерации и города Москвы.
Хрущев требовал ответа на вопрос: успеют ли до морозов закончить рыть котлованы и бетонировать фундаменты? Строители обещали успеть. На совещании досконально разобрали устройство спорткомплекса, спорили, как лучше организовать заезд: сделать основным въезд со стороны строящегося Комсомольского проспекта или же — с Саввинской набережной? Решили — с Саввинской набережной. Министр путей сообщения Бещев доложил, что весною рядом откроется станция метро, которую здесь же нарекли «Спортивная». По итогу согласились, что работы идут удовлетворительно. Но и без эксцессов не обошлось: котлован под Большую спортивную арену начали рыть на сорок метров левее — на месте, где планировали каскад фонтанов; потом гранит для причала на Москве-реке по цвету перепутали, а причал должен был заработать еще в прошлом месяце; не хватало самосвалов, и энергетики опаздывали. Словом, все в точности, как на любой стройке.
— Глаза разуйте! — нервничал Первый Секретарь, но впечатление у него сложилось хорошее.
— Здесь так много ответственных за строительство лиц, что хочу я немного отвлечься от Лужников.
Никита Сергеевич встал, чтобы его лучше видели.
— Еще раз напоминаю, что программа по строительству жилья у нас ключевая. Товарищ Фурцева знает, как я наставлял московское руководство — строить, строить и строить! Сегодня Москва подает пример. Но жилищная программа на Москве не ограничивается. В каждом городе, в каждом сельском районе, должны не мешкая возводить типовые дома. Мы, товарищи, обязаны улучшать жилищные условия граждан и не просто улучшать, а кардинально. Задача грандиозная, это вам не стадион построить, хоть и не обычный стадион, а стадион-великан. Чтобы решить поставленную партией задачу, чтобы каждая семья к 1970 году получила собственную квартиру, надо постараться. Дома построить, это полдела. А школы? А детские сады? А больницы? А магазины? Ничего из вида упускать нельзя. В новых районах надо каждую мелочь предусмотреть, чтобы человек чувствовал себя комфортно.
Говорят, на Западе люди живут лучше. Я не соглашусь, не совсем это верно. Где-то лучше живут, где-то — хуже, а где-то, извиняюсь, еле ноги волочат. Только за границей перспектив нет, там человек на жилье жизнь должен положить, скопит ли за целую жизнь необходимую сумму, чтобы собственное жилье заполучить — неизвестно. Хорошо, если скопит, а пока не скопил, огромные деньги за квартиру частнику отдает! Может, и детям его придется за родителей расплачиваться, может, я этих тонкостей не знаю, знаю только, что за границей жилье бесплатно не дают, а у нас — будем давать!
В каждом регионе должны развернуть заводы по производству строительных материалов. Раньше дома лепили из чего попало. Зайдешь, бывало, в переулок, а там не дома, а лачуги стоят, в лачугах люди живут! А мы — наш паровоз вперед летит! Летел паровоз да не туда, кругом караул! И вроде бы для человека старались. Почему, спросите, так получилось? А потому, что единой линии в строительстве не имели, кто на что способен, тот так и строил. Один лес раздобыл, из дерева строит, другой кирпичи, и выходило — лебедь, рак да щука! Визуально отвратительно, и жить в таких домах неудобно, но так как вообще жить негде, то на подобное уродство соглашались. Строить абы как нам сегодня стыдно! Будем строить нехитрые дома, пятиэтажные, но аккуратные. Почему пятиэтажные? Потому что экономно, быстро и функционально. В пятиэтажке лифт не нужен, не так высоко на пятый этаж добежать. Пусть простоит этот дом двадцать лет, путь потом его снесут к чертовой бабушке и поставят на месте пятиэтажки красивейшее здание, но пока за эти неказистые с виду дома миллионы людей спасибо скажут. В пятиэтажках скорость, тут любованием заниматься нечего! Наша перспектива — железобетонное, сборно-каркасное строительство. Будем лить панели и гнать на полную катушку! Но здесь должна быть точность в проектировании, точность в расчете и точность в исполнении. А у нас инженер-строитель шестьдесят деталей рассчитать не может, расчет сделать так, чтобы дыры в заборе, где собака пролезет, не оказалось! Если бы часовой завод продал вам часы, которые отставали бы на пять минут в сутки, это вроде очень маленький допуск на точность, и мы вроде бы должны были смириться, так нет! У нас часы на минуту отстанут, а мы уже кричим — ни к черту часы! Так неужели шестьдесят деталей сборного железобетона на типовой дом рассчитать невозможно?! На сборке подобного дома нужно молоток выбросить, зубило не давать, надо делать так, чтобы каждая деталь села на свое место, — тогда это сборка! А если рабочий тащит за собой зубило и молоток, чтобы доработать конструкцию, тогда эта сборка будет неинтересна, она будет слишком дорого обходиться, и жить в доме с дырами придется заставлять. Строителей в наказание туда заселим, потому что кругом будут жуткие сквозняки и адские условия. Но я убежден, если крепко возьмемся, до такого не дойдет! За успехи я хвалю, но основное внимание на недостатки обращаю. То, чего мы достигли, это уже в кармане лежит, это у нас никто не отберет.
— Правильно! — не удержалась Фурцева.
— Мы запустили строительство на круглогодичную основу, ушли от сезонности, хорошо! Теперь надо активней внедрять современные материалы, не бояться нового. Мы сейчас запускаем целый ряд заводов по сухой штукатурке. Надо использовать щитовой паркет, краски по бетону, лаки. Надо наладить выпуск цементной плитки, чтобы дорожки во дворах мостить, пользоваться трубчатыми лесами для отделки фасадов. Тогда мы получим не только хорошую скорость, но и хорошее качество. Эти новшества решают и еще один главный вопрос — снижения себестоимости. За счет экономии мы сможем потратить лишние деньги на обустройство квартир. Обязательно надо предусмотреть в современных домах встроенную мебель. Приедут жильцы, а у них в прихожей уже есть шкафы, над головой антресоль. Удобно? И удобно, и радостно!
Следующее предложение. Зачем нам чердаки, эти пустые никчемные пространства? Считаю целесообразным отказаться от чердаков или если без чердака уж никак не обойтись, делать и там жилье, хотя жилье на чердаке получится второсортное.
— Без чердаков стройка быстрей пойдет! — раздался голос Ясного.
— И денег потратим меньше, — поддакнул Промыслов.
— Рад, что понимаете! Имеет смысл применять кирпичи с примесью опилок, они более теплые и более легкие. Потом — по высоте потолков. Высота потолков не должна превышать два с половиной метра. За счет этого получим ощутимую экономию в эксплуатации. Поди обогрей квартиру с потолком в три или в четыре метра!
Недавно я смотрел новый проект дома. Все вроде бы продумано и даже современно с точки зрения архитектуры, только есть одно «но», в квартире имеются затемненные места, куда солнечный свет не попадает. Это неправильно. Что получится, если мы настроим красивые дома, но там будут никудышные условия проживания? Это будет очень плохим украшением. Жильцы должны любить свои квартиры, радоваться, чтобы было в них хорошо, чтобы семьи росли. Мы тем, кто третьего ребенка заводит, по всем вопросам навстречу пойдем, потому что только третий ребенок дает прирост общества. Нам бы миллионов сто детей нарожать, тогда б горя не знали, на все бы рук хватило! Рожайте — кусок хлеба найдется, и место найдется на нашей советской земле!
— Будем рожать! — раздалось из зала.
Никита Сергеевич довольно заулыбался.
— Видите, какой я вам доклад учинил, что уже рожать хочется!
Зал радостно загудел.
— Нам надо быть рачительными хозяевами, надо деньги считать! Может быть, удобнее было не метро строить, как мы сейчас делаем, а каждому личный автомобиль дать, на автомобиле и скорость больше, и подъедешь куда надо, может и так. Но если бы мы дали каждому по автомобилю, лишились бы возможности ездить по городу, потому что все улицы стали бы забиты машинами, а подземное метро никому не мешает. Словом, во всем должна быть логика, удобство и смысл.
В зале зааплодировали. Никита Сергеевич поднял руку. Зал успокоился.
— Вчера мы общались с Екатериной Алексеевной, и она мне говорит: «Сколько же лет нам строить, всю жизнь, что ли?» А я отвечаю: «Вечно будем строить, безостановочно!» Вот я и подумал, что строитель — это очень полезный в обществе человек, человек, от которого зависит будущее, а своего профессионального праздника у творца-строителя нет. У моряков праздник есть, у железнодорожников тоже. 18 августа справляли День авиации, и строителю свой праздник необходим. Сегодня какое число?
— Второе сентября.
— Не возражаете, если праздник строителя будем праздновать шестого?
— Не возражаем!
— Видите, не зря мы собрание провели! — взмахнул рукой Никита Сергеевич.
11 октября, вторник
В Москве опадала листва, все отчетливей проступала неприветливая серость, в ветре сквозило одиночество и какая-то обездоленная пустота. Птицы огромными долгими стаями улетали на юг, одни хрипло каркающие вороны да суетливые городские голуби на зимовку остались. Голуби набивались по чердакам, где зимовали нахохлившейся гурьбой, а вот вороны, одинокие странники, хоронились от холода, где придется. Сильные птицы, неприхотливые, но зловещие. Ночами на дорогах подмерзала вода, оттаивая лишь днем, когда из-за туч ненадолго появлялось подслеповатое осеннее солнце, а со вчерашнего дня лужи так и не отмерзли, с неба срывались крупинки снега. Еще не мело, но присутствие холодов пробирало насквозь, хотя синоптики обещали к концу недели резкое потепление. Вечно они ошибаются, эти синоптики!
Никита Сергеевич перелистывал «Правду». Не нравилось ему, что в центральной газете мало места уделяется целине. После пожара приходилось многое выстраивать заново. Брежнев в Казахстане старался. Нина Петровна симпатизировала ему и его жене Виктории. Когда Брежневы появлялись в Москве, непременно приглашала Викторию Петровну в театры, а домой — так обязательно.
Просмотрев газету, Первый Секретарь потянулся за корреспонденцией, которую в специальной папке с золотым тиснением «Почта», каждое утро подавали помощники. Самым первым лежало письмо из Академии наук.
— Шо ученые мужи накалякали? — Никита Сергеевич поднес бумагу к глазам.
С первых же строк он оказался точно под ледяным душем. Речь шла о президенте Академии сельскохозяйственных наук Лысенко. Академики писали, что Трофим Денисович никакой не ученый, а фальсификатор. Что своими лженаучными теориями наносит непоправимый ущерб экономике, а его защитник и сподвижник, министр сельского хозяйства Лобанов, мошенника целиком покрывает, потому и сам стал сельхозакадемиком, да к тому же вице-президентом ВАСХНИЛ. Так называемые «лысенковские открытия», писалось в этом крамольном письме, высосаны из пальца и, говоря начистоту, — авантюра. Высмеивали и то, что Лысенко и Лобанов выдавали себя за последователей Мичурина, которого, в свою очередь, характеризовали как неуча и самодура.
Хрущев похолодел от возмущения — еще при Сталине мичуринскую агробиологию подняли на высоту, а Лысенко, при том же Сталине, стал Героем Социалистического Труда! Методы предложенных им посадок применялись с 1937 года. На протяжении почти двадцати лет Лысенко являлся флагманом сельского хозяйства, выступал на международных симпозиумах, всесоюзных семинарах, а в письме его выставили жуликом и мистификатором! Лобанов и Лысенко первыми поддержали идею освоения целины, а эти хитроумные гении притаились, как мыши, ни да тебе, ни нет! У Хрущева по спине ползали мурашки — вопиющая бумага! Подписей под письмом была уйма. Встречались и хорошо знакомые фамилии, и совершенно незнакомые. Среди прочих Никита Сергеевич разглядел автографы атомщиков Зельдовича, Тамма, Сахарова, Леонтовича, математика Келдыша — это особо смутило Первого Секретаря.
— Как же так? — вглядываясь в фамилии, шептал он. — Невозможно!
Триста человек подписало обращение в Центральный Комитет. Хрущев стал с пристрастием изучать подписи и должности.
— Академик Немчинов куда лезет, он же философ! А Орлов из Института палеонтологии почему здесь? А лесник Сукачев?! Ну не бред ли? Это возмутительно! И Харитон подписал, и Капица. Стыдоба, стыдоба! Постеснялись бы! Если какой-нибудь литератор или лесник в физику нос сунет и начнет советы давать, небось зашикают! Как образованные люди могли поставить подпись под подобной возмутительной бумагой? Тут очевидно сговор!
В негодовании Никита Сергеевич сорвал телефонную трубку и приказал соединить с Брежневым.
— Леонид! — прокричал Хрущев. — Академики на Лысенко пасквиль накатали. Пишут, что он шарлатан! И Лобанова к нему пристроили!
— Поклеп, — спокойно отозвался Брежнев. — Я не верю.
— И я не верю, — тяжело дышал Первый Секретарь. — Но ведь триста человек подписали, разве ж такое возможно?!
— У нас, Никита Сергеевич, всякое возможно, — отозвался Леонид Ильич. — При желании и тысяча человек подпишется, и десять тысяч, вы же знаете.
— Знаю! — уныло согласился руководитель компартии.
— Трофим Денисович великий практик, — продолжал Брежнев, — трудоголик и фанат своего дела. Пусть в чем-то ошибся, ложным путем шел, но наука и есть поиск, метод проб и ошибок. Известно, что количество неизбежно переходит в качество, — заключил целинник. — И Пал Палыч дельный министр. Я не могу с мнением авторов согласиться.
— Правильно говоришь!
— Кроме Лысенко и Лобанова, кого можно в агрономической науке выделить? Полевода Мальцева, профессоров Чижевского, Лорху, Лесничего? Пустовойт еще есть. Другие на ум не приходят.
— Терентий Семенович Мальцев от Лысенко в восторге и огромное уважение к Лобанову испытывает! — закивал Первый Секретарь.
— Есть перечисленные фамилии в списке подписавших бумагу? — поинтересовался Брежнев.
— Таких нет.
— Непрофильные мыслители с чего взяли, что Лобанов профан, а Лысенко фальсификатор? Они, что, ботаники?!
— Геолог про картошку рассуждает, физик про свеклу! — прохрипел в трубку Никита Сергеевич.
— У нас с вами одно мнение, заврались! — констатировал Брежнев.
— Мичурина вспомнили, что он неуч, три класса окончил, что пьяница! — негодовал Первый Секретарь.
— В руководстве государства людей без образования хватает, а разве они не на своем месте? На своем. Кто с упорством трудится, любого теоретика за пояс заткнет, по одним книгам сути не нащупать, тут с головой окунуться надо. Практик всегда на переднем краю, а выпусти заумных умников — не уверен, что дело вперед побежит! — продолжал Брежнев. — А про Мичурина и Лысенко давно анекдоты ходят.
— Знаешь, что ли?
— Послушайте. — Леонид Ильич кашлянул. — У академика Лысенко спрашивают: «Скажите, как умер Мичурин?»
— Ну?
— Упал с ветки арбуза!
— Бестолочи! Ладно, Леня, работай! — попрощался Первый Секретарь. На сердце у него отлегло.
Из приемной доложили, что подъехал Шепилов. Хрущев встретил нового министра иностранных дел хмуро.
— Вот сижу, Дмитрий Трофимович, писанину академическую разбираю. Лысенко ругают. — Никита Сергеевич протянул бумагу.
Шепилов надел очки, и внимательно прочитал текст.
— Что думаешь?
— В сельском хозяйстве вы — высший авторитет, — осторожно начал министр иностранных дел. Он-то знал, что в научных кругах давно ходят разговоры, осуждающие Лысенко. И отношение к министру сельского хозяйства Лобанову было резко негативное. Но принимая во внимание симпатии Первого Секретаря, предусмотрительно выговорил: — Торопятся!
— И Брежнев сказал — поклеп! — просиял Никита Сергеевич.
Шепилов утвердительно кивнул головой.
— В ЦК обратиться не постеснялись! Прямо мне в руки пасквиль подсунули, минуя сельхозотдел. С этим еще разобраться надо!
— Трофим Денисович в науке не новичок, его работы вся страна знает, — поддакивал Шепилов.
— Ты, Дима, сам ученый, а ведь не лезешь не в свое дело! Если врач в ракетостроении начнет советы давать, а биолог — в металлургии, что получится? Бардак получится. Мы выскочкам зад надерем!
Хрущев вызвал Демичева.
— Возьми-ка это письмо и составь по авторам справку, кто какой наукой занимается, какие имеет основные труды, открытия какие. Понятно?
— Понятно.
Помощник ушел.
— Посмотришь, Дмитрий Трофимович, что большинство из них, — Хрущев постучал указательным пальцем по крамольной бумаге, — к сельскому хозяйству касательства не имеют. Ох, вы у меня попляшете! Хорошо, у президента Академии наук ума хватило этот пасквиль не подписать. Давай Алпатова ко мне! — сняв телефонную трубку, выкрикнул Хрущев.
Шепилов с одобрением смотрел на руководителя.
— Т-а-а-а-к! — потирал руки Первый Секретарь.
— Я, Никита Сергеевич, пришел по Америке посоветоваться.
— Говори!
— Американцы хотят в Москве выставку провести, показать успехи техники, промышленности, словом, свои достижения продемонстрировать, американский образ жизни, так сказать. Разрешим?
— С Америкой надо налаживать живые, неформальные отношения. У меня возражений нет, самому интересно поглядеть, хотя, пожалуй, сплошное очковтирательство будет, иначе зачем выставки нужны? Хорошо б и нашу выставку в Америку послать, предлагай им в форме обмена делать. У нас тоже успехи грандиозные. Подумаем, чем блеснуть. И начини, Дима, разговор о моей поездке в Соединенные Штаты. Хочу глазами Америку оглядеть.
— Правильная идея!
— Американцы, небось, думают, что по Москве медведи разгуливают, и люди в звериные шкуры одеты?
— Обыватели так думают.
— Значит, советская выставка в США необходима! Ну, вы меня поняли, товарищ министр!
Шепилов ушел. Никита Сергеевич еще раз накрутил помощника по наглым академикам и начал пересматривать многочисленные бумаги. Он работал быстро, четко, еще при Сталине научился сразу улавливать суть, отбрасывать шелуху, поэтому работа шла скоро, секретари и помощники удивлялись его работоспособности. Хрущев действительно был на подъеме. Кто знает, может он перерос Сталина? Именно так хотелось ему думать. Он чувствовал в себе силу, нечеловеческую силу, силу вершителя судеб. Хотелось сделать что-то необъятное, великое, чтобы его помнили, долго помнили. Нет, не долго, вечно помнили и вечно благодарили!
12 октября, среда
Екатерина Алексеевна Фурцева и председатель Комитета советских женщин Нина Васильевна Попова торжественно открыли в Москве фабрику по пошиву фасонного женского белья. Екатерина Алексеевна была несказанно довольна, опытные образцы, которые ей показали, оказались удобными, и главное, расцветки получились игривые, а не бело-серое однообразие.
— Цвет — это не пустяк, это настоящий праздник для женщин! — не уставала повторять секретарь горкома. Образцами она поделилась с подругой, молодой, подающей большие надежды певицей Людмилой Зыкиной, которая, пока не побывала за границей, и про заморские изыски знала понаслышке. Дары Екатерины Алексеевны привели артистку в восторг. Певица расцеловала благодетельницу, приговаривая:
— Такое вам спасибо, Екатериночка Алексеевна, ну прямо не знаю какое!
— Придется тебе на открытии фабрики спеть. Что-нибудь душевное, чтоб сердце обмерло!
— Это обязательно! — пообещала Люда.
И спела. Голос у Зыкиной мощный, красивый, как полноводная река, льется, завораживает, до корешков волос пробирает. Исполнила она три песни и все про любовь. Присутствующие (а это в основном были женщины) слушали как зачарованные, с полтыщи человек на торжественный митинг собралось.
— Ты, Людочка, так спела, будто весна пришла! — благодарила Екатерина Алексеевна.
После Зыкиной популярнейшая актриса кино Любовь Орлова сказала теплые слова, за ней еще две женщины выступили, благодарили руководство города за такое нужное дело. Лишь летчица Легкоступова, член оргсовета Комитета советских женщин, отреагировала странно:
— Дурачество! Зачем в полете на истребителе о сиськах думать?! Нашли глупое развлечение и радуются! Простая и надежная одежда: трусы да майка. Мужик, когда на бабу лезет, он с нее последнюю тряпочку стаскивает, ему тот лифчик даром не сдался! — тараторила летчица. — Да еще название придумали, не выговорить: бюст-гал-тер! Язык сломаешь!
Екатерине Алексеевне было неприятно слушать подобные заявления — зачем дуру позвали? В заключительном слове Нина Васильевна Попова попыталась сгладить острые углы, но осадок все равно остался нехороший. Фурцева отказалась от чаепития и поехала домой. Хотелось побыть в тишине, не видеть вечно заискивающих, елейных лиц, не слышать бесконечных просьб, жалоб. Попав на дачу, она два раза обошла дом, но так и не обнаружила своего Валеру.
— Где Валерий Андреевич? — спросила хозяйка.
— В тринадцать часов уехал, — ответил дежурный.
«Может, к матери?» — предположила Екатерина Алексеевна и пошла переодеваться. Часы показывали половину восьмого.
В полночь ее разбудил громогласный выкрик:
— Вставать! — и чьи-то руки бесцеремонно стиснули спящее тело.
Кротов был пьян.
— Отстань! Иди в гостевую! — она безуспешно пыталась освободиться.
— Х…! — грубо искривился его рот. Кротов хищно схватил еще не проснувшуюся подругу.
— Да отстань!
Женщина, изловчившись, освободилась от пьяных объятий и включила свет. Валерий был всклокочен, рубашка неряшливо торчала из брюк, галстук на боку. За версту несло перегаром.
— Ты где шатался?!
Он повалился лицом на кровать и через секунду захрапел.
— Нажрался, сволочь! — Екатерина Алексеевна одернула ночнушку, ушла в гостевую комнату и заперлась на ключ.
Заснуть не получалось, оскорбленная и разъяренная, она встала, накинула халат и пошла вниз, за коньяком. Проходя мимо главной спальни, дверь в которую так и осталась открытой, увидела пьяного дружка, который храпел, лежа в одежде и ботинках, поперек огромной кровати.
— Гад неблагодарный! — чуть не плача выговорила Екатерина Алексеевна. Валерий был омерзителен, от него воротило.
Женщина залпом выпила рюмку коньяка — завтра предстоял тяжелый день, бюро горкома, ей необходимо было успокоиться и заснуть.
Вернувшись в гостевую, Фурцева умылась и только тут заметила под глазом лиловый след.
— Синяк! — оторопела она. Вырываясь из навязчивых объятий, ее холеное личико наткнулось на тяжелую руку сожителя. Видно, так произошло. Не мог же Валера специально ее ударить? Или мог?!
«Заснуть, главное — заснуть!» — натянув одеяло до подбородка, повторяла секретарь горкома.
Глаза слипались, коньяк действовал. Екатерина Алексеевна уже провалилась в небытие, уже полетела по сумеречным коридорам ночи, ее уже баюкали неясные тени, дурманили сны, она уже стала забывать про своего распущенного любовника, как вдруг дверь ее спальни содрогнулась, в нее разъяренно дубасили. Бум! Бум! Бум! Бум! — сыпались удары.
— Впусти! — послышался истошный вопль, и снова дверь содрогнулась от натиска. — Все равно достану!
Екатерина Алексеевна заткнула уши.
— Какой подлец! Подлец, подлец! — укрывшись с головой, с негодованием шептала хозяйка.
Кротов ломился к ней в спальню, бил кулаками, лупил по двери ногой.
— А ну, бл…, открывай! — дубасил он, дубовая дверь не поддавалась. — Принесу топор, в щепки разнесу!
Она решила, что Валерий шутит, но скоро по дереву ухнул топор.
— Ну, бля, сезам, откройся!
Фурцева в ужасе зажмурилась: «Прибьет меня!»
В коридоре раздался истошный вопль:
— А-а-а-а-а!!! Не бей, не бей! Палец отдавил! — заскулил кротовский голос.
За дверью слышалась глухая возня.
— Мы его схватили, Екатерина Алексеевна, что дальше делать? — это был голос ее прикрепленного. — Топорик отобрали, он его с кухни взял. Топорик, мясо рубить, — уточнил капитан.
— Заприте, но не в доме! — подойдя вплотную к покалеченной двери, распорядилась хозяйка. — «Хорошо пьяного мудака охрана услышала, а то бы убил меня, сукин сын!»
Она слышала, как Валерку потащили к выходу.
— Шевелись! — подгоняли хулигана плечистые офицеры.
— Че вам, я вас не звал! — упирался никак не трезвеющий Кротов. — Ща как дам!
Наутро Екатерина Алексеевна долго закрашивала, маскировала расплывшийся под глазом лиловый след. Получалось неважно. И в таком ужасном виде она должна показаться на работе! Секретарь горкома спустилась в столовую, где ей подали завтрак. Екатерина Алексеевна взглянула на стол, напротив ее прибора был приготовлен прибор для сожителя. Безусловно, прислуга уже знала о ночном происшествии. Фурцева съела овсянку и выпила чай с молоком.
— Второй прибор больше не ставьте! — сухо распорядилась начальница.
Когда садилась в машину, вопросительно взглянула на прикрепленного.
— В бане заперли, еще дрыхнет, — объяснил капитан.
— Видеть его не желаю, — одними губами произнесла хозяйка. — Как проспится, сразу за ворота, пусть пешком до Москвы чешет!
18 октября, вторник
Миновав массивный кирпичный забор замка фабриканта Зубалова, в котором жил теперь Анастас Иванович Микоян, «ЗИС» первого секретаря Московского городского комитета партии свернул с Успенского шоссе и по узенькой дорожке через сосновый бор устремился в сторону фурцевской дачи. Три плавных изгиба дороги, дальше — вытянутая полянка, горбатый мостик через ручей, слева непроходимые заросли орешника, и перед машиной окажутся ворота. Вот и мостик, серый, унылый, осенний, с выцветшей краской. Его покатая спина, через которую, неизменно с покачиванием, переваливалась правительственная машина, как бы предупреждает — приехали! «ЗИС» притормозил, тихонько взобрался на мостик и плавно съехал вниз, и тут на середине дороги, прямо напротив орешника, возникла фигура. Шофер остановился. Повинуясь инерции, пассажиры, невольно подались вперед.
— Кротов! — указывая рукой на человека, который преградил проезд, произнес прикрепленный.
Валера стоял без головного убора, волосы его были растрепаны, как-то несуразно сидел на нем короткий серенький плащ. Он умоляюще сложил на груди руки и жалко смотрел на автомобиль.
— Чего с ним делать-то, товарищ Фурцева? — растерявшись, спросил капитан.
Екатерина Алексеевна взглянула вперед, на когда-то столь дорогого юношу, повзрослевшего в ее роковых объятьях: «Какой он был трогательный, милый!»
Раскаявшийся любовник приблизился, и еще печальней сделалось выражение его серых, невообразимо больших глаз, еще жалостливее скривился рот, еще беспомощнее прижались к груди несуразные руки. Она во все глаза смотрела на бесконечно раскаявшегося молодого человека, которого приблизила, приголубила, полюбила. Глаза, полные непреодолимой печали, не позволяли больше сердиться, носить обиду. Заплаканные, красные от слез Валеркины глаза перебили ход ее суровых мыслей, растрогали. Екатерина Алексеевна открыла окно, и тогда несчастный бросился к машине, и, упав на колени, зарыдал:
— Прости, меня, прости!
Милый, родимый голос! Фурцева не выдержала, открыла дверь:
— Садись!
Кротов беззвучно замер на мягком бархате сиденья. Он снова очутился в мире власти и могущества.
— Прости! — вымолвил раскаявшийся обидчик.
Высоченный, крупноплечий Валера словно превратился в лилипута. Фурцевой стало так жаль его, безмозглого, вздорного, совсем еще юного. Машина двинулась дальше. Глухо просигналив, автомобиль въехал на охраняемую территорию и подрулил к дому.
— Затмение! — шептал Валерий. — Напился, ничего не помню! Ничего!
— Будешь спать в гостевой! — распорядилась хозяйка.
Вечером, задернув в спальне шторы, Екатерина Алексеевна не стала запирать на ключ дверь, и он пришел, обнаружил в темноте ночи ее истосковавшееся тело! Содрав все, что на ней было, лютым зверем набросился на жертву, и — растерзал, управляя женщиной грубо, повелительно, так, как может управлять ею только мужчина, как задумала мать-природа. Она пробовала сопротивляться, но сдалась, отдаваясь его жадным движениям, заражаясь таким же первобытным животным огнем. И вот они — одно целое, нераздельное. Не распутать, не разомкнуть всепроникающий клубок рук, ног, тел, сомкнувшийся в обреченной близости.
Екатерина Алексеевна не помнила, как заснула, как провалилась в бездонность темноты, но снов сегодня ей не хотелось, потому что все ее заветные желания свершились!
24 октября, понедельник
История с Лысенко, а соответственно, и с Лобановым не закончилась. И хотя за видных мичуринцев до пены у рта вступились ученые Презент, Глущенко, Бошьян и Лепешинская, а Отдел науки Центрального Комитета немилосердно разогнал редакцию журнала «Успехи современной биологии», которая осмелилась опубликовать возмутительное письмо, все пошло не по хрущевскому сценарию и вовсе не гладко. Не успел Никита Сергеевич собрать нелицеприятные материалы на ученых, подписавших обличающий документ, как «письмо трехсот» (так стали именовать гадкое послание) попало в газеты. С подачи Молотова полный текст появился в «Труде», его перепечатала «Советская Россия», единодушно поддержали практически все академические издания. По поводу Лысенко, который, как утверждалось, «на корню задушил отечественную генетику, выдвинув в противовес сомнительную теорию эволюции растений», развернулась яростная полемика, и даже не полемика, а настоящее наступление. Коснулось оно и вице-президента Сельхозакадемии, министра сельского хозяйства Лобанова, которого обвиняли в бездеятельности, пособничестве Трофиму Денисовичу и, соответственно, в катастрофических провалах по сбору пшеницы. Чего только им ни приписывали, научные подходы громили, умудрились приплести Лысенко к аресту академика Вавилова, чье кресло в Институте генетики, а впоследствии и в Академии сельхознаук тот занял. Сельхозакадемия была у всякого на устах, невозможно было унять крикунов властным окриком из кабинета со Старой площади. С таким множеством авторитетных недовольных приходилось считаться.
Первый Секретарь сделал выволочку президенту Академии наук: «не пойми кто суется не в свое дело!» Досталось и министру сельского хозяйства России Бенедиктову, который в противовес мнению Никиты Сергеевича стал высказываться о Лысенко и Лобанове неуважительно.
Как ни пытались остановить поднявшуюся истерию работники ЦК, не получалось. Хрущев с невеселым видом дал согласие на создание специальной комиссии по проверке деятельности академика Лысенко и министра Лобанова. Комиссии предстояло обстоятельно проверить работу Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина, дать заключение о деятельности Института генетики и оценить на соответствие должности министра Лобанова. И, хотя председателем созданной комиссии был назначен Брежнев, в секретариате Булганина уже заготовили постановление о возврате в Союзное министерство Ивана Бенедиктова, а Пал Палыча предполагалось услать заместителем в Совет Министров Российской Федерации.
— Ты плачешь?
— Плачу! — всхлипывала Леля.
— Не плачь! — утешал Сергей.
— Па-пу о-би-жа-ют! — нараспев проскулила девушка. — Что он плохого сделал?!
На Лобанова, казалось, ополчился весь свет!
— Лелечка, моя хорошая! — Сергей сел рядом, обнял за плечи.
Леля сотрясалась в рыданиях.
— Они его погубят! У папы больное сердце!
— Не позволим! — прошептал Хрущев-младший. — Отец не даст!
— У-у-у-у! Вечером к папе приезжали врачи…
Сережа несмело придвинулся и поцеловал ее в щеку.
— Лелечка, родная моя!
Он осторожно гладил темные волосы и, наконец еще раз, уже смелее, поцеловал:
— Я… Я… Я люблю тебя!
Леля вскинула голову и заглянула своими большими карими глазами ему в лицо. Сережа смутился. Он смотрелся забавным, с тонкой шеей, выглядывающей из-под ворота слишком свободной рубашки.
— Повтори? — попросила она.
Сергей часто задышал:
— Люблю тебя!
Леля перестала плакать и улыбнулась:
— Ах ты, мой профессор! — и нежно прижалась к юноше.
Сергей замер, не смея пошевелиться.
— Обними крепче!
Он обнял. Она подняла лицо, и ее алые губы прильнули к его губам. Поцелуй был долгий, страстный, первый настоящий сережин поцелуй. Хрущев-младший захлебнулся в нем, захмелел.
— Защитите нас! — просила Леля. — Не отдавайте на растерзание!
— Не отдадим, ни за что не отдадим! — отозвался юноша. Голос его стал твердым, а губы, губы вновь слились с ее зовущими губами…
29 октября суббота
Было два часа дня. Над Севастопольской бухтой парили белоснежные чайки, сотни катеров, яхт и лодочек, бороздили пространство из конца в конец, шныряя между кораблями. На песчаных отмелях, где берег был пологим и доступным, в надежде последний раз понежиться на припеке, появились люди. Осенний день выдался на удивление солнечным и теплым. Пионеры шестого класса 12-й школы на тихоходном ботике прошли вдоль ряда военных кораблей, стоящих друг за другом. Папа Миши Шершова, служивший замполитом полка торпедных катеров, заручившись согласием своего непосредственного начальника, устроил для школьников эту увлекательную экскурсию. Дети совершили длинный круг по бухте и уже поворачивали в сторону пристани, как что-то утробно ухнуло, море под катерком точно споткнулось, просело, суденышко наскочило носом на тяжелую, непонятно откуда взявшуюся волну, подпрыгнуло, да так, что двое учеников не удержались на ногах, а Петя Иванов чудом не вывалился за борт.
Моторист сбавил скорость, и тут все заметили, как самый большой, самый красивый, самый быстроходный корабль, пришвартованный у третьей бочки, напротив Графской пристани, точно в замедленном кино, начал крениться на бок. С корабля слышались беспорядочные крики, истошные вопли, внутри него что-то алчно чавкало, заваливая судно, которое опрокидывалось круче и круче, пока рывком не перевернулось, оказавшись вверх дном. В нелепом, беспомощном положении огромный корабль продержался, может, пять, а может, целых двадцать минут, которые, затормаживая время, растянулись, словно на века, и все длились и длились. Вдруг линкор вздрогнул и пошел ко дну, выпуская тысячи тысяч мелких пузырьков и грозди непомерных пузырей, таких огромных, что в пузырях этих, рвущихся на волю из пучины, можно было вместить рейсовый автобус. Проваливаясь на дно, линкор чудовищным водоворотом утянул за собой все, что было вокруг: морскую соленую воду, старавшуюся удержать флагман на плаву; бурые пятна машинного масла и переливчатые остатки топлива, которое неизбежно проливалось за борт; втянул в шипящую утробу горелые спички, окурки, клочья тряпок, обрывки бумаг, газет, словом, весь несуразный мусор, что обычно плавает за бортом стоящих на причале кораблей. Немыслимая воронка водоворота проглотила выводок шустрых бакланов, которые почему-то оказались рядом, они так и не смогли добраться до поверхности, так как никакой поверхности больше не существовало. И быстроходный катер командующего линкором, пришвартованный с левого борта, который привозил командиру семью и собирался отчаливать, алчный водоворот всосал, словно игрушку. Он утянул за собой даже кусок синего неба, распластанного над раненым кораблем, окрасив пустое пространство в отталкивающие мутные тона. Никто из пропавших не появился на поверхности, одни гигантские глухо булькающие пузыри были предсмертными вздохами потерпевшего крушение судна.
— Спасите! Они тонут! — истерично закричал веснушчатый Вова, его папа служил на линкоре радистом.
— Тонут, тонут! — подхватили дети и взрослые.
— Жми туда! — заорал мотористу молоденький капитан катерка, а сам, распихивая детвору, устремился к носу.
— Убери детей, детей убери! — кричал он долговязой учительнице, которая, закрыв лицо руками, застыла в оцепенении.
Не только катерок со школьниками, но и с десяток находившихся поблизости суденышек стали очевидцами происходящему, и теперь мчались к месту катастрофы. А на берегу еще никто ничего не понял. В кафе, расположенном с тыльной стороны дома офицеров, играла медленная музыка, посетители распивали пиво и вино, молодцеватый старшина первой статьи приглашал на танец светло-русую практикантку из районной поликлиники, которая накануне проверяла у него зрение. Полнеющий официант заправски подавал горячее и слащаво улыбался расфуфыренной даме, рассчитывая на хорошие чаевые. Ветер чуть дрогнул, что-то вдалеке громыхнуло.
— Учения, — наклонившись к ушку девушки, разъяснил обходительный старшина, а на пирсе у воды уже забегали, засуетились, указывая на то место, где какую-нибудь минуту назад красовался несокрушимый линкор. И вместо испуганного слова «тонут!» — говорили уже другое, трагическое слово «утонул».
Страх, скорбь и боль леденили души. Трагедия свершилась, линкора «Новороссийск» больше не существовало. На его месте нелепо плавали малюсенькие катерки, пытаясь подобрать уцелевших, все-таки выхваченных изнутри гигантскими, воскрешающими пузырями.
— ЧП, Никита Сергеевич! — звонил маршал Жуков. — В Севастопольской бухте линкор «Новороссийск» утонул. Много жертв.
— Как утонул? Как прямо в бухте?!
— Диверсия.
— Да как же так, товарищ министр?! — приблизив трубку ко рту, закричал Хрущев.
— Я докладывал о бездеятельности главкома флотами! Мои приказы там не работают.
— Виновных под суд! — прохрипел Хрущев.
Разговор был окончен.
— Соедините с Серовым! — велел Первый Секретарь.
— Знаешь? — спросил он председателя КГБ.
— Знаю.
— Сколько людей погибло?
— Около тысячи человек. Корабль подорвали.
— Ты по существу говори!
— Похоже, в Севастополе работала вражеская диверсионная группа. Действия КГБ там ограничены, безопасность города и места дислокации флота, отданы спецслужбам моряков. В Севастополе процветает праздность, разболтанность, офицеры пьянствуют, порядка мало. Курорт, одним словом.
— Слишком поздно ты про курорт заговорил. Не уберегли линкор!
— Адмирал Кузнецов никого не слушает, а на Черноморском флоте его любимчик Пархоменко сидит, по нему у меня целое неприглядное досье.
— Тащи досье сюда!
— КГБ не раз обращало внимание Генерального штаба на негативные явления во флоте, в особенности на Черноморском. И Генштаб адмирал Кузнецов игнорировал. В начале года из наших источников поступала информация о возможных диверсиях в Севастополе, мы проинформировали военных.
— Почему раньше не говорил о состоянии дел на флоте?
— Зная ваши особые отношения с товарищем Булганиным… — начал генерал.
— Что ты на Булганина киваешь! — возмутился Никита Сергеевич. — Что он мне, брат, сват?!
— Говорю, как есть, его дочь замужем за сыном Кузнецова.
— Не путай дело с личными отношениями!
— Булганин — председатель Совета министров! — отозвался Иван Александрович, — А Комитет государственной безопасности создан при Совете министров, — на слове «при» генерал армии сделал ударение.
— Ты зубы не заговаривай — «при», «на»! Булганину Кузнецов до сраки! — Хрущев тяжело дышал в трубку.
— Установлено, что заградительную сеть, защищающую бухту от подводного вторжения, поднимали нерегулярно, буксир, заводивший ограждение, долгое время стоял на ремонте. Два судна, в задачу которых входила радиолокационная защита, обнаружение подводных плавсредств противника, службу несли безответственно, капитаны что ни день ходили по гостям. Предположительно группа подводников, из бывшего подразделения «Децима МАС» 10-й флотилии штурмовых средств Италии, на малой подлодке, проникла в Севастопольскую бухту и заминировала линкор. Во время оккупации Крыма фашистами 10-я флотилия базировалась в Севастополе и Балаклаве.
— Кому сейчас служат итальянские подводники?
— Их начальник, князь Боргезе, работает на ЦРУ. После окончания войны князь и его подчиненные были замечены на Мальте, где в то время стоял линкор.
— Князья недобитые!
— Прежнее называние «Новороссийска» — «Джулио Чезаре» в честь Юлия Цезаря. Линкор был главным военным кораблем Италии. Думаю, именно эти причины легли в основу теракта. Диверсантам корабль был до мелочей понятен. Уже на Мальте было известно, что по репарации он отойдет СССР. Еще тогда могли задуматься о взрыве.
— Получается, итальянские водолазы к американцам пристроились?
— Или к американцам, или к англичанам. МИ-6 плотно связана с ЦРУ.
— Одна шайка-лейка! Видать, радуются сейчас.
— Линкор накануне вернулся из похода, где отрабатывались стрельбы из орудий 320-миллиметрового калибра. Новые снаряды главного калибра являлись носителями ядерного заряда. Об этом, думаю, было известно разведслужбам США и Англии.
— Ты так рассказываешь, будто сам с ними сидел!
— Работа.
— Работа! — прокричал Хрущев. — А линкор просрали!
— Разрешите направить в Крым бригаду Комитета государственной безопасности?
— Посылай. Мы и правительственную комиссию туда пошлем. В Крыму сейчас Ворошилов. Он должен завтра на праздновании 100-летия обороны Севастополя выступать, говорить о героизме русских воинов в Крымской войне 1855 года. А какой нынче праздник? На руках сотни гробов, а многие в пучине морской канули, в лабиринтах этого злосчастного крейсера! — Никита Сергеевич тяжело вздохнул. — Ничем, ребята, вам не помочь, вот ведь беда какая! Проспали мы, Ваня, врага!
— В основе всего, Никита Сергеевич, лежит человеческий фактор.
— Ты мне лекцию не читай! — вспылил Хрущев. — Кого на место Кузнецова?
— Горшкова Сергея Георгиевича можно. Во время войны он Азовской флотилией командовал, потом Дунайской. Был замом у командующего Новороссийским оборонительным районом. После капитуляции немцев от командира эскадры до командующего Черноморским Флотом дорос. Сейчас заместитель у Кузнецова. Думаю, и Георгий Константинович по кандидатуре Горшкова возражать не станет.
— И я Горшкова-моряка помню.
После разговора с Серовым Хрущев снова соединился с министром обороны.
— Считаю целесообразным на время проверки причин катастрофы отстранить адмирала Кузнецова от должности главнокомандующего Военно-Морскими силами. Исполняющим обязанности главкома предлагаю Горшкова.
— Пусть будет, — ответил Жуков. — На Северном флоте Чабаненко — неполноценный человек, и Пантелеева надо с флота снимать, совсем дисциплину распустили! — выговорил Георгий Константинович.
— Согласен. Чтобы расследование шло объективно и без проволочек, председателем правительственной комиссии буду рекомендовать вас, — договорил Хрущев.
4 ноября, пятница
Закрытым Указом Президиума Верховного Совета Адмирал Флотов Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов был разжалован в вице-адмиралы, освобожден от должностей заместителя министра обороны и главнокомандующего Военно-Морским Флотом. Его заменил сорокапятилетний Горшков.
Взрыв, приведший «Новороссийск» к гибели, сделал в корпусе судна пробоину размером 150 квадратных метров. Если бы заряд был установлен под пороховыми погребами и бомба оказалась в задуманном месте (а не произошло этого только потому, что, швартуясь ночью, штурман не рассчитал и продвинул судно на сорок метров вперед), на воздух бы взлетели соседние корабли, и потери бы были колоссальные.
Ряд старших офицеров Черноморского Флота отстранили от исполнения должностных обязанностей. Командир шумопеленгаторной станции, контролирующей вход в гавань, и командир соединения кораблей, отвечающих за охрану рейдов главной базы флота в Севастополе, были арестованы. В Главную военную прокуратуру был доставлен бывший командующий флотом, разжалованный Виктор Пархоменко.
Председатель КГБ сообщил Хрущеву, что в самом конце октября в акватории Черноморского флота находились несколько итальянских торговых судов, которые покинули территориальные воды СССР лишь 29 октября.
Со дня отставки адмирала Кузнецова Георгий Константинович Жуков стал непререкаемым командиром в армии, каждый солдат, каждый матрос, офицер, генерал слушали и признавали только его.
10 ноября, четверг
Екатерина Алексеевна лично выбирала цветы. Она делала такое в исключительных случаях, например, когда шла в гости к Никите Сергеевичу, и цветы предназначались для Нины Петровны. Фурцева всякий раз приносила ей восхитительные букеты, нет, не торжественные розы, которые прихватывал с собою всякий хрущевский гость, и не фальшивые в абсолютной доступности, как две капли воды похожие одна на другую гвоздики — ими обычно отделываются на официальных празднованиях. Екатерина Алексеевна старалась преподнести что-то особенное, например, трогательные незабудки, чье голубое великолепие подчеркивали вкрапления в букетик соцветий белой кашки, или радовала только-только сорванными, начинающими распускаться пионами, или лесными ландышами, впитавшими чарующий аромат лета. Иногда вручала сноп полевых ромашек, да такой, что его трудно было удержать, а еще труднее — подыскать соответствующую вазу. Как-то привезла первые тюльпаны, вобравшие красоту с юной, весенней силой, словом, выбирала те цветы, которые наверняка отличались от повседневных. Но Нина Петровна словно не замечала внимания столичной начальницы, автоматически протягивала руку, скупо кивала, говорила что-то односложное, недолюбливала приветливую Екатерину Алексеевну. Может, завидовала ее привлекательной внешности, моложавости, живости, открытости, неукротимому блеску глаз? Может, и так.
Однако сегодня Екатерина Алексеевна шла не к Хрущевым, ей поручили проведать приехавшую в Советский Союз на лечение жену Председателя Китайской Народной Республики госпожу Цзян Цин, которая уже неделю находилась в кремлевской больнице. Екатерина Алексеевна обратилась за помощью к Лобанову, постаралась объяснить, какие именно нужны цветы, хотелось, чтобы букет вышел не формальным и не лукавым, а тронул знатную гостью, поднял ей настроение. С его помощью в Московском ботаническом саду можно было выбрать что-нибудь особенное. Хозяйка города знала, что Председатель Мао повсюду разбивал сады. Выбор остановился на небольшом, приятно пахнущем букетике крокусов. В подарок жене правителя Китая секретарь горкома приготовила янтарное ожерелье с браслетом и сережками. Специально для таких ответственных случаев подобные украшения заказывали в Прибалтике, а еще взяла расписную шкатулку. Цековские работники рекомендовали с видом Московского Кремля. Шкатулка «Кремль» была большая, торжественная; остроконечные башни с чешуйчатыми зеленоватыми крышами прописаны до мелочей, на стенах каждый кирпичик различим, рубиновые звезды сияют, но трепета нет! Фурцева распорядилась принести разных, чтобы было из чего выбирать. Секретарь горкома внимательно их пересмотрела, сначала хотела взять Палех, но потом решила остановиться на федоскинской технике, и выбрала вовсе не с Московским Кремлем, а с сюжетом русского народного гулянья, написанным в манере художника Кустодиева: со снегом, с санками, с пляшущими под гармошку залихватскими мужиками и румяными бабами в цветастых платках. Федоскино отличалось от Палеха искрящейся радостью, точно шампанское с шипящими пузырьками, которое пьянит и дразнит, а не обычное вино. В технике изготовления федоскинских миниатюр использовался перламутр, именно он создавал в работах объемную переливчатость, как будто сиял изнутри яркий солнечный свет. Палех, безусловно, был сказочен, но уж больно близок к иконописи. Строгое, православно-каноническое письмо придавало Палеху необратимую серьезность. В таком подходе ничего волшебного не ощущалось, многие годы в Палехе создавались исключительно православные сюжеты.
«Официальщина!» — разглядывая многочисленные миниатюры, решила Екатерина Алексеевна. А ведь подарок предназначался не послу, не министру, а женщине, китаянке, пусть и жене самого Председателя Мао. Сотрудники Отдела внешней политики Центрального Комитета передали для товарища Мао Цзэдуна авторскую копию картины «Ходоки у Ленина» художника Владимира Серова. Екатерина Алексеевна связалась с Сусловым, который отвечал в ЦК за общение с братскими коммунистическими партиями, и он со свойственным волжским акцентом, часто окая, предупредил:
— Учтите, товарищ Цзян Цин не по годам сообразительна. Она может напустить на себя неприступный вид или вспылить, но вы не тушуйтесь, помните, она актриса. Повстречав ее, Председатель был так очарован, что развелся с женой.
Цзян Цин стала четвертой женой Мао Цзэдуна.
— Погуляйте с ней по Москве, сходите в Третьяковскую галерею, — советовал Суслов.
— Для прогулок время неподходящее, ноябрь, — ответила Фурцева, — Я приглашу ее на обед в «Метрополь».
— Пообедайте, — не возражал Михаил Андреевич.
Когда «ЗИС» первого секретаря Московского городского комитета Партии въехал в ворота больницы на улице Грановского, сыпал мелкий снег, дорога обледенела и хлесткий ветер пробирал до костей. Екатерина Алексеевна оделась легко и, не мешкая, прошла в помещение. Главный врач Арцыбашев на всякий случай дал команду накрыть в одном из люксов клиники стол — коньячок, вина, легкие закуски, часто бывало, что подобные встречи заканчивались застольем. Люкс этот находился на том же этаже, где лежала иностранная гостья, только в противоположном конце коридора. Пользуясь крайней лестницей, в нем было удобно принять доставленные из Столовой лечебного питания угощенья и своевременно менять сервировку.
Второй этаж здания состоял из апартаментов для самого высокого руководства. Здесь, когда обострялась язва, лежал Климент Ефремович Ворошилов, два раза проходил обследование товарищ Маленков, проверял сердце Молотов. Трехкомнатный номер, с окнами во двор, из которого позавчера выписался подхвативший воспаление легких Анастас Иванович Микоян, со следующего месяца закрепили за президентом Польской республики Болеславом Берутом, а самый большой, четырехкомнатный (среди медработников он именовался «отсек») был предоставлен супруге Председателя Коммунистической партии Китая. На спецэтаже посторонние никогда не появлялись, проходы сюда стерегли сотрудники Главного управления охраны. В палатах, этажом выше, разместились служанка-переводчица, массажистка-парикмахерша, и, разумеется, китайский лечащий врач супруги Мао Цзэдуна, который неотлучно находился при пациентке.
Советская медицина считалась в Китае передовой. Много лет Мао Цзэдуна лечили два русских доктора. Вдоль и поперек изучив недуги, они стали для Председателя КПК спасителями, панацеей, ведь веры в соотечественников у правителя Поднебесной не было. Семьи советских эскулапов не спешили перебираться в Пекин, жены приезжали к мужьям реже и реже, письма были короткими, медики тосковали. Товарищ Мао оказывал светилам медицины повышенное внимание, они жили в роскоши, как подобает приближенным владыки, ни в чем не нуждались, не хватало им в далекой стороне лишь душевной близости, а по существу — трогательной женской ласки, которая окрыляет всякого мужчину, вселяя уверенность и веру в счастливое будущее. Товарищ Мао нашел способ поправить дело — в качестве официанток и горничных он присылал к докторам таких очаровательных дев, что русские доктора уже не торопились на Родину. Один влюбился всерьез — улыбчивая Веики родила ему двоих деток-крепышей, и он от всего сердца радовался, воспитывая шустрых, звонкоголосых ребятишек. А второй не мог остановиться, меняя очаровательную обслугу каждые три месяца и повадками начинал походить на своего могущественного пациента. В результате товарищ Мао Цзэдун остался при надежных лекарях, которые способствовали драгоценному долголетию.
В «отсеке» Фурцеву пригласили в гостиную. Вид из окна был печальный — огрубевшая, беспросветная безликость осени. Покинутая деревянная беседка с резными столбами, к которой вел узкий мосток, перекинутый над декоративным прудом, где летом зацветали кувшинки, не делали вид лучше. Заскорузлые голые кусты и несчастные деревца, не могли придать вытянутому пространству признаки умиротворения. Наверное, когда земля зацветала, смотреть на засаженный липами, каштанами и жасмином внутренний дворик больницы было куда приятней.
«В любое время года болеть плохо!» — глядя на печальную улицу, решила Екатерина Алексеевна.
— Товарищ Цзян Цин сейчас будет, — растягивая слова, тоненько пропела узкоглазая переводчица, поклонилась и выскользнула за дверь.
Нескольких минут совершенно хватило, чтобы внимательно осмотреть комнату: в углу витал сизый дымок, невидимо тлевшая палочка, по размеру чуть толще соломинки, испускала терпкое благовоние, которое перебивало остальные запахи, и даже стойкий дух лекарств, считавшейся неистребимым в любом лечебном учреждении, исчезал, уступая место чужеродной свежести. В центре круглого обеденного стола стояла китайская ваза — вытянутый фарфоровый квадрат с рельефными листьями и журавлями в сиренево-синих тонах. На резной костяной подставке с подоконника в комнату смотрел палисандровый Председатель Китайской Народной Республики товарищ Мао Цзэдун, одетый, наподобие Сталина, в полувоенный френч без знаков отличия и наград.
Дверь скрипнула, Екатерина Алексеевна обернулась и увидела красивую, очень прямо державшуюся женщину. Секретарь горкома встала. Супруга Великого Кормчего слепила улыбкой. На ней было длинное, предельно обтягивающее фигуру черное платье, соответствующее цвету ее миндалевидных глаз и волос, прямо над сердцем была приколота рубиновая брошь в виде пятиугольной звезды. На безымянном пальце сверкало кольцо с прозрачным, крупным камнем.
— Здравствуйте, товарищ Цзян Цин! Я Екатерина Фурцева, первый секретарь Московского городского комитета партии, — представилась гостья.
Миниатюрная переводчица, кланяясь при каждом слове, переводила. Чарующая китаянка была подобна царице, она еще ослепительней улыбнулась и протянула руку:
— Я благодарна за ваш визит. Присаживайтесь. Разрешите угостить вас чаем?
Фигура и черты ее лица были безупречны, с нее можно было копировать образ эталонной женщины, и одета она была с большим вкусом. Туфельки на каблучке делали женщину еще изящней. Шелковое платье имело короткие, не доходившие до локтя рукава. Фурцева первый раз встречала столь ослепительную красавицу.
Товарищ Цзян Цин держала себя непринужденно, но вместе с тем с большим достоинством, подчеркивая свое непререкаемое превосходство. Готовясь к встрече, Екатерина Алексеевна прочитала присланную из Комитета государственной безопасности справку, где говорилось, что последняя жена Мао Цзэдуна происходила из самой простой семьи, отец пил, мать с утра до ночи трудилась, не гнушаясь никакой работы. В пятнадцать лет Цзян Цин сбежала из дома, жила то с одним мужчиной, то с другим, в двадцать вышла замуж, но через полгода, в поисках красивой и обеспеченной жизни, бросив несуразного мужа, поступила в шанхайскую театральную труппу, которая часто гастролировала. В одну из таких поездок юная Цзян Цин попалась на глаза главнокомандующего Мао Цзэдуна. Полководца не смутило, что пылкая актриса нечасто играла для высшего общества, а плясала и пела даже для моряков многоликого Шанхая, неуемных, грубых, безудержно пьющих, способных на любую непристойную выходку. Актриса развлекала торговцев, солдат, мелких клерков, но даже в таком суровом мире смогла выжить и преуспеть.
Китаянка угостила гостью чаем «Колодец дракона», который предпочитал ее разборчивый муж. Екатерина Алексеевна произнесла заранее заготовленные приветствия, получая в ответ благожелательные кивки головы, затем приступила к вручению подарков. Первым делом в комнату внесли картину «Ходоки у Ленина» — подарок Центрального Комитета Председателю Мао. При виде ленинского изображения товарищ Цзян Цин встала и в восторге прижала руки к груди.
— Ленин самый большой человек на земле! — с неподдельным волнением произнесла она и, подойдя вплотную к полотну, которое почти равнялось ее росту, поцеловала Владимира Ильича. — Я так люблю великого Ленина! — член Китайской Коммунистической партии не смогла удержать слез умиления.
Когда Цзян Цин, подавшись вперед, целовала основоположника коммунизма, шелковое платье ее чуть распахнулось, обнажая холеное плечико с татуировкой золотой рыбки. Может, таков был расчет модельера, чтобы вот так, неожиданно, приоткрыть прелести молодой женщины, но, возможно, он и не подозревал о существовании на плече заказчицы столь удивительного рисунка, только ни у одного мужчины, увидевшего татуировку, не оставалось сомнения, что перед ним — золотая рыбка!
Когда Цзян Цин появилась в комнате, благовонья и фимиамы, испускающие терпкие ароматы, отступили, все вокруг заполнил теперь ее неподражаемый запах, запах то ли ее совершенного тела, а может, ее удивительных духов.
— Разрешите в память о нашей встрече подарить вам кое-что от себя, — Фурцева вынула картонный футляр, выстланный внутри ватой, где лежала федоскинская шкатулка, открыла его и пододвинула Цзян Цин.
— Чудесно! — восхитилась жена вождя.
— И это вам, — Екатерина Алексеевна достала янтарное ожерелье с браслетом и сережками.
— Чудо! — залюбовалась китаянка, ее миндалевидные глаза потеплели. — Это янтарь?
— Да.
— У меня никогда не было янтаря! — Она приложила ожерелье к груди и посмотрелась в зеркало над сервантом. На черном шелке янтарь выглядел по-царски.
По всему было видно, что жена Председателя Китая довольна. Цзян Цин с нескрываемым любопытством смотрела на сидящую напротив женщину, также очень привлекательную. Китаянка сразу обратила внимание на ее безупречную внешность. Накануне ей сказали, что ее хочет посетить член Президиума Центрального Комитета, а пришла эта интересная особа.
— Вы член Президиума ЦК?
— Кандидат в члены Президиума и Секретарь Центрального Комитета, — уточнила Екатерина Алексеевна.
— Но вы представились как первый секретарь Московского горкома?
— К тому же я первый секретарь Московского городского комитета Коммунистической партии, — подтвердила Фурцева.
«Чья она любовница? — пыталась угадать китаянка. — Хрущева или Булганина? Не может же такая картинка быть столь разумна?»
Глаза актрисы смотрели с нескрываемым интересом.
— Как проходит лечение?
— Обследование.
— Да, обследование, извините! — поправилась Екатерина Алексеевна.
— Я плохо сплю, мучает бессонница. Врачи считают, что у меня чрезмерное нервное напряжение, а как снять его, не говорят, — нахмурилась больная. — Когда меняю обстановку, начинаю лучше спать. Москва мне на пользу. Очень люблю ваш Крым, Черное море.
Со времен Сталина в Мисхоре за Председателем КПК был закреплен Юсуповский дворец, несколько раз, под фамилией Юсупова, там гостила его жена.
— Не желаете глоток коньяка? — предложила Цзян Цин.
Фурцева кивнула. По бокалам разлили коньяк.
— За революцию во всем мире! — произнесла супруга китайского вождя.
— За революцию! — отозвалась Екатерина Алексеевна.
По глотку выпили за Ленина и за Мао Цзэдуна.
— Приятно пить за таких выдающихся людей! — высказалась китаянка и неожиданно добавила: — Коньяк помогает спать.
— И для меня коньяк лекарство, — призналась Фурцева. — Я бы хотела пригласить вас в Музей изобразительных искусств, а потом на обед.
— Лучше пойдем в Музей революции, — став очень серьезной, ответила обворожительная товарищ Цзян Цин.
Кто бы мог подумать, что она, с виду сущий ангел, за любую, даже самую незначительную провинность немилосердно колотит своих слуг?
— Знаешь, какая она красивая? — лежа в кровати, сказала Екатерина Алексеевна Валере.
— Кто? — не понял Кротов.
— Она, жена товарища Мао Цзэдуна.
— По мне, китайцы все на одно лицо, — зевая, проговорил молодой человек и перевернулся на другой бок.
«Какая загадочная женщина. Властная, умная, обворожительная! А я? Так и истлею на работе, засохну — не вздохнуть, не продохнуть! Хорошо, что раз в неделю играю в теннис. Надо хотя бы два раза играть, и надо массаж делать, и еще бросить курить! Да, да, курить! Обязательно брошу! Не буду за собой следить, обаблюсь, превращусь в гиппопотама с умными глазами, а мне жить хочется! — Фурцева с грустью посмотрела на своего незатейливого любовника, который сладко посапывал рядом. — У Валеры бессонницы не бывает, прислонил голову к подушке и — спит!»
18 ноября, пятница
На этот раз к поездке в Дели готовились основательно. Последние три месяца на связи чуть ли не каждый день было посольство Индии, от Министерства иностранных дел туда бесконечно поступали новые и новые вводные. Недавний визит Джавахарлала Неру еще более сблизил Москву и Дели. Николай Александрович Булганин и Никита Сергеевич Хрущев откликнулись на предложение индийского руководителя совершить ответный визит, а заодно решили посетить Бирму и Афганистан. Время для поездки выбрали хорошее, не жаркое и без дождей. Такой обстоятельной поездкой по Азии Никита Сергеевич хотел продемонстрировать Мао Цзэдуну нарастающее влияние Советского Союза, сместить международную векторность в сторону Москвы. В последнее время Председатель Мао все громче подавал голос, пытаясь выставить себя благодетелем для многих миллионов людей.
После победы над гитлеровской Германией и Японией международный авторитет Советского Союза невероятно возрос, однако могущество это надо было поддерживать, постоянно напоминая о значимости и силе советской державы. Если скромно отмалчиваться, чувство восхищения притуплялось, а Мао Цзэдун с помощью беспринципных пропагандистов повсюду восхвалял и превозносил красный Китай. В регионах Индокитая, Среднего Востока и Океании СССР рисковал скатиться на второстепенные роли. Делегацию в Индию собрали внушительную.
— Покажем китайцу, кто есть кто! — высказался Первый Секретарь.
Члены советской делегации приехали во Внуково заранее и послушно ожидали появления первых лиц — Булганина и Хрущева. В законченной пристройке к зданию аэропорта, предназначенной специально для приемов и проводов правительства, царила суматоха. Ответственные за организацию поездки сбились с ног, количество членов делегации все время увеличивалось, а вчера сообщили, что полетит еще и булганинский повар, которому требовалось целых два места, он вез с собою кастрюли, ножи и кое-что из продуктов и ни при каких обстоятельствах не соглашался сдать груз в багаж. Николай Александрович начал худеть, а лучше, чем у его Игорька паровые котлетки ни у кого не получались. И еще началась чехарда с подарками, которые везли с большим запасом: ведь куда бы ни отправились председатель Совета министров и Первый Секретарь, требовалось вручать памятные сувениры. Оттого-то, от этих порою громоздких сувениров, все свободные места во втором салоне были забиты коробками, а теперь требовалось усадить туда повара. Взад-вперед ходили начальники и командовали. При министре Шепилове в МИДе не стало элементарного порядка, по его воле понабрали на руководящие должности новых людей, чуждых строгой мидовской дисциплины и эрудиции. Внешнеполитическое ведомство наполнилось выходцами из редакций газеты «Правда», журналов «Коммунист» и «Крокодил», научными сотрудниками, вот и пожинали плоды кадровой неразберихи в неразберихе натуральной.
— Посольства подстрахуют! — с раздражением высказался первый заместитель министра иностранных дел Громыко. Работая при Молотове и Вышинском, он не мог предположить неточности, недобросовестности, а тут — ляп за ляпом!
— Летим! — вылезая из машины и посмотрев в безоблачное небо, благодушно проговорил Булганин.
Николай Александрович был в белом костюме и держал в руках шляпу.
— Надо сфотографироваться, а то пресса ждет! Вылезай, Никита!
Первый Секретарь появился из салона автомобиля сразу за председателем Совета министров. Провожать Булганина и Хрущева приехали Молотов, Ворошилов, Каганович, Маленков, Микоян, Поспелов, Первухин, Сабуров, Суслов, Жуков, Серов, Косыгин, Малиновский, Горшков и Шелепин. В окружении провожающих Булганин с Хрущевым сфотографировались, снимки эти к вечеру появятся во всех советских газетах, облетят мир. В числе менее именитых провожающих оказался и зять Никиты Сергеевича, Алексей Иванович Аджубей. Заметив молодого человека, маршал Малиновский сразу направился к нему поинтересоваться, как растет сынок.
Дмитрий Трофимович Шепилов и Екатерина Алексеевна Фурцева вошли в состав делегации.
— Красавец! — любуясь истребителем, застывшем на летном поле, проговорил Николай Александрович.
Боевые «МИГи» обязательно сопровождали правительственные перелеты.
— Брат Степан сделал! — похвастался Микоян. — По летным и боевым качествам «МИГу-21» равных нет!
Булганин взял рюмку.
— За славных авиационных зодчих! — провозгласил председатель правительства. — Держись, враг!
— А где оракул? — имея в виду Хрущева, спросил маршал Жуков.
— Вещает! — улыбнулся Микоян.
У Никиты Сергеевича стало традицией давать обстоятельные интервью по любому поводу. «Надо разъяснять народу, что происходит, — доказывал он. — А то люди скажут — мы работаем, а наши начальники непонятно чем занимаются. А мы трудящимся отчет — так мол, и так!»
Первый Секретарь говорил не переставая. Его речи без сокращений публиковались в печати и иногда занимали полностью газету.
— Чего его Катька без настроения? — кивнув на Фурцеву Жуков.
— Хахаль гонял. Говорят, хотел топором зарубить, — усмехнулся Булганин.
— Она юркая! — с издевкой подметил маршал.
— Чего ржете? — спросил подошедший Хрущев.
— За Катьку переживаем. Достают ее мужики! — лыбился Георгий Константинович.
— Вы лучше об Индии думайте! — отрезал Хрущев.
— Николай Александрович, Никита Сергеевич! — позвал замуправделами Смиртюков. — Приглашаем на посадку!
— Иди первый, — уступил Хрущев. — Ты как-никак руководитель делегации.
Булганин надел шляпу, поправил на груди пиджака золотую звезду Героя Социалистического Труда, которую ему вручили в начале лета в связи с шестидесятилетием, и направился к выходу.
8 декабря, четверг
Анюта была беременна. Она не то чтобы пополнела, нет, скорее округлилась, более отчетливо выступил живот, груди стали большие и тяжелые, в движениях появилась размеренность, плавность, даже голос сделался мелодичен, певуч. Вся ее суть теперь подчинилась заветному таинству материнства, которым, как наградой, жалует женщину природа. И когда свершилось чудо зачатия, женщина преображалась, становилась иной, необычной, необъяснимой, недоступной, заключенная, как в крепости, в себе самой. И крепость эта — ее тело — должна вынашивать, оберегать во чреве драгоценное дитя. И лишь тому, чей ребенок шевельнулся под сердцем, счастливо покорялась супруга, лишь один, избранный, был необходим, желанен и дорог, и потому еще он был желанен и дорог, что только самому близкому человеку женщина отдавала себя без остатка, погружаясь в безумства любви — ведь возлюбленный есть часть заветного плода, вселенского таинства. Оттого Ванечкины голубые глаза, улыбчивые губы, бережные прикосновения были бесконечно желанны, и было ему все позволено и разрешено, даже то, о чем неловко говорить. Лишь долгожданный ребеночек и милый возлюбленный делали мир бесценным, а все остальное не имело никакого значения!
«Жду дитя, жду дитя! Жду, жду, жду!» — радостно отзывалось сердечко.
В комнату постучали.
— Анна Витальевна!
Она запахнула халат и выглянула за дверь. За дверью стояла горничная.
— Елки приехали, куда выгружать?
— Елки? — нахмурила лобик Аня. — Ну, конечно, ведь Новый год на носу! Сейчас иду.
Не торопясь, она сошла вниз.
— Одну в столовую поставим, а другую оставим на улице, перед входом. Большие они?
— Агромныя! — отозвалась горничная.
Анна Витальевна выглянула в окно, но стекло было сплошь исчерчено непроглядным узором мороза. Пришлось накинуть шубу и выйти на крыльцо. Из грузовика выгружали елки.
— Самую высокую сюда, перед входом поставим, — указала хозяйка, — а меньшую — в дом!
Из «Победы», которая стояла, поравнявшись с грузовиком, проворно выскочил лысоватый мужчина, в суматохе он забыл надеть шапку.
— Какую в дом нести, Анна Витальевна?
Аня сразу узнала в сутулой фигуре усовского директора. Он так суетился, помогая с выгрузкой, что шарф его, зацепившись за колючие ветки, слетел на землю и был бы обязательно затоптан неуклюжими рабочими, если бы прыщавый водитель не спас его, подобрав.
— Шарф потеряли! — услужливо промямлил он.
— Да какой шарф, погоди!
Директор руководил разгрузкой и краем глаза косился на Аню. Жена Серова развернулась и ушла в дом.
— Черт его принес! — в сердцах ругнулась она.
За это время девушка ни разу не вспомнила обидчика, а тут он сам заявился.
«Развратник! Что ему надо?!»
Не удостоенный хозяйского внимания, директор послонялся около машины и уехал. Испортил он настроение Анечке, здорово испортил!
Когда елки установили на места, Анна Витальевна с работницами принялась за их украшательство — четыре ящика замечательных немецких игрушек прислал на дачу заботливый муж. Провозились часа полтора, но зато какие елки стали нарядные — любо-дорого смотреть! Под одной, той, что в доме, стоял Дед Мороз, раскрашенный в красный цвет, вернее, шуба у него была красная. Широкая седая борода с усами, за плечами фиолетовый с золотистыми звездочками мешок с подарками, рядом Снегурочка — ну прелесть какая!
Умаялась Аня, наряжая, но зато какое удовольствие получила! Жили они с матерью небогато, по-деревенски, как жили тысячи крестьянских семей, и поэтому к игрушкам, которых никогда раньше не было, относилась с трепетом. Деревенские дети сами мастерили себе игрушки, девочки делали тряпичных кукол, а мальчишки вырезали из дерева ружья и солдат. И вот теперь, столкнувшись с настоящими куклами в нарядных платьицах, с плюшевыми мишками, лошадками-качалками, дивными елочными украшеньями, Анюта замирала от счастья! Ей хотелось взять каждую игрушку в руки, прижаться к ней щекой и радоваться детской искренней радостью. У ее мальчика (Аня почему-то была убеждена, что у них с Ваней родится мальчик) непременно будет много игрушек!
Отдохнув, последнее время Анюта стала здорово уставать, она вызвала машину, чтобы поехать в Жуковку, к подруге, которая заведовала библиотекой в сельском клубе. После визита Ильина на душе остался тяжелый осадок. В гостиной зазвонил телефон.
— Алло! — ответила Аня.
— Как ты, заинька? Скучаешь без папы?
Ванечка звонил! Аня несказанно радовалась, когда слышала его ласковый голос.
— Очень скучаю!
— Сегодня жди не раньше восьми.
— Жаль!
— Игрушек хватило?
— И игрушек хватило, и огоньков. Огоньки так сказочно светятся!
Голос жены показался мужу озабоченным.
— У тебя все в порядке?
Анечка вздохнула.
— Представляешь, к нам елки привез мой мучитель.
— Какой мучитель? — не понял Серов.
— Усовский директор!
— Шутишь?! — обомлел Иван Александрович.
— Нет! — Аня всхлипнула. — Я расстроилась!
— Вот мерзавец!
— Не ругайся, Ванечка, тебе плохие слова не идут.
— Да как он посмел! Я ему яйца оторву! — рассвирепел муж.
— Ванечка!
На хищном лице генерала ходили желваки, он обожал свою ласковую жену, обожествлял ее. Ни с одной женщиной ему не было так хорошо, так умиротворенно, легко и спокойно, как с ней, а ведь женщин у Ивана Александровича было предостаточно. С Анютой он не чувствовал лет, он будто становился моложе, хотелось жить, радоваться, летать от счастья, которое наконец улыбнулось. Точно как и она, он мечтал о ребенке. Почти каждый день, с первой встречи, они были близки. Когда супруг касался жены, когда плавно притягивал родную ближе, сердце начинало бешено колотиться, кровь вскипала, он проваливался в блаженство, а после, затаив дыхание, долго не мог на нее налюбоваться. Каждую минуту муж желал быть рядом, разговаривать, целовать, ласкать, получая ласку в ответ, и вот какая-то мразь вторгалась в его личную жизнь, оскверняя самое святое, самое чистое!
— Не делай ничего нехорошего, Ванечка! — умоляла Анюта.
— Люблю тебя! — отозвался муж и повесил трубку.
Серов с каменным лицом сидел в кабинете.
— Негодяй, негодяй! — повторял Иван Александрович.
Он вызвал помощника. Подполковник вытянулся по стойке смирно.
— Поедешь в цековский поселок Усово, возьмешь за шкирку ихнего директора и притащишь ко мне! — хмуро распорядился генерал.
— Слушаюсь! — по суровому виду начальника офицер понял, что действовать надо без проволочек.
Запихивая в машину Михаила Аркадьевича, подполковник крепко пихнул его плечом, лысый директор с размаха врезался в автомобильную стойку между дверьми, набив на лбу шишку. Рослый подполковник сделал вид, что толкнул его так как поскользнулся, и набросился на усовского начальника:
— Чего снег не чистишь?!
Когда директора привезли на Лубянку, пленник сделался бледный, как смерть. Находясь в мрачном здании, он многое передумал, перед глазами пронеслась целая жизнь. Михаил Аркадьевич осознал, какой он подлец, какая дрянь, понял, что ему пришел конец, и что он заслужил этот бесславный конец по справедливости, и нет ему снисхождения! Он раскаялся. Ему было жалко своих очаровательных, изумительно похожих на папу мальчиков, он понял, как мало уделял им внимания, каким плохим отцом был. Работая на ответственной должности в хозяйственном аппарате ЦК, месяцами не показывался дома, детишек воспитывала раздраженная, до предела озлобленная жена, которой со всех сторон нашептывали о его похождениях, и если бы не суровая директорская мама, всегда выгораживающая сына и забиравшая внуков по выходным, детишкам пришлось бы совсем худо. Михаил Аркадьевич начал всхлипывать, в спину его подталкивали грубые руки, подгоняли резкие окрики:
— Шевелись! Быстро! Быстро! — он на ватных ногах шагал по коридорам.
Наконец на шестом этаже, открылись тяжелые двери, и он вступил в огромный кабинет.
— Выйди! — приказал помощнику властный голос.
Подполковник удалился. Михаил Аркадьевич грохнулся на колени и заревел.
— Боишься, сука! — вставая из-за стола, выдавил Серов и, подойдя ближе, с размаху врезал директору справа. Удар вышел смазанным. Директор брякнулся на ковер и от страха захрипел. Хрип и рыдания наполняли кабинет. Серов склонился над ним: — Прибью здесь! — и еще раз ударил, но уже не сильно, скорее для острастки.
Давно он не бил людей, разучился, не получалось, как надо, а раньше бил сразу на убой.
С тех пор как Иван Александрович стал жить с Анютой, в нем многое переменилось. С какой радостью жена встречала мужа на пороге, как лучились ее глаза! И несокрушимый железный человек, участвовавший в самых гадких деяниях, не верящий ни в дружбу, ни в правду, ни в Бога, ни в дьявола, стал оттаивать. Его огрубевшее, точно у Кая, сердце, очнувшееся после поцелуя Герды, начинало вбирать силу горячих признаний, неподдельных искрящихся чувств. Все вокруг — люди, природа, оживало, наполнялось искренностью и солнцем.
Генерал склонился над поверженным. Человек на полу рыдал.
«Хватит с него!» — решил Серов и вернулся за письменный стол.
— Вставай!
Михаил Аркадьевич с трудом поднялся, он был жалок, унижен, от страха он намочил штаны.
— Чего приперся ко мне?
— Я, я… — заикался директор и вдруг выпалил: — Я на Анну Витальевну хотел посмотреть.
— Чего?! — взревел Серов, кровь в нем снова заклокотала.
— Не верил, что она жена ваша, думал, врут. Я искал ее!
— Кого, мою Аню?! Зачем искал?! — Иван Александрович был готов вырвать из обидчика душу!
— Не мог поверить, что она навсегда убежала, думал, уехала в деревню к родственникам, — Михаил Аркадьевич вскинул голову. — Влюбился я в Аню, вот и хотел проверить, не врут ли люди, что она с вами.
Серов не мог поверить ушам. Этот тип влюблен в его жену?!
Усовский директор всхлипывал:
— Я больше вас не побеспокою… — заикался мужчина. — Простите!
— Тебя прибить? — хмуро спросил Серов.
— Я рад за вас, — шмыгал носом директор. Отек от удара сполз с глаза на щеку и сделался лиловым.
Иван Александрович нажал кнопку скрытого звонка, в дверях появился подполковник.
— Вези обратно, — велел генерал. — Чтоб я про тебя забыл! — напоследок проговорил он.
Когда директора увели, Серов долго тер виски.
«Надо ж, втюрился в Аню!»
Он больше не злился, ему было даже приятно, что его жена так гипнотически действует на мужчин, даже на таких прожженных. Не случайно Нина Петровна удалила ее с дачи. Иван Александрович самодовольно заулыбался:
— Она у меня клад! Моя и только моя девочка!
Генерал набрал дачу. Анюта уже вернулась от подруги.
— Не будет гусь лапчатый больше тебе надоедать.
— Ты ему плохо не сделал?
— Ничего я не сделал, хотел врезать промеж рогов, но сдержался, — соврал Иван Александрович. — Поговорили по-мужски. Он объяснил, что из Управления делами велели елки везти, ну, он и привез, подхалим засратый!
— Бог с ним, я его давно простила. Не было бы его, я бы тебя не встретила! Ты домой едешь?
— Лечу!
13 декабря, четверг
У Хрущева разболелась голова, Президиум ЦК прошел на повышенных тонах. Шепилов доложил, что в Организацию Объединенных Наций приняты 18 государств: Албания, Финляндия, Монголия, Трансиордания, Ирландия, Португалия, Венгрия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Цейлон, Непал, Ливия, Камбоджа, Лаос, Испания, Япония. Из них всего пять социалистических, хотя Цейлон, Непал, Ливию, Камбоджу, Лаос и Финляндию можно постепенно перетянуть на свою сторону, но ведь это целое дело, и перетянешь ли всех? Молотов задавал Шепилову каверзные вопросы, давил, стремясь доказать, что Дмитрий Трофимович абсолютно некомпетентен на посту министра иностранных дел.
На сто миллионов долларов утвердили кредит Афганистану. Колоссальные деньги, но Афганистан, бесспорно, станет надежным союзником, к тому же он — сосед. Коммунистическую Россию, как независимое государство, афганцы признали первыми. А какой теплый прием был в Кабуле, точно как в Индии, машину Булганина и Хрущева чуть ли не тянули на руках! Хорошие отношения сложились с Суданом, там СССР готовился добывать уран. В Судан также условились послать деньги.
Булганин внес предложение сократить 31 декабря рабочий день на два часа.
— Да как сокращать, если траты кругом! — завопил Каганович. — Нельзя сокращать!
— Не время расхолаживаться! — прорицательно бросил Маленков. — Я без лимита часов работаю, сижу на работе с утра до ночи.
— Народу надо идти навстречу! — высказался Микоян.
— Потом никого работать не заставишь! — не уступал Молотов.
— Давайте сократим, Вячеслав Михайлович, ведь праздник! — настаивал Николай Александрович.
— Ты еще скажи субботу выходным сделать!
— Это нет, нет!
— Торопимся, по-моему, — высказался Ворошилов. — Может, на следующий год так поступим.
— И субботу надо делать выходным! — буркнул Булганин.
— Нарушаем регламент, в повестке дня эти вопросы не заявлены! — оборвал полемику Молотов.
После бурного обсуждения приняли решение отменить плату за обучение в старших классах школ, а также в высших учебных заведениях и профтехучилищах. Плата эта была установлена при Сталине. Также о новогоднем приеме в Кремле переговорили, решили позвать на прием иностранных послов с женами, чтобы лишний раз продемонстрировать открытость и лояльность.
— А иностранных корреспондентов не звать! — прорычал Молотов. — Нечего им в Кремле делать, все равно наш праздник очернят!
— Поддерживаю! — кивал Ворошилов.
— А как в Индии было, что особо запомнилось? — поинтересовался Каганович, который без конца колесил по стране, а вот за границу за год так и не выбрался.
— Есть там чудеса, Лазарь Моисеевич, много чудес. Посмотрели великолепный дворец в Агре. Оказывается, он построен узбекскими мастерами во время четвертой династии Моголов, — блеснул знаниями Никита Сергеевич. — Еще магараджу видели. Индусы к прежним хозяевам гуманно относятся, не пустили в расход, как мы.
— Что магараджа?
— Прощелыга! — заключил Хрущев. — В целом поездка стоящая, к социализму индусы тянутся. И послы наши на месте, я нашими послами в Индии, Бирме и Афганистане доволен, четко работу ведут. За эти двадцать дней мы с Николаем Александровичем 29 тысяч километров пролетели, думаю справедливо летчиков и чекистов наградить и выдать по премии.
Отчет Булганина и Хрущева по итогам поездки в Индию, Бирму и Афганистан признали положительным. Постановили, что с новогодним обращением к гражданам по радио обратится Климент Ефремович Ворошилов.
По дороге домой Хрущев с Булганиным как всегда ехали вместе.
— Ты видал, как Молотов круто поворачивает: это так, а тут — так! Сошел с рельс!
— Да, закусил удила. Злится, что мы его никуда не берем, — определил Николай Александрович.
— И хер с ним!
Николай Александрович покорно пожимал плечами.
— Мне б, Коля, про украинские рубахи не позабыть, завтра Косыгину про них скажу.
— Про какие рубахи? — не понял Булганин.
— В Бирме пообещал. Отошлем туда штук пятьсот, может они станут подобные шить. Ведь удобные какие! Я в украинской вышиванке все лето проходил, одно удовольствие!
— Не дури! — нахмурился Николай Александрович.
— Чего? Я серьезно!
24 декабря 1955 года, суббота
Компания на охоту подобралась, что называется, замечательная: председатель Совета министров Николай Александрович Булганин, героический маршал Георгий Константинович Жуков, председатель Комитета госбезопасности Иван Александрович Серов, миротворец, который за всю жизнь не убил ни одно животное, Анастас Иванович Микоян, молодой Сергей Хрущев и, разумеется, руководитель охоты — Никита Сергеевич. Мороз не был сильным. Снег накануне присыпал землю и стих, ветер успокоился, столбик термометра показывал минус три.
— Ле-по-та! — пропел маршал Жуков, оглядывая припорошенные деревья.
— Зима, крестьянин торжествуя, На дровнях обновляет путь, Его лошадка, снег почуя, Плетется рысью как-нибудь!— продекламировал Иван Александрович, пропуская вперед Первого Секретаря и Сережу. Сын шел за отцом, нес два его ружья и одно свое.
— По коням! — скомандовал Хрущев и повернул к саням, которые ожидали охотников. — Давай к нам, Анастас Иванович! — завалившись в первые, позвал он.
Жуков и Серов поехали следующей подводой.
Укрывшись тулупами, охотники пригрелись в санях и замерли глядя вверх: над ними проплывали пушистые ели; искрученные непогодами ветки-руки великанов дубов; тонюсенькие, навеки озябшие, покрытые, словно цыпками, осины; стволы белокожих берез и низкие дымчатые облака, устилавшие небо от края до края. Лошадь тянула упряжь весело, скоро.
— Вот тебе и лошадка! — восхитился Сергей. — Сколько груза везет, и сани, и нас!
— Одна лошадиная сила! — усмехнулся Микоян.
— На лошади ехать приятно. Лошадь существо одушевленное, не кусок железа, — заметил Никита Сергеевич.
— Не понимаю, как металлические штуки по земле двигаются? И летают, и плавают, ешь их мать! — выразил неодобрение Микоян. — Скоро весь мир станет железным.
— Главное, чтобы человек железным не стал, чтобы сердце не проржавело, — отозвался Никита Сергеевич.
Ехали на номера. Егеря с утра проследили зверя, а значит, осталось стрелкам занять позиции и притаиться. Загонщики целенаправленно погонят сохатых на охотничью цепь.
— Смотри, парень, не зевай! — предупредил сына Хрущев.
Рядом с Анастасом Ивановичем обязательно ставили офицера, ведь точно знали, что стрелять Микоян не будет.
На охоте Никита Сергеевич превращался в хищника — мог без передышки уничтожать кабанов, лосей, оленей, медведей, волков, косуль, зайцев, уток, глухарей, фазанов — да всех, кто появится на мушке. Во время охоты его бесполезно было о чем-либо спрашивать, окликать, в азарте он бы не отозвался, им управляло животное буйство и непреодолимое желание убивать. Зажав крепче ружье, Хрущев чувствовал себя карающим демоном, отрешенным от всего мирского.
Встали на номера. Первым был Микоян со спутником-офицером, дальше Николай Александрович Булганин, потом Хрущев-младший, которого беспрерывно инструктировал отец. За Сергеем спрыгнул с саней и ушел за деревья маршал Жуков. Он прислонился к стволу большого дерева и затих — кто его знает, сколько придется сторожить? Серов притаился следующим. Самым последним занял позицию Никита Сергеевич. Охотники растянулись в цепь. Освободившаяся от седоков лошадка фыркнула, санки укатили, все затихло кругом, замерло — ни звука. Прозрачный зимний лес предстал абсолютно неодушевленным, безжизненным и одиноким. Казалось, все обитатели покинули его, схоронились в дуплах, норах, берлогах, перебрались в иные широты, где безраздельно властвует свет.
Затерявшись среди больших и маленьких елок, Сергей застыл как вкопанный, в любую минуту на него может выскочить зверь.
«Ждем лосей! — предупреждал отец. — Телят и коров не бить, бей сохатого, с рогами. Всех, кроме лосей, пропускай!»
Теперь сын стоял среди леса, поджидая этих самых сохатых.
«Зачем убивать их? Какая необходимость?» — размышлял он.
Однажды, когда гуси летели на юг огромными стаями, набили птиц больше сотни. Кухню тогда завалили гусиными тушками, которые надо было ощипать, выпотрошить, осмолить. Всех женщин — и уборщиц, и садовниц, не говоря о подавальщицах и поварах, привлекли к работе. В духовке запекли четыре птицы, но за вечер, проведенный с гостями, не смогли осилить и половины. Каждому приглашенному — Жукову, Серову, Микояну и Леониду Брежневу, который приехал из Казахстана, передали по десятку гусей, и каждому работнику дачи по птице перепало. А теперь — лоси, безобидные, миролюбивые существа. Чем они виноваты?
От долгого неподвижного стояния ноги начали отекать, руки, сжимающие двустволку, подрагивали. Сергей взял ружье так, чтобы оружие оказалось стволами вверх, и перебрался на трухлявый пень, который торчал поблизости. Устроив ружье между ног, он продолжал вглядываться в чащу.
Загон уже шел, вдалеке слышались хлопки, улюлюканье, гам. Сережа снял перчатку, протянул руку и зачерпнул снег. Солнце, лишенным жизни сиянием, подсвечивало лес. Стрелок приблизил белый комочек к губам и лизнул, ощутив забытое дыхание детства. Маленьким мальчиком, изображая отважного полярника, он рылся в снегу, умышленно заваливался в сугробы, лизал холодные снежки, тянул в рот сосульки, он снова почувствовал тот же забытый вкус. Скрипнула ветка, юный охотник поднял ружье и взвел курки, повторяя слова отца:
— Телят и коров не бить, бить сохатого!
Но не было никого, ни зверя, ни птицы. Юноша стоял на изготовке так долго, что руки отяжелели, и ружье предательски опустилось. С момента как он приготовился стрелять, прошло всего три минуты!
Справа оглушительно грянул выстрел, потом другой.
— Николай Александрович стрелял. На меня не вышли! — с облегчением вздохнул молодой человек, ему не хотелось становиться убийцей. Студент счастливо улыбнулся и запрокинул оружие на плечо: — Видно, конец охоты!
Лес опять впал в спячку, в полнейшую тишину. Не слышалось больше криков загонщиков, ржания знакомой лошадки. Охотник снова присел на пенек и задумался. Сергей вспомнил Лелю, ее розовые губки, удивительно мягкие волосы, озорные глаза, заразительный смех.
«Она красивая и добрая!» — думал он. Его тянуло к Леле.
Сергей все чаще вспоминал о милой девушке, окончательно позабыв лукавую Ладу. И тут, краем уха, юноша уловил, как хрустнула ветка, он поднял голову — огромный черный силуэт, отделившись от чащи, рванулся в его сторону. Отпрянув от высоченного лося, бежавшего не разбирая дороги, стрелок чуть не выронил ружье. Сережа торопливо вскинул оружие, пытаясь целиться, но лось был уже далеко. Зажмурившись, он пальнул вдогонку, а когда открыл глаза, увидел, как гигантская громада одним скачком скрылась в зарослях. Юноша еще долго стоял не шевелясь, и, казалось, не дышал.
— Стрелял? — услышал он голос отца.
Хрущев шел к сыну.
— Промазал! — признался Сергей.
— Идем, проверим, может в кустах завалился.
Никита Сергеевич двигался по пятам сбежавшего лося.
— Крови нет, — качал головой отец. — Гляди, какими прыжками ушел. Великан!
Сын стоял рядом, разглядывая взрыхленный снег.
— Никто не попал! — утешил начинающего охотника папа. — На Булганина кабанчик выскочил, он его и прибил. Серов с досады пальнул. Два дурака всех лосей распугали. Эй, мазилы, пошли! — позвал Хрущев.
Из-за поворота появились санки.
— Анастас Иванович, ты где?!
— Иду, иду!
— Ванька фраернулся! — тыча в сторону генерала, сказал Жуков. — На хера стрелял?
Серов с досады махнул рукой:
— Думал, напротив меня стоит!
— И Серега маху дал, — кивнул на сына отец.
— Ничего, повторим, — миролюбиво сказал Булганин.
Старший егерь наизусть знал повадки лесных обитателей, ни разу в расчете не сбился. Есть рыбаки, которые лишь взглянут на водоем, сразу определят, где стоит рыба и как ее взять. Так и старший егерь всегда выводил на зверя.
— На этот раз мой будет! — похлопывая по двустволке, заявил Георгий Константинович.
Охота для Жукова не была пустым развлеченьем, он, как и Хрущев, беспощадно убивал. Лишь Анастас Иванович и юный Сергей неудачей остались довольны.
Во втором загоне убили двух сохатых — одного застрелил Никита Сергеевич, другого, более крупного — Жуков. Маршал радовался, что его лось больше, с раскидистыми рогами. Глядя на страшную тушу, Сергей подумал, что это тот самый лось, который спасся от его неумелой пули. Пареньку стало грустно. Егеря начали разделывать трофеи. Никита Сергеевич внимательно наблюдал за их отточенными движениями.
— Смеркается, пора на базу, — высказался Николай Александрович. Темнело быстро, да и заметно похолодало.
— На-ка, глотни! — Булганин протянул Хрущеву фляжку с коньяком. Никита Сергеевич отхлебнул.
— Сереге дать?
Отец покосился на сына:
— Согрейся!
Юный охотник осторожно отхлебнул и закашлялся. Дыхание перехватило. Горло, грудь точно обожгло. Он никогда раньше не пробовал крепких напитков, чуть не выронил фляжку.
— Довольно ему! — строго сказал Никита Сергеевич. — Где санки?
До места доехали скоро. Страшно хотелось есть, почти шесть часов провели на воздухе. Первым делом сняли потную одежду, ополоснулись, переоделись, и, наконец, расселись за столом.
Теремообразный рубленый дом имел столовую в два света с изумительной изразцовой печью. Посреди столовой стоял широкий стол с резными креслами. Приятно пахло деревом. Окна выходили на опушку, которую обступили глухие Завидовские леса. Так и тянулись они вдоль Волги до самой Твери и дальше на многие-многие километры.
С кухни текли вкусные запахи. Не доверяя местным поварам, исполняющий обязанности директора охотохозяйства полковник Маргаритов лично жарил котлеты. Помогал ему помощник Никиты Сергеевича Петр Демичев. Петя оперативно накрутил фарш, подавал полковнику соль и перец, нарезал хлеб, расставлял на столе тарелки. Десяток лосиных котлет аппетитно шкворчал на сковороде. Из подстреленного Николаем Александровичем кабана предполагалось незамедлительно извлечь и пожарить печень. Кабанчик был молоденький, и печеночка, значит, должна получиться отменная.
— Чего вы там возитесь? — подал голос Хрущев.
— Через минуту котлеты даем, а следом печенку. С пылу, с жару! — отрапортовал юркий Демичев.
— Вот они, наши шефы, готовят, хлопочут, а мы — рабы! — рассуждал Никита Сергеевич. — Сидим и ждем, пока есть дадут, пить дадут, ничего сами не умеем. Дело наше нехитрое — ждать. А у них работа кипит, полет фантазии! Привет вам, шефы! — повысил голос Хрущев. — Что за ребята!
— Маргаритов — клад. Зря я его тебе в Завидово отдал, — посетовал Булганин.
— Не мне, а нам. Ты сам сюда наведываешься, — возразил Хрущев.
— Наведываюсь, не наведываюсь, а жалко! Такой расторопный очень пригодится.
— У тебя на подхвате сталинский Резо шустрит!
— Он еле поворачивается, возраст! — вздохнул Булганин. — А Маргаритов с энергией, со знанием дела!
— И мне бы такой сгодился! — высказался Георгий Константинович.
— А генерал Крюков с развеселой женой-певицей? — закрутил головой Хрущев.
— После тюрьмы Крюков уже не тот, — вздохнул Жуков. — Сломали его псы сталинские! Не осталось в Володе прежнего огонька, тяжелый стал, мрачный. Лида, та молодец, словно и не сидела, и поет, и пляшет. Так что и мне б расторопный человек пригодился.
— Забирай! — уступил Хрущев. — Ваня сюда нового управдома найдет.
Хрущев разочаровался в полковнике, оказался он какой-то мелкий, с маленькой душонкой человечек. Перетянул полковник сюда почти всех булганинских баб и подхалимов, сутолоку бесполезную создал, а ведь в Завидово прежде всего — охота, а не приятное времяпрепровождение, где и споют, и станцуют, и не бог весть что сделают. Не допускал близко к себе Никита Сергеевич червивых людей. Петя Демичев, тот без гнилушки, но чересчур толковый для маленького дела.
Подали котлеты и печень.
— Налетай, подешевело! — прогремел Хрущев. — Вот шефы — золото!
— Не хотел кабана бить, а рука точно на автомате — бам! — излагал Булганин, кто по существу сорвал первый загон.
— Ты что, не мог кабана от лося отличить? — хмыкнул Никита Сергеевич. — А если б кошка выскочила?
— Да откуда в лесу кошки? — уплетая печенку, отозвался Николай Александрович. — Зато как славно кушаем!
Сергей нелепо моргал глазами, он почти спал.
— Я пойду.
— Иди, милый, иди! — отпустил отец.
Булганин довольно развалился в кресле.
— Одному человеку операцию делали, — начал он. — Человек этот глаза открывает, смотрит на доктора и говорит: «Вы, доктор, сказали, что операция продлится два часа, а у вас уже борода выросла!» А тот отвечает: «Я не доктор, я архангел Гавриил!»
Охотники рассмеялись.
— И тут церковников приплел! — нахмурился Хрущев. — Где, Коля, ты только анекдоты берешь?
— В сводках читаю! — отозвался Николай Александрович.
В Комитете государственной безопасности ему каждую неделю составляли подборку лучших анекдотов.
— Прям Даль!
Никита Сергеевич смотрел в темь, за окно, ничего, правда, там не различая.
— Завидово! — проговорил он, — В Тверской области самые яростные бои развернулись, ведь подступ к Москве. Сколько лет прошло, а не идет из головы проклятая война!
— Кругом кровь текла! — погрустнел Микоян. — В самом начале совсем туго пришлось, фриц пер напролом, техника уничтожена, военные в панике, солдаты сдаются, города бомбят. Сталин в прострации, он был уверен, что враг с ходу займет Москву. Народ побежал еще до того, как объявили эвакуацию.
— В войну надо было втянуться, — заметил Жуков. — К масштабной и тем более к внезапной войне мы были не готовы. Одним махом нас обтрясли! Побитые части деморализованы, приходилось их заново собирать, бойцов воодушевлять. Знающих командиров не осталось, постреляли их и пересажали, управление войсками нарушено, кругом бардак!
— Бардак! — согласился Анастас Иванович. — В Москве шла тотальная эвакуация, ни о чем другом не думали. Сталин решил создать оборону на Урале, хотя бы там удержаться, искал всевозможные способы для примирения. Берия несколько раз с болгарским послом, гитлеровским посредником, говорил, чтобы мир на любых условиях установить, и с румынами говорили, но Адольф мириться не хотел.
— Тогда минировать Москву приказали! — припомнил Булганин. — Перед тем как сдавали города, все, что возможно, уничтожали, чтобы враг на голое место приходил, а в домах еще жили люди.
— Когда появлялись саперы, — затряс головой Микоян, — случались и потасовки, рабочие не хотели идти в заминированные цеха. В Москве перестали топить, а осень выдалась скверная, холодная, ранние снега ложились и не таяли. За продуктами стояли нескончаемые очереди. Народ чувствовал себя брошенным, люди ходили злые, недовольные. Связь с фронтом оборвалась 16 октября, транспорт в столице остановился, от правительства — молчок. На вокзалах давка штурмовали поезда, на улицах летали вражеские листовки, где писали, что при фашистах жить станет лучше. В паническом страхе каждый думал о своей судьбе. Загрузив машины добром, не обращая ни на кого внимания, начальники увозили из города семьи. Некоторые женщины, что помоложе, стали прихорашиваться, чтобы немцам понравиться. Нашлись такие, кто подумывал подготовить собственную квартиру под проживание офицеров вермахта. Магазины, склады, сберегательные кассы грабили, милиция ни во что не вмешивалась. Разговоры были только одни — немец близко! Кричали, что вражеские танки миновали Кунцево, — вспоминал Микоян.
— Люди есть люди! — пожал плечами Хрущев. — Вблизи противника творилось невообразимое!
— Ругать Сталина уже не боялись, — продолжал Анастас Иванович. — Он и не отзывался тогда. Во дворах жгли благодарности, грамоты, собрания сочинений классиков марксизма-ленинизма. Грузовики, тележки, люди шныряют с мешками, по ночам не горят фонари, тысячи беженцев…
— И мы на чемоданах сидели, собирались в Куйбышев тикать. Каганович уже там сидел, Сталину встречу готовил, — подтвердил Николай Александрович. — Товарищ Жуков положение спас. И я с ним! — задорно докончил он и с обожанием посмотрел на героического маршала.
— И твоя, Николай Александрович, заслуга в победе под Москвой, — подтвердил маршал.
Председатель правительства просиял:
— Москву б мы ни за что врагу не отдали!
— А дядя Ваня по городу бегал и мины под здания закладывал! — ткнул в сторону Серова Георгий Константинович.
— На месте первопрестольная! — потупился генерал, именно ему было приказано в случае прорыва врага взрывать и жечь Москву-матушку.
Жуков подошел к печи, открыл чугунную дверцу топки и стал раскладывать внутри березовые полешки.
— Эй, поджигатель, дай огоньку! — скомандовал он.
Иван Александрович послушно подал спички. Низко наклонившись, маршал поджег бересту.
— Знаете, сколько у Ивана орденов Ленина? — вдруг спросил Жуков.
— Сколько?
— Шесть.
— Ого! — округлил глаза Булганин, у которого был всего один Ленинский орден.
— И у меня шесть, — проговорил Жуков. — А орден Красного знамени у тебя есть?
— Есть.
— Сколько?
— Пять, — смущенно ответил Серов.
— И у меня пять! — отозвался Георгий Константинович. — Смотри, какие с нами люди!
Серов жалостно смотрел на Хрущева, чтобы тот не дал его в обиду.
— В сорок первом обделались, — не реагируя на генерала, высказался Никита Сергеевич. — Сталин тогда купился на сладкие гитлеровские обещания!
— Они с Гитлером были лучшие друзья, — заметил Анастас Иванович. — Не верил Иосиф, что Гитлер нападет. С тридцать девятого года Советский Союз был реальным фашистским союзником. На Германию приходилось 55 % экспорта, по некоторым позициям, таким как нефть, металл и зерно, доходило до 80 %.
— А сколько немецких военных кораблей в наших портах стояло? Мурманск целиком был немцами забит. Фашисты свободно пользовались Севморпутем. А хваленый адмирал Кузнецов ходил под ручку с гросс-адмиралом Редером! — раздражался Жуков. — Сколько сигналов шло: Гитлер стягивает к границе войска, летом фашист атакует! Даже дату начала войны называли, а Сталин молчал!
— Скажи, Георгий, как ты в такую панику порядок в Москве навел? — обратился к Жукову Булганин, которому не терпелось снова выставить себя героем.
— Порядок одним движением курка наводится, забыл, что ли?
При Жукове дисциплина была железная. Николай Александрович поднял рюмку:
— За маршала Победы Георгия Константиновича Жукова!
Все взяли бокалы и выпили. Булганин придвинул глиняную плошку с солеными помидорами и, подцепив ближайший, целиком отправил в рот.
— То, что надо! — с набитым ртом нахваливал председатель Совета министров.
— Не забыли, как товарищ Сталин помидорами бросался? — припомнил Микоян.
— Он чем угодно бросался: и помидорами, и огурцами! — закивал Николай Александрович. — Один раз мне в лоб котлетой угодил. Ну, смеялся, подлец!
При слове «подлец» присутствующие стали истошно хохотать.
— Раньше никому бы в голову не пришло назвать Сталина подлецом, — вытер непокорную слезинку Анастас Иванович.
— Не иначе, как гением всех времен, отцом, учителем и лучшим другом товарища Сталина величали, — выпалил Никита Сергеевич. — Давайте ребята, закусывайте! А где наши шефы? Эй, шефы, вы где?
— Идем, идем! — послышалось с кухни.
— Что вы там застряли, суп с воробьями, что ль, делаете?
Завидово еще не благоустроили. Этот первый дом, где происходила трапеза, планировался не для первых лиц, а для руководителей рангом ниже. Советское руководство и главы иностранных делегаций должны были располагаться в особо комфортабельных условиях. Основное здание только планировали строить, так же, как островерхий широкий терем для шумных застолий. Для терема этого уже разметили площадку и после зимы, собирались закладывать фундамент. На будущий год на берегу Волги должен появиться полностью законченный объект, при этом здания будут стоять обособленно, то есть находиться хотя и рядом, однако не в зоне прямой видимости. Такое размещение Никита Сергеевич подсмотрел на острове Брион в гостях у Иосипа Броз Тито.
Хрущев подошел к окну и выглянул на двор. В свете фонаря снег перед домом лежал белый-белый, пушистый-пушистый.
— Метет? — поинтересовался Булганин.
— Стихло, — не оборачиваясь, ответил Никита Сергеевич. — Помнишь, как Сталин не разрешал снег возле дома убирать, чтобы следы видеть и наверняка знать, что к нему никто не пробрался?
— Каждый вечер перед окнами следы выискивал. Не знали, где ему на ночь стелить, никогда не говорил, где ляжет. Так в четырех местах и застилали.
— Жил Иосиф, как пес. Никому не верил, всех подозревал.
— Может так и надо, когда властвуешь? — предположил Николай Александрович.
— Эй, философы! — позвал Жуков. — Давайте жахнем!
— Я — за! — отозвался Булганин. — Только водку пить не буду, мне коньяка налейте!
От спиртного у Хрущева приятно кружилась голова.
— Давайте на следующие выходные в театр пойдем? Давненько мы в театре не были! — предложил он.
— Булганина туда волоком не затащишь, у него теперь новая пассия, — высказался Жуков. — Серовы вот-вот родят, Ване дома находиться положено, да и мы с Галей над ребенком каждую ночь трудимся, так что идти тебе в театр одному.
— Тогда отменяется театр, — разочарованно просопел Хрущев и принялся наполнять рюмки.
— Нина Теймуразовна из тюрьмы письмо написала, — сказал Николай Александрович.
— Сидит? — нахмурился маршал.
— Сидит.
— Нехорошо, — покачал головой Микоян, — неправильно.
— Отпустим! — высказался Хрущев. — Ты, Коля, не возражаешь?
— Нет.
— Георгий Константинович, а ты?
— Не живодер, можно отпустить. Только в Москву пусть не лезет.
— Ты, Ваня, с Руденко, с прокурором, этот вопрос обсоси, решите, как лучше сделать, — распорядился Никита Сергеевич. — А Серго, сын Лаврентия, где?
— С женой и детьми, в Челябинске, в ссылке.
— Отправь мать к нему!
— Они просят фамилии сменить. С фамилией Берия жить как-то неудобно, — доложил Серов.
— Так в чем дело, меняй!
— Хотел согласовать.
— Считай, согласовали. Ведь так, ребята? — посмотрел вокруг Хрущев.
— Принимается! — отозвался Жуков.
— А Василий что? — вспомнил про сталинского отпрыска Микоян.
— При Сталине к детям и женам «врагов народа» снисхождения не было! — жестко взглянул Жуков. — В лучшем случае лагерь, а нет, так и пуля!
— Мы не Сталин, — за Микояна ответил Булганин. — Дети здесь при чем?
— Надо б и с ним решить, отправим в ссылку, в Горький или в Ашгабат, так справедливо будет, ведь два с лишним года Вася за решеткой, — высказался Николай Александрович и потянулся за рюмкой.
— Молотова придется уламывать, — заметил Хрущев.
— Так что?
— Попробую!
Хрущев взял мандарин, почистил, разделил на две половины, одну оставил себе, а другую протянул Булганину:
— Закуси, Коля!
Николай Александрович допил коньяк и сунул в рот мандарин.
— Приятно, что мы сегодня порядок наводим, но скажу честно, Сталин с Молотовым палку перегнули! — проговорил Жуков. — А ведь поражениям в войнах мы обязаны только им, они кадры военные изничтожили!
— А сколько гражданских «врагов» нашли? — вздохнул Микоян.
— Что ни говорите, а Сталин — фигура глобальная, ее обрушать нельзя! — замотал головой Булганин. — Не все при Сталине было плохо, не все!
Хрущев, как ужаленный, подскочил на стуле:
— Что — не все?!
— Дети рождались! — заявил Николай Александрович.
— Товарищ Булганин, не переставая, о детях думает! — хмыкнул Жуков.
— Он не о детях, а о процессе деторождения думает! — смеясь, уточнил Анастас Иванович.
— Ну вас к лешему! — отмахнулся председатель правительства. — Вы такие истуканы, что ничегошеньки не понимаете! Зачем на охоту ехали — развеяться, а тут, такого страху нагнали, кисель стынет! Я спать пойду, завтра вставать рано!
Охотники стали расходиться.
За окнами поднялась метель, колотил в ставни декабрьский хмурый ветер. Где-то под крышей что-то шаркало, стучало, видно, не закрыли, как следует, слуховое окошко, или остались по обыкновению от строителей на чердаке брошенные в суматохе обрезки досок, поломанные инструменты, да пустые коробки, которые со злостью тормошил упрямый сквозняк. Россия утопала в снегах, в морозах, молилась о Божьем благословении и засыпала, убаюканная пургой.
Нелегко было в войну и после войны — не легче. Разруха, нищета. Лишь одно существенное преимущество после войны несказанно радовало — пули не летали, не рвались над головой снаряды, не содрогалась земля от бомбовых ударов, не вздрагивала от человеческих смертей. Закончилась война, казалось, пережили самое страшное, но как дальше выживать? Рядом ходил голод, пугал своим зловещим присутствием. Действующая армия худо-бедно обеспечивалась, областные центры с перебоями, но снабжались, а в глубинке ревели горючими слезами жены и матери — нечем было кормить ребятишек, отбирали урожаи без остатка, и некуда было идти за помощью.
Страна жила по жесткому распределению, в городах продовольствие отпускалось по карточкам, а в деревнях его и вовсе не осталось. В продолжение нескольких лет стояла страшная засуха. Коммерческие магазины взвинтили цены до умопомрачения, однако и цены не спасали от надвигающегося голода, вызванного регулярными неурожаями. К концу 1946 года не стало хватать хлеба, чтобы отоваривать продуктовые карточки. Выход был один — сократить число тех, кто их получал, и снизить ежедневную норму выдачи. Неработающим выдавалось двести пятьдесят граммов хлеба в день, детям — триста, рабочим и служащим по пятьсот. Хлеб был некачественный, состоящий наполовину из овсяной, ячменной и кукурузной муки, к тому же с добавками. Скоро начались перебои в торговле, невозможно стало даже за большие деньги купить продукты. У магазинов выстраивались бесчисленные очереди, в которых нередко доходило до драк, ведь часами в очередях простаивали люди. Хлеба завозили предельно мало, за хлеб в буквальном смысле приходилось биться. Спецпаек стал манной небесной, спасением. За работу, дающую драгоценный паек, держались обеими руками, и не только руками.
Принудительная сдача хлеба государству привела деревню к катастрофе, после исполнения обязательных хлебозаготовок в колхозах оставались крохи. На трудодень выдавали полкилограмма зерна и немного овощей. Из-за недостатка кормов резали скот. Когда и его съели, начался неописуемый кошмар. Главными жертвами голода стали дети. У детей развивалась дистрофия. В школах ученики падали в голодные обмороки. В еду шло все: корки подсолнухов, желуди. От неправильного питания начинались приступы рвоты. В пищу употреблялись корни трав, камыши. В муку стали добавлять макуху, жмых, на юге — размолотые косточки винограда и даже опилки. Это приводило к тяжелейшим желудочно-кишечным расстройствам, малыши умирали от истощения. Но бежать из деревни было некуда — побег был равносилен преступлению.
А голод наступал. Началось людоедство. В первую очередь стали есть детишек. В ленинградскую блокаду тоже дошло до человечины, не принято об этом вспоминать, но, однако ж, такое было. Начало этого страшного явления лежало за многие сотни километров, в далеких арестантских зонах и каторжных лагерях, откуда регулярно бежали заключенные. А как бежать без провианта? Первое время, особенно летом, беглецы перебивались, а вот на зиму надо было затаиться, отсидеться. На зимовке не пособираешь грибов и ягод, да и рыбы в скованном намертво водоеме не наловишь. Вот и брали с собой живое мясо, подговаривали какого-нибудь доверчивого человека податься в бега, рассказывали, что знают в округе каждую тропку, что за много лет изучили местность до самого Магадана. Верили наивные смелым рассказам, хотелось им вдохнуть вольной жизни. Покупались они доверчиво и уходили с отчаянными головорезами, не имеющими ни стыда, ни совести, а один лишь зловещий расчет. Пережив крушение судьбы, без сердец оставались люди, существовавшие скорее во зле, чем в добре. И если посчастливилось вдруг убежать из лагеря, если не настигла узника пуля, не догнала по следу острозубая сторожевая собака, то, соорудив наспех примитивное место временного пристанища, схоронившись в безлюдье на зимнюю стоянку, в один темный вечер резали, как поросенка, этого несчастного человека, взятого лишь с единственной целью — не пропасть остальным от голода, и образом таким пережидали сбежавшие лютые морозы. Но иногда и самих беглецов-хищников съедали голодные волки. Оттуда и пошло современное людоедство.
И во время войны, когда есть было нечего, когда в блокадном Ленинграде отловили всех голубей, мышей, крыс, кошек, собак и уже мягкой коры на молодых деревцах не осталось, тогда-то и не стали брезговать человечиной. По округе расползался зловонный смрад человекоедения. Нет, не выкапывали из могил тела только-только умерших, а старались съедать свежих, минуту назад живых, превращенных в пропитание внезапным ударом неотвратимого лезвия. Полагалась за такое варварство — смерть, да только кто будет наказывать, когда по улицам разгуливали немощные, почти бестелесные тени? Так и выживали. И в войну, и особо после войны голод мрачно ходил по деревням и дорогам.
Голод, голод, страшны твои бездонные глаза!
Опомнившись, выделив из Госрезерва зерно для тех, кто был на грани истощения, организовывали пункты бесплатного питания, но и здесь осталось место вероломству, часть продуктов не доходила до несчастных, а тайно перепродавалась. Воровство и обогащение любому времени не чуждо. Такова жизнь человеческая, вернее ее печальная, темная сторона. Люди продолжали пухнуть от голода, умирать. После войны, в некоторых местах в Украине, Молдавии и Поволжье массовый характер приняло поедание трупов. Умерших не везли на кладбище, а растаскивали по дворам, прятали на чердаки, в чуланы, сараи, зарывали в сугробы — пусть полежат там, ведь всю домашнюю живность, равно как кошек и собак, давно съели. Когда милиция делала рейды по неблагополучным, истерзанным голодом районам, натыкались на искалеченные тела с обрезанными мягкими частями и конечностями и кастрюли находили с жирными похлебками. Холодела от их вида кровь. «А что делать, родимые, есть-то что-нибудь нужно!»
В борьбе за «счастливое будущее» опустошались деревни, изнывали под гнетом насилия и страха города, все больше становилось сирот, беспризорников, лишенцев, немощных с трясущимися руками стариков и больных старух, но все громче славили несмолкающие голоса провидца и вдохновителя. Мнительный властитель излупцевал народ, исковеркал слова, сердца, надругался над натруженными, не знающими отдыха человеческими телами, но не только над телом человеческим он надругался, а что было гораздо хуже — изуродовал душу.
«Слава товарищу Сталину!» — однажды протянул восторженный голос.
«Слава самому любимому, самому мудрому, самому прозорливому человеку!»
«Сталин освободил народы от рабства!»
«Сталину слава!»
Да, Сталин превзошел остальных: Ленина, Троцкого, Рыкова, Бухарина, Петлюру, Махно, Тухачевского, Молотова, Гитлера. Сталин достроил монумент из человеческих костей и воцарился на них. Сделался творцом, вождем и учителем. Сталиным восхищались. Сталиным любовались. Захлебывались от прилива душевных сил, лишь от одного упоминания его вечного имени. Сталин жил со своим народом, ни на миг не отпуская его. Он, как опухоль, пророс сквозь каждую клеточку живого организма, пронизал каждый уголок, наполняя всякий день своим нетленным присутствием. Ночью вершитель судеб снился покорному населению, днем — мудро управлял им. Нигде, абсолютно нигде нельзя было от гения спрятаться, уберечься, повсюду сверкало твердое, незыблемое, торжественное лицо властителя душ и дум, высились его бесчисленные монументы. Уверовав в нетленную святость, все, от мала до велика, слушали оракула, присягали, влюблялись в него.
Это он, Сталин, прикормил людоедов, взрастил бесчувственных уродов-палачей. Это он сделал миллионы людей сиротами, бессовестно отнимал у детей родителей, у родителей — детей, забирал от мужей жен, от жен отпихивал мужей, похищал у внуков любимых дедушек, заполняя выловленными врагами те далекие лагеря, откуда хоть однажды кому-то удавалось убежать.
«Сталину слава!» — разрывалось радио.
Народу надлежало строить великую страну — мощную, надежную, несокрушимую. Из последних сил люди выковывали тяжелую индустрию, вели тысячекилометровые дороги, пускали вспять реки, падая замертво, переустраивали окружающий мир. Их убедили, что вот-вот настанет эра света, не будет войн, голода, страданий, а мир и счастье посыплются на грядущие поколенья. Люди наконец обретут заветное счастье, и еще крепче будут любить друг друга в неразлучной семье братских народов — русские, украинцы, белорусы, молдаване, грузины, армяне, азербайджанцы, узбеки, туркмены, таджики, казахи, киргизы, эстонцы, литовцы, латыши, финны, поляки, чехи, словаки, болгары, венгры, немцы, румыны, албанцы, корейцы, вьетнамцы, монголы — все, кто готов равняться на великое дело Сталина, наперекор ветрам шагать в едином строю!
1 января 1956 года, воскресенье
Шел снег. Деревья, кусты, очертания домов, сараи, заборы, покосившихся плетни, застывшие вдоль дорожек скамейки, фонари и даже неизбежные спутники цивилизации — ровно идущие от одного населенного пункта к другому, однообразные столбы с провисшими проводами, — все вокруг приобрело необычайную округлость, плавность и неповторимую белизну, так чист и неприкасаем был этот январский девственный снег.
Казалось, снег падал целую вечность — остановив время, валил что есть мочи. Он беззастенчиво заметал новогоднюю ночь, и с раннего утра наседал с утроенной силой. Иногда, за порывами метели, невозможно было различить спешившего пешехода. И вдруг снег окончился, остановился, и точно по волшебству, засияло солнце — заблистало, разламывая хрупкую новогоднюю тишину, омолаживая, озаряя улыбками души людей!
Николина гора была залита солнцем. Леля Лобанова смотрела на реку и улыбалась — как хороша зима! Она ждала Сергея, который обещал приехать к половине двенадцатого, он бы примчал и раньше, но Леля не разрешила, хотела выспаться, любила понежиться в постели. Малые дети, известно, поднимаются рано, не дают спать, будоражат родителей, а вот юноши и девушки любят полежать, понежиться, не открывая глаз, насладиться уютом мягкого одеяла, делая вид, что не проснулись, будто стремясь запастись силами перед долгой взрослой жизнью.
Сергей был на Николиной горе без пятнадцати одиннадцать, он попросил водителя притормозить, не подъезжать к дому Лобановых, не хотел появиться раньше назначенного срока. За время тоскливого ожидания воздыхатель вконец истеребил букетик нарциссов, приготовленный для свиданья. Он первый раз шел к Леле с цветами. Хотя близость их казалась очевидной, они еще не переступили границ — проводили время по-дружески: чинно ходили в театры, два раза были на Сельскохозяйственной выставке, посещали выставочный зал МОСХа. Леля обожала живопись и сама неплохо рисовала. Первое время девушка жаловалась на судьбу, с раздражением вспоминала лживого Сашку, который предпочел ей кривляку Ладу, спрашивала Сергея, что он обо всем этом думает. Сережа больше отмалчивался и только под конец Лелиных откровений называл обидчика негодяем, а вот Ладе Леля дала не одно нелицеприятное определение. Потихоньку сердечные невзгоды отпустили, молодые люди наперебой говорили об истории, науке, литературе, о самом разном. Сергей хвастался, что скоро будет делать космические корабли.
— Ракеты взовьются ввысь и достигнут других миров! — с придыханием предрекал он.
— Я смотрю на Луну и любуюсь! — мечтательно закатывала глаза Леля. — Неужели человек попадет туда? Правда попадет? — она трясла Сережу за руку.
— Попадет!
— Ты такой молодец, что взялся за ракеты!
Разговоры делали их ближе. Сергей не засыпал без того, чтобы не набрать Лелин номер. Телефон у Лобановых стоял в гостиной, а параллельный — на письменном столе академика. У Хрущевых городской номер распределялся на три телефонных аппарата: один — в кабинете отца, другой — в столовой, а последний — перед дежурным офицером, в обязанности которого входило принимать звонки и записывать их в журнал, поэтому, когда звонила Леля, она сразу же натыкалась на казенный голос: «Аппарат товарища Хрущева!» Леля вежливо здоровалась и просила Сережу, дежурный посылал подчиненного искать Хрущева-младшего, ведь ему надлежало неотлучно находиться при телефонах, кроме городского перед ним стояли «ВЧ» и «кремлевка». Леле было неловко разговаривать с сотрудниками хрущевской охраны, и она просила Сергея звонить самому. Каждую ночь он уединялся, занимая удобный кожаный диван в рабочем кабинете отца, и придвигал телефон ближе. Влюбленные могли разговаривать часами, но, сколько бы они ни говорили, им никак не удавалось наговориться.
Когда молодые люди гуляли, Леля постоянно о чем-то рассказывала. Нет, она не была болтушкой или занудой, она говорила увлеченно, ее рассказы захватывали воображение, Сергей совершенно не уставал слушать. В жизни он сторонился знакомств, приятелей у него не было ни в школе, ни в институте. Хрущев-младший вел отшельническую жизнь, много занимался, много читал, любил спорт, нередко гулял с отцом, часто возился с маленьким Илюшей. В незнакомых людях он чувствовал подвох, не верил им. Фамилия Хрущев делала юношу каким-то особым, неприкасаемым, что ли. С одной стороны, повышенное внимание было приятно и удобно, но с другой — очень мешало жить, ведь искреннего общения не получалось. Прохода Сергею не давали. К нему в друзья не набивался только ленивый, с ним хотели общаться и однокурсники, и прочие студенты, и аспиранты, и преподаватели. Учился он «на отлично». Так проявлялась не только тяга к знаниям, она, безусловно, имелась, но скорее учеба «на отлично» являлась защитой, не давала повода сблизиться с ним. Сдал экзамен и ушел без лишних разговоров, пересудов, пересдач, дополнительных занятий, нравоучительных бесед. Пришел-ушел и — точка! Только в семье, в окружении родных, студент оттаивал, превращался в покладистого, любящего человека.
Гуляя с Лелей, часто обходили они пол-Москвы. Встречались обычно в центре, на Малой Бронной. Оттуда по Большой Никитской или, как теперь она стала называться — улице Герцена, попадали на бульвары и двигались к набережной Москвы-реки. Дойдя до Крымского моста, сворачивали вправо, на Садовую, и уже по Садовому кольцу возвращались к Бронным улицам, к дому, где жила Леля.
За время прогулки Леля успевала рассказать, что нового на филфаке. Сергей наперечет знал ее соучеников, подруг, учителей, взахлеб говорила она о современной музыке, предлагая всевозможные пластинки, которые, не скупясь, привозил из-за границы отец, хвасталась занятиями плаванием — два раза в неделю она посещала бассейн; с горечью вспоминала, как в прошлом году, на море, над ней посмеивались, потому что она с трудом держалась на воде, несуразно, точно щенок, перебирая под собою руками, в лицах изображая ребят-обидчиков, передразнивающих: «Плывет по-собачьи!»
— Зато у меня был самый красивый купальник и итальянские солнечные очки! — хвасталась девушка и тут же огорчалась: — А они все равно не обращали на меня внимания, эти ныряльщики с пирсов! Теперь я умею нырять головой, плаваю кролем и стилем баттерфляй, и на спине километр проплыву! А ты хорошо плаваешь?
— Прилично.
— А танцуешь? — еще ей нравилось танцевать.
— Нет, танцевать я не умею. Надо мной тоже подсмеиваются, — признался Сергей.
— Не страшно, танцевать я тебя научу!
В прошлые выходные они тренировались до упада. Леля ставила любимую музыку, подробно показывала движения, доказывая, что в танце нет ничего сложного, тем более в медленном.
— Надо пропускать мелодию сквозь себя, сливаться с музыкой! — объясняла она, и пара с удвоенной силой выделывала причудливые фортели, извиваясь под задорные «буги-вуги», а иногда замирала в медленном кружении. В большинстве своем танцы были быстрые, горячие. Леля выступала так, словно ее завели.
— Запоминай, запоминай!
Сергей старался точь-в-точь повторять каждое движение.
— Нет, нет! Не то, неверно! Ну-ка, пройдись, покажи, как ты ходишь! Еще раз! Приглашай меня! — командовала Леля. — Что за неуклюжая походка? Что за сутулость? Ты должен идти красиво, расправь плечи, подними голову! Нет, нет! Пробуй еще!
В азарте девушка раскраснелась. Ученик покорно подчинялся.
— Не годится, не годится! Еще раз!
У Сергея не получилось. Он покраснел, засмущался, такое с ним случалось регулярно, особенно в компании. От природы юноша был скромным, стеснительным.
— Сергуня! — заулыбалась Леля, подскочила к нему, взяла за руки и, пританцовывая, увлекла в центр комнаты. — Ты должен слегка запрокинуть голову, смотри, вот так, слегка!
Обхватив кавалера руками, Леля приблизилась близко-близко.
— Повторяй за мной! Так, так, правильно! Плечи назад! Видишь, совсем просто! Наступай на меня. Смелее, смелее! Вот! Хорошо, хорошо!
Сергей стал вышагивать уверенней, теперь и поворачиваться, и подавать руку, и обнимать партнершу за талию, и кружить ему удавалось лучше. Леля отступала к дверям, где стояло низкое кресло, садилась в него и командовала:
— Приглашай!
Иногда, принимая неприступный вид, становилась лицом к стене, а партнеру требовалось, вопреки изображаемому сопротивлению, увлечь ее за собой. Сергей был хороший ученик, способный и покладистый.
Они танцевали с диким азартом, а потом, отдуваясь, сидели на диване, но переведя дух, снова ставили пластинки, и отчаянные пляски продолжались.
— Поклон! — требовала Леля.
Сергей кланялся.
— Значительно лучше! Зна-чи-тель-но! — подбадривала учительница.
Когда Леля запрокидывала голову или резко разворачивалась, ее волосы вихрем взлетали, в танце проявлялся жгучий южный темперамент. Оказываясь в объятиях, пусть и в танцевальных, испанка вздрагивала, как будто по ней пробегал электрический ток, щеки розовели. Леля жила в танце, в каждом движении, в каждом аккорде. Сергей чувствовал это и сам загорался всепоглощающим страстным огнем. Магической силой тянуло его к ней. У Сережи появилось непреодолимое желание танцевать, но не просто танцевать, а танцевать именно с Лелей, держать обворожительную подругу близко-близко, положив руки на осиную талию. Леля все больше его влекла, она давно перестала быть хорошей знакомой, приятной собеседницей, глаза юноши смотрели на девушку по-взрослому, по-мужски.
— С Новым годом! — появившись в дверях никологорской дачи, поздравил Сергей и протянул букет истерзанных нарциссов. — Это тебе!
— Спасибо! — отозвалась Леля, приняла букет и трогательно поцеловала молодого человека в щеку.
— Будем танцевать?
— Танцевать? — переспросила она. — Обязательно!
2 января 1956 года, понедельник
Никита Сергеевич развалился на своем стуле с деревянными подлокотниками, на столе перед ним лежала стопка газет. За завтраком он обычно просматривал прессу.
— Американцы воздушные шары с аппаратурой пускают, наши секреты выведывают, — сообщил он жене. — Везде нос суют!
— Ты говорил, мириться с ними будем.
— Сразу не помиришься. Молотов ни с кем мириться не хочет, даже со мной! Ходит, злыми глазами шарит, все с подковыркой, с подвохом!
— Попей чайку! — придвинула чашку супруга.
— Мне, Нинуля, так взбитых сливок хочется! — Никита Сергеевич несчастно сложил губы трубочкой.
— Жирнища какая! — всплеснула руками Нина Петровна.
— Эх, Нина, один раз живем! — вымаливал лакомство муж. Он патологически обожал сладкое, а от взбитых сливок, можно сказать, дрожал.
— Чего Сережа не идет?
— Он к Леле собирается.
— Ну, пусть, пусть, она вроде девка приличная.
— Испанка, — заметила мать.
— Во парню свезло! — скривил слащавую гримасу отец.
— Оставь свои мужицкие штучки! Не уподобляйся Булганину! — отрезала жена.
На стол подали взбитые сливки и мисочку с черносливом. В другой фарфоровой посудинке розовело смородиновое варенье, еще принесли толченый грецкий орех. Урча как кот, Хрущев потянулся к лакомству.
Нина Петровна села напротив.
— Маленковскую дачу достроили, — уничтожая сливки, поведал муж. — Но ехать туда Егор отказался.
— Это его Лерка не пускает, не желает рядом с нами жить. Она теперь у меня враг номер один.
— Номер один, номер два, что за ерунда! — пробормотал супруг. — Не едут и черт с ними! А дача пригодится, найдем, как использовать. Вот возьму и Фурцевой отдам.
— Только не Катьке! — напряглась Нина Петровна. — Все потакаешь, все балуешь!
— Ладно, Фурцевой не дам, пусть в резерве стоит, — подчинился Никита Сергеевич и отставил в сторону пустую креманку. — А Маленков, ишь, гусь — не поеду!
— Затаился, — подсказала Нина Петровна.
— С Маленковым совсем противно стало. Жаль, я его из Президиума не выпер, а ведь мог дожать!
— Разве не Молотов за Георгия вступился?
— Я особо не настаивал, маху дал. Ничего, разберемся. Мне б, Нина, Съезд провести. Столько я жду от этого Съезда! Ребят своих в Президиум проведу, Леню Брежнева, Аристова. Разбавить надо наше гнилое винишко! Не случайно Сталин в Президиум новичков сунул, с расчетом. Вот и я с расчетом. Без расчета теперь нельзя, а то и самому места не останется.
— Не переусердствуй с молодыми.
— Не переусердствуй! — передразнил Никита Сергеевич. — Много ты понимаешь!
— Хватит командовать, я тебе не подчиненный! — отрезала Нина Петровна.
3 января, вторник
Часы пробили десять вечера. Никита Сергеевич выбрался с дивана — телевидение закончило на сегодня работу, и перебрался из гостиной в столовую, где с вязанием сидела жена.
— «Пять минут, пять минут, бой часов раздастся вскоре!» — напевал он.
— «Пять минут, пять минут, помиритесь те, кто в ссоре!» — подхватила Нина Петровна.
— «Пусть летит она по свету, кто запомнил песню эту»… — пели они в два голоса.
— Сбился, слова позабыл! — усаживаясь за стол и придвигая ближе стакан с простоквашей, сокрушался Никита Сергеевич. — Вот песня привязалась!
— Значит, хорошая песня, — ответила супруга.
— И фильм удачный, радостный, побольше б таких.
Накануне по телевидению показали комедию «Карнавальная ночь».
— Раньше, что ни фильм, один Сталин с неустрашимым видом на экране расхаживал, в образе народного артиста Чиаурели, — проворчал Никита Сергеевич.
— Не один Сталин, не скажи! Разные фильмы были, и хороших много, — возразила Нина Петровна.
— Помню, как Довженко-режиссера замордовали, — наморщил лоб Хрущев. — Он сценарий написал «Украина в огне». Украина на самом деле огнем пылала, фашист ее терзал. Довженко хотел патриотический фильм сделать, чтобы фрицев крепче бить. Маленков сценарий прочитал, и Берия прочитал, оба похвалили, но нашелся умник, Сталину нашептал, что там националистический уклон прослеживается, что одну Украину фильм славит. Это Щербаков на Довженко поклеп возвел. Ну не глупость? А на Сталина его болтовня подействовала, сценарий забраковал. И все, фильма нет, и Довженко жизнь отравили. Щербаков еще тот фрукт! Во время войны додумался соревнование на фронте вводить. Нас враг атакует, а он у генералов спрашивает: почему не соревнуетесь? Точно, очумелый! Он тогда ГлавПУР возглавлял, Совинформбюро, Отдел агитации и пропаганды, был Секретарем ЦК, и еще Московским горкомом командовал, во сколько должностей ему Сталин навешал! Никогда я не любил Щербакова. — Никита Сергеевич тер нос, хотел чихнуть, но чихнуть не получилось. Он залпом выпил простоквашу и, поправляя штаны (новая пижама была ему чуть велика), проговорил, обращаясь к жене:
— Бросай свои спицы, пошли спать!
— Сейчас.
— Мы, Нина, крепко за кино взялись, фильмы скоро прямо посыплются! Правильно основатель нашего трудового государства Владимир Ильич Ленин сказал: «Самым главным из искусств является кино!» Мы обязаны все успехи на пленку снимать и кругом показывать! Надо, чтобы народ энергией созидания заражался. Посмотрит человек хороший фильм и сделается лучше. «Мосфильм» станет главной киностудией в мире, американцы своим Голливудом подавятся!
Нина Петровна ласково посмотрела на мужа, хотела успокоить его, ведь ночь на дворе!
Супруги поднялись в спальню.
— Сталин кино любил, — усаживаясь на кровать, продолжал супруг. — Обычно под вечер звонит и кино смотреть зовет. Мы многие картины наизусть выучили, раз по десять их отсмотрели. В большинстве фильмы были на иностранных языках, как правило, на немецком, иногда попадались английские, а языками иностранными никто из нас не владел. Министр кинематографии Большаков переводил. Он, правда, тоже языков не знал, зато знал, какие фильмы будут показывать, списочек из двух-трех картин ему Власик подсылал. Большаков, как проснется, сразу в министерство летит, с переводчиками запрется и фильмы крутит, старается суть уяснить. Кое-что, конечно, запоминал. Вечером сидим у Сталина, кино идет, а Большаков нам своими словами переводит, часто невпопад. Случалось так, что он напрочь забывал, о чем речь, — хихикнул Никита Сергеевич. — В таких случаях бубнил скороговоркой, что на ум пришло, как у того чукчи — что вижу, то пою! Видит — встает герой и что-то балакает. Большаков это так переводит: «Вот он встал, прощается!» Мы над ним умираем, подшучиваем. Особенно Берия подтрунивал, наклонится над толмачом, трясет за руку: «Смотри, смотри! Побежал, побежал!» Смешно было, — вспоминал Хрущев. — Смешно и грустно.
Нина Петровна улыбнулась.
— Аденауэр вина прислал, — сказала она.
— С немцами потихоньку налаживается! — выговорил Никита Сергеевич. — Когда американцы узнали, что Аденауэр в Москву летит, сильно загалдели, как бы коммунисты не перетянули немца на свою сторону. Мы сейчас их пленных отпускаем.
— Хорошо, тогда лошадь канцлера не опрокинула, — заулыбалась Нина Петровна. — Не знаю, кому пришло в голову пригласить старика на охоту, уж не тебе ли?
— Не-е-е! — затряс головой муж. — Булганин виноват. Аденауэра тогда чуть не заморозили, морозяка стоял нешуточный!
— А мозельское второй раз шлет, понравились мы ему, — решила Нина Петровна.
— Капиталистов, Нина, катай, не катай, угощай, не угощай, они свое дело знают туго, наш брат рабочий им не по душе. И Аденауэр хитрющий бес. Все, спать будем! — Хрущев завалился в кровать.
Нина Петровна откинула одеяло, готовясь лечь.
— Помнишь, на месте храма Христа Дворец Советов строить собирались? — спросил муж.
— А как же!
— Сегодня сказал — стоп!
— Почему?
— Невыгодно, слишком велик, — объяснил Никита Сергеевич. — Кто додумался высоту в 450 метров делать?!
— Высоко! Кто ж такое сообразил?
— Архитектор Иофан. Одна фигура Ленина на крыше в 150 метров! Если б подобное сотворили, в пасмурный день и половину Ленина не разглядишь! Москва, Нин, не Сочи, здесь дожди гуляют, солнышко тут — по праздникам, вот и ищи Владимира Ильича в облаках! Неудобно могло получиться. Что-нибудь земное вместо Дома Советов придумаю. Может, бассейн? — неожиданно сказал муж. — Бассейн чем плох? Трудящиеся купаться придут. Такой сделаем, чтобы и зимой работал.
Нина Петровна пожала плечами, но разговор этот продолжать не стала — бассейн так бассейн!
— Наш Сережа, похоже, всерьез с Лелей Лобановой дружит, — проговорила она.
— Правда?
— Да. Это хорошо. Боюсь, чтоб Сергуню дурная компания не закрутила, — вздохнула жена. — Леля вроде девушка серьезная.
— Серьезная.
— Все равно пригляд нужен!
— У семи нянек дитя без глаза! Взрослый, пусть сам думает, — Хрущев помрачнел. Вспомнил первенца, Леонида. Во время войны сын был ранен и попал на излечение в Кировский госпиталь. Там по пьяному делу он застрелил человека, боевого офицера, своего товарища. Напились и, как по молодости водится, стали геройствовать, хвастаться, спорить, кто лучше стреляет. Поставили этому несчастному на голову бутылку — и давай палить, вот Леня Хрущев вместо бутылки в лоб и угодил. По очереди стреляли, сначала с бутылкой на голове стоял Леонид, потом Саша Моторный, второй товарищ-летчик, а после — этот несчастный. Хрущев любил сына, души в нем не чаял, отважный был парень, видный, широкоплечий. Как только враг напал на Родину, не задумываясь, ушел воевать. И тут такое! Сталин чудом Леонида пощадил, наверное, из-за того, что с его Василием произошла подобная печальная история. Василий Сталин, демонстрируя меткость, тоже убил человека. Видно, это обстоятельство Леонида от расстрела и уберегло, но ненадолго — отправили летчика штрафником на фронт. Через две недели, вступив в бой с противником, его истребитель подбили. Сыну спастись не удалось.
— Я не за нас с тобой, я за детей беспокоюсь! — выводя Никиту Сергеевича из оцепенения, проговорила Нина Петровна. — Ты б с детишками хоть иногда общался, при Сталине и то время находил!
— Дурак я, про детей забыл! — грустно отозвался Никита Сергеевич. — Ты, Нина, меня прямо толкай, прямо бей, чтобы я о семье помнил, а то все мозги набекрень!
— Ты хотя бы целуй их чаще, ласкай!
— Иди-ка и ты ко мне, дай я тебя обниму, моя синичка!
6 января, пятница
— Она заикается, — проговорила несчастная мать. — Так заикается, что слова разобрать невозможно. И рычит, как зверь.
Марфа потянула к ребенку руки. Девочка отшатнулась и с истошным рыком уткнулась маме в живот.
— Ну, голос! — отец Василий в ужасе покачал головой.
— Бесноватая! — шепнула Надя.
— Не бойся, Машенька, не бойся! Иди, я тебя по головке поглажу! — позвала ребеночка Марфа.
Семилетняя Маша дико смотрела на калеку.
— Иди, Маша, иди! — подтолкнула ребенка мать.
— Я их комнату святить пришел, так она как завыла! — припомнил отец Василий.
— Не бойся, милая! — уговаривала Марфа и по-прежнему простирала руки к девочке.
— Смотри, чтоб не укусила! — предостерег священник.
Ребенок жутко стонал, подвывал.
— Не хочешь к бабушке идти, не иди! — вздохнула Марфа и опустила свои крохотные ручонки. — Надо гостей чаем напоить, медку предложить, дай-ка, Наденька, нам чаю с медком!
Надя раздала чашки и блюдечки под мед. Верующая с опаской смотрела на тронутую девчушку, которая жалась к матери, пытаясь что-то сказать, только звуки из ее горла вылетали отвратительные, нечленораздельные, точно собачьи.
— Ты-то, — обратилась Марфа к матери, — ее понимаешь?
— За год выучилась.
— А раньше она другая была?
— Как все дети, баловница.
— После того случая началось? — спросила старица.
— Какого случая? — подняла испуганные глаза мать.
— Того, нехорошего? — Марфа как будто буравила женщину глазами, прожигая насквозь.
— Да, после того случая, — побледнев, пролепетала мать.
— И ведь никому ты не сказала о том, не раскаялась! — качала головой Марфа. — Неправильно это, не по-христиански!
— Не сказала! — дрожащим голосом подтвердила несчастная.
— Нам скажи, покайся!
Мать уставилась на старушку и вдруг выпалила:
— Я ребенка своего убила!
Отец Василий чуть не подавился, Надя остолбенела.
— Сделала аборт у бабки в Вяземах.
— Зачем же?! — не сдержалась Надя.
— Не от мужа ребеночка прижила! — всхлипнула женщина. — С тех пор и началось.
— Бог тебя прощает! — ласково проговорила Марфа и погладила раскаявшуюся. — Прощает, Прасковья!
Женщина разрыдалась.
— Попей-ка, попей! — поднесла ей кружку Надя.
Прасковья взяла ее дрожащими руками и стала жадно пить.
— Полегче тебе? — спросила Марфа.
— Остаточки не похоронила, — громко всхлипывала несчастная мать. — Изрубила наверняка дитя злая ведьма и на помойку выбросила! — заскулила горемычная.
— Ну, ну! — утешала Надя. — Позади уж все.
— Бог добрый, он простил! — изрекла Марфа. Она уже гладила по голове запуганного дикого зверька-ребенка, который каким-то образом оторвался от матери и переместился к Марфуше. — Вот тебе, Маша, бубличек, погрызи! — угощала женщина-инвалид.
— Что с Машенькой-то моей будет? — пролепетала заплаканная мать.
— Устроится, устроится! — обещала Марфа. — Ступай с миром, ступай! Что-то подустала я сегодня, уж не обессудь! С Богом, с Богом!
9 января, понедельник
Как уже сообщали новости, после злополучного письма в ЦК во Всесоюзной Академии Сельскохозяйственных наук имени Ленина произошли перемены — президент и вице-президент были переизбраны. Но газеты упомянули о происшествии мягко: «В связи с усиленными работами в области планируемой наследственности, которые не оставляют свободного времени, Трофим Денисович Лысенко оставил пост президента Академии сельскохозяйственных наук». Про Пал Палыча Лобанова, которого незадолго до этого освободили от должности министра сельского хозяйства СССР, определив заместителем в Совет министров Российской Федерации, и которого вслед за Лысенко академики столкнули с поста вице президента ВАСХНИЛ, вообще ничего не сообщалось. Каким-то образом, по недосмотру большинства, Лобанов остался в составе президиума Сельхозакадемии, в отличие от Лысенко, на которого были направлены главные стрелы, заявления о выходе из президиума он не написал. Решением нового президента ВАСХНИЛ за Лобановым сохранили кабинет, вновь избранный руководитель не хотел иметь столь влиятельного врага.
Поначалу академики радовались — избавились от сатрапов! — но Павел Павлович исправно появлялся на каждом заседании президиума, и не просто отсиживался, а принимал самое активное участие: вносил предложения, задавал вопросы, будоражил собравшихся. Экс-вице-президент постоянно просил слова. В «Вестнике ВАСХНИЛ» публиковались его так называемые «труды», мало того, печатались работы ученых, разделяющих лысенковские взгляды. Академики потребовали отставки главного редактора научного издания. Лобанова попытались вывести из президиума — не получилось, бывшего министра побаивались и не смогли набрать нужного количества голосов. Как ни старались сельхозакадемики, не получалось от него откреститься. И хотя Пал Палыч оставался на крупной должности — зампред Совмина России, падение его было сокрушительным, все важнейшие решения по отрасли теперь принимал союзный министр Бенедиктов и его первый заместитель Мацкевич, они напрямую шагали к Булганину и к российскому премьеру Пузанову, совершенно не вспоминая про поверженного Лобанова. Пузанов не стесняясь спускал на Лобанова собак, и было ясно, что долго Пал Палыч в Совмине России не продержится, а рядовой академик и министр — совершенно разные весовые категории. С подачи Александра Михайловича Лобанова принялись критиковать почище, чем ортодокса Лысенко, иногда их фамилии ставили рядом и начинали громить без снисхождения. Научную деятельность Лысенко и его беззаветного последователя поставили под сомнение, требовали передать управление институтом генетики в другие руки. На выпады Лысенко отвечал матом. Лобанов казался непробиваемым, в ответ оппонентам бесхитростно улыбался.
Никита Сергеевич переживал за обоих, но с кулаками кинуться на защиту не спешил, компания нападавших получила абсолютную поддержку Молотова, Кагановича, Ворошилова и Маленкова. Хрущев действовал тактически, он сократил встречи с опальными, резких выпадов в их адрес не допускал, говорил расплывчато: мол, разберемся, посмотрим, надо убедиться наверняка… По его заданию на сторону Лысенко встал Брежнев. Ссылаясь на целину, где прогнозировались немыслимые успехи, Леонид Ильич открыто защищал лысенковские методы. Откладывая в сторону обличительное письмо, которым козырял Пузанов, Брежнев пожимал плечами:
— И дурак может задать столько вопросов, что десять умников не ответит!
В ответ Александр Михайлович скептически улыбался, но нападать на аграриев, как раньше, уже не спешил.
Хотя Лобанов выглядел веселым и беззаботным, Никита Сергеевич наверняка знал, что он чудовищно переживает.
10 января, вторник
На работу Никита Сергеевич приехал раньше обычного, первым делом открыл сейф и извлек оттуда папку, озаглавленную «Круглов». В этой папке лежали документы, компрометирующие министра внутренних дел генерал-полковника Круглова. Папку Первый Секретарь завел год назад, когда Сергея отвергла жеманная Лада. К Круглову Хрущев присматривался давно, прогнивший энкавэдэшник, гулаговец, бериевский жополиз и в целом — приспособленец! Сережа месяц ходил сам не свой, вместо улыбки — несчастные заплаканные глаза, отец бесился из-за сына, именно тогда и поручил Серову искать обличающие министра документы. По крупицам, ведь Круглов, как все высшие работники НКВД, скрупулезно подчищал за собой неприглядные хвосты, папка стала пополняться. Особо гадок был последний документ. На пяти исписанных убористым почерком страницах очевидец рассказывал о кровавом переселении народов Северного Кавказа в Казахстан, в котором «отличился» Круглов. Свидетель, набравшись мужества, пробовал обращаться за справедливостью, писал на самый верх, требовал осудить произвол, призвать к ответу виновных, но в результате потерял работу, чудом избежав тюремного заключения. Хрущев положил документ перед собой:
«В феврале 1944 года я был послан в Галанчожский район Чечено-Ингушской Автономной республики, для участия в организации выселения в Казахстан чечено-ингушского населения. Операция по выселению чечено-ингушского населения проводилась под непосредственным руководством заместителя наркома внутренних дел Круглова, с 23 февраля по 1 марта 1944 года. Я являлся очевидцем фактов массового зверского уничтожения сотнями и тысячами людей, путем сожжения и применения оружия. Так, 27 февраля 1944 года, на хуторе Хайбахой Нашхоевского сельского совета, людям было объявлено о принудительном выселении. На все отводилось несколько дней. Так же было объявлено: кто не сможет в силу преклонного возраста, болезни, беременности или молодости идти в районный центр, на вокзал самостоятельно, их отправят отдельной транспортной колонной, поэтому всем таким лицам надлежит собраться в условленном месте. Таким обманным путем собрали людей — больных, беременных женщин, стариков, детей, инвалидов, а потом, загнали их в большое животноводческое помещение — огромную конюшню, предварительно настланную сеном и облитую горючим, закрыли наглухо двери и подожгли. Там заживо сгорело более шестисот человек.
28 февраля 1944 года, таким же путем, на моих глазах, были преданы сожжению более пятисот человек: стариков, детей, беременных женщин, больных, в том числе инвалидов Отечественной войны, в селе Елхарой, в числе их оказалась мать фронтовика Тимербулатова Калу, которая была вытащена из овчарника дочерью. Многих людей, которых не сумели уничтожить этим путем, расстреливали на месте. Подобные факты зверского уничтожения людей были осуществлены во многих районах Чечено-Ингушской Автономной Республике. После переселения люди десятками, сотнями, целыми семьями умирали во всех областях Казахской ССР от голода и заболеваний. В результате в 1944 году погибло более тридцати процентов переселенного с Северного Кавказа населения.
О фактах зверского уничтожения людей, незаслуженного презрения и унижения в январе 1945 года я написал письмо товарищу Сталину, которое до него не дошло и попало в руки Берии. В первых числах февраля я был вызван в Талды-Курганское областное управление НКВД, где меня спросили: я ли написал письмо Сталину? Я ответил, что да. Тут же начальник отдела спецпоселений Алпысбаев сказал мне, что “если повторишь такое заявление, то головы на плечах носить не будешь!” Вскоре меня освободили от занимаемой должности».
Хрущев отложил бумагу.
— Даже тогда в органах находились достойные люди. А мы с выродками цацкаемся!
Он набрал Булганина.
— Я, Николай, не могу больше Круглова в Совете министров терпеть! Давай материалы на него тебе перешлю, сам выводы сделай, но я уверен, точно как я решишь — гнать его надо в три шеи!
— Работой Круглова я недоволен! — отозвался Николай Александрович.
— Ты обязательно прочти, я прям сейчас их отправлю.
За ужином Никита Сергеевич поделился с супругой:
— Нагнали Круглова. Коля сегодня распоряжение о его отставке издал.
— Куда его, на пенсию?
— На пенсию не получилось. Маленков к себе забрал, они приятели. Будет заместителем министра электростанций. Я б его, гада, на Север упек! Он же палач, и расстреливал, и пытал, просто преступник, которого надо судить! А Маленков Круглова к себе!
— Сам сказал — они приятели.
— По нему, Нина, тюрьма плачет! На Егора доводы здравого смысла не действуют. Я тебе сейчас кое-что зачту.
И Никита Сергеевич прочитал жене бумагу про переселение народов, копию которой он предусмотрительно оставил у себя.
— Страх господний! — содрогнулась Нина Петровна.
— А вот еще.
— Не читай больше, — попросила супруга. — Мороз по коже идет.
— А кому читать, Маленкову? Такое, Нина, надо на каждом углу читать, кричать об этом надо! Хорошо Круглова выгнали, но я его, шакала, из поля зрения не выпущу! И наш Сережка удачно с его дочерью распрощался. Гадкая семья, семья прокаженных!
Нина Петровна сходила на кухню и принесла кружку с темным отваром.
— На-ка, выпей!
— Что еще?
— Успокоительный сбор, тут и валерьянка, и пустырник.
— Если успокоительный, давай! — затряс головой Хрущев, схватил чашку и залпом выпил.
20 января, пятница
В этот яркий солнечный день Светлана Иосифовна получила нехорошее известие. Только что она закончила разговор с последней женой брата, Капитолиной Васильевой. Капитолина сообщила, что Коллегия Верховного суда оставила приговор по брату в силе. Василий Сталин был осужден к восьми годам лишения свободы в колонии строго режима. Повесив трубку, Светлана заплакала, она любила своего непутевого брата, человека по натуре доброго, отзывчивого, но полностью отравленного славой и высоким положением отца. Он потерялся во времени и пространстве, став то ли легендой, то ли наказанием. Под действием пагубных обстоятельств, лести и вседозволенности, которым не мог противостоять, Вася быстро деградировал, превратившись, по сути, в спившегося, потерявшего моральный облик человека. Но все равно она любила его, очень любила, не выпячивая свою любовь наружу. Как теперь будет жить Капитолина? Она, единственная из многочисленных облагодетельствованных им женщин, не отвернулась, не отказалась от Васи. Как будут жить его прежние жены и дети, оставшиеся теперь, и может, навсегда без отца? От разных жен Василий имел двоих детей. Солнце слепило глаза, заливало вытянутую гостиную, из соседней комнаты слышался визг и гомон увлеченно играющих ребятишек: уже семилетнего Иосифа и маленькой Кати. У Светы, как и у брата, с семьей не складывалось. Светлане хотелось рыдать в голос.
После вторичного ареста, когда Васю скрутили и увезли в тюрьму из Барвихи, Светлане Иосифовне позвонил Серов и сообщил, что Василий вел себя недостойно, что сам довел до подобного исхода, что его много раз предупреждали и он всякий раз обещал исправиться, но обещания нарушал, и теперь Никита Сергеевич ничем не может помочь. Света хорошо знала, что случилось в правительственном санатории, она умоляла брата не пить, просила подлечиться, привести в порядок расстроенные нервы, встретиться с Хрущевым. Но он срывался и уже не мог управлять собой.
В мае 1955 года, после вторичного Васиного ареста, Светлане Иосифовне позвонил замуправделами Совмина Смиртюков и сообщил, что ей выделена отдельная дача в Жуковке. Света поехала туда не сразу. Месяц она вообще не вспоминала о даче, отторгала хрущевскую подачку, решила наотрез отказаться от участия ЦК и Совета министров в своей судьбе — живут же миллионы людей без всяких дач и привилегий? Но, получилось так, что во дворе собственного дома она случайно встретила жену Анастаса Ивановича Микояна, которая заезжала на Серафимовича проведать подругу и, увидев Светлану, окликнула ее. Они долго говорили. Ашхен Лазаревна рассказала, что Анастас Иванович и Никита Сергеевич часто возвращаются к судьбе Василия, и Хрущев дал МВД команду, чтобы Васе создали щадящие условия, обеспечили максимальный комфорт, если о комфорте уместно говорить при содержании человека в неволе. Рассказала, что Микояны часто вспоминают Светлану, просила, чтобы она звонила без стеснения, по поводу и без повода. Они проговорили около часа. У Светы на душе отлегло, значит, не все так ужасно, значит, не все люди призраки, значит, осталось у них что-то человеческое, ведь каждый — и отец, и муж, и брат. Микоян, Хрущев, Молотов, Маленков, Булганин, Ворошилов, Каганович — столько раз они бывали в гостях, гладили ее по голове, обнимали Васю, целовали, восторгались. А теперь что стряслось? Почему сейчас сердца выворочены наизнанку?!
Пообщавшись с Ашхен Лазаревной, Света оттаяла, на следующий день собралась на новую дачу, где в ее распоряжении оказались повар, дворник и уборщица. И снова звонил Смиртюков, сообщил, что за Светланой Иосифовной будет закреплена персональная машина, и что ее прикрепили к столовой лечебного питания. Так или иначе, но кремлевская столовая ей пригодится. С продуктами до сих пор было непросто, безусловно, лучше, чем раньше, гораздо сытнее стали жить в городе, но вот разнообразия, к которому с детства привыкли в сталинском доме, недоставало, да еще цены на деликатесы были несусветно велики. Килограмм черной икры, например, стоил восемьсот рублей — почти месячную зарплату рабочего. Столовая лечебного питания была огромным подспорьем, тем более что значительную часть стоимости продуктов датировало государство. С таким обеспечением небольшой аллилуевской семье можно было не тужить. Странно, что после великого отца у Светланы ничего не осталось, ни сокровищ, ни денег. Только вот эта несуразно большая, выходившая на унылую теневую сторону квартира в «Доме на набережной», и неисчерпаемое человеческое любопытство, беззастенчиво глядящее со всех сторон:
«Смотрите, это дочь Сталина!»
«Где?!»
«Да вон идет, вон!» — все в таком роде. И некуда было спрятаться от бесцеремонных человеческих глаз. Дача бы помогла, в лесу, за городом, любопытных было значительно меньше.
И вот свалилось страшное известие — генерал Василий Иосифович Сталин осужден на восемь лет!
Светлана надеялась, что Васе смягчат наказание, заменят тюремный срок ссылкой, потом помилуют, просят. Однако этого не случилось. Если верить жене Микояна, пока в Президиуме присутствует Молотов, уповать на лучшее не стоит.
— Молотов, Молотов! — полночи повторяла Светлана. — Что же Вася сделал вам, Вячеслав Михайлович? При чем тут Вася, или я, или мои дети? Сколько раз вы называли нас любимыми, золотыми? Сколько раз, улыбаясь, гладили и угощали?
Света снова разрыдалась — Василию сидеть долго.
30 января, понедельник
На Лубянку к восьми утра был доставлен усовский директор. Иван Александрович Серов приказал. Когда председатель Комитета государственной безопасности появился в здании, часы показывали без семи девять. Иван Александрович проследовал в кабинет, пробежал глазами оперативные сводки и вызвал помощника.
— Мое поручение выполнил?
— Ильин здесь.
— В приемной?
— Нет. В предбаннике Следственного управления.
— Я разве туда велел?
— Вы не уточнили, а я подумал, что разумней его сразу в Следственное. В прошлый раз вы им очень недовольны остались. — тогда и в этот раз подполковник лично ездил за Ильиным и привозил на Лубянку.
— Чего встал, зови!
— Хочу доложить, что Ильин уже не директор цековского пансионата, — вытянулся подполковник. — Месяц назад его от должности освободили.
— Причина?
— В Хозуправлении ЦК сменился начальник, он поставил на место Ильина своего родственника. Ильин отпуск догуливает. Планируют дать ему санаторий в Железноводске, но вопрос открыт, на него поступает много чернухи.
— Веди его!
Михаил Аркадьевич Ильин стоял перед председателем КГБ, нервно теребя носовой платок.
— Присаживайся! — кивнул Серов, протягивая руку.
Весь сжавшись, соблазнитель прекрасного пола пожал протянутую генеральскую пятерню и присел на краешек огромного кожаного кресла.
— Чай будешь?
— Спасибо, не буду, — голос его звучал гулко, напряженно.
Все естество посетителя напряглось, не ждал он, разумеется, от этой встречи ничего хорошего, а чего же можно ожидать от мужа когда-то обиженной им женщины?
— Значит, попросили тебя с работы? — проговорил председатель КГБ.
— Да, уволили.
Иван Александрович прищурился:
— Кто же нам теперь будет елки возить? Кстати, за елки спасибо, долго они простояли.
Серов смотрел милостиво.
— Я, собственно, пригласил тебя для того, чтобы предложить работу.
— Работу? — растерялся гость.
— Именно.
Михаил Аркадьевич подался вперед, потом встал:
— Хочу вам честно сказать, товарищ министр…
— Председатель комитета, — поправил генерал.
— Извините, это я по старинке. Так вот, по линии Хозяйственного управления ЦК по Усово была проведена проверка. Теперь мне не то что места не предложат, а совсем плохой исход возможен.
— Что ж ты натворил?
— Выявлены многочисленные злоупотребления, — поежился бывший директор. — Конечно, они были. А как освободили меня от должности, так сразу все на меня ополчились, начали жаловаться, письма писать. Неправильно мебель списывал, использовал казенный транспорт в личных целях, незаконно себе премиальные начислил, пил на работе, про девушек сказали, что сожительницам незаконно жилье раздавал, денежно поощрял за счет государства, — понурясь, признался бывший директор.
— Ясно, ясно! — остановил его генерал армии. — Я все-таки угощу тебя чаем, — и он позвонил в приемную.
Через минуту в кабинете появилась миловидная женщина в белом переднике и чепце, которые надлежит носить подавальщицам в госучреждениях, и поставила на столик чайник, чашки с блюдцами и вазочку с конфетами.
— Угощайся! — Серов сел удобнее. — Хочу, чтобы ты возглавил охотохозяйство, куда будут ездить первые лица страны, — объявил генерал. — Объект еще строится. Там надо каждую мелочь предусмотреть, как часы работу отладить, чтобы люди были знающие, не головотяпы, и чтоб никаких фокусов! Опыт у тебя есть. Людей видишь, и вести себя, думаю, научился.
— Научился! — потупился бывший директор.
— Завидово — это не Усово, здесь могут прямо Хрущеву нажаловаться, это учти!
— Я, можно сказать, сейчас под следствием нахожусь! — ошалело пролепетал Ильин.
— Ты мне по существу отвечай: берешься?
Михаил Аркадьевич встал.
— Я, товарищ генерал армии… согласен.
— Сядь! — прикрикнул Серов.
Ильин сел.
— Мы с тобой давние знакомые, так что сработаемся. И, чтоб пьяниц не было, Никита Сергеевич их на дух не переваривает. Завидово должно исключительно радовать. Подчиняться будешь мне, а в мое отсутствие моему заму Миронову.
— Сбоя не будет, товарищ министр! — заикаясь от нежданного счастья, ликовал Ильин.
На этот раз Серов не стал его поправлять, слово «министр» нравилось генералу больше, чем слово «председатель».
— Когда сможешь приступить?
— Когда? Да прямо сейчас!
3 февраля, пятница
Уже два года в Президиуме ЦК муссировалась тема о создании Высшего Военного Совета, органа по своей значимости схожего со Ставкой Верховного Главнокомандования во время войны.
В 1954 году этот вопрос пробовал поднимать Маленков, который в то время занимал пост председателя Совета министров, надеясь сосредоточить в своих руках абсолютное руководство, но на Президиуме он не получил поддержки. Позднее об этом задумался председатель правительства Булганин, ему так же не терпелось стать главным среди маршалов, у него тоже вышла осечка, и тут, Никита Сергеевич решил перехватить инициативу. Он обстоятельно переговорил с Ворошиловым, который номинально являлся руководителем государства, потом в течение недели обрабатывал Булганина, чтобы тот соглашался на заместителя председателя Высшего Военного Совета, объясняя, что его председателем ни при каких обстоятельствах не изберут, так как по должности пост этот должен занять Ворошилов, но Ворошилов обещал отказаться от места только в пользу Хрущева. В Положении о Высшем Военном Совете говорилось, что в случае войны Совет принимает руководство страной, сосредоточив всю полноту власти, а это означало, что одиозные фигуры, а именно: Молотов, Каганович, и чего греха таить, и воинствующий маршал Жуков, который пользовался огромным авторитетом не только среди военных, но и у гражданского населения, будут отстранены от принятия кардинальных решений. Маршал Жуков, возомнив себя вершителем судеб, уже мало кому подчинялся. Булганина он в грош не ставил, не указом для него были ни Ворошилов, ни Молотов, и даже сердобольный Никита Сергеевич не всегда вызывал у маршала угоднические чувства. Булганин дал согласие обсудить на Президиуме Центрального Комитета предложение о создании Высшего Военного Совета, и смирившись дал согласие на заместителя. По разумению Хрущева в Высший Военный Совет должны были войти: Первый Секретарь Центрального Комитета, председатель Совета министров, его заместители, Председатель Президиума Верховного Совета, министры обороны, оборонной промышленности, среднего машиностроения, иностранных и внутренних дел, председатель Комитета государственной безопасности и Секретарь ЦК по идеологии.
Никита Сергеевич проговорил тему с Микояном, и даже Маленков отозвался о целесообразности Совета положительно, однако, обсуждение вопроса пошло вкривь да вкось.
— Война еще не началась! — язвительно заметил Каганович.
— Наша страна изо всех сил выступает за мир, — поддержал Молотов. — А мы какие-то военные советы создаем!
— Не пришло время! — поддакнул Маленков, хотя еще вчера высказывал прямо противоположное мнение. — Если предпосылки к близкой войне появятся, то сразу такой Совет образуем. А сегодня, какая угроза?
— Явной угрозы нет, — дал ответ Молотов.
— Вот видите, явной! — вступил в схватку Хрущев. — А неявная есть. Нам следует обязательно иметь высший орган управления страной на случай войны, он обязательно должен появиться, я это чувствую!
— Мы тоже чувствуем, — с ехидцей выдавил Молотов, — только для создания подобного механизма момент не настал.
— Вы что, Никита Сергеевич, себе очередное военное звание хотите? — резко спросил Жуков. — Если в этом вопрос, так давайте его рассмотрим!
— Дело не в звании, — смутился Хрущев, хотя высокое военное звание ему безумно хотелось иметь. Он мечтал стать хотя бы генерал-полковником. Дружок Булганин вышагивал с маршальскими звездами, Ваня Серов был генералом армии, а у Хрущева в шкафу висел скромный генерал лейтенантский мундир.
— Не стоит народ пугать! — поддержал Молотова Ворошилов. — Товарищ Жуков, — он обратился к министру обороны. — разве на боеготовности Вооруженных Сил как-то скажется создание в настоящее время такого органа?
— Никак не скажется, такое только запутать может. Сейчас в армии абсолютный порядок. Армия готова отразить удар любого противника, а если потребуется, и напасть на врага! Создание Высшего Военного Совета бессмысленное и бесполезное дело, — заключил маршал.
— Видите, Никита Сергеевич, военные, да и члены Президиума считают, что нецелесообразно создавать, — подытожил Молотов. — Предложение опрокидываем!
11 февраля, суббота
В особняке на Ленинских горах, 40, Алексею Ивановичу Аджубею и его жене Раде отвели просторную комнату с видом на Москву-реку. Комната эта была смежной с другой, поменьше, где в детской кроватке спал малыш Никита, во внуке дедушка души не чаял. Между этими двумя комнатами имелись небольшая ванная и туалет. Удобно, но Алексей Иванович очень жалел, что в громадном хрущевском особняке не нашлось для него рабочего места. Единственный шестидесятиметровый кабинет принадлежал хозяину правительственной резиденции Никите Сергеевичу, который им совершенно не пользовался, лишь изредка заходил туда, приспособив помещение под склад бесполезных вещей. Но ведь не придешь к Радиному отцу, не скажешь: «А можно мне в вашем кабинете поработать?» Бред. Не могла в голову заместителю главного редактора газеты «Комсомольская правда» подобная ахинея прийти. В спальне, против окна, Алексей Иванович поставил столик и стал работать за ним.
— Леша себе в спальне рабочее место организовал, день и ночь трудится! — с восхищением сообщила мужу Нина Петровна.
— Из этого парня, чувствую, толк будет! — отозвался Никита Сергеевич. — А как там Никитка?
— Такой хорошенький стал, округлился! — заулыбалась супруга. — Щечки румяные, всем улыбается, просто чудо!
— На меня похож! — расплылся довольный дед.
— Копия! — подтвердила Нина Петровна и отложила в сторону спицы. — Говорят, Анька серовская родила?
— Да, у них девочка.
— Как они живут?! — всплеснула руками хозяйка. — Какая они пара?!
— Пара, не пара, а поженились и живут! — буркнул Хрущев.
— Девке-то двадцати нет, а ему?! — все больше сокрушалась Нина Петровна. — Он ей в отцы годится!
— Ну что такого, Нина, что?! — проворчал муж.
В этот момент в комнате появился Аджубей.
Нина Петровна и Никита Сергеевич замолчали. Хрущев только сел завтракать.
— Приятного аппетита! Не помешал?
— Заходи, Алексей Иванович, присаживайся!
— Благодарю! — отозвался зять и присел сбоку стола.
— Расскажи, как дела?
— Я, Никита Сергеевич, курить бросил, — похвалился Алексей Иванович.
— Курение — отрава из отрав! — назидательно заключил глава семейства. — Ненавижу тех, кто курит.
— Я вторую неделю не курю и чувствую, как организм от дряни освобождается.
— Посмотришь, что через полгода будет! — одобряюще кивал Никита Сергеевич. — Летать будешь!
Аджубей всегда выглядел аккуратно, причесанный, одежда чистая, отглаженная, сидит точно по фигуре. Недаром его мать считалась в Москве портнихой номер один, видно, унаследовал сын от матери чувство изящества — одеваясь просто, выглядел достойно и даже модно.
— Я, Никита Сергеевич, приказ по редакции пробил, чтобы курить ходили на лестницу, чтобы не травили друг друга в помещении.
— Разумно, Алексей Иванович, очень разумно! — похвалил Хрущев. Он называл зятя не иначе, как по имени и отчеству, не допуская фамильярности.
— Сейчас в редакции дышать можно, а раньше — клубы дыма, хоть топор вешай! Я домой приходил с ног до головы прокуренный, точно пепельница, а ведь с нами в комнате грудной ребенок. Теперь за Никитку я совершенно спокоен.
— Никитка загляденье! — вспомнив про внука, просиял Первый Секретарь. — А курево — дурь! Кого про курево ни спрошу, все, что дело дурацкое, соглашаются, а отойдешь в сторону, папиросу в рот тянут! Намедни Родиона Малиновского ругал, а он все равно без табака ни шагу. Народ от курева хрен отучишь! — посетовал Хрущев. — Ты, Алексей Иванович, пригласительный на Съезд получил?
Четырнадцатого февраля в Москве открывался очередной Съезд Коммунистической партии.
— Большое спасибо, передали, — благодарно отозвался зять.
— ХХ Съезд — рубеж между прошлым и будущим! — определил Хрущев. — Скоро в стране все повернется, в лучшую сторону переменится. И ты, Алексей Иванович, станешь свидетелем этих великих событий. Может, напишешь потом, как мы за счастье боролись.
— Обязательно напишу.
— Чай с нами попей. Или тебе кофе? Индусы хороший кофе передали, Микоян расхваливал.
— Мне лучше чай. Я вам еще вот что сказать хотел, — зять робко взглянул на Никиту Сергеевича. — Рада беременна.
— Беременна?! — в один голос отозвались мать и отец.
— Да.
— Ну, друзья! Ну, мо-лод-цы! — выкрикнул Никита Сергеевич и, встав из за стола, принялся обнимать зятя.
Нина Петровна беззвучно всплеснула руками.
— Не сиди, Нина! Давай рюмки, обмоем это дело! Ай, молодец, Алеша! Ай, молодец!
12 февраля, воскресенье
Леонид Ильич Брежнев приехал на Съезд в приподнятом настроении. Он работал уже первым секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Казахстана, был руководителем одной из шестнадцати союзных республик, доверенные люди передавали, что его включили в список Президиума ЦК. Разговоры такие велись давно, а в понедельник ему позвонил сам Хрущев и лично сообщил об этом.
На Казанском вокзале Леонид Ильич вышел из своего шикарного салон-вагона, положенного руководителю республики по должности, и в сопровождении охранников, помощников и фигуристой шатенки, стенографистки Любы, направился к выстроенным вдоль железнодорожного полотна машинам, прибывшим на встречу казахской делегации.
— Так, ребята, грузите мои и Любины вещи в «ЗИС», нам с Любашей еще поработать предстоит. А вы всех наших подберите, подбросьте до гостиницы, — распорядился Брежнев и потянул Любу за собой: — Залезай в машину!
Этим же поездом, только в общем порядке, из Алма-Аты в Москву прибыло тридцать шесть казахских делегатов, еще сорок девять приехали раньше.
— Ничего не позабыла? — похлопывая спутницу по коленке, улыбался Леонид Ильич. — Пока они тут разберутся, мы с тобой мое выступление отшлифуем! В гостиницу! — кивнул он шоферу.
На восьмом этаже гостиницы «Украина» открывался умопомрачительный вид на столицу. Просторный, трехкомнатный, богато обставленный номер был закреплен за ЦК Казахстана. Брежнев останавливался здесь, когда приезжал не один, а в сопровождении спутницы, правда, ночевать, хоть под утро, хоть поздней ночью, исправно возвращался в собственную квартиру на Кутузовском проспекте. Квартира эта досталась ему в 1952 году, когда молодого партийного деятеля избрали Секретарем Центрального Комитета. Отличная пятикомнатная квартира с высокими потолками, двумя ванными и двумя туалетами, чуть более ста сорока квадратных метров, считалась небывалой роскошью. Неторопливым шагом от гостиницы «Украина» до двадцать шестого дома идти было минут двадцать.
«Ночевать только домой, чтобы лишних разговоров не возникало!» — установил за правило Леонид Ильич. Благо и гостиница и квартира находились на одной улице.
Захлопнув дверь люкса, Брежнев задорно притянул к себе Любу:
— Ты, Любаша, стенографировать не разучилась?!
Девушка прильнула к его губам.
— Скидывай с себя все быстрее! — освобождаясь от пиджака, прошептал кавалер.
Люба разделась и послушно юркнула под одеяло.
20 февраля, понедельник
Нюра полчаса примеряла новые туфли, прохаживалась в них, а сейчас красовалась перед зеркалом, специально поставленным на пол.
— Откуда такая прелесть? — умилялась Лида.
— Один человек помог, — важно ответила буфетчица и выставила вперед другую ногу.
— Красотища! — расхваливала подавальщица. — На работу в таких ходить жалко.
— Именно на работу и приду, чтобы все ахнули!
— Про нас шоферня и так болтает, что живем жирно, а ты — туфли надену!
— Больше уважать станут.
— Фурцевский Аркашка, как к себе домой, в буфет бегает, сразу туфли заметит, а ведь он начальницу возит! — наморщила лоб Лида.
— Спецбуфет не для водителей! — важно выдала Нюра.
— Я б с Аркашкой не связывалась, он языкатый. Наябедничает, и выгонят нас в три шеи!
Нюра напоследок прошлась перед зеркальцем, и, усевшись на стул, стала снимать свои дивные туфли.
— Ты права, подруга, ну его к лешему! От Аркашки мы не обеднеем.
— И я про то!
Запрятав туфли в коробку, буфетчица обула старые.
— Давай чайку?
— Можно!
Подруги чинно расселись за столом.
— Гляди, тишина какая! — дуя на горячий чай, отметила подавальщица. — Даже Аркашки не слышно.
— На Съезде все заседают.
— Сегодня мы главные! — хмыкнула Лида. — Почаще б Съезды собирали, а то убегаешься! Чай подай! Кофе! Лимон! То молоко холодное, то — горячее, — свихнешься! И, все кому не лень, к начальству пристраиваются!
— Мне особо жена Капитонова противна, — неодобрительно отметила Нюра. — Звонит и своим писклявым голосом надиктовывает! Меньше двух листов никогда за ней не записываю. Повтори! — требует. Я читаю, а она поправляет: «масла оливкового три бутылки поставь, не две; карбоната не полтора, а два килограмма; а морковь вычеркни, морковь у меня есть!» Я, пока заказ приму, столько бумагу измараю! Только сяду начисто переписать, опять звонит. Нет, говорит, включи морковь, оказывается, съели ее, и сахара-песка не осталось, поставь два кило. Может полдня трезвонить, а мне работать надо! — сморщила нос буфетчица.
— Как только начальники с такими едкими бабами живут?
— Как-то живут!
Подруги напились чая.
— Наш хозяйственник недавно вляпался! — загыгыкала Нюра. — Коробку с продуктами в машину пер, а навстречу ему Фурцева выходит. Завидев ее, он, чтоб по стойке смирно встать, свой ящик на каменный пол как ухнет! — и три бутылки коньяка вдребезги! Ворвался в буфет и на меня орать, зачем коньяк вниз положила?! А что я, на фрукты бутылки поставлю? — отвечаю. — Чтоб они клубнику подавили?! Гляжу, поутих. Пришлось ему за новый коньяк платить! — довольно улыбалась Нюра.
— Не обеднеет! У него деньжищ полны карманы, — подметила Лида. — Я один раз на его столе пачку с червонцами приметила, ящик был выдвинут, а другой раз — пачка под стол упала. Деньгами, Нюр, не разбрасываются!
— Нет! — отрицательно замотала головой буфетчица. — Он деньги не считает!
— На казенные мероприятия из бухгалтерии без счета берет!
— Потому и бухгалтерша к нам шастает. Свинка! — похрюкивая, изобразила ее Нюра.
— Получает деньги казенные, а в карман кладет свои!
— Не нашего ума это дело! — отмахнулась Нюра.
22 февраля, среда
От Лобанова, хотя он и стал первым заместителем Председателя Совмина России, сельское хозяйство отняли. Как выразился премьер Российской Федерации Пузанов, Лобанов больше за сельское хозяйство не отвечал.
— Чем же мне заниматься? — недоумевал Пал Палыч.
— Культурой займись, а там видно будет! — изрек Пузанов.
Леля не пошла с Сергеем в театр, она переживала позор и унижение отца. На последней сессии ВАСХНИЛ на Лобанова снова обрушились коллеги, потребовали удалить из президиума Сельхозакадемии. Дело вели решительно. Пал Палыча подвергли чудовищной критике. Непонятно почему, на заседании оказались представители большой Академии, они-то и подливали масла в огонь. Не дали выступить сторонникам Лобанова и Лысенко, профессорам Презенту и Лепешинской, и хотя Пал Палыч в своем получасовом выступлении дал неприятелю достойный отпор, сердце его зашкаливало, приехав домой, он залег в постель. Леля не отходила от отца, а когда через неделю он наконец отлежался и поехал на работу, сломалась сама, рухнула в постель и никого к себе не впускала, ни Дуню, ни приемную мать.
Наутро не находивший покоя, уставший безответно звонить, истерзанный нехорошими предчувствиями Сергей примчался к ней домой.
— Я к Леле! — не допуская возражений, сказал он открывшей дверь прислуге.
— Леля лежит.
— Я ненадолго, я не побеспокою! — настырно проговорил он, не собираясь уходить.
Дуня впустила его, молодой человек скинул пальто, тотчас оказался у знакомой двери и постучал:
— Леля, открой!
Никто не отзывался.
— Леля, открой, это я, Сергей!
— Я болею, лежу, плохо себя чувствую! — раздался из-за двери слабый голос.
— Я должен тебя увидеть! — не голосом, а выкриком души взмолился юноша.
Замок в двери щелкнул, и влюбленный оказался в комнате. На него смотрели большие заплаканные глаза. Он бросился к любимой.
— Не плачь! Все хорошо, не плачь!
По Лелиным щекам беззвучно катились слезки. Сергей гладил ее, утешал:
— Я люблю тебя, люблю! — целуя глаза, шептал он.
И тут, привстав на цыпочки, она поцеловала его, потом еще раз и еще, целовала долго, словно пила и никак не могла напиться. Он приник к любимой близко-близко, всем сердцем.
— Я испугался за тебя! — признался Сергей.
Леля взглянула веселей, глаза ее лучились. Она была прекрасна, молода!
— Ты — как весна! — прошептал юноша.
23 февраля, четверг
Никита Сергеевич ворочался, не мог уснуть. Нина Петровна тихо лежала рядом.
— Нин, спишь?
— Не сплю.
— Я тебе кое-что должен сказать.
— Что? — открыла глаза супруга.
Хрущев зажег настольную лампу и наивно, по-детски, посмотрел на жену.
— Говори, что молчишь?
Муж придвинулся ближе:
— Мы специальную комиссию создали, чтобы разобраться в законности арестов и расстрелов некоторых известных людей. Я ее выводы просмотрел — и волосы зашевелились, все надумано было!
— Как все?
— Так! — супруг тяжело дышал. — Наговоры, вымысел, откровенная ложь — а людей не стало! — Хрущева трясло.
— Успокойся, Никита!
— Не представляешь, как там мучили, просто не представляешь! И я, Нина, те черные списки подписывал, и я с петлей стоял! Бумаги листаю, а страницы кричат: Хрущев, Хрущев!
— Ты?! — изумилась жена.
— Не один я, все мы там отметились, члены Президиума. Но когда на свою фамилию натыкаешься — с души воротит! А ведь я верил, что они враги, вот и писал, а на самом деле — невиновные!
— Что ж делать теперь?
— Надо о сталинском произволе на Съезде сказать. Слышишь меня?
— Слышу!
— Мы Сталина расхваливали, хотели сделать Бога, а получился черт! — прижимаясь к жене, содрогнулся Никита Сергеевич. — На Съезд надо идти с открытым забралом, а мы все хоронимся, недоговариваем. Так я встану и скажу!
— Говори!
— За время, как Сталин умер, многое изменилось. В пятьдесят третьем два с половиной миллиона сидело, а сейчас всего восемьсот тысяч. С поселений больше миллиона на волю отпустили, но как хвалили мы беса-Сталина, так и продолжаем хвалить, а ведь это его рук дело, это он веревкой душил! Товарищ Сталин, вождь и учитель, отец народов! — раскрасневшись, кричал Хрущев. — Слава, Ниночка, растлевает. Вот и превратился всеми любимый товарищ Сталин в изверга! И кто бы сегодня страной ни управлял, какой бы хороший человек ни был, надо так сделать, чтобы тормоза его держали. Не будут тормоза держать — конец социализму!
Хрущев нащупал руку жены.
— Надо, Нина, на Съезде об этом сказать. Нельзя жить слепыми!
— Не побоишься?
— Не побоюсь.
24 февраля, пятница
Съезд шел одиннадцать дней. Делегаты, руководители разных мастей: члены правительства, военачальники; деятели науки и культуры; передовики труда, на которых равняются миллионы советских граждан, в количестве 1349 человек, съехались в Москву. Из пятидесяти пяти зарубежных стран прибыли на Съезд делегации от коммунистических и рабочих партий. Делегаты, почетные гости, ветераны Партии, советские и иностранные корреспонденты заняли места в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Обстановка была приподнятая, в правительстве и на местах появилось много новых руководителей, людей сравнительно молодых, жизнерадостных, и не только в результате молодости жизнерадостных, а еще и потому, что им удалось пробиться во власть: кто-то стал депутатом Верховного Совета, кое-кто получил должность в Совете министров или попал в ЦК. Смерть Сталина, падение Берии, отставка Маленкова привели к бурному обновлению госаппарата, к резкому омолаживанию номенклатуры.
«С молодыми веселей, с молодыми мы сами молодеем!» — любил повторять Хрущев.
Булганин, Фурцева и Шепилов следовали его примеру, и старые кадры редели.
Съезд избрал новый состав Центрального Комитета и Президиум ЦК. В Президиум вошли Булганин, Ворошилов, Каганович, Маленков, Микоян, Молотов, Первухин, Сабуров, Суслов, Хрущев и украинский секретарь Кириченко. Кандидатами в члены Президиума стали Брежнев, Жуков, Фурцева, Шепилов, председатель советских профсоюзов Шверник, первый секретарь Таджикского ЦК Мухитдинов. Секретарями Центрального Комитета избрали Хрущева, Аристова, Брежнева, Поспелова, Суслова, Фурцеву и Шепилова. Вот она, квинтэссенция партии, руководящее и направляющее ядро государства! Вроде бы все, завершался этот обстоятельный Съезд и можно с энтузиазмом трудиться дальше — к «титанической созидательной работе во имя советского народа, во имя коммунизма, во имя мира на всей земле!» — призвал в отчетном докладе Первый Секретарь Хрущев.
Партийные исполины были удовлетворены, в перерыве, в комнате отдыха пожимали друг другу руки, улыбались. Николай Александрович Булганин распорядился налить всем по рюмочке коньяка, присутствующие стали чокаться, умиротворенно вздыхать, загадывая, как проведут предстоящие выходные. Вячеслав Михайлович Молотов блаженно развалился на подушках дивана, по соседству, сложив крест-накрест руки, сидел лоснящийся великан Каганович. Он зевнул и попросил чашечку кофе.
— В сон тянет! — моргал Лазарь Моисеевич.
— И я сплю, — отозвался Молотов. — Ночью просыпался, ворочался. И мне кофе дайте!
Дежурный офицер снял трубку и отдал команду в буфетную, где сию же минуту стали готовить кофе. Хрущев попросил офицера удалиться, встал посреди комнаты и, обращаясь ко всем сразу, заговорил:
— Не доделали мы всех дел, не доделали!
— Что еще? — нахмурился Ворошилов.
— Следует подвести итог сталинскому правлению, — произнес Никита Сергеевич. — Надо выступить перед Съездом и доложить выводы комиссии Поспелова.
— О чем предлагаешь сказать? — сдвинул брови Молотов. Он уже расхотел кофе и недовольно взглянул на Хрущева.
— Правду сказать. О том, как было, какие случались перегибы. Чтобы к нам потом вопросов не возникало. Чтобы никто не упрекнул, что мы сталинский произвол укрыли, и ладно, укрыли, а то скажут, что и сами в нем участвовали.
— Что за вздор! — совершенно проснулся Молотов. — Что было, то прошло! Мы члены Президиума ЦК!
— Нельзя отмалчиваться, Вячеслав Михайлович! Вы виднейший член партии, вы в первую очередь должны меня поддержать, тут вопрос принципиальный. Сколько мы с вами людей за два года из тюрем отпустили? Уйму. А эти люди знают, как дело обстоит, как их без вины виноватых за решетку упрятали и какими доводами признания выколачивали. Кулаками выколачивали! Вернутся они домой и расскажут, как было. Мы сейчас говорим, что Берия виноват, что Абакумов, что Ежов, что вроде это они, а не Сталин подлости делали, и получается, что не Бог виноват, а его угодники, которые плохо докладывали Богу. А потому Бог насылал на землю град, гром и другие бедствия, и народ страдал не потому, что Бог того хотел, а потому, что плох был Николай-угодник, Илья-пророк, Берия и прочие, да только разве поверят нам? Боюсь, не поверят. Сталин виноват, и только он! Тут требуется на место поставить.
— Ты, Никита, сдурел, не пойму?! — возмутился Климент Ефремович. — Открывая Съезд, сам просил почтить память Сталина минутой молчания! А сейчас что удумал? Съезд избрал ЦК, Президиум, зачем людей будоражить? Чего неймется?!
— Пока у всех торжественное, приподнятое настроение, надо сказать о трагических событиях нашей истории, сказать честно. Давайте сбросим с плеч проклятый груз и со спокойной совестью заживем дальше. А если промолчим, в будущем могут не понять наше молчание. Сейчас нужно правду говорить, а не потом. А что Сталин изувер, вы не хуже меня знаете. Сталин осатанел в борьбе с врагами!
— У него было много человеческого! — вступился Каганович.
— И звериных замашек хватало! — поддержал друга Булганин.
— Надо подумать, чтобы с водой не выплеснуть ребенка, — заговорил Ворошилов. — Ведь Сталин вел нас к победам!
— Какой ценой?! — не успокаивался Хрущев.
— Цену отдали большую, — определил Микоян.
— Я согласен, что следует вскрыть неприглядную роль Сталина, — вступил Маленков. — На совести его слишком много грехов.
— Делегаты люди острые, если не мы, то они о Сталине заговорят!
— По-партийному будет! — согласился Николай Александрович.
— Я не настаиваю, чтобы именно я говорил, пусть товарищ Булганин скажет.
— У тебя, Никита, лучше получится.
— Или товарищ Молотов, его трудящиеся уважают.
— Говори ты, только без прений, без обсуждения, просто доведи до сведения факты беззакония. Здесь я Никиту Сергеевича поддерживаю, если промолчим, совсем с другого края может эта история выползти.
— Я бы ничего не говорил! — вклинился Каганович. — И никому говорить не позволю! Что потом будет — это потом, неизвестно когда. Сейчас закроем Съезд и дело с концом!
— Я настаиваю! — наседал Хрущев.
— Для всех твоих добрых дел, Никита Сергеевич, Сталин фундамент заложил! — рявкнул Каганович и стал мрачно оглядывать присутствующих, ища поддержку. Было очевидно, что ни Молотову, ни Ворошилову хрущевская затея не по душе. — Проголосуем! — выкатил глаза Каганович.
— На Съезде любой член партии, а особенно член ЦК и тем более член Президиума, может высказаться. На Съезде нет на то запрета, это не будет расцениваться как выступление вразрез с линией партии. В конце концов, Съезды для того и собираются, чтобы самые болезненные вопросы разрешать. Я, как делегат, имею право высказаться, мне слово дадут! — наступал Никита Сергеевич. — Выступить мне никто запретить не может!
— Ну, скажи, скажи всем, как людей пытали! — выкрикнул Каганович. — Тебя прямо с трибуны ногами вперед вынесут!
— Пусть вынесут и даже пусть судят! — огрызнулся Хрущев. — Буду говорить! Слишком много крови пролилось, я до сих пор в этой крови захлебываюсь! Если меня виновным признают, отвечу!
— Смельчак выискался!
— Пусть Никита Сергеевич доложит, — удерживая Кагановича, вступил Молотов. — Шило в мешке не утаишь.
— Все эти годы мы старались обелить Сталина, отмыть, а ничего не вышло. Сколько черного кобеля не мой, белым он никогда не станет! Я сгущать не буду, — пообещал Хрущев, — но делегаты поймут, что Президиум ЦК для народа открыт, что с Президиумом можно без оглядки идти дальше. Вы бы, Вячеслав Михайлович, мне слово предоставили, тогда бы мой доклад выглядел совсем убедительным. Нам повезло, что мы от перегибов не пострадали, сидим тут, кофей распиваем. Не забывайте, на нас сейчас Запад смотрит!
Аргумент про Запад показался Молотову самым убедительным. После смерти Сталина он хотел закрепить свои личные позиции перед мировым сообществом.
— Выступайте, я предоставлю слово! — уже в приказном порядке согласился он. — Но я по-прежнему отношусь к вашей затее настороженно. Вы много лишнего можете наговорить.
— Полина Семеновна долго в лагере провела, — прищурился Хрущев. — За что? А ни за что, дело ее — сплошной вымысел! Сколько ей подобных пострадало? Не счесть! Молчать о подобных вопиющих случаях мы не можем! Грош нам цена, если промолчим. Своим детям в глаза как смотреть, или, точно страусы — голову в песок?!
— Вольно или невольно все к репрессиям причастны, — кивнул Микоян.
— Раньше обстоятельства заставляли глаза закрывать. Сталин был главным обстоятельством. Чтобы не приписали нас в будущем к его пособникам, чтобы не упала на нас черная тень, я Съезду тяжкую правду донесу. Вы, товарищ Молотов, и вы, товарищ Каганович, и вы, товарищ Ворошилов, и все остальные, уважаемые мною товарищи, члены Президиума Центрального Комитета, должны меня поддержать!
Каганович мертвенно побледнел, ему совсем не нравилась инициатива Хрущева выступить с разоблачениями, но с другой стороны, в этом имелся определенный резон. И Булганин, и Маленков, да и сам Хрущев, впрочем, как и все в этой комнате, приложили руку к смертоубийствам, к кровавой мясорубке, где сгинуло целое поколение старых большевиков-революционеров, и не большевиков, обычных мужчин и женщин, стариков и детей, всех, кто подвернулся под тяжелую руку карателей.
Каганович впился глазами в лицо Никиты Сергеевича: «Лишнего не сболтнет, побоится!» — решил Лазарь Моисеевич.
— Только не надо устраивать спектакль! Будьте кратки, доложите о некоторых ошибках, чтобы Съезду было понятно, что мы действия Сталина осуждаем, — сдался Каганович.
— Я придерживаюсь того же мнения, — поддержал Молотов. — Не стоит поднимать бузу. При всех негативных обстоятельствах Сталин — фигура великая!
— Сказать следует, что при Сталине имели место перекосы, сказать дозированно, ведь столько лет с ним рядом прошагали, — подал голос Маленков. — Будет разумным удалить из зала приглашенных, прессу и иностранные делегации. Это не для чужих ушей.
— Мы должны из черной пещеры выкарабкаться, — заключил Булганин. — Пусть Никита говорит.
— Поддерживаем! — высказался Ворошилов. И он смирился с доводами Хрущева. — А сейчас прошу меня простить, домой поеду, голова кружится, полежу.
25 февраля, суббота
Съезд по существу был окончен, зачем понадобилось проводить дополнительное заседание, делегаты не знали. Многие приехали в Москву в сопровождении жен, некоторые, получив возможность показать родным столицу, взяли в поездку детей. Жены делегатов устремились по магазинам, образовали столпотворение в бюро пропусков кремлевской поликлиники, кое-кто спешил получить заказ-наряд в пошивочную Центрального Комитета. За эти четырнадцать дней делегаты осмотрели столичные достопримечательности, исходили город вдоль и поперек, побывали в музеях, на выставках, в театрах, в цирке, везде постарались успеть, ничего не упустить, словом, было чем заняться. Гостиницы «Москва», «Националь», «Советская», «Пекин», «Украина», «Ленинградская» были полностью отданы под Съезд и еще с десяток других, менее громких гостиниц передали в подчинение Управления делами Центрального Комитета. Гаражи ЦК, Верховного Совета, Совета министров СССР и Российской Федерации, комсомола и профсоюзов, день и ночь обслуживали делегатов.
На этот раз в кремлевском зале было свободно, заседание сделали закрытым, удалили почетных гостей, не видно было делегаций дружественных стран, чьих представителей усаживали на центральные места, никто из журналистов не пристроился в сторонке с блокнотом.
— Через пять минут выходить! — заглянув в комнату Президиума, предупредил дежурный.
Кто-то побежал в уборную, кто-то приглаживал перед зеркалом волосы. Председатель правительства Булганин вежливо кивнул Молотову:
— Пора!
Молотов пошел первым, за ним размашисто шагал Хрущев, следом спешил премьер Булганин, а уже дальше выстроились в цепочку остальные оракулы. Делегаты долго хлопали, приветствуя руководство. Члены Президиума стояли к ним лицом и хлопали в ответ. Молотов успокоил делегатов ладонью, приглашая занять места. Когда все расселись, Вячеслав Михайлович проговорил:
— Президиум ЦК обменялся мнениями и посчитал, что следует коснуться еще одного важного вопроса, опустить который мы не имеем права. Слово предоставляется Первому Секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Никите Сергеевичу Хрущеву!
Хрущев косолапой походкой устремился к трибуне. Делегаты приветствовали Первого Секретаря дружными аплодисментами. Никита Сергеевич занял место докладчика. Он слегка облокотился на трибуну, вглядываясь в счастливые лица людей, приехавших в Москву из различных уголков огромной страны. Зал успокаивался. Хрущев решил не надевать очки, пробуя выступить без бумажки.
— Дорогие товарищи! — начал он. — Подошел к концу наш Съезд. Мы избрали Центральный Комитет, потрудились на славу, многое обсудили, поговорили о важных, самых горячих делах, о том, что собираемся делать сегодня, о том, к чему будем стремиться завтра. Но на душе у меня неспокойно. Болит душа, стонет сердце, — Хрущев коснулся груди. — Уже несколько дней я не нахожу себе места, не сплю, думаю, пройдет наш Съезд, разъедутся делегаты, но останется кое-что недосказанное, а умалчивать друг от друга, мы ничто не должны, не по партийному будет, если всей правды не сказать. Вот я и вышел к вам, чтобы высказаться. Речь пойдет о товарище Сталине. О кое-каких нехороших моментах в его работе. Нехороших, наверное, не самое подходящее слово. Вы скоро поймете, что я имею в виду.
В зале воцарилась тишина.
— Многое, что делал товарищ Сталин, вызывает похвалу, многое — восторги, за очень многое мы ему благодарны, об этом уже в книгах написано и еще больше сказано. Но было такое, от чего мурашки бегут по коже. Вот почему я попросил слова.
Оратор облизнул губы, говорить было трудно.
— Я всегда стоял, а сейчас тем более стою за правдивость, абсолютную правдивость перед партией и всем народом. В правдивости заключается неисчерпаемый источник силы партии, только так можно завоевать доверие людей!
Мы безоговорочно верили в версии, которые создал товарищ Сталин, что в собственной стране мы окружены «врагами народа» и надо с ними непримиримо бороться. Сталин говорил: «Чем ближе мы будем к социализму, тем больше будет врагов». Многие годы, по его мнению, мы находились на позициях обострения классовой борьбы, где рабочие и крестьяне воевали с кулаками, богатеями, эксплуататорами, это впоследствии было теоретически обосновано. Многие годы наша страна, выискивая скрытых врагов, на самом деле воевала с собственным народом, — вымолвил Хрущев. — И врагов, как известно, обнаруживалось много, везде скрывались враги. Ловили их повсюду и рапортовали об успехах бдительных органов, и снова ловили, и снова рапортовали, неописуемая истерия случилась по поиску этих самых врагов народа. Несколько месяцев назад Президиум Центрального Комитета создал комиссию, которой поручил исследовать обстоятельства арестов и казней многих известных людей, разобраться в том, что же было на самом деле. За несколько недель до Съезда комиссия представила в Президиум отчет, а вчера, мы пришли к мнению, что надо обязательно поделиться выводами комиссии с делегатами.
Я не буду говорить по бумажке, тут не до бумажки, дорогие товарищи, я постараюсь своими словами пересказать, — повысил голос Хрущев. — Но сначала, позвольте привести выдержку из письма Бухарина, обращенного к Сталину. Помните Николая Ивановича Бухарина, любимца партии, умницу, соратника Ленина, по его книгам старшее поколение коммунистов изучало основы марксизма-ленинизма, человека, который многие годы стоял на вершине власти? Его приговорили к расстрелу за так называемый левый уклон, за то, что он отошел от линии партии. За несколько дней до расстрела Николай Иванович написал Сталину из тюремной камеры.
Никита Сергеевич все-таки надел очки и обратился к бумаге.
— «Дорогой, милый мой Коба! — Коба, так близкие обращались к Сталину, — пояснил Хрущев. — Милый мой, любимый мой человек! Я стою на пороге смерти. Закрываю глаза в этой страшной камере и понимаю, что уже не живу, что уже нет меня на белом свете. За что? Чем я виноват? Что я сделал? Ты говорил мне писать — я писал, ты говорил мне молчать — я молчал. Что же случилось, почему теперь я здесь, один, очутившийся на краю обрыва, и ждет меня неминуемая гибель?! Спаси меня, Коба! Один ты сможешь спасти, ты-то знаешь, что я невиновен! Я готов к смерти, я прошу смерти, я не боюсь ее — я уже ничего не боюсь, тюрьма и боль от полученных истязаний научили меня не бояться, но, все равно, я люблю тебя, даже здесь, в сырой, тусклой, зловонной темнице, я люблю тебя и буду любить, чтобы не произошло! И даже если завтра меня убьют, продырявят немилосердными пулями, я унесу в могилу эту любовь к тебе, дорогой мой, самый славный мой друг! Но если все же, милый мой, любимый мой человек, ты найдешь возможность спасти меня, пощадить, отправишь куда-то совсем далеко, на край света, где бы меня никто не увидел и где бы я мог помогать тебе, я был бы так благодарен, так счастлив! Помоги мне, Коба, не бросай меня! Я знаю, ты хороший, ты сможешь!»
— Через два дня Бухарина убили, — хриплым голосом закончил Хрущев.
В зале висела гробовая тишина, казалось, никто даже не шевелился, все глаза были устремлены на оратора.
— Мы молились на товарища Сталина, превозносили его, безоговорочно верили ему, и было так многие годы, поэтому очень сложно сейчас говорить обратное, трудно отрешиться от старых понятий и аргументаций, вбитых нам в головы. Вспоминаю 1938 год. Вызывает меня товарищ Сталин и говорит: «Мы хотим послать вас на Украину, чтобы вы возглавили там Украинский Центральный Комитет. Косиор, украинский секретарь, будет отправлен в Москву заместителем председателя Совета министров». Я стал отказываться, мол, не по мне шапка, Украина огромная республика, но Сталин настоял. Приехал я на Украину, а там словно Мамай прошел, все в лучшем случае сидели, а в худшем были уже уничтожены. Не было ни секретарей обкомов, ни председателей горсоветов, не было многих министров, председателя Совета министров Украины и того не было! Даже секретаря Киевского горкома не оказалось, а ведь Киев — столица республики. Киевской областью управлял Евтушенко. Сталин к нему относился хорошо. Я Евтушенко знал слабо, видел в Кремле, когда его вызывали с отчетом или на совещание, но считал, что он вполне на своем месте. Евтушенко мне нравился. Вдруг звонок — Евтушенко в Москве арестовали. Я и сейчас не могу сказать, какие, собственно, были причины для его ареста. Тогда объяснения были стандартные — враг народа. Через некоторое время человек уже сознавался, а еще через какое-то время давал показания, и создавалось впечатление обоснованности ареста.
Оказавшись на Украине, я с трудом подбираю кадры, начинаю работать, а аресты продолжаются. Людей тогда словно тянули во враги. Заместителем председателя Совета министров был прекрасный человек Тягнибеда, вдруг потребовали его ареста, и вскоре его не стало. Теперь в правительстве Украины не было ни председателя, ни заместителя. И по областям — пустота. Особенно плохо было в Днепропетровской области. Днепропетровская область занимала тогда почти треть Украины, туда входило Запорожье и часть Николаевской области. Там руководства вообще не осталось. Я прошу Сталина — дайте руководителя, на Украине совсем кадров нет, все арестованы или расстреляны. А Днепропетровск — это прежде всего металлургия. Скоро страна без металла останется! Подействовало на Сталина. Дали Коротченко. Я думаю, вот хорошо. В Донбассе знающий человек товарищ Прамнэк работает, уголь стране дает, а теперь и в Днепропетровске дела наладятся. Как сглазил. Через день звонит мне Сталин и говорит, что Прамнэк — враг. Скоро Коротченко утвердили председателем Украинского правительства. Теперь позвольте одно маленькое дополнение. — Хрущев неловко вытер выступивший на лбу пот, говорить было трудно. — Просится ко мне на прием один человек, просится и просится, принял. Такой молодой, симпатичный парень. Он рассказал, что работал учителем, был арестован, сидел в тюрьме, только что вышел из нее и пришел прямо ко мне. Он рассказал, что его били и истязали, вымогая показания против Коротченко, убеждали, что Коротченко — агент румынского королевского двора и является на Украине главой румынского шпионского центра. Об этом посещении я сообщил Сталину. Сталин возмутился — как это, наш Коротченко шпион! — и послал проверку разобраться. Разобрались, признали, что оклеветали Коротченко, сфабриковали ложное обвинение. А ведь понятно, что все подобные действия и тем более аресты крупнейших руководителей велись с его личного одобрения, что лично Сталин давал команду уничтожить кадры, а тут смотрите, какую проявил заботу! Следователей, которые вели дело Коротченко, расстреляли. Поступок этот произвел на меня большое впечатление. Вот какой справедливый товарищ Сталин, думал я тогда, одобряя все его действия и расценивая его поступки как решительность в борьбе за Советское государство, за укрепление против врагов, кто бы этим врагом ни оказался. Впоследствии Сталин часто возвращался к случаю с Коротченко.
На XVIII Съезде партии выступали делегаты и порой заканчивали свои речи угрозами Японии: вот, мол, такие-сякие, самураи, мы их! Тогда, вы знаете, с Японией была непростая ситуация. Японцы орудовали в Китае и везде по Азии свои руки тянули. И Коротченко выступал. Он был неряшлив в словах, часто забывал фамилии, многое путал, для него слово «самурай» звучало нескладно, и поэтому он свое выступление закончил так: «Мы этим самуярам зададим перцу!» Сталин его потом иначе как самуяр не называл.
«Ну, как там самуяр?» — спрашивает.
«Связался самуяр с румынским королем», — отвечаю я.
«Или с королевой? — шутил Сталин. — Сколько лет этой королеве?»
«Король там несовершеннолетний, — говорю, — есть королева-мать. Он, должно быть, связан с королевой-матерью».
Это вызывало еще больше сталинских шуток. Конечно, это был смех сквозь слезы, если припомнить существующую тогда обстановку. Не знаю точно, почему у чекистов родилась идея привязать Коротченко именно к румынской агентуре, наверное, очень много было польских, английских, немецких агентов, перебор был с ними, а румынских почти не было. Может и так.
На Украине тогда была уничтожена вся верхушка руководящих работников в несколько этажей. Несколько раз сменялись кадры и вновь подвергались арестам и уничтожению. И было это не только на Украине. Ночь была самым страшным временем, ночью все ждали: «Вот придут, вот придут!» Наутро вздыхали: «Не пришли!» — и радовались. А за кем-то приходили, и завтра придут, и послезавтра. Помните такое, товарищи? — Хрущев устало посмотрел в зал. — Такое забыть нельзя, такое — точно рана на сердце. Я, товарищи, с Украины начал, потому что хорошо там ситуацию знал, и чтобы примеры были точные, но вы подтвердите, что и по России, по всей нашей стране, вакханалия творилась.
Украинская интеллигенция, особенно писатели, композиторы, артисты и врачи, тоже были под пристальным наблюдением, подвергались арестам и расправе. НКВД развило бурную деятельность. Украинский нарком внутренних дел завалил ЦК докладными записками о врагах народа. Нарком внутренних дел на Украине был тогда Успенский. Помню, Успенский поставил вопрос об аресте Рыльского. Я возразил: «Что вы? Рыльский — видный поэт. Вы обвиняете его в национализме, а какой он националист? Он просто украинец и отражает национальные украинские настроения. Нельзя каждого украинца, разговаривающего на украинском языке, считать националистом. Мы же на Украине!» Но Успенский проявлял настойчивость, чуть ли уже не ехали за ним. «Рыльский написал стихотворение о Сталине, которое стало словами песни, — убеждал я. — Эту песню поет вся Украина, а вы хотите его арестовать!» Удалось отстоять Рыльского.
По соседству со мной, на даче, под Киевом жил выдающийся человек, старый большевик, революционер Григорий Иванович Петровский. Я был наслышан о Петровском еще до Революции, ведь Петровский был избран в царскую Государственную Думу от Екатерининской губернии. На Донбассе угольные рудники до сих пор называют Петровскими. У этого легендарного человека приближалось шестидесятилетие, но о нем сложилось мнение, что он нетвердо стоит на позициях генеральной линии Партии, поэтому было к нему отношение настороженное. Шло все это от Сталина. Я сказал Сталину о приближающемся шестидесятилетии, что надо бы его отметить. Хочу спросить, как это сделать? «Шестидесятилетие? — переспросил Сталин. — Хорошо. Устройте в его честь обед у себя дома, вы же соседи? Пригласите его с женой и членов его семьи, и больше никого». Так я и сделал. К тому времени у Григория Ивановича в семье сложилось очень тяжелое положение: его сына арестовали. Я знал его сына. Он командовал Московской пролетарской дивизией. Когда я работал в Москве, то выезжал на праздник дивизии в летние лагеря, Леонид Петровский считался тогда хорошим командиром. Зять Григория Ивановича был арестован и расстрелян. Можно себе представить, какая обстановка сложилась в его доме, и какое отношение к нему: сын сидит в тюрьме, зять расстрелян. Чудом сам Петровский уцелел. Так Сталин дирижировал.
Вторым секретарем Киевского обкома был Костенко. Я совсем мало с ним поработал. Его тоже арестовали. Я удивился: простой человек, из крестьян, зачем ему лезть в дружбу с врагами? Не поверил в его виновность, приехал в НКВД, попросил, чтобы привели его из камеры на беседу. Привели. Я спрашиваю: «Кто с вами был в этом деле?» — «Такой-то был», — отвечает. — «А еще кто был?» — «Больше никого не было. Только мы двое».
Я поразился: получалось, что он действительно враг! Костенко сидел передо мной во вполне спокойном состоянии, все подтверждал, говорил складно, уверенно. Я прямо был ошарашен. Нарком внутренних дел Успенский сказал, что он будет осужден к расстрелу.
В то время были такие случаи, когда люди прямо перед расстрелом начинали давать показания на других. Видимо, им обещали заменить высшую меру, вот они и говорили, чтобы себя спасти, только высшую меру никто им не заменял. Таким образом, создавалась непрерывная цепь врагов. Исходя из этого, я сказал: «Если Костенко вдруг станет на кого-нибудь еще показывать, прошу его не расстреливать, а сохранить, чтобы разобраться в этом деле».
Прошло какое-то время, и Успенский мне сообщил, что Костенко расстрелян, но перед расстрелом он назвал Черепнина, работающего на месте второго секретаря Киевского обкома партии. Черепнин, хороший такой человек, умница, прекрасно знал свое дело.
«Зачем же вы так сделали, я же просил вас сохранить Костенко жизнь, чтобы можно было обстоятельно с ним побеседовать? Сомневаюсь, что Черепнин может состоять в каком-то заговоре. А теперь мы не сможем ничего узнать, потому что того, кто на него показал, нет в живых. Как же можно его слова проверить?»
Нарком НКВД ничего не ответил. Позвонил я Маленкову, товарищ Маленков сидел тогда в ЦК на кадрах, и говорю: «Товарищ Маленков, дают показания на Черепнина, а я не верю, этого не может быть!»
Маленков выслушал меня и отвечает: «Ну что же, не веришь, так пусть и работает».
Спасибо Георгию Максимилиановичу, что он вмешался.
Тысячи невинных людей были в те годы арестованы. Собственно говоря, вся руководящая верхушка страны. Думаю, что она погибла в составе трех поколений руководителей! Партийные органы были совершенно сведены на нет. Хозяйственное руководство было парализовано бесконечными арестами, никого нельзя было выдвинуть без утверждения в НКВД. Если НКВД давал положительную оценку тому или другому человеку, который намечался к выдвижению, только тот и выдвигался. Но и апробация со стороны НКВД никаких гарантий не давала. Имели место случаи, когда назначали человека, и буквально через несколько дней его не оказывалось на свободе. Здесь тоже находились объяснения: появились дополнительные показания какого-нибудь «врага», что он показал на этого человека, и получалось, что тот хорошо замаскировался и поэтому не был своевременно разоблачен и был выдвинут в руководство, оказывалось, что он состоит в заговоре и тоже является «врагом народа». Конечно, это стандартное объяснение, но оно имело свою логику, потому что какой-то арестованный в самом деле давал такие показания. И, таким образом, создавалась замкнутая цепь порочной практики. Смотришь, руководитель какой-то партийной организации разоблачает арестованных, выступая на собрании, а завтра его самого уже нет, что тоже находило объяснение: дескать, он ретиво разоблачал, чтобы скрыть правду, потому что сам был замешан. Вот вам и объяснение! Идеи тут заложены чисто сталинские, ему нужно было уничтожить как можно больше людей, чтобы ввергнуть общество в пучину страха, пучину паники, чтобы, кроме страха, не оставалось у людей других мыслей. Заодно он хотел убрать всех неугодных, чтобы сделаться в стране верховным судьей и верховным пророком.
Приведу еще пример. Жил когда-то на Украине человек по фамилии Фурер. Это была громкая фамилия, а прогремела она, когда я работал уже в Москве в 30-х годах. Фурер был очень хорошим организатором, хорошим пропагандистом и хорошим рекламщиком, умел подать материал. Это он заварил Стахановское движение по перевыполнению плана, и так заварил, что стахановцы не просто стали на виду всей страны, не просто писали, что они били производственные рекорды, они стали настоящими героями. Ударника Изотова из шахты выносили на руках, он за одну смену выполнил месячный план! Фурер организовал не только митинги, но и массированную печать, кино, героев заваливали цветами. Отсюда, собственно, и пошла особая пропаганда таких явлений. Как-то Каганович спросил меня: «Вы знаете Фурера?» — «Знаю по газетам, а в жизни не встречал». — «Мне кажется, это очень способный человек. Вот бы заполучить его к нам, в Москву». И Фурер перешел работать в Москву. Он заведовал агитационно-массовым отделом горкома и хорошо развернулся. Его авторитет был очень высок. Вспоминаю, как позвонил мне Молотов и спросил: «Как вы смотрите, если мы возьмем у вас Фурера? Хотим назначить его руководителем радиовещания».
Я это говорю для того, чтобы показать, что этого человека хорошо знали даже в верхах. И вот однажды, готовились мы к какому-то совещанию. Фурер попросил дать ему три дня для подготовки и уехал за город. Сталина и Молотова в то время в Москве не было, они отдыхали в Сочи. В Москве находились Каганович и Серго Орджоникидзе. Они нередко совещались по различным вопросам, готовили доклады Сталину. Как-то я зашел к Кагановичу, кажется, тогда шел процесс над Рыковым, или над Зиновьевым, а у Кагановича сидел Серго Орджоникидзе. Я решил обождать в приемной, а там уже сидел поэт Демьян Бедный. Лазарь Моисеевич узнал, что я пришел, и вышел в приемную пригласить меня в кабинет, заодно забрал и Демьяна Бедного. Демьяну было поручено выступить против антипартийной группы Зиновьева, стихами разоблачить ее. Он должен был написать басню. Демьян принес три варианта, но ни один не понравился. Кислые были стихи, неубедительные. Его стали критиковать. Демьян, тучный человек, начал объяснять, почему басня не получается: «Не могу, ну не могу! Старался, как мог, но ничего не выходит! У меня вроде как половое бессилие, как начинаю о них, о врагах, думать, сразу творческий подъем исчезает».
Я был поражен такой откровенностью. Демьян Бедный ушел. Мы плохо реагировали на его откровенное признание, что он чувствует бессилие и сравнивает это бессилие с половым. Это означало, что у него существует какое-то сочувствие к тем, кто находился на скамье подсудимых. Естественно, я тогда был не на стороне Демьяна Бедного, потому что верил в безгрешность ЦК и Сталина. Так, вот, возвращаюсь к Фуреру. Вдруг мне сообщают, что он застрелился. Я был удивлен — как такой жизнерадостный, активный, молодой, здоровый, задорный человек — и вдруг закончил жизнь самоубийством? При нем нашли очень пространное письмо, адресованное Сталину и другим членам Президиума. Его самоубийству предшествовал арест Лившица. Лившиц был заместителем наркома путей сообщения. Это был очень активный человек, отличившийся во время Гражданской войны. Когда-то он поддерживал Троцкого, но потом стоял, как считалось, на партийных позициях. Вопрос о троцкизме давно сошел со сцены и уже не являлся предметом диспута. Но именно этот факт лег в основу обвинений Лившица, а они с Фурером были большие друзья. Потом еще кого-то арестовали, близких к группе Лившица и Фурера. Письмо Фурера было посвящено главным образом реабилитации Лившица, автор говорил, что он честнейший человек, ни в коем случае не террорист. Он многое еще написал. В вежливой форме, не оскорбительно, ведь Сталину пишет. Он хотел подействовать на Сталина, чтобы тот изменил свою точку зрения и прекратил массовые аресты. Фурер считал, что арестовывают честных людей. Автор заканчивал тем, что решается на самоубийство, так как не может примириться с арестами и казнями невиновных людей. О Сталине он говорил тепло. Вообще в письме он давал всем членам Политбюро довольно-таки лестную характеристику. Я привез это письмо Кагановичу. Лазарь Моисеевич зачитал письмо вслух. Он плакал, просто рыдал, читая. Прочел и долго не мог успокоиться: «Как это так, Фурер застрелился?!» Тут же Каганович сказал мне: «Вы напишите маленькое письмецо Сталину, расскажите, что и как».
Я так и сделал. Прошло какое-то время, приближалась осень. Сталин возвратился из отпуска в Москву и сразу вызвал меня. Я пришел, совершенно ни о чем не подозревая. Сталин сказал: «Фурер застрелился, этот негодный человек!» — Я был поражен и огорошен. — «Он взял на себя смелость давать оценки членам Политбюро, — продолжал Сталин, — написал всякие лестные слова в их адрес. Это ведь он маскировался! Он троцкист и единомышленник Лившица. Я вас вызвал, чтобы сказать об этом. Он нечестный человек и жалеть о нем не следует!»
Я очень переживал потом, что оказался глупцом, поверил Фуреру и посчитал, что это искреннее письмо, что человек исповедался перед смертью. Он не сказал ничего плохого о партии, о ее руководстве, а написал только, что Лившиц и другие, кого он знал, честные люди. Фурер своей смертью хотел приковать внимание к фактам гибели честных и преданных партии людей. После разговора со Сталиным для меня это было большим ударом.
Теперь скажу несколько слов об открытых процессах над Рыковым, Бухариным, Ягодой, Зиновьевым, Каменевым. Я слушал допросы обвиняемых и был возмущен, что такие крупные люди, вожди, оказались связаны с иностранными разведками и позволяли себе действовать во вред нашему государству. Когда Ягоду, который, как всем известно, долгое время возглавлял НКВД, обвинили в том, что он предпринимал шаги, чтобы крупнейшего писателя Максима Горького поскорее привести к смерти, доводы были такие: Горький любил сидеть у костра, приезжал к Ягоде, а тот приезжал к Горькому, поскольку они дружили. Ягода разводил большие костры с целью простудить Горького, так как у Горького были плохие легкие. От пламени костра Горький то нагревался, потел, а потом охлаждался, даже переохлаждался, что и вызывало прогрессирующую болезнь легких и укоротило Горькому жизнь. Это объяснение было не совсем понятно, я тоже люблю костры и вообще не знаю таких, кто бы их не любил. Человек сам регулирует костер. Горького же нельзя привязать к костру и поджарить! В обвинительном заключении говорилось, что сначала добились смерти Максима Пешкова, сына Горького, а потом умер и Горький, а Ягода играл там самую важную роль. Ягода же соглашался, что он преследовал такую гнусную цель: разжигая сильные костры, хотел смерти Горького. Помню, как прокурор задал Ягоде вопрос: «В каких отношениях вы были с женой сына Горького?» Ягода спокойно ответил: «Я попросил бы таких вопросов не задавать, не хочу трепать имя этой женщины». И прокурор согласился. Такой демократический ход на процессе! Все с виду выглядело очень естественно. Враги в преступлениях признались, а о чем-то своем личном умолчали, и никто за это не уцепился, вроде, как и никакого давления на них не было, одно раскаянье из-за вредительства государству.
Ягода и его подручные сами убивали безнаказанно. Теперь и их казнили. Задумаемся, сколько же было казнено, миллионы!
А, что говорить о процессах над видными коммунистами, стоявшими у истоков Коммунистической партии? Подобные процессы завершались страшными приговорами. Все эти люди были уничтожены как враги народа. Были ли реальные доказательства их вины для суда? Никаких доказательств. По материалам, которые фигурировали в делах этих людей, они не заслужили не только обвинения, но и ареста. О многих из них Ленин отзывался очень лестно, хотя порой и критиковал. Если взять, например, Бухарина, я с него начал, и опять скажу. Мое поколение воспитывалось на его «Азбуке коммунизма». Он много лет был редактором главной пролетарской газеты. Его устные доклады и выступления в печати внесли очень большую лепту во внутрипартийную победу. А из него вдруг стали делать какого-то шпиона, доказывать, что он продавал территорию СССР. Сейчас это выглядит просто сказкой для малолетних, а в принципе несостоятельная клевета!
Хрущев отпил глоточек воды, докладчику всегда подавали стакан с водой, чтобы в нужный момент смочить горло.
— Теперь хочу продолжить рассказ о других фактах, чтобы яснее показать механику подхода и мышление Сталина в период неудержимого разгула культа его личности, ведь, собственно, культ личности Сталина породил все эти беззакония.
Было время охоты на поляков. В каждом человеке польской национальности усматривали агента Пилсудского или провокатора. Иной раз допускались неприятные шутки в отношении евреев, когда поляков было мало, часть евреев переделывали в поляков, объясняя, что они маскируются под евреев, а на самом деле поляки. Все это тоже строилось на выбитых кулаками признаниях. Показательный случай произошел на моих глазах. Работал секретарем обкома Днепропетровской области товарищ Задионченко. Одно время он был председателем Совета Народных Комиссаров РСФСР. Однажды мы проводили партконференцию и в перерыве подходит к моему заместителю человек, делегат конференции, и говорит: «Передавайте привет моему дяде Задионченко», а фамилия того человека была Зайончик. Заместитель мне об этом эпизоде рассказал. Я пожал плечами, а скоро узнал, что Задионченко вовсю интересуется НКВД. В то время происходило бурное разыскивание всяческих родословных, чтобы не затесались в наши ряды враги. Тогда партийные работники целиком зависели от органов НКВД, а не они от нас, от партии. Собственно говоря, не мы ими руководили, а НКВД навязывало нам свою волю, хотя внешне соблюдалась субординация. Фактически своими материалами, документами и действиями органы НКВД направляли нас туда и так, как хотели. Мы же, согласно сложившейся практике, обязаны были во всем доверять их документам и аргументации.
Для НКВД никакое новое дело не требовало больших усилий. Скоро выяснилось, что Задионченко родился около села Канев, отец его — кустарь-жестянщик, мать работала табачницей. Отец вскоре умер, мать заболела туберкулезом и тоже умерла. Задионченко, тогда еще Зайончик, остался сиротой, его приютил какой-то ремесленник. Он воспитывался улицей, кормился у добрых людей. Так и рос. Тут грянула революция, потом Гражданская война, в их городе проходил боевой отряд, и он увязался за отрядом. Красноармейцы его подобрали, одели, обули и дали ему фамилию уже не Зайончик, а Задионченко. Такое расследование по-быстрому провели. После доклада наркома НКВД Украины выясняется, что Задионченко замаскированный враг, тем более что с ним несколько раз беседовали, просили дать объяснение смены фамилии, а он отпирался. Когда я вызвал его и спросил, зачем он себе вредит, Задионченко заплакал, начал просто рыдать.
«Я никому не говорил, что был Зайончик, — плача, говорит он, — даже моя жена не знает, что я еврей. Это удар для моей семьи! Я не знаю, как сейчас быть и что произойдет».
Выслушал я все и сразу же позвонил Маленкову, Георгий Максимилианович хорошо знал Задионченко и с уважением к нему относился.
«Про это, — говорит Георгий Максимилианович, — надо будет Сталину рассказать. Когда в Москве появишься, вот и сделай это».
Я пообещал. Приехал я в Москву и узнаю: нарком Ежов уже про это дело знает, говорит мне, улыбаясь:
«Задионченко, ты думаешь, еврей? Он — поляк!»
«Как же можно так говорить, я точно знаю, он — еврей! — доказываю я. — Мы знаем даже синагогу, где совершался еврейский обряд при рождении мальчика!»
Я побывал у Сталина, рассказал ему все как есть. Сталин воспринял довольно спокойно.
«Дурак, — сказал он по-отечески, — надо было самому об этом сказать, а не упираться. Вы не сомневаетесь в его честности?» — спрашивает.
«Конечно, не сомневаюсь, — отвечаю, — а органы делают из него шпиона-поляка».
«Пошлите их к черту!» — говорит Сталин.
Из-за такой вот безобидной смены фамилии чуть не произошла беда. Я так пространно об этом рассказываю, чтобы вы вспомнили то время, ту тягостную обстановку, которая сложилась в обществе. За каждым без исключения могли дотянуться руки НКВД, как тянулись они и за душою Задионченко. Вот в такой суровой обстановке все мы жили и работали, по наводке НКВД боролись против врагов народа, а по существу, за свое выживание.
Когда посылал меня Сталин на Украину, то сказал, чтобы я больше внимания уделял сельскому хозяйству. Село у нас организовано плохо, промышленности кадры организованы лучше. Такой линии я и придерживался, хотя мне это было нелегко, я чувствовал тягу к промышленности, особенно к углю, машиностроению и металлургии. Хочу повторить, что к тому времени, как я появился на Украине, колхозные кадры там здорово поредели. Стали готовиться к весеннему севу. На Юге иной раз случаются такие ранние весны, когда полевые работы начинаются в феврале, а уж в марте — обязательно идут, и вдруг сталкиваемся с таким явлением: в западных областях, граничивших с Польшей, налицо массовая гибель лошадей. Лошади заболевали, быстро хилели и дохли. Почему? — Ничего толком нельзя понять, никто не знал. Определить падеж лошадей нельзя было и потому, что, когда комиссии с привлечением ученых, которые считались специалистами, разворачивали работу, их сразу арестовывали и уничтожали, как вредителей, причисляя к виновникам гибели лошадей.
Вспоминаю такой случай в Винницкой области. Приехал я в какой-то колхоз, где погибло очень много лошадей, и стал расспрашивать конюха. Он мне и говорит: «Я видел, как один тип сыпал лошадям какое-то зелье, сообщил куда надо, поймали его, а он оказался ветеринарным врачом. Расстреляли его, ничего не спрашивая».
Немцы тогда готовились к войне и запросто могли через поляков делать все, чтобы подорвать наше колхозное хозяйство. В какой-то степени было логично лишить нас лошадей — ударить по сельскому хозяйству и по военным возможностям, потому что лошадь в те времена была то же, что сейчас танки и авиация. Это был подвижной род войск. Лошади — это и кавалерия, и обоз, так тогда рассуждали, поэтому объяснялась гибель лошадей актом вредительства со стороны внешних врагов, которые объединились с врагами внутренними. Над этим тогда НКВД работал. Но я не мог до конца согласиться с таким объяснением. Почему же коровы и овцы не дохнут, а дохнут только лошади? Хотелось послушать ученых, ветеринарных врачей, зоотехников, но их ряды катастрофически поредели. Спросил я наркома внутренних дел Украины Успенского: «Есть ли у вас заключенные, которые обвиняются в травле лошадей?» — «Да, есть», — он говорит. — «Кто они такие?» — Успенский назвал фамилии профессора Харьковского ветеринарного института и директора Харьковского зоотехнического института. Первый — еврей, второй — украинец. Я предупредил — к вам приеду, вы их вызовите к себе в кабинет.
«Они, — отвечает Успенский, — сознались».
«Если профессор травил лошадей, то пусть он нам скажет, каким ядом травил, и пусть напишет химическую формулу яда», — говорю я.
Я хотел поставить контрольный опыт. Профессор дал такую формулу, сделали снадобье, положили лошадям в корм, они съели, но не пали и даже не заболели. Вот тогда-то у меня зародилось подозрение. Снова сижу в кабинете наркома НКВД. Привели профессора, лет пятидесяти, седого. Спрашиваю: «Что вы можете мне сказать?»
Он: «Я уже дал показания и могу только подтвердить, что мы действительно немецкие агенты, имели задание травить лошадей и делали это».
«Мы составили по вашей формуле яд и дали животным, но они не погибли и даже не заболели. Как же так?»
«Да, — отвечает профессор, — это возможно, потому что к яду, который мы сами составляли, мы получали готовую добавку из Германии. Какова формула добавки, мы не знаем».
И человек это сам говорил! Знает, что я член Президиума, Секретарь ЦК, видит, что я интересуюсь и даже как бы подсказываю, что его признания, с моей точки зрения, несостоятельны, потому что животные не погибают, а он не только не воспользовался этим, но и все сделал для того, чтобы подтвердить показания и доказать правоту своих мучителей-чекистов.
Я был поражен — сколько же развелось врагов! Немыслимое дело: немцы такие ярые антисемиты, и вдруг еврей работает на них. Следующим пригласили директора института, он все тоже подтвердил, хотя не так яро. Я понимал, что сознаваться в подобных вещах, в шпионаже, во вредительстве — не шутка, и объяснял их прямолинейные заявления тем, что заключенные стараются найти возможность хоть как-то облегчить свою участь раскаяньем, чистосердечным признанием. Уехал я в Центральный Комитет, но меня не оставляла мысль, что что-то тут неладно. А лошади продолжали умирать.
В конце концов, обратился я к президенту Академии наук Украины Богомольцу, попросил создать авторитетную комиссию по этому делу, чтобы безошибочно определить, где кроется причина гибели лошадей. Не может быть, чтобы наука была бессильна! Я попросил его возглавить эту комиссию, чтобы во главе стоял доверенный человек, которому верили не только на Украине, но и в Москве. Несколько комиссий и до этого создавались, да только все они арестовывались, как я уже говорил, гибли люди, ученые боялись входить в новую комиссию, потому что это предрешало их судьбы. Чтобы хоть как-то поддержать ученых, я пообещал, что буду приходить на каждое пленарное заседание. Комиссия быстро закончила работу, определила причину гибели лошадей. Выяснилось, что лошадей никто не травит, а гибнут они в результате бесхозяйственности. В колхозах несвоевременно убирают солому после комбайнов, она остается на полях, попадает под осенние дожди, мокнет, ее убирают сырой, в соломе от сырости развивается грибок. В природе этот грибок обычно рассеян и попадает в желудок животных в малой дозе, так, что они даже не болеют. При неблагополучных погодных условиях — сырость, тепло, он размножается в больших количествах и начинает выделять смертельный яд. Лошадь, съев прелую солому, получает большее количества грибка и гибнет. В результате составили строгую инструкцию, как убирать солому, хранить ее и как скармливать скоту. Гибель животных прекратилась. Некоторых ученых, членов последней комиссии, представили к наградам, а сколько председателей колхозов, животноводов, агрономов, зоотехников, ученых сложили головы, как «польско-немецкие агенты»? Им досталась одна награда — крест, да и того не видать, несчастных сваливали в ямы подальше и зарывали безымянно, и никто про них не вспоминал.
Харьковские профессор и директор института, о которых я вспомнил, были, как и многие, расстреляны безо всякого снисхождения. Вот я и думаю — как же так? Как такое могло случиться?! Теперь ясно, что они ни в чем не виноваты, а ведь сознались! Как теперь мне в глаза будет смотреть нарком внутренних дел Украины Успенский? — думал тогда я. Но Успенского скоро тоже арестовали и расстреляли, да что Успенского, самого главного энкавэдэшника Ежова сделали врагом. Невероятные вещи — враг народа нарком Ежов! «Ежовые рукавицы!» Это выражение вся страна произносила с благоговейным трепетом и со страхом. Сначала из Ежова сделали героя, и вдруг Ежов — враг. Тут начались повальные аресты чекистов, кто работал с Ежовым. Это все было спланировано Сталиным. А ведь Успенский и Ежов посылали свои сообщения лично ему. И снова тот же заколдованный круг — враги, враги, враги! Такая трагичная была обстановка.
Сколько людей зазря погибло, а может для галочки, что органы у нас не баклуши бьют, а работают, — хмуро проговорил Никита Сергеевич. — «Мало врагов, ловите больше!» — приказывал Сталин. И ловили больше! А товарищ Сталин руки потирал: «Значит, больше ловят? Значит, лучше работают?» Вот до каких ужасов дожили!
В конце концов, Ежовым Сталин стал недоволен, тот сыграл свою роль, и Сталин задумал поменять лошадей, но ехать тем же курсом и осуществлять те же страшные дела. Он выдвинул в НКВД Берию, сначала назначил его замом к Ежову. Сталину были нужны в НКВД новые люди. Ежов заменил Ягоду, который уничтожил многие неугодные кадры, в том числе и чекистские. Ежов начал с того же, с кадров, которые работали с Ягодой. Теперь Сталину понадобилось покончить с кадрами, которые выдвинулись при Ежове. Берия и предполагался для этого. Ежов к тому времени буквально потерял человеческий облик, попросту спился. Он так пил, что был на себя непохож. Думаю, повлияло на него то, что он знал, что происходит, понимал, что Сталин им пользуется, как дубинкой для уничтожения народа, и заливал свою совесть водкой.
На последнем этапе жизни Ежова у него заболела жена. Ее положили в Кремлевскую больницу, но уже было решено, как только она поправится, ее арестуют. Сталин широко применял такой способ ареста. Через жен ответственных работников он старался раскрыть «заговоры», разоблачить предательство их мужей, жены ведь должны знать секреты мужей, они-то и помогут разоблачить законспирированных врагов. Я даже не знаю, сколько их было таких, наверное, огромное множество невиновных женщин, которые пострадали за невиновность своих мужей.
Жена Ежова стала выздоравливать и скоро должна была выписаться, но вдруг умерла. Говорили, что она отравилась. Сталин сказал, что перед тем, как она отравилась, к ней в больницу заходил Ежов, принес ей букет цветов.
«Букет цветов — это был условный знак, сигнал, что она будет арестована», — разъяснил Сталин.
«Вероятно, Ежов догадывался, что ее арестуют, и хотел устранить следы возможного разоблачения его деятельности, — продолжал он. — До чего дошло: нарком — враг народа!»
Мы тогда тоже считали, раз она отравилась, то спрятала концы в воду, как объяснил товарищ Сталин, и отрезала возможность вывести начистоту своего мужа-изменника. Впрочем, независимо от того, отравилась она или нет, Сталин уже решил, что Ежов конченый человек, он больше ему не нужен. Продолжение деятельности Ежова было не на пользу Сталину. Ежова арестовали. Я случайно находился в то время в Москве. Сталин пригласил меня на ужин в Кремль. Там был товарищ Молотов и еще кто-то. Сталин сказал, что должны арестовать Ежова, этого опасного человека, и должны сделать это как раз сейчас. Скоро зазвонил телефон, и Сталину доложили, что Ежов арестован и что вот-вот начнется допрос. Тогда же я узнал, что арестовали не только Ежова, но и его заместителей. Одним из них был Фриновский, такой здоровяк — силач, со шрамом на лице, физически могучий. Про его арест рассказывали так: что толстяк Кобулов навалился на него сзади и повалил, после чего Фриновского связали. Об этом рассказывали как о каком-то подвиге Кобулова.
Получается, везде прошли казни: и в Кремле, и в органах, и на улице.
Безоговорочно считалось, что у нас есть внутренние враги, а начало их разоблачения положено при аресте видных военных в 1937 году. Все военные сознались, что сотрудничали с врагами. Говорили, что командующий войсками Московского военного округа, когда его вывели на расстрел и спросили, кому же он служил, заявил, что служил немецкой армии и Германскому государству. Демонстративно сделал такое заявление перед смертью. Это до чего же надо было довести человека! Как надо было его истязать! — вознес руки вверх Никита Сергеевич. — Правда, казненный по тому же делу Якир в последние секунды жизни выкрикнул: «Да здравствует Сталин!» — после чего был расстрелян. Когда об этом передали Сталину, он Якира обругал: «Вот какой иуда! Умирая, все-таки отводит в сторону наше следствие, демонстрируя, что предан Сталину!»
Когда дела от Ежова принял Берия, смертоубийства велись так же усердно. Правда, возмущенных разговоров о произволе стало больше и именно со стороны Берии. При нас он Сталину ничего не говорил об осуждении репрессий, а тет-а-тет часто рассуждал об этом. Он плохо говорил по-русски: «Очень, очень, слюшай, много народа уничтожили! Что это будет, люди уже боятся работать!» Это он говорил правильно. Людей просто истребляли. Сталин совершенно изолировался от народа, ни с кем, кроме ближайшего окружения, не общался. Я не сомневаюсь, что и на меня имелись показания. Они тогда на каждого были.
Когда я приехал на Украину, там не было наркома торговли, — продолжал Хрущев. — Я взял туда Лукашова из Москвы. Он работал начальником московского управления торговли. Очень деятельный и хорошо знающий свое дело человек. Поработал Лукашов недолго и был арестован. Меня это очень смутило, ведь перед назначением я согласовал его кандидатуру со Сталиным. Это для меня был моральный удар. Через какое-то время сообщают, что Лукашова освободили. Я прямо обрадовался, пригласил его к себе. «Да, — рассказывает он, — освободили, невиновен. Я честный человек, прошу верить мне так же, как верили и до ареста. Хочу рассказать вам, что когда меня арестовали, то били нещадно и пытали. Ставили скамейки, до предела раздвинув их, на которых, расставив ноги, я вынужден был стоять. При малейшем шевелении меня избивали так, что я терял сознание и падал. А знаете, чего от меня требовали? Чтобы я показал на вас, будто вы заговорщик, что я по вашему заданию ездил за границу для установления связи, а я ездил семена закупать». Словом, Лукашева измордовали, замучили и все из-за меня, а если из-за меня, то, несомненно, по указанию Сталина, — подытожил Никита Сергеевич.
— Двух моих помощников по Москве тоже арестовали, — продолжал он. — Сталин меня как-то спросил:
«Что, арестовали ваших помощников?»
«Хорошие были, честные ребята», — отвечаю.
«Да? А вот они дают показания, сознались, что враги народа. Они и на вас показывают».
Зачем Сталин мне об этом сказал? Наверное, чтобы больше я его боялся.
По указанию Сталина мы постоянно себя резали, срезали все до кости, чтобы старых оставалось поменьше, чтобы вообще их не осталось, да и новых, вновь выдвинутых, не щадили, — тяжело выговаривал Никита Сергеевич.
— Совсем неожиданным был арест Реденса. Реденс был близкий к Сталину человек, поскольку оба были женаты на родных сестрах. Муж старшей Анны — Реденс, а младшая Надежда — была замужем за Сталиным. Реденс частенько гостил у Сталина, и я часто его видел за общим семейным столом, к которому тоже приглашался не раз. И вдруг Реденс смещен с поста уполномоченного НКВД по Московской области и послан в Среднюю Азию, в Ташкент. Потом его арестовали и казнили. Без Сталина здесь точно не обошлось, никто бы не осмелился на его родственника руку поднять. А Сталин это показательное дело специально затеял, мол, смотрите, и сталинские родственники во враги пробрались, не думайте, что они неприкасаемые, никого товарищ Сталин ради победы коммунизма не милует, ни своих, ни чужих, слава ему! Сталин сам сценарии писал, сам планировал, подбирая в виновники соответствующих людей.
Берия завершил начатую Ежовым чистку партии и заодно прошерстил НКВД от ежовских кадров. На место старых сотрудников, брал людей, можно сказать, случайных, неопытных, иной раз политически неразвитых. Им достаточно было сказать: «Главное — арестовывать и требовать признания». Про допрос Чубаря следователь объяснял: «Мне сказали бить его, пока не сознается, что он враг народа, вот я его и бил, он и сознался». Вот как были замараны и оклеветаны многие честные люди. Я бы сказал еще, что люди, которые клеветали на других, в свое время тоже были честными, но их искалечили и физически, и морально, им ничего другого не оставалось, как ради спасения собственной жизни служить грязному делу и клеветать на друзей.
Несомненно, за всем этим произволом стоял вождь, он собственно этот страшный произвол и организовал, привел жуткие механизмы в действие. Это трагедия партии и народа, что столько безвинных людей погибло от рук палачей. Ведь очевидна элементарная вещь: не Берия создал Сталина, а Сталин Берию. Сталин выдумал Берию, как раньше создал Ежова. Все они последовательно сходили со сцены и исчезали. Я уверен, не умер бы Сталин, Берия бы, несомненно, исчез, как исчез сменивший Берию Абакумов. Это была сталинская тактика: одни «герои» заменялись другими. Сталин чужими руками уничтожал честных людей, прекрасно зная, что они чисты перед народом и перед партией. Эти люди гибли в результате только того, что Сталин их опасался и не доверял им. Поэтому требовалось постепенно заменять одних душителей другими. Так сложилось несколько эшелонов карателей: Ягода, потом Ежов, потом Берия, Абакумова я не считаю, Абакумов, по существу, продолжение Берии, его ставленник. Получается, на Берии эта цепь оборвалась, точнее говоря, не на самом Берии, а в результате смерти Сталина оборвалась. В последние годы его жизни сколько новых громких дел появилось: врачи-отравители, заговор в Еврейском антифашистском комитете, «дело авиаторов», «ленинградское дело», снова прошлись по военным, а все был вздор!
Когда Берия предстал перед судом как преступник, мы тогда еще находились в плену у мертвого Сталина и, даже когда многое после суда над Берией стало известно, давали народу неправильные объяснения, свернув все на Берию. Мы делали так, чтобы выгородить Сталина, хотя выгораживали преступника, убийцу, ибо еще не освободились от преклонения перед ним.
Впервые я почувствовал ложность нашей позиции, когда приехал в Югославию и беседовал с Тито. Когда мы затронули вопрос о незаконных репрессиях и сослались на Берию, он стал недвусмысленно улыбаться и подавать иронические реплики. Это нас раздражало и мы, защищая Сталина, вступили в большой спор, дошедший почти до скандала. Хорошо, что теперь отношения с братской Югославией налажены. Сейчас всем ясно, что разногласия были неправильными.
Мы должны строжайшим образом соблюдать законность, самым строжайшим, тогда и перегибов не будет. Даже в том случае, если преступник признает свою вину, надо чтобы факты, изобличающие его преступную деятельность, были неопровержимо доказаны, чтобы суд на основании этих фактов мог установить виновность подсудимого. Только такой способ правилен и приемлем. Если же мы свою законность будем нарушать, то у нас могут возникнуть новые безобразия, и опять вырастет культ чьей-то личности.
Сегодня мы действительно хотим установить в партии ленинские порядки, чтобы сталинские методы никогда не могли вернуться в нашу историю. Мы должны приложить все силы к разоблачению Сталина и осуждению его методов.
Необходима реабилитация тех честных людей, многие из которых еще не реабилитированы, не вышли на свободу. Мы должны покончить с творившимися беззакониями, чтобы даже их призрак не мог подняться из могилы!
С марта 1953 года на свободу вышло почти два миллиона заключенных, были прекращены дела на четыреста тысяч человек, я не учитываю здесь спецпоселенцев и ссыльных. С одной стороны, это очень много, но мы стоим только в начале пути.
Перед выступлением я кое с кем разговаривал, советовался, как мне лучше выступить. Многие отреагировали бурно, поддержали, но нашлись и такие, кто занял позицию человека, не осознающего важности осуждения преступлений Сталина. Есть крупные военачальники, которые превозносят Сталина, пытаются представить его отцом народа, доказать, что если бы не он, то мы не выиграли войну, попали бы под пяту фашистов. Это недостойные рассуждения! Вот уже несколько лет, как Сталина нет, а разве мы склонили голову, разве попали под немецкое, английское или американское влияние? Нет, не попали и никогда не попадем! Народ выдвинет новых руководителей и сумеет постоять за себя, как это было всегда!
Один наш военачальник, выступая на собрании, говорил добрые слова о Сталине и тут же возвеличивал и Блюхера. А другие, говоря о Сталине, возвеличивали маршала Тухачевского. Товарищи, надо же сводить концы с концами! Нельзя на один пьедестал ставить убийцу и его жертвы. Кто такой Блюхер? Герой Гражданской войны, военный самородок, слесарь, выдвинувшийся в крупного полководца. Он получил орден Красного знамени № 1. Одно это говорит о том, кто такой Блюхер. Потом, как один из лучших советских командиров, Блюхер был послан в Китай военным советником. И вдруг он расстрелян! Нельзя говорить одновременно о Сталине и Блюхере, умалчивая о причинах гибели маршала. Нельзя закрывать глаза, считая, что никто ничего не видит!
Я вспомнил слова Пушкина, в произведении которого беседуют Моцарт и Сальери. Моцарт, не подозревая, что Сальери готовится его отравить, говорит: «Гений и злодейство несовместимы». Так и со Сталиным. Нельзя сочетать гения и убийцу в одном лице! Нельзя объединять тысячи жертв с их убийцей. Нельзя на одном пьедестале возводить два памятника. Злодейства были учинены Сталиным! По каким мотивам — другой вопрос. Некоторые аргументируют так: это было сделано не в корыстных личных целях, а в качестве заботы о народе. Ну и дикость! Заботясь о народе, убивать лучших сынов отечества. Довольно дубовая логика!
Недавно я услышал по радио, что Ленин поручал что-то Ломову. А где этот Ломов? Я Ломова хорошо знал, неоднократно встречался с ним, когда работал в Донбассе. Это был очень уважаемый человек. Где же он? Расстрелян. Я могу тоже сказать о Кедрове, Егорове, о других. Можно составить целую книгу только из одних фамилий крупнейших военных, партийных, хозяйственных руководителей, дипломатов, ученых. Все это были люди честные, они стали жертвами Сталина, жертвами произвола, без всяких настоящих доказательств их вины, без всяких оснований.
Пришло время начать процесс очищения, возвращения к человеческим нормам, за которые мы боролись, за равенство, за братство! Пришло время честно смотреть в глаза друг другу, белое называть белым, а черное — черным. Мы советские люди, мы заслужили жить по-людски, об этом говорю я, об этом сказала наша великая партия, к этому мы должны прийти и придем, никто нас не остановит!
В мертвой тишине Хрущев покинул трибуну и возвратился на место, но зал еще долго находился в оцепенении. Наконец, задвигался, задышал, люди стали тихо переговариваться, в напряженных лицах не отыскивалось улыбок, делегаты были мрачные, ошарашенные.
— Хрущев ополоумел! — выругался Каганович. — Выжил из ума! Мы все с приветом, но не до такой степени! Что ему дался Сталин? Сталин умер, нет больше Сталина! А он — Сталин, Сталин! И туда Сталина, и сюда!
— Дешевая популярность, — определил Молотов. — Но популярность теперь у Хрущева есть. Долез, свинопас!
— Мы-то с тобой чего сидели, головой кивали?
Вячеслав Михайлович свысока посмотрел на собеседника.
— Возня со Сталиным была затеяна Берией. Берия дал отмашку Маленкову, и тот заговорил о сталинском культе. Ты вспомни, Лазарь, как начиналось. Берии это нужно было, чтобы себя обелить. Он после сталинских похорон песню о перегибах затянул, а теперь ее Хрущев исполнил, он герой.
— Как у него все ловко получилось! И главное — не боится!
— А чего бояться? Жуков любой его приказ выполнит. Сегодня за Хрущем сила.
Каганович недовольно заерзал на стуле.
— Ты, Лазарь, точно ребенок! — усмехнулся Вячеслав Михайлович.
— А доклад вышел ничего, с маслицем, — Лазарь Моисеевич пригладил усы. — Значит, надо Жукова переманивать?
— Не только Жукова, и Булганина, — облизнул сухие губы Вячеслав Михайлович. — Мало-помалу кулак соберем, как говорится: вода камень точит. После доклада, попомни мое слово, такая свистопляска начнется, — прищурился он. — На окраинах будут думать, что теперь все позволено, станут виноватых искать, обличать, и страна вразнос полетит. Представляешь, какой Никита Сергеевич талантливый человек, взял и одним махом всю государственность перечеркнул! Китайцы теперь его зауважают. Мао на Иосифа ставку делал, а тут такой великан выискался, Сталина за пояс заткнул!
— Не знаю, не знаю! — покачал головой Каганович.
— Посмотришь. Будем ждать, когда Никита обделается, тогда навалимся. Обрати внимание, что и обожаемый дружок Булганин от хрущевских указок подустал, а неустрашимому Жукову в Министерстве обороны тесно. Ты эти обстоятельства, Лазарь, учти. Вот как Серова нейтрализовать — вопрос.
Каганович вынул из нагрудного кармана узенькую расческу и, помогая ладонью, стал причесывать свои жесткие, совершенно не седые волосы. Когда Лазарь Моисеевич нервничал, то часто доставал расческу и начинал взад-вперед водить ею по затылку.
— Чванливый полководец почище Серова!
— Жукова с Серовым следует в одну упряжь сцепить, обоих дискредитировать. В Германии надо покопаться, там оба хозяйничали.
— За Серовым шлейф тянется, — согласился Молотов.
— А Жуков, что ль, в белых перчатках?
— Не в белых.
— На обоих говно соберем.
— Абакумов про них Сталину писал.
— Понатянули из Германии!
— Жукова можно с бабами подсветить, это второй козырь. Следующее, — назидательно продолжал Молотов. — Жуков деспот, подчиненных бьет, кому такое понравится? Значит, часть военных против Жукова поднимется. Опальный адмирал Кузнецов — наш, Главный маршал авиации Голованов — с нами, Костя Рокоссовский, Родион Малиновский тоже обижены.
— И Конева прибавь.
— Правильно, Иван Степановича! Хватает недовольных. Жуков привык безраздельно властвовать, а властвовать, как учит жизнь, каждому хочется. Такие дела. Впереди, Лазарь, кропотливая работа, тактическая, времени требует. Была бы возможность, я б Жукова отравил. Жаль, Судоплатов сидит, он по таким фокусам был первейший специалист! — мечтательно протянул Вячеслав Михайлович.
— Сам сказал, сидит!
— Главное — не торопиться, спешка, она зачастую подводит, — подытожил Молотов.
— Малиновский пьет? — поинтересовался Каганович.
— Каждые три месяца в штопор уходит.
— Это тоже на руку.
26 февраля, воскресенье
— Прирост по группе «Б» недостаточен, надо усилить группу «Б» в пятилетнем плане, — высказался Хрущев. — Увеличение товаров повседневного спроса — первейшая задача. Одежду надо разнообразить, мебель и всякое такое! Согласен, Анастас Иванович?
— Согласен. С Булганиным план подкорректируем.
— А то все учли, а про человека забыли! Сегодня надо людям больше отдавать, а не так, как Молотов — ремешок потуже, и в бой!
— Группу «Б» усилим!
— Что доклад мой, Анастас?
— Граната! — отозвался Анастас Иванович. — Повалил оракула, теперь обратного хода нет.
— Не до конца повалил, добить надо! — высказался Никита Сергеевич, но после его выступления каждому было ясно, что пророка-Сталина больше не существует.
Хрущев вмиг сделался центральной фигурой: не выступил с обличающим докладом Молотов, не взялся крушить вождя Ворошилов, не вышел на трибуну Булганин, отсиделся в стороне Маленков, а значит, не они государством правят, не они первые. После доклада соратники Сталина как-то помельчали, а вот хрущевцы и сам Хрущев сделались больше, значимей. И ЦК теперь несказанно усилился, ЦК перевесил Совмин.
— Сталина не жалко, детей его жалко, жить им будет тяжко! — вздохнул Микоян.
— Васька в тюрьме сидит, — подтвердил Хрущев. — И Светланке трудно придется, из принцессы превратилась в падчерицу.
— Сегодня ей исполняется тридцать лет, — напомнил Анастас Иванович.
— Да ну?
— Да. А тут такой подарок, отца развенчали, с золотого постамента скинули!
— Иосиф и дочь извел, внуков видеть не хотел.
— Ни своих не жалел, ни чужих! — подтвердил Микоян. — Может, позвонить ей?
— Ты, Анастас, позвони, а мне как-то неудобно: на отца грязь вылил и звонит.
— Я позвоню, поздравлю.
Хрущев сидел за рабочим столом, солнце бледно подсвечивало окна.
«Света, Светлана! — думал он, вспоминая улыбчивую подвижную девочку с острыми глазами. — Конечно, ей будет непросто, но как-нибудь справится. Дачей пользуется, к поликлинике на Грановского прикреплена, продукты получает, что еще? Переживет. А вот Васе несладко. Как только Сталина лавров лишим, можно будет гуляку выпустить, его вопли будут уже не интересны, и потом, кому нужен пропойца, сын убийцы, распустившийся, деградировавший тип? А пока пусть посидит, ему даже полезно. Серов говорит, что в тюрьме о нем заботятся, особо не нагружают, и что из него отличный токарь получился».
— Венценосный отпрыск токарем работает! — злорадно усмехнулся Никита Сергеевич. — Вот дурак, в тюрьму угодил! Ходил, кулаками размахивал, куда лез? А все власть, будь она неладна, вседозволенность! Отец, конечно, виноват, — рассуждал Хрущев.
Никита Сергеевич встал и направился к дверям — пора ехать обедать. Вторую неделю он обедал дома. Рада последние дни чувствовала себя отвратительно, ее бесконечно тошнило, вторая беременность протекала паршиво. В сопровождении Букина Первый Секретарь стал спускаться по лестнице. Перед выходом на улицу подполковник помог надеть охраняемому пальто. Хрущев оглядел себя в зеркале перед гардеробом. В зимнем пальто он смотрелся еще круглее и толще.
— Ты вот что, Андрюша, — задумчиво проговорил Никита Сергеевич. — Возьми букет цветов и поезжай к Светлане Иосифовне, у нее сегодня день рожденья, поздравь от меня, скажи, что я передаю привет. Поинтересуйся, все ли у нее хорошо, ничего ли не требуется?
— Понял, Никита Сергеевич, сделаю.
— А сейчас вези меня домой!
Андрей Иванович отыскал рабочий телефон Светланы Иосифовны, позвонил, представился, сказал, что звонит по поручению Никиты Сергеевича и хотел бы ее увидеть. Условились встретиться в семь вечера у Института мировой литературы. Букин запасся букетом роз и набором шоколадных конфет в красивой ярко-красной коробке, сделанной в виде старинного ларца, подумал, что идти с одними цветами неудобно. В условленный час Андрей Иванович подъехал к институту, вышел из машины, но цветы с конфетами не взял. В девятнадцать-ноль-четыре Аллилуева появилась. Букина сложно было не узнать, он был в форме госбезопасности и стоял прямо напротив дверей. Дочь Сталина подошла к нему.
— Здравствуйте, Светлана Иосифовна! — козырнул офицер, лицо его было серьезно.
— Здравствуйте! — одними губами ответила женщина. От официального приветствия она оцепенела. Светлана подумала что ее, как и брата, решили арестовать и посадить в тюрьму. Она стала озираться по сторонам, отыскивая подручных подполковника. Со вчерашнего дня по городу роились слухи, что ее отец был никакой не большевик, а беспощадный тиран и убийца. Ей стало очень страшно, она побледнела.
— Вам плохо?
— Нет, нет, ничего!
— По поручению товарища Хрущева…
Она вся сжалась, как нашаливший ребенок, ожидающий наказания.
— …я приехал поздравить вас с днем рождения.
— Спасибо! — выдохнула Светлана, машинально пожала офицеру руку, собираясь уходить. Свою машину она из скромности держала в соседнем переулке.
— Постойте, а подарки?
— Что?
— Я должен передать вам цветы и конфеты.
Дочь Сталина осталась стоять на месте, а Букин неторопливо отправился к машине. Шофер услужливо подал подполковнику розы и ларец с конфетами. Сотрудники института, спешащие с работы, с любопытством наблюдали за Аллилуевой и высоким офицером госбезопасности с роскошными цветами в руках.
Андрей протянул подарки:
— Вот.
— Передайте поклон Никите Сергеевичу.
— И я вас поздравляю! — улыбнулся подполковник.
— Благодарю вас!
— Разрешите подвезти вас до дома?
— У меня машина за углом.
— Тогда провожу до машины, — не допуская возражений, произнес офицер.
Светлана Иосифовна рванулась вперед, ей хотелось поскорее остаться одной, но в то же время бежать было неудобно.
— Никита Сергеевич интересуется, все ли у вас хорошо?
— Все хорошо.
— Ничего ли не требуется?
— Абсолютно ничего.
Остальной путь они проделали молча.
— Вот и моя машина.
Водитель совминовской «Победы» с любопытством смотрел на начальника хрущевской охраны. Букин открыл женщине дверь. Светлана Иосифовна села, он наклонился, поправляя неровно стоящую на сиденье коробку с конфетами, которую именинница небрежно поставила рядом.
— Могут упасть, — предостерег подполковник.
— Спасибо! — уже теплее отозвалась Светлана Иосифовна.
— Я свой телефон написал, — офицер протянул листок. — На всякий случай. Я Букин Андрей, начальник охраны товарища Хрущева. Если что, без стеснения звоните. Еще раз от души поздравляю!
Светлана Иосифовна продвинулась вглубь салона, и как раньше, когда ее сажал в машину Власик, взмахнула рукой — до свиданья!
Съезд был закрыт, делегаты разъезжались. С домов, площадей и улиц по-прежнему взирал на любимый народ великий вождь и учитель. Его портретов оставалось много в каждом городе. Но со вчерашнего дня как-то потускнел товарищ Сталин, что-то в его твердом взгляде переменилось. Москва гудела. Достоверно никто не знал, что случилось на Съезде, но все разговоры велись вокруг фигуры вождя, что будто бы Иосиф Виссарионович, страшно сказать! Что Иосиф Виссарионович Сталин беспощадно истреблял людей.
— Сталин приказал пытать! — пугали одни.
— Сталин убивал! — вторили другие.
— Оказывается он всему виной, никаких врагов народа не было, аресты его рук дело! — множились страшные разговоры.
— Не может быть! Вранье! Вымысел! — вопили несогласные. — Руки прочь от Сталина!
Еще не так давно, на выборах в Верховный Совет СССР о горячей любви, об огромном доверии к Коммунистической партии, к Советскому правительству, к товарищу Сталину говорили многочисленные надписи на избирательных бюллетенях.
«С радостью отдаю голос за друга народа — товарища Сталина!» — написала на своем избирательном бюллетене учительница географии.
«С вашим именем я шел в бой против врага, мы победили потому, что вы были с нами!» — сделал приписку бывший танкист, а ныне машинист паровоза.
«Милый наш Сталин, солнце наше ясное, теплое! Много, много лет вам жизни желаю!» — бесхитростно вывела карандашом пожилая женщина-почтальон.
А какая паника началась среди населения после войны, когда в ноябре 1946 года генералиссимус не появился на торжественном собрании, посвященном празднованию двадцать девятой годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции, и 7 ноября не поднялся на трибуну Мавзолея, приветствовать парад на Красной площади! Многотысячные толпы демонстрантов, не увидев отца народов, о котором вот уже месяц молчали газеты, принесли домой плохие вести — Сталина на трибуне нет, про него никто ничего не знает! Настороженность и тревога заполнили улицы.
«Объясните, где находится наш вождь, где товарищ Сталин?!» — наседали на райкомы и горкомы граждане. Что с нашим любимым, родным человеком?!»
Дипломатические миссии, аккредитованные в Москве, строили всевозможные догадки. В одних считали, что Сталин тяжело заболел, другие предполагали, что он умер, и советское руководство не знает, как объявить об этом народу. Шли разговоры, что вождь попал в автомобильную катастрофу, подстроенную врагами. Некоторые додумались до того, что Иосифа Виссарионовича сместили! А он, обожаемый человек, всего-навсего уехал отдыхать, сказав напоследок: «Устал как ломовая лошадь! Не тревожьте!» — и укатил на юг, не проинформировав, каким образом сообщить об этом трудящимся.
А теперь что будет? Неужто правда, что злые языки про Сталина говорят?
27 февраля, понедельник
Квартира на улице Грановского была на втором этаже, огромная, восьмикомнатная, практически лишенная мебели. Широкий длинный коридор пронизывал ее насквозь, упираясь в черный выход, которым никто не пользовался. Коридор по всей длине сверху донизу был уставлен книжными полками, но всех книг не вмещал, часть их находилась в высоком книжном шкафу в кабинете, часть громоздилась на полу, мешая нормально ходить. Кроме книжного шкафа в кабинете стоял вместительный сейф, где владелец хранил оружие, документы и ордена, рядом — низенький стеллаж, загроможденный всякой всячиной, у окна — письменный стол, вплотную к нему примостился столик с телефонами. Письменный стол окружали три стула и кресло, за которым сидел хозяин. Очень редко в кабинет к Кагановичу заглядывала жена. Столовая с высоким буфетом редко оглашалась голосами: дочь с мужем, вот, пожалуй, все гости, переступавшие порог этой квартиры.
Три комнаты занимали спальни. Две с широкими двуспальными кроватями и вместительными платяными шкафами, а одна со скромной, односпальной, застеленной серым солдатским одеялом. У кровати стояла тумбочка с лампой. Именно здесь спал Лазарь Моисеевич, он редко приходил к жене, уже и не помнил, когда был у нее в спальне последний раз, год, а может, два назад. Женщины его перестали интересовать, все свое время он посвящал работе. Дочь вышла замуж и переселилась в собственную квартиру на улице Горького, и ее тридцатиметровая спальня пустовала. Одну из комнат отдали обслуге, другую охране, прикрепленный члена Президиума ЦК, горничная и повариха, как тени, проскакивали по коридору. В прихожей уместился крохотный диванчик, самый обыкновенный, какие попадаются в домах обычных людей, рядом незатейливая вешалка, за ней — калошница, на стене висело небольшое зеркало. Никаких ковров, никаких картин, никаких украшенных благородным хрусталем витиеватых люстр в квартире не было, с потолка свисали скромные осветительные приборы, с таким расчетом, чтобы в помещении хватало света, на окнах самые обыкновенные шторы. Даже фикус, который супруга привезла от сестры, Лазарь Моисеевич велел вынести на помойку, причислив растение к мещанским пережиткам. В быту Кагановичи пользовались очень простой посудой, да и вся обстановка в квартире была, можно сказать, солдатская, правда, в каждой комнате присутствовал современный радиоприемник, а в столовой — телевизор, хозяин уважал прогресс и старался идти в ногу со временем.
Лазарь Моисеевич склонился перед настольной лампой. Он перебирал фотографии. Сотни снимков хранились в ящиках его письменного стола, и почти на каждом был запечатлен Сталин. Лазарь Моисеевич обожествлял Сталина. Никакой Сталин не преступник, нормальный человек, очень здравомыслящий, эрудированный, тонкий политик и талантливый руководитель. Безапелляционное, однобокое, политически безграмотное выступление Хрущева, с сумбурными, ничего не доказывающими примерами Кагановича разозлило.
— Наплел с три короба, а сути не раскрыл. Хрущ сталинского мизинца не стоит! — он криво усмехнулся. — Врагов нет! Враги были повсюду! И если б не расстреливали, не сажали, х… бы сейчас в Кремле русские сидели, а то бы, как при царе — немцы да англичане командовали, а может и того хуже! И правильно сажали — без дисциплины, без страха, общество не жизнеспособно! Нюни бы распустили и ничего б своего не имели, один п…деж и воровство!
— Что показала последняя перепись 1895 года? — вспоминал он. — 91 % населения абсолютно безграмотен, продолжительность жизни у женщин 35 лет, у мужчин — 29! Страшные цифры! Перед революцией Россия была втянута в кровавые войны. Японская война проиграна, немцы наступают, в обществе брожение, недовольство, чиновники при любой возможности тянут в карман. Никчемный царь отрекся от престола.
— Потому что бездарь! — злился Каганович. — Один теннис, портвейн да охота на уме! Попами да прорицателями обложился, на стакан сел, и гундит: все — по воле Божьей! Как государством управлять? Вот и правили кому не лень!
По итогам Мировой войны Россия лишилась Польши, Прибалтики, Белоруссии, Сахалина, потеряла обширные территории в Китае, внешний долг перевалил за 51 миллиард золотых рублей. Во Временном правительстве министры перегрызлись, солдаты бросали оружие и отказывались воевать, армия полуголодная, снабжение отвратительное! В таких условиях большевики власть подобрали. А как мы ее ухватили, банда сразу отбирать власть у большевиков бросилась. Деникин наступает, Колчак, Антонов, Антанта, Петлюра шумит, Махно на тачанке едет — кто только с красными ни дрался! Как тут хорошим быть? Никто и не был хорошим, ни беляки, ни мы.
Гражданская война каждый клочок России вывернула, в семьях резали друг друга! Не страна стала, а призрак, кругом хаос, разгул преступности, в лесах и на дорогах орудуют шайки, в Средней Азии хозяйничают басмачи, кругом беспризорники, воровство, насилие, есть нечего! Все пошло в разнос. Что прикажете делать — просить, уговаривать? Тут бить надо, крушить! И большевики крушили! Большевики народ упрямый. Нет силы, никто тебя не послушает. Тогда каждый командир был — и судья, и Бог! Все в одном блюдце умещалось — и добро и зло. А что многие не выжили — верно. Но мы со Сталиным за правду бились, чтобы люди были людьми, а не кому-то в услужение отданы, чтобы достояниями республики пользовался каждый, а не группка в золоченых лорнетах!
А воевать пришлось страшно. И нас казнили, не раздумывая. Все одним миром мазаны, а не то, что Сталин плохой! В борьбе за власть белоручек нет!
Лазарь Моисеевич вздохнул и потянулся за коньяком.
— И ведь выжили, победили! И не Хрущев, а старые большевики революцию делали, и среди них первый — Сталин! Не случайно ему прозвище дали — Сталин! — за дела, что тверд он, несокрушим! Вот о чем надо было Съезду говорить! И еще сказать, что не хотели многие на большевиков равняться, вредили советскому обществу, оборудование портили, крали все, что под руку попадет, госимущество жгли, скот травили! Поэтому и расстреливали! А что, надо было по головке гладить?
Каганович выпил.
— Бескровных революций нет. Хрущев первый кричал: мало сажаем! Первый расстреливать предлагал, а теперь правильный! Головотяп! Только и старался перед начальством, чтоб его приметили. А теперь — бессребреник, так, сволочь, делает, чтобы его на руках несли! Сталина уничтожить решил! — хмыкнул Каганович. — Не уничтожишь, руки коротки!
Лазарь Моисеевич был очень зол.
— При Сталине железный порядок образовался, цели ясные, политика понятна: здесь свои, там — чужие. Мы со Сталиным стояли плечо к плечу. Я, Молотов, Ворошилов, Микоян. Стояли и стоим. А демагогия в виде хрущевских баек — фарс! Он на наших подсказках вырос, а теперь всем оценки дает! Берию он пожалел? Не пожалел. А кто за него заступался перед Сталиным? Берия заступался. А почему? Потому, что Хрущ, чуть что, у Берии сидит и глазами масляными смотрит — ты мой самый заветный друг, Лаврентий Павлович! Гадость! Да разве ж Хрущ коммунист? Приспособленец и карьерист! Проститутка, вот кто он! Страну, которую Сталин из праха собрал, хочет одурачить!
— А кто все сделал, милый?! — в сердцах выкрикнул Каганович. — И правильно говорят, не для себя Сталин старался, и не для горстки людей, он для народа делал, для всех без исключения!
Лазарь Моисеевич снова принялся просматривать фотографии.
— Сталин — иуда! Сам ты иуда!
28 февраля, вторник
— Никита Сергеевич! — в кабинет Первого Секретаря заглянул Шепилов. Ему было назначено на одиннадцать.
Хрущев оторвал глаза от бумаг. Он закопался, просматривая нескончаемые документы, готовился к поездке по стране.
— Никита Сергеевич! — плотно притворяя за собой дверь, продолжал Дмитрий Трофимович. — Берут умер.
— Как умер, где?
— В своей московской квартире. Врачи приехали, а сделать ничего не смогли. Тяжелейший сердечный приступ.
— Сейчас в Польше буза начнется! — вымолвил Хрущев.
Болеслав Берут возглавлял в Польше рабочую партию, по существу на нем замыкался польский социализм. Обстановка в Варшаве складывалась непростая. В руководстве находились еще два еврея — Минц и Берман. Помимо негативной информации КГБ, на них постоянно поступали нелестные донесения от прикомандированных в польские учрежденья московских советников. Маршал Рокоссовский, поставленный в Польше военным министром и одновременно занимавший пост заместителя председателя польского правительства, жаловался на бесконечные склоки и разборки, возникавшие по инициативе премьера Бермана либо его заместителя Минца. То, что евреи верховодят поляками, многим не нравилось. Подобная ситуация — засилье евреев в высшем руководстве — сложилась и в Венгрии. Берут удерживал в Польше хрупкое равновесие, успевая всех примирить, всем угодить, умудряясь до запятой проводить в жизнь любые указания советского руководства. 10 февраля, возглавив польскую делегацию, Болеслав Берут прибыл на ХХ Съезд КПСС.
— Подумают, мы его убили, — предположил Хрущев.
— Товарищ Берут тяжело болел, о его болезни каждому известно, — отозвался Шепилов.
— Умер-то у нас, — насупился Никита Сергеевич. — Лучше б уехал в Варшаву и там — того! Толковый был человек, коммунист, чего не скажешь об остальных, как часы был, а взял и умер!
— Товарищ Булганин и товарищ Молотов поехали в Польское посольство выразить соболезнование, — доложил Шепилов.
— А мне не сообщили! Эх, друзья-товарищи! — покачал головой Хрущев. — Давай, Дима, и мы туда побыстрей! Ну, как так, Первого Секретаря проигнорировали?!
— Все в спешке, Никита Сергеевич, бегом-бегом! — за Булганина и Молотова оправдывался Шепилов.
Когда перед польским посольством выходили из машины, Хрущев, придержав Дмитрия Трофимовича, напомнил:
— На выходные жду, Нина блинов напечет!
8 марта, четверг
Март — первый месяц весны, однако обманчиво его весеннее настроение, недаром говорят: «Настал марток, надевай семь порток!» Вот и сегодня завьюжило, закружило, точно зима сызнова началась. Метет, дует, холодно! Ну и пусть себе дует, пусть метет, мужчины в этот день традиционно поздравляют с праздником женщин, уже больше двенадцати лет отмечается в Советском Союзе Международный женский день.
В доме натоплено, жарко. Анна Витальевна не позволяла остужать помещение, особенно то, где находился ребенок.
— Главное, малютку не простудить! — наставляла она. Обычно уйдет с малышкой в другую комнату, тогда окна приоткроют, свежего воздуха наберут, а так — ни-ни! — безумно беспокоилась за доченьку. Назвали ее Зиной, в честь мамы Ивана Александровича. И Анечке имя Зина нравилось — Зина, Зинуля!
Аня быстро обвыклась в этом капитальном доме с просторной прихожей, монументальной гостиной, многочисленными спальнями, продолговатой залоподобной столовой, очень большой кухней, кладовыми, подсобками. Была в доме и бильярдная, где по выходным устраивали просмотр кинофильмов. К дальней стороне бильярдной примыкала оранжерея, иначе — зимний сад, как называл это полустеклянное помещение Иван Александрович. Впервые попав туда, Аня всплеснула руками:
— У Хрущевых я за цветами ухаживала, в Усово по грядкам ползала, а теперь свой цветник появился!
— По цветам я тебя и нашел, лепесточек ты мой ненаглядный! — обнимал жену Иван Александрович.
Аня прижималась ближе, целовала мужа, любила своего строгого Ванечку, могла часами сидеть, гладить руку или пела любимому, или играла на пианино, и очень ждала, когда он приходил к ней ночью. С того самого первого дня, как она осталась в его доме, ни разу они не поссорились.
«Не бывает такого, — думала Аня, — ведь людям положено ссориться, ругаться. Люди должны плакать, уставать друг от друга, говорят, что всегда так!»
Но у Серовых в семье никак не получалось размолвки. Аня, не смыкая глаз, ждала любимого, ночами баюкала и его, и их ненаглядную дочку. Она сама гладила мужу одежду, причесывала, прихорашивала, подстригала брови, выщипывала редкие волосинки на ушах, которые настойчиво портили внешний вид, так что в конце концов выглядел Иван Александрович холеным щеголем. И у Анечки вид теперь был обстоятельный, дородный. Всего у нее теперь было через край: и машины, и помощницы, и продуктовые заказы, а нарядов — каких только нарядов не было! Не забывал Иван Александрович про свою Анюту, постоянно радовал обновками. В шкафу появилось несметное количество туфелек, стояла и зимняя обувь, и летняя, и осенняя, вешалки уже не умещали платьев, юбки были на любой фасон, кофточки, плащи, пальто! По всякому поводу и без повода Серов делал любимой подарки, приносил кольца, замысловатые браслеты, усыпанные драгоценными камнями, дарил витиеватые серьги. Завидная она теперь стала дама, Анна Витальевна Залетаева!
— Ванечка, зачем мне столько? — протестовала Анюта, когда муж преподносил очередной подарок.
— Хочу, чтобы ты блистала!
Только вот блистать в таком богачестве не было возможности. Куда в перстнях пойдешь — в деревню к знакомым или в набитый битком кинотеатр? Можно, конечно, вырядиться и в поликлинику поехать, да только кто в поликлинику модничать приходит? Неловко и не поймут. В театр и то расфуфыриться постесняешься, ведь у людей совсем еще мало достатка, совестно выпячиваться. А когда шли на приемы или в общественные места, Ванечка просил жену одеваться скромнее.
— Зачем же подарки даришь? — удивлялась Аня.
— Потом поймешь, — отвечал муж. — У меня к красивым вещам тяга. Мы, Аня, жили бедно, и даже когда я начал работать, из мебели в комнате был только будильник.
Зато дома жена появлялась перед мужем в потрясающих нарядах.
Анюта села кормить грудью младенца. Устроилась у окна, чтобы поглядывать на дорогу, не пропустить мужа. Из детской комнаты дорога была как на ладони, не загораживалась высокими соснами.
— Посмотри, Зинуля кто приехал? Наш папа приехал! — увидев, как из подъехавшей машины выходил Иван Александрович, радовалась Аня. — Давай ему помашем. Папочка, иди к нам! Мы без тебя скучаем!
Зина росла крупноглазая, взгляд внимательный. Заулыбалась, услышав про папу. Заглядывая в личико девочке, отец трепетал от счастья.
— Узнала папу! — целовал он дитя.
Они часто сидели, в обнимку — отец, мать и дочка. И сегодня Зинуля заснула на руках родителей, мама осторожно перенесла ее в детскую кроватку и улыбнулась мужу:
— Спит!
Иван Александрович привез жене букетик мимозы и шампанское. Приоткрыв дверь в детскую, чтобы слышать дочь, они уединились в спальне, Иван Александрович потянул жену:
— Иди-ка сюда!
Она упала в его объятья, крепко обнимая любимого.
На тумбочке зазвонил правительственный телефон, Иван Александрович не успел переключить связь на ребят. Аня зажмурилась: «Зину разбудит!»
Серов, как был голый, подскочил к аппарату и схватил трубку:
— Слушаю!
На проводе был Мжаванадзе, первый секретарь Центрального Комитета Грузии.
— Заваруха у нас, — сбивчиво начал он. — Митинг по случаю дня смерти Сталина перерос в бунт. Народ кипит, не верит, что Сталин тиран, требуют судить Хрущева, как изменника. Толпа в сто тысяч человек кричит: «Молотов! Молотов!» Министерство внутренних дел разгромлено, некоторые сотрудники приняли их сторону. Мы укрылись в штабе Закавказского военного округа, — закончил Мжаванадзе.
— Пробовали с ними говорить?
— Люди разъяренные, говорить без толку.
— Хрущеву сообщили?
— Только что сказал.
— Что он?
— Велел ждать указаний.
— Ждите! — повторил председатель КГБ и повесил трубку.
Как гром средь ясного неба прозвучало в Грузии сообщение о культе личности генералиссимуса. Сталин тиран! Сталин палач! Сталин враг народа!
— Кто? Повторите, кто?! — недоумевали люди.
— Товарищ Сталин!
Тбилиси оцепенел. И не только Тбилиси, но и Батуми, Сухуми, Кутаиси, Поти, Гагра, Гудауты, все большие и малые города и поселки. Грузины обожали своего великого соотечественника, человека, на могучих плечах которого народ вынес тяготы войны, проделал изнурительный путь от коллективизации к индустриализации, построил мощную промышленность, прорыл судоходные каналы, сокрушая горы, стал добывать полезные ископаемые, рискнул осваивать бескрайний Север. При Сталине Советский Союз уже диктовал свою волю другим народам, привел к социализму Китай, Монголию, Албанию, Корею, Вьетнам! Все выдюжил, все вынес на своих трудовых плечах. И тут такое — Сталин злой гений!
— Очернять кого, Сталина? Вздор! Очнитесь!
— Это подстроили предатели, перерожденцы, разбойничья шайка! Они специально умертвили вождя, чтобы забрать власть, захватить Кремль!
— Изменники бросили на нары его славного сына-генерала!
— Судить! Судить! Сталин с нами! Сталин жив! Сталин будет жить!
Со скоростью света распространялась молва о сталинских злодеяниях, но в противовес ей, многие языки с придыханием повторяли: «Святой!» Опять Сталин шевелился, будоражил сознание! И бурлило море, и поднимался шторм возмущений. Грузинская молодежь высыпала на улицу, студенты не пошли на занятия, кто-то бросил работу. Возмущенные и оскорбленные, они шагали плечо к плечу с высоко поднятыми портретами славного сына Грузии — любимого Иосифа Виссарионовича. К ним, возмущенно кричащим, спешили люди постарше и вставали рядом. К шествию примыкали подростки, присоединялись седые старики, которые помнили Джугашвили еще молодым, когда он ходил по соседним улицам. Шествие приняло массовый характер, толпа заполонила улицы и площади.
— Мы не бросим тебя, товарищ Сталин! Мы покажем, кто хозяин в стране! Народ хозяин! Берегись, враг! — скандировали тысячи голосов.
— Молотов, Молотов! Молотова председателем правительства!
В Советском Союзе с официальным визитом находилась китайская делегация. 5 марта в Москве состоялось подписание обширного дополнения к Советско-Китайскому Соглашению о сотрудничестве в области науки, техники, культуры, образовании и здравоохранении. Со стороны Китая подпись поставил заместитель Председателя Всекитайского Народного Собрания Чжу Дэ. 6 марта часть китайской делегации во главе с ним изъявило желание посетить родину Сталина. Сегодня китайцы находились в Тбилиси, их разместили в гостинице «Интурист». От имени Мао Цзэдуна, Чжу Дэ возложил цветы к памятнику Сталину на проспекте Шота Руставели.
Серов отдал распоряжение срочно вывести китайскую делегацию за город на госдачу и приставить к даче усиленную охрану.
— Возьмите пулеметы! — прокричал Серов.
— Что?! — переспросил начальник Тбилисского Управления.
— Что чтокаешь?! Пулеметы бери! — кричал Иван Александрович, на его лице проступил неприятный оскал.
Аня пыталась показать мужу, чтобы говорил тише — Зина спала. Супруг отмахнулся — не мешай!
— Если что, открывай огонь на поражение, тебе ясно?! За китайца головой отвечаешь! — Серов с силой брякнул трубку. — Плохо дело, Анюта, очень плохо! Я на работу помчал.
Через два часа госдача, куда спрятали китайца, была окружена многолюдной толпой. Начальник Управления госбезопасности не решился отдать приказ стрелять по мирному населению. В ультимативной форме Чжу Дэ было предложено отправиться на митинг в Тбилиси, чтобы почтить память Иосифа Виссарионовича Сталина. Он подчинился, поехал в грузинскую столицу и выступил на митинге с речью, в которой возвеличивал генералиссимуса, говорил о его исключительной роли в коммунистическом строительстве, обещал, приехав в Москву, переговорить с товарищем Молотовым, передать ему требование грузинского народа незамедлительно возглавить Советское правительство. Также он пообещал довести информацию о событиях в Грузии до Председателя Мао и до мирового сообщества, после чего Чжу Дэ и остальные члены делегации были благополучно доставлены в аэропорт, где их ожидал самолет.
— Доминдальничались?! — испепеляя Серова взглядом, прошипел Хрущев. — Куда глаза твои смотрели?!
Серов потупился:
— Это ваш доклад такой переполох наделал, как-то узнали о его содержании.
— Доклад! Переполох! Лучше скажи, что проспал!
Генерал армии понимал, что его недоработка в происшедшем очевидна.
С 1954 года, каждый март, в Грузии начались стихийные выступления, так называемые «дни памяти Сталина», приуроченные ко дню его кончины. Проходили они спокойно. Постоят со свечками, попоют, скажут скорбные слова и разойдутся. Иногда два, а иногда три дня поминали вождя всех времен и народов.
«Ну, сука, начальник Тбилисского Управления! — негодовал Иван Александрович. — Ситуацию упустил!»
Грузинский КГБ сообщал в Москву, что настроения у народа спокойные, предпосылок к волнениям нет.
В хрущевском кабинете на Старой площади были Булганин и Микоян. Анастас Иванович сидел рядом с Первым Секретарем, а Булганин занял самый дальний угол. Потом подъехал Жуков.
— Войска приведены в боевую готовность! — доложил он.
— Что с китайцами? — Хрущев исподлобья взглянул на Серова.
— Самолет летит. Мжаванадзе сообщил, что толпы прорываются к телеграфу, чтобы послать в ООН, в Вашингтон и Лондон телеграммы с требованиями не признавать правительство Булганина, требуют на этот пост Молотова. Хотят вернуть историческую славу Сталину, собирают подписи на обращение грузинского народа в Центральный Комитет об отстранении Хрущева и Булганина от должностей, с последующей передачей суду, — заунывно сообщил Серов.
— Слышал, Коля, и до нас добираются! — оскалился Хрущев.
— Слышал! — глухо отозвался председатель правительства. Вид у него был подавленный.
— Не пускать смутьянов никуда! — закричал Никита Сергеевич, вскочил и побежал по кабинету. — Я им устрою — Сталин! Я им устрою — Молотов! Это провокация врагов Советской власти! Это заговор!
— Мятежники в кольце, — отрапортовал Жуков.
— Разогнать! Никаких снисхождений! Стрелять! — выпалил Хрущев и, добежав до конца кабинета, застыл над неподвижной фигурой Булганина. — Так говорю, Николай Александрович?!
— Так, — тихо отозвался тот.
— Выполняйте приказ председателя Совета министров!
— Есть! — отчеканил Жуков.
— Кто у тебя, Георгий, там будет за старшего?
— Малиновский.
— Родион не слюнтяй! Пусть действует! — Никита Сергеевич снова развернулся к Булганину. — Я спать поехал, теперь ты командуй!
Не проронив больше ни слова, Хрущев выскочил из кабинета. Приехав домой, он достал из буфета бутылку водки, налил полный стакан, залпом выпил и завалился в кровать.
Демонстрацию расстреляли. Убили семьдесят два человека, около трехсот ранили, больше тысячи участников волнений схватили. Дело было сделано — в Тбилиси и во все крупные города Грузинской Советской Социалистической Республики вошли военные.
9 марта, пятница
— В приемной товарищ Каганович, — доложил Молотову секретарь.
— Приглашайте, — ответил Вячеслав Михайлович и поднялся гостю навстречу.
Каганович широко улыбался. Видный, плечистый, совсем не старый, боевой.
— Пришел обнять тебя, дорогой Вячеслав Михайлович, поздравить с днем рожденья! — Лазарь Моисеевич заключил товарища в крепкие объятья.
— Задушишь, Лазарь!
— Рад! Очень рад! Поздравляю! — похлопывая друга по плечам, продолжал гость.
— Присаживайся на диван, и я к тебе иду.
Лазарь Моисеевич поднял с пола портфель, который перед излияниями любви опустил, и снова заговорил:
— Позволь в день рожденья преподнести тебе подарок, — и он полез в портфель. — Передаю тебе последнюю прижизненную фотографию Владимира Ильича Ленина, сделанную в Горках, за четыре дня до его кончины. — И он протянул фото.
Молотов благоговейно принял латунную рамочку под стеклом. С фотографии, сидя на медицинской коляске, смотрел похудевший, осунувшийся, с трудом узнаваемый Ильич. В руках он держал букетик полевых ромашек. С обеих сторон коляски стояли санитары в белых халатах — ведь Ленин уже не ходил.
— За такой бесценный подарок благодарю! — отозвался Вячеслав Михайлович.
— Ты, Вячеслав, остался единственным, кто плечом к плечу с Лениным работал.
— Верно. И ты, и я — продолжатели ленинского дела!
— И сталинского! — добавил Каганович.
— И сталинского, — подтвердил Молотов. — События в Тбилиси это доказали.
— Много людей поубивали, — помрачнел Каганович. — С нами не посоветовались, сами решили стрелять.
— Побоялись нас спросить.
— И Ворошилова не позвали, а он Председатель Верховного Совета! — недвусмысленно проговорил Лазарь Моисеевич.
— Вода лазейку найдет, ничто стихию не удержит. Наше дело правое, как бой грянет — победа за нами, теперь это совершенно ясно! — заключил Вячеслав Михайлович.
— Народ требует убрать пустозвонов, а они по людям стреляют! Сто человек погибло.
— Вроде семьдесят.
— В больнице еще умерло.
— Не знал! — с сожалением причмокнул Молотов.
— Как могло такое произойти, я поражаюсь! Ведь Хрущ только-только за мир говорил, за доверие человека к человеку, и тут же — расстрел!
— Боятся, что их на вилы люди поднимут.
— Уж, точно, бояться.
— Мне Никита говорит: «Вас требовали председателем правительства!» — и смотрит своими крысиными глазками.
— А ты?
— «Я уже был председателем правительства, — отвечаю. — Целых десять лет. Видно, хорошо работал, вот и зовут обратно».
— А Хрущ?
— «Да, вы хорошо работали!» — подтвердил.
— Вот тип! — скривился Каганович.
— В следующий раз с нами советуйтесь, — говорю. — Может, нашли бы бескровный путь, — пересказывал разговор с Хрущевым Вячеслав Михайлович. — Обещал советоваться. Я успел с Чжу Дэ переговорить, привет товарищу Мао Цзэдуну передал. Чжу Дэ тоже считает, что мне надо было в Тбилиси лететь, тогда бы смертоубийства не случилось.
— Надо было тебе поехать!
— Кто бы пустил, Лазарь? Не смеши! Хрущ больше всего этого перепугался. И бесхитростный Булганин как осиновый лист дрожал. Я этим соколятам, как кость в горле!
— Как мы Хрущева упустили!
— Хватит! Давай мой праздник справлять! — хлопнул друга по плечу Молотов.
— Давай, дорогой! Я тебе так скажу, не случайно совпало, что товарища Сталина похоронили в день твоего рожденья, тут знак! Видно, Вячеслав, твое время наступает.
— Умирать, что ль? — прищурился Молотов.
— Не дури, править время пришло!
— Раз так, бутылку достану! — засуетился министр Государственного контроля. — А то гость пришел, а мы даже горла не промочили!
Но Каганович его опередил, извлек из портфеля шустовский коньяк, разлитый еще при царском режиме.
— Шестьдесят шесть лет коньячку, как тебе! — потрясая бутылкой, проговорил Лазарь Моисеевич.
— Не жалко?
— Чего жалеть!
Он ловко откупорил бутылку и разлил.
— За тебя, друг!
— Нет, — удержал Кагановича Молотов, — Давай первую, чтобы враги наши подохли!
Каганович внимательно посмотрел на телефонные аппараты у письменного стола и громко добавил:
— Пусть враги Советской власти издохнут!
— Именно это я и имел в виду!
12 марта, вторник
Леля скучала, Сергей уехал с отцом в Завидово на охоту, а ведь недавно отмечали 8 марта — женский праздник! Второй день от него нет ни слуху, ни духу. Леля поднялась с постели, умылась, отправилась на кухню и, открыв холодильник, решала, чем бы позавтракать. Дуня, работница, предложила отварить яйца или сделать омлет. Леля отрицательно покачала головой. Развернув мороженое, выложила пломбир в глубокую тарелку и щедро посыпала ягодами — голубикой и малиной, — такой вот получился завтрак. Она отнесла тарелку в столовую и поставила на стол, чтобы мороженое подтаяло. Ягоды были спелые, сочные. Всю зиму из оранжереи ботанического сада Лобановым привозили фрукты и овощи. Леля съела всего пару ложечек и пошла варить кофе. На душе было тоскливо, ночью ей приснился поганец Сашка, они занимались любовью! Сон был такой явный, словно это и вправду было, а Леля ведь ни разу не была с ним близка, вернее, ни с кем не была близка.
«Дурацкий сон, гадкий! — нахмурилась испанка. — Что бы он означал? Может, хочется снова быть с ним, с Сашкой? С изменником?! Нет, никогда! А Сергей не звонит! — погрустнела влюбленная. — Что он сейчас делает? Охотится? А может, он встретил девушку лучше меня? — от ужаса Леля похолодела. — Нет, не допущу! Надо нам стать совсем близкими, необходимо это сделать!» — она зажмурилась, представляя Сергея и себя, но в мысли бесцеремонно вторгался красавчик и сердцеед Александр Прохин! Несчастная уселась перед окном, совершенно забыв про кофе. Мороженое растаяло и растеклось по тарелке.
На улице было печально, бессолнечно, серо. Проклятый сон никак не шел из головы.
— Ненавижу этого Сашку, ненавижу! И Ладку ненавижу! И Сережа не звонит. И его ненавижу!
23 марта, пятница
Доклад Хрущева на ХХ Съезде поверг в шок не только послушное партии население Советского Союза, он ошарашил и верные ленинскому курсу социалистические сателлиты, государства, руководимые коммунистами, шквалом холодной воды обрушился на мировое сообщество. Никто не мог предположить, чтобы вчерашние сталинцы подняли руку на непогрешимого оракула, громогласно заявили о произволе, об уголовном беззаконии, начали отмежевываться от прежнего режима, обращаясь к принципам демократии. В воздухе над одной шестой частью мира восторженным солнцем засияло сладкое слово «Свобода»!
Жестокая расправа над демонстрантами в Тбилиси не получила в мире надлежащего резонанса, ее преподнесли как вооруженный мятеж сталинистов, отстаивающих тоталитаризм. И хотя иностранным корреспондентам стали разрешать передвигаться по Стране Советов, заглядывая даже в богом забытые глубинки, трагические события в Грузии не прозвучали. Весь цивилизованный мир был зачарован самоотверженным докладом Хрущева. Текст выступления попал за границу. Во время закрытого заседания хрущевский доклад не стенографировали, позже появился вариант для печати, который подготовили Поспелов и Шепилов. Печатный вариант решено было разослать по обкомам, чтобы с ним ознакомились коммунисты, и в компартии государств «народной демократии», похоже, именно оттуда произошла утечка, текст оказался в Англии, в Америке, хотя, не исключено, что кто-то из делегатов, находящихся в зале, втайне симпатизируя Западу, поделился информацией, воспроизведя сказанное по памяти. Говорил Хрущев без бумажки около четырех часов, а в печатном варианте текст оказался вдвое короче, да и само содержание отличалось: особо острые углы были сглажены, хотя по смыслу, осталось примерно то же.
О Хрущеве говорили в Лондоне, шептались в Нью-Йорке, произносили его имя в Париже, Бонне, Женеве, Риме. Предвкушая близкое освобождение от опеки сурового северного соседа, ликовал созданный в результате Второй Мировой войны социалистический лагерь. Радовались американцы, надеясь, что противостояние двух мировых систем — социалистической и капиталистической — закончится. Восторгались освобожденные из тюрем, всей душой ненавидящие ГУЛАГ, бывшие зеки; рыдали от счастья, еще не освобожденные, но теперь получившие твердую уверенность в освобождении узники суровой 58-й статьи, просидевшие на краю земли безмерно долгие годы. В надежде снять с себя позорный ярлык «член семьи врага народа», с которым было невыносимо жить, задыхались от счастья осиротевшие семьи тех, кто навсегда исчез за колючей проволокой. Радовался и сам Хрущев, попытавшийся переломить черный стержень насилия, пронизывающий огромную страну от края до края. Чем обернется его дерзкое выступление во изменение первобытного, палочно-варварского режима, необъятного, поставленного под ружье государства-солдата, никто не знал, но на душе звенел праздник. Стало как-то чище, вольготней, и, как однажды выразился сам Иосиф Виссарионович: «Жить стало лучше, жить стало веселей!»
26 марта, понедельник
Вопреки ругани и истеричным нападкам на ХХ Съезде партии Пал Палыча Лобанова избирали членом Центрального Комитета, на всенародных выборах он снова стал депутатом Верховного Совета СССР. И не просто депутатом: приложив нечеловеческие усилия, Хрущев пробил для Лобанова пост председателя Совета Союза Верховного Совета СССР. Павел Павлович сделался председателем одной из двух палат советского парламента. Должность по сути условная, но в табеле о рангах непомерно высокая. Назначение это резко повысило лобановский авторитет в глазах партхозаппарата и притормозило взбалмошного Пузанова, который вынашивал решение о снятии заместителя.
— Не дадим тебя в обиду, Пал Палыч! — пожимал руку Хрущев. Они стали видеться чаще. Лобанова в обязательном порядке включали в состав делегаций сопровождающих Первого Секретаря. Ему снова отдали кураторство за сельским хозяйством. Лобанов воспрял, осадил Мацкевича, сделал выволочку Бенедиктову. При этом он исправно появлялся в институте генетики у Лысенко и в Академии сельхознаук. На опытных культурах — подсолнечнике и кукурузе — они с Лысенко добились небывалых результатов: с одного гектара собирали сорок центнеров подсолнечника! Тогда как колхозы получали всего по шесть-восемь.
— В Европе до 22 центнеров еле дотягивают, а у нас — сорок! — ликовал Хрущев. Глядя на постные лица руководства ВАСХНИЛ, он самодовольно качал головой:
— Что, видели? Эх, вы, балаболы!
Лысенко был в очередной раз возвеличен. В газете «Правда» появилась хвалебная статья, где его славили. Лысенко и Пал Палыча выдвинули на Государственную премию, вспыльчивого Пузанова Хрущев перестал принимать, лысенковских оппонентов начали задвигать, строго указав партийным организациям проводить с научными работниками разъяснительную работу, чтобы те не допускали впредь огульных, идущих в разрез с линией партии высказываний.
— Эта глупость имеет очень неприятный запах! — потрясая треклятым письмом, указывал Первый Секретарь.
Демонстрируя свое научное превосходство, Лобанов вслед за Лысенко пытался доказать несостоятельность генных теорий буржуазных авторов. Устроив открытый диспут в Академии сельскохозяйственных наук, куда, разумеется, не явилось более половины его противников, блистал аргументами, приводил убедительные примеры, но даже если б оппоненты и появились, переубедить, переспорить Лобанова у них бы не получилось, оратор он был выдающийся. К нему немедленно подключился Трофим Денисович, ученый заставил сцену горшками с различного рода растениями, пригласил скрипача и гитариста, которые по его команде начинали играть. После очередной музыкальной композиции Лысенко испрашивал академиков, улучшилось ли у них настроение? С неописуемым азартом пел сам, заставляя подпевать остальных.
— При пении, — объяснял он, — улучшается настроение, а значит, организм функционирует наиболее стабильно.
Народный академик, именно так называли Лысенко при Сталине, доказывал, что певцы и музыканты живут дольше, чем обыкновенные люди, объявил, что музыка и пение — прямой путь к долголетию. От растений ученый перешел к человеку, пропагандируя профилактику любых болезней музыкой и вокалом.
— В природе все взаимосвязано, — утверждал Трофим Денисович. — Растение есть продукт эволюции, и человек не на Луне родился!
Лысенко увязывал в одно целое все живое на планете.
— С древнейших времен человека завораживал танец. Под звуки труб и барабанов древние люди совершали священные обряды, поклонялись божествам, провозглашали правителей, излечивались от недугов, совершали супружеские обряды. Любой сегодняшний праздник — отзвук тех первобытных времен с неумолкающим гулянием, песнями и плясками! Почему современные музыканты собирают многотысячные аудитории? Почему, как магнитом, влечет человека на концерт, на бал? Почему войска, маршируя под оркестр, без страха идут в атаку? Да, в конце концов, почему нам так нравиться петь и плясать?! — оглушали тишину его гортанные возгласы. — Не в генах дело, ген под музыку не спляшет!
— В основе лысенковских закономерностей лежат несокрушимые постулаты Маркса, Энгельса и Ленина! Марксизм-ленинизм приоткрыл тайны бытия! — поддерживал наставника Пал Палыч.
— Мы проследили влияние коллектива на отдельные индивидуумы, влияние большинства на меньшинство и убедились — все по Марксу! Засеиваю поле пшеницей, одну треть беру обычной, а две трети — морозоустойчивой, и вся пшеница в поле морозоустойчива! Кое-кто из коллег улыбается — философию с биологией попутал! Ничего не попутал! Маркс и Ленин указали путь не только человеческому обществу, они обосновали законы развития вселенной, в этом я на опытах убедился! — с пеной у рта выкрикивал Трофим Денисович. — Отбросьте талмуд, придите ко мне на поля и сами убедитесь!
Потрясая склянками, выставляя перед собой горшки с гречихой, просом, овсом, редисом, достигшими непомерных размеров; демонстрируя засушенный подсолнух, вымахавший выше двухэтажного дома, который чудом выволокли на сцену, Лысенко требовал прямо здесь подниматься на сцену и ощупывать ростки в кастрюлях, трогать стебли, взвешивать плоды, перебирать пузатые семена, чтобы каждый смог убедиться в очевидности его слов.
— Откуда все взялось? С грядки взялось, вот откуда! А ваши картошки где, покажите? Где подсолнухи? Где помидоры? Почему у меня вымахали, а у вас с гулькин нос? Почему я плохой, а урожаи у меня — хорошие?! — истерил свергнутый академик.
Селекционер кричал, что не допустит в Академии раболепства перед иностранщиной, говорил, что советская агробиология — самая прогрессивная в мире, славил хрущевскую целину. Профессор Презент выскочил на сцену и долго тряс Лысенко руку, после чего схватил горшок с сурепкой и простонал в зал:
— Это чудо из чудес! — стал говорить о торфокомпостах и торфяных горшочках, предложенных взамен дорогостоящих удобрений. Применение торфяных горшочков в разы увеличивало урожайность. В поддержку Лысенко и Лобанова выступил заместитель министра сельского хозяйства Мацкевич, который теперь все свои доводы основывал на трудах Трофима Денисовича, сказав о способностях организма передавать вновь приобретенные признаки следующим поколениям, он подробно остановился на теории межвидовой борьбы, подтверждая аналогию с классовой борьбой в условиях обостряющихся общественных противоречий.
В этот вечер Никита Сергеевич пригласил Лысенко и Лобанова домой.
— Отстрелялись?
— Я сделал большой доклад и наглядные примеры дал, — доложил Лысенко, но просидел в гостях недолго, уехал.
Никита Сергеевич распил с Лобановым бутылочку мозельского вина. Лобанов хвалил мозельское. Хрущев благосклонно кивал.
— Я в Лондон собираюсь, — сказал он.
— В Лондон! — обрадовался Пал Палыч.
— А то ж!
— Меня возьмете?
— Не возражаю, — отозвался Хрущев. — Представляешь, Пал Палыч, мы с тобой, простые люди, будем с королевой говорить!
— Выходит, не такие простые! — сиял от доверия Лобанов. — Вы, Никита Сергеевич, миром управляете! — категорично заявил он.
Из гостиной перешли в столовую закусить.
Хрущев с аппетитом ел блины, обильно поливая их сметаной. Блины были тоненькие, румяные, с пылу с жару!
— Возьми блинчика! — предлагал хозяин.
Чтобы не перемазаться, академик заткнул за воротник салфетку и потянулся за блином.
— Вот сметанка. Нина! — позвал Никита Сергеевич. — Спеки еще!
— Хо-ро-шо! — отозвалась Нина Петровна, блины для супруга она готовила лично.
— В Англию поедем на военном крейсере, чтобы всему миру наше боевое превосходство показать. Получается, не только ученые у нас теоремы доказывают! — подмигнул Никита Сергеевич.
— Хитро! — Лобанов нагнул голову, чтобы целиком засунуть в рот блин, с которого, за каплей капля, убегала сметана. — Надобно им, Никита Сергеевич, — ам! — Пал Палыч проглотил сложенный трубочкой блин, — этим зазнайкам, — имея в виду англичан и американцев, — как можно чаще мощь демонстрировать. Обязательно надобно. Потому поездка в Англию на военном корабле — самое верное решение!
Хрущев довольно улыбался.
— И Серов поедет, охранять нас будет!
— Страна враждебная, там охрана пригодится.
— Давай-ка мы с тобой по рюмочке тяпнем? — предложил Никита Сергеевич. — Ты, Пал Палыч, в стране теперь не последнее лицо, так что повод есть.
Хрущев достал бутылку «Старки», рюмки и разлил.
— На травах. Мировая вещь! Ну, будь здоров!
— Хороша! — выпив, похвалил Пал Палыч.
— Наши, как бы это понаучней выразиться, неандертальцы — Молотов с Ворошиловым наконец из Кремля съехали. А то, представь, прижились там. Сначала к Маленкову бегали, потом к Булганину, упрашивали пожизненно за ними кремлевские квартиры закрепить. Просили, чтобы и детей их туда прописали, в Кремль! О, шутники! Пройдет сто лет, а Кремль Молотовы с Ворошиловыми оккупируют. Кукиш! — Хрущев смачно сложил дулю.
Лобанов потянулся рюмкой к Первому Секретарю:
— Так значит, за выселение?
— Выкурили! — чокаясь, кивал Хрущев.
Никита Сергеевич с азартом опрокинул рюмку. Пал Палыч, зажмурившись, последовал его примеру.
— Расскажи-ка, Пал Палыч, какие у тебя успехи, что нового? А то все в твоих открытиях сомневаются?
Ученый стал серьезным, снял с груди салфетку, выпрямился и проговорил, глядя на Первого Секретаря:
— Чтобы урожаи брать не сезонно, а в течение лета, мною разработана методика двойной подрезки. Эксперимент проводился на плодовой малине.
— На малине? — переспросил Хрущев.
— Да, — кивнул академик. — Принцип этот заключается в следующем: в начале июня, когда куст дает полноценные побеги, надо произвести их обрезку, сантиметров этак на десять-пятнадцать стебель сверху прихватить.
Лобанов сделал жест руками, как бы демонстрируя, как он подрезает побеги.
— За счет мощного периферического роста развиваются новые стебли. К концу лета каждый обрезанный стебель дает до десяти периферических побегов, значит, соберем прекрасный урожай.
Хрущев одобрительно закивал.
— Но это не конец, на следующий год, как только малина пустит листву, делаем вторичное обрезание, то есть производим подрезку всех новых побегов. Вот почему этот метод и получил название метода двойной подрезки, — уточнил ученый. — Вследствие этих действий урожайность увеличивается в геометрической прогрессии. Теперь наш куст малины плодоносит без остановки, а внешне напоминает пушистое деревце. Ягоды с такого куста можно собрать с июня по сентябрь, — закончил Лобанов и уставился на Первого Секретаря.
— А почему ты именно малину взял?
— Дочь малину любит, — бесхитростно ответил академик.
6 апреля, пятница
— Кто был в Грузии в первых рядах? Молодежь была, студенты, они выступали за Сталина. Почему студенты? Потому, что среди студентов слишком много неустойчивых и несознательных людей. Откуда они берутся? Это дети из обеспеченных семей. Крестьянским детям не до рассуждений, им учиться надо, за них папа экзамен не сдаст. А директорские сынки, вместо занятий начинают идеи высказывать! — возмущался на Бюро ЦК комсомола его первый секретарь Александр Николаевич Шелепин. — При этом многие хорошо учатся! — добавил он.
— Среди отличников нередко бывают выродки! — подтвердил второй секретарь ЦК комсомола Семичастный.
— Наше терпение кончилось! — сверкнул глазами Шелепин. — Будем отчислять за любое проявление вольнодумия, невзирая на оценки! Как говорит Никита Сергеевич Хрущев, главное, чтобы основа пролетарская была, закваска пролетарская! Деканаты будут отчислять по представлению институтских комитетов комсомола. Так будем решать. Высшая школа — основа государства, и если туда придут чуждые партии элементы, значит и в государстве может мотор забарахлить, а это недопустимо! И не только моральный облик студента, но и поступление в вузы будем брать под контроль, добиваться, чтобы перед сдачей документов абитуриент проходил собеседование в райкоме комсомола.
В обстоятельном письме в ЦК Партии Александр Николаевич предлагал отменить льготное вне конкурса поступление в институты и университеты медалистов, настаивал, чтобы в высшие учебные заведения брали только тех, кто два года отработал на предприятии, чтобы трудовой коллектив выдавал характеристики, и если в этих характеристиках оказывалось что-либо крамольное, например, низкая политическая активность, индивидуализм, зазнайство, таких личностей он предлагал в вузы не допускать.
— Государство за свой счет студента учит, иногородним предоставляет общежитие, выплачивает стипендии, а находятся такие, кто осмеливается давать правительству оценки, не соглашаться с решениями партии! А то, что его, дурня, выучат, первоклассным специалистом сделают, про это не вспоминают! — негодовал комсомольский вожак. — Надо пресечь проникновение в высшие учебные заведения случайных людей. Комсомол должен встать на стражу государственных интересов! Надо очистить вузы от антисоветских элементов. Тех, кто разносит крамолу, щадить не будем!
— Не оправдавших высокого звания советского студента исключать из института и гнать из комсомола! — гневно высказалась член Бюро ЦК комсомола Зоя Туманова.
Александр Николаевич одобрительно посмотрел на Зою Петровну, которая, работая в газете «Пионерская правда», вычистила из редакции всех, у кого обнаружились хоть какие-то родственники, осужденные Советской властью. По ее наводке кое-кто оказался за решеткой.
— Но ни в коем случае нельзя потерять человека! Пришел, к примеру, учиться паренек из деревни, ничего, кроме своего родного села, не видел, в райцентре, может, раз побывал, ходит с открытым ртом и умников столичных, плесень так называемую слушает. В голове у него еще полнейшая каша. Наслушается гнилых разговоров или радио «Би-би-си» по чьей-то подсказке включит и заблудится. А как, товарищи, не заблудиться? Ему семнадцать лет, жизни не знает, — нравоучительно продолжал Александр Николаевич. — Поэтому надо шире вести разъяснительную работу, чтобы распознавала молодежь, кто свой, а кто — чужой, придвинуть надо зеленых пацанов ближе, пригреть, привлечь к комсомольской жизни. Здесь, товарищи, следует вдумчиво подходить. Я хочу снова привести слова, услышанные от Никиты Сергеевича: «Таким, — имеется в виду молодым, сомневающимся, — надо всячески помогать, относясь как можно терпимее к их ошибкам, стараясь их исправить путем убеждения».
Члены Бюро пустились в детальное обсуждение шелепинских идей.
Молодость все подвергает обсуждению, даже то, во что одет преподаватель, на какую девушку он посмотрел. В любые времена студенчество — самая бурная и неспокойная общность людей. Здесь остро реагируют на политику, обсуждают газетные статьи, передачи по радио, телевидению. В институтских коридорах витают всевозможные сплетни, слухи, очевидные факты и небылицы, и всему здесь дают оценку, высказывая мнение, подчас отличное от официального. Хочешь, не хочешь, а студент может стать опасным. Комсомол призван подобного не допускать.
Молодежь спорила, что-то гневно осуждала, некоторые втихаря собирались и ругали власть. Во имя спасения Отечества, дошло до создания тайных организаций. Такое происходит неизбежно, было и будет во все времена, а как иначе сделаешь мир лучше? Секретные организации по сути своей были мнимые, не террористические, несущие лишь идеологическую угрозу, однако на улицах стали появляться листовки с антисоветскими призывами. Во время трагических событий в Грузии кто-то оказался там и потом рассказал, что случилось в Тбилиси, как солдаты убивали безоружных людей. И это было в листовках. С других концов просачивались сведения о беззаконии, самоуправстве, о суровом укладе бескомпромиссного социалистического единства. Чье-то детство прошло по соседству с местами «не столь отдаленными», где один лагерь за колючей проволокой переходил в другой, а арестант передвигался по территории под прицелом охранников, засевших на вышках с пулеметами. Они, эти очевидцы, рассказывали о необозримых просторах ГУЛАГа. Многие тысячи зеков, которые рано или поздно выпускались на свободу, по разным причинам никуда не уезжали: кто-то встречал на воле женщину; кто-то, из-за страха, как тебя встретят дома, нужен ли ты там, получал на чужбине работу. Бывший заключенный не торопился возвращаться — истерзанные дознаниями семьи, спасая собственные судьбы, отказывались от своих горе-мужей, осужденных на долгие годы. Ни дома у многих «ЗК» не осталось, ни семьи. А тех, кого ждали, не пускали домой введенные НКВД ограничения: нельзя человеку, отсидевшему срок, селиться ни в столице, ни в промышленных центрах, ни в приграничных районах. Так и оседали вокруг тюремных лагерей тысячи душ с переломанными судьбами, с искалеченными сердцами, хранившими в себе жуткую правду о ленинском порядке, правду, которая не дает спать, а больно кусает, душит, требуя отмщения. Так или иначе, горькая правда эта летела по белу свету, и не удавалось заглушить ее торжественной музыкой. Особо жутко было тем, кто сидел долго, кто хлебнул сполна, но и они, проснувшись однажды, стали поднимать головы, зароптали. Критическая масса доведенных до полуживотного состояния человеческих душ множилась, раскачиваясь, как океан, из стороны в сторону. С виду зона казалась спокойной, униженной, до беспамятства истерзанной, изнуренной каторжным трудом. С течением времени хмурое море начинало шевелиться, оживать, и поднималась волна, и налетал шквал, выплескивая наружу годами копившуюся боль, унижение и ненависть. И вставали зеки, хватаясь за что попало, и били своих обидчиков, своих вопиющих сторожей, похитивших у пленников свободу, здоровье, не гнушавшихся прихватить даже малые крохи скудного тюремного содержания, за которое иной раз лишали в лагере человеческой жизни.
Как только не измывалась над арестантом тюрьма, чем только не уродовала души!
И бунты эти, эти угрюмые, вспыхивающие то тут, то там гремучие восстания, усмирялись уже не автоматными очередями подоспевшего, до зубов вооруженного конвоя, они усмирялись тяжелой артиллерией, лязгающими танками, давящими в кровавую кашу озверевшую, потерявшую разум толпу.
И такая горькая правда была известна студентам.
Бюро ЦК ВЛКСМ одобрило подготовленные Шелепиным предложения о дополнительных мерах по работе с молодежью.
Подготовка к первой Спартакиаде народов СССР стояла на Бюро вторым вопросом. Идея, высказанная Анастасом Ивановичем Микояном, понравилась Хрущеву, вот уже целый год к спортивному первенству шла усиленная подготовка. Спартакиада СССР должна была стать плацдармом спортивных побед, кузницей будущих рекордсменов. Открытие Первой Спартакиады приурочили к открытию Центрального стадиона в Лужниках.
Заканчивая спортивную тему, второй секретарь ВЛКСМ Семичастный доложил о готовности к Олимпийским играм в Мельбурне. Еще на прошлом Бюро просмотрели состав советской делегации, ее руководителей, поддержали предложение Спорткомитета доставить олимпийцев в Австралию кораблем. Поездом сборную предполагали везти до Владивостока, а дальше — плыть. Корабли по международному законодательству являются территорией той страны, которой принадлежат, а значит, на судне можно не опасаться провокаций и тлетворного влияния Запада.
Александр Николаевич был особо красноречив. Его так и распирало от собственной значимости, потому как вчера Шелепина вместе с Фурцевой, Брежневым, Шепиловым, Поспеловым, Серовым и Руденко, включили в комиссию по расследованию обстоятельств позорных политических процессов 30—50-х годов. Комиссия должна была установить, виновны ли маршал Тухачевский, глава правительства Рыков, «любимец партии» Николай Иванович Бухарин и заместитель председателя правительства Вознесенский в предъявленных обвинениях. В тот же день из Секретной части ЦК к Шелепину поступили объемные тома следственных и судебных документов. Эти действия предпринимались Хрущевым для преданья гласности бесчеловечных Сталинских преступлений. Хрущев требовал реабилитации, как отдельных людей, так и целых народов. Тем самым Первый Секретарь хотел восстановить законную справедливость и упрочить свой авторитет. Чтобы в полный голос заявить о творящемся беззаконии, нужны были неопровержимые доказательства, предъявленные не случайными, а известными в народе людьми. Александр Николаевич не удержался и все-таки обмолвился перед подчиненными информацией о создании правительством и Центральным Комитетом такой авторитетной комиссии.
— Но это строго конфиденциально! — с чувством собственного превосходства вымолвил он.
После такого заявления ни у кого не осталось сомнений, что Александр Николаевич находится на старте и скоро перейдет работать на Старую площадь, что с его толковостью, работоспособностью, усидчивостью и требовательностью случилось бы неизбежно.
На Бюро ЦК комсомола в обязательном порядке приглашали руководителей центральных комсомольских ведомств, в том числе редакторов молодежных газет. С этого года в зале постоянно находился первый заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда» Алексей Иванович Аджубей. Когда заседание закончилось и его участники стали расходиться, Александр Николаевич Шелепин и второй секретарь ЦК комсомола Владимир Ефимович Семичастный отправились обедать. В этот раз они пригласили Алексея Ивановича с собой.
Кушали на этом же этаже, в специально оборудованной комнате с видом на Политехнический музей, и хотя там размещался стол на шесть человек, никто лишний сюда не попадал. Получалось, что Аджубей был не лишний. Обед здесь всегда был скромен, даже аскетичен:
— Ни к чему шиковать! — указывал Александр Николаевич.
В общей комсомольской столовой, размещенной в подвале под зданием, разнообразия было больше. Расселись. Шелепин с Семичастным рядышком, Алексей Иванович напротив. Посуда на столе, вилки с ложками, были самые дешевые, точно, как в любом общепите. Еду несли из общей кухни, но готовил ее отдельный повар.
Салат из тертой свеклы, вспрыснутый растительным маслом — на закуску, суп с фрикадельками — на первое, на второе — жареная курица с макаронами, в графине — клюквенный морс. После обеда официантка принесла каждому счет и приняла деньги. Стоил обед ничтожно мало: за сорок копеек его мог позволить себе любой служащий, ведь заработная плата вахтера или дворника, самая низкая в штатном расписании главного комсомольского штаба, составляла восемьсот пятьдесят рублей, следовательно, дворник мог объедаться комсомольскими харчами. Во всех ведомственных столовых были невысокие цены, чем выше был ранг учреждения, тем ниже цена обеда. Ели молча, не глядя друг на друга. Только один раз Александр Николаевич, кивнув на доверху полную хлебницу, проговорил:
— Верно Никита Сергеевич предложил в столовых хлеб бесплатно давать, ешь хлеба, сколько хочешь! Это несомненная заслуга социализма. Ни один человек теперь с голода не умрет. И хлеб стал другой, — приминая большим пальцем кусок пшеничной булки, продолжал он. — Вкусный хлеб!
Алексей Иванович скромно кивнул, выражая полное согласие.
— Только вот класть в хлебницу столько хлеба не нужно, — заметил главный комсомолец. — Дали по кусочку, съели люди, тогда нового принеси. Бросаться хлебом — бесхозяйственность. Ты, Владимир Ефимович, скажи об этом, — взглянул на зама Шелепин.
Завершением обеда был чай с ватрушкой.
— Как работается, Алексей Иванович? — поинтересовался Александр Николаевич.
— За год тираж «Комсомолки» вырос на сто восемьдесят пять тысяч экземпляров, и это не предел! — проговорил Аджубей. — Стараемся делать менее официозные публикации, более живые, чтобы за душу брало. Получается. Поэтому и тиражи выросли, и отношение к газете лучше.
— Динамика позитивная! — похвалил Александр Николаевич.
В комнату заглянул шелепинский помощник.
— Вас Хрущев ищет!
Лицо главного комсомольца стало непроницаемым, он тут же поднялся и вышел. Комната, где обедали, была удобно расположена, если пройти дальше по коридору, то натыкался на широченные двери приемной первого секретаря, следующие двери вели к Семичастному.
Владимир Ефимович пододвинул Аджубею вазочку с облепиховым вареньем:
— Угощайтесь!
— Спасибо! — поблагодарил гость, но от варенья отказался. — У нас дома без облепихового варенья чай не обходится. Я, извиняюсь, видеть облепиху не могу! — объяснил Алексей Иванович.
Семичастный ничего на это заявление не сказал, сам же положил в чай варенье. Он был любимцем Никиты Сергеевича, работал при нем в Донбассе, потом в Киеве, где с хрущевской подачи стал руководить всеукраинским комсомолом. Хрущеву он нравился: бойкий, улыбчивый. Никита Сергеевич постоянно держал Семичастного при себе, учил, так сказать, уму-разуму, и когда в 1949-м вторично очутился в Москве, утянул Володю за собой, определив на место второго секретаря ВЛКСМ. У Шелепина с Семичастным сложились добрые отношения. Семичастный держался с ним как подчиненный с начальником, однако ни на одно семейное торжество Шелепина к Хрущеву не звали, а вот Семичастный был там завсегдатай. Эта чрезмерная близость многих настораживала, и в первую очередь Шелепина. Но Хрущев ценил деловые качества и Александра Николаевича не трогал.
Вдвоем Саша и Володя делали свое дело — занимались политико-воспитательной работой, курировали спорт, зорко надзирали за Высшей школой, но основное время отнимала, конечно же, целина, куда бесконечно шли поезда с молодежью. В мало освоенных целинных районах толком ничего не было. Множились палаточные, продуваемые всеми ветрами городки, летом стоял изнуряющий зной, зимой лютовали морозы. Палаточные города, постепенно превращаясь в деревянные, нестройными бастионами разгораживали бескрайние степи. Удобств было мало, но зато веселье било через край, хотя вместо кухни часто горел перед домом костер. Такой экзотики городские энтузиасты не ожидали. А ведь чем-то надо было их удержать, сделать так, чтобы Родина получила дополнительные миллионы пудов хлеба. Это была стратегическая задача, за которой стоял сам Хрущев. Чтобы улучить быт, нормализовать жизнь, чего только сюда не везли, чего только не выдумывали! Под жилье теперь собирались деревянные бараки, но строились они с удобствами — с душевыми и теплыми туалетами. Обещали работникам золотые горы и щедро сыпали деньги. По комсомольским путевкам из российских глубинок отправляли в Казахстан и Сибирь девушек, чтобы там образовывались семьи. Целинникам писали песни, снимали про них фильмы, один за другим шли на Восток агитпоезда. Целину наперебой посещали знаменитые артисты, тут можно было купить любые новинки советской промышленности: радиоприемники, телевизоры, электробритвы, посмотреть только вышедшее на экран кино, сюда поступало бесчисленное количество художественной литературы. Но главное дело, безусловно, делали деньги, деньги манили. Многие говорили: потерпим, годок-другой проработаем, подкопим, и домой — в Москву, в Харьков, в Смоленск, в Ереван! Но не бывает ничего более постоянного, чем временное.
Как только не старалось государство, чтобы удержать народ на бескрайних, убегающих за горизонт просторах! Участников целинной эпопеи превозносили, приравнивали к героям. Быт кое-как налаживался — открывались больницы, строились детские сады, школы, дома культуры. Необитаемая земля становилась обитаемой, в средствах массовой информации ее называли не иначе как счастливой. За счастье на целине также отвечал комсомол.
Когда Шелепин вернулся, лицо его было непроницаемо и безулыбчиво. Александр Николаевич занял свое место.
— Срочное дело, извините, — на одной интонации произнес он и придвинул стакан с чаем.
Размешав сахар, Шелепин взглянул на Аджубея:
— Никита Сергеевич передал, что подхватит вас, так что выходите на улицу.
Хрущев знал, что зять находится в ЦК ВЛКСМ, и позвонил Шелепину сообщить, что выезжает домой и захватит зятя по дороге.
— Гони Лешку на улицу в три шеи, чтоб я не ждал! — вот и весь разговор.
Шелепин пошел хрущевского зятя провожать. Пока ожидали машины, главный комсомолец сказал:
— Думаю, вам стоит возглавить «Комсомольскую правду», главный редактор Горюнов уходит заместителем в «Правду». Лучшей кандидатуры, чем вы, я не вижу.
12 апреля, четверг
Иван Александрович Серов доложил Хрущеву о мерах, принятых КГБ для обеспечения безопасности советской делегации, отправляющейся с визитом в Великобританию. Работой Серова Первый Секретарь остался доволен.
— Молодец, но держи ухо востро! — и Никита Сергеевич вальяжно взмахнул рукой, отпуская генерала.
— Я вам отличное ружье нашел, со сменными стволами! — напоследок проговорил генерал.
— Ружье? — оживился Хрущев.
— «Зауэр», легенькое-прелегенькое! Когда можно подвезти?
— Завтра вези.
— На работу?
— Давай на работу и пораньше, а то закрутят.
— Есть!
— Про шифровальщика сбежавшего не забыл?
— Работаем, Никита Сергеевич.
— Сбежавший шифровальщик поважнее ружья будет!
— В таких делах торопиться нельзя.
— Ты мне уже про то говорил.
— Никуда он не денется!
— Двигайся, Ваня, в заданном направлении!
— Не беспокойтесь!
— А я беспокоюсь! Завтра жду.
17 апреля, вторник
Крейсер «Серго Орджоникидзе» вышел из Ленинграда и взял курс на туманный Альбион. Хрущев был доволен. Новый, быстроходный, оснащенный последними видами вооружений морской исполин, словно огромный дракон, резал воду. Не забывая о печальной трагедии в Севастополе, когда от взрыва итальянских диверсантов ушел на дно флагман Черноморского флота линкор «Новороссийск», командование ВМФ приняло беспрецедентные меры предосторожности. Восемнадцать подводных лодок, четыре эскадры боевых кораблей, тридцать два вспомогательных судна — тральщики, торпедные катера, пожарники — следовали параллельными курсами. Целая армада под командованием адмирала Горшкова пенила Балтийское море. Маршал Вершинин поднял в воздух сто тридцать восемь боевых самолетов, и они, сменяя друг друга, описывали долгие круги над флотилией. Американские военные корабли, которые, как правило, курсировали поблизости, чтобы не дразнить русских, поспешили отойти в сторону. Море бурлило. Матросы и пассажиры зарубежных гражданских лайнеров, команды сухогрузов и рыбаков, попадавшихся на пути, с опаской всматривались в резкие очертания военных кораблей. Некоторым казалась, что началась война — таким устрашающим клином пенил воды русский флот. Истребители с красными звездами захватили небо, их моторы ревели. Скорость, с которой неслась армада, поражала. Со встречных судов радировали: «Кругом русские! Война!»
Упрямо пропахав океан, сопровождение остановилось у черты, где заканчивались нейтральные воды. Границу водного пространства Великобритании пересекли лишь три предварительно согласованных с королевскими военно-морскими силами судна, чье присутствие предполагал визит.
— Если нас подобьют, пикнуть не успеем, камнем пойдем ко дну, вес-то у крейсера жуткий! — за завтраком проговорил Хрущев и затопал ногами по железному полу. — Сейчас самое время по нам бабахнуть. Я бы так и поступил, — заключил он.
Маршалу Булганину было не до шуток, он страдал от морской болезни и был уже не бледный, а скорее зеленый. Даже коньяк его не спасал.
— Что ты такое говоришь, Никита? Зачем по нам бабахать, мы же официальные лица! Правительство Великобритании гарантировало полную безопасность, премьер-министр Иден пообещал, — слабым голосом возразил Николай Александрович.
— На дне морском вспоминать будешь, кто тебе что обещал! — не унимался Хрущев. — Сообщат, что наткнулись на мину времен войны.
— Ты же сам предложил на корабле ехать! — в отчаянье заголосил Булганин.
— Я море люблю!
— Хорошо, что англичанин с нами, — имея в виду английского военно-морского атташе, которого с одобрения Никиты Сергеевича взяли в этот морской поход, проговорил председатель Советского правительства.
— Так в некрологе и напишут, что среди русских был английский капитан. По этой самой причине никто в злом умысле принимающей стороны не усомнится, — назидательно продолжал Никита Сергеевич.
Булганин еще больше позеленел.
— Да шучу я, шучу! — наклоняясь к несчастному товарищу, загоготал Первый Секретарь. — Не хочу, чтобы мы расслаблялись. Стрелять по нашему крейсеру нет никакого смысла. Если б мы на самолете летели, другое дело! — снова отмочил он.
— Делегация неприкосновенна, — выдохнул Николай Александрович.
— Неприкосновенна! — присвистнул Хрущев. — Держи карман шире!
— А у меня — отличное настроение, нас ждет добрая старая Англия! — улыбаясь, произнес Лобанов, единственный из многочисленного состава делегации, кто был допущен к руководству и в любой час мог посещать спецотсек.
— Не мы, Коля, бояться должны, нас должны бояться! — заключил Первый Секретарь. — Посмотрят в нашу сторону и от страха замрут! Вот чего мы добиваемся этим морским походом. Всех до смерти перепугаем! — доедая сосиску и приступая к картофельному пюре, доказывал Никита Сергеевич. — Физика Курчатова недаром с собой везем, и авиаконструктор Туполев с нами! Курчатов такого им про атомы наговорит, англичане обомлеют! А туполевские реактивные самолеты будут в Лондон почту возить. Пусть смотрят и трясутся!
Сегодня у Хрущева был день рождения, и в восемнадцать ноль-ноль в офицерской кают-компании устраивался по этому поводу прием. Кроме официальных членов советской делегации туда был приглашен и капитан первого ранга, военно-морской атташе Великобритании. Предстоящему веселью были рады, не всякий раз выпадет случай посидеть за столом с Первым Секретарем ЦК КПСС и председателем Совета министров. Каждый приглашенный продумывал слова, которые скажет за именинника, лишь Иван Александрович Серов ходил мрачнее тучи. Он отвечал за безопасность, руководил защитой корабля. За месяц до госвизита от агента, работающего в Главном штабе английского флота, поступила информация о готовящейся диверсии. По информации Оскара Уайльда, на крейсер, вставший на якорь в Портсмуте, где была определена стоянка советских судов, вражеские подводные диверсанты должны установить взрывное устройство, чтобы позже в открытом море их уничтожить. Доклад председателя КГБ вызвал у Хрущева раздражение:
— Получается, укокошить нас хотят?
— Получается, — подтвердил Серов.
— Брешет твой агент! Это ж наш первый визит за границу. Председатель Советского правительства едет!
— Однако такая информация имеется.
Хрущев не верил, что сегодня, когда отношения потеплели после откровенных изобличений Сталина, англичане решатся на такой дерзкий поступок. Американцы другое дело, те могли бы, хотя тоже сомнительно! Серов отговаривал плыть, предлагал лететь. Из трех самолетов невозможно определить, в каком находятся члены Президиума, а сбивать все три самолета никто бы не решился, ведь тогда не скажешь, что имела место случайность. Никита Сергеевич лететь отказался:
— Риск, безусловно, есть, но поплывем на крейсере, как задумали. Твой разведчик случайно ничего не напутал?
— Совершенно точные сведения. И ГРУ подтверждает.
— Ты давай, карауль!
В условиях особой секретности на борт поднялась специальная команда водолазов, в ней собрали пловцов-истребителей, обученных уничтожению в подводном бою. На корабль взяли минеров, им предписывалось каждые четыре часа делать осмотр днища. К охране были подключены лучшие акустики, которые могли уловить в толще вод малейшее движение. И все же Ивану Александровичу делалось страшно, он реально осознавал опасность, понимал, что можно одним ударом уничтожить огромный корабль, утопить высшее государственное руководство, а вместе с ним погубить ключевых деятелей советской науки.
— Зачем только понабрали с собой ученых! — возмущался председатель КГБ. По мнению Серова, американцам и англичанам было выгодно организовать крушение, изобразив катастрофу трагической случайностью.
Обеспечить безопасность было непросто — на судне разместилось более двух тысяч человек. Как ни старались органы проверить каждого, допускалась вероятность, что на борту окажется пособник врага. Открытость Хрущева пугала, а Булганин во всем ему потакал. Офицеры госбезопасности под видом моряков и обслуги дежурили в ключевых местах, но человеческий фактор! — он всегда будет самым слабым звеном в защите: кто-то отвернулся, кто-то засмотрелся, кто-то зазевался, кто-то заснул, кто-то глазеет на красивую девушку, в этот раз их на корабле хватало, а врагу только это и надо — потеря бдительности! Иван Александрович не хотел умирать, дома его ждала жена и любимая дочка, которую предстояло поставить на ноги. Генерал не смыкал глаз, снова и снова обходил корабль. Его заместитель Панюшкин как тень следовал за начальником, а когда председатель КГБ шел к руководству, упорно проверял посты, следил въедливыми глазами за обстановкой. Второй серовский заместитель, Миронов, выдвиженец Хрущева, в прошлом руководивший Кировоградским обкомом, не имел опыта оперативной работы, но и он старался как мог — никто не хотел умирать.
«Взорвут, не взорвут?» — содрогаясь, размышлял Серов.
На корабль без разбору понасажали всякого народа: ехали передовики труда — строители, шахтеры, металлурги, ткачихи, учителя; набрали разных писателей, поэтов, артистов, художников, музыкантов, уйму журналистов, киношников, втиснули на корабль балет и два хореографических коллектива, исполняющих народные танцы, в последний момент прибыл Кубанский хор. В довершение ко всему на месте стоянки в Портсмуте Хрущев разрешил свободное посещение крейсера всем желающим. Как ни пытался Серов его переубедить, не получилось. Председатель Комитета государственной безопасности почти до обморока довел опасениями Булганина, который трясся как осиновый лист, однако Никита Сергеевич был непоколебим, не захотел пересесть на корабль сопровождения и решил до конца оставаться на борту «Серго Орджоникидзе».
— Поросята на банкете будут? — спросил он замуправделами Смиртюкова.
— Обязательно! Поросята у нас из подмосковного совхоза «Горки-2».
— Это хорошо! Директор там — разумна людина! — одобрил Никита Сергеевич.
— С гречневой кашкой поросят подадим.
Хрущев приказал «закатить пир на весь мир!» Велел, чтобы подали к праздничному столу осетров, белужью икру, принесли чистейшую, как слеза, водочку. Никита Сергеевич хотел допьяна напоить и себя, и пассажиров, увести мозги от нехороших мыслей, ведь мысли такие забирались в головы, наполняя леденящим страхом сердца людей. А море кругом было безбрежное, холодное, попадешь в пучину — не спасешься!
— Скажите адмиралу, чтобы пушки расчехлил. Пусть на солнце блестят! — приказал Первый Секретарь.
Крейсер «Серго Орджоникидзе» проекта 68-бис был технической новинкой. Его двойник, появившись на море год назад, произвел настоящий фурор. Таких маневренных, быстроходных и до зубов вооруженных кораблей у противника не было. Россия отвоевывала главенствующие позиции на море. В проекте 68-бис впервые было применено подруливающее устройство, мощные винты которого разместились справа и слева в носовой части судна и позволяли ювелирно причаливать к берегу.
— Как приедем, сразу начнут нас о Египте спрашивать, войной пугать, — предположил Булганин.
— Не испугают, мы пуганые! — отрезал Первый Секретарь.
В последние месяцы посланцы полковника Насера зачастили в Москву, к Насеру с помпой съездил Шепилов. Отношения с Египтом начинали складываться неформально, осенью решением Президиума ЦК в Каир были отправлены танки и самолеты. На оплату военной техники и стрелкового оружия египтяне получили длительную отсрочку.
— Если каша заварится, Израиль на Египет попрет, а Израиль англичане и американцы поддержат, — излагал Булганин. — Таким ходом израильтяне египтян побьют.
— Хер побьют! — отозвался Хрущев. — Мы своих солдат переоденем и под видом туристов в Египет пошлем!
— Дурим друг другу голову! — вздохнул Николай Александрович.
— Тактика! — определил Хрущев. — Иден обязательно войной стращать начнет, но ты, Коля, не робей. Сегодня мы не те, что раньше, сегодня у нас атомных бомб на всех хватит! Я империалистам ни на грош не верю, тем более англичанам, и Серов про мины рассказывал. Сегодня каждому понятно, что соперниками Великобритании на международной арене могут стать либо Советский Союз, либо Америка. Лис-Черчилль юлил: то воевать с нами хотел, то дружить. В войну он со вторым фронтом специально затягивал, хотел, чтобы фашисты побольше крови нам выпили, чтоб вконец Россию ослабить. Когда наши войска заняли Берлин, Черчилль отдал приказ не разоружать немецкие дивизии, имея на уме внезапное нападение на СССР. Вот тебе и друзья-союзники! Правильно его Иосиф недолюбливал. И твой Иден такой же, ничем не лучше. Никому, Коля, верить нельзя!
— У Сталина в голове тоже планов хватало, — высказался Булганин. — После того как у нас атомное оружие появилось, совсем деда понесло.
— То верно, планов было громадье! Планы и планы, ешь их мать! — ругнулся Никита Сергеевич. — Ты тут, что услышал, сразу забудь! — развернувшись к Лобанову, проговорил он. — Не детские разговоры!
— Ничего не слышу, ничего не вижу, ничего никому не скажу! — с дурацкой улыбкой отозвался академик.
— Молчи, Пал Палыч, молчи, а то придет Серов и тебе язык отрежет! — пригрозил Первый Секретарь.
— Если меня Иден про положение вокруг Суэцкого канала спросит, я ему скажу, что мы не меньше встревожены обстановкой, и что наша цель — примирить враждующие стороны — ничем не отличается от английской, — продолжил Николай Александрович.
— Так и говори. А я скажу, что Египет входит в зону стратегических интересов России! Чтобы не очень-то руки распускали.
— Все равно вопросами замучают.
— А ты что хотел? Англичане люди несознательные, отсталое общество, раз у них короли есть.
— Непростые будут переговоры, — нервничал Николай Александрович.
— Прежде всего, надо о мире говорить, чтобы ни они к нам, ни мы к ним не лезли, выработать правила нейтралитета, — учил Хрущев. — Потребуем запрещения ядерных испытаний, будем говорить о сотрудничестве в торговле. Мы англичанам многое можем предложить: и лес, и металл, очень многое! С нами министры едут, они по существу скажут. Договоримся об обмене в области культуры, — намечал темы Никита Сергеевич. — У тебя же, Коля, записка лежит!
— Читал! — отмахнулся Николай Александрович.
— Ежели что, я рядом, — пообещал Хрущев.
— Хорошо, что с нами балет едет. Концерты даст.
— Балет у нас сильный! — Никита Сергеевич подмигнул председателю правительства. — Ты, Коля, это лучше других знаешь!
— Что ты меня все время подъ…бываешь?! — Булганин с раздражением бросил газету, которую держал в руках.
— Ну, извини, извини! Прости, пожалуйста! — Никита Сергеевич подскочил с места, собрал расхристанную «Правду» и всучил Булганину в руки. — Больше не обижаешься? — широко улыбался он.
— Иди к черту!
Довольный Хрущев уселся на место.
— Посмотрим, как сложится, — посерьезнев, проговорил Первый Секретарь. — Сталин, тот никуда носа не казал, в Москве сиднем сидел, так что мы, Коля, с тобой первопроходцы!
В отличие от Сталина Хрущев принимал приглашения направо и налево, без конца встречался с иностранными политиками, предпринимателями, журналистами, и своей открытостью, радушием, желанием идти на контакт производил выгодное впечатление, гораздо лучшее, чем неторопливый премьер Булганин или сухой казуист Молотов, застегнутый как солдат на все пуговицы. Булганин был военный маршал, а Хрущев вроде нейтральный, штатский человек, и вроде не такой близкий к Сталину. Западная пресса изображала Никиту Хрущева демократом нового поколения, конечно, с оглядкой, с оговоркой, но все же позитивно. Хрущев выступал за прекращение испытаний ядерного оружия, заявил о беспрецедентном сокращении армии и органов госбезопасности, как заклинание произносил, что люди жители одной планеты, что планета — общий дом, но увлекаясь, а он часто увлекался, отходил от текста, выверенного помощниками, и совершал промахи.
Даже в тех случаях, когда происходили государственные визиты, Хрущев мог ляпнуть что угодно, не научился сдерживать эмоции, которые фонтанировали в его возбужденном сознании. Нет-нет, и он обрушивался на капиталистическую систему, обличал богачей, грозил расправой, призывал к неповиновению. Внезапно понимая, что ушел «не туда», сводил сказанное к шутке, употребляя в речи много плохо переводимых на другие языки русских пословиц, поговорок, мог при всех смачно высморкаться и, тем не менее, импонировал Западу. Запад его признал, ведь Хрущев перевернул советские стереотипы, с высокой партийной трибуны обрушился на самого Сталина, обвинив его в смертных грехах. Он не побоялся поставить вопрос о замене министра иностранных дел, одиозного ортодокса Молотова на образованного и молодого философа Шепилова, хотя последний не мог активно влиять на международную ситуацию, не чувствовал ее как искушенный и осмотрительный Вячеслав Михайлович. Смещение с поста Молотова также записали Хрущеву в плюс. Чтобы отказаться от узурпировавшего свободу тюремного прошлого, окончательно порушить трагическое сталинское средневековье, Хрущев вводил в Президиум ЦК новых людей, которые безоговорочно принимали его сторону.
Хрущев пока не прогремел на весь мир, но имя его стало широко известно. К Хрущеву начинали прислушиваться, именно с ним считали возможным вести диалог, ведь он являлся руководителем Коммунистической партии, а в советской стране, Компартия выступала главной направляющей и организующей силой общества, решала, контролировала и указывала, казнила и миловала. Ни одну государственную должность нельзя было занять без одобрения Президиума ЦК. Хрущев сделал Президиум главенствующим органом. Опальный Маленков и перерожденец Берия хотели перенести полноту власти в правительство, а партию держать на вторых ролях, чтобы, в конце концов, свести ее на нет. Не удалось. Вот и получалось, что именно Хрущев заправлял в стране Советов.
Корифеи международной политики обратили внимание, что расстановка сил в Советском Союзе поменялась, что Хрущев все увереннее подбирал бразды правления, все круче командовал, все крепче тянул руль на себя.
— Пошли на воздух, — умоляюще попросил Булганин. — Меня в помещении выворачивает.
4 мая, пятница
— Я буду в голубом! — воскликнула Леля и приложила к груди покрытое голубыми блестками платье. — Я такая воздушная! Представляешь, я сама его сшила!
Она застыла перед зеркалом. Сергей приблизился к ней. Его глаза светились.
— Лелечка, солнышко! — он притянул любимую к себе.
Юноше хотелось целовать ее, снова и снова припадать к горячим родным губам, говорить ласковые слова, гладить, бесконечно прикасаться к шее, щекотать еще не огрубевшими усиками, которые он ни разу так и не сбрил, сладкую кожицу, маленькие милые ушки! Сергей уже не мыслил себя без улыбчивой, заразительно задорной Лели, ему казалось, что жизнь теперь состоит из улыбок, вздохов и слов этой смуглой кареглазой испанки.
Леля подставила губки для поцелуя и сразу же отвернулась:
— Не сейчас, Сергуня, потерпи! — и снова закружилась перед зеркалом, прикладывая к себе платье. — Я тебе нравлюсь?
— Ты — фея! — произнес обожатель, пытаясь поймать ее в объятья.
С того момента, как Сергей ворвался в комнату к Леле, отношения их приняли совершенно другой характер: начав целоваться, они уже не могли остановиться, только целоваться им было негде, дома — люди, на улице — люди, а они так желали друг друга! Получалось уединяться лишь в подъезде Лелиного дома, на лестничной площадке между пятым и шестым этажами. Теперь каждая их прогулка оканчивалась жаркими объятьями в подъезде. Юноша жадно припадал к девичьим губам, неистово прижимая желанную подругу, и она отвечала взаимностью, не сопротивлялась, позволяя себя ласкать, и, чуть приоткрыв ротик, с наслаждением отдавалась этим умопомрачительным лестничным поцелуям, ждала их снова и снова.
«Если б это был не подъезд, если б мы были одни!» — вздрагивал от возбуждения Сергей, пропуская руки под пальто и дальше, за кофточку, туда, где билось горячее девичье сердце.
Поцелуи казались бесконечными, головокружительными, ему и ей не хотелось прощаться, они уже и не верили, что когда-то обходились друг без друга.
— Ты наденешь темный костюм и лиловый галстук, тот, что я подарила! — не допуская возражений, командовала испанка. — Я буду в этом платье. Так и пойдем на бал!
На филологическом факультете Московского государственного университета 4 мая объявили днем весны. На этот день был назначен бал. Студенты готовились к такому событию загодя.
С прошлого года в магазинах стали появляется недорогие, но очень симпатичные ткани с разнообразными рисунками. Вот где была радость! Каждая студентка мечтала купить себе отрез и пошить платье, ведь с момента поступления в университет вчерашняя школьница чувствовала себя по-настоящему взрослой. От стипендии к стипендии копили, откладывали, кто три рубля, кто четыре, и, наконец, покупали в универмаге радостные ситцы, бесхитростно хвастались друг перед другом их веселой расцветкой, бесконечно обсуждали фасоны, спорили, а потом садились шить. В общежитии дело двигалось быстрее, там вообще жизнь имела особую скорость. Кто был побогаче, искал портниху, хотя портниха считалась непозволительной роскошью. И даже тем, кто, имея состоятельных родителей, мог позволить себе шиться, хотелось творчества, самовыражения, хотелось быть наравне с другими, щегольнуть собственной работой, а портнихи, как правило, имели свой кругозор, вкус и руку, и часто у них получалось совсем не то, что хотелось. К портнихам со всего курса поехало три человека, но Леля не попала в их число. Она с упоением рассматривала всевозможные журналы, особенно те, что привозил из-за границы отец, правда, идеал всех девушек был показан в кино. Героиня фильма «Весна на заречной улице» Таня Левченко являлась непререкаемым идеалом женской красоты, к которому неустанно стремились. История любви между Таней и Колей заставила миллионы людей радоваться, печалиться и любить вместе с ними. Каждой студентке хотелось походить на любимую героиню, и на бал поэтому надо было явиться вылитой Таней. А как непросто было изобразить на собственной прическе непокорно спадающий на лоб локон!
Ничего нет прекраснее молодости!
Балу придумали красивое название — «Бал цветов». Девушки придавали этому событию особое значение, прихорашивались, заплетали в волосы разноцветные ленточки, придумывали затейливые прически, но обязательно сохраняли на лбу пикантную завитушку. С прическами приходилось быть особо осторожными, чтобы не натворить на голове беды, ведь и прически придумывали студентки, и делали их друг дружке — парикмахерская не каждому была по карману. Но главной заботой к этому замечательному дню стало создание платья. Кому-то отрез материи прислали родители, кто-то перешивал мамино почти новое платье, кто-то изобретал усовершенствования на стареньком, превратив его безликую нелепость в новомодный покрой, кто-то одалживал наряд у сестры, кто-то — у подруги. Пронизанная светом, задором, гармонией женская половина студенчества в этот день становилась возвышенней, еще привлекательней, еще романтичней!
Что творится весной на земле! Даже ветерок, даже внезапные капли дождя делают белый свет лучше, чище, наполняют радостью, силой, непреодолимым желанием жить, радоваться, любить — любить безраздельно, слепо, будто любишь в последний раз!
Солнце — это весна, весна — любовь, а любовь, как утверждает мудрость, правит миром. Любовь вспыхивает огнем от малейшей искорки: от взгляда, вздоха, кивка головы, улыбки, звонкого смеха, прикосновения; весной любовь поражает насквозь, наповал, и нет пощады влюбленным!
Ну а те, кто еще не отыскал свою половинку, те вздыхая, ждут — вот-вот и половинка отыщется! И сегодняшний бал, праздник молодости, праздник юных сердец, должен воспылать пожаром, поразить, околдовать, окрылить. После таких балов многие юноши и девушки оставались связанными навеки, уже не расставались никогда. Это весна!
После долгой зимы хотелось ликовать! Зимой на улице унылое зрелище — похожие один на другого, закутанные с ног до головы люди куда-то спешат. Улицы заполоняет неопределенного цвета одежда: видавшие виды телогрейки, шинели — неистребимое наследство войны, редко кто вышагивает в пальто. И обувь малопривлекательна — валенки, сапоги, войлочные ботинки, негде порадоваться глазу. Но молодость, молодость! Она летит вперед, рвется в небеса, дразнит, поет! И зиму побеждает молодость! И хорошо, что зима прошла, бархатным ярким сиянием спустился на землю май и изменил мир до неузнаваемости. Только и стреляют глаза по сторонам, только и улыбаются лица. Люди, как цветы, тянутся к солнцу, и не нужна им больше малоудобная, точно затхлый чехол, теплая одежда; расправляются плечи, вспыхивают глаза, задорней звучит голос! Каждая юная походка взрывает сознанье, звенит! Совершенны фигуры, правильны лица. На девчат и парней хочется любоваться. Вон стоят осанистые ребята, рядом — головокружительные студентки, освободившиеся от обузы телогреек, шапок, удушливых пут платков. Они прекрасны — ласковые, манящие! Темные, русые, светлые, рыжие, брошенные в объятья мая девичьи волосы, вспыхивая на солнце, сверкают! Ах, этот озорной блеск глаз! И не беда, что скуден студенческий гардероб и обувь состоит в основном из одних и тех же дешевых парусиновых босоножек с белыми носиками, зато как улыбчивы лица, как чист и высок юный голос!
Сергей с Лелей появились на балу с опозданием. Уже вовсю гремела музыка, пары кружились по залу. Мужская половина пользовалась повышенной популярностью, ведь девушек в зале было куда больше. На филологическом факультете всегда был кризис с парнями. И не то что «на десять девчонок по статистике девять ребят», а на десять девчонок с трудом один парень находился. Хорошо, с соседних факультетов пригласили биологов и математиков, и кто-то привел на праздник своих знакомых.
Веселье было в полном разгаре.
Когда грянули буги-вуги, Сережа с Лелей в числе первых вышли на середину площадки и — зажгли! Они отплясывали так, что наблюдателям стало жарко смотреть. Леля летала в руках Сергея, точно акробатка. Зал замер, даже те, кто танцевал рядом, предпочли остановиться и посмотреть их выступление. Три танца они сплясали на бис, а после рухнули на стулья около распахнутого окна, пытаясь отдышаться.
В этот вечер Леля и Сергей были единодушно избраны королевой и королем бала.
7 мая, понедельник
Хрущев закончил совещание с секретарями обкомов, где поставил задачу в кратчайшие сроки догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки по производству молока и мяса. По предложению Первого Секретаря было усилено кадрами Министерство мясной и молочной промышленности, которое координировало работу совхозов и колхозов в области животноводства. На заседании представили нового министра Антонова. Совещание прошло гладко, делово, но неприятность все-таки случилась, отличился советский посол в Китайской Народной Республике Юдин, который должен был доложить об успехах братского китайского народа. Заканчивая выступление, он произнес: «Да здравствует товарищ Сталин!» В наступившей тишине посол, растерявшись, поправился: «Автоматически вышло, извиняюсь!» Хорошо Булганин, а за ним и весь зал расхохотались, а то бы не сносить Юдину головы.
— Вот Юдин учудил, это ему китаёз мозги вывернул! — причмокнул Никита Сергеевич. И еще одно неприятное событие произошло: на прошлой неделе в Китай отправилась делегация Германской Демократической Республики во главе с Вальтером Ульбрихтом — что им там делать?
Вернувшись в кабинет, Хрущев вызвал заведующего Международным отделом ЦК Михаила Суслова.
— Как получилось, что Ульбрихт в Китай поехал? — уставился на долговязого подчиненного Первый Секретарь.
— По личному приглашению товарища Мао Цзэдуна.
— А мы, значит, уже никто, с нами поездки согласовывать не надо?! — нахмурился Никита Сергеевич. — Все от нас берут, а к китайцу на поклон едут? Стоило Мао Цзэдуну пальцем поманить, и наш немец уже там!
— Визит был согласован товарищем Молотовым еще в прошлом году, — оправдывался Михаил Андреевич. Он понял, что маху дали с этим визитом.
— Вы позабыли, что Молотов больше не министр иностранных дел! Почему ко мне не пришли?!
— Посчитали вопрос второстепенным, — оправдывался Суслов.
— Китай у нас никогда второстепенным не был! Китай — это Китай! И социализм в Германии тоже вопрос особый! Вы, товарищ Суслов, суть дела упускаете! А по французу что?
15 мая в Советский Союз прибывала правительственная делегация Франции во главе с премьер-министром Ги Молле.
— По французам подготовились.
— Я вами недоволен, товарищ Суслов, можете идти! — неприятно закончил Хрущев.
Китай упрямо набирал обороты, подбирался к Юго-Восточной Азии, Нидерландской Индии, Филиппинам, Новой Гвинее, островам Океании. Оккупировав Тибет, Китайское правительство назначило несовершеннолетнего далай-ламу председателем комитета по подготовке Тибета к преобразованию в автономную область в составе Китайской Народной Республики. Китайская армия становилась мощнее, недавно зенитной установкой был сбит американский самолет-разведчик, вторгшийся на территорию Поднебесной со стороны Тайваня.
— Совсем в Международном отделе нюх потеряли! Стоит Суслова там заменить. Ульбрихт в Китай поперся! А Мао только и ждет, кого бы к себе заманить! Жук! Надо поменьше наших людей с китайцами сводить, а то в один прекрасный день никого рядом не останется! — ворчал Первый Секретарь.
Из приемной доложили, что приехал Лобанов, Хрущев велел, чтобы несли чай.
— Рассказать тебе, как Сергей с Лелей отличились? — качал головой Никита Сергеевич. — Елютин, министр высшего образования, про бал на филфаке взахлеб говорил. Расписал, как они всех поразили, наши дети! — выговаривал Никита Сергеевич. — Я его спрашиваю, а вы что же, там были? Нет, отвечает, не был. А откуда так хорошо осведомлены? Мой зам был, у него дочь с Лобановой учится, он туда ходил. Я Елютину сказал: стыдно, товарищ министр, и так порядка в вузах мало, так вы еще беспорядок поощряете! Ведь додумались до того, что король с королевой в советском университете появились! Это традиция, Елютин объясняет. Представляешь?! — обернувшись к Пал Палычу, негодовал Хрущев. — Не комсомольцы у нас в университет ходят, а шантрапа!
Лобанов за Елютина заступился.
— Всегда так было, не ругайтесь. Король и королева бала — не настоящие короли.
— Ненастоящие! Когда такое выдумали, чья традиция? — не успокаивался Хрущев. — У барчуков, у дворян традиция? Мы их с оружием разогнали! Где здесь социалистическая мораль? Я комсомолу голову откручу! И там традиция, долдонят! Вот удумали! Хоть вы, Пал Палыч, не уподобляйтесь! — Никита Сергеевич нервно забарабанил пальцами по столу.
— Шелепину по шапке дал, и с Елютиным разговор не окончен. Приходит, морочит голову, советский министр!
13 мая, воскресенье
Хрущев плыл с сыном в лодке. Сережа сидел на веслах, погода была отличная. Доплыли до Петрово-Дальнего, развернулись и двинулись обратно. Отец развалился на корме, чуть облокотившись назад, рубаха лежала рядом, запрокинув голову, он загорал. Сергей допытывался про освоение космоса.
— Дотянуться б до звезд, ухватить их покрепче! — проговорил Никита Сергеевич. — Ты, Сережа, пойми, кто первый там окажется, тот владыка мира! Нам первыми быть надо, а не американцам, нам и только нам! Жду не дождусь, когда советский спутник в небо взлетит и протрубит о победе социализма.
— Когда же это случится?
— Ученые обещают скоро. Обещают и обещают! — погрустнел отец. — Здесь проспать страшно. А когда-нибудь и человек в космос шагнет!
— Я бы не побоялся! — мечтательно отозвался сын.
На плечо Никиты Сергеевича села божья коровка и стала ползать туда-сюда. Хрущев миролюбиво смотрел на горбатого жучка, который, спрятав под красный панцирь крылышки, суетился на его бледном рыхлом теле. Осторожно поймав насекомое, он пересадил жучка на ладонь и, выставив руку перед собой, начал приговаривать:
— Божья коровка, улети на небо, принеси нам хлеба!
Жучок дополз до кончика безымянного пальца, покрутился-покрутился и взмыл вверх.
— На небо полетел, — проводил его взглядом Хрущев. — Так и нам надо до самых звезд добраться! Ко мне Владимир Николаевич Челомей приходил, про всякие задумки рассказывал, сказал, что надо строить многоразовые корабли, тогда не будут они безвозвратно пропадать, ведь космический корабль во многие миллионы государству обойдется. Я прям заслушался! Правильно он мыслит, да только сегодня, сынок, у нас никаких кораблей нет. Королев ракету, способную спутник на орбиту закинуть, никак не отладит, то одно у ней ломается, то другое. А нам, сыночек, в космосе опозориться нельзя!
— Я Владимиром Николаевичем восхищаюсь! — просиял Сергей. — Он мой кумир!
Отец накинул рубашку:
— Как печет, обгореть боюсь. Челомей додумался из подводного положения ракетами стрелять, — продолжал рассказывать он. — Идет подводная лодка на глубине, никто ее не видит, и вдруг — бац! — Хрущев звонко прихлопнул в ладоши, — из-под воды ракета выныривает! Мы свой подводный флот такими ракетами оснастим. Так что он не просто ученый, наш Владимир Николаевич, а можно сказать, палочка-выручалочка! Пусть мыслит товарищ Челомей, а мы помогать будем.
Резко подул ветер, набежала тень, по воде пошла рябь, где-то вдалеке замаячила грозовая туча.
— Поднажми, а то гроза нас нагонит!
Через полчаса отец и сын сидели за столом.
— Не пойму, чем кормите? — нахмурился Никита Сергеевич, ковыряясь в тарелке. — Вкус у котлеты искусственный, что ли?
— Устали разогревать, — с укором проговорила Нина Петровна. — Обедаем мы в два, а не в полчетвертого!
— Разогретое — это не еда, надо с пылу, с жару! — бурчал супруг.
— Больше плавайте! — отрезала жена.
— Ладно, Нина, виноваты, признаем, — миролюбиво согласился глава семейства.
— Я уже и Илюшу накормила, и Ирочку, а взрослых нет. Привыкайте к порядку!
— Распорядок — это первейшее дело, — подтвердил Никита Сергеевич и, заметив, что жена собирается уходить, попросил: — Не уходи, посиди с нами!
— Посижу, — смилостивилась Нина Петровна.
Муж расплылся в довольной улыбке.
— Чуть не забыла, тебе Серов звонил, — сообщила она.
— Серов, Серов! — Никита Сергеевич сдвинул брови. — Звонит, обедать мешает. Ничего хорошего точно не скажет. Надо идти звонить! — недовольно бурчал отец. — Чего ему надо? Серова! — рявкнул в трубку Первый Секретарь.
— Здравствуйте, Никита Сергеевич!
— Чего в выходной трезвонишь?
— Застрелился писатель Фадеев, — доложил председатель Комитета государственной безопасности.
— Когда?
— Час назад.
— Послал своих?
— Миронов с начальником Следственного управления поехали.
— Ты давай все выясни и сразу ко мне!
Почти десять лет Александр Александрович Фадеев являлся председателем Союза советских писателей. Его трудами возникли два крупных романа: «Разгром» про становление советского человека, и «Молодая гвардия» — о комсомольском подполье в Донбассе, где автор описал подвиг молодежи, боровшейся с немецко-фашистскими оккупантами. Последняя книга сделалась настольной у каждого комсомольца, многим пионерским дружинам присвоили имена павших смертью храбрых юношей и девушек.
Фадеев был главным из сталинских любимцев, именно Сталин поставил его на место первого писателя страны. Фадеев выполнял все, что поручал вождь. Надо было громить евреев — громил евреев, надо было обнаружить среди творческой интеллигенции пособников Запада — таковых находил; требовали обличать — обличал, хвалить — хвалил, просили написать открытое письмо в поддержку голодающих Африки — тотчас писал; спешили осудить отщепенцев-ученых, расшаркивающихся перед иностранцами, — получали красноречивое гневное осуждение. Все выполнялось безукоризненно, ни разу Александр Александрович не разочаровал отца народов. С Ильей Эренбургом, Николаем Грибачевым, Константином Симоновым Фадеев составлял костяк писательской организации, а точнее, был среди них первым. И вдруг после марта 1953 года о нем забыли: из ЦК никто не звонил, в высокие кабинеты не приглашал, общество отвернулось от любимца и гения. Из ссылок и тюрем стали возвращаться люди, осужденные не без его участия, и, чувствуя перед ними ничем не искупаемую вину, Александр Александрович, вздрагивая, холодел. Потеряв покой, он не мог написать ни строчки. И хотя на ХХ Съезде первого писателя вновь избирали в Центральный Комитет, что гарантировало полнейшее всепрощение, невостребованность, а точнее, забвение деморализовали литератора, гнетущие мысли круче и круче стучали в голову, тягостно и муторно становилось на душе. И семья не радовала писателя, не вносила успокоенья — жена опостылела, уже много лет они с супругой, ведущей артисткой Малого театра, были чужие. Встречаясь то с одной женщиной, то с другой, Фадеев так и не смог влюбиться.
Александр Александрович был человек деятельный, безусловно, одаренный, поразительной энергетикой притягивающий людей, но роль карателя, которую уготовил писателю Сталин, расшатала его нервную систему, подкосила, отравила творчество, выпотрошила душу. Поначалу он ни секунды не сомневался в сталинской мудрости и прозорливости, но обман был столь очевиден, а ложь так велика, что однажды писатель понял, куда носит камни. И он стал притворяться — нет, не перед вождем, и не перед другими, а перед самим собой. Чтобы спастись? Может быть. Чтобы сиять? Да, сиять. Но выполняя высочайшие директивы, Фадеев стал винтиком, а может, даже небольшим механизмом в машине, которая гробила людей. Шествуя за правителем, он продался дьяволу, и лишь горькое вино могло свалить с ног, одурманить, дать передышку сознанию.
Так он жил.
Фадеевским словом неугодных выгоняли с работы, не пускали в печать их книги, фадеевскими приказами отнимались дачи, квартиры, он лишал старых товарищей средств к существованию, а некоторых по его наводке — сажали. Немыслимая мука — отдавать подобные приказы, вершить суровый суд. И все это ради собственного величия, ради славы, в лучах которой мечтает сиять каждый. Слава затмила совесть, и совесть молчала. А может, он споил свою когда-то чуткую совесть, одурачил, одурманил ее? Может. Но когда являлась перед глазами страшная правда — он понимал, что никакой не писатель, и даже не человек, а смердящий труп, который за ниточки водит чудовище. Как жить? Как быть?! И когда Его власть пошатнулась, когда тело правителя положили во гроб, когда со всех сторон в страну горя полетели весенние птицы, когда зашевелился в утробе матери счастливый плод любви, когда люди стали бесхитростно улыбаться друг другу и голоса детей потянулись к свету — писатель Фадеев был уничтожен, он сгнил изнутри, сварился в грязной жиже фальсификаций, лицемерия и предательства, он не мог больше существовать в реальности, не мог находиться в одном круге с теми, кого предал.
Серов предстал перед Первым Секретарем.
— Шляпу сними! — вместо приветствия рыкнул Никита Сергеевич.
Серов послушно снял шляпу. Из просторной прихожей Хрущев провел генерала через весь дом, и они оказались на кухне.
— Вроде нет никого, тут и поговорим. Садись!
Иван Александрович уселся на первый попавшийся табурет. За окном как снаряд громыхнул гром, ослепительно сверкнула молния. Вздыбленный ветер затряс вековые липы. На Огарево лавиной обрушился дождь.
— Целый день туча ходила, вдалеке ухала и, наконец, доползла, ливанул! — глядя через окно на потемневшую улицу, сказал Хрущев. — Чего выяснил, рассказывай!
— Выяснили следующее. Лег Фадеев на диван, обложился подушками и выстрелил себе в сердце из нагана. Звука выстрела никто не слышал, пришел сынок к обеду отца звать, а тот мертвый. Записку предсмертную оставил, — Иван Александрович протянул листок. — Вот она.
Хрущев взял протянутую бумажку и стал читать. Чем больше он читал, тем неприятнее делалось его лицо.
— Что пишет, подлец! Что пишет! Ты читал?
— Читал.
— Это же пакость! Это вопиющая ложь! — Никита Сергеевич потрясал перед собой бумагой. — Кому известно о его смерти?
— Жена, актриса Степанова, на гастролях в Югославии. На крики домочадцев прибежали соседи — поэт Долматовский и писатель Сурков.
— Значит, вся Москва знает!
— Не исключено.
— Не «не исключено», а раструбили! — все больше раздражался Хрущев. — А это они читали? — Первый Секретарь с яростью потряс запиской, потом скомкал ее.
— Видно, прочли. Они первыми в доме оказались.
— Ну, сволочь! Ведь столько лет возглавлял Союз писателей! Входил в Центральный Комитет! Правильно про него товарищи говорили, что оторвался от жизни, разложился! Ты посмотри, Ваня, что он накалякал!
Никита Сергеевич расправил смятый листок и приблизил к глазам:
— «Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и уже не может быть поправлено!» — Самоуверенно-невежественным! Партия искусство загубила! — негодовал Хрущев. — «Литература, эта святая святых, отдана на растерзание бюрократам и самым отсталым элементам народа, и с самых “высоких” трибун — таких, как Московская конференция или ХХ партийный съезд, раздался новый лозунг: “Ату ее!” Литература отдана во власть людей неталантливых, мелких, злопамятных. От них можно ждать еще худшего, чем от сатрапа Сталина. Тот был хоть образован, а эти — невежды!»
— Я невежда! — разъяренно взвыл Хрущев. — «Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от гнусного существования, где на тебя обрушиваются подлость, ложь и клевета, ухожу из жизни!» — с раздражением дочитал Никита Сергеевич. — Видал, какое обвинительное заключение?!
Иван Александрович кивнул.
— Так и хочется сказать — и черт с тобой! А не могу! Кто был первым в Союзе писателей? Фадеев был! Кто по наводке Сталина громил неугодных? Фадеев громил! Многих уже нет в живых, сгинули! А наш паинька пишет, что засилье невежд! Многие гении не дожили и до сорока лет! Ты гляди куда хватил, мол, ЦК виноват! А кто командовал расправами над этими талантливыми людьми, может, я?! — брызгал слюной Никита Сергеевич. — Не я! Фадеев командовал, бумаги в НКВД строчил! А когда с ним раскланяться не пожелали, в гости не позвали, мы сразу сделались недалекими, необразованными, мудлом, одним словом! И хорошо, что застрелился, воздух чище будет!
Хрущев подошел к плите, схватил чайник, плеснул себе воды и залпом выпил.
— Что нам про Фадеева известно? Что Фадеев горький пьяница и ловелас. Был членом Комитета по присуждению Сталинских премий. Так, представляешь, приходил на заседания в стельку пьяный! Сталин нам говорил: «Посмотрите, Фадеев еле на ногах стоит!» Мы смотрим — и вправду вдрызг пьян. А Сталин ему спускал. Почему? А потому, что все его заказы без зазрения совести выполнял. Я тебе, Ваня, честно признаюсь, мне после фадеевской смерти даже легче стало. Но за себя стыдно, я коммуниста Фадеева в Центральный Комитет рекомендовал, а ведь знал, что он хамелеон. Моя вина, признаю! Мало — пьяница, еще и бабник! Открой, Ваня, свои записи, посмотри, что про него лежит!
— Вы совершенно правы, пьяница и бабник, — подтвердил генерал.
— То он водку жрет, а то за очередной юбкой волочится, таков облик коммуниста Фадеева! А нас, заморыш, учить вздумал! Никаких ему поблажек, никакого почета!
— Хоронить-то как-то надо.
— В чистом поле выбросим волкам на съеденье!
— Фадеева, Никита Сергеевич, вся страна знает. Он у нас почти национальный герой.
— Кто национальный герой, Фадеев?! Ерунда! Пришло время на этого героя глаза людям раскрыть. У нас, Ваня, не только успехи в государстве, у нас и х…ня есть! Такое надо на примере Фадеева показать. Надо вскрыть его истинную сущность, сущность приспособленца, пьяницы и опустившегося развратного человека! Он не в меня камень бросил, что я неуч, он на партию замахнулся! На партию! — ревел Никита Сергеевич. — Он, гад, как сыр в масле катался, и машина под жопой, и дача на берегу реки, и квартира многокомнатная, все его, засранца, знают, шапку ломают, а он, видите ли, обижен! Правильно о нем Шолохов сказал, что ничего Фадеев толком не написал, а зазнался и распоясался. Писатели правильно заподозрили, стали двигать, а мы жалели — пусть себе живет! Ко мне рвался, потом к Булганину. Я Коле говорю: гони его в шею! Мне один товарищ, в тюрьме восемь лет отсидевший, поведал: «Это меня Саша Фадеев за решетку упрятал!» Ну, чистоплюй, погоди! Говорят, у него любовница была?
— И не одна.
— Никакой ему пощады, никакой памяти! Ни одного доброго слова! Фурцевой скажу, пусть она по нем катком пройдет. И парторганизацию Союза писателей прочистить надо, такую гнилушку прикрывали! В некрологе надо прямо так и писать: страдал алкоголизмом, в последнее время ничего не писал, деградировал! Я Фурцеву научу. А ты вели своим строго с писателями переговорить, с теми, кто сегодня там был, а может и с теми, кто дружил с ним. Кто дружил, не помнишь? Корней Чуковский дружил?
— Чуковский сосед. Соседняя дача в Переделкино.
— Пусть с ним поговорят и с другими соседями. Надо разъяснить ситуацию, по-партийному разъяснить! А Пастернак где живет, тоже в Переделкино?
— Вся писательская элита там.
— Уж эта мне элита! Не элита, а сплошная распущенность! Так и тянет гнилью! Миронову скажи, пусть сходит, поговорит, у него язык подвешен, не заморочишь его всякими вывертами!
— Поручу Миронову.
— Просто достали эти писатели! Все условия им создаем, библейский рай по существу. И распределители им продуктовые, и дома отдыха, и поликлиники, и за границу отпускаем, и деньжищи гребут, везде им почет, уваженье, так нет — взбрыкивают!
— Не все такие, Никита Сергеевич, сами только про Шолохова сказали. Потом Горбатов, Эренбург, Константин Симонов.
— Симонов по Сталину трясется! А в общем, прав ты, Ваня, не все сволочи, не все, но негодяев хватает. Собрать их надо, разобраться, чем дышат. Ты напомни, чтоб я не позабыл. А Шолохов истинно наш. Какие мощные пролетарские произведения создал! Он в Москву не рвется, в Переделкине дачу не требует, у себя на Дону шедевры создает. По «Тихому Дону» киношники фильм делают. Цельный Шолохов мужик! А некоторых под увеличительным стеклом не разобрать! Вот Пастернака хвалят, а за что? Мудрит, мудрит, как нерусский. Какие проблемы он поднимает: кто кого поцеловал, или что весна пришла, или наоборот — зима? Нелепость! Слог замудреный, словно татарин коверкал! Одно четверостишие три раза читал, так и не понял смысла. Разве такой людям будет близок? Не будет. А за ним прям трясутся — Борис Леонидович! Борис Леонидович! Гений! Какой там гений! — от возмущения задохнулся Хрущев. — Где наши новые Маяковские, куда подевались?
— Не видно, — грустно подтвердил Иван Александрович.
— Зато Пастернаки ходят. И этот самоубийца был глашатаем не пойми чего, — возвращаясь к Фадееву, продолжал Хрущев. — Про «Молодую гвардию», про подпольщиков написал, и все поперепутал — кто свой, кто чужой! Два года в Краснодоне сидел, факты изучал, а толком ничего не изучил! Наверно, пил и с бабами загуливал. Я племянника секретаря обкома Струева в тюрьму посадил из-за того, что в фадеевскую квартиру залез, Струева из Донбасса в Пермь нагнал, а он толковый был, хотел его в Украине первым ставить, а как эта некрасивая история получилась, дал отбой. Надо его в Москву забрать, пусть под рукой будет. А про Фадеева во всеуслышание скажем, а то учит. Пророк выискался!
— Екатерина Алексеевна справится.
— Она справится. Забери эту гнусную писульку и никому не показывай! — Хрущев с неприязнью откинул предсмертную записку. — Как его Сталин терпел, не пойму? Как кто из иностранцев к нам едет, или сбор передовиков в Москве или командиров Красной Армии, или полярников чествуют, обязательно Фадеева требует, без Фадеева никуда. А он письма шлет!
— Отписался! — выговорил Серов.
— Отписался, верно! — Никита Сергеевич чуть поостыл. — А как остальные дела?
— На Кубе повстанцы шуруют.
— Приятное известие. Куба ж под самым носом у Америки? Думаешь, там серьезно?!
— Сказать трудно. Командует Фидель Кастро.
— Фидель! — повторил Никита Сергеевич. — Надо запомнить. А у нас там люди есть?
— Имеются.
— Если Кубу раскачать, такой удар под дых американцам! Ты, Ваня, в этом направлении думай. Может, оружие туда дать?
— Оружие переправлять сложно, проще дать деньгами.
— Ты все на деньги переводишь!
— Сами подумайте, это же через океан тащить!
— Согласен, согласен! Деньги дадим. По Кубе новость хорошая.
— Англичане готовятся к очередному испытанию водородной бомбы.
— Бесы! Сколько раз Шепилову говорил: кричи о запрещении ядерного оружия, а он мямлит! Надо в голосе силу иметь! Слаб Шепилов на посту министра иностранных дел, слаб! Я в нем разочаровался. Диму в Секретари ЦК переведу, а министром Громыку сделаю, тот пахарь и в международной политике не новичок. Чего мы в кухне-то сидим?
— Вы сказали — в кухне спокойнее.
— Да спокойнее! Но мы-то с тобой уже дела обсудили. Хочешь борща? — взглянув на большую эмалированную кастрюлю, предложил хозяин.
— Нет, спасибо. Домой поеду, жена ждет.
— Это правильно, жен забывать нельзя. Пойдем, провожу.
На улице еще шел дождь, вернее уже не шел, а накрапывал.
— Кажись, скоро кончится, — взглянув в светлеющее небо, сказал Никита Сергеевич. — А с утра погодка была чудная!
— Да, хорошая была погода, — отозвался Серов.
— Так и в жизни все меняется, как в природе.
Мужчины медленно шли вдоль липовой аллеи. Серовская машина завелась и тронулась, выруливая со стоянки на дорогу, но Иван Александрович подал водителю знак, чтобы не подъезжал. Автомобиль остановился.
— До машины тебя доведу, авось не промокну.
— Надо было зонт взять, я вам говорил.
— Ну, разве это дождь, Ваня? Смех! Не растаем, не сахарные. Мне еще перед сном три круга крутить, тогда зонт пригодится.
Серов шагнул было к автомобилю, но Хрущев придержал его рукой:
— Погоди, Ваня, погоди! Я тебе еще кое-что сказать хотел.
— Слушаю? — генерал армии превратился весь во внимание.
— Ты про моего сына знаешь?
— Про Сергея?
— Да, нет, не про Сережу, про первого, про Леонида, погиб который на фронте?
— Конечно, знаю.
Хрущев грустно посмотрел в глаза генералу и приложил руку к сердцу.
— Тут он у меня!
Потом продолжал:
— Некоторые непорядочные люди распространяют слухи, будто бы Лека не погиб при крушении самолета, а на парашюте спасся. Говорят, что он сдался фашистам, и в плену с фрицами сотрудничал.
— Это же чистый вымысел! — возмутился Серов.
— Ты проверь эту болтовню.
— Проверю.
— Проверь по-настоящему, понял?
— Понял.
— И доложи.
14 мая, понедельник
— Не взяли меня в Англию, не взяли! — как-то отрешенно, сам с собой, покачивая головой, говорил Молотов.
Вячеслав Михайлович достал из футляра скрипку, достал бережно, неторопливо. В его руках скрипка поплыла по воздуху. Он приблизил ее изогнутое полированное тело к уху и больно ущипнул струну. Струна издала нечеловеческий звук — Молотов таинственно улыбнулся. Пальцы щипнули струну сильнее — голос стали сорвался. Инструмент уткнулся в шею, зажатый плечом и подбородком, музыкант подхватил смычок, и чуть склонив голову, заиграл. Рука заставляла смычок резать упругое тело металла — и рождалась музыка!
— Где Вячеслав Михайлович? — спросила Полина Семеновна, но услышав плавные звуки, поняла: муж играет.
Молотов любил скрипку, его не вдохновляли бело-черные клавиши фортепьяно, не восхищали залихватские напевы гармошки, чужд был коверкающий душу, дрыгающийся из стороны в сторону джаз, и даже грандиозные симфонические кантаты не манили его стройной парадностью, потому как в гремящем пространстве терялся трогательный напев струны, тонкий, изящный и истинный. Струна под смычком напрягалась, скрипка дрожала, отдавая воздуху певучие ноты, а с ними и надежды, и мечты, окрыляя и благословляя, потому что лишь голос скрипки мог рождать и свет, и тьму, приоткрывая завесы тайн, оживлять краски. Скрипка могла возвысить, обелить или оскорбить, втоптать в грязь! Подобно хиромантии, скрипка разгадывала судьбы, воскрешала любовь, обжигала болью, может, поэтому Вячеслав Михайлович ее избрал.
Аплодисменты для него никогда не звучали, но это не пугало музыканта, он играл для себя, играл для того чтобы быть сильнее, мудрее, чтобы мир был подвластен ему, он сыпал ноты, заставляя их взмывать к звездам, звенеть дождем, обожествлять, страдать и ненавидеть. Музыка превращалась в поэзию, становилась лекарем, врачевала и окрыляла, и он — побеждал.
После игры (а Молотов мог музицировать полночи) маэстро так же бережно возвращал инструмент на место, в тот же непроницаемый черный футляр, предварительно обернув бархоткой, и надежно запирал в шкафу, чтобы кто-то чужой случайно не унес драгоценную скрипку, не растерял тонкие ноты по улице.
— Есть вещи, которые нельзя никому доверить. Скрипку, например, я никому не доверю, — с самым серьезным видом объяснял Вячеслав Михайлович и желчно подсмеивался над маршалом Жуковым, который кому только не совал свою восьмиструнную гитару, жадно облапанную нечистыми руками завистников и подхалимов, затасканную, ни на что уже не похожую, на которой маршал время от времени бряцал, выдавая жалкое подобие за аккорды.
— Музыкальные инструменты наделены мистическими свойствами, — пояснял Молотов. — Они должны служить одному хозяину. Вот посмотришь, что с Жуковым будет! — кивал он Полине Семеновне.
— Не говори ерунды! — хмурилась супруга, но Молотов стоял на своем, утверждая, что есть предметы обычные, бытовые, а есть — священные, имеющие прямую связь с человеком, которому служат.
— Музыкальные инструменты, если хочешь знать, из этой породы! — утверждал супруг.
— Тебя послушать, так надо и собственную тарелку подальше прятать, и чашку, из которой пьешь, в сторону забирать!
— Было бы идеально, но на это надо мужество иметь, ведь скажут — жадный, или сумасшедший, Бог весть что подумают, если свои вещи от других прятать начнешь. На такое лишь святые способны, но у святых, как правило, смерть мученическая.
Подобные разговоры Полина Семеновна не одобряла, а Молотов продолжал играть, услаждая слух.
На свои концерты он никогда никого не звал, лишь Полина Семеновна могла заходить во время игры, садиться в кресло и беззвучно вязать на спицах. Все, что она вязала, доставалось мужу, ведь вязаные вещи рождались в священной мелодии, а значит и предназначались маэстро: и носки, и свитера, и шерстяная жилетка, и теплые варежки.
— Если б я не играл, давно бы помер! — с каким-то демоническим смыслом выговаривал Вячеслав Михайлович.
Пела скрипка, пела и пела, а дни текли за окном, текли вдоль Москвы-реки, вдоль лесов и полей, вдоль дорог, деревень, городов, по Красной площади, мимо Кремля.
20 мая, воскресенье
Костерок догорал. Лобанов поковырял кочергой раскрасневшиеся от жара головешки, которые при прикосновении хрупко разваливались, и удовлетворенно кивнул — ничего, кроме прогоревших дров, от костра не осталось.
— Угли готовы! — громогласно объявил он.
Пал Палыч собирался запекать картошку. Из Краснодара был прислан ящик первой майской картошки.
— Молода, путного из нее не получится, — выразил сомнение Никита Сергеевич. — Продукт испортим!
— Еще как получится! — академик разгреб золу, вырыл неглубокую ямку, засыпал туда треть ведерка картошки, и тут же укрыл переливающимися от жара углями. — Жар потрясающий!
Хрущев внимательно наблюдал за его действиями. Серов в сторонке курил.
— Повару горло промочить надо, а то смотрю я, он вконец запыхался! — выдвинул предложение Никита Сергеевич.
На столик, позаимствованный из стоящей рядом беседки, Серов выставил бутыль самогона, рюмки, выложил из короба с провиантом сало, хлеб, разломал головку чеснока:
— Прошу!
— Пролетарская еда! — одобрительно закивал Никита Сергеевич. — Жаль, огурчиков нет.
— Я промашку дал! — сокрушался Лобанов. — В Тимирязевке круглый год огурцы. В следующий раз привезу.
— В следующий раз! — протянул Никита Сергеевич. — Еще дожить надо до следующего раза!
Хрущев застыл над пунцовыми углями.
— Наливай, Ваня, не околачивайся без дела!
Генерал откупорил бутыль. Лобанов на карачках ползал у прогоревшего костра, постоянно сгребая к центру огненные головешки. Угли душно переливались, внезапно вспыхивая. Руки у Лобанова были перепачканы, и не только руки, сам аграрий основательно вымазался: невесомая зола цеплялась к белоснежной рубашке, липла к ладоням, щекам, стремилась проникнуть за шиворот, угодить в густую белую шевелюру — Пал Палыч был седой, как лунь.
— Иди к нам! — позвал его Хрущев.
— Не могу, огнем управляю. Тут главное — не передержать.
— Да брось, Пал Палыч! Вставай!
Лобанов закряхтел, поднялся, огромной пятерней схватил рюмку.
Настроение у Первого было не ахти. Не шли из головы события с диверсантом-аквалангистом, который приплыл минировать советский крейсер в Англии. Хрущев никак не мог отделаться от чувства омерзения.
Выпили первую рюмку. Никита Сергеевич ухватил сало и жадно сунул в рот:
— Не везет последнее время. Почему не везет? — он покосился на председателя КГБ. — Потому что по морям-океанам всякое дерьмо плавает! Англичане изуверы, за столом в похвальбе рассыпаются, а сами — с ножом к горлу!
— Могли на воздух взлететь! — подтвердил генерал.
— Агента, кто беду упредил, забывать нельзя. По существу, он нам жизнь спас. Несколько тысяч жизней! — уточнил Никита Сергеевич. — Я бы такого человека, хоть он и иностранец, к званию Героя Советского Союза представил. Расскажи о нем, Ванечка.
— Был завербован в Москве, когда работал в аппарате военно-морского атташе. Аккуратист, педант, одет с иголочки, шутник.
— На чем попался?
— Оказался гомосексуалист, подставили ему паренька, ну и завербовали.
— Пидорас, что ли?! — прозрел Никита Сергеевич. — Ух, … твою мать! Что за люди растут при капитализме, что из них получается? Насквозь прожженные! А еще про мораль кричат! Какая, на хер, мораль, если извращенцев на секретную службу берут?! Он поэтому своих и продал, что пидорас! Слава богу, у нас таких нет!
— И у нас попадаются, — поправил Иван Александрович. — А как бы мы его завербовали?
— У нас за это сажают!
— Сажают.
— За такое сроки отменять нельзя! — раскраснелся Хрущев. — Мы должны подобные явления полностью искоренить!
— Искореняем, — отозвался генерал армии, — но ведь и для работы надо.
— Господи помилуй! — прошептал Хрущев. — Такому порочному человеку Золотую Звезду давать нельзя. Денег ему надо дать, не поскупиться, ведь жизнью ему обязаны, хоть он и пидорас.
— Пидорас в России слово оскорбительное, — выступил Лобанов. — Под этим нехорошим словом обычно подразумевают вора или обманщика, того, кто нечист на руку, со значением «грязный», «нечестный». А разведчик-англичанин не то чтобы обокрал кого-то или обжулил, он, получается, пидорас в хорошем смысле! — разливая, высказался Пал Палыч.
— Все шутишь! — хмыкнул Хрущев.
— Гомосексуализм есть болезнь, — уточнил Лобанов.
— Пусть лечится, наших денег ему хватит. Может, он к нам жить приедет? — Хрущев уставился на Серова. — Подлечим, перевоспитаем, бабенку стоящую подберем?
— На Западе он нужней. Предлагаю ограничиться деньгами.
— Деньгами, так деньгами! Надо же, на Советскую Россию пидорасы работают! — изумился Первый Секретарь.
— Значит, не безразлично им дело социализма! — с очень серьезным лицом, произнес Пал Палыч.
— Молчи уже! — цыкнул Хрущев.
— Будьте здоровы, Никита Сергеевич! — с полной рюмкой провозгласил Лобанов.
Чокнулись, выпили.
— Я за диверсанта-аквалангиста беспокоюсь, англичане в море его не выловят?
— Не должны.
— Почему без головы его оставили?
— Так получилось, — потупился Серов.
— Лучше б с головой был, а то как-то не по-людски!
— И кисти рук отрубили, — признался Серов. — Чтобы по отпечаткам не опознали, если со дна всплывет. Но такого произойти не должно, надежный груз к ногам привязали.
— Вот, бл…, садисты! Давай, не стой, наливай! — Хрущев снова подозвал чумазого Лобанова, который отлучился к костру. — Пьешь с нами или ходишь?
— Пью, а как же!
Подмосковье зазеленело, полопались почки, поползли к солнцу еще не окрепшие зеленые листики, огласилась окрестность забористыми птичьими трелями. С глухим жужжанием низко над землей пролетел майский жук.
— Так устаю, так выматываюсь, мочи нет! — придерживая полную рюмку, жаловался Никита Сергеевич. — И еще всякая грязь цепляется! На переговоры едем, а нам под днище корабля с любезной улыбкой морского дьявола подсылают!
Хрущев вопросительно взглянул на генерала:
— А нашли ту мину? Может, попутали, не было никакой мины, а просто решили англичане наш корабль пощупать, поразглядывать вблизи?
— Была мина. Ее ребята в сторону оттянули. Вы на следующий день Идена спросили, кто под нашим кораблем ныряет, помните? Иден оправдываться стал — не может никто нырять. А вы ему — матросы видели!
Никита Сергеевич оставил рюмку, почесал нос и плюхнулся в низкий плетеный стул.
— Мы в Англию дружить прибыли. Булганин интеллигент, королеве руку целовал, а им, зубоскалам, как с гуся вода! Убийц подсылают, крови хотят. Что за народ! А королева с виду хороший человек, обаятельная, — оттопыривая губы, определил Никита Сергеевич. — Все кивала, все улыбалась. Вот и знай, кому верить? А ты, Ваня, трупы калечишь. Что молчишь? Ни мины у тебя нет, ни преступника, который под корабль заполз, ни даже частей его проклятого тела! Молотов с Кагановичем в один голос сказали — выдумки! И Ворошилова, пердуна, подтащили, он тоже брылями тряс — не верю, не может быть! Даже Маленков с умным видом охал. Был бы ты далекий мне человек, выгнал бы в три шеи, а я только и делаю, что за тебя отдуваюсь! Знаешь, какой цирк мне устроили? «Сорван визит, все насмарку!» — галдели. Тебя требовали от работы отстранить. Я им доказываю, что съездили хорошо — я выступил, Булганин выступил, Макмиллан выступил, мы прием дали, они дали, все с распростертыми объятиями. Николай, как воспитанный, каждому кланяется, балет Большого театра спектакль показал, пианист Рихтер музыку сыграл, хор спел, ну все, казалось бы. Так нет, чей-то водолаз под крейсер подлез. А был он, водолаз? — Молотов спрашивает. — Ты видел? Пришлось соврать, что видел, чтобы сразу рот заткнуть, им только дай почву, раскатают как тесто и съедят не поперхнувшись. Молотов никак пережить не может, что его с министра иностранных дел сдвинули.
— Мое дело отвечать за вашу безопасность и за безопасность правительства, — веско ответил Серов. — Я за собой вины не чувствую, я все делал правильно.
— Зачем плавунца на палубу вытянули?
— Старшина Кольцов под водой его ножом ударил, потом схватил и наверх потащил. А там уже матросы подцепили. Кольцов надеялся, что тот выживет, да только ребята опростоволосились, багром его на палубу выволокли.
— Багром! — присвистнул Никита Сергеевич.
Иван Александрович стушевался.
— Рассказывай по порядку!
— Дело было так: акустики уловили подозрительные звуки, объявили тревогу. Мы тут же команду перехватчиков в воду, через три минуты вторую. Обнаружили под водой человека. Хотели его схватить, он нож вынул, стал ножом махать. Лейтенант Зимин из подводного ружья по нему дал, а потом Кольцов сзади подплыл и ножом для верности. А что, разбираться надо, Никита Сергеевич?! Он под судном мину устанавливал! Приказ был брать живым или мертвым!
— Ну, ты, бл…, мудак! Он один, а вас целая орава! Надо было живым брать, тогда бы настоящий бенефис заварили!
— Под водой муть жуткая, ничего не видно, мог уйти.
— Зачем убили, смысл какой?
— Я бойцами под водой не командовал, они по месту определялись. Думали, будет диверсионная группа в непонятном количестве.
— А была эта группа?
— Нет, группы не было.
— Вот так!
— Я вам, как было, передаю.
— А голову ему кто распорядился отрезать?!
— Посовещались и приняли такое решение. Думали, его так быстрее разные раки съедят, а если вдруг выловят, без головы-то не узнают. Мы его раздели, убедились, что особых примет не имеет, только зубы. А зубы, сами понимаете, по зубам сразу определят, чьи это зубы, ну и решили головы лишить. Зимин пилой отпилил. Вас-то на судне не было, кого спросить? Вот и приняли с адмиралом такое решение.
Хрущев недоумевал:
— Странно, что на части не разделали!
— Его уже мертвым на борт выволокли, — оправдывался председатель КГБ. — Он еще в воде помер, Зимин из ружья ему в живот угодил, потом маску с него бойцы содрали, баллоны с кислородом обрезали, захлебнулся водою. Со дна мы все пособирали, каждую мелочь, чтобы никто дурного о нас не подумал. Тело решили спрятать в холодильник, и где-нибудь в океане, когда отплывем подальше от английских берегов, выбросить. Если б труп рядом с крейсером всплыл, тогда бы точно на нас сошлось. Целая операция была проделана, чтобы мертвеца незаметно на камбуз перетащить.
— У тебя всюду операции. А кромсали где?
— В спецбоксе, откуда водолазов выпускаем. Там происходило. Раздевали там, осматривали, руки рубили, и голову соответственно. Оттуда и сбросили после, с чугунной чушкой в ногах.
— Чушка не выдаст? По ней мигом поймут, что русское производство.
— Без груза бросать нельзя, всплыл бы. Не переживайте, Никита Сергеевич, грамотно сделали, — успокоил Иван Александрович.
Хрущев смотрел на генерала с нескрываемым раздражением.
— Мы, Никита Сергеевич, официально к этому случаю отношения не имеем. Пропал человек и пропал, мы при чем?
— Я тебе щас как дам по рогам, не имеем! Еще и голову отпилили! — Хрущев подхватил бутылку. — Изувечили человека, руки оттяпали, аж тошно!
— Знаете, Никита Сергеевич, — заговорил Лобанов. — Я, конечно не ихтиолог, но могу утверждать, что в морях хватает хищников. Некоторые особи смело могут аквалангисту голову откусить.
Хрущев прямо опешил.
— Помолчали бы, Пал Палыч! Постеснялись бы чушь молоть!
— Ну, утонул человек, ведь никто его не нашел! — причитал Серов.
— Сам знаешь, что ищут повсюду, что тревогу бьют!
— Забудется эта история, очень скоро забудется! — вмешался Павел Павлович. — Через недельку страсти улягутся, а через месяц-другой и вспоминать про пропавшего перестанут. Несчастный, так сказать, случай, не больше. Что поделать, раз человека нет? Предлагаю картошечку есть, спеклась! — и аграрий, присев у остатков костра, выгреб наружу почерневшую, вкусно дымящуюся картошку. Чтобы не обжечься, он захватывал ее металлической миской, а потом выкатывал на стол.
— Начали за здравие, а кончили за упокой, вот как с этим визитом получилось, — устало проговорил Никита Сергеевич. — Наливай!
Неловко повернувшись и перехватывая у Первого Секретаря бутылку, Серов пролил.
— Держи крепче, садовая голова!
— Извиняюсь! — промямлил генерал армии.
— Многие хотят, чтоб как в романах происходило, а не получается, как в романах! — пожал плечами Лобанов. — Жизнь есть борьба за выживание! В природе выживает сильнейший и в человеческой жизни сильнейший, — разламывая черную от золы картофелину, заключил он.
Хрущев совершенно погрустнел. Подготовив себе закуску, Лобанов громогласно провозгласил:
— За верного продолжателя дела Ленина Никиту Сергеевича Хрущева! Побед, побед, побед!
— Напьюсь вдрызг, прям с ног упаду! — вымолвил Первый Секретарь.
28 мая, понедельник
Арестованных, схваченных во время волнений в Грузии, оказалось много, около семисот человек. Прокуратура и органы внутренних дел заканчивали расследование, обвиняя по самым тяжким статьям Уголовного кодекса.
Оказавшись в тюремных застенках, многочисленные подследственные уже не верили в свою невиновность, понимали, что железная клетка захлопнулась и, может быть, навсегда. Многие изъявляли желание помогать следствию, помогать правительству, кому угодно и чем угодно, только бы загладить вину, выбраться на волю, а следствие, основываясь на незыблемых сталинских принципах — если в тюрьме, значит — виновен, пыталось при помощи перекрестных допросов, очных ставок и свидетельских показаний выявить корень зла, указать на преступное гнездо заговорщиков, вывести на чистую воду их гнусную организацию, наверняка связанную с западными спецслужбами. Именно так сформулировал ЦК официальную версию происшедшего. Но скоро в Кремле решили замять неприятный инцидент, переиначили версию о действующей в подполье агентурной сети, организовавшей массовые беспорядки, представив Тбилисские события в ином свете. Теперь утверждалось, что в бесчинствах виноваты не манифестанты и не разведслужбы зарубежных стран, а виной всему провокаторы-сталинисты, в прошлом сотрудники кровавого НКВД. Это они, отстраненные от работы, а значит и от кормушки, негодяи, подняли бузу, подтолкнули наивных граждан к выступлениям в поддержку авторитарной политики покойного вождя, спровоцировали простой народ на агрессивное неповиновение. Содержавшимся под стражей предложили подписать документ, где говорилось, что мир и порядок в Тбилиси был нарушен по нелепой случайности, что затесавшиеся в мирную демонстрацию сталинисты устроили провокацию, и тех, кто это подтверждал, отпускали на волю, мол, ЦК разобрался.
— Благодарите истинно ленинское руководство Центрального Комитета: Булганина, Хрущева и Ворошилова! — сурово выговаривали следователи.
Как молитву повторяли эти заветные имена. Но и Молотова упоминали, слишком громкий был у него авторитет, слишком многим, после смерти Сталина он стал близок.
Проморгав события в Тбилиси, чтобы хоть как-то реабилитироваться в глазах Первого Секретаря, Серов развил бурную деятельность. За несколько недель в Москве, Ленинграде, Киеве и Одессе Комитетом государственной безопасности были схвачены восемьдесят четыре человека, открыто высказывающихся против политики СССР, называя ее антинародной и бесчеловечной. Только в Литве раскрыли семь молодежных организаций, выступающих за освобождение республики из-под Советского ига. В эфире глушили позывные «Би-би-си» и «Голоса Америки», вслед за которыми откуда-то из зыбучих глубин появлялись разносящие крамолу радиоволны «Свободной Литвы», «Свободной России», а вторя им, тут и там зазвучали настырные голоса радиолюбителей, призывающих к свержению существующего порядка.
Хрущев ходил мрачный, как туча: серовская работа по выявлению многочисленных недовольных, а по существу врагов, его не обрадовала:
— Никаких снисхождений! Это ж надо, мы изо всех сил стараемся, а они по радио гундят!
Вот и получалось, что людей одной рукой выпускали, а другой начали сажать. Никита Сергеевич продолжал форсировать реабилитацию, но никак не соглашался смягчать инакомыслящим бунтарям наказания, велел концентрировать усилия на агитационно-массовой работе.
— Все беды от невежества, от нашей серости, — говорил он. — Народу надо суть через себя пропустить, переварить, переосмыслить, тогда примут новое, хорошее. А переделать человека приказом, угрозой, невозможно.
Партийный аппарат усиливал разъяснительную работу. Упор делался на ленинские принципы руководства. Утверждалось, что ленинские принципы разительно отличались от сталинских: они демократичны, приветствуют обмен мнениями, основываются на коллегиальности, привлекают в управление страной широкие слои населения, а любой антисоветский уклон, любое восхваление буржуазного образа жизни непримиримо каралось. Статьями в газетах, радиопередачами, кинофильмами, работой агитбригад и местных парторганов, Центральный Комитет хотел доказать, что государство — друг. Громче и настойчивей сообщалось об успехах промышленности, сельского хозяйства, с помпой открывались детские сады, школы, больницы, магазины, в последних, наконец, стало больше разнообразия. Народу обещали дополнительный выходной — субботу, в городах начали массово раздавать квартиры. На смену жесткому, безапелляционно-приказному порядку шла открытость, доступность. Начальство снизошло до простого человеческого общения, в глазах руководства появилась не наигранная заинтересованность, сердечность. Собирая толпы слушателей, на центральных площадях поэты читали стихи, глаза молодежи искрились вдохновением, задором. Пионеров и детвору помладше отправляли в летние лагеря, содержание которых взяло на себя государство. На предприятиях чествовали ветеранов и передовиков, вручали им грамоты и ценные подарки.
В основе Советского Союза лежал социализм. Социализм, как учила Коммунистическая партия, являлся самой передовой общественной формацией. Высшая его форма — коммунизм, — абсолютное светлое, как будущее, так и настоящее для каждого человека. При социализме только начинала разворачиваться битва за безоблачное счастье. Центральный Комитет декларировал неизбежный переход от социализма к коммунизму.
Секретарям ЦК союзных республик и обкомовским идеологам предписывалось усиливать пропаганду социалистического образа жизни, кое-где допускалось и приукрасить быт советского человека, усилить его. Страна двигалась, гудела. В городах и поселках стали освещать центральные улицы. Ток устремился в самые малодоступные уголки, и даже на краю земли вдруг вспыхивал свет! В далекую глухомань отправлялись врачи. Колхозы и совхозы оснащались тракторами, комбайнами. По дорогам необъятной страны курсировали артисты, ехали учителя и врачи, чтобы везде, даже там, где вчера выли волки, человек чувствовал заботу и любовь родной страны, чтобы в сердце рождалось чувство гордости за свою многонациональную Родину, но такие события, как в Грузии, перечеркивали любые успехи.
Никита Сергеевич несколько раз встречался, с товарищем Мжаванадзе, вместе думали, как после расстрела населения выровнять ситуацию.
— Надо каждый день разъяснять людям, что имела место провокация. Пустить слушок, что первыми начали стрелять из толпы, что убили двух солдат и офицера, — учил Хрущев.
Василий Павлович соглашался, он начал запускать в народ всяческие слухи-небылицы: что убили сироту-солдатика, чьи родители погибли в войну; что кто-то пырнул ножом пожилого старшину, который уговаривал собравшихся разойтись. Подобными историями потихоньку обрастал Тбилиси, соседние города, поселки и самые захудалые деревушки. В конце концов, люди окончательно запутались в информации, заблудились во множестве настоящих и вымышленных фактов. Поговаривали, что кто-то из бывших охранников ГУЛАГа украл пулемет, приволок его на площадь и открыл огонь. С этого, мол, все и началось, и что многих срочников поубивали именно из этого пулемета. Множество молодых солдат скосила предательская очередь, а они даже не были вооружены, не могли защититься, стояли лишь для проформы, изображая видимость порядка, и что погибли абсолютно невинные ребята, почти дети, в этом году призванные в армию. Теперь уже нельзя было точно утверждать, где правда, а где ложь.
— Успокаиваются горячие головы! — на третьей встрече с Хрущевым, похвастался грузинский секретарь.
Центральный Комитет включил бесперебойную агитационную машину: политинформации в школах, разъяснительные беседы на предприятиях, в «красных уголках» по месту жительства, где кучковались пенсионеры-активисты. Газеты, расклеенные на каждом углу, журналы, радио, телевидение выплескивали моря позитивной информации, отвлекая от недавней трагедии. Юморески и куплеты исполнялись на концертных площадках артистами многочисленных филармоний, силами местной самодеятельности ставились анекдотичные сценки. С эстрады отпускали шутки над буржуями-толстосумами, высмеивали сплетников-брехунов, лентяев-тунеядцев, превозносили рабочих и крестьян, иногда подшучивали над начальством, но в последнем случае по-доброму, без злобы.
— Скоро открываем стадион «Лужники», — говорил Хрущев. — По случаю открытия устроим грандиозный праздник. Думаю, стоит провести в этот день футбольный матч между командами Российской Федерации и Грузии. Такой матч будет хорошим поводом для сглаживания острых углов.
Хрущев знал, что накипь в душах грузин осталась великая.
— Ты, Василь Павлович, должен убедить футбольную команду Грузии приехать в Москву и играть с мирным настроением. Надо чтобы игра прошла гладко. Такая задача ставится. Как хочешь, Василь Павлович, но ее решай!
Мжаванадзе вывернулся наизнанку, но сделал, что требовалось. Он разговаривал лично чуть ли не с каждым спортсменом, помогал, чем мог: кому улучшил жилищные условия, кому выделил значительную материальную помощь, кого определил заочно учиться, кого принял в партию, капитану команды досталась новенькая «Победа». Грузинский секретарь твердо пообещал Хрущеву, что матч состоится. Как раз в это самое время стали отпускать арестованных, что Василий Павлович тоже приписал к собственным заслугам.
18 июня, понедельник
— Вы меня прям обрадовали, прям бальзам на душу! — Хрущев жал шелепинскую руку и тянулся к Семичастному. — Не подвели, не подвели!
Нежданно-негаданно советская сборная стала чемпионом Олимпийских игр по футболу.
— Футбол игра английская, а мы бац — и первые! — ликовал Никита Сергеевич. — Знай наших!
— И бегуны Олимпийское золото взяли. Куц победу вырвал! — хвастался Александр Николаевич.
— Ай да Куц!
— Бежит, как пуля! — поддакнул Семичастный. — Забавный случай с ним вышел, побежал в красной майке и белых трусах, а прибежал в белой майке и красных трусах.
— Что за чудеса?
— За десять километров так пропотел, что майка слиняла!
Никита Сергеевич расплылся в улыбке:
— Надо его отметить.
— И мы об этом подумали. Может квартирой?
— Не возражаю. Всех чемпионов надо отметить, чтобы боевой дух крепчал!
— И легкоатлеты впереди! — высказался Брежнев, которого Хрущев принимал часом раньше и не отпустил, когда подошли комсомольцы. — А почему все-таки такой фокус, взяли игры и остановили? — обратился он к Шелепину.
— Австралийцы плохо подготовились, так что в ноябре в Стокгольме продолжим.
— Неувязочка! — нахмурился Первый Секретарь. — Все эти разъезды-переезды — деньги! Так сколько, говоришь, у нас золотых медалей?
— Пока восемь. Больше, чем у американцев, — за Шелепина ответил Семичастный. — Из-за делегации Тайваня китайцы в Мельбурн не поехали, тогда б у капиталистов еще меньше медалей было!
— Вам, ребята, особая благодарность!
Комсомольцы сияли от счастья.
— И на целине комсомол тон задает, — снова заговорил Брежнев.
— Целина, целина! — протянул Никита Сергеевич. — А к фестивалю готовитесь? Фестиваль не за горами!
— Из восьмидесяти государств молодежь откликнулась, многие приехать хотят, но некоторым, особенно из Африки и Латинской Америки, хорошо бы с дорогой помочь, у трудовых людей с деньгами не густо, — робко проговорил Александр Николаевич. — Может, свой транспорт туда отправить?
— Продумаем этот вопрос. Наш фестиваль должен набатом звучать! Тут масштабный охват нужен. Раз взялись, будем делать с размахом!
— Гостиниц в Москве маловато, — заметил Леонид Ильич. — Казахи на совещание едут, так я Фурцевой звоню, селить людей негде.
— Да, здесь узкое место!
— Есть такой выход, гостей в школы селить, летом ученики на каникулах, учебные классы свободны Оборудуем их под общежития, — проговорил Шелепин.
— Весело получится, ребята с девчатами загудят! — радовался Леонид Ильич.
— Вы, хлопцы, дельную программу пишите, чтоб и веселились, и чтоб за социализм агитация была! Не забывайте, ради чего этот форум собираем.
— Мы идеологию в песни и пляски обернем, — с задором отвечал Семичастный. — Карнавальные шествия, фейерверки! Две недели праздника мира, да такого праздника, что душа будет в небо рваться!
— Во-во, правильно, Володя — праздник мира и дружбы! Это крылатое выражение нашим девизом станет: «За мир и дружбу!» Звучит! — оживился Хрущев. — Вы с Александром Николаевичем подробный план представьте и мне, и Фурцевой, чтобы Москва не подвела. Фестиваль откроем в Лужниках, на новом стадионе. Смотрите, не облажайтесь, а то похвалил вас, а вы уши развесили.
— Не подведем, Никита Сергеевич!
— Партия и государство комсомолу верит! — Хрущев вышел из-за стола и принялся расхаживать по кабинету. — Олимпиадой доволен, и с фестивалем — понимание есть. Но я еще вот что сказать хотел. Вы, ребята, часто деньги просите, и вообще, каждый приходит сюда и деньги требует, словно я министр финансов! Бюджет не резиновый, давая вам на Стокгольм, а туда дать придется, надо кому-то с деньгами отказать. А экономия, о которой мы на каждом шагу кричим, где экономия? — уставился на Шелепина Никита Сергеевич. — Нету экономии! Сколько у тебя в районном комитете комсомола сотрудников, знаешь?
— От десяти до двенадцати человек работает. Кое-где больше, смотря какой район, — ответил Шелепин.
— Надо сокращать, кончать с бюрократией. Комсомолу следует реальные дела делать, а не карандаши в кабинетах точить! Кстати и карандаш денег стоит, раздай на двадцать человек по карандашу, сколько за год будет? А райкомов сколько? Уйма! Оставляй двух, в исключительном случае трех работников на райком, остальные путь на общественных началах приходят, заодно и проверим, кто по-настоящему с комсомолом. Вам, ребята, надо на свои денежки жить, а не в государственный карман лазать, сумеете так жить, будет вам честь и хвала! Режьте штат, не мешкайте! Что в комсомольце главное, разве кабинет? Задор, главное, огонек! Огонек в груди есть — идет дело, а нет огонька, сколько не плати — воз и ныне там. Пожилые люди сжились с былым, их трудно переделать, а молодость, она сверкает, глаза — как звезды! Что отличает комсомольца? Какие его характерные черты? Пунктуальность, собранность, задор, непримиримость! И это в нашей молодежи бурлит! — с восторгом вещал Хрущев.
— Вам бы с этими словами на комсомольском Съезде выступить! — умилился Брежнев.
— Выступлю, если позовут! — отмахнулся Первый Секретарь. — Почему одни, точно на крыльях летают, и все дела у них спорятся, а другие еле ноги волочат? Что они, из другого теста? — пытал комсомольцев Никита Сергеевич. — Сознания не хватает, — определил он, — пролетарского сознания! Для этого комсомол и призван глаза ребятам раскрыть, в хорошее дело вовлечь! Иногда, безусловно, брак попадается, брак даже в партию проникает, тут кривить душой не буду. Но с разгильдяями нам не по пути! Строже надо спрашивать. Так, Леонид Ильич?
— Именно так!
— Сам, видать, в Казахстане на девок заглядывается, а теперь сидит, поддакивает!
— Смотрел на девчат, правильно сказали, не скрываю. Я же живой человек!
— Живой, живой! — похлопал его по плечу Никита Сергеевич. — За что люблю тебя, Леонид, так это за прямоту! Но партия никому спуска не даст, чуть что, так прямо в газету, и вон из партии! Тут одна неприятная бумага мне поступила, позавчера ее принесли. Это и к тебе, уважаемый Леонид Ильич, относится, и еще к отдельным товарищам. Речь там идет о распущенности, а точнее — о сущем разврате! Некоторые скажут: мол, дело житейское, но я категорически против подобных явлений! Коммунист — это почти человеческий идеал. С каждым днем коммунисты должны делаться лучше, иначе кто к коммунизму придет? При коммунизме у любого человека должно быть сознание коммунистическое!
— Что случилось-то, Никита Сергеевич? — насторожился Брежнев.
— Ничего сверхъестественного, собственно, не произошло, просто, наш министр культуры бл…дун!
— Георгий Федорович? — уточнил Шелепин.
— Ге-ор-гий Фе-до-ро-вич! — тонюсеньким голоском передразнил Хрущев. — Ублюдок он, а не советский министр! Позорит партию, стыд и совесть потерял! То в Малый театр мчит, то в Оперетту, но больше его на киностудию, к тамошним барышням заносит. А на киностудии — тревога, аврал — министр едет, бегают, переживают! Что министр спросит? По какому поводу к нам? Но скоро раскусили его, не по рабочим вопросам он торопится, а приходит подыскать себе очередную пассию! Вот, товарищи, до чего мы со своей либеральностью докатились, какое растление на наших глазах творится!
— Это жизнь, Никита Сергеевич! — вступился Брежнев.
— Жизнь! — яростно обернулся Хрущев. — Это мерзость! Мы стоим на социалистических основах, у нас семья — ячейка общества, можно сказать фундамент социализма! А бл…во есть бл…во! Даже церковь, которую я всей душой ненавижу, потому что там сплошная ложь и притворство, даже церковь в грехах выделяет — не прелюбодействуй! Смертельный грех прелюбодеяние, а у нас кто только бабу в кусты не тащит! Мы за такие явления в шею гнать должны, а тут неприкасаемые выискались! Ты, Леонид Ильич, сам смотри не попадись. Я тебя от Комитета партийного контроля спасать не буду!
Брежнев изобразил страдальческое лицо.
Несмотря на то, что Георгий Федорович Александров был коренаст и лысоват, задора в нем хватало, и министерское кресло делало полноватую фигуру особо привлекательной и колоритной. Он любезно улыбался, мало с кем спорил, говорил исключительно хорошие слова. Его часто путали с Иваном Александровичем Серовым — так с виду и по манере поведения они были похожи. Георгий Федорович почти не пил, предпочитая водке хрупких очаровательных созданий. «Без женщин культура чахнет! — однажды утверждал он. — А женщина есть цветок, требующий безграничной любви!» И вот на незабываемом двадцатидвухлетнем кареглазом бутоне по имени Наташа, которая написала поганое письмо в ЦК, раскрыв беспутную жизнь министра, безоблачное счастье философа пошатнулось.
— В легкие только воздух пошел, мы только-только задышали, — с отвращением выговаривал Никита Сергеевич, — а тут опять задыхаемся! Партия взялась за реабилитацию, говорит о преступлениях Сталина, об извращениях его прихвостней, об их распутстве, а этот кладезь афоризмов ее дискредитирует!
Ну, понятно — выпил сверх меры, с кем не бывает! Ладно, однажды не удержался, под юбку девке полез, особенно с вином, такое с мужиками случается, — размахивал руками Никита Сергеевич. — Я не куркуль! Но чтобы сначала с одной, потом с другой, а после не постесняться обеих подруг объединить — это уж, вы меня извините!
Хрущев прямо подскакивал на стуле:
— Я бы за такое расстрел давал.
— Как расстрел?! — изумился Брежнев.
— Чтоб неповадно было! Берия тоже был бабник. Ему уже не просто женщину хотелось, ему школьницу подавай! Глядя на него, и прихвостни туда же, прямо с ума посходили! Багиров, азебаржанец, чем занимался? Набивал себе карманы и жил как султан. Дача в пятьдесят гектар, садами усаженная, баранов тысяча голов — больше, чем в соседнем колхозе, и девки смазливые по углам! Ты кто, князь? — кричал Никита Сергеевич. — Не князь, а первый секретарь Азебаржана! Штат обслуги раздул, ходят, пылинки с него сдувают, кругом охрана. Заметит из окна — по улице свадьба едет, так вызывает помощника, поручает узнать: чья свадьба, кто гости? За чужими женами слежку устраивал, разговоры руководящих работников прослушивал, не брезговал сводничеством, любым путем хотел получить компрометирующие фотографии мужчин и женщин, запечатлевших их интимные свидания. Сначала делал это с целью усиления собственной власти, а потом сам вразнос пошел! Был первый секретарь республики похож на коммуниста? Не был похож! Сын, герой-летчик, протаранил вражеский самолет, за Родину голову сложил, а он с жиру бесился! А все почему? На Берию насмотрелся. Берия ему пагубный пример дал, заразил бациллой безнаказанности! Поэтому развратникам — расстрел!
Из ящика стола Хрущев достал бумагу и протянул Брежневу:
— Читай! А вы слушайте!
Леонид Ильич развернул документ.
— Протокол допроса свидетеля Дроздовой В.С. от 13 июля 1953 года: «В 1949 году я училась в седьмом классе 92-й школы города Москвы. В том же году, 29 марта, внезапно умерла моя бабушка. В связи с ее смертью тяжело заболела моя мать и была отправлена в больницу на Соколиную гору. Я осталась одна. Жили мы тогда на улице Герцена, дом 52, квартира 20. Почти напротив нашего дома находился особняк, где жил Берия, но я еще этого не знала.
Примерно 6 мая 1949 года я шла в магазин за хлебом. В это же время остановилась машина, из которой вышел старик в пенсне и шляпе. С ним был полковник в форме госбезопасности. Старик остановился и стал очень внимательно меня рассматривать. Я испугалась и убежала, но заметила, что за мной следом пошел какой-то мужчина в штатском и следовал до самого дома.
На следующий день, как говорила соседка, к нам в квартиру несколько раз приходил неизвестный человек и спрашивал меня по имени.
Примерно около трех часов дня, когда я пришла из школы, в квартиру постучался этот неизвестный мужчина, который, как я узнала, оказался сотрудником Министерства государственной безопасности. Он вызвал меня на минуту во двор, там стоял вчерашний полковник, который, как я впоследствии узнала, оказался Саркисовым, начальником охраны Берии.
Саркисов был в курсе всех наших семейных дел, знал, что моя мать лежит в больнице, что она лежит в коридоре в очень тяжелом состоянии, говорил, что надо ехать за профессором, помочь ей и перевести в отдельную палату. Все это он хотел устроить. Его ждала машина «Победа». Я поверила ему, вернулась домой, закрыла дверь и поехала с ним в машине. Я не могла ему не поверить, так как он все рассказал верно и был полковником госбезопасности. Саркисов сразу отвез меня в особняк Берии. Там он мне сказал, что мне поможет его товарищ, очень ответственный работник, который всем помогает и который тоже узнал о тяжелом положении нашей семьи.
Примерно часов в пять-шесть вечера пришел в комнату, где я сидела с Саркисовым, тот старик, который накануне видел меня на улице. Он очень ласково со мной поздоровался, сказал, что не надо плакать, что маму вылечат и все будет хорошо. Потом он предложил с ним пообедать и, несмотря на мои отказы, усадил за стол. Он был очень любезен и угощал меня вином, но я не пила. За обедом присутствовал и Саркисов. Потом Берия предложил мне пойти посмотреть комнаты, но я отказалась и попросила скорее ехать к профессору, чтобы привезти его к больной маме. Тогда Берия грубо схватил меня и потащил в спальню. Я громко кричала и сопротивлялась, но никто не отозвался, и Берия изнасиловал меня. Меня не выпускали из дома три дня. У меня было очень тяжелое состояние, я все время плакала. Берия заходил ко мне и говорил: «Подумаешь, ничего не случилось, обычное дело, а то досталась бы какому-нибудь сопляку, который бы не оценил!»
— Слышали? — уставился на комсомольцев Хрущев. — А Брежнев за разврат наказывать отказывается!
— Изнасилование совсем другое дело, — проговорил Леонид Ильич.
19 июня, вторник
Несказанно повезло, переехали наконец ближе к храму, где поселились в соседнем с отцом Василием домике. Комнатка там была куда больше прежней, на дворе шумел яблоневый сад, где самым чарующим и великолепным деревом была раскидистая райская яблоня. А сколько вдоль забора сиреневых кустов уместилось! Правда, сирень уже отцвела.
— Вот ведь дал Бог! — усердно крестилась Марфа. — А мы горевали: куда переезжать?
За неделю Надя навела в комнате сверкающий порядок, выдраила каждую мелочь, выскоблила столетнюю грязь, печь побелила, даже крошечные оконца уютно заблистали ее трудами. Сегодня занялась расторопная труженица двором, к нему тоже руки годами не прикасались — прежний хозяин пил, сыновья разъехались, вот дочка незамужняя, домик унаследовавшая, по совету добрых людей Марфу пустила. И молитвеннице хорошо, а заодно и пригляд дополнительный будет: ни воры не залезут, ни хулиган не подпалит. Когда одинокий человек в доме живет, как-то страшновато. Отец Василий к тому же был очень доволен — теперь Марфуша будет по соседству.
— Вы, матушка, щи будете? — спросила попадья Наташа, которая и посудой помогла, и постельными принадлежностями, да всем от души делилась.
— Сто лет щец не ела, с удовольствием испробую! — отозвалась Марфа.
— На свининке их сделала.
— Я, милая, мяса вкус забыла, но с тобою покушаю. А батюшка наш где?
— Здесь я! — прикрывая за собой дверь, подал голос отец Василий.
Помолившись, принялись за щи.
— Знаешь, матушка, — проговорил священник, — девчушка та бесноватая заговорила. В церковь на праздники они с матерью пришли, так я прям ушам не поверил. Голосок звонкий, слова четкие!
— На все воля Божья! — рассудительно ответила Марфа. — А девочка симпатичная, хорошо судьба ее сложится.
20 июня, среда
Никита Сергеевич выговаривал Николаю Александровичу за его аморальный облик. Разговор этот длился уже полчаса. Начали говорить спокойно, но потом все больше появилось горячих оборотов, Булганин не хотел соглашаться, возражал, кипятился.
— Уймись, Николай Александрович, уймись, не позорься! — наседал Хрущев. — Ну разве так можно — от одной юбки к другой! Скоро тебя засмеют!
Булганин был мрачнее тучи:
— На работе это не сказывается.
— Твои похождения — стыд и срам! По Кремлю только об этом и шушукаются, все в курсе любовных историй председателя Советского правительства. Как это понимать? Мы за аморалку партийного билета лишаем, а тут сам Булганин безнаказанно разлагается! — потрясал руками Первый Секретарь. — Тебе это сходит, Коля, до поры до времени, но, учти — чуть что, припомнят! — и, глядя на маршала, убийственно продолжал: — Объясняю: не светись, делай тихо, раз свербит, а ты?!
Он уставился на друга.
— Прибежишь, скажешь — защищай! А как я тебя защищать буду?
— А меня защищать не надо! — огрызнулся Булганин. — Я работаю, как вол, а если немного сорвусь — не страшно. Стресс снимать надо, мне профессор Виноградов об этом сказал!
— Не приплетай сюда профессора, лучше очнись! Где это видано, чтобы с разными бабами у всех на виду разгуливать?! То в Большом театре он геройствует, то на Валдае казакует, то, прости Господи, не пойми где шлюшек цепляет! — сокрушался Никита Сергеевич.
— Не хами! — рявкнул маршал.
— Возьмись, Коля, за голову!
— Я никому плохо не делаю! Если люди любят друг друга, что в этом страшного?
— У влюбчивого человека жены нет?
— При чем тут жена? Мы давно разные люди.
— Так начинается разложение, так наша социалистическая мораль рушится! Если женился — будь любезен, живи с женой, зачем спрашивается, женился? А хочешь советские устои подрывать, клади на стол партбилет и катись к чертовой бабушке!
— Ты до абсурда договорился. Люди не истуканы, они живые существа! — мрачнея, выговорил Николай Александрович.
— Тебе здесь не Париж, где и тут и там делается. Тут Советская власть! Партия такого вероломства не допустит!
— Я, Никита, всегда считал тебя товарищем, а ты прямо в душу плюешь!
Премьер раскраснелся. Ему были неприятны и даже оскорбительны хрущевские речи: «Ну, сделай вид, что ничего не знаешь, притворись для приличия, так нет, стоит, попрекает!»
— Я и есть твой товарищ, поэтому говорю! Уже шоферня над тобой насмехается. Мы, Коля, новый светлый мир строим, а ты его чернишь. Твои поступки с твоим высоким положением не сочетаются! Ты же не аристократ, с детства разнузданный, ты коммунист, образец человеческой нравственности, а ведешь себя прямо мелкобуржуазно!
От досады и оскорбления Булганин сделался пунцовый как рак.
«Какой он мне друг, если за пустяки, за баловство, такую выволочку устроил? Недруг он, да и вообще!»
На глаза Николая Александровича навернулись слезы — все любят его, уважают, никто никогда сотой доли хрущевского возмущения не высказал! А ведь в Коммунистической партии есть люди поважней Хрущева. Ворошилов есть, Молотов, Каганович! Молчал бы, Никита!
— Ты, Никита, предвзято говоришь. Я веду себя корректно, а если с кем и встречаюсь, то по обоюдному согласию. Сам знаешь, сходятся люди, расходятся, это жизнь.
— Сходятся, расходятся, но не так, как ты! — гаркнул Хрущев.
— А как?! Встречи мужчин и женщин — дело обыкновенное, кругом подобные истории! — кипятился Николай Александрович.
— И ничего хорошего!
— Даже Сталин не ругался, а ты, как банный лист к заднице, приклеился! Про Костю Рокоссовского докладывали, что четыре любовницы в Варшаве имеет.
— Ты Сталина не приплетай.
— Приплел, потому что Сталин долгие годы страной управлял! И как бы там ни было, порядки установил, и мы с тобой при нем находились и служили ему! Он имел такт, уважал меня, а ты как бешеная собака набросился!
— Подобные пережитки должны искореняться! Низость надо предать гласному осуждению! А как, глядя на тебя, это сделать? Никак!
— Вот и отвяжись! Не хочу больше на эту тему разговаривать! — Булганин встал и не попрощавшись ушел.
23 июня, суббота
Красная Пресня была вымощена булыжником, многие дороги в Москве стали закатывать асфальтом, но по Пресне строго указали — оставить мощение! И это правильно: ведь Красная Пресня место историческое, революционное, здесь кипела битва, возводились баррикады. Именно на Пресне рабочие всерьез столкнулись с царскими войсками.
«Надо про то Илюше рассказать!» — подумал Никита Сергеевич, но удержался: слишком мальчик был маленький, не поймет.
Илюшу везли в зоопарк.
Зоопарк — неописуемая радость для детей! Хрущевы не торопясь прошли вдоль пруда, покормили уток, гусей, лебедей, к которым целой гурьбой присоединялись вездесущие, звонко чирикающие воробушки; постояли у вольера с оленями, посмотрели на белых медведей, волков, лисиц; с интересом рассматривали лупоглазого, лохматого, постоянно что-то жующего, тибетского яка; покормили морковкой, предусмотрительно прихваченной Ниной Петровной, пушистых зайчат; миновали высокую клетку с орлами и вышли к загороженному решеткой водоему.
— Пап, здесь крокодил живет? — спросил Илюша.
— Нет, сынуля, бобры.
— А почему их не видно?
Никита Сергеевич взглянул на темные воды, крутые каменные берега, заваленные кучей веток.
— Обедать пошли, — объяснил он.
— А-а-а! — протянул сынок.
— Хочешь крокодила посмотреть?
— Конечно! По улице ходила большая крокодила, она, она зеленая была! — радостно запел маленький Илья.
Крокодилы сынишке понравились. Папа держал его на руках, чтобы было лучше видно.
— А теперь веди меня ко львам! — попросил мальчик.
Директор зоопарка побежал впереди, показывая дорогу. По пути мама все-таки разрешала Илюше съесть мороженое. Отец по примеру сынка тоже угостился мороженым, сначала он съел свою порцию, а потом и порцию, предназначенную для Нины Петровны.
— Ну, какой ты, папа, красавец, мое эскимо съел! — качала головой супруга.
Никита Сергеевич поспешил за новым.
Львы произвели неизгладимое впечатление. Их было четверо. Один с огромной гривой — вожак, и три львицы.
— Скажите, — обратился к директору Хрущев, — а где сталинский лев?
— Вот же он! — указал на вожака директор.
— Этот?
— Да. Благодаря ему и выживаем, — разоткровенничался провожатый. — Когда льва нам передали, Мясокомбинат № 3 принял обязательство сталинского льва мясом обеспечивать, а мы к нему остальных хищников приписали.
— Что за история, Никита? — заинтересовалась Нина Петровна.
Никита Сергеевич посадил Илюшу на шею и развернулся к жене.
— Один доктор из Южно-Африканского Союза, европеец…
— Ван Ашвеген, — подсказал директор.
— Ага. Подарил Сталину льва, в знак выражения, так сказать, самых искренних чувств. Подарил, и Громыко поручили его привезти. Целое дело было. Хорошо этот Ван Ашвеген сопровождающих дал. Пароход за львом снарядили.
— Лев был небольшой, Никита Сергеевич, львенок.
— Ага, львенок. Как там в стихотворении? Багаж, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Только за время пути, — Хрущев кашлянул, — собака могла подрасти! Так и здесь: львенок за время пути подрос, пасть имел, — Хрущев, придерживая за ножки сына, зло оскалился. — И когти имел, но когти показать не могу, руки заняты. Вот, значит. Света как-то про льва прознала и упросила отца отдать его для внучат. Сталин не возражал, поручил Власику заняться. Сколотили просторный вольер, сеткой проволочной в три слоя огородили, но не знаю почему, Власик не сказал коменданту Светиной дачи, что льва везут, просто объяснил: сделайте клетку для хищника, так, кажется. Льва привезли в Зубалово и посадили в вольер. Все пришли любоваться — Света, дети, охрана, обслуга. Лев умаялся, лежит, щурится. И так три дня. Даже Анастас Иванович Микоян приходил посмотреть, он же Светин сосед был, проживал в соседнем доме. Анастас умилялся: говорит, такой спокойный, славный лев! Сопровождающий груз объяснил — молодой.
— А клетка-то надежная была? — забеспокоилась Нина Петровна.
— Надежная, клетка надежная! Крепкая, и кормили зверя хорошо. Только на пятый день льва в клетке не оказалось.
— Как не оказалось?
— Да так, нету! Бегали по территории, а ведь страшно, лев! Стали по четверо, по пятеро ходить, шарили и тут и там, ведь дети дома, Светлана нервничает. Само собой, паника началась. Что делать, где лев? Тут все в Зубалово прискакали — и Власик, и Серов Ванька, ищут, войска вызвали. Анастас мне звонит, говорит, я в Москву своих перевез.
— А как сбежал он?
— По дереву, — объяснил Никита Сергеевич. — В вольере дерево росло, дуб. Он по дубу вскарабкался и через загородку — скок! Света к вечеру тоже в Москву уехала. Берия матом на Власика орал. Войска оцеплением прочесывали лес. А по району уже паника поползла — в лесу зверь-людоед объявился, то ли медведь, то ли тигр! Тигр! — кричат местные. Две школы закрыли, день прошел, другой, а льва все нет.
— Нашли его, в конце концов?
— В конце концов сам нашелся, — Никита Сергеевич спустил сына с плеч и взял за руку. — В субботу приехал Маршал Советского Союза Буденный в Горки, на конезавод, он известный кавалерист, каждые выходные там скачет. Лошадку взял, пришпорил и в лес поскакал, и как только в лес въехал, на него лев выпрыгнул. Лошадь шарахнулась, Буденный свалился, в сторону отполз, а лев лошадь придушил и лежит себе, обедает.
— А что Буденный?
— Семен Михайлович что? Пистолет дома позабыл, побежал за оружием, кричит: «Без меня не трогать! Я эту сволочь сам пристрелю!» Пока бегал, льва поймали. Понятно, Сталину доложили.
— А Сталин что?
— Что вы, говорит, за дурни! Власику по первое число влетело. Ты у Анастаса спроси, может, я что запамятовал. А льва велел в зоопарк отдать.
26 июня, вторник
В результате революционных событий 1952 года был свергнут король Египта и принята республиканская форма правления. С этого момента отношения Каира с западными странами катастрофически портились. Египтяне, во главе которых встал полковник Гамаль Абдель Насер, добились подписания с англичанами соглашения о выводе британских войск, однако английские войска покидать страну не торопились, они покинули Египет только 14 июня 1956 года, когда Насер окончательно получил власть и стал законным президентом.
Великобритания вместе с Францией были главными пайщиками «Компании Суэцкого канала» и не желали терять сферу многолетнего влияния. Суэцкий канал является центральным экономическим звеном не только на Ближнем Востоке, связывая части света заветным морским проходом, канал этот был подобен драгоценному кладу, который никогда не иссякает — тысячи тысяч судов спешат преодолеть его узкую дорогу, шныряя взад-вперед, образуя длинные очереди. За каждый корабль, за каждую шхуну, лодку, лодчонку владельцы концессии взимали деньги. Англия предложила правительству Насера заключить военный союз сроком на 25 лет, чтобы, на основании этого документа, иметь возможность в любой момент возвратить в Египет войска. Однако такое соглашение не было принято. Насер расценил подобный союз как новую форму колониализма. Президент Египта не скрывал своего желания найти новых союзников, с которыми он смог бы делить прибыль от доходов по эксплуатации канала не в пропорции девятнадцать к одному, как было при старых хозяевах, а хотя бы пополам или на каких-то других удобоваримых условиях, но сначала надо было освободиться от прежних партнеров.
Неоценимым помощником в этом вопросе сделался Советский Союз, ведь только Советский Союз мог противостоять таким странам, как Америка, Англия и Франция. Каирские представители прилагали всяческие усилия, чтобы привлечь на свою сторону могучее Советское государство. Полковник Насер утверждал, что изгнание англичан, освобождение от чужеземных войск зоны Суэцкого канала, поможет в борьбе против империализма не только Египту, но и другим арабским странам и усилит политический вес Советского Союза. Булганин с Хрущевым такую позицию принимали: вот уже год Египет получал от СССР танки, истребители, боевые корабли, боеприпасы, техническое оборудование и запасные части. Все теснее становились связи двух государств, что вызывало нервозную озабоченность у Великобритании и Франции, ведь Великобритания и Франция контролировали Египет на протяжении последних семидесяти пяти лет. Чтобы противостоять советскому вторжению на Ближний и Средний Восток, Англия приняла участие в образовании и вошла в Багдадский пакт, куда кроме Великобритании попали Ирак, Турция, Иран и Пакистан.
Эти страны, особенно Турция, консолидировались в противостоянии против СССР. Турция предоставила свою территорию для военных баз, что создавало реальную угрозу Москве, ведь с территории Турции проще всего было нанести ракетный удар. В Североатлантическом блоке велись упорные разговоры о размещении на турецкой территории ракет, направленных на СССР. Стремясь объединить арабский мир под своей эгидой, Соединенные Штаты в Багдадский пакт входить не спешили. Такая американская позиция разобщала Америку и Англию, позволяя СССР укреплять свое влияние на Египет. В Европе сразу разобрались, что масштабные поставки оружия организованы не Чехословакией и Польшей, как значилось в документах, а Советским Союзом. На возмущенные заявления Лондона, Парижа и Вашингтона Хрущев, не допуская возражений, заявил: «Каждое государство имеет законное право заботиться о своей обороне и покупать для оборонительных нужд оружие у других государств на коммерческих условиях, и никакое иностранное государство не имеет права в это вмешиваться и предъявлять претензии, тем более что ранее Египет закупал оружие у Франции и Англии!» Обстановка разогревалась с каждым днем. Англичанам, американцам и французам надо было беспрепятственно транспортировать собственную нефть, так как именно здесь, на Востоке, они вложили колоссальные средства в разработку и добычу «черного золота». Суэцкий канал стал не только экономически выгоден, он сделался также стратегическим и политическим опорным пунктом, и тот, кто будет владеть им, тот и будет диктовать миру условия.
Николай Александрович Булганин сидел в хрущевском кабинете. Только что он и Никита Сергеевич приехали из египетского посольства, где был дан прием. На приеме Хрущев разразился речью в защиту суверенных интересов Египта, цитировал Геродота, который назвал Египет «Дитя Нила». Вслед за ним и Булганин сказал несколько добрых слов. Оба заявили о крепнувшей дружбе между Советским Союзом и государством Египет, которое сумело освободиться от колониального ярма.
— В сорок девятом американцы у нас из-под носа Израиль увели, а сейчас мы Египет сопрем! — посматривая на разливающего коньяк Булганина, радовался Никита Сергеевич.
— Сталин на Израиль большие надежды возлагал, думал, Израиль будет оплотом социализма. Однако перехватили у нас инициативу, переманили израильтян, — подтвердил высказанную мысль Булганин.
— Да и хер с ними! В Израиле Суэцкого канала нет! — отчеканил Хрущев. — Разведем на Ближнем Востоке огонь мировой революции!
Сегодня Египет и Израиль были непримиримыми врагами. Знали ли египтяне, что на заре создания израильского государства еврейские лидеры в строжайшей секретности обращались за военной и материальной помощью к Советскому Союзу и получили ее? Иосиф Виссарионович очень рассчитывал на просоветский Израиль, однако пошло не по его сценарию. Может, впоследствии он мстил евреям за свои несбывшиеся надежды?
В кабинете было душно. Булганин снял пиджак и с ногами завалился на диван, после посещения посольства хотел сразу ехать домой, но Хрущев упросил заскочить на работу, забрать бумаги. Попав в кабинет, Никита Сергеевич никак не мог собраться: то ему кто-то звонил, то сам он куда-то звонил, в промежутках между телефонными разговорами, бегая из угла в угол, разыскивая нужные документы.
— Слушай, брат, давай поедем! — не выдержал Николай Александрович.
За этот год председатель Совета министров подтянулся, стал еще более величав и осанист. В каждом его жесте, в каждом движении ощущалось величие. Что ни говори, а справедлива поговорка: «Не человек украшает место, а место, то есть должность, красит человека». Так и с обаятельным Николаем Александровичем произошло: превратился он в настоящего повелителя. Походка, взгляд, рукопожатие, голос — все говорило о непререкаемом превосходстве.
Последние годы, покидая Москву, Иосиф Виссарионович оставлял председательское кресло именно Булганину. Булганин вел заседания Центрального Комитета и Совета министров. Но хоть и доставалась Николаю Александровичу великая честь, никогда он не чувствовал за собой такой силы, как сегодня. Оно и понятно: тогда он «исполнял обязанности», а теперь стал настоящим председателем Советского правительства! Куда бы ни приехал Николай Александрович, кого бы ни посетил, везде его ждали с распростертыми объятиями и благоговением. Каждый день его славили газеты, хвалили в новостях.
«Что за человек Никита, никуда не торопится!» — про себя возмущался председатель правительства.
— Устал ждать! — торопил маршал.
— Сейчас, сейчас! — обещал Хрущев, копаясь в ящиках стола.
У Булганина терпения не осталось, он обернулся к товарищу, намереваясь ругаться.
— Бы-ли два дру-га в ва-шем полку. Пой песню, пой! Если один из друзей грустил, Смеялся и пел другой. И часто ссорились эти друзья. Пой песню, пой! И если один говорил из них: «Да!» — «Нет!» — говорил дру-гой! —запел Никита Сергеевич.
— Поешь? — благосклонно откликнулся Николай Александрович.
— Настроение хорошее. Все идет, все гудит! В следующем году миллион метров жилья сдадим, это сколько же людей в новые квартиры въедут?! А сколько разных товаров появилось! Разве не песня, Коля? Песня!
— Я, — со вздохом отозвался Николай Александрович, — совсем плохо сплю, ворочаюсь-ворочаюсь, а не спится. Вроде иду в спальню, глаза слипаются, вот, думаю, до подушки доберусь, так нет, ляжешь и лежишь часами. Что за напасть! И сны дурные преследуют, ей-богу, дурные!
— А я — бам! — и нету меня, так за день намыкаюсь, — ответил Хрущев.
— Везучий ты. Мне и сегодня дрянь снилась.
Булганин подпер голову руками и стал припоминать:
— Лежал чуть не до утра, под утро заснул, перед глазами какие-то картины поплыли. И вот уже снится: еду я в машине, на переднем сиденье сижу, как ты любишь, на дорогу смотрю. Едем, значит, и тут замечаю: собака на дорогу выходит, обычная собака, ничего особенного, и у края дороги садится. Я на нее смотрю, и она на меня смотрит. Проехал собаку, въехал в поселок какой-то, потом в лес, а она, эта дурная собака, у меня из головы не идет. Думаю: «Зачем собака? Откуда взялась?» Такие дурацкие мысли!
— Да, брось!
— А ведь собака как собака, черный лохматый кобель! И вот я дома, по саду гуляю. Это все в том же сне происходит, — продолжал Николай Александрович. — Смотрю, на яблоне этот лохматый пес с длинными ушами примостился, среднюю ветку занял и сидит, а ниже — другой, поменьше. Я им — пошли прочь, брысь! А этот первый на мой окрик развернулся и, знаешь, так ловко, на соседнюю ветку — скок! А на заборе кошка пристроилась рыжая. Она прямо с забора к этому лохматому кобелю прыгнула, милуются. Зацепились они задними лапами за ветки и висят вниз головой. Представляешь? — Булганин уставился на Хрущева. — Что бы это значило?
— Глупости!
— Привязались ко мне собаки с кошками! — протянул Николай Александрович.
— Да хер с ними!
— Целый день зверье преследует, — тер лоб Булганин. — Обычно сны сразу забываются, а этот — нет.
— Выбрось из головы, говорю! Пошли, что ли, Коля? — Никита Сергеевич был не в настроении говорить о ерунде.
— Пошли! — приподымаясь, отозвался председатель Совета министров.
— Представляешь, Коля, — подходя к машине, проговорил Никита Сергеевич. — Илюша научился свистеть и теперь ходит по дому и насвистывает!
— Отучи, денег не будет! — серьезно заметил Николай Александрович.
— У нас с Ниной сроду денег не было, так что пусть пацанчик радуется.
— Свист дело дурное! — стоял на своем Булганин.
— Ладно, оракул, залезай в машину! — Хрущев распахнул дверь, приглашая товарища в салон «ЗИСа».
Булганин неуклюже забрался внутрь, Никита Сергеевич поспешил вслед.
— Знаешь, Коля, пора нам новую правительственную машину сделать, современную, завидную, а это, — Хрущев похлопал по бархатной обивке, — прошлое! Время новое, а значит, должны быть и новые правительственные машины.
— Уже делают! — буркнул Булганин, усаживаясь. — Еще Маленков распоряжение подписал.
— Да?
— Да. Ты еще предложил «Чайка» назвать.
— «Чайка» здоровское название! — припомнил Никита Сергеевич.
У Хрущева за этот год расправились крылья. Булганин во всем был на его стороне. Каганович, Ворошилов и даже Молотов воспылали к Никите Сергеевичу любовью, при встрече подобострастно жали руку, улыбались. Молотов, тот иногда взбрыкивал, однако после того, как его отстранили от должности министра иностранных дел, вроде бы тоже утих. Маленков, тот вообще не высказывал собственной точки зрения, наперед спрашивая: «Никита, как решил?» У кабинета Никиты Сергеевича стали образовываться очереди, уже нельзя было запросто попасть к нему, забежать, как раньше, переброситься словом. В коридоре на хрущевском этаже выставили милицейский пост и пропускали строго по согласованному списку.
Никита Сергеевич практически стал полновластным хозяином страны, не то чтобы он безоговорочно сделался первым и принимал любые решения, вроде и нет, но получалось, что именно за ним оставалось последнее слово. Хрущеву вперед других подавали машину на госприемах, он первым шел в зал на торжественных заседаниях, в печати его фамилию стали указывать впереди остальных, разве с Булганиным еще случалась путаница: нет-нет, а Николая Александровича ставили в самое начало. Так или иначе, а маршал Булганин отступал на второй план. Но на Западе лидерства Хрущева до конца не признавали, председатель Советского правительства воспринимался там куда значительней партийного предводителя.
28 июня, четверг
Море. Господи, как же хорошо оно! Голубое, бескрайнее, ласковое. Сегодня спокойно, волнения нет. Мягко перебирая гальку, прибой неспешно шуршит, бережно трогая берег. Вода настолько прозрачна, что каждый камушек различим до мелочей. Покрытый узорчатым рисунком, он неповторим, замысловат. Сколько их тут, завораживающих оттенками причудливых кругляшек, блинчиков, широких, узких, вытянутых наподобие указательного пальца каменных драгоценностей, которые бесхитростно протягивает волна. Море, как внимательная мать, заботливо перекладывает их, перекатывает, подбрасывает, гладит, полирует, и все лишь для того, чтобы удивить красотой человека. Но стоит достать камушек из воды, стоит только появиться ему на солнце, обсохнуть — великолепие красок тускнеет, и сверкающий голыш превращается в обыкновенный, ничем не примечательный экземпляр, какие обычно попадаются под ногами, белесо-бледные, невыразительные.
На пляже возле моря властвует солнце, пристальное, беспощадное. Но именно здесь заключена сладость отдыха — между двумя стихиями, между солнцем и морем, светом и водой. Их перекрестье омолаживает, заставляя сердца биться по-новому, губы широко улыбаются, щеки розовеют, глаза сверкают. Поддавшись действию беспощадных лучистых чар, ты превращаешься в частичку природы, отторгая обыденное, цивилизованное. В слепящем умиротворении человек молодеет, здоровеет, рассудок пьянят курортные романы, переполняют надежды, кто-то обласканный морем влюбляется всерьез и пропадает под завораживающим действием южных заклинаний навсегда.
Как хорошо жить!
Вот для чего нужен отдых, вот для чего необходимо бывать на море, захлебнуться беззаботностью, забывшись в жаркой истоме. Окунувшись в томный покой, можно восстать из руин, одухотвориться, запастись энергией на холодную долгую зиму, получив заряд здоровья, задора и бодрости. Только так можно продлить человеку такую ранимую и такую короткую жизнь.
Ступая в воду медленно, осторожно, пытаясь трогать ее рукой, прогоняя внезапную дрожь, Екатерина Алексеевна, боясь оступиться, делала осторожные шажки вперед: один, другой, третий; шла, проваливаясь в море глубже и глубже. Волна уже дотянулась до пояса и поползла дальше, но тут, оттолкнувшись, купальщица выбросила вперед руки — и поплыла, заскользила по зеленовато-синей поверхности. И зашумела вода, побежала в стороны мелкой рябью, стараясь удержать на плаву точеную фигуру, которая, подгоняемая мощными взмахами, неслась навстречу ветру, раздувающему матовое спокойствие полудня.
Она плыла. В первый момент было холодно, слишком холодно — словно тысячи мелких иголочек вонзились в тело, захотелось выскочить на берег, завернувшись в широкое полотенце, унять озноб, но через секунду стихия захватила вольным ощущением свободы, покорила! И женщина, как русалка, захотела не покидать глубины, остаться в море навечно — плескаться: то переворачиваясь на спину, то ныряя, то замирая.
Екатерина Алексеевна восторгалась красотой вокруг: неприступными горами; колонноподобными кипарисами, подступившими к самому берегу; убаюкивающими прикосновениями ветра, грезившего стойким запахом олеандра. За эту волшебную поездку она была благодарна себе самой, рада, что вырвалась сюда, оставив работу, обязательства, начальство, забросив все подальше, чтобы, отстранившись от рутинной действительности, вслушиваться в настырный стрекот цикад, любоваться мерцающей лунной дорожкой, мечтать, задыхаясь в неземной прелести глициний и магнолий и, отдавшись ленивым волнам до кончиков волос, наполняться романтическим дыханием самого дивного места на земле, имя которому — Крым.
Екатерина Алексеевна обожала Крым. В двадцать лет приехала в Феодосию, мечтая углядеть на горизонте алые паруса спешащего за ней принца. Она не желала никуда уезжать, но не удержалась, сорвалась с места в погоне за манящей жар-птицей славы. И вот она снова здесь, под июньским солнцем, скрадывающим печали, снова — в изумрудной воде.
Валерий не поплыл, он лежал на пирсе и загорал. С утра, надев маску и ласты, больше часа охотился за крабами. Неудачно. Поймал лишь двух. К обеду их сварят и подадут вместе с пенящимся ялтинским пивом. В первый день Валера наловил двадцать четыре штуки, и вечером обитатели мисхорской дачи лакомились изысканным крабовым мясом. Хотя черноморский краб съедобен, мяса в нем почти нет. За исключением мощных клешней, откуда достают самые внушительные части деликатеса, кушать практически нечего. Бессмысленное обсасывание не поддающихся разгрызанию ножек не прибавляло аппетит, и под панцирем, который умело разбирали, поддев снизу, толком ничего не обнаруживалось. Если повезет, можно было наткнуться на крабью икру.
Едоков за столом собиралось пятеро: ловец крабов Валерий; успевшая основательно почернеть на солнце стройная и улыбчивая Екатерина Алексеевна; ее двенадцатилетняя дочь Светлана, которую вместе с толстушкой мамой она забрала на юг, и подруга — уже ставшая популярной певица Людмила Зыкина.
Валера, похоже, остепенился. С Катериной Алексеевной все в его жизни складывалось: и учеба, и работа, и благосостояние, он давно ни в чем не нуждался. С того дня, когда избранник затеял пьяный дебош, прошло время. Кротов обещал не пить, но все-таки пригублял. Фурцева смотрела на это сквозь пальцы, ведь ни разу он не перебрал: кружка пива или бокал вина, иногда — рюмочка водки, и — точка. Сначала каждую ночь, а потом через ночь сожитель приходил к даме сердца и нападал, бесцеремонно утоляя бесхитростные мужские желания. Агрессивность его потихоньку уменьшилась, он делал свое дело скоро, машинально, никак не любовно, когда целуют и обожают каждую мелочь и, овладевая, проникают глубоко-глубоко — до самого сердца! Скоро Валера захандрил, устал изо дня в день находиться под опекой, безропотно подчиняясь каждой прихоти, пропадая в кощунственном соглашательстве. Хотя Екатерина Алексеевна не повышала голос, не требовала чрезмерного, она так властно смотрела на своего Валерку, что молодому человеку делалось не по себе. Валерий выучил все ее пристрастия, изучил любимые ароматы, наперед знал, что она спросит и какое надо сделать лицо. Екатерина Алексеевна до отупения изматывалась на работе, а работа ее заключалось в постоянном общении с людьми, в принятии ответственных решений. Она смертельно уставала, и, оказавшись дома, не имела силы разговаривать, хотела молчания и лишь его настойчивых рук — раздвигавших кромешные ночи, когда мужчина властвовал над ее изнуренным телом. Приходя в задрапированную тяжелыми шторами спальню, любовник знал, что от него требуется, но как ему наскучило постылое повторение! Он пресытился немым однообразием, без теплого слова, без выражения эмоций, и чтобы не потерять интерес, не утратить в приспособленчестве вкус к жизни, к женщине, чтобы получалось без устали ласкать и мучить свою искушенную сожительницу, он импровизировал: пытался затащить покровительницу в ванную, грубо облокотить на полированный стол в столовой, сорвать одежду на лестнице, велел ей спать голышом, но искренности ему никак недоставало. Глаза любовника слишком часто делались отстраненными и пустыми.
Екатерина Алексеевна вышла из воды, не вытираясь, а мягко промокнув тело, накинула халат, укрылась широкополой шляпой от солнца и позвала:
— Валера, ты где?
— Загораю! — лениво отозвался он.
Она отправилась под навес, там, в глубине, в матерчатом шезлонге, проводила время подруга. Почему Фурцева сдружилась с Зыкиной, неясно, они были совершенно разные. Людмила недолюбливала Валерия, смотрела на него свысока, и он ее не чествовал, придумывал полнеющей даме обидные прозвища, высмеивал наивные песни.
— Почему не плаваешь, Люда? — устроившись рядом, поинтересовалась Екатерина Алексеевна.
— Вода холодная.
— Хорошая. Я прямо энергией зарядилась.
— Не моя вода, пусть потеплеет, — отпиралась Людмила. — Я в бассейне покупалась.
В бетонном теле набережной был встроен бассейн. Шириной он был не больше квадратного навеса, под которым в рядок умещалось пять лежаков и пара шезлонгов, не большой и не маленький.
— Налить тебе вина?
— Можно.
Екатерина Алексеевна подхватила бутылку «Алиготе».
— Твой все утро нырял, крабов ловил.
— Значит, вечером пируем!
— В этих крабах есть нечего. Вот на Сахалине крабы! — развела руками певица. — Там краб — пир, а тут — смех!
— Тогда снова напьемся! — весело отозвалась Екатерина Алексеевна.
Зыкина недовольно посмотрела на пирс, где загорал фурцевский дружок.
— Не балуй его, не балуй, Катерина Алексеевна!
— Отстань. Я его сегодня ругала.
— За что?
— За то, что ничем не занимается, ничего не хочет, за то, что цели в жизни не имеет, — призналась Фурцева. — «Апатия», — отвечает.
— Кислятина это «Алиготе»! — скривилась Люда.
— Мне нравится.
— Он за вами, как за каменной стеной, вот ничего и не нужно! Одет с иголочки, часы золотые. Эдакий франт! Вконец его распустите.
— Сколько той жизни! — вздохнула Фурцева и грустно добавила: — Я в любви невезучая!
Кротов как будто догадался, что разговор про него, посмотрел в сторону женщин и, поймав взгляд Екатерины Алексеевны, помахал рукой.
«Все-таки красивая у меня баба!» — подумал он.
— Иди к нам! — позвала Фурцева.
В одно движенье ловец крабов и женских сердец подскочил с места и пружинистым шагом направился в сторону шезлонгов.
— Ты красный! — оглядывая мужчину, отметила Фурцева. — Возьми крем, намажься, а то облезешь.
— Я не сгораю, ничего со мной не будет.
Кротов сел рядом.
— Вина выпьешь?
— Налей!
Зыкина сняла с головы белоснежную панаму и стала ею обмахиваться:
— Жара!
Вокруг не было ни ветерка, ни дуновенья, движение воздуха зависело теперь от усилий прибоя, который с каждым разом бил тише и тише. Валерий прошел к холодильнику и принес вазочку со льдом. Положив в свой бокал три кусочка, он вспомнил про остальных:
— Льда надо?
— Клади!
Кротов зазвенел мельхиоровой ложкой.
— А тебе? — обратился он к певице.
Зыкина молча кивнула, продолжая обмахиваться. На ее лице выступили чуть заметные капельки пота:
— Чем больше пью, тем жарче!
Отдыхали на море пятый день. Завтра собирались поехать в Алупку, во дворец графа Воронцова. По счастливой случайности этот уникальный архитектурный ансамбль, построенный в девятнадцатом веке английскими архитекторами, уцелел. Немцы заняли Крым внезапно, и отступающие советские части не успели его уничтожить. Фашисты покидали Крым тоже впопыхах, и хотя дворец заминировали, взрывчатку обезвредил Щеколдин, директор. Его, как обиженного Советской властью, немцы оставили на работе. Если б рвануло, остались бы на месте замка повелителя южных губерний шершавые диабазовые глыбы. За спасение архитектурного памятника Щеколдину сохранили жизнь, правда, за решетку все равно посадили, а то как? Ведь при фрицах работал! С сорок четвертого года дворец сделали госдачей. Во время проведения Ялтинской конференции стран антигитлеровской коалиции в нем квартировался премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Дворец до сих пор скрывался за семью заборами, принимая на отдых высших государственных лиц, но с благословения Ивана Александровича Серова перед Фурцевой открывались все двери.
— Может, в бадминтон сыграем? — обратилась к Валере Екатерина Алексеевна.
Играли без счета, воланчик исправно взмывал вверх, метался туда-обратно. Игроки били метко, но Валера уступал, соперница была настойчивой и техничной, в свое время она серьезно занималась теннисом, и бадминтон ей давался легко, и еще солнце помогало — слепило противника.
— Невозможно играть, ничего не вижу! — возмущался мужчина. — Ты специально так подаешь, чтоб я не видел!
Екатерина Алексеевна смеялась, ей было весело.
— Мазила! — дразнила она.
— Мама, мамочка! — со стороны дачи раздался девичий голос.
Светочка-доченька спешила к навесу. Как и тысячи партийных функционеров, Екатерина Алексеевна не удержалась и назвала дочку Светланой. До войны имя Света стало самым распространенным в СССР.
— Тебя к телефону зовут! — запыхавшись, проговорила дочь.
Мать обняла девочку. Отец Светы давно имел другую семью и не торопился навещать ребенка, но мама и бабушка ее в обиду не давали.
— Может, Светуля, в море поплаваешь? Я час купалась!
— Давай вместе!
На пляж спешил прикрепленный Екатерины Алексеевны, подполковник Назаров.
— К ВЧ срочно просят! — сообщил он.
Пришлось идти в дом.
— Вина ты не пьешь, — обращаясь к Свете, проговорил Валерий. — Может, лимонада налить?
— Лучше мороженого!
Валерий сходил к холодильнику и, отыскав эскимо на палочке, протянул ребенку.
— Ешь, пока мать не видит!
Светлана радостно заулыбалась.
— Ты потихоньку, — предупредила Зыкина, — а то достанется нам!
У Светы было слабое горло.
В это время на лестнице показалась Екатерина Алексеевна.
— Что? — спросила Зыкина, всматриваясь в напряженное лицо подруги.
— Уезжаю. Польша взбунтовалась!
На экстренном заседании Президиума говорили мало. Генерал Серов доложил обстановку. В польском городе Познань на заводе имени Сталина стихийно начался митинг рабочих, недовольных пустотой и дороговизной в магазинах, тяжелыми условиями труда, социальной неустроенностью. Через некоторое время митингующие успокоились и начали расходиться, но шум уже пошел по округе. Во второй половине дня огромная толпа собралась в центре города, прямо возле Управления Министерства общественной безопасности. Наскоро соорудили помост, с которого обращались к присутствующим, и понеслось — выступление за выступлением. Сначала речи были удобоваримыми, но потом зазвучали резкие голоса, люди кричали, выплескивая накопившееся недовольство, начали ругать режим. В толпе появилась полиция. Особо злостных ораторов пытались изолировать. Один полицейский подошел сзади и толкнул человека, взобравшегося на стул, с которого тот говорил. Оратор не удержал равновесия и свалился на землю. Разгоряченные манифестанты ринулись на обидчика, за сослуживца вступились полицейские, началась свалка.
Свистки отчаянно свистели, в ход пошли кулаки, стражи порядка послали за подкреплением. Кого-то сильно ударили, кому-то разбили нос, один из участников сборища, получив в лицо чем-то тяжелым и обливаясь кровью, рухнул на булыжную мостовую. Стоящая рядом женщина заголосила: «Убили!» Озверевшие люди повалили ближайших полицейских и принялись нещадно бить. Кто-то из стражей порядка пытался стрелять, достал пистолет, прогремел выстрел, но пуля угодила в землю. Оружие было зажато атакующими, потом выбито, а дальше оно уже стреляло в обидчика. И пошло смертоубийство. Полицейские пытались убежать. Обезумевшая толпа жаждала крови. Избиение полицейских вылилось в бойню, демонстранты ворвались в городское управление безопасности, стали крушить мебель, бить стекла, выламывать двери, с невероятной яростью выплеснулась скопившаяся ярость, негодование, несогласие с существующими порядками.
Тысячи людей были вовлечены в беспорядки, никто не мог вразумить их, остановить. Министерство общественной безопасности выдвинуло в Познань усиленные отряды войск и полиции, военные открыли по манифестантам огонь на поражение. Люди прятались, где придется, никто не хотел умирать. Бунт был подавлен, зачинщики тряслись от страха. По улицам разъезжали бронемашины, военные хватали людей без разбора. Чтобы не быть убитыми, люди падали на землю, умоляя солдат сжалиться. Убитыми насчитали сорок человек, так и остались несчастные лежать посреди улиц в лужах крови. Позже в больнице от ран скончалось еще столько же. Раненых были сотни, только тяжелых насчитали более ста. Потерпевших разместили в местной больнице. Кому не угрожала серьезная опасность от ран, а увечья были легкими (таких пострадавших набралось около трехсот), заперли во Дворце культуры, где широченный актовый зал приспособили под лазарет. Силы безопасности арестовали пятьсот человек, еще столько же находилось под подозрением. Требовалось опросить раненых, задержанных, свидетелей, военных и сотрудников полиции, составить внятную картину происшедшего. Была образована следственная комиссия, которую возглавил польский премьер-министр, заместителем председателя госкомиссии стал маршал Советского Союза Рокоссовский. Серов отправил в Польшу следственную бригаду КГБ, а сам собирался лететь в Варшаву утром.
— Польские товарищи взяли ситуацию под контроль, — докладывал он на Президиуме.
— Рано мы от лагерей отказываемся! — хмуро проговорил Молотов.
— Умер Берут, в руководстве Польши пошло шатание, благодатная почва для врагов! — заметил Хрущев. — Никто не вел с людьми разъяснительной работы. Своей пассивностью коммунисты на угли солому подкладывали, а вражеская разведка стала огонь раздувать, вот вам результат. А результат, как видите, самый паршивый: снова жертвы, снова аресты. Товарищ Шепилов, это вас в первую очередь касается и товарища Суслова, который Международный отдел возглавляет!
— Надо яснее мысли до народа доносить, а вы отстранились! У вас сплошной формализм! — гневно высказался Булганин.
— Формализм! Шепилов, Суслов! Заваруху сделал хрущевский антисталинский доклад! Ориентиры потеряны, страха нет! Зачем выступал?! — неистово глядя на Хрущева, хрипел Каганович. — В мире силу уважают, а не то, что все дозволено! Хрущев виноват!
— Мы, Лазарь Моисеевич, не тюрьму строим, а справедливое общество!
— Надо жестче карать! — не усидел на месте Жуков.
— Кто не с нами, тот против нас! — грозно скалился Молотов.
— Вы предлагаете взять кувалду и размозжить несогласным головы?!
— Врагу голову размозжить предлагаю! — за Молотова ответил Каганович. — Нельзя допускать, чтобы на Советский Союз огрызались, чтобы его ни в грош не ставили!
— Товарищ Жуков прав, надо жестче карать, кто рыпнулся, того бей! — дополнил Ворошилов.
— Так до скончания века будем воевать, пока последний мужик не помрет!
— А что, ждать, пока нас сметут?!
— Надо сердца соединять, дружить, а вы винтовкой пугать хотите! Навоевались, хватит! Вот у Фурцевой спросите, хочет она воевать? — выпалил Никита Сергеевич.
Все обернулись к Екатерине Алексеевне, которая в облегающем бирюзовом платье сидела у края стола. Она поднялась. Фигура у нее была слепящая, как с картинки, волосы туго зачесаны назад, отчего женщина становилась еще моложавее.
— Уж ей только воевать! — смягчился Каганович. Он нередко вспоминал свиданья с этой зеленоглазой теннисисткой.
— Я согласна с Никитой Сергеевичем, — вымолвила Фурцева.
— А со мной, Екатерина Алексеевна, не согласны? — с ехидной улыбкой осведомился Лазарь Моисеевич.
Ворошилов и Молотов разразились смехом.
— Сядьте уже! — прикрикнул на красавицу Маленков. — Мы здесь серьезный вопрос решаем, а вы дурачитесь!
Решили отправить в Польшу делегацию ЦК во главе с Сусловым. От военных туда включили маршала Малиновского.
— События горячие, надо их со всех сторон осмыслить, — успокаивая горячие головы, заговорил Микоян.
— И я за! — очень тихо подал голос Брежнев. Он в первый раз присутствовал на заседании Президиума в качестве его члена.
— Я б бунтарей к стенке ставил! — прошипел Каганович.
— Всех, кто ошибки признал, следует отпустить. Этим хоть как-то за пули в глазах мирового сообщества оправдаемся и доверие польского народа укрепим! — высказал мысль Маленков.
— Надо, чтобы маршал Рокоссовский с такой инициативой обратился, а мы поддержим, — добавил Хрущев. — Надо так поработать, чтобы из плохого хорошее вышло.
— С тобой, Никита Сергеевич, только хорошее выходит! — язвительно заметил Молотов.
— Ты откуда такая загорелая? — после Президиума спросил Фурцеву Хрущев.
— Из Крыма прилетела.
— И я завтра в Крым.
29 июня, пятница
Секретарь горкома рухнула на кровать, ноги подкашивались — как только в один день столько успела! Вихрем пронеслась по новостройкам, помощники доложили, что строительство микрорайона «Черемушки» под угрозой срыва, и пуск стадиона «Лужники» под большим вопросом, а пускать его кровь из носа надо уже сейчас! Звонки и люди обрушились лавиной, а под конец дня из первого отдела принесли тонну секретных документов.
— Зачем согласилась их взять, я же в отпуске! — корила себя начальница. — Надо уезжать, а то засосет! Хотя б две недельки понежиться на море, восстановить нервы.
Она завалилась в постель, не раздеваясь.
— Никто не поцелует, не расскажет сказку! — грустно вздохнула Екатерина Алексеевна.
Ночи в Подмосковье стояли жаркие, окна были нараспашку. Пахло хвоей и ландышами. Голова раскалывалась. Коньяк помог бы, но она решила больше не пить, чтобы Валера, под влиянием ее примера, снова не пристрастился к крепким напиткам.
Пролежав минуту неподвижно, Екатерина Алексеевна нехотя поднялась, — не будешь же спать, как солдат, в одежде! — небрежно бросая вещи, разделась. Освободила собранные заколками пышные волосы, встряхнула своим золотым сокровищем, сбросила тесный бюстгальтер, расправила плечи и встала под душ, который теплым напором смывал усталость. Вернувшись в спальню, женщина задержалась у зеркала, чтобы положить на лоб и, особенно под глаза питательный крем, а мазью из другой склянки стала мазать живот и ноги. Замечательные кремы готовили в Кремлевской больнице, фармацевты там работали знающие, с подобным уходом не оставалось места морщинам — эластичная кожа становилась по-девичьи упругой. Никогда не забывала она про питательные кремы, целебные бальзамы, регулярно играла в теннис, получала лечебный массаж, плавала в бассейне, от чего ее моложавая фигура сразу выделялась из скучного окружения. Начальница надела ночнушку и наконец улеглась в постель.
На тумбочке звякнул телефон.
— Кто еще там?!
Было около одиннадцать вечера.
— Ты меня извини, Катерина Алексеевна, — в трубке раздался голос Зыкиной. — Я просто не выдержала!
— Что стряслось?
— Даже не знаю, с чего начать, — тяжело дышала подруга.
— С мамой все в порядке? — испугалась Фурцева.
— С мамулей все хорошо, и со Светланкой тоже. Я из-за твоего кобеля звоню.
— Что?
— Бл…н твой Валерка! Горничную излапал, в кровать затащил, это вчера стряслось, а сегодня официантку молоденькую на лодке увез. Как приплыли, стали ее допрашивать: «Заставил ехать», — отвечает. Плачет, говорит, приставал. А с той, с первой, поговаривают, еще в прошлом году снюхался. Ты извини, что я такие прискорбности открываю. Как уехала ты, в тот же вечер напился, прямо насосался, противно было смотреть, ну и началось. Гнать его надо в три шеи, ведь позорит тебя!
— Так и сделаю, — не своим, а каким-то упавшим, маленьким голоском отозвалась обманутая любовница. — Устала я, Люда, спать пойду! — и дала отбой.
Несчастная опрокинулась на кровать, долго лежала с открытыми глазами и не могла шевельнуться, так ударила по сердцу измена.
С момента их первой ссоры Валера был скромен, тих, заботлив, однако не чувствовалось в нем любящего начала, слова пустые, улыбка пресная, видом своим и выражением лица походил он скорее на хмурую тень, чем на любящего человека. Сейчас она это отчетливо поняла. Почему не послушала бабушку, которая прозвала Валерку «фантиком»? Мерзкий приспособленец не обращал внимания на дочь, та обижалась на дядю Валеру, он лишь в присутствии матери улыбался, называя девочку «Светуля»!
— Негодяй, негодяй! — прокричала Екатерина Алексеевна и ринулась к телефону.
Набрав номер начальника охраны, она распорядилась как можно скорей удалить Кротова с крымской дачи, вышвырнуть его вещи из Москвы и близко не подпускать ни к горкому партии, ни к жилищу Екатерины Алексеевны! Обманутая в ожесточении сжимала кулаки и скрежетала зубами, но расплакаться не получилось. Может, от злости, от оскверненной любви? Может быть. А может, потому, что на высоких должностях любить получается мимоходом в перерывах между совещаниями, и сердце становится не сердцем, а делается похожим на бесформенный кожаный мешок.
— Нет, — прошептала Екатерина Алексеевна, — я любила по-настоящему! Будь ты проклят!
3 июля, вторник
— Ашхен Лазаревна, вы можете со мной встретиться? — робко спросила Света, она не с первого раза решилась набрать телефон Микоянов.
Жена Анастаса Ивановича согласилась. Они встретились там же, где и в прошлый раз, во дворе дома на набережной, только тогда они встретились случайно, а сегодня их встреча была запланирована, и сели они точно на ту же скамейку.
— Спасибо, что пришли, Ашхен Лазаревна! — поблагодарила дочь Сталина.
— Да, что ты, мы же близкие люди!
— Так было! — вздохнула Света.
— Не было, а — есть! Что у тебя стряслось?
— Не знаю, как сказать, — замялась Светлана.
— Говори, говори!
— Мне все время снится отец. Как похоронили его, то есть положили в Мавзолей, он стал ко мне во сне являться.
— Это хорошо, ведь отец, — отозвалась Ашхен Лазаревна.
— Кажется, он хочет мне что-то сказать.
Жена Микояна с недоумением и даже с испугом посмотрела на Светлану:
— Что сказать?
— Я не понимаю! Но сказать точно что-то хочет, я чувствую. Потому и снится.
— Чем же я тебе помогу, милая? — Ашхен Лазаревна вскинула на собеседницу внимательные глаза.
— Вы поймите меня правильно, — Света замялась. — Отец учился в семинарии, он ее не закончил, но шел туда осмысленно, чтобы стать священником.
— Я это помню.
— Думаю папу надо отпеть.
— Отпеть?
— Да.
— Отпеть в церкви?
— Да. Совершить православный обряд, как обычно поступают над крещеным человеком, который умер. Ведь папа крещеный, его окрестили, когда родился, он сам рассказывал. Я считаю, так будет правильно.
Жена члена Президиума Центрального Комитета в этот раз очень строго посмотрела:
— Ты, Света, никому про такое не говори, никому, ни одному человеку! Нельзя твоего папу отпевать. Сама представь, Партия учит — Бога нет, Иосиф Виссарионович лежит в Мавзолее рядом с Лениным, вождем революции, повсюду люди отрекаются от веры, церкви рушат, ХХ Съезд прошел, а ты что удумала?!
— Я не удумала, мне кажется, что папа именно это просит.
— Ты взрослый человек, Светлана, образованный человек! Вот и ответь теперь, как тот, кто умер, может чего-то просить? — нахмурилась Ашхен Лазаревна. — Не выдумывай, прошу тебя!
Светлана умолкла. Жена Микояна тоже замолчала, но потом заговорила снова:
— Представь, что начнется, если ты, член Коммунистической партии, об этом заикнешься?
— Я только вам сказала.
— И хорошо, что только мне, я тебя не выдам. В память отца-коммуниста такие вещи делать нельзя, это категорически исключено!
— Что ж тут особенного?
— Вот вдумайся, о чем ты сейчас говоришь, вдумайся?! Света, я тебя умоляю, оставь свою идею! Про такое я не смогу сказать даже Анастасу Ивановичу. Если вдруг скажу, он в обморок упадет, и мы тогда точно не сможем встречаться!
— Я понимаю, — прошептала Светлана. — Понимаю. Спасибо!
— За что ж спасибо?
— За совет! — еле сдерживая слезы, выговорила дочь вождя.
Ашхен Лазаревна с сочувствием смотрела на нее и под конец обняла.
— Милая ты моя, милая, хорошая! Знаю, как тебе нелегко! Знаю, но потерпи, потерпи, пожалуйста!
Света всхлипнула.
— Жизнь устроена, как качели, только опасные качели, можно с них слететь и побиться. Понимаешь, о чем я?
Света не отвечала, беззвучно плакала, уткнувшись в плечо Ашхен.
— Ну, ну! — прижимала ее женщина.
Кое-как Светлана успокоилась. Охрана Ашхен Лазаревны стояла на значительном расстоянии.
— Видишь этих парней?
— Вашу охрану?
— Охрану.
— Вижу.
— Они вроде свои, проверенные, хорошие, а обо всем куда надо доносят, и о нашей встрече донесут. А там, — Ашхен Лазаревна помахала над собой рукой, — заинтересуются, о чем мы с тобой разговаривали.
— Но они ни слова не слышали!
— Что не слышали, хорошо, но им очень бы хотелось послушать, поэтому будут и за тобой, и за мной еще пристальней приглядывать. Это точно.
— Я их не боюсь!
— Но если ты в какую-нибудь церковь пойдешь и свою просьбу скажешь, будь уверена, сразу все станет ясно, и на тебя донесут, и что тут начнется, я сказать не смогу! — очень эмоционально жестикулировала Ашхен Лазаревна. — Ты посмотри, дорогая, Вася твой сидит?
— Да, братик сидит.
— Долго сидит, — назидательно продолжала Микоян. — Я очень не хочу, чтобы с тобой подобное случилось. Если про Бога в ЦК услышат, никакой Анастас Иванович не спасет. Ты, Света, дурь из головы выбрось!
19 июля, четверг
Фурцева как член комиссии по расследованию обстоятельств репрессий тридцатых-пятидесятых годов перелопатила груды документов. Сколько же судеб было искалечено? У нее волосы становились дыбом, и делалось так страшно, как в детстве, когда кто-нибудь рассказывал историю про Черную комнату и Черного человека, только сейчас перед ней была настоящая Черная комната и настоящие Черные люди. Она писала и Булганину, и Руденко, что следователей, мучивших заключенных, надо судить, обратилась к Хрущеву с идеей убрать из Москвы тюрьмы, перенести их дальше от столицы, считала правильным выплачивать невинно пострадавшим денежные компенсации. И в столице дел было невпроворот, Екатерина Алексеевна с головой окунулась в повседневную жизнь, ее усилиями в Москве немыслимо возросло количество кинотеатров, она упросила Микояна выделить деньги на массовую организацию в городе ателье по пошиву одежды, помимо этого, кипело строительство, благоустраивались целые районы, работали тысячи городских предприятий. В горком Екатерина Алексеевна приезжала рано, уезжала поздно, подчиненных гоняла.
— Зверь-баба! — хвалил ее Никита Сергеевич, а между тем она была обыкновенной, несчастной женщиной.
20 июля, пятница
Леонид Ильич Брежнев занимал теперь просторный кабинет на Старой площади. Этажом выше сидел Хрущев. Брежнев снова был Секретарем ЦК, он курировал оборонную промышленность, ядерную и ракетную отрасли, к тому же, неделю назад, в его ведение передали административные органы — суды, прокуратуру, КГБ и милицию. Через две недели в Москву из Днепропетровска переезжала брежневская семья. Его теперешний кабинет был в два раза больше, чем прошлый, при Сталине, некогда в этом стометровом кабинете сидел сам Георгий Максимилианович Маленков, а Маленков при Иосифе Виссарионовиче был в Президиуме поважнее всех вместе взятых! Этот кабинет многое означал — бумаги после Хрущева сначала несли Брежневу, а уж потом другим Секретарям ЦК.
— Неужели вернулся? — ликовал Леонид Ильич, разглядывая из высокого окна бесконечные крыши домов, трубы с сизыми дымками, потускневшие купола пока еще сохранившихся церквей, исконной гордости матушки-Москвы.
— Я снова в строю, снова в столице! Поработаем!
Брежнев совершил головокружительный взлет — был обласкан самим Сталиным, и вдруг — низвергнулся вниз! Оказавшись на дне, откуда уже не поднимаются — даже встать на четвереньки, сброшенному с кремлевского пьедестала, казалось невероятным, Леонид Ильич, в глубине души, надеялся на чудо, и чудо произошло. Спасителем и благодетелем предстал Никита Сергеевич Хрущев. С именем Хрущева у Брежнева была связана вся жизнь. Хрущев приметил чернобрового паренька на Украине, где Леонида избрали делегатом областной партийной конференции. Брежнев улыбчиво выделялся из неброского партийного руководства: бойкий, видный, можно сказать, интеллигентно воспитанный — чувство такта у Леонида Ильича было врожденное. Он сразу приглянулся украинскому секретарю.
Никита Сергеевич углядел в обаятельном делегате толковость, стал двигать дальше, тем более что человеческие и рабочие качества у молодого коммуниста, безусловно, имелись. Скоро Леонид Ильич занял заметную должность в Днепропетровском областном комитете партии. И в войну, в первый, самый тяжелый ее год, когда людей разбросало и измордовало безжалостное наступление фашистов, их снова свела судьба: Хрущев был утвержден членом Военного Совета Южного фронта, где в 118 армии начальником политуправления был бригадный комиссар Брежнев. Показал себя молодой полковник похвально, не боялся бывать на передовой, был доступен солдатам, любили его и офицеры, уважал командующий армией. При первой же возможности Никита Сергеевич вернул Брежнева на партийную работу, поручив руководить сначала Запорожьем, а потом флагманом советской металлургии — Днепропетровской областью. Когда понадобился руководитель в Молдавию, Хрущев, отвечая перед Сталиным за новую советскую республику, порекомендовал туда обаятельного Леонида Ильича. На послевоенных пленумах Центрального Комитета и партийных совещаниях на Брежнева с особым вниманием смотрел сам отец народов, несколько раз интересовался у Хрущева — как Брежнев, справляется? Никита Сергеевич дал самые лестные характеристики. В конце концов «красивого молдаванина» перевели в Москву — Сталин включил Леонида Ильича в список Президиума и выдвинул Секретарем Центрального Комитета. Олимп был взят. Да только недолгой оказалась радость, правитель умер, и вожди, которые приняли руководство, выставили новичков за порог, выбросили, растоптали. Но благодаря Никите Сергеевичу Леонид Ильич снова в столице, восстал из пепла, возродился, точно таинственная птица Феникс. Брежнев помнил, кто его благодетель, служил ему верой и правдой. Каждое хрущевское слово, каждое пожелание, даже намек считались безусловным приказом и исполнялись безукоризненно. Брежнев из кожи лез, только бы угодить Первому Секретарю, не расстроить, не огорчить.
«Дай бог здоровья Никите Сергеевичу Хрущеву!» — именно такими словами начинались и заканчивались любые застолья у Леонида Ильича. Он всякий раз, к месту и не к месту, упоминал своего покровителя, при этом обязательно вставал, высоко поднимал бокал и зычным голосом, совершенно искренне, так как сам абсолютно верил в то, о чем говорил, провозглашал: «За родного Никиту Сергеевича!»
Видимо, с легкой брежневской руки каждое застолье у руководства начиналось и заканчивалось теперь подобными заветными словами:
«За любимого Никиту Сергеевича!»
«Еще раз выпьем за товарища Хрущева!»
«Богатырского здоровья, счастья, нашему дорогому Никите Сергеевичу!»
«Дай Бог, жить ему до ста лет!»
— Нет для меня человека ближе и авторитетней, чем Никита Сергеевич. Я с ним до гроба! — говорил жене Брежнев.
31 июля, вторник
31 июля распахнул двери Центральный государственный стадион «Лужники» имени Владимира Ильича Ленина.
Имя вождя революции стало все чаще появляться на слуху. То заводу-гиганту громкое имя присвоят, то металлургическому комбинату дадут, то республиканскому кардиологическому санаторию, то образцовой пионерской дружине. Во весь голос заговорили об Ильиче партийные работники, его стали прославлять в газетах, в книгах, славить в кино. Разоблачив неприглядную деятельность Иосифа Сталина, Никита Сергеевич дал четкое указание восстановить историческую справедливость, вернуть Ленину законный ореол славы, ведь за последние двадцать лет, только и слышали: «Сталин, Сталин!» Не укладывалось в голове, что колхозов имени Сталина в двадцать раз больше, чем ленинских колхозов! Да чего уж, Сталина, колхозов имени Молотова в несколько раз больше ленинских. А ворошиловских сколько? Тоже поболее ленинских будет. Позабыли Владимира Ильича, ох, позабыли!
— Я за славой не гонюсь, потомки пусть заслуги оценивают. Если заслужим честной работой, то может, и вспомнят наше имя и что-нибудь им назовут, — рассудительно заявил Хрущев. — А вот про Ленина забывать негоже, Ленин — наша путеводная звезда!
Фурцева внесла на Президиум предложение присвоить стадиону «Лужники» ленинское имя.
Открытие стадиона приурочили к старту Первой Спартакиады народов СССР, которую решили каждые три года проводить в столице. В противовес мировым первенствам Спартакиада народов СССР становилась для союзных республик главным спортивным событием — самым почетным, самым исключительным.
Еще не все в «Лужниках» довели до блеска, но мелочи не пугали, празднование задумывалось с размахом, с гуляниями, с салютом. С раннего утра потянулись на стадион люди: с любопытством осматривали они массивные здания спортивных сооружений, прогуливались по благоухающим аллеям, с высокой гранитной набережной любовались Москвой-рекой, радовались, что в центре города возник дивный стадион-парк. День этот станет для «Лужников» волшебным — стадион оживет, задышит и с этого дня будет дарить людям радость, расцветая в своем грандиозном великолепии. Ровно в полдень забьется неспокойное сердце — спортсмены и зрители вдохнут в стадион жизнь.
Территория начала заполняться людьми. На каждом углу встречались ларьки. Было тут где выпить и где закусить, повсюду торговали мороженым, газированной водой, бутербродами. Детворе можно было купить воздушные шары, свистульки, скакалки, мячи, из жженого сахара готовили полупрозрачные сосалки в виде лошадок, мишек, зайчиков и, разумеется — петушков! Заработали на территории и полноценные столовые. Для интеллигенции и всевозможных делегаций предусмотрели два ресторана, правда, один так и не запустили, с кухонным оборудованием подвели: со дня на день будет, обещали, а до сих пор нет! Не везде был идеальный порядок: тут асфальт разворочен — труба под землей лопнула, и ее пришлось чинить; на втором этаже Большой спортивной арены замацали краской стену; на шестой трибуне, в дверях у выхода, разбили стекло; проезжая часть в некоторых местах не имела дорожных бордюров; на одной из автобусных стоянок свалили строительный мусор, который маячил неприглядной горой.
Мусор аврально грузили на тачки и увозили с глаз долой. Глубокими окопами с грязными краями шли траншеи, инженеры-строители попутались в проекте и почему-то потащили канализацию в противоположную сторону. Предполагалось, что к стадиону будут причаливать речные трамвайчики, — именно в этом месте набережная была недоделана. Но по большому счету — это мелочи. Строители пообещали в кратчайшие сроки недостатки устранить. От того, что явно бросалось в глаза, Фурцева зеленела от злости, хотя любому известно — даже после самой тщательной, самой образцовой стройки обнаружатся недочеты. Должно после строительства пройти некоторое время, чтобы все встало на места. Как ни крути, но после любого ремонта выползает наружу халтура. Известно же, что не у всякого строителя руки растут именно из того места, из какого положено, у многих, по образному выражению Никиты Сергеевича, растут они не оттуда! А когда такой огромный объект сдается, неразберихи хватает. Главное, к намеченному сроку успели. На въезде установили огромный транспарант с размашистой надписью: СПОРТ, ТРУД, МИР!
Столичный стадион «Лужники» — царь всех стадионов, самый крупный и самый вместительный на белом свете! Основным зданием комплекса, по форме повторяющим эллипс, считалась Большая спортивная арена. Она была высотой с девятиэтажный дом и вмещала сто тысяч зрителей. Творческий коллектив под руководством архитектора Власова так ловко организовал сюда вход и выход, что зрители могли занять свои места максимум за десять минут, а покинуть трибуны, оказаться на улице, — всего за шесть! Трибуны были сориентированы в точном расположении частей света и оттого имели названия: Северная, Западная, Восточная и Южная. Под трибунами разместили более сотни всевозможных помещений, среди которых находилось пятнадцать тренировочных залов, душевые, гостиница на сто пятьдесят мест, кинотеатр, медицинский центр, раздевалки, буфеты, подсобки. Малую спортивную арену занимало ледовое поле. А сколько технических и вспомогательных зданий кругом построили? Были тут и собственная милиция, и прачечная, и комбинат питания, и открытый бассейн, сразу и не упомнишь, что где. Екатерина Алексеевна часто приезжала в «Лужники», чтобы проверить, как идут работы.
За последние недели все вокруг преобразилось. Молодые деревца нестройно, по-детски зашелестели листочками. Не укрепились пока растения на новом месте, не вошли в сок, но никуда им не деться, старательные садовники будут ухаживать за ними: поливать, рыхлить землю, подкармливать, холить. Обязательно примутся деревья на радость горожанам, пышно зазеленеют, украсятся изумрудными шапками раскидистые клены, зацветут каштаны, медовым запахом заблагоухают липы, распушатся вечнозеленые елочки, обрастая смолянистыми шишками. Чтобы в начале июня поразить москвичей ароматами свежести и очаровать, высадили вдоль высокой чугунной ограды пахучую сирень. А клумбы! Батюшки, сколько цветов! Из Ботанического сада прислали в Лужники лучшие сорта роз, гладиолусов, астр, георгин, пионов. По краям дорог и на газонах росли анютины глазки и маргаритки. Чистота на дорожках идеальная, у прохожего не хватает смелости бросить на землю фантик или окурок. Пузатые, выдуманные в форме сосновых шишек урны, расставлены на каждом углу.
Спорткомплекс занял 2162 гектара земли, ни малейшего ощущения тесноты, нагромождения тут не возникло. Глядя на весь этот размах, хотелось запеть: «Широка страна моя родная!» Какая же красота в «Лужниках»!
В центре Большой спортивной арены расположен вход в правительственную ложу. Перед этим входом поставили невысокий металлический заборчик, отгораживающий стоянку машин Гаража особого назначения. Вот к этому месту и начали подруливать правительственные автомобили. Первая приехала Екатерина Алексеевна Фурцева, сразу за ней — Николай Александрович Булганин, он был в светлом парусиновом костюме и модной широкополой шляпе. Два рослых охранника следовали за ним по пятам.
— Здравствуйте, Николай Александрович! — поздоровалась Екатерина Алексеевна и засветилась своей неотразимой улыбкой.
— Здравствуй, здравствуй, красавица! — отозвался председатель правительства. — Что это ты на улице делаешь?
— Вас встречаю.
Николай Александрович одобрительно кивнул, подошел к ней и поздоровался за руку.
— Давай постоим немного, одного человечка подождем, — предложил он.
Охранники встали по сторонам.
— А вон он идет, пропустите его, ребята! — громким голосом скомандовал Николай Александрович, указывая милиционерам на остановившегося у загородки мужчину. — Ты, Катя, не помнишь его?
Екатерина Алексеевна взглянула на подошедшего мужчину.
— Да это же Николай Павлович Фирюбин!
— Он, он! — закивал Булганин.
Высокий, видный, подтянутый, Николай Павлович мало изменился. До и после войны он избирался секретарем Московского городского комитета партии, был близок к тогдашнему первому секретарю горкома Попову, которого обвинили в вождизме, зазнайстве и злоупотреблении служебным положением. Фирюбина, как человека, «лизавшего Попову пятки», уволили с должности вместе с его прежним начальником. Счастье, что для Николая Павловича так благополучно история закончилась, не пошла по ленинградскому сценарию.
— Добрый день, Николай Павлович! — обратилась к гостю Фурцева. — Очень рада вас видеть!
— И я, и я! Здравствуйте! — отозвался Фирюбин, не спуская глаз с Булганина, который отдавал какое-то распоряжение одному из своих охранников.
— Привет! — пробасил председатель Совмина. — Вот, Катя, наш новый посол в Югославии. Ты, брат, все молодеешь! — глядя на подтянутого дипломата, продолжал он.
— Вроде как обычно! — пожал плечами посол.
— Когда раньше в горкоме бегал, был как железный нерв, бледный, настороженный. А за границей расслабился, сидишь себе в кабинете — ни забот, ни хлопот!
— Не скажите, Николай Александрович! С Тито держи ушки на макушке!
— Ушки, брат, надо всегда на макушке держать! — заметил Николай Александрович. — Ну, пойдем на трибуну, расскажешь про Югославию, — и Булганин увлек гостя за собой.
Екатерина Алексеевна осталась поджидать Никиту Сергеевича. Уходя, Николай Павлович очень пристально посмотрел на нее, но не так, как смотрел раньше — с легкой иронией, сейчас взгляд его был живой, ласковый. Женщина улыбнулась в ответ.
В 12 часов дня Спартакиада народов СССР торжественно открылась. Приветственные слова сказали Николай Александрович Булганин и Никита Сергеевич Хрущев. Трибуны на новом стадионе были забиты до отказа. Билеты распространялись в течение месяца, а пригласительные раздали во все центральные учрежденья, по всем дипломатическим миссиям. Из динамиков грянула музыка, и колонны спортсменов вышли на арену торжественным маршем. Перед каждой колонной знаменосец нес флаг города-участника. Первой прошла команда Москвы, потом Ленинграда, Киева, Минска, Смоленска, Саратова, Еревана, Барнаула, Тбилиси, Кишинева, Рязани…
Ну-ка солнце, ярче брызни, Золотыми лучами обжигай! Эй, товарищ! Больше жизни! Поспевай, не задерживай, шагай! Чтобы тело и душа были молоды, Были молоды, были молоды, — Ты не бойся ни жары и ни холода, Закаляйся, как сталь! Физкульт-ура! Физкульт-ура! Ура! Ура! Будь готов, Когда настанет час, бить врагов, От всех границ ты их отбивай! Левый край! Правый край! Не зевай!Колонны шли и шли.
Физической подготовке в СССР отводилось особое место. В любом, даже самом неожиданном месте, можно было встретить физкультурников. Советский Союз в этом отношении стал передовой страной, в каждой семье кто-то обязательно занимался спортом, повсюду строились уличные стадионы, появлялись спортзалы, спортшколы. В парадах на Красной площади, перед военными полками и техникой, обязательно выступали физкультурники. В последнем спортивном параде при жизни Сталина приняли участие 25 тысяч юношей и девушек, которые, проходя мимо Мавзолея, демонстрировали спортивное мастерство: кто-то скакал через скакалку; кто-то, высоко подпрыгивая, вертел в воздухе сальто; кто-то делал упражнение с гантелями. Те, кто был покрепче, катили помосты: на одном — бились боксеры, на другом, запрыгнув на «гимнастического коня», летал гимнаст. На грузовиках установили брусья, где демонстрировали мастерство девушки-гимнастки. Пасуя друг другу, по Красной площади перемещались футболисты. Чередуясь, рассыпаясь в разные стороны и собираясь в единое целое снова, юноши и девушки выстраивали перед глазами затейливые композиции, образуя собственными телами то самолет-истребитель, то танк, то перед восторженным зрителем возникала красная звезда или размашистый «Серп и молот», но чаще всего появлялись огромные буквы, по которым можно было прочесть: Родина! Сталин!
Физическая культура в СССР не была развлечением, а сделалась делом государственной важности. Если молодой человек хорошо физически подготовлен, вынослив, значит, в отличие от неуклюжего, физически неразвитого подростка, из него получится крепкий солдат, надежный защитник отечества, ведь ясно, что физически крепкий парень быстрее одолеет врага. Спорт и военная подготовка стали неразделимы. Стрельба в цель из винтовки — спорт, стрельба из пистолета — соответственно, метание в цель гранаты — так же. Спринтерский бег, марафон, многокилометровые походы с ночным ориентированием на местности, которые проводились в любое время года, тоже отнесли к спортивным состязаниям. Зимой устраивали чемпионаты по беговым лыжам, лыжи разумно объединили со стрельбой из винтовки, назвав зимним двоеборьем. Прыжки с парашютом, плавание, борьба, вождение автомобиля, верховая езда — всем этим занимался Государственный комитет по физической культуре и спорту. Советскому гражданину в обязательном порядке нужно было иметь хорошую физическую подготовку, чтобы выносливее, отважнее выполнить любой приказ Родины. В школах играли в разведчиков, в красных командиров. Из учащихся формировали сводные школьные батальоны, которые уходили в многодневные походы. Нередко школьники ночевали в палатках, а иногда — в чистом поле. Дети верили, что помогают взрослым защищать отчизну, караулить диверсантов, врагов родной страны.
«В одну из ночей, когда в Москву шли поезда с делегатами Съезда партии, — рассказывал Алексей Иванович Аджубей, — сводный лыжный батальон 478-й школы занял позиции вдоль полотна Павелецкой железной дороги. Мы жгли костры на высокой насыпи, грелись в их пламени и верили, что охраняем старших товарищей от вражеских диверсий».
Спорт — это мир, но за мир надо бороться!
В государстве появилась спортивная газета. Чемпионы превозносились, они стали героями, любимцами народа. Вот и сегодня на открытии Спартакиады по стадиону вышагивали самые известные спортсмены. Кто же из них станет лучшим на этот раз?
Екатерина Алексеевна сидела между Хрущевым и Булганиным. Николай Александрович похвалил ее за стадион.
— Мои кадры! — кивая на Фурцеву, самодовольно проговорил Никита Сергеевич.
Фурцева радовалась, что справилась, не подвела. Сердце ее стучало звонко, глаза светились. Никита Сергеевич грозился дать ей награду. И хотя Екатерина Алексеевна находилась в окружении первых лиц государства, она нет-нет, а поглядывала в сторону, отыскивая Советского посла в Югославии, Николая Павловича Фирюбина. Однажды он перехватил ее быстрый взгляд, улыбнулся краешком губ и снова стал смотреть вниз, на парад участников.
Первые ряды трибун были переполнены журналистами и не только советскими — вот уже три года, как иностранных журналистов стали допускать на все значительные мероприятия, даже в Кремль их теперь пускали. Раньше иностранец казался человеком с другой планеты, диковинкой, вызывал неподдельный интерес и в то же время считался врагом. Даже за случайный разговор с иностранцем надо было отвечать на вопросы сотрудников Министерства государственной безопасности, а сегодня любого иностранца можно свободно разглядеть, дотронуться рукой! Иностранцев перестали бояться, их звали в гости, готовы были чуть ли не на руках носить. Из самой закрытой столицы мира Москва в одночасье сделалась самой открытой!
Спортсмены шли и шли, людское море на трибунах бушевало.
4 августа, суббота
Жарко. Николай Александрович, размышлял, что бы сегодня надеть. Открыв шкаф, он наткнулся на позабытый пиджак, снял его с вешалки и залюбовался:
— Хорош!
Отличный летний пиджак в тонкую синюю полоску. В свое время маршал придирчиво выбирал на него материал, а после пригласил маститого закройщика Зингера, знающего назубок все сильные и слабые стороны булганинской фигуры. Пиджак вышел на славу, да только мало его хозяин поносил: в прошлом году разок надел, а в этом — командировка за командировкой, совсем пиджачок на вешалке зависелся, а осень не за горами, придут дожди, задуют холодные ветра и будет не до льняных пиджаков. Николай Александрович любовно провел ладонью по широким лацканам и ловко, в одно движение, набросил пиджак на плечи.
— Все стало вокр-у-уг голубым и зеле-е-н-ы-ым, в ручьях забурл-и-и-ла, запела вода-а-а! — напевая маршал, прохаживаясь по комнате. Он сунул руки в карманы, потом вынул, ощупал ткань, убеждаясь — ткань что надо!
— Вся жизнь потекла-а-а по весенним зако-о-на-ам, теперь от любви-и-и не уйти никуда, не уйти никуда, никуда-а-а! — с усердием выводил Николай Александрович, красуясь перед зеркалом и пытаясь застегнуться, но застегнуться не получалось, средняя пуговица не хотела застегиваться, полы пиджака не сходились на животе. Булганин крепче и крепче тянул, наконец кое-как застегнулся, но вещь напрочь изменила геометрию и уже никак не украшала фигуру.
— Мал! — обреченно выдавил председатель правительства. — Вот черт!
Подцепив ногой, он выудил из-под стульчика и поставил перед собой напольные весы, осторожно ступил на них. Цифры полетели по кругу, потом затормозились и замерли.
— Сто двадцать пять! — в страхе вымолвил модник.
Еще два месяца назад в нем было всего сто восемнадцать.
— Что ж это я, семь килограмм прибавил? Как успел? — слезая с весов, ворчал Николай Александрович. — Говорю: жрать надо меньше, жрать меньше! — а жру и жру!
У маршала уже не получалось, как раньше, стремительно ходить, стоило ему сделать несколько поспешных шагов, как на лице выступала испарина, появлялась одышка.
— Все потому, что плавать бросил и гантели не поднимаю! Ну и ем, конечно, многовато. А как не есть, если вкусно? — недовольно сопел Булганин, трогая огромный живот. — Надо к диете вернуться, необходимо вернуться, а то превращусь в борова и никто меня любить не захочет! Начинаю худеть с сегодняшнего дня!
«Но как раз сегодня собирает гостей Микоян, — вспомнил Николай Александрович. — Его Ашхен запекала барашка, а барашек у Ашхен Лазаревны не таял во рту, а пел!»
— Что теперь, к Микоянам не ехать? — сокрушался Булганин. — Поеду, неудобно. Только мяса в рот не возьму! Посижу, часок — и домой, — размышлял он.
Ничего путного из визита к Микоянам не вышло. Узнав про лишний вес товарища, Анастас Иванович положил в его тарелку «самый диетический кусочек». Анастас Иванович утверждал, что от молодых барашков не поправляются, потому что там абсолютно нет жира, жир в баране, по его словам, появлялся лишь к году. Но стоило Николаю Александровичу съесть этот «диетический кусочек», как руки непроизвольно потянулись к керамической посудине, где благоухал нашпигованный всевозможными травками, томленный на медленном огне баран.
— Если ты утверждаешь, что жира нет, значит, без опаски кушать можно?
Анастас Иванович самозабвенно кивал.
«Тогда еще съем! — решил председатель Совета министров. — А с завтрашнего дня — диета. Самая строгая, железная. Прямо с завтрашнего дня!» — облизывая жирные пальцы, клялся Николай Александрович.
20 августа, понедельник
Никита Сергеевич отдыхал в Крыму третью неделю, по соседству в санатории «Нижняя Ореанда» остановился Анастас Иванович Микоян с семьей и Маршал Советского Союза, министр обороны Георгий Константинович Жуков. Жуков приехал со своей Галиной, лечащим врачом, двумя адъютантами, начальником хозуправления Мармеладовым, водителями, охраной, массажисткой и поваром. Берлинский Гюнтер так и катался за маршалом, сначала готовил в Германии, потом последовал за военачальником в Москву, из Москвы — в Одессу, затем на Урал. Даже в опале маршал не отпустил от себя немца. И дело не в том, что услужливый, пунктуальный, очень опрятный немец знал множество хитроумных рецептов, просто он постоянно был занят своим непосредственным делом — кулинарией; не слонялся без дела, не торопился домой, а неотлучно стоял у плиты, так как маршал для него был превыше всего.
Галина Александровна, маршальская супруга, во всем поощряла повара, ставила в пример. Стараниями Гюнтера Георгий Константинович превратился в тонкого гурмана, ведь самые обыкновенные вещи получались у него отменно. Птица, которую запекал, никогда не выходила из духовки пересушенной или сырой, каждую косточку цесарки, гуся или утки хотелось обсосать и потребовать добавки. А от фаршированного карпа какой аромат шел! Дразнящий аромат! Если брался за мясо — мясо всегда оставалось сочным, мягким, не было разницы, говядина это, баранина или свинина. Про овощи — отдельный разговор, чего только не получалось из овощей! Готовил повар скорее не умом, а сердцем, посмотришь со стороны, и сразу поймешь — виртуоз! Охранники Жукова часто вспоминали, как немец зажарил змею! Ночами Гюнтер ползал по оврагам, выискивая лягушек. Отвратительные жабы его стараниями превращались в объеденье, не говоря уже про слюнявых улиток! Всякая еда подавалась им так, словно шла на парад. Вчера на завтрак подавались сыры, выбор, разумеется, не тот, что в Париже на Елисейских полях или в известном «Фукете», или в «Серебряной башне» на набережной Сены, однако Болте умудрялся и в Крыму не ударить в грязь лицом. Советские сыры были, как правило, молодые, с характерным привкусом молока, разнообразие не великое, но и здесь повар выкручивался. Некоторые скажут: «Подумаешь, сыр! Сыр и есть сыр!» — Так нет! По утверждению Гюнтера, к каждому сыру применялся свой, уважительный, подход, а ежели так — сыры съедались за милую душу! Некоторые требовали сверхтонкой нарезки, чтобы ломтик насквозь просвечивал, лишь тогда вкус производил впечатление. Другие, к примеру, овечий сыр, следовало подавать крупно наломанным, какие-то виды держали в обычном сливочном состоянии, в этом случае надо было понимать, с чем и как их есть. Встречались в Ялте и копченые сыры, и даже сыры с плесенью. Все, чем располагал Гюнтер, выкладывалось на большое блюдо, которое дополняли персиковые или абрикосовые муссы и джемы, маринованные, в случае, если не было свежих, виноградинки, ягодки ежевики, шелковицы. Ягоды и воздушные муссы оттеняли сырный вкус, а ведь только так сыр по-настоящему оценишь. В основе всей гюнтеровской работы лежала гениальная простота!
Гюнтер самолично пек хлеб, сушил ржаные сухарики, которые полагались ко множеству паштетов. Но вершиной его кулинарного искусства стали соусы, в их приготовлении заключался главный гастрономический секрет. Тайну приготовления соусов Болте приравнивал к государственной, ведь знание кулинарных секретов обеспечивало безбедную, а порой и счастливую жизнь, ведь желудок, прости, Господи, каждый день кушать просит, а желудки вершителей судеб — наиболее требовательны.
Мюнхен и Гамбург заложили основу поварского дела, ему попались там отличные учителя. Гюнтер сделался специалистом в приготовлении охотничьих лакомств, запомнил, как управляться со всевозможной снедью, понял, в каких пропорциях смешивать ингредиенты для приготовления подлив, выучился искусству управлять печным жаром, ведь очень важна температура, при которой готовится еда. Так же важно было вовремя солить и перчить пищу. Кулинария содержит массу основополагающих понятий и тысячу тысяч тонкостей. Говоря о продуктах, принципиально их качество: свежесть, возраст и география. К продуктам Гюнтер подходил скрупулезно. Одно дело если животное питалось впроголодь, за ним плохо ухаживали, и совсем другое, когда его кормили отборным зерном, поили молоком, заботились, в этом случае получался — восторг! Дичь требовала особого подхода, мясо домашних животных — своего.
Два года Гюнтер Болте провел в Италии, исполняя обязанности второго повара при немецком после, за послом последовал в Париж, где через год, встретив молоденькую парижанку, вскружившую гастроному голову, лишился работы. Устраивая личную жизнь, он прослонялся по бесконечным кафешкам и ресторанчикам французской столицы. То тут его возьмут, то там — из-за влюбленности и бесконечных опозданий баварец не выдерживал порой даже испытательного срока. В результате не только Париж, но и пол-Франции он исходил вдоль и поперек. Полгода они с любимой прожили в Нормандии, полгода — в Марселе. Любовь внезапно рассыпалась, и разочарованный кулинар вернулся в Берлин. Страшный конец войны мог сделать его инвалидом — рядом взорвалась бомба. По счастливой случайности Гюнтер уцелел, был контужен, но за месяц оклемался, слух восстановился, рука перестала предательски дергаться.
К Жукову он попал прямо-таки по воле Всевышнего. Его двоюродный брат был инженером у фашистского ракетчика Вернера фон Брауна, и когда Красная Армия заняла Берлин, советское командование в срочном порядке принялось выискивать сотрудников ракетного ведомства вермахта. Всех, кого удалось найти, отправляли в Пенемюнде, пригород Берлина, где в экстренном порядке организовали ракетный научно-производственный центр. Брат Гюнтера, как и у Вернера фон Брауна, встал за чертежный станок. Он-то и пристроил родственника на закрытое предприятие, отрекомендовав в столовую.
Производство смертельного «Фау» требовалось досконально изучить. Пока разыскивали немецких инженеров, слесарей, чертежников, всех, кто имел отношение к ракетам, пока восстанавливали испорченное при бегстве фашистов оборудование, на неопределенное время застряли в Берлине, в дальнейшем планировали перевести ракетный центр поближе к Москве, в местечко Подлипки, рядом с крохотным поселком Мытищи. Но в любом случае людей надо было кормить, а когда речь шла о ракетах, то кормить хорошо.
Генерал Серов, возглавлявший по заданию Сталина работы по розыску людей, материалов и оборудования по немецкой ракетной тематике, неделями просиживал на секретной территории, где обычно и обедал. Понимая толк в кухне, он сразу обратил внимание на качество блюд. К тому же Гюнтер любил украшательство, не жалел аккуратно выкладывать на тарелку разнообразную зелень, которую выращивал на подоконнике комнатушки, где жил. Не имея возможности покидать пределы охраняемой территории, баварец сосредоточился на соусах, которые, в конце концов, сослужили службу. Однажды он так великолепно приготовил оленя, накануне подстреленного Серовым, что один запах свел едоков с ума. Иван Александрович забрал Гюнтера к себе, и скоро он стал поражать генерала гастрономическими изысками. В компании главнокомандующего оккупационными войсками Маршала Советского Союза Жукова генерал-полковник Серов каждую неделю бил зверя. В такие дни обычно топилась баня, а после бани накрывался стол. Через Гюнтера прошли и олени, и кабаны, и косули, и зайцы, и фазаны, и куропатки, да все, что оказывалось на мушке азартных охотников. Маршал уже не указывал, как и что готовить, знания баварца его целиком устраивали. На похвалы улыбающийся дылдообразный Гюнтер нелепо вытягивался по «стойке смирно», застывая перед начальством в своем белом халате и непомерно большом колпаке. Через месяц он начал изъясняться на ломаном русском языке.
Гюнтер вялил, коптил, запекал, крутил колбасы, изобретал паштеты. Паштет из гусиной печени, рецепт которого немец подсмотрел в городе По, сделался у маршала обожаемым.
— Откуда у тебя такой мастер? — поинтересовался Жуков.
— Хороший малый! У фашистов он Риббентропа кормил, — немного приукрасив карьеру немца, похвастался генерал.
— Отдай его мне, — попросил главнокомандующий, — мой Тимофей совсем раскис, а может, уже возраст. В Москву просится, а что я буду без повара делать?
Серов был рад услужить. Так Гюнтер Болте оказался у Георгия Константиновича и уже от маршала не отставал, да и куда пойдешь — повсюду патрули, неописуемая бедность, продуктовые карточки, безработица и подозрительные глаза контрразведчиков.
При маршале было комфортно. Не прошло и месяца, как Гюнтер, наравне со штабными переводчиками, получил отдельную комнатку в двух кварталах от штаба. Его поставили на офицерское довольствие, а когда неунывающий гастроном задружил с высокой штабной телефонисткой, почувствовал себя другим человеком, будто бы именно для него в России все эти годы строили социализм!
При помощи все того же Серова Георгий Константинович сделал повару советские документы, аттестовал в младшие сержанты, положив при этом офицерский оклад. А чтобы не вносить диссонанс в систему Главного управления охраны, записали немца в паспорте не Гюнтером Болте, баварцем, а Генрихом Болтиным, латышом с немецкими корнями.
— Говори, что в Прибалтике до семи лет жил, — подсказывал кадровик.
Благодаря сожительнице, которая перед сном обязательно принимала у немца экзамен, скоро он довольно бегло стал изъясняться на русском.
И вот — Крым. Генрих снова в своем белоснежном колпаке и таком же ослепительном халате равняет на кухне кастрюли, раскладывает сковородки, точит ножи, гремит плошками, и как великий маг, произносит над плитой таинственные заклинания. В результате его священнодействий самая обыкновенная кухня превращалась в центр вселенной!
По распоряжению Булганина, двадцать четыре тысячи гектаров леса крымских гор отдали под охотхозяйство. Олень, кабан, марал — вот основные обитатели здешних мест. По дороге в Феодосию, не доезжая Белой скалы, организовали фазаний питомник. Так что живность была под руками. Николай Александрович и особенно Никита Сергеевич, любили пострелять дикого зверя, а потом угощать охотничьими трофеями родных и близких. Хрущев и Булганин на отдыхе селились рядом, а их главными гостями становились соседи: Анастас Иванович Микоян, Георгий Константинович Жуков и Иван Александрович Серов. Анастас Иванович приходил в гости обязательно со всей немаленькой семьей, Георгий Константинович с женой, а Серов — исключительно сам.
Этим летом Генриха частенько отправляли на дачу Первого Секретаря, помогать на кухне.
— Не отберет у нас Хрущев повара? — беспокоилась Галина Александровна.
— Никогда! — успокаивал маршал и самодовольно продолжал: — Гюнтер им покажет класс, пусть Никита позавидует!
На отдыхе Микояны были многочисленны. У них всегда находилось место родственникам, и не только близким. Микояновских детей и внуков в расчет брать не стоит, они, разумеется, ехали с родителями; Микоян подхватывал на море племянниц, племянников, двоюродных и троюродных братьев, сестер, дядь, теть. У него постоянно жили гости, которых с большой натяжкой можно было причислить к родне — седьмая вода на киселе! — так вернее. В микояновском доме часто гостили его старинные друзья и их дети.
В санатории «Нижняя Ореанда» под Микоянов ушло сразу семь люксов. К тому же Анастас Иванович постоянно возил за собой стенографистку и помощника. Жуков с женой заняли огромный апартамент с видом на море, а его сопровождающие поселились в цоколе. Иван Александрович Серов получил отдельный, только-только построенный дом, укрывшийся в благоухающей зелени санатория «Черноморье», входившего в систему Лечуправления Комитета государственной безопасности. Несказанно обрадовалась просторному светлому дому Аня, ведь они с дочкой могли жить здесь до глубокой осени, а ведь как полезны морская вода, солнце и крымский воздух!
Жуковы и Микояны каждый день появлялись у Хрущева. На кофейном открытом «Паккарде» Микояны чинно прибывали на пляж хрущевской дачи, а вечером — на ужин. Жуковы ездили по Ялте на скоростном «Мерседесе». На пляже всегда было шумно и весело. После купаний всем скопом садились за стол, а вот за ужином круг присутствующих сужался. Чтобы не мешать взрослым, детей и шумных микояновских родичей отправляли в беседку у лодочной станции, где громкоголосая компания с удовольствием проводила время, постоянно рассказывая друг другу всевозможные истории и небылицы, и где душевно и взволнованно, под шум набегающей волны и магическое мерцание звезд, щедро разбросанных по южному небу, проходило неслышное время.
Когда взрослые оставались одни, обязательно случались рабочие разговоры.
— Что у египтян? — отставив тарелку с остатками кабанятины, спросил у Серова Хрущев.
Обстановка в регионе с каждым днем разогревалась. 26 июля Насер объявил о национализации Суэцкого канала. В Лондоне предполагали, что Насер попытается ущемить английские права на судоходство по каналу, но такого решительного поворота, как полная национализация, не предполагали. Решение египетского президента вызвало резкие протесты западных держав. Правительство Франции предложило собрать в Лондоне международную конференцию, с целью вынудить египтян пересмотреть их позицию. От участия в конференции Насер категорически отказался и просил СССР не принимать в ней участия.
И Советский Союз не ожидал от египтян такой дерзкой выходки — взять и отнять канал, но принял твердое решение стоять за Египет. Американцы подключили к конфликту Израиль.
— Англичане хотят спровоцировать Насера на вооруженный конфликт и под предлогом военного противостояния, вроде бы для защиты собственных граждан, проживающих на территории Египта, ввести туда войска, — сообщил председатель КГБ. — Англия тайно подписала с Францией соглашение о совместном военном выступлении против Египта. Сразу после Лондонской конференции их военно-морские силы должны войти в Суэцкий канал и оккупировать его. Поставлена задача о физическом уничтожении президента Насера.
— Смотри как! — возмутился Хрущев.
— В Сирии американцы готовят государственный переворот, не хотят иметь на Ближнем и Среднем Востоке враждебно настроенные страны.
— Не нужны им страны, сочувствующие Советскому Союзу! — добавил Микоян.
— Под видом подготовки к Лондонской конференции ведется широкая работа не только против Египта и Сирии, но и против других антиамериканских государств. Из портов Портсмута и Плимута в направлении Египта вышли военные корабли, с тем чтобы, войдя в египетские территориальные воды, спровоцировать огонь со стороны египтян и создать предлог для оккупации Суэцкого канала.
— Попахивает настоящей войной, а война не лучший способ для разрешения споров, — заметил Булганин.
— Мы пока думаем, а не воюем! — недовольно отозвался Никита Сергеевич.
— 13 августа в Ленинградском аэропорту был записан разговор между послом США Чарльзом Боленом и послом Израиля Авидаром. Авидар говорил Болену, что его правительство крайне обеспокоено положением в районе Суэцкого канала. Оказавшись в кольце арабских стран, Израиль сможет продержаться не более года. Болен сказал, что на Израиль ложится задача создать в момент проведения Лондонской конференции такое напряжение на египетской границе, чтобы Насер неминуемо проявил агрессивность по отношению к Израилю, и тогда в Египте высадится десант.
— А что твои накопали? — Хрущев обратился к Жукову, имея в виду работу Главного разведывательного управления Генерального штаба.
Георгий Константинович сидел с очередным бокалом вина. Крепкого по настоянию жены он больше не употреблял.
— Под видом подавления волнений на Кипре Англия стягивает туда крупные военные силы, а Кипр совсем недалеко от Суэца. Англия к войне готовится всерьез, а вот американцы, похоже, на конфликт не пойдут. Они считают, что авторитет Насера возрос временно и нецелесообразно сейчас применять силу и создавать условия для его дальнейшего роста. Они думают, что если англичане и французы оккупируют Египет, то вызовут лишь враждебное отношение со стороны ближневосточного населения и Африки, а Советский Союз в итоге приобретет в регионе господствующее положение, — проговорил Жуков.
— Умные! — констатировал Булганин. — А с кем мы останемся на Лондонской конференции, если от Египта туда никто не придет?
— Индия и Индонезия с нами, — сказал Микоян. — Надо поскорей обменяться мнениями с Джавахарлалом Неру и с Сукарно.
— Мне вообще непонятно, кто определяет состав участников конференции? — отбросив вилку, спросил Никита Сергеевич. — Кто определяет?!
— Англичане с французами и определяют, взяли тех, кто к ним ближе, — ответил Булганин. — Но нам, я считаю, ехать туда надо.
— Не будем зацикливаться на Суэцком канале! Поставим вопрос шире, станем говорить о других каналах и проливах. Таким образом, размоем на конференции египетский вопрос! — распалялся Хрущев.
— Так легко не размоешь! — покачал головой Анастас Иванович.
— Будем пытаться! Надо про мою идею индусам сказать. И еще, Коля, надо Ги Молле, Идену, и Эйзенхауэру в Америку письма разослать, не резкие письма, без соли, где объяснить, что конфликты положено решать мирным путем, и СССР будет на этом настаивать!
— Не поверят! — покачал головой Жуков. — Ведь полтора года как в Египет оружие везем, а кто его везет? Мы!
— Чем больше движений, тем лучше! Усади, Коля, за письма Шепилова! — не успокаивался Хрущев. — И Насера надо об имеющихся у нас агентурных сведениях проинформировать, что на него покушение готовится. Надо, чтоб он аккуратней был.
— Хочешь выиграть войну письмами, уговорами и всякими там выкрутасами? — глядя на Хрущева, усмехнулся Жуков.
— По существу, западники Суэцкий канал потеряли, войска свои с территории Египта удалили. А раз нет войск, значит, и канала нет, тут логика очевидная, — сделал вывод Микоян.
— Нам надо канал забирать, армию туда отправлять! — высказался Жуков.
— Вам бы, военным, только б с автоматами бегать! — буркнул Булганин.
— Я не с автоматом бегаю, я социализм от опасности защищаю! — резко отреагировал Жуков.
— Не кипятись, Георгий Константинович!
— Нельзя быть в плену политического задора Насера, это опасно! — предостерег Микоян, ведь Хрущеву импонировало, как египетский президент-полковник рубит с плеча, не давая врагам опомниться.
— Наш флот должен быть рядом, — продолжал Жуков. — Советский Союз должен выступать с позиции великой державы!
— Ладно, горячие головы, давайте расходиться, а то до утра будем лясы точить, утро вечера мудренее! — Хрущев протянул маршалу руку. — До завтра, дорогой Георгий Константинович! Ты хоть в море купаешься?
— Вчера с Галей больше часа плавали.
— Это дело! Мое почтение, Галина Александровна!
С Анастасом Ивановичем Хрущев троекратно расцеловался, потом сердечно обнял Булганина:
— И тебе, мой друг, спокойной ночи!
— Воевать совсем не время, — тихо проговорил Николай Александрович. — Американские генералы при любой возможности будут ядерное оружие применять, ты это учитывай!
— И у нас бомб хватит! — погрозил кулаком Хрущев.
Николай Александрович пропустил вперед жену и не спеша отправился к себе.
Серов с подобострастьем пожал руку Первому Секретарю.
— Вчера Жуков письмо прислал, — когда остались одни, сказал супруге Никита Сергеевич. — Письма пишет, вроде бы мы с ним на разных полюсах находимся!
— Что же пишет?
— Просит освободить армию от участия в сельхозработах, не хочет выделять колхозам военные грузовики.
— А если машины в деревне нужны, других-то, кроме военных, нет?! — всплеснула руками Нина Петровна.
— Армия должна быть в любой момент боеспособна, а если, говорит, нет грузовика у армии, значит, и армии нет!
— А ты что?
— Что я? Написал — «Согласен!» Мне с Жуковым ругаться нельзя.
Цикады пели звонко, резали пронзительными трелями ночной южный воздух. Море неспешно перекатывало сонные волны. Низко-низко, почти над самым морем, зависла огромная луна.
25 августа, суббота
После разговора с Ашхен Лазаревной Света несказанно расстроилась. Вернувшись домой, она со злостью выдернула из розетки телефон и швырнула на пол, хорошо он не разбился вдребезги. Потом битый час пыталась соединить разорванные проводки, чтобы в трубке, кусочек от эбонитового тела которой все-таки отвалился, появился долгожданный гудок. Ведь как жить без телефона? — машину не вызовешь, врачу не позвонишь. Она не только расправилась с телефоном, она так пнула ногой плетеную корзину с зонтами, что та отлетела в конец коридора, еще умудрилась сломать дверь в гостиную, с умопомрачительной силой ее захлопнув. В рыданиях завалившись на диван, до дыр искусала тонкий батистовый платочек, которым пыталась вытирать горькие слезы.
Светлана долго не могла успокоиться, прийти в себя — никто, абсолютно никто ее не любит, она всем глубоко безразлична, никому больше не нужен ее несчастный умерший отец, его к тому же обвинили во всех смертных грехах! И даже близкие люди, всегда теплые и отзывчивые, стали оглядываться на власть, опасаясь ее разозлить, хотя сами и являются этой самой властью! Светина жизнь была точно клише — однообразная рутина без солнца, без весеннего тепла, без друзей и даже без добродушных знакомых. Ее по-прежнему доставали любопытствующие окружающие, лезли с расспросами, с приглашениями в гости. Как она устала от лицемерия! Ей не хотелось выходить на улицу, натыкаться на пустые, лживые лица! Взяв отпуск в институте, она уехала на дачу, в Жуковку, и засела там унылой узницей, редко гуляя, а чаще — глядя в окно. Если бы не дети, которые постоянно требовали маминого внимания, она бы рехнулась от безысходности. А ночами появлялся отец, он снился, не переставая: вот они гуляют у реки; отец катает Свету на лодке и она, опуская руки по локоть в зеленую подмосковную воду, срывает кувшинки; вот собирают грибы, потом папа варит суп на костре, у него получается вкусно; дальше — кормят голубей на Красной площади. Как-то приснилась мама, правда, всего один раз, и попросила, чтобы Света не обижалась на папу, что папа никому не хотел зла, что он хороший! Сны сводили с ума, и никак нельзя было от них отделаться. Чтобы выспаться, ей приходилось спать днем, урывать хотя бы часок, чтобы не ходить разбитой.
В середине лета Иосиф подцепил ветрянку. Катю пришлось увезти в Москву и на время отдать в семью последнего мужа. Жданов-младший, хоть и являлся отцом, мало бывал с дочерью и совершенно не звонил Светлане. Когда Света случайно встретила его в поликлинике, он засуетился, заговорил скороговоркой, употребляя много ничего не значащих слов, и предстал абсолютно не таким, каким казался раньше. Это и понятно, теперь Светлана была не дочерью любимого вождя, а дочерью тирана и злодея, и ответработникам следовало ее остерегаться. И прежний муженек не стал исключением. Она грустно взглянула на бывшего супруга, который прятал глаза и отворачивался. Юрий точно забальзамировался в своем сером костюме с сильно зауженными книзу брюками, с заглаженным до невозможности галстуком, в несуразно больших роговых очках, придающих мальчишечьему лицу (а он всегда выглядел моложе своих лет) выражение перепуганного ребенка. Он по-прежнему работал в ЦК, заведовал то ли сектором, то ли отделом, по-прежнему не брал в рот спиртного, словно был заговорен беззубой бабкой-повитухой из деревни Вязёмы, которая, если уж накладывала на кого свои трагические заклятия, то никогда невозможно было от них избавиться. И как ни умоляли потом снять заклятия, беззубая старуха лишь неприятно лыбилась, разводила морщинистыми руками и отрицательно качала головой: «Что просили, то и сделала!» Рассказывали, что эта страшная ведьма может все. Дочь Молотова утверждала, что она — черная, и на ней лежит проклятье, потому что старуха убивает во чреве матери детей.
«Ведьма!» — содрогнулась Светлана, но решила к ней ехать, выведать про себя, про отца.
Вяземы были недалеко, и шофер Светланы Иосифовны быстро нашел нужный дом. У дома этого всегда толпился народ. Шли сюда многие: кто-то хотел бросить пить, кто-то приворожить мужика, кто-то навести на соперницу порчу, кто-то отделаться от внезапной беременности; несчастные матери, цепляясь за всяческую надежду, везли в Вяземы своих полуживых, неизлечимо больных детишек.
Дом, к которому подъехала машина, был неприветливым, хмурым, как и его отвратительная владелица. На вымытую до слепящей чистоты машину скосилось множество глаз. Люди настороженно рассматривали незваную гостью, которая появилась из автомобиля. А когда она спросила: «Здесь ли…» — не знала, как сказать, и сказала: «Здесь ли лечат?» Ответили, что здесь. Полная низкая женщина, показав на себя, объявила, что она последняя.
— Будем ждать? — поинтересовался водитель.
— Да.
— Может, посидите в машине? — предложил он, понимая, что места на полусгнивших, изъеденных временем скамейках под открытым небом совсем неудобны.
— Нет, посижу, как все.
За четыре часа к очереди подходили новые люди. Света, как и та полная женщина, показала на себя, объявив, что крайняя, а потом стала медленно двигаться ко входу, но как только очередь дошла до нее, в дверях появилась скрюченная старуха и сказала, что ее не примут.
— Как не примут? — изумилась Светлана.
— Вам тут делать нечего! — называя посетительницу на «вы», промямлила посланница и грозно добавила: — Уходите подобру-поздорову!
28 сентября, вторник
Такого не ожидал даже сам Хрущев, целина дала невообразимый урожай — шестнадцать миллионов тонн зерна собрали хлеборобы!
— Еле успевали убирать, рук не хватало! — смущаясь, докладывал Брежнев, он только-только вернулся из Целинограда, где поздравлял своего преемника и весь Казахский ЦК с победой. — Радость так уж радость!
К первому сентября на целинных землях Казахстана было образовано 450 зерновых колхозов, а всего по стране колхозов и совхозов насчитывалось 80 тысяч. Вот и получалось, что 450 колхозов дали треть собранного в стране урожая — как тут не ликовать?!
— Верил я в успех, Леня, и в тебя верил, и не ошибся!
Низко согнувшись, Леонид Ильич тряс хрущевскую пятерню.
Из Алма-Аты в ЦК сыпались сообщения о перевыполнении плана, областные начальники и директора колхозов рапортовали партии и правительству о грандиозных успехах.
— Эх, Ленечка, какую мы с тобой брешь заткнули! Молодцы, молодцы! — нахваливал Первый Секретарь. — Не только наверстали то, что в прошлом году сгорело, мы марафонский рывок сделали! Вовремя я Пономаренко из Казахстана прогнал, он бестолковыми приказами людям только голову морочил!
— В Польше-то справляется? — Леонид Ильич недолюбливал своего прежнего начальника, вздорного, злопамятного и в быту чересчур неряшливого. Из Казахстана Пантелеймон Кондратьевич отправился послом в Польшу.
— Рокоссовский доносит — с поляками не уживется. Да хер с ним, с Пономаренко! А по целине, я честно скажу, верил, но переживал.
— Вы, Никита Сергеевич, как в воду глядели! — с сахарной улыбкой отозвался Леонид Ильич. — Под вашим руководством никогда срыва не случалось!
— Целина ты моя, целина! — счастливо приговаривал Хрущев. — Вот как надо работать, Леня, задумали — и сделали!
А сделали действительно немало. В первые два года освоили шесть с половиной миллионов гектар степей. Триста шестьдесят тысяч механизаторов, строителей и агрономов уехали в Казахстан и Западную Сибирь. Это было похоже на переселение народов, богом забытые места, где сотни лет не ступала нога человека, оживали, гудели машины, слышались голоса.
Никита Сергеевич чуть не плакал от счастья. Последние дни они с Ниной Петровной только и говорили, что о целине; о том, как там дела, какие трудности, какие успехи? Когда стало очевидным, что урожай будет, Хрущев расцвел, он нараспев декламировал жене идеи касательно реформаторства в животноводстве, прикидывал, как поднять поголовье скота, считал кормоединицы, соизмерял их с посевными площадями, учитывал денежные затраты и рассчитывал прибыли, прикидывал, в какие сроки Советский Союз догонит Америку по производству молока и мяса.
— Теперь-то умники-разумники заткнутся! — словно обижаясь на «сомневающихся умников», при всяком удобном случае напоминал Никите Сергеевичу про неверующих в успех Леонид Ильич.
С момента появления Брежнева в Москве не проходило дня, чтобы он не появлялся у Первого. Можно было с уверенностью сказать, что Леонид Ильич стал наиболее приближенным к Хрущеву человеком.
Дождавшись беспрекословных статистических данных, Маленков, Каганович и Ворошилов убедились в справедливости хрущевской сельскохозяйственной программы. То, что теперь в стране хлеб был в достатке, несказанно радовало.
Приехав поздравлять, Климент Ефремович заключил Никиту Сергеевича в радушные объятья, расцеловал, долго нахваливал, называя прозорливым и дальновидным. Как родного прижимал к себе Первого Секретаря Каганович, напомнив, что именно он распознал в Хрущеве человека с большой буквы. Теплые слова с придыханием говорил Маленков, витиевато поздравлял Микоян. Лишь Молотов, главнейший из сталинских исполинов, не откликнулся на предложение Лазаря Моисеевича ехать к Хрущеву с поздравлениями. В ответ он желчно улыбнулся и процедил:
— Еще посмотрим, еще посчитаем!
Вечером Лазарь Моисеевич пересказал другу, как недовольно Хрущев спрашивал: где Молотов? С каким неприятным выражением выговаривал его фамилию.
— Зря ты, Вячеслав, к Никите не поехал, ведь он и обидеться может!
— Да пусть обижается, что он мне, родственник?
Но, как ни крути, целина состоялась. Многие приписывали эту победу в заслугу себе, хвастались, бесконечно преувеличивая собственное значение, но больше всех был доволен Леонид Ильич. Он радовался целинной победе тихо, ни в коем случае себя не афишируя. Он был невероятно доволен, что сбросил с плеч проклятый груз, ведь ходил на волосок от гибели: то степь горела; то с неба, смывая посевы, шквалом лилась вода; то долгими месяцами на землю не выпадало ни единой капельки, одно лишь слепое, неуемное алчное солнце палило без жалости, и нельзя было предугадать урожай. Но, так или иначе, а Брежнев вышел из истории победителем.
И еще один победитель целины объявился, ее теоретик и пропагандист, председатель Совета Союза Верховного Совета СССР, первый заместитель председателя Совета министров России, член Центрального Комитета Коммунистической партии академик Лобанов. Пал Палыч был особо выделен. Помимо наград, он был возведен на пост президента Академии сельскохозяйственных наук, ведь на шумного, безапелляционного и скандального Лысенко все еще наседали.
5 октября, пятница
Пришла осень. От жаркого лета, тем более от лучезарного Крыма, с бескрайним голубеющим морем, стройными кипарисами, чарующими магнолиями, пышными олеандрами, виноградниками и персиковыми садами, осталось лишь приятное воспоминанье. В Подмосковье через день шли проливные дожди. В доме предусмотрительно закрывали окна, чтобы внезапный сквозняк не теребил тяжелые шторы, выгибая их в стороны, не тормошил на столе бумаги, с яростью не ухал дверьми. Порывы ветра иногда были очень резкими. Вчера ветер опрокинул вазу с цветами, раскидав разноцветные астры по скатерти. И все равно было в комнатах хорошо и спокойно, ведь дом есть дом, здесь и дочка, и мама — все самые дорогие! Дома Екатерина Алексеевна хоть как-то приходила в себя. На работе один час беззвучно перетекал в другой, потом в следующий — стрелки часов летели стремглав, телефоны разрывались, нескончаемой чередой шли люди. С листками перекидного календаря исчезали настырные будни, предрекая в будущем еще более нервозные события.
Московский городской комитет партии опустел, часы показывали восемь вечера. Екатерина Алексеевна собралась ехать домой. Она со старанием закрутила колпачок на чернильной ручке, чтобы за два воскресных дня чернила не улетучились, положила ее в стол, подхватила сумку, и тут зазвонил ВЧ. Фурцева потянулась к аппарату.
— Слушаю!
— Екатерина Алексеевна! — раздался знакомый голос, но кто это был, она не разобрала.
— Да?
— Это Фирюбин.
Фурцева обмерла.
— Очень рада вас слышать, Николай Павлович!
— И я вас рад слышать, — отозвался он.
Наступила пауза. Фирюбин кашлянул.
— Я совсем не по делу звоню.
Он помолчал и продолжил:
— Я прилетаю в Москву, во вторник иду к Шепилову. Вот и подумал, не согласитесь ли вы со мной пообедать?
— Пообедать? — обомлела Екатерина Алексеевна.
— Пообедать или поужинать, как угодно. Завтра, — уточнил он. — Вы не против?
— Согласна! — выпалила секретарь горкома.
«Но он женат, — пронеслось в голове женщины. — У него семья! Но семья, видно, находится за границей, в Белграде. Что за дурь — связь с женатым мужчиной!»
— Заезжать друг за другом глупо, — продолжал он. — Давайте встретимся у парка Горького. У карусели. В семнадцать тридцать. А там решим, куда пойти. Вам удобно в семнадцать тридцать?
— Удобно, — отозвалась Екатерина Алексеевна, сердце ее бешено стучало.
— Тогда, до завтра!
В трубке дали отбой, в ухо шли скупые гудки, а она все держала ее, никак не могла положить.
«Этот неприступный, властный мужчина, красавец, позвонил и назначил свидание! Раньше он мог лишь строго посмотреть и, повысив голос, отдать распоряжение, но раньше он был начальством, а теперь начальство — я!»
Из горкома Фирюбина уволили за месяц до свержения главного москвича Попова, который, как впоследствии и Никита Сергеевич, объединил несколько ключевых постов: должности первых секретарей Московского городского и Московского областного комитетов партии; к тому же Попов занимал пост председателя Мосгорисполкома и в довершение ко всему сделался самым молодым Секретарем Центрального Комитета. До поры до времени Сталин хорошо относился к прямолинейному, маловоспитанному, а иногда хамоватому толстяку, который с собачьим усердием выполнял любые высочайшие указания, на каждом углу восхвалял отца народов, бесконечно указывая на его нечеловеческую работоспособность и прозорливость. Георгий Михайлович был совершенно понятен, по-мужицки хитроват, злопамятен, прямолинеен, но требователен. Сталина устраивал такой тип руководителей.
У Иосифа Виссарионовича приближалось семидесятилетие. Ко дню рождения руководитель каждого крупного предприятия старался установить трудовой рекорд, блеснуть выпуском передовой продукции, тем самым восславив любимого вождя. Сотрудники Института сельскохозяйственного машиностроения заговорили о создании комбайна с электроприводом. Подобного в мире не было, и Фирюбин тотчас доложил о передовой идее Попову, который вцепился в нее зубами — для московского руководителя появилась реальная возможность отличиться.
Будущий комбайн нарекли «Сталинец». Надзирать за работами Попов поставил придирчивого Фирюбина, он в городском комитете отвечал за промышленность. «Сталинец» задумывался как экологически чистый механизм, работающий практически бесшумно, и при этом он не уступал комбайнам, работающим на горючем топливе. Машина на электротяге стала бы сенсацией! На создание опытного образца не жалели денег, и вот «Сталинец» пошел по полям. Фирюбин регулярно приезжал на испытания в подмосковные Ленинские горки, где у прославленного агрария Лысенко простирались нескончаемые опытные поля. Для значимости дела знаменитого академика также приобщили к процессу создания чудо-машины. Горком партии дал хвалебную статью в «Правду», где все лавры достались первому секретарю МГК Попову, мечтающему поразить вождя лучшим подарком. Фирюбин предполагал, что его, как и шефа, щедро отметят. Он ходил у Попова в любимчиках. Сопровождая Георгия Михайловича, Николай Павлович в нужный момент поддакивал, шутил, улыбался. В кругу сослуживцев всегда с волнением, восторженно, отзывался о деятельности своего непосредственного начальника. Именно Фирюбину предписывали авторство в проекте переименования центральных улиц столицы, чтобы в самом ее сердце возник проспект Сталина, этот проспект предполагалось получить, слив воедино Театральный проезд, Охотный ряд, улицы Манежную и Моховую. С подачи Фирюбина Попов предлагал переименовать Манежную площадь в площадь Сталина, присвоить Иосифу Виссарионовичу звание «Первого почетного гражданина города Москвы», а теперь Фирюбин запускал чудо-комбайн!
Частые походы Попова к вождю и снисходительное отношение Иосифа Виссарионовича вскружили чванливому партийцу голову. Он вообразил себя чуть ли не проводником сталинских идей, не стесняясь, вызывал к себе министров и руководителей центральных советских ведомств, давал им взбучки, требуя подотчетности, как будто Московский горком равноподобен Центральному Комитету. Потихоньку по Москве поползли разговоры, будто бы товарищ Попов скоро заменит престарелого вождя!
Сталин, регулярно получающий сводки из МГБ, был раздражен таким обстоятельством. Только-только был раскрыт злостный заговор ленинградцев, в вину которым ставилась подмена Центрального Комитета предполагаемым Российским ЦК, который должен был разместиться в Смольном! Что удумали, паршивцы?! Смещение центра власти из Москвы в Ленинград Сталин объявил самым искушенным предательством. Провокаторы Вознесенский, Родионов, Кузнецов, Попков и другие были арестованы и расстреляны. В каждой партийной ячейке обсуждалось их малодушие, желание расколоть партию, а тут самодур Попов выискался!
Царедворцы исправно подливали масло в огонь, стремясь устранить конкурента. Донесли, как Попов командует министрами, в красках рассказали о небывалом по размаху приеме в Мосгорисполкоме по случаю восьмисотлетия столицы, где, невзирая на дефицит самых обычных продуктов, а порой — на недоедание, столы ломились от невообразимых осетров, белужьей икры, всевозможных колбас и окороков. Позабытые деликатесы произвели впечатление даже на надменный дипломатический корпус. Попова обвинили в нарушении государственной дисциплины, в саморекламе, самоуправстве и зазнайстве, в горком партии была направлена комиссия. В кратчайшие сроки комиссия вскрыла недопустимые нарушения в работе московской партийной организации. Земля под Поповым зашаталась. Георгий Михайлович публично каялся, искал встречи с вождем, пытаясь объясниться, броситься в ноги, но больше его к Сталину не допускали. Из Украины в Москву прибыл Никита Сергеевич Хрущев, избранный на место проштрафившегося Попова. Попов был снят со всех постов и, если бы не дело врачей, где Сталину приходилось каждый день домысливать ситуацию, прежнему руководству города была бы уготовлена незавидная участь. Из-за врачей-выродков, перерожденцев-евреев, вредителей в авиапроме, извергов-ленинградцев, и чтобы не перебарщивать с предателями, как-то сама собою поповская история утихла, Попова назначили в город Киров директором небольшого завода. И Фирюбин, к счастью, не потерялся. Будучи человеком общительным и компанейским, Николай Павлович имел множество друзей, которые не дали товарищу сгинуть. Сначала его сделали советником в МИДе, а вскоре утвердили послом в Чехословакии, чуть позже перевели в Белград Дипломатическая работа не самое плохое, тем более работа в ранге Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Екатерина Алексеевна столкнулась с Фирюбиным именно в Москве. Избранная комсомольским вожаком Института тонкой химической технологии, где заочно училась, молодая активистка обнаружила недюжинные организационные способности и скоро, совершив головокружительный кульбит, оказалась на месте второго секретаря Фрунзенского райкома партии, тогда-то она и стала появляться в МГК. Женщина сразу обратила внимание на видного городского начальника, да и Фирюбин, как только фигуристая дама попала в поле его зрения, сразу отметил новенькую, но виду, что ему приглянулась улыбчивая блондинка, не подал, так как сам Попов неравнодушно поглядывал в ее сторону. Молодая женщина носила совсем не длинные юбки, и пьянящая красота ее безукоризненных ног производила на мужчин ошеломляющее впечатление. Через некоторое время Екатерина Алексеевна работала уже первым секретарем Фрунзенского района.
Однажды, Фирюбин и Фурцева одновременно оказались в подмосковном доме отдыха, кто-то предложил сыграть в волейбол, и они попали в одну команду. Играли больше часа, тут-то Николай Павлович по достоинству оценил не только ее изумительные ноги, а всю обворожительную стать, и острый ум, и юмор, и сердечность. В спортивном азарте люди запросто общаются, начальник без стеснения посматривал на зеленоглазую партнершу, задорно подпрыгивающую, приседающую, восклицающую, не решаясь все же идти на сближение: ведь не только властолюбивый самодур Попов, но и прежний хозяин столицы, железный нарком Каганович, питал к Фурцевой интерес.
И вот сейчас все переменилось. Он посол. Она секретарь Московского горкома, никто никому ничем не обязан — взрослые, самостоятельные люди. Почему он решил вдруг позвонить? Потому что после праздника на стадионе «Лужники», где они оказались вместе, Катя не уходила из его головы. На следующий день он улетел в Белград, думал, смена обстановки, работа отвлекут от навязчивых мыслей, сердце успокоится, он же, в самом деле, не мальчик, ему уже стукнуло сорок пять. Но, нет, улыбчивая Катерина Алексеевна все яростней терзала сознание! Он думал о ней дома, думал в машине, думал в служебном кабинете, она приходила во сне, казалось, ее зеленые глаза повсюду! Он не жил больше, он мучился, мечтая о ней, и решился позвонить.
«А почему нет? Это прилично, позвонить по работе, пригласить в Югославию, на какое-нибудь ответственное мероприятие. Выдумать какое-либо торжество или другое важное дело!» — ему так хотелось снова увидеть ее!
8 октября, понедельник
Адъютанты Жукова, Георгий и Антон, неотступно ходили за маршалом. Кучерявого Георгия называли в министерстве «маленький Георгий», утверждали, что он как две капли воды похож на министра в молодости, чем адъютант бесконечно гордился. Когда министр обороны, Маршал Советского Союза Жуков появлялся в присутственных местах, низкорослый майор выскакивал вперед и ошеломляющим голосом выкрикивал:
— Смирно! — и первый с выпученными глазами замирал от обожания.
Второй, чернявый подтянутый подполковник, с пристрастием собирал сплетни.
— Что слышно, Антоха? — развалившись на заднем сиденье лимузина, вальяжно спрашивал Жуков, и адъютант начинал пересказывать закулисные новости: кто что, кто с кем.
Иногда министр хмыкал, отпуская забористые солдатские шутки, вообще-то, нрав у маршала был крутой. Даже всемогущему Берии не удалось сковырнуть Жукова. После бериевского ареста Георгий Константинович не имел себе равных, один Никита Сергеевич еще как-то мог на него влиять. Хрущев всегда относился к маршалу с должным уважением, но по-товарищески, без пиетета. Жуков не чувствовал в Первом Секретаре опасности. Еще Ваня Серов был своим в доску. В присутствии Маршала Советского Союза Серов всегда выступал шутником и балагуром, а остальные — хлам, остальных Георгий Константинович на дух не переносил. Маршальскую симпатию вызывал иногда беззлобный Булганин, но он был совершенно неработоспособный, под его началом и Совет министров помельчал, министры наперегонки спешили к Хрущеву. Пирамида выстраивалась, и в этой пирамиде после Хрущева Жуков занял твердое второе место.
Власть кружила голову, власть завораживала. Ни Булганин, ни Хрущев, по мнению Георгия Константиновича, не смогли бы долго управлять государством, ориентироваться в международной политике. В хрущевское владычество Жуков категорически не верил: «Какой из Никиты правитель? Ерунда!» Молотов, тот бы смог, но кто его пустит?
— Погодим, посмотрим! — качал головой маршал.
«ЗИС» мчал по городу. Жуков сдвинул брови, заметив, как постовой милиционер без старания козырнул правительственной машине.
— Снять! — приказал маршал. — Пусть на Урале движением управляет! Начальнику объявить взыскание по службе.
Адъютант-подполковник записал распоряжение в блокнот.
Георгий Константинович по-новому выстроил структуру министерства, а со структурой поменялись и начальники. Некоторых генералов он передвинул, кого-то убрал. Министерство обороны должно стать цельным организмом, управляемым непосредственно им. Назначение Родиона Малиновского первым заместителем и главнокомандующим сухопутными войсками по существу ничего не меняло, однако было поспешным.
«Зря пошел у Никиты на поводу!» — размышлял Жуков.
Малиновский был здоровяк. Иногда в гневе Георгий Константинович срывался, мог врезать, невзирая на звания, но с Малиновским был аккуратен, Родион посещал спортзал, занимался выездкой и рукопашной борьбой. Однажды Жуков попытался ему накостылять, да только ничего не вышло. Удары — один, другой, третий — были отбиты, Малиновский набычился, ноздри раздувались, кулаки крепко сжал. Такой и сдачи мог дать, и дать как следует. Мало находилось подобных силачей, Жуков мог всякого заломать, а Родион нет, не поддавался! С тех пор отстал от него министр, но осадок и у того, и у другого на душе остался неприятный.
С приходом Жукова в армии не стеснялись рукоприкладства. И большие командиры, и маленькие учили уму-разуму подчиненных кулаками, и деды салаг в морду тыкали. А как иначе? В армии не белоручки, а обычные мужики, драчливые, резкие, не будешь в узде держать, сами кому хошь башку свернут, в армии жестко надо!
— Ставишь задачу, а некоторые умничают, мнения высказывают! — негодовал министр.
За «умничанье» и били.
Структура министерства в целом была готова, под вопросом оставался лишь пост начальника Генерального штаба. Министр размышлял: забрать ли туда из Польши Костю Рокоссовского или нет? Рокоссовский стал бы хорошим противовесом Малиновскому. Костя устал от Польши, пересидел, жаловался, что в Варшаве даже в женщинах трагическое однообразие! Каждый раз при встрече просился в Москву. С Генштабом Костя бы справился, он и командир толковый, и стратег, но памятуя о хрущевских словах, памятуя о том, что посещая столицу, Константин Константинович обязательно ходил к Молотову, отирался у Маленкова, не спешил Жуков приблизить боевого товарища.
— Сам справлюсь, сам! — ворчал Георгий Константинович.
Глуховатый маршал Захаров в списке ЦК на Генштаб значился кандидатом номер один, но и с ним Жуков не торопился: так и будет, чуть что, бегать в ЦК!
«В конце концов, чем Соколовский плох? Он на своем месте, и деловой, и понятный, меня знает, интриг от него можно не опасаться. Пусть остается!» — сделал вывод Георгий Константинович, но замом к нему решил все-таки приставить преданного человека — генерала Телегина. Костя Телегин и Вова Крюков были те друзья-генералы, на кого маршал мог положиться, как на себя.
«ЗИС» мчал по Кутузовскому проспекту. Глядя на козыряющих инспекторов автоинспекции, маршал хмурился, настроение было дрянь! С утра объявили, что вполовину срезан бюджет на предстоящие общевойсковые учения. Георгий Константинович взорвался от возмущения — хотят превратить армию в колхоз! Он с грубой бранью обрушился на министра финансов Зверева, а тот только и произнес в ответ: «Выполняю распоряжение председателя Совета министров». А кто такой для Жукова Булганин?! Никто! Только Хрущев мог осмелиться на такую дерзость! Скоро выяснилось, что это и была хрущевская идея.
— А ведь ничего не сказал! Ну, фрукт, Никита Сергеевич! Ну, фрукт!
9 октября, вторник
Ее захватила любовь, разожгла какие-то неистовые силы, желания, лишила сна, заставила ежеминутно сжиматься сердце. От мыслей о нем у женщины кружилась голова. Катей, ласково целуя, он назвал ее в их первую ночь. В то неожиданное свидание они никуда не пошли, укрылись в гостинице, где за Фирюбиным был закреплен номер.
— В гостинице «Москва» есть неплохой ресторанчик, не возражаете, если посидим там? — встретив Фурцеву у входа в парк Горького, предложил он.
Она не возражала. Николай Павлович предложил ей руку и повел к машине. Оказавшись в гостинице, они миновали ресторан, поднялись на пятый этаж, он пропустил даму вперед и, захлопнув дверь номера, резко привлек к себе. И все случилось.
Она была счастлива, и он счастлив бесконечно. Они закрылись в номере до следующего утра. Охрана первого секретаря Московского городского комитета партии расположилась в просторном холле гостиницы, а величественные черные машины послушно замерли у подъезда.
— Когда следующая встреча, когда я снова увижу своего Коленьку?
10 октября, среда
В Варшаве снова было неспокойно. После смерти Берута единого центра в польском руководстве так и не образовалось, в народе неуклонно росло недовольство правящими кругами, чье поведение до омерзения раздражало, и дело даже не в чванливости и распущенности властей, отвратительней всего выглядело пресмыкательство перед Советским Союзом и его представителями. Да и сам Советский Союз не казался полякам бескорыстным партнером, он представлялся скорее в виде поработителя, на которого надо не разгибаясь батрачить, получая взамен примитивные лозунги-заклинания, мифическую веру в счастливое будущее, и ровно столько хлеба, чтобы не умереть с голоду. Месяц назад состоялось решение Президиума ЦК о срочном предоставлении Польше и Чехословакии кредитов в размере 173 миллионов инвалютных рублей для закупки за границей пшеницы. На первое время великий сосед высылал туда несколько составов зерна, но продовольствие братскому социалистическому народу давали за деньги, и 173 миллиона предстояло вернуть. Было полякам и чехам над чем задуматься. Тут и там высказывались мнения, что Польша скоро станет очередной республикой СССР.
В 1920 году Россия и Польша яростно воевали, маршал Тухачевский победоносно дошел до Вислы. Еще тогда заговорили о включении Польши в состав Российской Федерации, как было в царские времена. Внезапно поляки наголову разбили красноармейцев, в плен взяли сотни тысяч русских солдат, многие из которых были расстреляны или в мучениях умирали от голода, никто не хотел помогать оголтелым большевикам. И дело даже не в большевиках: поляки считали, что и при царском режиме они жили ущербно. Польша дала Красной Армии решительный отпор и надолго сделалась врагом. В Советской России поляков неумолимо преследовали, судили как пособников империалистов, расстреливали. В 1939 году половина Польской республики была занята советскими войсками.
На захваченных территориях, заполняя железные клетки тюрем, с усердием трудился НКВД. После окончания Второй Мировой войны, когда Польша полностью отошла под юрисдикцию СССР, в Варшаве всем заправляли присланные из Москвы советники, без которых не решался ни один вопрос. Сталин относился к захваченным странам, как к вотчинам. В 1950 году было арестовано верхнее польское руководство, а новые начальники послушно увеличили планы поставок соседу-победителю.
Со смертью Сталина дышать стало легче, железная хватка ослабла, целые полчища прикомандированных в польские учреждения партработников, офицеров госбезопасности и военных отозвали обратно, и хотя Секретариат Польской Объединенной Рабочей партии неукоснительно следовал указаниям Москвы, настроение у партийцев было не лучше, чем у обычных граждан. Особое недовольство высказывала городская интеллигенция и студенческая молодежь. Многие были недовольны засильем в польском руководстве евреев. Отвратительным событием в народной памяти отпечаталась расправа над рабочими в Познани. С каждым днем у поляков росли антисоветские настроения, и не последнюю роль в этом сыграл хрущевский антисталинский доклад. Доклад этот в рукописном виде появлялся то тут, то там, цитировался, передавался от одного человека другому, обнажал гнилость и произвол коммунистической системы. Внезапно вспомнили про Гомулку, про бывшего Польского Генерального Секретаря, который пробовал отстаивать коренные интересы народа, и по воле Сталина был брошен в тюрьму, потребовали его освобождения. Гомулке пророчили место председателя Польского Сейма. Первый Секретарь ЦК ПОРП Охард, тянул с освобождением, так как выход Гомулки из тюрьмы ставил под вопрос нахождение самого Охарда на центральном партийном посту, а если выпускать Гомулку, то, значит, надо выпускать и всех его соратников. Как ни сопротивлялся и как ни затягивал решение Охард, все-таки дал согласие на освобождение. Гомулку чуть ли не на руках пронесли по улицам. Обычно Москва подбирала кандидатов на ключевые государственные посты стран народной демократии, а тут поляки решили вопрос самостоятельно. Гомулка не был плох, но нарушилась субординация. И Пленум Польского ЦК назначили на понедельник, не согласовав повестку с Москвой. О случившемся безулыбчиво докладывал Хрущеву Шепилов.
— Требуют удалить из Польши маршала Рокоссовского, его уже освободили от должности военного министра, — окончил Дмитрий Трофимович.
Эта капля стала последней.
— Не они назначали! Да что они себе думают?! Чем думают?! — кричал Никита Сергеевич. — Рокоссовского удалить! Гомулку назначить! Нас не спрашивают! Кто им дал право распуститься?!
Шепилов понурясь стоял перед Хрущевым.
— Недоделанный Пономаренко целину у казахов провалил, теперь в Польше проваливает! Собирайся, Дима, в Варшаву полетим!
14 октября, воскресенье
Александр Прохин раздраженно распаковывал чемоданы. Внезапно оборвалась его долгосрочная командировка в Гаагу, где он полтора года проработал заведующим корпунктом «Правды»: неслыханно высокая должность для новичка в журналистике! Но уезжал он в командировку зятем всемогущего министра внутренних дел, а возвратился зятем опального генерала. Не успел Александр переступить порог дома, как зазвонил телефон. Звонили из газеты, сообщили, что с сегодняшнего дня он находится в отпуске, но лучше ему сразу заняться поиском работы. У отца-посла отставка произошла раньше: хотя министр Шепилов относился к старшему Прохину наилучшим образом, собирался сделать его одним из своих заместителей, однако ослушаться Хрущева не смел. Дмитрий Трофимович вызвал подчиненного в Москву, сообщил, что по нему есть неприятное указание Первого Секретаря, и зачитал резолюцию: «С должности убрать!»
— Ты, Юрий Иванович, сам заявление напиши, сошлись на здоровье. Я тебя не брошу, переведу торговым представителем в Мадрид, годик-другой посидишь в Испании, а там определимся.
Прохин-старший был ошарашен, в МИД он ехал принимать пост заместителя министра, а тут такой разворот. На глазах министра он чуть не расплакался, но упорствовать не стал. Шепилов связался с министром внешней торговли, обговорил прохинское назначение в Испанию.
Сын узнал нехорошую новость из телефонного разговора.
— Видно, сын, и тебя немилость коснется. Я понимаю, что из-за Круглова на нас отыгрываются, как ни крути, мы его родственники.
Так в одночасье оборвалась дипломатическая карьера отца и блистательный взлет сына.
— Понапихала сюда всего без разбора! — вытряхивая вещи из чемодана, ругался на жену Александр. — Сложить аккуратно не могла?!
Лада бледной тенью стояла рядом. Она была еще красива: с правильным носиком, чуть вьющимися волосами, но беременность уже основательно взялась за дело, подполнила, сделала припухшим когда-то узкое личико, все движения женщины получались теперь больше, значительнее.
— Я одна собирала, ты помогать не пришел!
— Я отчеты писал, дела сдавал! — в раздражении муж пихнул пустой чемодан ногой. — Теперь в шкаф складывай!
Молодожены занимали квартиру старших Прохиных, так как те постоянно находились за границей.
— Куда я работать пойду?! Что в трудовой книжке напишут? — неприятно смотрел супруг. — Напишут: зять врага народа Круглова!
Обида и жалость за несчастного несправедливо обиженного мужа, за незаслуженно оскорбленного и униженного отца застыли слезами в глазах молодой женщины.
— Сашенька! — сквозь слезы виновато пропела она.
— Отстань, пискля!
— Я не виновата!
— Не виновата! А кто виноват, я?
— Не-е-ет! — жалко всхлипывала будущая мать.
— Вот и молчи!
Лада села на пустой чемодан, продолжая беззвучно плакать.
— К родителям своим уезжай! Мне работу искать надо, а то вдруг рожать начнешь!
— Я хочу остаться с тобой!
— Езжай, так лучше будет, — чуть смягчился супруг-журналист. — А то мать твоя припрется и начнет причитать. Меня от них воротит, от твоих родственников!
Закрыв лицо руками, Лада в голос заплакала.
— Рева-корова!
Она не могла успокоиться.
— Кому сказал, не реви! — сжимая кулаки, подступил муж. Он уже однажды побил ее, и сейчас решил наподдать.
Лада схватила с пола какие-то вещи и с воем скрылась в ближайшей комнате.
Саша переоделся, сменив строгий костюм, в котором приехал, на менее официальную одежду, причесался, накинул на плечи свитер, громко хлопнув дверью, вышел в парадное и вызвал лифт. Не хотел видеть тупую бестолочь и плаксу жену! С этой женитьбой вышло все не так, как он рассчитывал. До Лады какая у него была девушка — загляденье! Он закрутил роман со студенткой из мединститута, она потом месяц его преследовала, и еще месяц он ее вспоминал, никак не мог позабыть. Вот бы была настоящая жена, а какая красавица! А эта, с плоской попой! — Саша с отвращеньем скривил рот.
— И папаша, министр, обделался! — в сердцах выговорил журналист.
Двери подошедшего лифта открылись, он шагнул внутрь и наткнулся на соседку сверху.
— Здравствуйте, Саша! Вы уже приехали?
— Да, приехали! — громко ответил парень, и, сбавив тон, поздоровался: — Здравствуйте, Светлана Иосифовна! И — до свиданья!
Лифт остановился, он выскочил из кабины первый.
— Одни призраки из прошлого разгуливают: Кругловы, Аллилуевы! — обгоняя тихоходных прохожих, бурчал неудавшийся загранработник.
16 октября, вторник
С освобождением Гомулки из заключения страсти в Варшаве успокоились. Хрущев с энтузиазмом выступил перед членами ЦК ПОРП, как заводной, ездил с одного предприятия на другое, участвовал в уличных митингах. Москва всецело поддержала Гомулку, который заявил, что связи России и Польши нерушимы и что Польша больше нуждается в России, чем Россия в Польше. Но разговоры с польским руководством были претрудные.
— Вы, Никита Сергеевич, утверждаете, что все в наших отношениях строится на равенстве и братстве, а как тогда получается, что уголь вы у нас берете по заниженной цене, а железную руду продаете по завышенной?
Действительно, так при Сталине было. И это только частный пример, а сколько подобного неравенства творилось? Хрущев обещал разобраться, положение исправить. Выступая в узком кругу перед партхозактивом республики, Никита Сергеевич подробно остановился на произволе, который творился при Сталине, декларировал безупречную социалистическую законность, говорил о единстве коммунистов, объяснял, что коммунист — это солдат в битве за каждого человека, каждого гражданина, уверял, что Советский Союз друг. Доводы Первый Секретарь приводил убедительные: после ареста Берии советских советников полностью убрали из Польши, это — раз. Сотрудники МГБ-КГБ были целиком сокращены в советском посольстве, оставили лишь несколько человек при Польской госбезопасности и то для взаимной координации — это два. Вспомнив трагические события в Познани, подчеркнул, что там не было ни одного советского солдата, хотя советских танков и солдат в Польше достаточно, это — три. Пожалуй, последний довод стал самым убедительным. Никита Сергеевич согласился отозвать в Москву маршала Рокоссовского, еще пообещал, что очень скоро трудящиеся будут безвозмездно получать от государства квартиры, а крестьяне — земельные наделы, как это делается в СССР, в городах откроют новые учебные заведения, школы, детские сады, больницы.
— Социализм должен быть привлекательным, мы должны иметь все самое лучшее, и так будет, но надо к этому совместно идти. Вот вы читали мой доклад, а доклад — это только начало пути. Мы открыты, так чего ж кусаетесь? Я не Сталин!
Хрущеву верили. Ораторствуя без бумажки, яростно жестикулируя, он мог убеждать, но и спорить с ним не боялись, задавали всякие, порой каверзные вопросы. Когда Первый Секретарь выступал перед студентами польского университета, в одной записке, пришедшей из зала, прочитали дословно следующее: «А где же были вы, товарищ Хрущев, где был Молотов, Микоян, Ворошилов, когда творились беззакония? Разве вы не видели, не понимали, что происходит при Сталине?» Хрущев попросил переводчика громко зачитать записку. Потом уставился в зал и спросил:
— Кто написал эту записку, встаньте!
Никто не встал. В аудитории зависла гробовая тишина.
— Вот так и мы молчали, боялись рот раскрыть, — проговорил Никита Сергеевич.
Его выступление закончилось бурной овацией.
22 октября, понедельник
С крыш срывался мелкий, очень редкий снег, ветер пронизывал. Неподвижное мглистое небо, на котором, казалось, нет ничего — ни звезд, ни облаков, пугало обреченной серой промозглостью. Даже свет фонарей из-за его низкого тяжелого однообразия делался вязким, тягучим, никак не радостным, и, если выглянуть из окна, в однородной хмари терялись невыразительные отблески уличных ламп, витрин, окон.
В хрущевском кабинете горели все три люстры, пространство здесь было ярким, слепящим. Напротив Первого Секретаря сидел Серов. Никита Сергеевич, покусывая кончик карандаша, устало смотрел на генерала. Серов доложил, что нездоровая ситуация складывалась в Венгрии, что народ недоволен правительством, ропщет.
— Как сговорились, — выдавил Хрущев, — то поляки бузят, теперь венгры!
— В руководстве, особенно в госбезопасности и полиции, подавляющее большинство евреев. Евреи ведут себя беззастенчиво, командуют всеми и всем, никого не стесняются, назначают на должности своих родственников и знакомых, точно государство их кормушка! Это венграм сильно не нравится.
— При чем тут евреи, Ваня, ну при чем?!
— Евреев связывают с большевиками.
— Глупость несусветная! Кто тебе такое наговорил?
— В донесениях сообщают.
— В донесениях! Посол Андропов ничего по этому поводу не написал.
— Он вообще мало что пишет, словно его там нет!
— Да, пустой человек, надо будет его менять.
— Давно пора, — поддержал Иван Александрович. Ему совсем не был симпатичен сухой, неприветливый Андропов, которого, точно тараном, тащил наверх главный советский финн. — Сидел бы у Куусинена в Карелии и сидел!
— Разберемся! — отозвался Хрущев.
— Напрасно из соцстран удалили прикомандированных сотрудников, при них хоть порядок был, — посетовал председатель КГБ.
— Правильно удалили, без них к нам доверия больше, — отозвался Никита Сергеевич.
— Вам видней, — со вздохом согласился генерал армии.
— Почему, Ваня, ты меня расстраиваешь, не жалеешь? Как специально делаешь!
— Работа моя малорадостная. Да и ваша не лучше, — отозвался Иван Александрович.
Про Венгрию он вынужден был сказать, сигналы оттуда шли тревожные, а советский посол Андропов в ежедневных телеграммах доказывал, что ситуация в Будапеште опасений не вызывает.
«Еще какие опасения она вызывает» — нервничал Серов. Ему хватило хрущевских упреков по Польше и Грузии. Повторный прокол мог иметь пагубные последствия для его генеральской карьеры. В ЦК на Ивана Александровича все чаще поступали нелицеприятные доносы, писали про его «темные делишки» в Германии, не гнушались приклеивать к нему ярлык «хапуга», вспоминали про переселение народов Северного Кавказа, где Серов принимал самое непосредственное участие, и уж никак не меньшее, чем развенчанный гулаговец Круглов. Какая-то гнида написала, что молодая жена его живет, словно барыня, держит трех нянек для дочери, для себя завела учителей музыки, рисования и немецкого языка. Стыдно коммунисту! Хочешь выучить язык — иди на общественные курсы, и по рисованию многочисленные школы существуют, а тут на гостранспорте всех развозят, и сюда везут, и туда! Вмешательством серовской жены учительнице рисования выделили отдельную квартиру на Ленинском проспекте.
После прочтения последней ябеды Хрущев мрачно заметил:
— Твоя жена уже квартиры раздает, из грязи да в князи!
Напрасно Иван Александрович объяснял, что учительница потеряла на фронте мужа, двух братьев, воспитывает четверых детей и дочку сестры, умершей от воспаления легких в эвакуации.
— В КГБ не квартирами занимаются! — мрачно выговорил Хрущев. — Может, тебя в Министерство соцобеспечения отправить? Пусть баба дурить заканчивает!
Чуть не поругались в тот день с Аней, но, слава Богу, миром обошлось!
Иван Александрович искренне старался для Хрущева, был беззаветно предан. Он тщательнейшим образом перебрал архивные документы НКВД по Москве и Украине за годы, когда там работал Хрущев, выскреб все до мелочи, любая бумажка, отбрасывающая тень на Первого Секретаря, бесследно исчезла, обыщись — ни строчки не найдешь! Он регулярно составлял объективные справки по лояльности к Никите Сергеевичу членов Президиума ЦК и крупнейших военных. По узкому кругу самых высокопоставленных лиц в КГБ была создана специальная группа, которая денно и нощно наблюдала за означенными товарищами, а прослушивали не только их самих, но и жен, и детей, и помощников, всех самых к ним близких. Собранные материалы были ценнее золота, раскрывали сущность кремлевских настроений, приоткрывали тайные замыслы, ведь ни Молотова, ни Кагановича, ни Ворошилова, ни Маленкова Никита Сергеевич к друзьям не относил, а раз не друг, значит кто? Получается — враг. Вот и занимался товарищ Серов защитой своего руководителя. В последнее время он получил команду слушать Булганина, Шепилова, Суслова и даже Фурцеву.
— Почему Фурцеву? — поинтересовался он.
— С мужиками путается!
Серов был у Хрущева главным сторожем и главным хранителем тайн, однако и он не был застрахован от вспыльчивого, неуемного характера Никиты Сергеевича — в одночасье могла слететь генеральская голова, ведь аккуратный кировоградец Миронов, которого втиснул в КГБ Хрущев, так и сидел у него замом, и все настойчивей влезал в гэбэшную кухню. А бывший заведующий строительным отделом Московского горкома Дудоров был назначен вместо Круглова министром внутренних дел. В бытность Хрущева московским секретарем Дудоров умудрился к нему подластиться. Сильно приподнял голову Леонид Ильич Брежнев, но от Брежнева опасности Иван Александрович не чувствовал.
Сообщение по Венгрии Никита Сергеевич выслушал угрюмо, заметив, что у МИДа имеется отличная от КГБ точка зрения.
— С Венгрией как-нибудь перетопчемся, — заключил он. — А вот ситуация в Египте меня тревожит.
Именно положению дел в Египте и был посвящен серовский визит.
Заручившись поддержкой Москвы, президент Насер не шел на уступки Западу. Все предложения Англии и Франции, сводившиеся к совместной эксплуатации Суэцкого канала, им были отвергнуты, переговоры прекращены. Не сумев договориться с Насером, англичане и французы попытались отозвать из Египта лоцманов-европейцев, им предлагали крупные денежные компенсации, обещали устроить на другую хорошо оплачиваемую работу, и пятьдесят лоцманов, поддавшись уговорам, начали собирать вещи. Общая их численность приближалась к ста пятидесяти, а лоцманов-египтян насчитывалось чуть более сорока. Если удастся убедить большинство европейцев оставить работу, судоходство по каналу будет парализовано. Но опять выручал Советский Союз — более ста человек опытных мореходов уже ехали из Москвы.
Секретно собравшимися во французском городе Севр англичанами, французами и израильтянами был разработан план военных действий. Израиль должен был атаковать египтян, а Англия и Франция вслед за этим — вторгнуться в зону Суэцкого канала, обосновав свои действия необходимостью разделить враждующие стороны и взять канал под защиту.
— Куда Израиль лезет, чего евреям-то надо?!
— Израиль хочет за счет Египта получить дополнительные территории, — пояснил генерал армии. — И здесь, Никита Сергеевич, евреи!
— Что ты заладил — евреи, евреи! Большевики — интернационалисты, забыл?!
— Не забыл.
— А Израиль — государство, одно с другим не путай!
— Понял, Никита Сергеевич. В такой обстановке Насеру трудно придется, — заключил председатель КГБ.
Хрущев был не на шутку озадачен, глаза смотрели зло.
— Никита Сергеевич! — тихо проговорил генерал. — Я по вашему поручению хотел отчитаться.
— По какому?
— По сыну вашему, Леониду, который в войну погиб.
— Слушаю! — насторожился Никита Сергеевич. — Говори, что удалось узнать, только правду!
— Ваш сын погиб, ни к каким немцам в плен не попал и на фрицев не работал.
Никита Сергеевич вздрогнул, губы его задрожали, он обхватил голову руками и, причитая, заплакал:
— Не предал отца, Ленечка! Не предал!
Когда обедали с Булганиным, Хрущев передал обеспокоенность Серова по Венгрии, не забыв сказать и про самоуправство командиров-евреев. Николай Александрович на это пожал плечами и спросил:
— Ты, брат, знаешь, чем отличается Сталин от Моисея?
— Чем?
— Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин — из Президиума ЦК! — и громко расхохотался.
25 октября, четверг
В прихожей долго звонил телефон. Леля лежала в кровати, зачитываясь Бальзаком, как неохота было бросать книжку!
— Кто трезвонит? — с Сережей они разговаривали час назад, он сказал, что до вечера должен быть на эксперименте в институте, а телефонный звонок назойливо звонил — Смотри, наяривает!
Девушка поднялась и лениво пошла к телефону:
— Але!
— Здравствуй, Лелечка! — голос был мужской, знакомый.
— Здравствуй! — ответила она. — Что-то не узнаю.
— Это я, Саша Прохин. Я в Москве, вернулся из командировки.
Леля обмерла: «Нахал! Еще набрался смелости звонить!»
— Лелечка! — раздавалось в трубке.
— Не звони мне больше, не звони никогда, понял?! — выпалила она. Девичье сердце вырывалось из груди, колотилось сильно, сильно!
— Понял, — глухо проговорил Александр.
Леля с силой бросила трубку.
27–28 октября, суббота, воскресенье
23 октября в Будапеште начался митинг студентов. Студенческие требования постепенно приобрели жесткую антисоветскую окраску. В митинг вливались обычные горожане, которые в едином порыве поддерживали молодежь. По городу тут и там возникали стихийные манифестации. Недовольство социалистическим режимом, засилье в руководстве людей еврейской национальности, словно кипяток, выплеснулось наружу.
Митинги перерастали в бурю возмущения. Люди требовали свободы слова, совести, вероисповедания, требовали освободить из заключения ярого антисоветчика кардинала Йожефа Миндсенти, ругали коммунистический режим. На политическую арене снова возник Имре Надь. Однажды он уже был руководителем Венгерского правительства, в 1954 году сменил распустившегося сталинского наместника Ракоши. Имре Надь был классическим либералом. Уже тогда он объявил о готовности раздавать крестьянам землю, говорил об общеевропейских ценностях, не спешил слепо раскланиваться с Москвой, вызывая недоумение Центрального Комитета, то и дело заигрывал с Западом. Маршал Конев, став главнокомандующий войсками Варшавского договора, жаловался Жукову, что Надь игнорирует его распоряжения, по поводу и без повода вступает в спор, пытается что-то доказывать, как будто венгры имеют право на голос?!
— Откуда у них такое право? Раньше они Третьему Рейху присягали, их полновластным хозяином был нацист Адольф Гитлер! — возмущался Конев. — Под знаменами Вермахта венгерские солдаты стреляли в бойцов Красной Армии!
— Мы еще хорошо с ними обошлись, — поддержал Конева Жуков.
За подобные шатания Имре Надь был снят с поста, но вчера неожиданно занял премьерское кресло и сформировал правительство, в которое попали совершенно далекие от коммунистов люди. Советский Союз был поставлен перед фактом, посол Андропов опростоволосился, упустил ситуацию. Западные государства моментально отреагировали на изменения в Венгерском государстве, в срочном порядке организовали поставки в страну продовольствия, медикаментов, шли разговоры про предоставление крупных кредитов. В воздухе Пешта потянуло зловонным запахом капитализма. Советские спецслужбы телеграфировали в Москву, что ситуация становится крайне сложной, непредсказуемой. Толпы горожан громили отделения Венгерской Партии Труда, врывались в отделы госбезопасности. Венгерские войска взяли сторону митингующих, в руки восставших попало оружие.
Дело не кончилось вышибанием дверей, разбиванием окон, погромами кабинетов и грубыми угрозами. Озверевшая толпа стала отлавливать коммунистических вожаков, нещадно бить их, некоторых избитых до полусмерти длинными ржавыми гвоздями прибивали к деревянному полу их же собственных кабинетов, засовывая в искалеченные руки портреты Маркса, Ленина и Сталина. Истекая кровью, мученической смертью умирали люди. Государственные органы были разогнаны. Множество чиновников переметнулось на сторону оппозиции. В Советское посольство была направлена нота, в которой Венгерское правительство уведомляло, что Венгрия выходит из Варшавского договора, одновременно премьер-министр обратился в Организацию Объединенных Наций с просьбой признать Венгрию нейтральным государством. Советские войска, дислоцированные вблизи Будапешта, не были задействованы в конфликте. В советских военных гарнизонах укрылось множество венгерских коммунистических руководителей с семьями, туда же последовали семьи работников Советского посольства.
Восстание разворачивалось, скоро оно перекинулось на соседние города. Кругом царил хаос, прервалось железнодорожное сообщение, прекратили работу аэропорты, закрылись школы, магазины. Повстанцы чинили самосуд, сопровождавшийся массовыми убийствами коммунистов, работников Управления государственной безопасности и Министерства внутренних дел. Жертвами, только убитыми, стали около восьмисот человек, начались массовые еврейские погромы. Советское посольство было обстреляно, к счастью, никто не пострадал.
Президиум ЦК заседал с утра до ночи, вопрос стоял остро — что делать с Венгрией? Как себя вести? Микоян надеялся, что с Надем как-то можно договориться, но Хрущев, Каганович и Молотов назвали действия венгров контрреволюцией.
— Восстание — это взрыв накопившегося в людях недовольства политикой Ракоши, ошибками прошлого, — высказался Шепилов.
— Ракоши идиот, он довел! — поддержал Маленков. — Герё хвалился девятьюстами тысячами членов партии. И вот от этих девятисот тысяч ничего нет, компартия развалилась!
— Герё избрали Генеральным Секретарем, а он уехал отдыхать в Крым! — негодовал Хрущев.
— Вчера Ракоши приходил и говорил, что охотно поможет в Пеште, — сказал Молотов.
После своей отставки бывший венгерский руководитель постоянно проживал в Москве.
— Пусть едет, — кисло усмехнулся Никита Сергеевич, — народ его на веревке вздернет, сначала его, а потом Герё.
— Попробуем успокоить горячие головы, — смягчал напор Микоян. — Может, не все потеряно.
— Предлагаешь переговоры? С кем, с предателями? С выродками?! — кричал Каганович. — Доминдальничались, хватит! Венгры первые пролили кровь!
— Они будут сражаться и против наших солдат! — предостерег Микоян.
— Зубы сломают! Ввести войска! — ревел Каганович.
— Надо проинформировать руководство стран народной демократии. Если мы введем танки, ведь как могут расценить — и с нами так может быть! Могут затаиться. А это ни к чему. Страны народной демократии должны военные действия поддержать, — закончил мысль Микоян.
— Прав Анастас Иванович! — кивнул Хрущев. — Социалистический лагерь должен быть по сути един, а не на бумаге. Руководству СССР нельзя себя дискредитировать, ведь найдутся люди, и их найдется немало, которые эту историю истолкуют по-своему: пока у власти был Сталин, скажут, все сидели тихо, не рыпались, а теперь, когда у руля, я извиняюсь, «мудозвоны», все прахом пошло, и вот вам пожалуйста — первое поражение, потеря Венгрии. И еще добавят, что эти «мудозвоны» болтают об осуждении Сталина!
— Кто мудозвон?! — злобно спросил Молотов.
— Я, Вячеслав Михайлович, образно говорю. Если мы допустим потерю Венгрии, веры нам у народа не будет. Наша армия первая упрекнет нас за нерешительность! Сегодня на повестке стоит вопрос целостности социалистического мира!
После обмена мнениями решили ввести в курс дела лидеров социалистических государств, заручиться их одобрением на военное вмешательство.
— Не поддержат! — сомневался Шепилов.
— Еще как поддержат, без нас их на первом суку вздернут! — прогудел Каганович.
— Не сбрасывайте со счетов мирный путь урегулирования, — отстаивал свою позицию Микоян. — Я бы отпустил из тюрьмы кардинала Миндсенти. Может быть, он, как священник, успокоит горячие головы.
— Выпустить можно, — согласился Маленков. — Надь ведет антисоветскую линию, может, кардинал его притормозит. Следует срочно отправить к Надю представителей, я думаю, тебя, Анастас Иванович, и Брежнева. Постарайтесь убедить его не совершать поспешных шагов.
— Может, обойдется? — вздохнул Булганин.
— С правовой точки зрения правительство Имре Надя нелегитимно и конституционными органами не утверждено, да и программа его антиконституционная, — снова заговорил Георгий Максимилианович. — Мы вправе это правительство не признавать, а сформировать свое.
— Безболезненно сделать это не получится, — заметил Брежнев.
— Применим силу! — гаркнул Хрущев. По его мнению, агрессивное давление Англии и Франции на Египет создавало благоприятную обстановку для использования силы в Венгрии. — Понятно, что на Западе и в ООН пойдет много суеты и шума, но все притихнут, как только Великобритания, Франция и Израиль начнут войну против Египта. Они сели в калошу там, мы сядем здесь!
— Венгры не вправе пересматривать итоги Второй Мировой войны, нарушать условия Ялтинской и Потсдамской конференций! — грозно заявил Молотов.
— Не имеют права! — поддакнула Фурцева.
— Как отреагируют на нашу мягкость в Венгрии? — задал вопрос Суслов.
— Могут расценить как слабость, — определил Ворошилов.
— Надо воевать, дать по рогам! — не удержался Жуков. — Мягкими ладонями мир не удержим. Это и американцев отрезвит!
— День-другой у нас в запасе есть, — проговорил Хрущев.
— Нет у нас ни дня, ни полдня! — отмахнулся маршал. — Танки уже моторы греют, дадим приказ — и они в Будапеште! Бронетехника на марше за три часа в Венгрию приедет.
— И я за удар! — поддержал Ворошилов.
— По боевой тревоге поднят особый корпус советских войск в Венгрии в составе двух механизированных дивизий; стрелковый корпус Прикарпатского военного округа, в составе одной стрелковой и одной механизированной дивизии; одна механизированная дивизия отдельной механизированной армии, дислоцирующейся в Румынии, вблизи румыно-венгерской границы. Всего по боевой тревоге подняты 31 тысяча солдат, 1130 танков, 380 бронетранспортеров, 159 истребителей и 122 бомбардировщика. Войскам поставлены задачи: войти в Будапешт, захватить важнейшие объекты города и восстановить в нем порядок, частью сил прикрыться со стороны австро-венгерской границы. Стрелковому корпусу Прикарпатского военного округа войти на территорию Венгрии и занять крупные административные центры в восточной части страны — Дебрецен, Ясберень и Сольнок; механизированной дивизии войти в южную часть Венгрии и занять города Сегед и Кечкемет.
— Ты, Георгий, лошадей не гони! — удержал маршала Булганин. — Основополагающий вопрос: кто возглавит венгерское правительство? Там нужен надежный человек.
— Я бы рекомендовал Ференца Мюнниха, бывшего венгерского посла в Москве, — предложил Никита Сергеевич.
— Есть еще Янош Кадар, — подсказал Микоян.
— Мюнних — старый коммунист, я знаю его более двадцати лет. В тридцатых годах, будучи в армии, я оказался вместе с ним на двухмесячных сборах. Жили в одной палатке. Он вполне подходящий.
— Новое правительство должно решительно осудить прошлое и открыто высказать правду о Ракоши и Герё. Выступить в защиту основных достижений социализма! — указал Молотов.
— Надо на весь мир сказать про зверства в Венгрии, там режут и стреляют людей! Надо дать материалы в печать, — предложила Фурцева.
— Сейчас главное осадить Надя, убедить его не горячиться, — высказался Николай Александрович.
Микоян и Брежнев спешно отправились в Будапешт. Молотов, Хрущев, Маленков, Булганин и Ворошилов готовились секретно, чтобы не показать слабость, выехать в Брест для переговоров с поляками, потом лететь в Софию, Бухарест и, конечно, увидеться с Иосипом Броз Тито, чей авторитет в Европе был, бесспорно, самым высоким. Из Пекина в Москву вылетела китайская делегация с Лю Шаоци и Чжоу Эньлаем. Мао Цзэдун в телефонном разговоре всей душой поддержал введение войск в охваченную беспорядками Венгрию, спешащие в СССР китайцы должны были призвать Советское руководство к незамедлительным военным действиям.
Известия о смертоубийстве в Будапеште Екатерина Алексеевна слушала с содроганием. В советское посольство стреляли, с соседних домов сбрасывали закрепленные на крышах красные звезды, герб труда — «Серп и молот» рухнул с крыши венгерского Министерства сельского хозяйства, сотнями гибли люди, озверевшие толпы крушили все, что было связано с социализмом, с Москвой.
«Хорошо, что мой Коленька не в Венгрии! Скорей бы все закончилось, ведь вместо нерадивого посла Андропова его могут заслать в Будапешт!» — содрогалась женщина.
Вчера она три раза звонила Николаю Павловичу. Он был холоден, знал, что телефон прослушивается, не допускал в разговоре фамильярности, ласки, но она все-таки не удержалась, и напоследок произнесла: «Люблю!» Не могла Екатерина Алексеевна допустить, чтобы с ним, милым, родным человеком, произошла беда.
Утром 28 октября восставшими было захвачено здание Будапештского городского комитета Венгерской Партии Труда, двадцать коммунистов, оказавшихся в его стенах, схватили и повесили прямо перед центральным входом, прикрутив веревки-виселицы к вековым раскидистым липам. Второму секретарю горкома перед тем, как казнить, выкололи глаза. Обезображенное лицо с прикушенным языком жутко смотрелось на солнце, которое, как специально, появилось из-за туч. Рядом с искалеченным трупом скоро появился другой. Это был начальник одного из отделов республиканской госбезопасности, его убили прикладом ружья и вырезали на спине пятиконечную звезду, а бездыханное тело, опутав колючей проволокой, накрепко привязали к тому же стволу. Из страшной раны на спине упрямо сочилась кровь.
Повстанцы радовались победе, что-то дикое, животное появилось в их еще вчера человеческих взглядах. Увешанные патронташами, они, словно члены преступной шайки, потрясали оружием, по-разбойничьи кричали, бессмысленно стреляли в воздух, и не находилось на них никакой управы. Для либерализации обстановки из заключения выпустили кардинала Миндсенти, который вместо того чтобы помогать восстанавливать порядок, удерживать озверевшую толпу, сразу же включился в битву за освобождение Родины. Он яростно обличал коммунистов и не только не сдерживал свою паству от смертоубийства, а наоборот, поощрял ее. Призывы идти мстить, не жалеть прихвостней Москвы раздавались с церковной кафедры. Заговорили про Господне возмездие, кто-то припоминал пророческие предсказания Нострадамуса, появилось много подобных кардиналу ретивых мстителей — повсюду лилась кровь. Речи религиозного экзарха пересказывали, переиначивали, перевирали, но смысл голосов был один — у-би-вать! Имре Надь пытался увещевать, стремился прекратить смертоносный разгул, мстители слушались, но вскоре снова отыскивались виновные, и снова ружья, веревки и руки вершили свое страшное дело: выкалывали глаза, кастрировали, ломали суставы, убивали.
Екатерина Алексеевна содрогалась, ночью ей мерещились тошнотворные картины, страшные люди: «Как там Коленька, ничего бы с ним не произошло!» А посол Фирюбин в срочном порядке организовывал встречу высших советских руководителей с Иосипом Броз Тито. С президентом Югославии у Фирюбина сложились наилучшие отношения. Во время июльской поездки Тито в СССР он тридцать дней сопровождал югославского маршала. На корабле «Максим Горький» с обстоятельными остановками, они прошли по Волге от Нижнего до Астрахани, а под конец три дня охотились в Завидово.
30 октября, вторник
Все эти дни Леля мучилась — сказать или не сказать Сереже о звонке хама Прохина? Как Сережа отреагирует — разозлится? Наверняка разозлится, и еще непонятно, чем все закончится.
«Ничего хорошего точно не будет! Еще обидится на меня, будет во всем подозревать. Если б мне такое сказали, я бы жутко разозлилась! Нет, не буду говорить, — решила Леля. — Хотя на Сашку я бы краем глаза посмотрела, небось, уже знает, что я Сережина невеста!» — она сделала злорадное лицо.
Оскорбленная предательством девушка носила обиду на обворожительного ловеласа Александра и на лживую Ладку, но теперь, после злополучного звонка, успокоилась: «Бог с ними, как-нибудь без них проживу!» — и первый раз за все это время легла в кровать и моментально заснула.
31 октября, 1, 2, 3 ноября, среда — суббота
В ночь с 29 на 30 октября стотысячная израильская армия, по различным слухам имеющая до 600 танков, напала на Египет. Не возымело действие послание председателя Совета министров СССР Булганина ни на премьера Англии Энтони Идена, ни на французского председателя правительства Ги Молле, в котором Советский Союз предостерегал от участия в военных действиях. Булганин предупреждал, что Советский Союз не останется в стороне, предрекал, что война не только нарушит судоходство по Суэцкому каналу, а поставит под угрозу нефтяные промыслы, создаст много различных проблем. «Хорошо известно из истории, что малые войны часто перерастают в большие, со всеми вытекающими трагическими последствиями для государств и народов!» — в своем послании указывал Николай Александрович Булганин. Аналогичное послание было направлено в адрес президента Соединенных Штатов Америки, чтобы тот предостерег поспешных друзей. В Суэцком конфликте США по-прежнему занимали нейтральную позицию.
Председателя Советского правительства не услышали. Никто из прежних владельцев концессии не хотел отказываться от Суэцкого канала. Однако и президент Насер, хотя СССР на протяжении длительного времени оказывал Египту немалую военную и политическую помощь, не спешил слепо подчиняться, пытаясь действовать самостоятельно. Нежелание Египта предпринимать совместные с СССР шаги еще более усложнило ситуацию. После вторжения израильтян Египет оказался в критическом положении, президент Египта молил о помощи.
Хрущев был чернее тучи. Война на Ближнем Востоке его не воодушевляла, к тому же и события в Венгрии разворачивались не лучшим образом. Вернувшиеся из поездки в Будапешт Микоян и Брежнев так обрисовали ситуацию: Имре Надь, ставший руководителем Венгерского правительства, целиком ориентирован на Запад, представляет свое правительство как истинно демократическое, на уступки и компромиссы с СССР идти не намерен, на первый план выдвигает мнение ООН, англичан и американцев: в стране творится беспредел. Посланцы ЦК сами видели погромы в городе. Так, с помощью кувалды и пистолета, венгры освобождались от просоветского руководства. На улицу выбрасывались не только его представители, но и партбилеты, партархивы, знамена. Представители ЦК долго общались с послом Андроповым, который познакомил их с Яношем Кадаром, коммунистом, ранее возглавлявшим ЦК Венгерской Компартии, а впоследствии занимавшим пост министра внутренних дел. В 1951 году по ложному обвинению Кадар был арестован и приговорен к пожизненному заключению. В начале прошлого месяца он был освобожден из тюрьмы и возглавил один из столичных райкомов компартии. Надь намечал оставить его Генеральным Секретарем Венгерской Партии Труда, но уверенности, что такая партия в государстве сохранится, не было. После появления на политической арене Надя, Кадар стал одним из немногих, кто находил с ним общий язык. Не оставляя компартию, Кадар при этом пользовался поддержкой Надя, для которого осуществлял связь с Советским посольством и командованием советскими войсками, дислоцированными в Венгрии. В каждом государстве народной демократии располагался значительный контингент Вооруженных Сил СССР. Советское военное присутствие являлось в соцстранах безоговорочным.
В целях прекращения кровопролития советские танки вышли на улицы Будапешта, оппозиция затаилась, не предпринимая резких выпадов. Повешенных и истерзанных жертв переворота снимали с веревок, отдирали от деревянных полов тронутые зловонным разложением трупы коммунистов. Изувеченные останки людей советские военнослужащие отдавали несчастным семьям, а не обнаружив родственников, везли хоронить. Ни та, ни другая стороны не применяли оружия, ведь бронированный танк — это не беззащитный человек, это могучая машина с пушкой и пулеметом. После появления на улицах танков Надь отдал распоряжение арестовать Кадара, но к счастью, он был уже далеко — спешил в Советский Союз. Брежнев убедил Кадара лететь в Москву.
— Почему Кадар? — с сомнением проговорил Хрущев.
— Мюнних при Ракоши находился на ответственной государственной должности, был послом в Москве, Кадар же сидел в тюрьме. В глазах любого венгра это будет решающим аргументом в его пользу. Мюнних может быть там вторым человеком.
Хрущев признал правоту доводов, встретился с Кадаром и более трех часов говорил, а после представил членам Президиума ЦК как кандидата на пост руководителя Венгерской Партии Труда и председателя Совета министров.
— С хунтой надо кончать! — резко высказался Молотов. — Непростительный либерализм, смотрите, что происходит! — и он рассыпал на столе фотографии замученных насмерть людей.
— Все наши усилия найти компромисс ни к чему не привели, — доложил Микоян.
— Надо подавить фашистский мятеж! — яростно вступил Каганович.
Президиум принял решение создать «революционное рабоче-крестьянское правительство» во главе с Яношем Кадаром.
Войска, вступившие в Будапешт, бездействовали. Кадар попросил Президиум Центрального Комитета отвести военные части в места их дислокации, чтобы предпринять последнюю попытку договориться с Надем.
— Бессмысленность! — раздраженно проговорил Молотов. — Если мы дадим в Венгрии слабинку, и Египет не удержать!
— Не сегодня-завтра французы и англичане вступят в войну, — имея в виду египетскую картину, заявил Жуков.
— Наш министр иностранных дел должен в категорической форме дать оценку действиям западных стран в районе Суэцкого канала! — взорвался Никита Сергеевич. — Надо говорить, что мы готовы оказать Насеру любую военную помощь, не исключая ракетные удары! Вы со мной согласны, товарищ Булганин?
Председатель Совета министров послушно закивал.
— Хорошо бы незаметно отправить в Египет наши войска, — продолжал Хрущев.
— Как это незаметно? — сощурился Каганович.
— На гражданском корабле, вроде туристическая поездка к местам древней истории. Переоденем солдат в гражданское, чтобы, пока будут плыть, они по палубе в костюмах разгуливали, дадим шляпы, фотоаппараты, замаскируем. А приедут — винтовки в руки, и вперед! В хороший пароход несколько тысяч человек загрузить можно, основная часть, конечно, в трюме сидеть будет. Так незаметно в Африку попадем.
— Мысль оригинальная! — одобрил Молотов.
— Только торопиться надо, плыть-то — не ближний свет! Египтяне потом сторицей воздадут! — доказывал Никита Сергеевич.
Возвратившись из Москвы, невзирая на возможность оказаться арестованным, Янош Кадар встретился с премьером Надем, пытаясь убедить его начать с Москвой диалог. После этой непростой беседы Кадар приехал к советскому послу Андропову и вторично обратился с настоятельной просьбой удалить из города танки, сказав, что наметились позитивные сдвиги в позиции председателя Венгерского правительства. Андропов проинформировал Москву, и вечером 2 ноября, маршал Конев получил приказ отвести войска, бронетехника покинула город.
Венгры праздновали победу, ненавистные русские уходили, на улицах развевались трехцветные флаги республики. Но спокойствие не оказалось надежным, шаткое равновесие продлилось не долго, не прошло и полдня, как опять прозвучали гулкие выстрелы, снова кого-то схватили и, награждая ударами прикладов и, к несчастью, штыков, поволокли на расправу, снова стали разыскивать среди горожан прежних начальников и работников спецслужб, снова били евреев. На обращение к западным странам и в Организацию Объединенных Наций Имре Надь получил абсолютную поддержку и теперь уверенно рассчитывал на международную помощь. У Кадара с каждым часом уменьшались шансы взять власть, его могли уже не просто арестовать, а убить, ведь многие расценивали поездку Кадара в Москву как предательство. Находиться под защитой стен Советского посольства стало небезопасно — танки ушли, кто его защитит?
4 ноября, воскресенье
Ранним утром 4 ноября Жуков отдал приказ подавить венгерский мятеж. И со всех сторон, лязгая гусеницами, выдвинулись вперед бронемашины, на грузовиках ехали солдаты, и дула их автоматов грозно смотрели по сторонам.
И выстрелы грянули, и пролилась кровь.
Хотя в восстании приняло участие 50 тысяч человек, понадобился всего день, чтобы навести порядок. Действовали быстро, жестоко. Тридцать тысяч советских солдат при поддержке двадцати пяти тысяч венгерских рабочих, сформированных в дружины Венгерской Партии Труда, которую пополнили работники венгерской госбезопасности — чуть более полутора тысяч человек, озлобленные, чудом уцелевшие и теперь мстящие за свой панический страх, за бесчеловечно убитых товарищей, — безжалостно наводили порядок. Любое сопротивление подавлялось оружием. Народ в панике разбегался. Не осталось уголка, куда бы не пришел советский солдат. В Будапеште ввели комендантский час, и город захватила тишина. Вечером Жуков доложил Президиуму Центрального Комитета, что в Венгрии восстановлен конституционный порядок, правительство Яноша Кадара приступило к работе.
5 ноября, понедельник
Как ответ на вторжение в Венгрию, ранним утром французской и английской авиацией началась бомбардировка города Порт-Саида, с моря к материку уже приближался англо-французский десант. Отбомбив Порт-Саид, самолеты вернулись на базы, приняли на борт новые порции бомб и полетели бомбить Суэц, Исмаилию, Александрию, Каир. Англия и Франция открыто вступили в войну. В этот же день председатель Советского правительства отправил повторные послания в адрес англичан, французов и израильтян, где в ультимативной форме предупреждал их об опасных последствиях начатой против Египта агрессии.
«Вопрос о Суэцком канале является только предлогом для англо-французского вторжения, имеющего далеко идущие цели, — говорил Булганин. — Сейчас развертывается агрессивная, разбойничья война против арабских народов в целях ликвидации национальной независимости государств Ближнего и Среднего Востока и восстановления отвергнутого народами колониального рабства!»
Председатель Совета министров недвусмысленно заявил о грядущем возмездии, не исключающем применение ядерного оружия. Он просил Идена и Ги Молле внять голосу разума, остановить войну в Египте, чтобы не дать ей перекинуться на другие страны и привести к мировой катастрофе. Одновременно Советский Союз обратился в ООН, а также к президенту США с предложением использовать вместе с другими членами ООН военно-морские и военно-воздушные силы для прекращения военных действий. В случае отказа «мы полны решимости применением силы сокрушить агрессоров и восстановить мир!» — говорилось в заявлении СССР.
В периодической печати появились многочисленные заявления летчиков, танкистов, артиллеристов с пожеланиями отправиться в Египет добровольцами. Советская пресса со ссылкой на правительственные источники комментировала, что Советский Союз не будет чинить препятствий в выезде граждан-добровольцев в Египет. На Западе припомнили участие СССР в «интернациональной» помощи испанским коммунистам, когда Советский Союз под предлогом выполнения интернационального долга активно включился в войну. Маршал Жуков представил Президиуму Центрального Комитета план атомного удара по Франции и Англии, военно-морские силы СССР были приведены в боевую готовность. На секретных аэродромах дальней авиации шла подготовка стратегических бомбардировщиков к вылету. Отдали приказ доставить к самолетам атомные бомбы. Военкоматы готовили всеобщую мобилизацию. К берегам Африки спешили «экскурсионные корабли» с восемнадцатью тысячами замаскированных под туристов солдат.
Хрущев абсолютно поддержал Молотова в решении стоять за Египет до конца. События в Венгрии, когда советские войска за считанные часы установили во взбунтовавшемся государстве порядок, доказывали эффективность силового решения.
— Применим ядерное оружие! — угрожал Молотов.
Против ядерного удара в категорической форме высказались Микоян и Маленков, они считали это недопустимым, ведь непосредственно Советскому Союзу никто не угрожал, они считали, что на Ближнем Востоке можно обойтись обычными вооружениями. Их доводы отрезвляюще подействовали на Хрущева.
— Будем держать атомную бомбу про запас, — согласился он. Хрущев не решался воевать всерьез, хотел лишь погрозить кулаком, напугать. Любая война слепа и коварна, а атомная? Атомная война перевернет мир.
После долгих споров от атомной атаки отказались. К вечеру пришла информация, что американцы потребовали от своих союзников прекратить агрессию. Члены Президиума пожимали друг другу руки — удержали Египет!
— Англичанам и французам показали кулак! — ликовал Никита Сергеевич. — Тем не менее, надо отправить к берегам Красного моря наши военные корабли.
И тут пришло сообщение из Будапешта — венгры объявили о всеобщей забастовке.
— И там хватит цацкаться! — прокричал Хрущев. — Виновные должны сполна ответить за преступления!
— И другим это послужит наукой! — монотонно выговорил Молотов.
Чудовищные аресты захлестнули венгерские города, хватали всех без разбора.
— Забастовку хотели? Будет вам забастовка!
Для наведения порядка Жуков и Серов прибыли в Будапешт.
Искали кардинала-подстрекателя Миндсенти, его хотели публично казнить, но он укрылся в посольстве Соединенных Штатов.
6 ноября, вторник
Газеты пестрели заголовками «Фашистский мятеж в Венгрии!», «Фашисты — палачи венгерского народа!» Страшные фотографии глядели со страниц. Сергей приехал к Леле, они собирались на выставку живописи в выставочный зал Союза художников на Кузнецком мосту. Леля усадила Сережу на диван, она еще прихорашивалась перед зеркалом. Сергей взял в руки газету «Известия», которая оказалась перед ним на столике.
С первой страницы невидящими глазами смотрел изувеченный человек. Несчастного облили соляной кислотой и повесили. Исковерканная кожа лица сплошь состояла из струпьев, вместо глаз язвы.
— Ужасно! — потрясенный Сергей отшвырнул газету.
Леля подняла газету:
— Зачем они такое делают, почему мучают людей? Как такое может твориться в наше время?
Юноша обнял любимую за плечи.
— Враги! — прошептал он.
— Да, враги! — содрогнулась девушка.
В газете «Труд» был не менее отвратительный снимок: там человек был подвешен за ноги и, видно, нещадно избит.
— За что они так? Они звери!
— Звери! — подтвердил молодой человек. — Венгры были наши друзья, отец говорил, мы им последнее отдавали, а получается — не друзья, получается, затаились, чтобы исподтишка бить. Дождались подходящего момента.
— А здесь! — теперь Леля читала передовицу «Комсомолки», где описывалось, как обливали бензином людей и поджигали, как били ногами, колотили палками еврейских женщин, коммунистам выкалывали глаза, вырезали на теле пятиконечные звезды.
Леля выронила газету и заплакала.
— Разве так можно, разве можно? — всхлипывала она. — Когда меня маленькой вывезли из Испании, меня спасли! Меня бы тоже убили, растерзали, мой папа был коммунист! — из ее больших глаз катились горькие слезы.
Сергей, как мог, успокаивал:
— Ну, что ты, что ты! Успокойся, все будет хорошо!
— Теперь у меня новые родители, новые папа и мама. Я очень люблю их, очень! — всхлипывала испанка. — Я им благодарна, они меня приютили. Они мои любимые, но они не родные, а родные, первые, папа и мама, — Лелю душили слезы, — их больше нет на земле, их тоже растерзали! Я не знаю, что с ними! Как мне их жаль! Папочка, милый, мамочка! Мои лю-би-мы-е! Я сирота, сирота!
— Ты не сирота, ты — моя! — подсаживаясь ближе и целуя ей руку, выговорил Сергей. — Я тебя люблю!
Они обнялись, он отыскал губами ее губы, приник поцелуем.
7 ноября, среда
День праздника Революции 7 ноября начался с хороших новостей: вчера вечером Англия, а сегодня и Франция объявили о приостановлении военных действий против Египта. Парад на Красной площади и демонстрация трудящихся прошли гладко. По предложению Фурцевой посольства Англии, Франции и Израиля в Москве пикетировали толпы народа. Люди выкрикивали в адрес англичан, французов и израильтян ругательства, размахивали транспарантами с обличающими надписями. Особо не стесняясь, к посольствам подвозили пузырьки с чернилами, которыми возмущенные военными действиями против дружественного египетского народа манифестанты закидывали здания посольств. Коренастый, стриженный ежиком паренек без шапки гордился, что все его одиннадцать пузырьков-снарядов без промаха угодили в окно второго этажа английского посольства.
Искалеченные бомбардировками окна дипломатических миссий напоминали входы в логова чудовищ. Фасады зданий были нещадно залиты чернилами. Не каждый метатель попадал точно в цель, многие мазали, зачастую чернильница летела по непредсказуемой траектории, разбивалась о стену выше или ниже, врезалась в обложенный известняком некогда парадный цоколь здания или безнадежно падала в кусты. Бить старались по окнам, именно на них был сосредоточен удар. В азарте кто-то метнул чернильницу во входную дверь, угодив в массивную бронзовую ручку, но начальственный голос сделал замечание: «Туда не кидай, не положено! Цель по окнам!» К вечеру окна стали настолько страшны черно-фиолетовой мрачностью, что глядя на них, делалось жутковато. Периодически появлялась милиция, как бы между прочим делала митингующим замечания, при милиции старшие останавливали бросание чернильниц. При появлении патруля пузырьки пытались прятать, но когда стражи порядка уходили, а уходили они всегда достаточно скоро, огонь открывался вновь. Через каждые два часа автобусы привозили новых пикетчиков и забирали старых, тут же, у автобусов, участников манифестации кормили горячим обедом, а они хвастались друг перед другом своим прицельным огнем. А в Венгрии тем временем шли массовые аресты. Задержанных уже негде было размещать, цифра арестованных перевалила за 25 тысяч человек, 15 тысячам уже предъявили обвинение. Из страны началось массовое бегство, в приграничных районах многих тоже задерживали и предъявляли обвинение в незаконном переходе границы.
Президент Соединённых Штатов Эйзенхауэр, только-только избранный на второй срок, выражал недоумение, что Англия и Франция не согласовали с ним свои действия. США внесли в Совет Безопасности, а потом и на Генеральную Ассамблею ООН резолюцию, осуждающую нападение на Египет. Государственный секретарь Даллес и его заместитель Мэрфи в беседе с послами Англии и Франции выразили недовольство тем, что они показали «плохой пример», спровоцировав подавление советскими войсками народного восстания в Венгрии.
8 ноября, четверг
— Нюр, это правда? — выпучив на подругу глаза, спросила Лида.
— Что правда?
— Тебя на Старую площадь забирают?
— Правда. Вчера Петр Нилыч, помощник Никиты Сергеевича, меня потребовал, сказал, чтоб в кадры бежала, принимала цековский буфет.
— Так ты и в кадрах была?
— Была. Переводом переводят. С понедельника.
— А как же я?! — почти заскулила подавальщица.
— Я про тебя сразу Демичеву сказала, а он — нет! Говорит, Фурцева не пускает.
— Эх, подружка! — обнимая буфетчицу, запричитала Лида. — Сколько вместе отработали, а теперь расстаемся!
— И я, Лидушка, не хочу никуда идти! Что у них в ЦК, своих Нюр нет?
— Ничего нельзя сделать?
— Вопрос, сказали, решенный.
9 ноября, пятница
Янош Кадар занял главный кабинет в Доме Правительства, им были назначены министры, временно он принял на себя руководство венгерскими Вооруженными Силами, нужно было заново формировать командование. Бывший министр обороны, начальник Генерального штаба и еще ряд высокопоставленных генералов, поддержавшие Надя, прибыв на переговоры с советскими представителями, были арестованы. Сам Имре Надь, а с ним: известный публицист Миклош Гимеш, Санто Золтан, другие члены низвергнутого правительства, их семьи, всего 43 человека, укрылись на территории Югославского посольства. Случайно, а может, по чьему-то негласному распоряжению по посольству было произведено несколько выстрелов из танка. Один из югославских дипломатов погиб. Стрельбу остановили, принесли послу глубочайшие извинения. Настаивая на охране дипломатической миссии, и чтобы впредь не произошло подобного инцидента, посольство оцепили спецподразделения Комитета государственной безопасности и приданные им войсковые части, полностью изолировав здание от окружающего мира.
Посольство Югославии было выбрано беглецами не случайно. Посетив Тито, Хрущев и Маленков просили его выступить посредником, убедить Надя добровольно уйти в отставку. Такие переговоры со стороны Броз Тито были начаты. Но ситуация стремительно менялась: если неделю назад СССР готов был простить Надя, что, собственно, советские лидеры и обещали югославскому президенту, то после заявлений, где венгерский премьер обвинял Советский Союз в прямой агрессии, прощать его уже никто не собирался; теперь требовалось любой ценой выманить Надя из укрытия и предать суду.
— Как их в посольстве тронуть, Тито рассвирепеет! — всплеснул руками Хрущев.
— Мы железно обещали, что никаких провокаций против Югославского посольства не будет, а в то же время кровь из носу надо преступников заполучить, как-то выманить их! — высказался Маленков.
Эти дни Президиум ЦК собирался чуть ли не каждый день.
— Надь в капкане, не улизнет! — констатировал Каганович. — Я рад, что социалистическая Венгрия цела!
— Цела! — поддакнул Брежнев. — Товарищ Кадар человек решительный, он контрреволюции не допустит.
Маленков высокомерно посмотрел на Брежнева: «Без году неделя в Президиуме, а уже советы дает!»
— Надо их из посольства выкуривать! Прощение обещать, — качал головой Ворошилов.
— Нельзя прощать, невозможно! — отрезал Молотов.
— Тито предлагает вывезти Надя к нему, — Накануне Шепилов разговаривал с югославским послом и сказал, что советская общественность негодует, почему в югославском дипломатическом представительстве получили пристанище перерожденцы и пособники контрреволюции? Посол же передал Москве просьбу Тито — отправить бунтарей в Югославию.
— Никуда их отправлять нельзя! Если отпустим, с Кадаром никто разговаривать не станет! — кипел Молотов.
— Как-то выкрутимся! — тер виски Микоян.
12 ноября, понедельник
У Рады начались преждевременные роды.
— Скорее в больницу! — закричала Нина Петровна. — Ты как, моя миленькая?! — обнимала дочь взволнованная мать.
— Не знаю!
— Держись, родимая, держись! Сейчас в роддом поедем!
Роженицу осторожно вывели на крыльцо, у которого стоял дежурный автомобиль, усадили. Нина Петровна села рядом, Букин — впереди.
— Гони на Веснина! — скомандовал он водителю.
«ЗИМ» тронулся.
— По пути городской роддом будет, — сообщил Андрей Иванович. — Может, туда?
— Посмотрим! — Нина Петровна с беспокойством поглядывала на дочь, как же она, мать, родное дитя упустила? — Молю, чтобы обошлось! — шептала она.
Раду планировали положить в родильный дом на следующей неделе, с запасом в семь дней, а тут — такое! Не могли же врачи ошибиться со сроками?
— Езжайте быстрей! — торопила Нина Петровна. — Доедем, доедем, родненькая, потерпи!
— Разрывает на части! — со страданием в голосе отвечала дочь.
Перед выездом Нина Петровна набрала спецбольницу, сообщила, что у Рады начались схватки. От Веснина навстречу хрущевской машине срочно выехала «Скорая помощь» с бригадой опытных акушеров — а вдруг рожать придется в дороге? В «Кремлевке» всполошились не на шутку, да что там в «Кремлевке» — в Министерстве здравоохранения запаниковали. Узнав о преждевременных родах, и что рядом с роженицей нет врачей, министр здравоохранения Мария Дмитриевна Ковригина точно взбесилась. Никогда от нее не слышали мата, а тут через слово она сыпала ругательствами, в первую очередь грозила главному акушеру Лечсанупра. Перестраховываясь, министр распорядилась готовить бокс в роддоме № 12, который находился в Филях, по пути следования хрущевской машины. Туда спешила вторая бригада из кремлевского роддома. Ковригина сама запрыгнула в машину, но не могла объяснить водителю, в какую сторону ехать — то ли гнать в Фили, то ли на Веснина, а может — навстречу автомобилю Нины Петровны. На лбу министра выступил пот.
Перед хрущевской машиной, неистово сигналя и моргая фарами, чтобы освободить дорогу, неслась букинская «Победа».
«Как я могла разрешить дочери приехать в Огарево?!» — корила себя Нина Петровна, трогательно гладя Радочкину руку.
Дочь смертельно побледнела и, уже не стесняясь Андрея Ивановича, вскрикивала.
В хвост «ЗИМа» пристроился удлиненный «ЗИС» спецбольницы. Нина Петровна чуть успокоилась — врачи были рядом.
От Огарева до Веснина домчали быстро. Как только беременная ступила на землю, схватки усилились, женщину на каталке доставили в родильное отделение. Министр здравоохранения подала разнервничавшейся Нине Петровне мензурку с валерьяновым настоем, от перевозбуждения у нее самой случилась аритмия.
— Теперь все будет хорошо! — утешала Ковригина, держась за сердце, хотя роды предполагались тяжелые, предлежание плода было неправильное.
Врачи решили не рисковать и сделали Раде Никитичне кесарево, в подобных случаях кесарить — всегда лучше.
Приняв здорового ребенка, который неистово закричал, главный акушер профессор Снегирев во весь рот улыбался.
— Ишь, какой красавец! Риск нам был ни к чему. А парень, смотрите, богатырь!
Малыш опять огласил комнату криком.
— Я шовчики сделал аккуратненькие, ничего не попортил! — довольно говорил врач.
— Спасибо вам! — от материнского сердца, наконец, отлегло.
— Завтра бегать будет! — имея в виду роженицу, пообещал доктор.
Нина Петровна от радости прослезилась.
В сопровождении Микояна и Брежнева в коридоре появился Хрущев, он бегом припустил к жене. Анастас Иванович и Леонид Ильич предусмотрительно остались в начале коридора, а потом, в сопровождении главного врача, переместились в ординаторскую.
— Что?! — глядя на заплаканную жену, спрашивал Никита Сергеевич.
— Родили! — за Нину Петровну ответил румяный профессор. Он принимал у Рады и первенца. — Мальчик!
Никита Сергеевич опустился на банкетку рядом с женой.
— Мальчик! — повторил он.
— Я так переживала, сердце чуть из груди не выскочило, думала, не доедем!
— Все прошло хорошо! — стоя по «стойке смирно», отрапортовала министр здравоохранения.
— Идем смотреть? — потянул жену Хрущев.
— Не пущу! — став серьезным, заявил главный акушер. — Сейчас не время!
— А когда же? — словно собираясь расплакаться, вымолвила мать.
— Часика через три приходите, не раньше.
— Никуда мы не уйдем! — в один голос заявили бабушка и дедушка.
— Тогда пошли в мой кабинет, будем чаи гонять! — пригласил профессор Снегирев.
Поддерживая измученную супругу, Никита Сергеевич двинулся за доктором.
Рождение Лешеньки Хрущевы отметили лихо. Никита Сергеевич с Анастасом Микояном и Леонидом Брежневым уговорили литр «Столичной», Нина Петровна выпила полный бокал вина. Тосты говорили и короткие, и длинные, но до второй бутылки не дошли, Хрущев быстро захмелел и ушел спать. Алексей Иванович Аджубей объявился под конец застолья, когда глава семейства уже отдыхал, а Микоян с Брежневым собирались откланиваться. Правда, увидев Радиного мужа, задержались, чтобы с «отцом в квадрате» пропустить рюмку. Так как Никита Сергеевич спал, Нина Петровна без проволочек выставила на стол очередную бутылку.
13 ноября, вторник
Останавливаться на семейном праздновании Аджубей был не намерен. Он задумал отметить рождение второго сына торжественно, но узким кругом, в ресторане гостиницы «Метрополь». Безусловно, Алексей Иванович пригласил на праздник свою мать, она же и присоветовала «Метрополь». Уже много лет портниха обшивала требовательную жену интуристовского директора. Аджубей набрался смелости позвать на торжество своего главного начальника — первого секретаря ЦК комсомола Александра Николаевича Шелепина. Не стал исключением и его заместитель — Владимир Ефимович Семичастный. И конечно, не обошлось без закадычного школьного друга Жени Петрова.
Женька в этой представительной компании смотрелся белой вороной, на государственника, к коим теперь причислял себя Алексей Иванович, он мало смахивал, четыре года проработал корреспондентом газеты «Гудок», а потом его приметил железнодорожный министр Бещев, для которого требовалось писать всевозможные речи, и забрал к себе. Забавно было смотреть на полноватого, как медвежонок, Женьку, одетого в железнодорожную форму, ведь работникам Министерства путей сообщения предписывалось ее носить.
— Какой ты красивый, Женя! — всплеснула руками Нина Матвеевна. Жизнерадостный обаятельный парень не очень соответствовал величавому обществу руководителей комсомола, зато мама Леши была довольна, весь вечер так и проговорила с Женей.
— Поздравляем вас, Алексей Иванович! — поднял бокал вина Шелепин. В отличие от своего зама Семичастного он не признавал крепких напитков. — Рождение ребенка первостепенное событие, а второго — особенно!
— Не останавливайся на достигнутом! — широко улыбался Женя.
— Как себя чувствует Рада Никитична? — участливо спросил Владимир Ефимович.
Выпили за прекрасную мамулю, за новорожденного Лешеньку, за талантливого отца-журналиста, в обязательном порядке приподняли за Никиту Сергеевича, которому чего только не пожелали, и, разумеется, вспомнили о мудрой Нине Петровне.
Закусок и всевозможных яств на столе стояло неописуемое разнообразие.
— Здесь на роту хватит! — потянувшись за семушкой, отметил Владимир Ефимович.
Александр Николаевич Шелепин, поднявшись, обошел стол, остановился возле Нины Матвеевны и, взяв за руку, произнес трогательные слова в ее честь.
Мама Алексея Ивановича растрогалась: «Какие хорошие друзья у сына, как ему повезло!»
Для аджубеевского торжества директор ресторана предоставил обособленный, очень уютный зал на втором этаже. Обслуживали гостей два лучших официанта, и счет, который в конце застолья попросил Алексей Иванович, оказался на удивление скромен.
Чтобы не мешать уважаемым людям, на втором этаже больше никого не сажали.
— Чего это?! — недовольно переглядывались оставшиеся без чаевых официанты.
— Зять Хрущева ужинает! — разъяснил пожилой метрдотель.
15 ноября, четверг
Волны антисоветских компаний захлестнули мир.
«От Сталина отреклись на словах! Советское руководство действует сталинскими методами! Руки прочь от Венгрии!» — пестрели заголовки европейских газет.
— Погалдят и отстанут! — пробежав глазами обзор западной прессы, заявил Ворошилов. — Венгрия была наша и нашей останется!
— Горлопаны! — кивнул Молотов. — Зато товарищ Мао Цзэдун прислал в адрес Президиума ЦК поздравительную телеграмму, — довольно выговорил он.
Вячеслав Михайлович очень трепетно относился к Председателю Мао, в каждой своей речи обязательно упоминал китайского предводителя. Хрущева это раздражало: «Воображает себя не пойми кем!»
— Чего бы стоил Мао Цзэдун без России? — поддел Молотова Хрущев.
— Это ты зря! Товарищ Мао человек цельный, деятельный и непоколебимый. К тому же стоит на коммунистической основе.
— Известно, какая у него основа, — обиженно пропыхтел Хрущев. — Хуже Сталина распоясался! — но тут же согласился, что коммунистический Китай надежный и могучий союзник.
Бесило Хрущева другое — «Вэ Эм», так Молотова прозвали в МИДе, постоянно выставлял себя на передний план. А ведь внешнюю политику кто развалил? Он! Этими мыслями после Президиума Первый Секретарь поделился с Микояном.
— Не скажи! — не согласился Анастас Иванович. — Где-то он промазал, а где-то в лучшую сторону сдвинул.
— В какую лучшую?
— На Францию надавил, чтобы она войну во Вьетнаме, и в Камбодже, и в Лаосе заканчивала. Было такое?
— Было, — хмуро подтвердил Никита Сергеевич.
— Можно еще примеры привести.
— Промахов у Вячеслава больше, чем побед! — не успокаивался Хрущев.
— Вячеслав — коммунист.
— Больно много хочет!
— Не надо ни с кем ругаться, Никита, не время! — покачал головой Микоян.
17 ноября, суббота
За короткое время Янош Кадар сплотил вокруг себя ядро ярых коммунистов. Компартия набирала обороты, но доверия к ней в народе было недостаточно. Булганин и Хрущев на один день отправились в Будапешт. Никита Сергеевич хотел начистоту поговорить с венграми, объяснить, что они попали под действие империалистической хунты, хотел рассказать, на что готов Советский Союз для дружественного соседа, как здорово заживут люди. Булганин мало говорил, но всячески поддерживал Никиту Сергеевича.
Хрущев встретился с партактивом, пришел на митинг, организованный на площади рядом со зданием правительства. Людей сюда собрали с большим трудом, тащили почти что силой, но все-таки собрали полную площадь. Взяв слово, Хрущев кипел, грозил американцам, говорил про то, как поднялся на борьбу с империализмом Египет, кричал, что азиатские страны не сдаются Америке! Неожиданно вспомнил трагические события 1848 года, когда войска царя Николая I потопили в крови венгерских патриотов, поддержав австрийского императора.
— А мы прогнали поганого царя и всех его прихвостней!
Хрущев ругал по матери американцев, припомнил «сгнившего изнутри» кардинала Миндсенти. После митинга ринулся в толпу, рассказывал, как на военных сборах двадцать девятого года Ференц Мюнних, рекомендованный сегодня на пост заместителя председателя венгерского правительства, влепил ему трое суток гауптвахты за плохо скатанную шинель. Даже после трагических событий — массовых жертв, крови и слез, Первый Секретарь ЦК КПСС вызвал у собравшихся живой интерес.
— И нечего жалеть врагов! Врагов надо уничтожать! И будем уничтожать! С врагами так было и так будет! А перерожденцев типа Ракоши и Герё — к ответу!
— Раскачаем! — оказавшись в Советском посольстве, сказал Хрущев Булганину. — Не все потеряно, не огрубели сердца. Тащи сюда недоделанного венгра! — имея в виду советского посла Андропова, велел он помощнику.
Если бы не Брежнев, защищавший Андропова, со свистом вылетел бы тот с работы и из партии, и неизвестно еще, куда угодил, может, прямиком в Воркуту добывать уголек поехал.
18 ноября, воскресенье
— Томочка, соседка, загибается, уже и в больницу ее возили, и всяким снадобьями отпаивали, а лучше ей не становится. К тебе, Марфуша, пришли! — с мольбой в голосе проговорил церковный староста.
— Какой я врач? — удивилась Марфа.
— Взгляни, скажи слово. С прошлой зимы хиреет девка, и ничего не помогает. Ведь жалко ее, трое ребятишек, работящая, муж без ноги. Как без нее проживут?
— Говорят, сглазили! — подсказала Надя.
Марфа согласно покачала головой.
— Это да, сглазили! Плохая на ней мета, — медленно проговорила она. — Крепкое зло наслали.
— Что делать, скажи?
— В церковь почему не идет?
— Куда ходить, еле встает она!
— Я-то ползаю, а храм Божий не оставляю!
— Верующая она, верующая! — стучал себя в грудь церковный староста.
— Молиться за нее буду, крепко молиться, и вы молитесь! — наказала Марфуша и вдруг спросила: — Скажи-ка, а крестик она носит на цепочке или на веревочке?
— Кажись, цепочка у нее, — пробормотал лысоватый староста.
— Через звенья цепочки злые духи могут прямо в сердце проскочить, а сквозь веревочку не проскочат. Пускай крестик свой на веревочку перевесит, а тут и мы с молитвою!
22 ноября, четверг
Руководитель Венгерской республики Янош Кадар и уполномоченные им для ведения переговоров лица обещали неприкосновенность всем бывшим членам венгерского правительства и его председателю. Официальные власти заявляли, что в случае их желания покинуть родину возражений не последует.
Находиться в замкнутом пространстве югославской миссии беглецам было и неудобно, и неприятно: связь с внешним миром была прервана, ничего не знали они о родных, а лишь предполагали, что могло произойти с ними. Иосип Броз Тито считал, что Хрущев не кровожаден, помнил, что Хрущев и Булганин обещали не причинять вреда ни Надю, ни членам его кабинета, и новое венгерское руководство высказывалось вполне лояльно.
Переговорный процесс представителей югославского посольства с Кадаром и Андроповым шел без остановки, в последнее время обозначились конкретные сдвиги: по распоряжению советского командования сняли оцепление вокруг посольства, и хотя отдельные группы военных появлялись на площади, это никак не напоминало неприступное кольцо по границе дипмиссии днями раньше; не осталось в зоне видимости ни одной бронемашины, а неприглядные разрушения от танковых выстрелов, аккуратно заделали. Восстановленную стену оштукатурили и, так как погода позволяла — покрасили. Ремонт делало командование советскими войсками. Все вокруг говорило за изменение к лучшему. Жизнь в Будапеште налаживалась: пустили общественный транспорт, открылись магазины, школы. Горожане стали свободно передвигаться по улицам, хотя кое-где все еще можно было наткнуться на грозные танки. Схваченных во время ноябрьских событий в ближайшее время обещали выпустить на свободу. Венгерская Партия Труда стала пополняться новыми членами. Кадар одной рукой бил, а другой гладил, и то, и другое производило впечатление на обывателя.
Шепилов и Громыко заверили маршала Тито, что советское руководство хочет выйти из инцидента красиво, намекнули, что новое венгерское руководство не станет цепляться за сотрудников государственной безопасности еврейской национальности и вычистит евреев из центрального аппарата правительства. Поговаривали о новой либеральной газете, крестьянам обещали выделить дополнительные наделы земли. На прошлой недели в опере дали первое после кровавых событий представление, в столице заработало три кинотеатра.
Весь этот ком новостей создавал позитив. У беглецов забрезжила надежда на спасение. Ведь гарантии дал лично Кадар, о них говорил Шепилов. Первым не выдержал заточения венгерский министр культуры.
«Никто нас не тронет!» — после очередной сводки новостей заявил он и попросил югославских дипломатов узнать, что будет его ожидать, если он отдаст себя в руки социалистических властей? Ответ был жизнерадостный — будет прощен, но на руководящую работу пусть не рассчитывает. Такой ответ вполне устраивал — можно будет свободно ходить по родному городу, обнять друзей, понянчить детишек! Утром министр культуры и его жена покинули югославскую миссию. Они вышли за двери, пересекли площадь. Из окон за парой с волнением наблюдали товарищи.
— Наверное, уже с родными обнимаются! — завистливо проговорил писатель Миклош Гимеш. Откуда было ему знать, что за первым же поворотом к паре приблизились люди в штатском и предложили сесть в машину, обещая довезти до дома. Только машина домой не поехала.
Это было три дня назад. За эти дни узники многое передумали, они томились заточением, все нестерпимей хотелось покинуть унылое укрытие, да и югославские дипломаты порядком устали от непрошенных гостей. Сначала было интересно:
«Это премьер-министр!» — незаметно, одними глазами показывал один.
«А вон — министр земледелия», — пояснял другой.
«Седой — директор банка!»
«Если станет опять банкиром, как думаешь, подкинет деньжат?» — хихикал дипломат с вытянутым лицом.
«Догонит и еще даст!» — шутил другой.
Но постепенно уважения и интереса у дипломатов поубавилось. Однообразные дни сменяли один другой, люди стали уставать друг от друга. Дипработники перестали тепло, как раньше, реагировать на беспомощные, источающие надежду глаза, старались не замечать обреченно-страдальческие лица. Один посол, понимая возложенную на него степень ответственности, не терял присутствия духа, был мил и участлив.
В очередной раз бывшим членам правительства были даны гарантии неприкосновенности. От министра культуры передали восторженное письмо, в конце которого его хрупкая жена, написала своим детским почерком: «Целую, целую, целую!» Теперь уже каждый понял, что уходить из укрытия не опасно, — и они решились. Посольство уведомило венгерские власти, те снова подтвердили гарантии и больше того, пообещали подать к дипмиссии автобус, с тем, чтобы развезти всех по адресам. Югославский посол предусмотрительно заручился в МИДе согласием на сопровождение бывших членов правительства дипломатами. Все складывалось замечательно. Иосип Броз Тито был удовлетворен своей миротворческой миссией, в очередной раз он показал себя влиятельным и сильным политиком. Напоследок посол организовал небольшой фуршет, на котором немного выпили.
— В конце концов, сколько можно прятаться? — чокаясь с Надем, говорил Миклош Гимеш. — Хватит!
Автобус подрулил к зданию в 16–30. В 17–00 Надь и его спутники в сопровождении дипработников расселись на сиденьях. Автобус, фыркая, завелся и медленно покатил через площадь. Как было хорошо на улице, ласково светило солнце, казалось, что все люди вокруг улыбаются! Второй секретарь Югославского посольства держал в руках недопитую бутылку вина и по чуть-чуть к ней прикладывался. Надь, Санто Золтан, Миклош Гимеш и остальные, зачарованно глядели в окна — как истосковались они по вольному воздуху! Как же хорошо вокруг!
Автобус свернул в переулок, потом, объезжая разрытую канаву, — в другой, проехал пол-улицы и затормозил — дорогу перегородил кривобокий зеленый бронетранспортер. В одно мгновенье со всех сторон появились солдаты. Двери автобуса распахнулись, вовнутрь ворвались шесть офицеров. Старший, полковник, приказал ошеломленным югославским дипломатам покинуть транспорт. Пожилой советник посольства стал возражать, доказывая, что имеет дипломатическую неприкосновенность и по международному праву… Но полковник грубо перебил его:
— Если не выйдешь, на обратном пути подорвешься на мине!
Майор и капитан, стоящие рядом, достали пистолеты.
Дипломаты ушли. Второй секретарь югославского посольства, как оплеванный, стоял на дороге, пытаясь извергать проклятия. Потом, глядя вслед изрыгающему дым автобусу, достал из сумки бутылку, прихваченную с прощального посольского фуршета, открыл ее и залпом опустошил содержимое.
— Нае…ли! — на чисто русском языке выговорил дипломат.
Пленников привезли в советский военный гарнизон и водворили на гауптвахту. Серов тут же связался с Хрущевым.
— У нас — порядок, все под замком!
— Прям, все?
— Так точно! Что дальше делать? Кадар требует передать пленных ему, настроен плохо.
— Передавать не будем!
— На всякий случай, я бы увез их из Венгрии.
— Куда?
— Может, переправим в Румынию? Там есть курортный городок Сагов, подберем гостиницу с хорошей территорией и поселим, пусть пока там побудут.
— Действуй! — согласился Хрущев.
— Тито раскричится, — тихо добавил генерал.
— Ну, что я сделаю? Что?!
1 декабря, суббота.
В Кремле к этому событию готовились специально. За неоценимый вклад в развитие Вооруженных Сил и в связи с шестидесятилетием со дня рождения, Георгию Константиновичу Жукову присвоили четвертую Золотую Звезду Героя Советского Союза! Ни один человек не получал столь высокой оценки. По три Золотых Звезды имели асы авиации Кожедуб и Покрышкин, с тремя Звездами Героев Социалистического Труда ходили выдающиеся ядерщики Курчатов, Духов, Щелкин, Харитон, а тут такая немыслимая оценка — четвертая Звезда Героя! И ведь было за что — Жуков есть Жуков! Недаром Георгия Константиновича в народе величали Маршалом Победы. На какой бы опасный участок он ни приходил, везде его ждал успех.
Маршал с утра принимал поздравления. Первыми к нему приехали члены Президиума и секретари Центрального Комитета. Объятья были горячими, поцелуи крепкими. Этот почтительный визит был данью уважения великому полководцу, сделавшему невероятное и во время Отечественной войны, и сейчас — понадобилось всего полдня, чтобы в Венгрии воцарился порядок. Куда только не посылала маршала Родина, в каком только пекле он не побывал! Очень хорошо сказал Маленков, назвав маршала Георгием Разящим! Перечисляя заслуги, много говорил Каганович. Микоян был растроган до слез, и, конечно, Никита Сергеевич сильно выступил, произнес цветастую речь и про героизм, и про терпение, и про принципиальность, и про дружбу, не раз вспомнил о жуковской порядочности, как вырвал тот из лапы НКВД Рокоссовского; припомнил арест Берии, где Георгий Константинович выступал на первых ролях.
Много сказали хорошего, теплого, но все это, по образному выражению Хрущева, было прелюдией, потому как в четыре часа в Георгиевском зале, на слове «георгиевский» Никита Сергеевич сделал ударение, маршалу будет вручена награда. Широко улыбаясь, Хрущев добавил:
— Отныне Георгиевский зал будем называть Жуковским!
Первому Секретарю, который обнимал и тискал маршала, и виновнику торжества бурно аплодировали.
После отъезда высшего руководства Жуков принял Серова, начальника Генерального штаба маршала Соколовского, начальника Политуправления Армии и Флота Желтова, генерала Крюкова с женой, певицей Руслановой и Костю Телегина, затем на аудиенцию поспешили Главкомы родов войск. Около двенадцати приехал старейший маршал Семен Михайлович Буденный, а сразу за ним обнимали полководца генералы Москаленко и Батицкий. Маршал артиллерии Неделин явился во главе отряда ядерщиков: Курчатова, Ванникова, Завенягина, Славского и академика Келдыша. После в кабинет допустили некоторых министров и руководителей государственных ведомств. Наконец появилась любимая Галина и прекратила шествие, увезла мужа домой, чтобы он перевел дух и к четырем часам выглядел красавцем.
5 декабря, среда.
На новом месте Нюре было неуютно. Сослуживцы встретили ее сухо, посчитали чужой. Поначалу еле успевала: в горкоме больше пили чай, а тут — популярностью пользовался кофе. Кому сливки к кофе неси холодные, кому накипяти и вовсе не сливки, а молоко требуют! Секретарь ЦК Аристов обожал вареную сгущенку, ему надо было ее не переварить, чтоб не стала она слишком темной, но и бледной быть не могла. Тренируясь, Нюра пол-ящика извела, но к требовательному вкусу Аверкия Борисовича приспособилась. Товарищ Суслов любил слойки, и слойки эти должны были быть с пылу с жару, а ведь так не получается — повара спекут, принесут в буфет, а в приемной не шевелятся, не идут забирать, и слоечка остывает, грубеет — конфуз! Но и здесь Нюра приспособилась: не в кастрюлю под крышку слойки складывала, в кастрюле они задыхались, а в плетеное лукошко стала класть, и заботливо теплым одеялом то лукошко оборачивала. Таким путем, слоечки до вечера в свежести сохранялись. А поначалу трудно было! Хорошо, Никита Сергеевич не изменился — ему как несли варенье, так и носят. Ответственность в ЦК особая, то к Хрущеву зарубежная делегация придет, то республиканский секретарь, то другой выдающийся человек, и надо всем угодить, Первого не расстроить. Однажды расплакалась Нюра, сидит у окошечка рыдает, страшно ей, а как неуютно под суровыми взглядами! Суслов строгий, Аристов — еще страшней, Брежнев Леонид Ильич — тот все шуточки-прибауточки отпускает, а ведь неизвестно, что на уме! В ЦК люди великие, не дай Бог ошибиться!
Такую вот заплаканную буфетчицу застал заглянувший в буфет Петр Нилович Демичев. Раньше он хрущевским помощником в горкоме партии был, а теперь, соответственно — в Центральном Комитете. Перепуганная и издерганная женщина ему свою печаль как на духу поведала, а под конец простонала:
— Съедят меня скоро! — и опять разревелась.
— Вот, смешная! Сама не знаешь, что навыдумывала! — отмахнулся помощник. — Когда мы с Никитой Сергеевичем на Старую площадь пришли, тоже с непривычки по сторонам озирались. Тебе, Нюра, к буфету не привыкать! Выкинь дурь из головы, работай спокойно!
— Боязно! — отозвалась буфетчица.
— Варенье твое самое вкусное, до тебя просто дрянь давали! Как Никита Сергеевич ни ругался — ничего с вареньем сделать не могли. Тогда за тобой и послали. Получается, ты человек незаменимый, а ты — ревешь! Никита Сергеевич как мне сказал: «Нюрка придет, здесь порядок наведет!»
Буфетчица улыбнулась.
— Поняла задачу?
— Поняла! — счастливо отозвалась работница, и уже не осталось в сердце ее места обидам, ведь сам Хрущев похвалил!
7 декабря, пятница
Серову вручали награду не так помпезно. За организацию и руководство операцией в Венгрии вся слава досталась Жукову, Иван Александрович был удостоен ордена Кутузова 1-й степени. Вместе с Серовым награду получил маршал Конев, генерал армии Малинин и еще семьдесят человек: военные, сотрудники КГБ, работники МИДа. Среди мидовцев находился посол СССР в Венгрии Юрий Андропов. А вот Фирюбину ордена не досталось, каким-то образом посол в Югославии не попал в число награжденных, хотя в предварительном списке был. Поговаривали, что Суслов, который заведовал отношениями с рабочими и Коммунистическими партиями, в последний момент Фирюбина вычеркнул. Желчный был Суслов человек злопамятный, припомнил, как Николай Павлович, работая при московском секретаре Попове, позволял себе звонить в Международный отдел и отдавать распоряжения. Суслов бы и послом такого фанфарона не держал! Совершенно расстроился из-за ордена Николай Павлович, а еще больше переживала Екатерина Алексеевна, она так хотела порадоваться за милого Колю и под предлогом торжественного события отпроситься к любимому в Белград. А теперь ходила зеленая, со злостью проклиная Михаила Андреевича.
После награждения Серов был зван на обед к Хрущеву, туда же явился Булганин.
— Чего грустный, Иван?! — громко спросил председатель правительства. — Ведь орден дали?
— Так точно, дали! — вставая, отрапортовал Иван Александрович.
— А мне дулю с маслом, мне ничего не дали! — плюхаясь в кресло, весело продолжал Николай Александрович.
— И я с наградой пролетел! — в унисон ему добавил Хрущев. — Работаем, работаем, а орденов не дают!
— Лишний орденок никогда не повредит, — прищурился Николай Александрович. — Налей-ка, брат! — попросил он Хрущева.
Никита Сергеевич удержал председателя КГБ, который ринулся было к бутылкам, и самолично наполнил рюмки.
— Ты сегодня герой, потому — я на разливе! Ты, Ванечка, наша с Колей цитадель!
— Верно, верно! — подставляя хрусталь, чтобы чокнуться с орденоносцем, закивал Булганин. — Смотри в оба!
Скушали морковный салат и гороховый суп.
— Мою Верку в мединституте тоже гороховым супом кормят и еще гороховым пюре, — отметил Николай Александрович. — Она все жалуется, а ведь вкусно!
— Значит, социализм работает! — подмигнул Никита Сергеевич.
Подали второе, котлеты с жареной картошкой и соленым огурчиком. Под котлеты снова разлили коньяк и снова выпили.
— Рассказывай, Ваня, не молчи! Нам с председателем правительства международную обстановку обрисуй.
— У Эйзенхауэра случился сердечный приступ, — сказал Иван Александрович. — В Белом Доме перепугались.
— Все мы не вечные! — покачал головой Хрущев.
— Давай за его здоровье, за эйзенхауэрское, все ж человек! — произнес Николай Александрович.
— Я пью сидя! — недовольно нахохлился Никита Сергеевич, но за президента Соединенных Штатов выпил.
— Ты по своим каналам намекни, что в Кремле за Дуайта пьют! — хитро прищурился Булганин.
От сказанного рассмеялись.
— На Кубе события разворачиваются, 2 декабря рядом с Гаваной высадился десант.
— Шо за десант?
— Повстанцы пытались захватить власть.
— Ничего себе!
— Американцы х… Кубу отдадут! — высказался Булганин.
— Все равно, событие! — замотал головой Хрущев. — Не побоялись кулаком замахнуться! А твои, Ваня, что говорят?
— Говорят, недовольных режимом хватает.
— Перестаньте смешить! — замотал головой Николай Александрович. — Туда плыви — не доплывешь, на Кубу, а американцы под боком!
— Вот бы туда пролезть! — мечтательно проговорил Хрущев. — А что в Египте, солдатики наши как?
— Все восемнадцать тысяч под видом туристов в Александрию приехали. Жара там страшенная, яйца готовят, зарыв в песок.
— Вовремя поспели! — улыбнулся Никита Сергеевич. — Ну, Ваня, еще раз за тебя и за твоих туристов!
Серов был несказанно доволен.
— Скажи, брат, — Хрущев с хитринкой посмотрел на Булганина, — с какой красавицей ты Новый год справляешь?
8 декабря, суббота
— Где мой Алешка! — восклицал дед, появившись дома. На малюсеньком карапузике теперь замыкалась не то что хрущевская семья, а вся вселенная!
— Не кричи, дед, спит Леша! — оборвала мужа Нина Петровна.
Лешенька и впрямь был спокойный, все больше спал, посасывая большой пальчик.
— А Никитка, сорванец, где?
— Наверху, с папой.
Никита Сергеевич отправился на второй этаж. Там, подняв на руки румяного внука, и в сопровождении зятя зашел в столовую.
— Сейчас мы с тобой полетаем! — подбрасывая мальчугана, приговаривал дед. — До самого солнца долетим! — и снова подкидывал хохочущего от удовольствия мальчика. — Летим, летим! У-у-у-у!
Никитка заливался заразительным смехом, радовался, но все-таки маленький Леша интересовал деда больше. Странная штука: последних детей и особенно внуков родители почему-то любят крепче, или это только кажется?
Дома Хрущев старался переключать внимание на семью, на быт, таким способом восстанавливал душевное равновесие, ведь на работе не было спокойной минуты. Приезжая домой, он вроде бы переносился в другой мир, но иногда и сюда кто-то прорывался: то трезвонил Серов, то приезжал Булганин или по-соседски заходил Микоян, так или иначе говорили о работе, решали текущие проблемы, но по воскресеньям Никита Сергеевич на связь с окружающим миром категорически не выходил, ответственным за контакты на это время становился зять. От имени Первого Секретаря Алексей Иванович звонил и Серову, и Шепилову, и Громыко, и Леониду Ильичу Брежневу, и Суслову, он же вместо Никиты Сергеевича брал трубку правительственного телефона, и получалось, что и информацию принимал Аджубей.
— В воскресенье надо отдыхать, даже в Библии так указано. За работу в воскресенье одного мужика камнями забили. Это тоже из Библии, — уточнил отец семейства.
Час назад пришло известие, что Великобритания и Франция начали эвакуацию войск из Египта, на их место приходили силы Организации Объединенных Наций.
— Наша победа! — довольно выговорил Хрущев.
Чрезвычайное положение в Венгрии, исключающее сборища и забастовки, пока не отменили. Страну покинуло 200 тысяч человек, но со вчерашнего дня границу наглухо закрыли, объявив перебежчиков предателями. Брежнев продолжал нахваливать Андропова, рассказал, что когда по посольству стреляли, тот схватил охотничье ружье и ходил с оружием наперевес, что не струсил, не убежал в гарнизон к военным.
«Тебя послушать, уж такой герой!» — хмыкнул Никита Сергеевич, но к Андропову потеплел.
И Яноша Кадара Леонид Ильич представлял только с положительной стороны, уверял, что в нем не ошиблись.
Однако в Венгрии не церемонились. Двадцать шесть тысяч человек подверглись судебному преследованию, половину приговорили к различным срокам заключения, триста тридцать казнили. Такими вот способами вышибали дурь из голов. В случае каких-то непредвиденных трудностей Кадар сразу же звонил Брежневу.
Леша наверху разревелся, держа сыночка на руках, на лестницу выглянула Рада и позвала мужа. Аджубей вопросительно посмотрел на Никиту Сергеевича.
— Ступай, Алексей Иванович, ступай, с телефонами как-нибудь без тебя разберемся.
10 декабря, понедельник
Хрущев, насупившись, слушал главного комсомольца Шелепина, который повествовал об успехах советских спортсменов на Олимпиаде, завершившейся в Стокгольме.
— У нас самое большое количество медалей. Всего взяли 98 медалей, из них 37 золотых. Соединенные Штаты на втором месте, у них 32 золота, а всего — 74 медали. Сборная по гимнастике стала абсолютным чемпионом, Советский флаг за час поднимали одиннадцать раз! — с гордостью докладывал Шелепин.
Никита Сергеевич выслушал сообщение хмуро, без эмоций, словно победа его не касалась.
— Спортсмены отличились, тут — хорошо, а вот комсомол игры провалил! — резко высказался он.
Александр Николаевич потупился, случай, конечно, произошел неприятный. Мало того, что венгерская команда отказалась выступать под флагом Венгерской Народной Республики, а вышла на стадион под государственным флагом Венгрии образца 1918 года, вопиющим безобразием явилась драка венгерских и советских ватерполистов на полуфинальном матче 6 декабря. При этом советские спортсмены выглядели хулиганами, особенно отличился капитан сборной, он, как зверь, наскочил на обидчика и стал лупить его кулаками!
— Уронили престиж Советского Союза! — безулыбчиво продолжал Хрущев.
— Наши спортсмены защищали честь Родины! — оправдывался Шелепин.
— Так защищали, что теперь полмира тыкает!
— Венгр первый ударил.
— Первый, второй! А морду кто кому разбил? Чья разбитая харя в газетах, моя? Венгра, ешь его мать! Мы — вопиющие варвары, вот итог Олимпиады! А ты медалями трясешь!
— Перед матчем венгры дали похабное интервью, специально коверкали русские слова! А как команды оказались в воде, пошла потасовка. Что ж нам, выходить из бассейна надо было?
— Что там надо было, я не знаю, а чем кончилось — известно, нашим позором, порицанием и скандалом!
— Венгр унижал нашу Родину, партию!
Хрущев снял очки и уныло посмотрел на комсомольского вожака.
— Вот смотрю я на тебя, Александр Николаевич, вроде ты смышленый человек, дельный, а удивляюсь узости твоего кругозора. Ну, разве важно на таком ответственном мероприятии, кто кого защищал или кто кого как обозвал? Важно было не осрамиться, не опозориться и в то же время показать себя спортсменом, это важно! А теперь мы выглядим громилами. Мало того, что танками народ в Будапеште передавили, так приехали на Олимпиаду и там руки распустили, людей покалечили, вот в чем затык! Мы не границу от врага защищали, не жену любимую от посягательства, а за нехорошее слово бились так, будто последнее у нас крадут. В Стокгольме зрители за венгров болели, не за нас, поэтому венгры и распоясались, мы ж теперь оказались во всей разбойничьей красе! Побитого на руках от бассейна унесли, он встать не мог! Вот какая у нас победа, какое олимпийское торжество! А ты — «капитан правильно поступил», заладил! Сталин бы за такую выходку смутьяна расстрелял. Его бы расстрелял, и тебя бы расстрелял, да и меня за компанию, — раздраженно выговорил Никита Сергеевич.
— Не знал я, что в тот момент делать! За наших, признаюсь, переживал. Извините! — оправдывался Шелепин.
— Извините! А мне валидол пить. Учись высокой политике, у тебя, Александр Николаевич, жизнь впереди!
Шелепин сник.
— Что про венгров молчишь?
— Про что?
— Про то, что они тоже здорово выступили, на четвертом месте по медалям оказались?
— Да, на четвертом.
— После мордобоя венгерская команда попросит политическое убежище, и им с распростертыми руками его дадут. С распростертыми! — не унимался Никита Сергеевич. — Понимаешь, комсомолец, какая херня? Булганин по этому поводу перед корреспондентами уже оправдывается.
— Не доработал! — бледнея, прошептал Шелепин. — Но там просто свинство случилось! Где это видано, чтобы зрители с трибун повскакивали, побежали и стали в бассейн плевать? Воду испортили.
— Они не в бассейн плевали, они в нас с тобой плевали! — отчеканил Никита Сергеевич.
22 декабря, суббота
— Я самого большого кабана взял. Обошел вас, Никита Сергеевич! — не без гордости заулыбался Брежнев.
— Молодец! — хлопнул его по плечу Хрущев. Он скинул меховую тужурку, расстегнул на груди байковую рубаху и с ногами завалился на низкий диван перед печью.
— Вообще-то тебе самого большого кабана бить не положено, — назидательно заявил Николай Александрович и осторожно, чтобы ненароком не уронить, поставил в угол свою богато инкрустированную серебром и слоновой костью английскую двустволку, а уж затем принялся раздеваться. Скинул свитер, фуфайку, с оханьем, нелепо задирая ноги, стянул толстые шерстяные носки. Всю эту гору потной одежды председатель Совета министров водрузил на спинку ближайшего стула и направился к выложенной цветастыми изразцами печи, на которой художественная фантазия изобразила пышнохвостых павлинов, гривастых львов, лупоглазых сов и каких-то совсем невиданных зверей. На минуту он замер, прислонившись к теплой керамической стенке, а потом продолжал:
— Руководству крупняк бить полагается, а не помощникам. Вот станешь главным — тогда кого хошь стреляй! — назидательно продолжал председатель правительства.
Брежнев растерялся.
— Да не слушай его, Леня, это охота, а не подхалимаж! — вступился Никита Сергеевич.
— Не скажи! — не унимался Булганин. — При товарище Сталине никто застрелить дичь первым не решался. Выходит на тебя зверь, хоть ружье бросай! Некоторые прямо сознание от испуга теряли, если на них кабан выскакивал. Не так разве, Никита?
— Охот таких можно по пальцам пересчитать. Сталин охоту не признавал.
— Иногда охотился!
— Было, подтверждаю.
— И я объясняю. Субординация! А ты, Леня, взял, и Первому Секретарю дорогу перешел, и мне тоже, председателю Совета министров. Нехорошо!
— Я ж не нарочно! — стушевался Брежнев.
— Нарочно, не нарочно, а брать тебя с собой больше не будем. На хрен нам такой шустрый? Мы и сами стрелять умеем!
От этих слов Леонида Ильича бросило в жар.
— Виноват! — пролепетал он.
— Ты слушай, что старшие говорят! Старшие никогда плохого не скажут! — с расстановкой излагал Николай Александрович, поудобнее устраиваясь на диване, стоящем в продолжение хрущевского. — Последнее тебе китайское предупреждение! Ну, чего остолбенел, коньяк неси!
Леонид Ильич поспешил на кухню организовать выпивку и закуску. Уместив все на поднос, пристыженный охотник вернулся в зал.
— Коньяк пришел, Николай Александрович! — он придвинул поднос маршалу.
— Давай, давай! — Булганин взял фужер в одну руку, а другой подхватил бутерброд с толстым слоем паюсной икры.
— Угощайтесь, Никита Сергеевич! — развернувшись к Первому Секретарю, прислуживал Брежнев.
Хрущев последовал примеру Булганина.
— Чего себе не налил? — подмигнул председатель Совета министров.
— Запугал человека до смерти, вот чего! — за Брежнева ответил Хрущев.
— Да ладно, запугал! — усмехнулся Николай Александрович. — Такого молодца не запугаешь! Наливай себе, мы без тебя пить не станем!
Брежнев почти бегом ринулся к буфету за рюмкой.
— За удачную охоту! — провозгласил Булганин.
Охотники чокнулись. Брежнев пил с Булганиным наравне.
— Из тебя, парень, толк будет! — отметил Николай Александрович.
Леонид Ильич кротко улыбнулся.
— Давайте еще по стопке!
— На меня не рассчитывайте, я ваш темп не держу! — замотал головой Никита Сергеевич.
— Ненастоящий охотник! — пожурил друга маршал.
— С вами, с бесами, вмиг сопьешься.
Хрущев глядел на печь, вернее, в ее приоткрытую топку, где в глубине потрескивали полешки и ярко-ярко, точно утренние звездочки, багровели раскаленные угольки. Печь дышала жаром, наполняя пространство спокойствием и уютом.
— На огонь и на воду можно смотреть вечно! — мечтательно изрек он.
От переливчатой яркости угольков рябило в глазах.
— Писатель Эренбург у меня был, — рассказал Никита Сергеевич.
— Чего ему?
— Просит, нет, требует переименовать Сталинскую премию. Предлагает назвать ее Ленинской. Говорит, что после того, что люди узнали о Сталине, нельзя гордиться подобной наградой, тем более носить на груди медаль с изображением тирана. О, как повернул! Его мой Леша Аджубей привел, они друзья.
— Лихо! — хмыкнул Булганин. — Не Эренбург ли истерично кричал: «Да здравствует товарищ Сталин!»
— Он тогда правды не знал.
— Все знали, а он, мать его, не знал! — нецензурно выразился Николай Александрович. — А как ветер переменился, с предложениями лезет!
— Я тоже считаю, что Сталинскую премию следует переименовать в Ленинскую, — продолжал Хрущев.
— И я не против. Только такие вот двуличные типы возмущают, ничего святого в душе нет. Писаки чертовы!
— Зря наговариваешь, Эренбург труженик. Его очерки солдат на бой поднимали. Как читаешь — мурашки по коже! «Отныне слово “немец” для нас самое страшное проклятье! Немцы не люди. Можно ли называть женщинами этих мерзких самок?» — процитировал Хрущев.
— С точки зрения идеологической работы — вершина!
— В войну вся бумага расходилась на курево, — заметил Брежнев. — Лишь приказы Верховного главнокомандующего на самокрутки не шли, их курить запрещалось, и статьи Эренбурга бойцы берегли, уважали его.
— Не спорю, авторитет имел! — согласился Булганин.
— В другом очерке, — припомнил Хрущев, — он от имени мальчугана обращается: «Папа, убей фашиста! Не жалей его!» И убивать стали во много раз больше. Гиммлер приказывал Эренбурга истребить, он был как красная тряпка для быка, ненависти к врагу несказанно прибавил.
— А вот когда добивали сдавшихся в плен, полуживых от холода и голода немцев, это, считаю, неправильно! — рассудил Булганин. — Я не жалею врага, врага нельзя жалеть, но разве плохо бы пленный фриц строил нам дома и дороги? Неплохо бы строил, а мы его, безоружного, — штыком! То отголоски твоего Эренбурга.
— Он нужное дело делал, не будем, Коля, на него обижаться.
— Не нравится он мне.
— Если порыться, Коля, то в любом из нас можно червоточину найти.
— Своими варварскими призывами подобные Эренбурги превратили терпеливого, набожного русского мужика в животное! — насупился Булганин. — Немок каждый день отлавливали, раскладывали где попало и хором, иногда по нескольку раз, использовали. Гребли всех под одну гребенку, и пожилых баб, и девочек-подростков.
— При мне такого не было. Наоборот было, — возразил Хрущев.
— Война — черное зеркало! Что мы, что они, в поведении воюющих разницы нет, победителю все дозволено, — заключил Николай Александрович.
— Мне Малиновский такой случай рассказал, — заговорил Брежнев. — Пьяные солдаты наших связисточек в Берлине оприходовали. Те, дурехи, понабрали всякого шмотья, вырядились и пошли по городу гулять, а навстречу солдатики подвыпившие бредут, баб увидели и как обычно: «Фрау, фрау! Ком, ком!» Поймали девок и уже неважно, кто это: свои или чужие, делай свое дело. В войну насилие над женщиной считалось нормальным делом.
— Война! — протянул Николай Александрович. — Часто у солдата на уме вертелась лишь одна назойливая мысль — нажива! Раз в месяц рядовой отправлял домой двенадцатикилограммовую посылку, офицер втрое больше, а старшие офицеры грузить не успевали. А откуда брали? Понятно откуда. Кто часы забирал, кто велосипед, кто одежонку, золотишко, само собой, сразу отбирали.
— Однажды грузовик к магазину подогнали и под автоматами весь товар в машину сгрузили, — дополнил Брежнев.
— Когда тебя чудом не убили, в голове с мыслями не густо, — с тяжелым вздохом подытожил Булганин.
— Война, как известно, с исковерканным лицом! — проговорил Никита Сергеевич. — Поэтому коммунисты за мир борются! А Сталинскую премию надо переименовывать и пусть на медальке будет Ленин изображен.
— А если кто откажется Сталина на Ленина менять? — поинтересовался Николай Александрович.
— Пусть подавятся! Давай, Леонид Ильич, разливай!
Когда выпили, Хрущев утерся рукавом рубашки.
— Закусите икоркой, Никита Сергеевич! — подсовывал плошку с икрой Брежнев.
— Наливай, наливай! — отмахнулся Хрущев.
— Без закуски?
— Наливай, я сказал!
Из кухни подали запеченную ногу косули, соленые грибы, тарелку с холодцом, лосиный язык. Охотники перебрались за стол.
— Тебе чего положить? — спросил у Брежнева Никита Сергеевич.
— Так и не знаю! — растерялся тот.
— Чего, спрашиваю?!
— Мясца!
Разговор на время прервался, все кушали.
— Надо, Коля, посоветоваться, — утирая салфеткой губы, заговорил Никита Сергеевич.
— Ну?
— Целесообразно будет большую часть министерств сократить.
— Кого?! — выплевывая кость, округлил глаза Булганин.
— Управление промышленностью разумно вывести непосредственно на места.
— На какие такие места?
— Сам рассуди, есть в Москве Министерство морского флота, а моря в Москве нет. Зачем, спрашивается, в Москве такое министерство?
— Не понял?
— Сейчас поймешь, — оживился Хрущев. — Или возьмем Министерство металлургии или угольное министерство. На хера они в Москве? Пусть угольщики в Донбассе сидят, металлурги в Череповце, моряки — в Мурманске, словом, там, где непосредственно их отрасль работает, а у нас получается — одни чиновники по стране катаются! На черта это надо?
— Погоди, погоди! — Николай Александрович потер затылок. — Послушай-ка, брат, мою историю, — Булганин подвинулся к Первому Секретарю ближе. — Двое встретились и один другому говорит:
«Мы сейчас с тобой одно дело провернем и автоматически заработаем».
«Это как — автоматически?» — спрашивает другой.
«Ты что, не знаешь слова “автоматически”?»
«Не знаю».
«А слово “например” знаешь?»
«“Например” знаю».
«Вот, скажи, у тебя мать есть?»
«Есть».
«Представь, например, что она бл…».
«Как?!»
«Я говорю — например! Например, понимаешь?»
«Понимаю».
«Теперь, представил?»
«Представил».
«А сестра у тебя есть?»
«Есть».
«Представь, например, что и она тоже бл…. Представил?»
«Представил».
«А жена у тебя есть?»
«Есть».
«Представь, например, что и она бл…».
«Как бл…?!»
«Я же тебе говорю — например! Представил?»
«Представил».
«Вот и получается, что автоматически — ты мудак!» — закончил рассказ Булганин и расхохотался. — Сожрут, тебя, Никита, за подобную ересь!
30 декабря 1956 года, воскресенье
Сергей целовал ее так долго, что думал — потеряет сознание, не понимал, день на дворе или вечер, или наступила ночь. На Николиной горе они встречались уже третий раз. Он жадно сжимал ее, потом руки настойчиво проникли под кофточку и кофточка скоро оказалась на полу, Леля же стянула с него рубашку, и они обмирали, прикасаясь друг к другу обнаженными телами. Наконец он разглядел ее всю, ничто не прикрывало девичье смуглое тело, девушка лежала в его объятьях, разрешала гладить, целовать, желала этого, но не пускала дальше.
— Почему? — срывающимся голосом молил он. — Я люблю тебя!
— Не сейчас! Нельзя!
— А когда?
— Потом, после свадьбы!
— Я хочу проникнуть в тебя!
— И я этого хочу! Но нельзя, Сережа, невозможно! — Леля выскользнула из его жадных объятий, подобрала кофту и стала одеваться.
Он обреченно следил за любимой.
Она надела трусики, накинула кофточку, но не застегнула ее, подошла к юноше вплотную и коснулась грудью его губ. Он задрожал, потянулся к соскам, на мгновенье она позволила его губам прикоснуться, потом резко развернулась, и стала торопливо одеваться.
— Не уходи! — взмолился Сергей.
1 января 1957 года, вторник
Она проснулась в холодном поту, отец опять стоял перед глазами. Он измучил, отец, истерзал! Снова глаза его были полны слез, снова он был близко-близко, совсем рядом. И понимала Светлана, что несчастный отец ее брошен, что застрял он между небом и землей в безвоздушном безжизненном пространстве, что ни Бог не забрал его к себе, ни дьявол, один-одинешенек, так и скитается он неприкаянно по городу, по родимой земле и ищет упокоения, поэтому каждую ночь является ей.
— Надо как-то помочь ему несчастному, надо что-то сделать! — вздрагивала Света. — Но куда идти, к кому?!
2 января 1957 года, среда
После купания, в пижаме, с обернутой в полотенце головой, Никита Сергеевич, лежа в постели, перелистывая томик Некрасова. После завтрака он нагулялся, три раза дошел до реки, а по возвращении сразу залез в теплую ванну и вот теперь блаженствовал, обсыхая.
— Будешь творожок с медом? — приотворив дверь спальни, спросила Нина Петровна.
— Съем, — отозвался супруг.
— Так спускайся!
Никита Сергеевич с ленцой поднялся, снял с головы вафельное уже окончательно высохшее полотенце и, оглядев себя в зеркало, принялся закрывать чуть приоткрытую форточку. На ближайшее дерево сел дятел.
Нина Петровна вновь позвала мужа:
— Ты идешь?
— На березу дятел уселся и по стволу барабанит, красивый такой, черный, с красной головкой. Ишь, красавец! — отозвался супруг.
Нина Петровна зашла в спальню.
— Вон он!
— Вижу! — невесело вздохнула жена.
— Чего развздыхалась?
— Переживаю.
— Поменьше переживай, жизнь короткая! — нравоучительно заметил супруг.
— За тебя беспокоюсь. Разговоры ходят нехорошие.
— Какие еще разговоры?
— Говорят, будто Молотов на твое место приходит.
— Молотов! — хмыкнул Никита Сергеевич. — Ему раньше надо было приходить, кто ж его теперь пустит?
— Племянница слышала. Она мне уже несколько раз звонила. Сначала в больнице, на прогулке, разговор услыхала, а потом, в столовой лечебного питания говорили.
— Болтовня! — отмахнулся Хрущев. И все-таки слова Нины Петровны его задели, он сел на кровать перед тумбочкой, где стоял телефон.
— Дайте Серова! — сняв трубку, потребовал Первый Секретарь.
Ждать пришлось не долго.
— Серов слушает!
— Как, Ваня, дела?
— Без происшествий!
— Никто не бузит?
Чтобы жена слышала разговор, Хрущев специально держал трубку, чуть отставив от уха.
— Никто, Никита Сергеевич!
— А корифеи наши как?
— Как обычно.
— Ясно, ясно. Что ребеночек твой?
— Зинуля подрастает, такая хорошенькая, глазастенькая!
— Тебе, Ваня, пока не поздно, надо второе дитя заводить, может, пацан будет, чего тянешь?
— Стараемся, — смущенно отозвался генерал.
— Тогда ты вечно молодым будешь! — полушутя, полусерьезно говорил Никита Сергеевич. — Поцелуй Зиночку от меня! — и дал отбой.
— Слышала? — обратился он к жене.
— Слышала.
— Еще раз тебе говорю: пустые разговоры! Серов с них глаз не спускает.
— Главное, чтоб твой Серов не подвел, — вздохнула Нина Петровна.
— Ванька сторож отменный! Я, Нин, не дурак, не одного Ваню в КГБ держу, моих там хватает: Миронов — раз, Лунев — два, Алидина на Москву поставил, Рясной Главным управлением охраны заведует, — перечислял Никита Сергеевич. — Дударов вместо Круглова, и Руденко-прокурор мне в рот смотрит, а ты раскудахталась!
— Смотрит, не смотрит, а разговоры плохие идут! — упрямо повторила жена.
— Придумают же, Молотова на мое место! Подай-ка носки.
Нина Петровна выдвинула ящик комода и достала носки.
— Не эти, черные дай!
Огромный живот делал Хрущева совсем неповоротливым. Чтобы надеть носки, нужно было изловчиться — завалиться на спину, задрать ноги, только так удавалось их нацепить. Никита Сергеевич приловчился и делал это довольно проворно, но очень забавно. Глядя на отражение в зеркале, толстяк улыбался:
— Я прям гимнаст!
Закончив с носками, он подобрал со стула штаны и проворно запрыгнул в них, потом через голову надел льняную рубаху.
— Вот придумали — Молотов! Из самого большого количества кошек не сделать тигра, так-то, Нина! — назидательно изрек муж.
— При чем тут тигры! — всплеснула руками супруга. — Идем чай пить!
Они спустились в столовую и уселись за стол.
— Мед-то кушай!
Никита Сергеевич взял чуточку на кончик ложечки.
— Гречишный?
— Липовый, — уточнила Нина Петровна.
— И липовый сойдет. Седьмого числа Чжоу Эньлай приезжает, будем переговаривать, а на осень хочу Мао Цзэдуна вытянуть. Мне с Мао на прямой связи находиться надо, мне, а не Молотову! Молотов уже отработанный материал, а потом, китаец видит, кто мотор, а кто балласт!
— Не перехвали себя!
— Разве народ не видит, кто больше старается? Я стараюсь, Булганин старается, Микоян, а тут на тебе — Молотов! Вот новую структуру Совета министров отладим, и экономика помчит!
— За то, что ты министерства решил разогнать, начальники тебе спасибо не скажут, — покачала головой Нина Петровна.
— Скажут, не скажут, а порядок будет рабочий. Я оптимизацию делаю. Работа должна быть работой, а не времяпровождением! Ну как такое может быть, что треть сотрудников министерств только и делает, что по командировкам мотается? Почему, спросишь? А потому, что из Москвы толком ничего не видать. В Москве привыкли справки читать да с достоинством раскланиваться. Главные заводы за тысячи верст отсюда, а начальники в Москве расселись и командуют! Нужны нам слепые министры? Не нужны! Поезжай в самое пекло, где промышленность кипит, там командуй! Нет, им Москву подавай! Если засел в столице и свысока головой качаешь, это, конечно, хорошо, но для дела плохо! Расплодили в столице ведомств, министерство на министерстве, главк на главке, но чуть что — гонят людей в командировку. А командировочного размести, накорми, а если начальник, то и машину подай, директора на местах подчас не работают, а встречами-проводами занимаются, чего тут хорошего?! Проезд туда-сюда денег стоит, и народные денежки — тю-тю! — развел руками Никита Сергеевич. — Ты, вдумайся, Нина, вдумайся! Я как на работу еду, обязательно мимо Министерства рыбного хозяйства проезжаю, а рыба-то — в море, а не в Москве-реке! — прокричал супруг. — Белиберда получается! Пока приказ до места дойдет, рак свистнет! Сталин такой порядок завел, потому что сам никуда не ездил, вот в Москве все и сидели, у него под боком. Это пережитки, Нина, с таким подходом нужный темп не наберем. А вот сделаем на местах Советы народного хозяйства, и поверь, работа закипит!
Вернувшись в спальню, Никита Сергеевич подошел к трельяжу, взял флакон одеколона и не жалея полил себя «Красной Москвой».
«Вот Молотов, — думал он. — Что за человек! Вроде бы большевик, должен всем сердцем делу помогать, а он как навозный жук в говне копается! Скорей бы там задохся!»
6 января, воскресенье
Леонид Ильич привез в Огарево дюжину зайцев и молодого кабанчика. Накануне Никита Сергеевич раскашлялся, на охоту ехать отказался.
— Ваша доля, Никита Сергеевич! Все по-честному поделили: вам, мне и Родиону.
— Я-то при чем, я на охоте не был!
— Вы наш вдохновитель, так что принимайте! — выпалил Леонид Ильич.
Хрущев не стал возражать, из багажника машины стали выгружать трофеи.
— Под низ возьми, тяжелый! — перехватывая задок кабана, чтобы помочь хрущевскому Букину, приговаривал Брежнев.
Никита Сергеевич наблюдал за их действиями.
— А Малиновского где потерял?
— Он до Жукова поехал.
— Вот неугомонный! Ты, Леня, заходи, чаю попьем.
— Я в виде в таком, в охотничьем, — развел руками Леонид Ильич, — неудобно!
— Чепуха! Идем. Там у меня Шепилов.
Когда уселись за столом, Хрущев выставил бутылку водки.
— Может, по пять капель?
— С удовольствием! — заулыбался Брежнев.
— А я воздержусь, — отказался Дмитрий Трофимович.
— Ну и… — Хрущев хотел сказать «дурак», но удержался: — …напрасно! — выговорил он и отправился на кухню дать команду по закуске.
Хрущев с Брежневым за пятнадцать минут убрали пол-литра.
— Вчера денек выдался замечательный, иду, гуляю, радуюсь, снежок чуть сыплет, солнышко проглядывает, — рассказывал Никита Сергеевич. — На сердце прямо — песня! Только к реке подошел, колокола звонят, наяривают вовсю, там церковь на соседнем берегу стоит. Я прям опешил.
— Рождество на носу, — заметил Шепилов.
— Какое Рождество, Дмитрий Трофимович! У кого?! У меня или у Брежнева? — раздраженно выпалил Хрущев. — Кому эти церковные спектакли нужны?
— Всю жизнь, Никита Сергеевич, народ Рождество справляет.
— Ты, Дима, как близорукий, церковь — это пережиток! Кто туда ходит — деды да бабки неграмотные, вот кто! А мы на церковь под пролетарским углом смотрим, с ней бороться надо, добивать! — злился Первый Секретарь. — Идет после рабочего дня коммунист домой или комсомолец по улице гуляет, а колокола звонят! Попы чем стране помогают, звоном этим? Ничем не помогают! Трезвоном зазывают в церковь, вымысел несусветный плетут и деньги с трудящихся вымогают, вот их так называемая работа. Нет у бабки денег — яйца неси, сало неси, тащи каравай, пирожки, птицу! Кардинал венгерский, лучший тому пример, как на волю вышел — «Расстреливать!», сволочь, орал! Как же может священник к оружию призывать, ведь одна из божьих заповедей — «Не убий»?! — возмущался Никита Сергеевич. — Как же могут подобные прохвосты рассуждать о чистоте человеческой души? Ненавижу церковь за двуличие, и лицемеров-священников ненавижу! Бога выдумали и под этой маркой простых людей обирают! Смотрят маслеными глазенками, вроде тебе сочувствуют!
Хрущев скорчил отвратительную гримасу, изображая, как смотрят лживые священники.
— Они только вид делают, что Бога о помощи просят, а у самих одна нажива в голове! У них, что ни спроси, все «по воле Божьей» получается. Если хорошо — значит, это тебе Бог дал, а если плохо случилось, получается — за грехи наказание. Бывает, и более заумные выдумки сочинят. Например, могут так объяснить: если кошелек у тебя украли, вроде бы ты расстраиваться должен, сокрушаться, ведь заработанных денег лишился, а по их разумению — Бог за тебя таким образом заступился, наибольшую беду отвел, то есть расплатился ты малой потерей за страшный грех, тобою когда-то совершенный, за который мог ты, к примеру, зрение потерять или дом бы у тебя сгорел, а отделался всего лишь кошельком, такую ерунду лопочет священник, а ты же сам на исповеди все чистосердечно выложил, а попенок, слово в слово, твое покаяние запомнил и на вооружение взял, чтобы еще больше тебя одурачить!
Случается, помер достойный человек и труженик, и семьянин. «Не печальтесь! — гундят. — В рай Господь его забрал!» А если плохой человек, вор, пьяница, дебошир, преставился, тогда — покарал его Бог, так растолковывают. На все у попа объяснение готово. Разогнать их, и дело с концом! Чего Сталин не доделал, так это попов не добил! — яростно выговорил Никита Сергеевич. — Ну, ничего, мы их доконаем! Кумекай, Дима, какой приказ издать, чтобы монахов урезонить.
— Здесь огульно подходить нельзя. На Западе сразу кипиш начнется, — предостерег Дмитрий Трофимович.
— Пусть повоют, пусть!
— Нельзя, Никита Сергеевич, в лобовую, надо взвешенно действовать. В епархиях постепенно количество приходов сократим, потом еще подрежем. А если одним махом — скандал получится. С Западом непростые отношения, а вы сами учите — надо идти с капиталистами на сближение.
— На сближение идти, но не сдаваться!
— Я не говорю сдаваться, следует действовать дипломатично.
— Черт с ними, будем дипломатично! — уступил Первый Секретарь. — Если б ты знал, Дима, как у меня руки по попам чешутся, так бы и надавал тумаков!
— Вы все правильно говорите, но сами знаете, что на Западе церковь в почете. Люди там набожные. Осуждение нам будет.
— Набожные! — передразнил Хрущев. — Хапуги и скряги! Только деньги и копят. В могилу, что ль, хотят их унести? Мы дома людям строим, жилье бесплатно раздаем, а там всю душу у простого человека за квартиру вытрясут, пока он за нее расплатится. Мы больницы строим — приходи, лечись! А у них лечение за деньги происходит, нету денег — умирай! Если попал человек в больницу, так там в первую очередь смотрят, не как его вылечить, а есть ли у больного денежки заплатить! Надо там и бинт купить, и вату купить, и зеленку купить, и пилюли, какие пропишут, с собой прихватить, и шприц для укола, ведь в их больницах ни шприцов, ни таблеток задаром давать не собираются, и простыней бесплатных там не постелят! Не знаю, что еще надо купить, чтобы, попав за границей в больницу, живым остаться! А еще надо докторам деньги раздать, чтобы они тебя лечить пришли, жизнь твою спасали. Нет денег, пусты карманы — сдохни! Бедный капитализму не интересен, — вещал Никита Сергеевич. — А у нас и покормят, и лекарства дадут, и на скорой помощи привезут, и белье постелют, и больничную одежду наденут! Может, не блестящая еще обстановка в советских больницах, не шелковые простыни, но все чистое, аккуратное! И медикаменты есть, и шприц с иголкой, и бинт найдется, и вата, а если необходимо — врачебный консилиум соберется, чтобы человеку помочь.
— Не всегда так, как вы говорите, получается. Трудновато пока в здравоохранении, — робко возразил Дмитрий Трофимович.
— Трудности, конечно, есть, но разве кого-нибудь в СССР лечить отказались? Разве роженицу в роддом, если у нее денег нет, не допускают? Допускают и стараются оказать помощь в лучшем виде, вот про что я толкую. Согласен, некоторых лекарств недостает, но мы нашу фармакологию утроенными темпами развиваем, сколько заводов по производству медицинских препаратов построили? Десятки заводов. И будем строить еще. Институты над изобретением новых лекарств день и ночь вкалывают, и все это делается, чтобы помогать каждому человеку, а не так, чтоб избранным. Разработана мощная государственная программа! Зачем мы коммунизм строим? Чтобы у советского человека все для счастья было: и квартира, и еда, и тепло, и вода с канализацией в доме, а не вонючая яма на дворе. Чтобы малыши в детсад ходили, в больницах чтоб лечили, в домах отдыха — отдыхали! Всем этим, во имя счастья трудового человека, партия занимается, и мы, будь уверен, Дмитрий Трофимович, доведем это дело до совершенства. Лекарства наши копеечные, в буквальном смысле ничего не стоят, а у капиталиста еще надо деньги найти, чтобы медикамент купить, вот о чем я говорю, в этом разница. Построение коммунистического общества, где все для человека предназначено, есть первейшая задача Советской власти, а не примитивный колокольный звон! Поэтому попы, священники разные, их культовые обряды, сходки с поклонениями божеству, одурманивание всех и каждого, советскому человеку чужды. У нас сам трудовой человек — божество! Попы только жить мешают, дурью голову забивают!
— Вы прямо все по полочкам разложили! — с обожанием выговорил Леонид Ильич.
— Партия объявила попам бой, а ты, Дмитрий Трофимович, про Рождество заладил!
Шепилов растерянно смотрел на Первого Секретаря.
— Запретить надо колокола, — продолжал Хрущев. — Петр I однажды церковный звон запретил, колокола поснимал и на пушки переплавил. Вот был царь! Царь-народник! Он церковь не жаловал.
— Вы — как он! — бесхитростно вставил Брежнев.
Хрущев внимательно посмотрел на подчиненного: «Не насмехается ли надо мной?»
Высказавшись, Леонид Ильич принялся за куриную ножку.
«Вроде не насмехается!» — решил Первый Секретарь.
— Запретим этот чертов звон, Леонид, обязательно запретим! И проклятый венгр-кардинал людей взбаламутил, — снова возвращаясь к венгерским событиям, продолжал Хрущев. — Выпустили из тюрьмы, думали порядочный, оценит, а он стал пропаганду насилия вести, проповеди читать, только уже не про Бога, не про любовь к ближнему заговорил, а довел до смертоубийства. Религия, мать ее! Под хороших маскируются, а сами — бесы! Правильно сказано: «Церковь — опиум для народа!»
Никита Сергеевич с сожалением посмотрел на пустую бутылку.
— Что, Леня, сходить за новой?
— Можно.
— Нет, не пойду, а то Нина Петровна заругает.
— Как знаете! — пожал плечами охотник.
— Что там твой друг Кадар?
— То парень наш. Венгрия теперь никуда не денется. Как говорится — порядок в танковых войсках! — отрапортовал Леонид Ильич.
11 января, пятница
Напротив Хрущева сидел заместитель председателя КГБ Миронов.
— Ну что, добил Круглова?
— Добил. Написал заявление, сегодня последний день у Маленкова дорабатывает.
— Я б его, гада, за Можай заткнул!
— Уходит, Никита Сергеевич, уходит!
— А Маленков что?
— Фыркал.
— Во фрукт!
— Я ему сказал, ЦК считает, что целесообразней Круглова с замминистра снять.
— Ты с Маленковым говорил?
— Я.
— А с Кругловым?
— Я и Рясной, Круглова мы на Лубянку вызывали. Строго говорили.
— Правильно. Надо его еще из квартиры турнуть!
— Турнем.
Миронов заерзал на стуле.
— Никита Сергеевич, вы меня от Серова защитите!
— Чего он?
— Наезжает. Говорит, чего к Хрущеву бегаешь?
— Ревнует, значит?
— Не то слово!
— А Рясного не ревнует?
— Тот же пьет. Серов его всерьез не воспринимает, но как работника ценит. Людей со старанием сейчас мало, а кадры, как вы знаете, решают все, — закончил Миронов.
— Не кадры, а я все решаю! — раздраженно сказал Хрущев.
— Конечно, вы, товарищ Первый Секретарь!
12 января, суббота
Николай Александрович Булганин любовно раскладывал перед собой почтовые марки, выстраивая их правильными рядами. Те марки, где рисунок размещался горизонтально, ставились в один ряд, те, что главной имели вертикаль, — заполняли другой. И хотя, по правилам, марки полагалось размещать по нарастанию номинала, Николай Александрович этим правилом пренебрегал:
— Когда альбом открываешь, главное, чтоб страница красиво смотрелась! — излагал он.
Собирание марок произошло случайно, кто-то рассказал, что президент США Рузвельт был заядлый филателист и что на встрече глав государств-союзников в Тегеране, когда тройка решала судьбу фашистской Германии, для позитивного настроя к СССР Рузвельту преподнесли редчайшую советскую марку. Президент США сиял от удовольствия. Этот факт полностью подтвердил дипломат Громыко.
— А что в этой марке особенного? — поинтересовался Булганин.
Выяснилось, что в 1935 году была выпущена специальная серия, посвященная спасению челюскинцев, одна из марок серии была с изображением летчика-героя Сигизмунда Леваневского, позже на ней была сделана надпечатка: «Перелет Москва — Сан-Франциско через Северный полюс», только летчик Леваневский до Сан-Франциско не долетел. Совершая рискованный перелет, он, вероятно, сбился с маршрута и разбился, а марки с надпечаткой уже поступили в продажу и разошлись одиннадцатитысячным тиражом, отчего получила у коллекционеров впечатляющую оценку.
— Значит, марки имеют ценность?
— Разумеется! — подтвердил Громыко. — Некоторые дорожают почище золота.
— Я на дорогие марки вряд ли скоплю, расходов у меня много! — вздохнул Николай Александрович, но марки собирать начал.
Раскладывание и разглядывание их совершенно успокаивало нервы; испортит кто-нибудь настроение, приедет предсовмина домой и сразу садится за марки. Возни с ними была уйма! Чтобы поместить марку в альбом, нужно было наклеить на ее заднюю сторону небольшую бумажку, которая, впоследствии, цеплялась за альбомный лист. Но расклеить марки в альбом было делом техники, сложнее всего было красиво расположить их на листе, выставляя серию за серией так, чтобы, когда возникали они перед глазами — дух захватывало!
Сопя от удовольствия, премьер больше часа двигал взад-вперед бумажные квадратики. Превосходную подборку он привез из Англии, огромный альбом передали китайцы, и индусы, как едут в Москву, обязательно запасаются марками.
— Пусть побольше стареньких прихватят! — указывал протокольщику Николай Александрович. — Ты им намекни деликатно.
Скоро и без намеков приезжающие в СССР делегации запасались почтовыми марками, которые торжественно вручались председателю Советского правительства.
— Наконец расставил! — с облегчением вздохнул Николай Александрович и осторожно, чтобы не перепутать выстроенные в ряды марочки, отодвигал альбом на край стола: придет с учебы дочь и старательно приклеит марки на плотные страницы кляссера.
Особо нравились Николаю Александровичу марки с изображением женщин, для таких он выделил отдельный альбом и именовал его «коллекция», особый раздел в этом альбоме занимали марки с обнаженными красавицами, любовно названными «лягушата». Другие альбомы были заполнены животными и растениями, флору и фауну филателист также не оставил без внимания. Был еще толстый кляссер с пароходами, самолетами и поездами и значительная подборка отечественных марок. Марки, которыми Николай Александрович занимался в этот вечер, приехали из Белграда, привез их посол в Югославии Фирюбин.
Как много девушек хороших, Как много ласковых имен! Но лишь одно из них тревожит, Унося покой и сон, Когда влюблен! —расхаживая вокруг письменного стола и любуясь своей работой, напевал удовлетворенный коллекционер.
19 января, суббота
— Что, Лерочка, теперь будет? — причитал Маленков. — Сегодня министерства сокращаем, а завтра Хрущ за нас возьмется. Круглова в Киров заткнул, заместителем председателя Совнархоза. Из-за дочери его гробит, что его сыну отказала. Это ж феодализм! — возмущался Георгий Максимилианович.
— Сами разбаловали!
— Сколько раз его перед Сталиным выгораживал, а он?!
— Хватит мямлить! — отрезала Валерия Алексеевна. — Хрущева надо снимать, а вы все вздыхаете, хнычете! Нечего сказать — мужики!
— После визита Чжоу Эньлая Булганин из себя вышел, — рассказывал Маленков. — На переговорах председателю Совета министров слова вымолвить не дал, обрывал, цыкал! Куда такое годится?
— К себе Булганина подбери, разъясни, что сожрет его Хрущ.
— Я никогда Никите плохого не желал. Помнишь, как он к нам в гости приезжал? Тебе цветы приносил, детям игрушки всякие, такой разлюбезный.
— Клоун! — зло выговорила Валерия Алексеевна.
— Что ему не хватает — почет, уважение, все есть!
— Ничего ты не понимаешь! — грозно скривилась супруга. — Ему никто не нужен, одна мечта — Кремль. Царек хренов!
— Хруща уже никто выносить не может. Всех допек!
— А вы — цуцики!
— Пытаемся ему объяснить.
— Чихал он на ваши объяснения!
— Не угадали мы с Никитой! — причитал Георгий Максимилианович.
— С собой вы не угадали, быстрей думайте!
— Пора, пора!
— Только не дрейфьте, а то, как бы сами на улице не оказались!
— Теперь не окажемся, Булганин, кажется, в Хрущеве разочаровался.
— И Нинка двуличная. Ходит, как ни в чем не бывало, с улыбочкой ехидной здоровается, вот уж — лучшая подруга! Спит и видит, как своего хорька на престол посадить. Я бы эту хрущевскую семейку за сто первый километр!
— И зятек на «Победе», как князек, раскатывает. Манию величая возымел. Попробуй без него что-нибудь в печать дай! Без Аджубея новость не новость! — горестно сообщил Георгий Максимилианович.
— А вы все молчите, все осторожничаете!
— Зря жалел Хрущева! Думал на него в трудный момент рассчитывать можно.
— Рассчитывать! Держи карман шире!
— Когда-нибудь, говорил Хрущев, мы с тобой все по местам расставим!
— Он и расставит, а вы сопли жевать останетесь!
— Чую неладное! — поежился Маленков.
— А ты дачу рядом строил, дружить хотел! — неприятно выговорила Валерия Алексеевна.
За окном разыгралась вьюга, закружила, заплясала. Георгий Максимилианович решил пройтись перед сном. Вышел на улицу, но через двадцать шагов повернул назад.
— Ну, метет, аж глаза зажмурил! — пожаловался он жене. — Раньше на лыжах ходил, а теперь сижу, нос на улицу высунуть боюсь.
— За Никитой ты прям летал! — недовольно отозвалась супруга. — Долетался! Соберись, Егор, с мыслями!
31 января, четверг
Нюра теперь раскатывала по Москве в автомобиле, к цековскому буфету, а значит, лично к ней прикрепили машину. Частенько буфетчица наведывалась в горком, вот и сегодня заехала повидать подругу. Московский горком партии гудел, как растревоженный улей, из уст в уста передавалась потрясающая новость: Валерий Кротов отравился!
— Слыхала? — подтолкнула буфетчицу подруга.
— Чего?
— Фурцевский хахаль отравился.
— Да ну?!
— Да. Выпил какую-то гадость.
— Говорили, он ее духи пьет! — припомнила Нюра.
— То духи, а теперь он яд принял! — выдала подавальщица.
— Вот тебе на! Чего он, умер?
— Врачи вовремя подоспели, спасли.
— А Екатерина Алексеевна что?
— Она его больше к себе не допускает. Он ей рога наставлял, — обстоятельно разъяснила Лида.
— Кобель проклятый! Жалко, что не издох! Вот люди, любовь не ценят! — причитала буфетчица. — Про Кротова шоферня столько гадостей говорила, а ведь кто он был? Никто. Катерина Алексеевна его подобрала, полюбила. Она такая видная, благородная, умница! Где в Москве такую вторую сыщешь? Люби, чего еще надо? Так нет, растоптал любовь, ходил и на девок пялился!
— Не пялился, а лез!
— Аспид! То одну, то другую ему подавай! — негодовала женщина.
— Мужикам верить нельзя! Ты, Нюр, им не верь, сплошное притворство!
— Я, Лид, им никогда не верила.
Этой же новостью Маленков поделился с Булганиным.
— Вроде Катька с Фирюбиным шашни крутит? — вскинул брови председатель Совета министров. — При чем тут какой-то бывший?
— Поговаривают, что она его специально отравила, чтоб новую любовь не испортил, — высказал предположение Георгий Максимилианович. Он недолюбливал Фурцеву, которая в рот Хрущеву смотрела.
— Да не-е-е! Ерунда! — отмахнулся Николай Александрович. — Катька на такие подлости не способна!
— Не знаю, не знаю! — пожал плечами Маленков.
— Поговаривают, студент частенько ее кулаками гонял, — высказался Николай Александрович.
— И правильно, баб бить надо! — выдал Маленков.
— Ты-то, Егор, не очень свою Лерку буцаешь! — заулыбался председатель правительства.
— Женщины, Николай Александрович, это непредсказуемые организмы!
— Непредсказуемые, но очень милые! — отозвался маршал.
Маленков ехал домой в хорошем настроении, потихоньку он начал Булганина приручать.
4 февраля, понедельник
— Где такое унижение видано?! Прийти в посольство, в полномочное представительство суверенного государства, и там тебя, как последнего шкодника, заставят отпечатки сдавать!
— Как преступника, Никита Сергеевич! Как будто в тюрьму сажают! — с негодованием кивал Аджубей. Он, как и уславливались, заехал к тестю на работу и первым делом рассказал, что в посольстве Соединенных Штатов всем открывающим визу для поездки в Америку, необходимо сдать отпечатки пальцев. — Ни стыда у них, ни совести!
— Похабный заход! А с граждан других стран отпечатки берут?
— Только с социалистических.
— До какой низости докатились! Не давать им отпечатков! — топнул ногой Хрущев. — Пусть в визе отказывают! Ни один советский человек больше в Америку не поедет! Не хотят по-человечьи жить, не надо!
Никита Сергеевич задохнулся от возмущения.
— Как с американцами о мире договариваться, когда они такое кощунство делают? Стыд и срам! Позвоню Громыке, скажу, чтобы немедленно писал ноту в посольство, чтобы требовал отменить поганое правило!
— Как будто советский человек второго сорта! — поддержал тестя Аджубей.
— Мы им устроим второго сорта! Картотеку по нам решили завести! Выкусят! — Первый Секретарь выставил под нос зятю фигу. — Ты не смей туда ходить, лучше вообще никуда не езжай, лучше дома сиди! Какая вопиющая дискредитация!
— Я в Америку не рвусь, — подобострастно заверил Алексей Иванович.
— И правильно! Еще издеваются! Где там Громыко?! — подняв трубку, злился Никита Сергеевич. — Теперь Андрей Андреевич у нас МИД возглавляет. Шепилова я на Секретаря ЦК вернул. У Громыко в МИДе лучше получится.
— Андрей Андреевич человек знающий, — поддакнул зять.
— Ну, где он?! — рявкнул в телефон Хрущев.
Министр иностранных дел был на переговорах с индусами. Из приемной сообщили, что сразу, как переговоры завершатся, он перезвонит.
— Ждем! — ответил Никита Сергеевич и, взглянув на благообразного зятя, оттаял: — Как там Лешенька?
— Растет! — расплылся в улыбке отец.
Младшего внучка дед боготворил.
— Меня, Никита Сергеевич, главным редактором «Комсомолки» выдвигают, — робко сказал Аджубей.
— Потянешь? — уставился на зятя Хрущев.
— Не подведу, — пообещал журналист.
— Главный редактор подобной газеты — это не просто командир, он уже политик!
— Я это хорошо понимаю.
— Старайся!
Слово «старайся» означало, что Никита Сергеевич не против выдвижения. Алексей Иванович благоговейно смотрел на тестя, без одобрения которого никому пути наверх не было, а комсомольский руководитель Шелепин с подобным вопросом идти к Хрущеву не осмеливался, не знал, как тот такую инициативу расценит.
Из приемной напомнили, что приема ожидает секретарь Ленинградского обкома Козлов.
— Фрол Романович! — оживился Никита Сергеевич. — Давайте его сюда! Мировой парень! — отрекомендовал ленинградца Хрущев.
Козлов долго и пышно докладывал об успехах области, настойчиво приглашал на открытие Ленинградского метрополитена.
— Метро, Никита Сергеевич, целиком ваше детище, ленинградцы хотят сказать вам спасибо! — убеждал он. Рассказал, что строительство атомохода-ледокола «Ленин» вышло на завершающую стадию, и скоро корабль-гигант должны спускать на воду, и что судостроители также ожидают у себя Первого Секретаря.
— Может, и вправду съездить к ним, Алеша?
— События большие, и метро, и атомный ледокол.
— Первый в мире атомный ледокол! — восторженно объявил Хрущев.
— Поехать надо, — скромно опустив глаза, осмелился предложить зять.
— Как редактору комсомольской газеты для тебя это будет подарок!
Фрол Романович сообщил, что Ленинградский горком собирается ходатайствовать за присвоение министру путей сообщения Бещеву звания Героя Социалистического Труда, в войну Бещев руководил Питерской железной дорогой, много сделал для блокадного города, его стараниями удвоенными темпами строилось метро.
— Не поймешь тебя, сначала сказал, что метро моя заслуга, а теперь — Бещева! — поддел ленинградца Первый Секретарь.
Козлов смутился.
— Шучу, шучу! — похлопал гостя по плечу Никита Сергеевич и пригласил всех отобедать.
Весь обед Никита Сергеевич последними словами чистил американцев, предложил и для них перед получением советской визы устроить сдачу отпечатков пальцев.
— Отменят они эту процедуру! — убеждал зять. — Ведь такая нелепость!
— Ваш авторитет на любого подействует! — заявил Козлов.
5 февраля, вторник
— Тебя, Леша, можно поздравить, теперь ты Геракл! — обнимал друга Женя Петров.
— Утвердили! — довольно отвечал Алексей Иванович. Никита Сергеевич позвонил Шелепину и сказал, чтобы с назначением зятя не затягивали.
С утра в редакции зачитали приказ о назначении Аджубея главным редактором «Комсомольской правды». Алексей Иванович уже месяц исполнял обязанности руководителя издания, с того момента, как прежний главред Горюнов перешел на работу в «Правду».
— Ты не знаешь, Никита Сергеевич в Питер поедет? — поинтересовался у друга Женя. — А то мой министр нервничает.
— Не в Питер, а в Ленинград! — с расстановкой поправил Алексей Иванович. — Смотри, при Никите Сергеевиче так не выскажись, сразу с работы вылетишь!
— Учту, старичок, учту!
— Приедем, — важно отозвался бывший одноклассник.
Женя Петров с восторгом хлопнул товарища по плечу:
— Ну, ты даешь!
Алексей Иванович самодовольно улыбался.
— Я тут тебе кое-что принес, — ударив себя по лбу, вспомнил Женя. — Чуть не позабыл, голова садовая!
Порывшись в портфеле, он извлек на свет зеленый стеклянный пузырек.
— На-ка!
— Это что еще?
— Лекарство от всех болезней — мумие. У тебя детки малые, может пригодиться.
Алексей Иванович повертел склянку в руках:
— Где взял?
— С Алтая. Родственник передал, он альпинист, год по скалам ползал.
— Себе-то такое богатство оставил?
— По-братски поделил.
— Спасибо, друг! В гости зайдешь? — Молодые люди стояли перед воротами резиденции Ленинские горы, 40.
— Неудобно, — мялся Женя.
— Рада обрадуется.
— Еще ляпну не то…
— Идем! Младшего покажу.
На работе по-человечески поговорить с товарищем не удалось — к главному редактору выстроилась бесконечная очередь, вот, по примеру тестя, он и пригласил старого приятеля прокатиться до дома в его служебной машине, а заодно и поговорить. Заправски толкнув калитку, Аджубей ступил на охраняемую территорию. Высокий прапорщик на входе покосился на Петрова.
— Со мной! — отчеканил Алексей Иванович.
Прапорщик козырнул.
— Здрасьте! — смутившись проговорил Женя.
Хрущевский зять твердым шагом направился к дому. В прихожей они столкнулись с Сергеем и Лелей. Леля заехала забрать Сережу в театр. Аджубей представил друга.
— Хочу пригласить вас завтра в ресторан, отметить мое назначение, — со значением проговорил он.
Сергей замялся, хотел уже сказать, что на завтра он приглашен на день рождения к университетскому профессору, куда не пойти не может — Радин муж ему мало нравился, но вмешалась Леля:
— Когда и где? — уточнила она.
— В пять, в гостинице «Москва».
— В пять — значит, в пять! — за Сережу решила девушка.
— И ты, Жень, приходи, — кивнул другу новоиспеченный главный редактор.
Леля, наконец, увезла своего воздыхателя на представление, Алексей Иванович показал Женьке малышей, Рада визиту обрадовалась, старинные друзья появлялись у них не часто, она напоила мужа и гостя чаем, угостила пирогами. Когда Женька Петров ушел, родители стали купать Лешку. Рос мальчик не по дням, а по часам: активный, смышленый, ко всему тянулся, заинтересованно ощупывал каждую новую вещь, ничего не боялся и постоянно улыбался. В отличие от старшего братика, купаться любил, никогда в воде не хныкал, а наоборот, радостно плескался и озорничал.
Алексей Иванович развернул полотенце, Рада подхватила баловника и принялись вытирать. Вытерли, одели и положили в кроватку. После купания глазки мальчика слипались, он засыпал.
— Иди ко мне! — позвал жену Алексей.
— Иду! — отозвалась она. — А это что? — кивнув на трюмо, где появилась незнакомая склянка, спросила Рада.
— Не обращай внимания, — ответил муж и бросил пузырек в мусорную корзину. — Иди же ко мне!
6 февраля, среда
При старте межконтинентальная ракета Р-7 взорвалась. Маршал Неделин сидел зеленый. Что докладывать Жукову, как отреагирует на неудачу Первый Секретарь, что скажет Булганин?
— Почему ракета не пошла? — спросил он Королева.
— Будем разбираться, — ответил Главный конструктор.
— Ракеты должны летать! — повысил голос начальник военной приемки.
Королев не ответил, зло махнул рукой, развернулся и пошел к машине.
— Когда полетит? — вслед ему взывал Неделин.
— Полетит! — не оборачиваясь, выкрикнул конструктор.
Сотрудники КБ стояли с унылыми лицами.
7 февраля, четверг
От Булганина вышли Малиновский и Рокоссовский. Более часа они сидели у председателя правительства. Рокоссовского, наконец, отозвали из Польши и теперь подыскивали ему место в Министерстве обороны. Но выбор оказался невелик, точнее, никакого выбора не было. Накануне Жуков объяснял Косте, что надо пересидеть:
— Ведь не пойдешь ты заместителем начальника Генерального штаба? Несолидно! Ты, Константин, маршал, герой войны! — нахваливал Георгий Константинович, но при этом никакой должности не предлагал.
Малиновский убедил Булганина подписать Постановление правительства о назначении Рокоссовского заместителем министра обороны, но круг его вопросов оставался неясен, чем и кем он будет командовать, на этот вопрос мог ответить только военный министр. Постановление правительства давало Константину Константиновичу лишь высокий статус, машину, кабинет, небольшой аппарат, а реальной власти не давало. Жуков же планировал запихнуть Костю в отдаленный военный округ, чтобы тот не мешался под ногами.
— Погуляй месяцок-другой, отдохни, за это время определимся!
Чувствуя неладное, Рокоссовский в сопровождении Родиона Яковлевича поспешил в Кремль. После визита маршалов Николай Александрович набрал Жукова спросить на счет Константина Константиновича, но разговор не получился.
— Вы зачем звоните, Николай Александрович?! Я лично занимаюсь Рокоссовским, по результату доложу! А вот как вы, не спросив, мне заместителей суете, об этом еще поговорим!
Булганин опешил, он-то думал, что с Жуковым Малиновский назначение Рокоссовского обговорил! Еще Родион Яковлевич нажаловался, что министр обороны издал приказ, по которому всем военным надлежало начинать день с физической подготовки. Обязательный приказ. Это касалось и генералов, и даже маршалов.
— Маршал Еременко вчера охал, — рассказывал Малиновский: — «В присутствии сопливого лейтенанта я обязан тридцать раз отжаться, пробежать кросс, выполнить комплекс на брусьях и за подписью недоделанного инструктора рапортичку в министерство отправить! Что за вздор?! Мы не автоматчики, мы маршалы! Послал их к едрене фене!» — разъяренно выкрикивал военачальник.
Но что могли герои-маршалы поделать с Жуковым? Как повлиять? Ничего не могли поделать. А сейчас маршал Победы практически послал подальше председателя Совета министров! Николая Александровича переполняла обида, он набрал Хрущева и стал жаловаться на грубость Георгия Константиновича. Хрущев прямо получал удовольствие от услышанного.
— Ты что, расстроился?
— Да, я расстроился. Я все-таки председатель Совета министров! — выговорил раздосадованный Николай Александрович.
— Так посылай его, как Еременко, на хер! — хохотал Никита Сергеевич.
— Может, и ты Жукова пошлешь? — едко вымолвил Булганин.
— Запросто! — пообещал Хрущев, однако после разговора с Булганиным насупился. Как ни крути, субординация есть субординация, а председатель правительства есть председатель правительства, и вольностей здесь позволять не положено. Георгий Константинович мог и на Хрущева косо взглянуть, про остальных говорить не приходилось, авторитетов для маршала не существовало — выли от него маршалы, выли генералы. Кросс не пробежишь, формально — невыполнение приказа. А за невыполнение приказа появлялась реальная возможность отстранить неугодного от должности.
После разговора с министром обороны Булганин разнервничался не на шутку:
— Жуков о себе возомнил, ни с кем не считается! — председатель Совета министров трясся от возмущения. В кабинете было душно. — На улицу пойду, похожу, а вы тут окна распахните, проветрите! — велел он помощникам и вышел из кабинета.
В коридоре Николай Александрович нос к носу столкнулся с Маленковым.
— Куда торопитесь, Николай Александрович?
— Осоловел в четырех стенах сидеть, решил пройтись, — откровенно сознался премьер.
Георгий Максимилианович посмотрел на часы, время было обеденное.
— Может, перекусим?
Булганин согласился. Пока обедали, а расположились на обед в комнате отдыха у Маленкова, зашел разговор о сокращении министерств.
— Как так, Николай Александрович, перебаламутить Совет министров, всю устоявшуюся структуру свернуть? — негодовал Маленков. — В столице, а не на окраинах управление государством должно быть сосредоточено, министры должны в Москве сидеть, а не у черта на куличках! Пока Совнархозы заработают, сколько времени пройдет? И потом, как понять, кто кому подчиняется? Кто над кем стоит? В министерствах все до мелочей отработано было!
— В законе четко прописано кто под кем, — уклончиво отвечал Булганин, но и ему не нравилась хрущевская идея с ликвидацией значительного числа министерств.
— Это на бумаге хорошо, а в жизни иначе! — не успокаивался Георгий Максимилианович. — Вместо 10 общесоюзных и 15 союзно-республиканских министерств создано сто Советов народного хозяйства. Сто, вдумайся! Где ж экономия? А Госплан разогнали? Главенствующего планового органа нет! Как жить без централизованного плана?
— Если не ошибаюсь, Егор, ты тоже «за» голосовал.
— По дурости, исключительно по дурости! Все руки потянули, ну и я, как при Сталине, по инерции. Мне, Николай, новая схема покоя не дает! Я суть переосмыслил и прямо скажу — напуган!
Маленков выставил на стол локти и придвинулся ближе:
— В ЦК поговаривают, что Никита хочет и обкомы разделить. Сейчас у нас областной комитет партии в области командует, а теперь, говорят, вместо одного будет два обкома. Один обком будет промышленный, станет промышленностью управлять, а другой — сельскохозяйственный, на нем сельское хозяйство замкнется. Чехарда какая-то!
— Про разделение обкомов я ничего не знаю, — с изумлением отозвался Булганин.
Собеседники так активно говорили, что обед остыл. Маленков распорядился его заново греть.
— А с китайцем что? — продолжал он.
— С китайцами?
— С Чжоу Эньлаем. Почему наш председатель Совета министров на переговорах оказался в стороне? — продолжал нагнетать Маленков. — Можно подумать, что Никита и за тебя решает. Так быть не должно!
— Да, тут казус, — погрустнел Булганин.
— Я для сведения, тебе это говорю. Так, дорогой Николай Александрович, жить нельзя! В отсутствии Сталина ты и Секретариат и Президиум ЦК, и Совет министров вел, можно сказать замещал Иосифа Виссарионовича, а сегодня никого не замещаешь — ты есть первое лицо, а за тебя абы кто решает! — качал головой Георгий Максимилианович. — Такое впечатление, что Никита один за всех!
— Заносит малость, — со вздохом отозвался Булганин.
— Приедет к нам осенью товарищ Мао Цзэдун, с ним, только тебе, Николай, говорить, никаких Хрущевых! — вещал Маленков.
— Довольно политики! — расстегнул пиджак председатель Совмина. — Рюмку нальешь?
9 февраля, суббота
— Пап, я сделал Леле предложение, — подойдя ближе, выговорил Сергей.
Хрущев уставился на притихшего сына. Тот стоял перед отцом какой-то потерянный, грустный, ждал, что тот скажет. Никита Сергеевич сам женился рано и никогда об этом не жалел.
— На Леле?
— Да.
— Любишь ее?
— Люблю! — поднимая на родителя глаза, отозвался юноша.
— Если любишь, женись! — отец протянул сыну руку, а потом резко притянул к себе: — Разлетаются дети, сначала Радочка, теперь ты! До боли сжимается сердце. Матери сам скажу! — пообещал Никита Сергеевич.
Нина Петровна категорически выступала против ранних браков, не каких-то конкретно, а любых. «Раз на ноги не встали, чего семью заводить? Пока молод, учиться надо, а не влюбляться!» — так рассуждала.
20 февраля, среда
— Вы почему вмешиваетесь в управление войсками?! — жестко проговорил Жуков. — Кто дал право?!
— Маршала Неделина я приглашал по вопросам ракетостроения. Я хотел…
— Не сметь без моего ведома трогать военных! — оборвал Брежнева Жуков и бросил трубку.
Переговорив с Сергеем Павловичем Королевым по дальности баллистических ракет, Леонид Ильич решил пригласить на разговор маршала артиллерии Неделина, хотелось разобраться в будущей эксплуатации, понять перспективы и дислокацию ракетного оружия. Основное назначение ракетоносителя Р-7 — доставка на американский континент атомной бомбы. Последние запуски были неудачными. Королев и его помощники обещали, что ракета в ближайшее время полетит. С момента основания ракетных КБ Неделин выступал их куратором от Министерства обороны, и Брежнев хотел обменяться с ним мнениями, ведь чтобы вникнуть в суть, важно выслушать разные точки зрения: и Челомея, и Янгеля, и Неделина, не зацикливаться на позиции Сергея Павловича Королева. Такой человек, как Неделин, мог лучше других спрогнозировать развитие ракетной техники, указать на сильные и слабые стороны конструкторов. С новой техникой всегда непросто, новое часто ломается, всякое новое приходится долго доводить до совершенства, по ходу работ возникают тысячи вопросов, а испытания — точно лакмусовая бумажка в химии, вот только «лакмусовая бумажка» ничего хорошего в последнее время не предвещала.
Переключившись на оборонную отрасль, Брежнев сконцентрировался на основных направлениях — на бомбе и на ракетостроении, третьей значимой составляющей стояла радиолокация, без которой не то что ракета не полетит, а скоро не поднимется в воздух ни один самолет. В производстве бомб процесс был отлажен, а вот с ракетами случился провал. Не один раз пообщавшись с конструкторами, Леонид Ильич решил позвать Неделина, но Неделин к Секретарю ЦК никак не ехал. Один раз ему позвонили — нет на месте, объясняют — на испытаниях, второй — у министра, отвечают, и третий звонок не дал результата, и, главное, не перезванивает!
— Что же это такое! — возмутился Леонид Ильич. Он почти год занимал кабинет на Старой площади и твердо обосновался в ЦК. Отношения с Хрущевым и Булганиным у него сложились наилучшие, работы Брежнев не боялся, а тут такое пренебрежение! Всегда осторожный Леонид Ильич разнервничался, набрал по кремлевке Неделина и как по заказу — нашел.
— Почему не являетесь? Что у вас за отношение к партии?! — грозно начал он, словом, наехал на маршала.
Неделин оправдывался, объяснял, что был на полигоне, не имел возможности связаться с Москвой, а по прибытии находился у министра.
— Для вас ЦК пустой звук?! — возмущался Брежнев. — Завтра к 17 быть у меня! — и через час последовал жуковский звонок.
Жуков говорил безапелляционно. Отчитал Секретаря ЦК как мальчишку. Получалось, Жуков ни в грош Брежнева не ставил, а Жуков — фигура тяжеловесная!
— Еще неизвестно кто сегодня главней, Булганин или Жуков! — терзался поспешностью своего звонка Леонид Ильич. С кем, с кем, а с Жуковым портить отношения ни при каких обстоятельствах нельзя! У Брежнева заныло сердце.
12 марта, вторник
Позавчера она ворвалась к Хрущеву, села перед ним и, умоляюще сложив руки, произнесла:
— Отпустите в Югославию!
Хрущев взглянул в несчастное лицо, потухшие глаза и позволил ехать. Наконец, она вырвалась к любимому, взлетела на крыльях любви. Самолет парил над облаками, а она только и повторяла: «Скорей! Скорей!» Пять часов полета растянулись на вечность. Пятница неумолимо кончалась. Для свидания с милым оставалась суббота и полвоскресенья. Как истерзали ее долгие недели разлуки!
Николай Павлович встретил Екатерину Алексеевну у трапа. Она протянула дрожащую от волнения руку.
— Здравствуй!
— Здравствуй! — он чуть прикоснулся губами к ее щеке — женщина вздрогнула. Ей хотелось прильнуть к нему, прижаться крепко-крепко, а они интеллигентно держали друг друга за кончики пальцев и, улыбаясь, шагали к зданию аэропорта, лишь по поспешности шагов можно было догадаться, что они торопятся остаться вдвоем.
Формальностями на границе занялись работники посольства, а влюбленные, отойдя в сторонку, покорно ожидали, пока Секретарю Центрального Комитета вернут паспорт. В Югославии не получалось, как в других странах народной демократии, где командовали советские советники, запросто управлять властями, у Тито была железная дисциплина, и только он мог здесь распоряжаться.
На Екатерине Алексеевне был тонкий плащ, и она чувствовала, как его рука придерживает ее за талию. Из-за облаков выглянуло солнце, начало припекать. В машине они сидели очень близко. Он держал ее за руку.
В город ехали более получаса. Ворота посольства заблаговременно открыли. Заехали во двор, вышли из машины и чинно, на глазах любопытствующих сотрудников, прошествовали в посольскую резиденцию. В прихожей у Фурцевой и Фирюбина приняли верхнюю одежду, а они уже торопились наверх, уже поднимались по лестнице туда, где можно остаться вдвоем, наедине, и где никто не будет мешать, и когда дверь в спальню закрылась, он жарко обнял любимую, и ее губы слились с его жадными губами.
15 марта, пятница
Небывалое дело — Марфа встала и сама пошла навстречу гостье, три шажка сделала, а ведь надо было их как-то совершить нестройными неходячими ногами:
— Ну, здравствуй!
— Здравствуйте!
Надежда подхватила старушечку и усадила на кровать, что стояла вдоль теплой стены, в начале которой была дровяная печь.
— И ты сядь!
— Спасибо! — поблагодарила некрасивая женщина и присела на ближайший табурет.
— Лучше к столу садись, там удобней будет!
Женщина послушно пересела, оказавшись в тени, абажур приглушал яркость настольной лампы, лицо ее сделалось еще более некрасивым и даже — отталкивающим.
— Долго я вас искала, и вот нашла!
— Знала, что придешь, ждала тебя! — ответила Марфа. — Угощайся чайком. Наденька, не спи!
— Мне нужно с вами поговорить, — отказываясь от угощенья, начала Светлана.
— Еще наговоримся, давай сперва чайку испьем! Замерзла, поди?
— Очень замерзла, — два квартала Света шла пешком, одета была легко, продрогла — почему в марте бывает так холодно?
— Сейчас согреешься. Наденька, что чаек-то?
— Готов.
— Так разливай!
— Я по делу пришла, — не дотрагиваясь до чашки, сказала Света. — Я должна вам свою просьбу рассказать!
— Успеется, попей чайку. Мы же никуда не торопимся!
Светлана, обжигая губы, отхлебнула:
— Может, кто-то не торопится, а я уж точно тороплюсь!
— Хо-зя-юш-ка! — глядя на гостью, по слогам, ласково, произнесла старушка.
Света замерла — так звал ее отец!
— Каждый человек право на покаяние имеет, и твой отец имеет, — твердо сказала молитвенница. — Он же, как и все мы, раб Божий!
— Да, раб! — всхлипнула Светлана Иосифовна, вспоминая эти чудовищные сны, где папа метался и просил, умолял сжалиться над ним, помочь.
— Душу ему надо спасать, душу! — шепнула старушка.
Светлана хотела встать, подойти к ней, взять ее маленькую несуразную ладонь и поцеловать, но почему-то сдержалась, не двинулась, оставаясь сидеть на том же жестком неудобном стуле.
— Он давно меня просит, давно приходит, — тихо проговорила она.
— Все по воле Божьей! — отозвалась Марфа.
— Что ему будет там, на том свете?
— Не нам решать!
— Кругом его ругают.
— А тебя никогда не ругали?
— Ругали.
— И меня ругали. Вот так-то!
Светлана раскрыла сумочку и протянула старице сложенные вчетверо деньги — пятьсот рублей, робко коснувшись ими ее махонького кулачка, она попросила:
— Отпоете?
— Деньги зачем суешь? Деньгами такие дела не делаются, со своими деньгами ты далеко не уйдешь.
Света продолжала держать ассигнации.
Марфа отвела ее руку:
— Ты их нищим раздай, у меня покамест хлебушек есть, покамест не голодаю. Поняла?
— Поняла, — тихо отозвалась Светлана Иосифовна, а деньги протянула Наде. — Вы, Наденька, раздайте, я же никуда не хожу, никого не вижу! — вымолвила она.
— А ты ходи, раскрой глаза! Я, слепая, и то, что нужно, разбираю!
Дочь Сталина спрятала деньги и утерла крошечным платочком слезу.
— Отпоют его, матушка?
— Отпоют.
16 марта, суббота
— Как же я это сделаю?! — услышав Марфину просьбу, обомлел отец Василий. — Он же деспот, Божий палач!
— Человек он, со всеми грехами и радостями, такой, как и ты!
— Как сравнила! Кого?! Это ж Сталин!
— Один Бог нам судья, а мы — рабы Его, что положено Господом, то и творим: просят покойника отпеть, значит, надо отпевать и молить за грехи его прощения!
— Если кто про такое узнает, мне крышка! — трясся отец Василий.
— Исаак готов был принести в жертву Господу сына! И принес бы. Бог так его проверял! — очень строго сказала Марфа. — Может и нас с тобой Вседержитель проверяет.
Василий молчал.
— Кто выдерживает испытания, кто — нет, — на Небе рассудят! Все дороги к Отцу Небесному, и она — дочь своего несчастного отца, поэтому сюда пришла, ко мне, к тебе!
— Я, матушка, отпою, — сдался священник. — Да только так страшно, что не передать!
— Бог с тобой! — строго и одновременно сердечно проговорила старица.
Отец Василий трижды перекрестился, перекрестил Марфу, Надю и под конец как-то совсем жалостливо, а не победно и широко — как обычно, дрогнувшим голосом пропел:
— М-и-и-р в-а-а-а-м!
— Мир всем! — отозвалась женщина-инвалид.
17 марта, воскресенье
Никита Сергеевич проводил выходные дома, гулял, спал, любил повозиться с внучатами. Старший, Никитка, был уже осмысленный парень — два годика, а вот Лешка только начал ползать, даже не ползать, а кувыркаться по родительской кровати, на которую его частенько выкладывали. Малышу было уже четыре месяца. Забавные детишки в младенчестве, светлые, точно светлячки — смотрят во все глаза, улыбаются, а пахнут как замечательно! И пусть какают — запах от грудничков изумительный! Раскрываешь для себя эту восхитительную прелесть общения с малышами в преклонном возрасте, ну не совсем в преклонном, правильнее, в зрелом, когда полжизни прожил и многое уже испытал, тогда-то и оценишь по достоинству награду понянчиться с родимым маленьким человечком. За счастье этих прелестных лапуль можно все отдать!
Перед тем, как взять ребенка на руки, Нина Петровна заставляла Никиту Сергеевича тщательно мыть руки, обязательно с мылом, так как он вечно трогает не пойми что, здоровается с первым встречным, постоянно таская за собой потертую рабочую папку. Где она только не перебывала, эта папка; и в машине болталась, и по разным командировкам ездила, и неизвестно кто ее хватал.
— Тщательно мой! — наказывала супруга. — Лешенька еще совсем маленький!
С каким удовольствием дед брал улыбчивого внука на руки! Тискал, сюсюкал. Илюша обижался, надувал губки:
— Меня ты больше не любишь? — с трагической обидой произносил мальчик.
— Люблю, мой родненький! — Никита Сергеевич прижимал к себе обиженного, и они долго сидели на диване, но обида у Илюши все-таки оставалась.
18 марта, понедельник
Поездка эта произвела на Светлану жуткое впечатление. Они выехали из Владимира вечерним поездом, разместившись в мягком вагоне, где было всего два места. Одно заняла она, а другое — последняя Васина жена, именитая спортсменка Капитолина Васильева, хотя спорт был у женщины в прошлом, Капитолина давно не ставила рекорды, а работала в Центральном военторге. Весь обратный путь они молчали.
Свидание организовали в кабинете начальника Владимирской тюрьмы, маленького, лысоватого подполковника в стоптанных валенках, который при появлении двух женщин в дорогих шубах встал и, переминаясь с ноги на ногу, предложил чая. Чай подали с пряниками и кусочками колотого сахара в небольшой сахарнице, со сколотым у крышки фаянсом. Приносил чай рослый лейтенант, тот, что сидел за столом в коридоре перед дверью подполковника.
— Василий Иосифович чувствует себя хорошо, на порядки не жалуется. Регулярно получает газеты, гуляет. Мы за ним присматриваем, — участливо проговорил подполковник и вышел, оставив женщин дожидаться «заключенного Васильева». Не то что фамилию покойного вождя, но и первоначальную отцовскую фамилию Джугашвили ему носить не позволили, так и оставался заключенный Сталин Васильевым, строг был кремлевский приказ.
Над диваном, куда присели посетительницы, висел портрет Светиного отца в маршальской форме со звездой Героя Труда на груди. В кабинете было сумрачно и казенно.
Он зашел в двери по-арестантски, с заложенными за спину руками, чуть горбясь. От его былой генеральской бравости не осталось и следа.
— Вася! — воскликнула Капитолина.
Дверь за конвоирами закрылась. Женщины кинулись к нему, стали обнимать, целовать.
Василий Иосифович встретил их хмуро. Он был в серой потасканной телогрейке, таких же невзрачных ватных штанах, в очень неопрятных башмаках, коротко стриженный, с резкими, глубоко очерченными морщинами, особо заметными на лбу, с неестественно бледной, желтоватой кожей. Наконец, он поднял руки, прижимая к себе сначала жену, потом сестру. И запах у него теперь был другой, не Васин, а какой-то тусклый, неприятный.
— Не забыли, не забыли! — шептал арестант.
— Как же тебя забыть, Васенька!
— А они, — он украдкой посмотрел на входную дверь и понизил голос, — они про все забыли!
Василий перестал обнимать женщин.
— Тебе налить чаю? — спросила сестра.
Вася сел между ними.
— Да. Сахара не жалей!
«Как он осунулся, постарел, — подумала Света. — Где мой прежний Вася-Василек?!»
Светлана пыталась завладеть его рукой. Рука оказалась такая же мягкая, как тогда, на воле.
— Надо писать всем: Булганину, Хрущеву, Ворошилову. Ворошилов Председатель Верховного Совета! Надо просить, чтобы меня выпустили! Упросить! Они должны понять! — на его глазах выступили слезы. — Я все передумал, я исправился!
Василий Иосифович с мольбой взглянул на сестру.
— Они сломали мне крылья, они… — он замолчал.
— Успокойся, милый! — прошептала жена.
— Пишите, мои родимые, ходите! Ты, Света, ходи, ты же с пеленок их знаешь!
— Вот чаек, Васенька! — придвинула чашку Капитолина.
Женщины с двух сторон обнимали несчастного, заключенный потихоньку отхлебывал горячий чай, пытаясь кусать черствый пряник.
— Я тут разваливаюсь, разлагаюсь. Зубы выпадают, мозги плавятся от безысходности. Либо я убью кого-нибудь, либо убью себя! — он смотрел с невыносимой тоской. — Долго я не протяну, вы должны вытащить меня отсюда. Поезжай к ним, Света!
Он заплакал, припал лицом к мягкой, хорошо пахнущей норковой шубе сестры.
— Сестренка моя, сестренка!..
Поезд стучал колесами.
«Неужели он заперт навеки?»
В темнице брат переродился, уже не был похож на себя, лишь гордый поворот головы и редкий повелительный жест, внезапно проскальзывающий, указывали на прежнее величие. Тюрьма, точно механический пресс, наваливалась и расплющивала людей, не оставляя ни надежды, ни памяти, ни веры, сводя жалкое существование к самым низменным и примитивным желаниям.
А еще тюрьма приближала смерть!
Свете было больно. Кому брат только не писал: и Маленкову, и Булганину, и Хрущеву, даже Молотову отважился написать. В письме к Молотову он каялся, просил прощения за себя, за отца, за все, что сделал его всесильный отец с Полиной Семеновной, объяснял, что он, Василий, теперь это понял, умолял сжалиться! Письма заключенного приходили в адрес Лазаря Кагановича, когда-то ближайшего к Иосифу Виссарионовичу человека. Василий молил о пощаде Ворошилова, умолял Микояна, но никто не откликнулся, ни единой весточкой, ни намеком, никто, ни один человек! И выходя на прогулку из сырого, мглистого помещенья, ступая на сизый кирпичный тюремный двор, единственная радость невольника заключалась в том, что из-за туч появится солнышко и узнает его — вечного узника Сталина-Джугашвили.
20 марта, среда
Света стояла в церкви, с головы до ног закутанная в черный платок, боялась, что кто-нибудь ее узнает. Храм снаружи выглядел грустно: облупившиеся белые стены, чуть покосившееся крыльцо, но внутри был благостный, душевный, и людей в нем хватало, а не так, что никого нет. В мерцании свечей старинные фрески на стенах точно оживали, и люди казались другими, собранными, сердобольными; переступая порог церкви, они точно светились, оттаивали — так ей представлялось. Света не решалась креститься, никогда в жизни она не крестилась и никогда не переступала порога Божьего дома. Только прогуливаясь рядом с собором или проезжая мимо на машине, смотрела на вскинутые ввысь золотые купола и слышала протяжные, а иногда отдающие радостью перезвоны церковных колоколов, которые теперь замолчали по воле тех, кто сегодня сидел в Кремле.
Боже духов и всякия плоти Смерть поправый и диавола упразнивый, И живот миру твоему даровавый: Господи, упокой душу усопшего раба твоего Иосифа! —читал священник.
— Где ж покойник? — спросила полная подслеповатая старуха, не отыскав установленного по центру церковного пространства гроба.
— Нету. Говорят, пропал человек на далеком Севере, — объяснила всезнающая соседка.
— А-а-а! Так помянем его, странника Божьего, помянем! — старуха начала усердно креститься.
Со святыми упокой Христе, душу раба твоего, и деже несть болезнь, ни печали, ни воздыхание, но жизнь бесконечная!Батюшка подошел к аналою, произнося молитву растяжным песнопением, кадил по четырем сторонам, равномерно взмахивая и продолжая торжественно и печально петь.
— А имя-то его как, не услышала? — повторив за отцом-настоятелем проникновенные слова Божьего слова, снова поинтересовалась толстуха.
— Сказывали, Иосиф.
— Красивое имя, библейское.
— А мне так больше на убийцу-Сталина похоже! — отозвалась та, что стояла чуть сзади.
— И за разбойников с убийцами молятся!
— Будь ты неладен, Иосиф! — со злостью выдавила старушка с выцветшими волосами. — Мужа моего в тюрьме сгноил! — резко развернулась и выбежала из храма.
Плачу и рыдаю, Егда помышляю смерть, И вижу во гробех лежащую По образу Божию созданную Нашу красоту, Безобразну, бесславну, не имеющую вида! —пел отец Василий.
Во блаженном успении вечный покой, Подаждь, Господи, Душе усопшего раба твоего Иосифа, И сотвори ему вечную память! Ве-е-ечная па-а-амять! Ве-е-ечная па-а-амять! Ве-е-ечна па-а-амять!Солнце било неумолимо, слепило, казалось со всех сторон. Света растворилась в его неуемном сиянии, потонула в блаженстве. На душе был мир. Она вскинула голову, вглядываясь в голубое, совершенно безоблачное небо и улыбнулась.
«Интересно, приснится мне папа?» — подумала дочь и пошла к автобусной остановке. Шерстяной платок еще прикрывал голову, заслоняя лицо. Опасалась, чтобы не проведали, куда она ездила, чтобы никто ничего не прознал, добиралась Света до Коломны на перекладных, а не на прикрепленной машине с аккуратным водителем. Около двух часов ехала, сначала в метро, потом на электричке, а от станции шла пешком. Точно так и возвращаться пришлось.
6 апреля, суббота
Брежнев сидел у Хрущева дома. Никита Сергеевич стоял на кухне и жарил картошку. Готовил по собственному рецепту: нарезал ломтиками, не тонко и не толсто, потом утопил сковородку в кукурузном масле, так и жарил. Картошечка получалось румяная, с корочкой.
— Как задумывал, так и получилось! — радовался кулинар. — Сейчас, Леня, настоящим лакомством тебя угощу, спасибо скажешь.
Леонид Ильич внимательно наблюдал за манипуляциями надевшего кухонный фартук руководителя — как он лихо управлялся со сковородой, с огнем, и все время что-нибудь приговаривал.
На кухню пришел Сергей.
— Сережка, ты?! — обрадовался отец. — Мы с дядей Леней картошечку жарим. Покушаешь с нами, жених?
Сергей смутился, но все уже знали про его грядущую свадьбу.
— Достань-ка из холодильника сало!
Сын поспешил к холодильнику.
— Только не копченое, копченое не бери, обычного возьми, с прожилочкой! Нашел?
— Нашел.
— Надо его такими продолговатыми кусочками порезать, смекаешь? У, ё! — неудачно перехватив сковородку, чуть не обжегся Никита Сергеевич.
— Давай-ка я сделаю! — глядя на неумелого Сережу, вызвался Леонид Ильич. Он скинул пиджак, засучил рукава и стал заправски резать сало, потом отыскал хлеб и его порезал.
— Где сядем, Никита Сергеевич?
— Да прям здесь и сядем, — Хрущев указал на стол перед окном.
Брежнев принялся расставлять тарелки. Никита Сергеевич снял с плиты шипящую сковороду с аппетитной золотистой картошечкой, водрузив на массивную чугунную подставку, заблаговременно установленную на столе. В руках у повара появилась большая ложка.
— Давай тарелки! — скомандовал он.
Брежнев тут же протянул свою.
— Тебе побольше, помощник! — насыпая, подмигнул хозяин.
Леонид Ильич счастливо улыбался:
— И твою, сын, давай! Ты такой картошечки не едал!
Не позабыл Никита Сергеевич и про себя.
Все принялись жадно есть, картошка действительно удалась.
— Осторожней, горячо! — предупредил Никита Сергеевич.
— Я обжегся, — со слезами, ответил Сергей, он положил в рот слишком большую порцию.
— Ты дуй, дуй, остужай! — учил повар. — Иногда так замечательно картошечку сготовят, что маму родную забудешь! А не пригубить ли нам, Леня, для пищеварения?
— Я только за!
— Доставай, водка в буфете припрятана, в самом низу.
— Я пить не буду! — замотал головой Сергей.
— Тебе никто и не предлагает, — отозвался отец. — Я впервые водку пробовал, когда на твоей маме женился, а до того в рот не брал. Так что не рассчитывай, а мы с дядей Леней выпьем!
Водка была настояна на хрене.
— Хороша хреновушка! — оценил Первый Секретарь. — Наливай по второй!
Закусывалась хреновуха салом.
— С салом ее самое оно! Ну, как у тебя, Леня, успехи?
— Товарищ Кадар вам привет передавал, позавчера с ним общался.
— Тихо в Венгрии?
— Угомонились. Арестованных, Надя и компанию, из санатория в румынскую тюрьму перебросили, хотим их в Будапешт возвращать.
— Надо с пленниками помягче. За них Тито просил, все-таки из югославского посольства их заполучили. Тут большая политика, учти! — предостерег Никита Сергеевич.
— Кадару Надь неудобен.
— То ясно. Но Кадара мы поставили, так что пусть на ус мотает, что старшие говорят. Объясни ему.
— В следующем месяце в Будапешт ехать планирую, — отрапортовал Брежнев.
— Кадар должен показать себя миру гуманистом, а то Надь ему не нравится! Мне тоже много кто не нравится!
— Кадар считает, что Надь — мина замедленного действия, в любой момент может рвануть. Если Надь когда-нибудь окажется за границей, Венгрии только хуже станет. Когда заваруха шла, много людей поубивали, Янош повторения не хочет.
— Социализм был в опасности, поэтому и били больно! — изрек Хрущев.
— Вот и Кадару Надь — кость в горле.
— Кость не кость, а пусть нас слушает, скажи, чтоб без самодеятельности!
— Обязательно, обязательно! — закивал Брежнев.
Леонид Ильич снова налил:
— Вчера был у Королева в Подлипках. С ракетами буксуем, — признался он.
Первый Секретарь отставил рюмку:
— Без ракет нам хана! Как думаешь, когда технику наладят?
— Обещают вот-вот.
— Вот-вот — это не ответ, а демагогия! Докладуй каждую неделю!
— Понял, Никита Сергеевич!
— А Челомей?
— Владимир Николаевич старается. Его разработки масштабно внедряем. Это я про оснащение военно-морского флота ракетами говорю.
— Про подлодки?
— Про них. Ракеты Челомея стартуют из-под воды.
— У американцев подобное есть?
— Нет.
— Известие с плюсом! — потер руки Хрущев. — Сережа на работу к Челомею просится. Так, Сергей?
— Я дипломную работу заканчиваю. Как ее защищу, сразу иду в челомеевское КБ.
— Владимир Николаевич сказал, что Серегина дипломная работа на уровне кандидатской диссертации! — похвалился отец.
Брежнев пожал студенту руку:
— Поздравляю! — потом снова перевел глаза на Первого Секретаря. — Повезло вам, Сергей у вас целеустремленный, не в пример моему Юре.
— И твой Юрка за голову возьмется, дело молодое, — пообещал Хрущев. — Не пьет он у тебя?
— Нет, не пьет.
— Это самое главное. Пьянство человека до добра не доводит. А мы давай выпьем, нам уже спиться не грозит, только перепиться можем! — усмехнулся Первый Секретарь и высоко поднял рюмку: — За победу социализма на всей земле!
— За победу социализма! — молодцевато поддержал Брежнев и залпом ухнул рюмку.
— Ты давай закусывай, не геройствуй!
— Закусываю, закусываю! — благодарно ответил Леонид Ильич и ухватил кусок сала. — У нас с Королевым появилась мысль запустить в космос спутник и установить на нем передатчик, чтоб весь мир из космоса советский сигнал услышал.
— Задумано красиво! — кивнул Никита Сергеевич. — Только не ты, Леня, первый про то догадался, и не Королев.
— А кто?
— Я Сергею Павловичу намекнул.
— Я чужие лавры себе не приписываю, всем известно, что космос целиком ваше детище! — выговорил Леонид Ильич. — Как только Р-7 полетит, первым делом, как вы предусмотрели, спутник в космос подымем.
Хрущев одобрительно кивнул.
— Как бы американцы первыми спутником не выстрелили! — опасливо проговорил Никита Сергеевич. — Они, Леня, нам в спину дышат.
— У них тоже техника не летает.
— Надо, Леня, чтобы у нас летела, а летает она у американцев или нет, мне до сраки!
— Мы стараемся.
— Мало стараетесь! Спутник, Леня, — это прорыв в будущее!
— Я вам спутник запустить всем сердцем обещаю!
— Ты не сердцем обещай, а дело делай! — насупился Никита Сергеевич. — А то ходите, обещаете!
— Еще немного, совсем немного — и полетит! — божился Леонид Ильич.
— Ты лей давай, рюмки пустые!
— Лью, Никита Сергеевич, лью! — Секретарь ЦК со старанием разлил. — Пожаловаться хотел, разрешите?
— Валяй!
— Меня, Никита Сергеевич, Жуков обругал, — несчастно проговорил Брежнев. — Запретил без его согласия военных трогать. А я за дело переживаю!
— Обматерил, что ль?
— Нет, без мата.
— Так это он любя! — ухмыльнулся Никита Сергеевич. — Не обращай внимания.
— Обидно!
— Он у нас Бонапарт, Георгий! Ему волю дай, всех по струнке ходить заставит. Выкинь из головы. А на ракеты навались, не расслабляйся, если спутник запустим, прям расцелую тебя!
— Мы еще с Сергеем Павловичем думаем живое существо в космос отправить. Собаку, например, или обезьяну. Это, видимо, тоже ваша идея? — подстраховался Брежнев.
— Мечтатели, бл…! Сначала ракету запустите, а то рассуждают, выдумывают, а ракета у них не летит!
— Неисповедимы дела твои, Господи! — с выражением произнес Брежнев.
Хрущев ошалело посмотрел на подчиненного:
— Очнись, коммунист! Забыл, что Бога нет?
— Это я так, к слову, — перепугался Брежнев. — Вырвалось.
— Секретарь ЦК, а несешь околесицу!
Леонид Ильич виновато смотрел на начальника.
— Пап, дай добавки! — подставляя тарелку, попросил Сергей.
— Что, понравилась моя картошечка? Так вкусно тебе даже любимая жена не пожарит!
Сын смутился. Хрущев стал накладывать добавку.
— И нам с дядей Леней останется, — выскребая сковороду, приговаривал кулинар.
Никита Сергеевич уставился на пустые рюмки.
— Где водка, Леонид? Что замер, как привидение?!
8 апреля, понедельник
Хрущеву не давала покоя биография Сталина. На протяжении последних лет сталинскую биографию переиздавали миллионными тиражами, цитировали в учебниках, приводили в различных исторических изданиях и как апофеоз включили в главный справочник государства — Большую Советскую Энциклопедию. В результате история СССР, где, переиначив факты, генералиссимус приписал себе решающую роль, сделалась реальностью. Иосиф Виссарионович не стеснялся выпячивать собственную личность. Особо раздражало Хрущева место, где черным по белому прописывалось, что Сталин является «ведущей силой партии и государства».
— Самовосхваление! — негодовал Первый Секретарь. — Ведущей силой Советского государства является рабочий класс и его авангард — Коммунистическая партия!
В биографии вождя поначалу говорилось так: «Сталин — это Ленин сегодня!» Не удовлетворившись таким скупым определением, Сталин переделал фразу по-иному: «Сталин — достойный продолжатель дела Ленина, или, как говорят у нас в партии, Сталин — это Ленин сегодня!» Не мог Никита Сергеевич стерпеть унижения Ленина. Постоянно думая о вопиющей фальсификации, Хрущев велел подготовить новый вариант учебника «История партии» и переписать биографию покойного вождя. Это ответственное дело он поручил Шепилову, и скоро отредактированная «История» увидела свет. Прежние учебники планировалось изымать из обращения и уничтожать. Переправленную сталинскую биографию предполагали брать за основу и включить в переизданную Советскую энциклопедию. Никиту Сергеевича не смутило, что том тиражом четыреста тысяч экземпляров придется перепечатать. Вовремя Анастас Иванович подсказал ограничиться вставкой, поступить точно так, как сделали в отношении врага народа Берии: несколько страниц с портретом опального маршала из книги изъяли, а взамен вклеили новые. Большая Советская Энциклопедия распространялась по именной подписке, что давало возможность целенаправленно изменить содержание.
Хрущев лично курировал Шепилова, регулярно обсуждая с ним, как движется работа.
— Мы провели расследование и установили, что при написании сталинской биографии авторский коллектив не проявил объективности и в угоду культа личности принес в жертву историческую правду, — докладывал Дмитрий Трофимович. — Биография Сталина была переполнена льстивыми характеристиками. Сталина называли «гениальный вождь», «несравненный мастер марксистского дела», «великий стратег социалистической революции». Сталину приписывались черты непогрешимого мудреца и сверхчеловека. Все это мы поправили.
Хрущев одобрительно кивал.
— В биографии неправильно, в духе восхваления, освещалась роль Сталина в подготовке и проведении Великой Октябрьской Социалистической Революции. В ней, например, сказано, что «он непосредственно руководил делом подготовки восстания».
— А Ленина позабыл! — возмущался Первый Секретарь.
— Мы восстановили справедливость! — успокоил Шепилов. — Далее. В биографии явно имело место преувеличение роли Сталина в период иностранной военной интервенции и Гражданской войны. Сталин характеризуется как непосредственный организатор важнейших побед Красной Армии, как творец главных стратегических планов. Исторически неправдиво показана его роль в образовании Союза Советских Социалистических Республик. Замалчивается тот факт, что товарищ Сталин отстаивал идею «автономизации», то есть вхождения всех национальных республик в состав Российской Федерации.
— Эта позиция в корне неправильная. Она была подвергнута резкой критике Лениным! — высказался Хрущев.
— А мне кажется, не такая плохая. Вместо пятнадцати республик имели бы сейчас одну — Россию, — возразил Шепилов.
— Ты, Дмитрий Трофимович, с дуба рухнул?! — нахмурился Первый Секретарь.
— Я, Никита Сергеевич, так рассуждаю: в неделимом государстве с национальностями проще, а у нас все республики имеют равные права: есть большая республика, есть маленькая — а права одни. Бывает область в РСФСР во много раз по территории и по численности больше союзной республики. Уравниловка, на мой взгляд, несправедлива, — высказался Шепилов.
— Чтоб я подобного не слышал! — отрезал Хрущев. — Ленин за эти дурные мысли Сталина критиковал, сам Ленин!
— Я не спорю, я рассуждаю, — пытался оправдываться Шепилов.
— Ленина читай! — недовольно фыркнул руководитель партии. — Ты, Дмитрий Трофимович, Секретарь ЦК, профессор, а мелешь всякую чушь! Иди, работай, после поговорим!
Шепилов ушел.
— Вот дает! Мы Сталина разоблачаем, а ему, вишь, Сталин мудрецом представился!
9 апреля, вторник
Гюнтер Болте теперь жил на Ленинском проспекте, в отдельной двухкомнатной квартире. С видной блондинистой телефонисткой, которая еще в Берлине стала ему женой, приключилась беда — она забеременела и при родах умерла. На руках у немца остался ребенок. Гансом хотел назвать мальчика-богатыря отец, но какой Ганс в России? Гюнтер и сам превратился в Генриха. Поломал отец голову и выбрал имя Григорий. Телефонистку Иру похоронили в Берлине, на кладбище, где были схоронены его родители. Пришел на похороны начальник спецсвязи, видно, до Гюнтера он был неравнодушен к улыбчивой белоруске; пришли подруги телефонистки, переводчицы, и военврач приперся тот самый, что принимал роды. С этим врачом у Генриха чуть не случилось драки. Разняли. Немец рыдал навзрыд. Больше недели маршал Жуков обходился без фазаньих котлеток, воздушных омлетов и наваристых рыбных супов. После девятого дня, когда по русскому обычаю поминают усопших, почерневший, осунувшийся повар вернулся на кухню и с усердием взялся за дело. Подруги Ирины, сменяя одна другую, сидели с крикливым Гришей, и Генрих мог быть при главнокомандующем. Спасибо им, подругам, иначе бы повар забегался и запорол стол, а принимал тогда Жуков направо и налево — и американцев, и англичан, да кто только не напрашивался за стол к военачальнику!
Узнав о постигшем Генриха несчастье, Георгий Константинович принял в его судьбе участие, дал очередное звание, велел своему доктору наблюдать ребеночка, снабдил детскими вещами, миниатюрной кроваткой, коляской и ванночкой. С того момента прошло без малого десять лет, маршал без немца уже не мог обходиться, повар незаметно влился в его окружение и сделался незаменим. Гришенька вырос и теперь ходил в школу, а в этом году сопровождал в первый класс братика — голубоглазого Сашку; на годовщину Ирины приехала из Минска ее семнадцатилетняя сестра, а жить где? Понятно, у сестриного мужа остановилась. На диванчике в коридоре расположилась и, понятно, стала за маленьким Гришей присматривать. Как раз тогда маршала в Одессу послали, а значит, и Генрих с ним. Так и прижилась сестричка, выучилась парикмахерскому делу, стала стричь маршала, а потом, как появилась в доме Галина Александровна, и ей пригодилась. К тому времени Маруся не только стригла, а овладела нехитрой техникой маникюра. Усердием, знанием и опрятностью заслужила она похвалу самой Галины Александровны. И как уж произошло, тут никому не известно, только однажды проснулись Маруся и Генрих в одной постели, с тех пор и зажили как родные. Через два годика родился у них Сашенька.
11 апреля, четверг
Орган, которому было подотчетно все и вся, — Президиум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза — собирался раз в неделю. Каждый участник собрания имел в полукруглом кремлевском зале собственное место. Некоторые места, похоже, здесь были вечные: молотовское место — крайнее справа, ворошиловское — ближе к двери, место Лазаря Моисеевича Кагановича — по центру стола, с тем расчетом, чтобы в окно видеть часть соседнего здания и краешек синего неба, Анастас Иванович Микоян годами занимал установленный напротив Кагановича стул, лицом к огромной карте СССР, вывешенной на глухой безоконной стене, рядом разместился Георгий Максимилианович. Эти пятеро казались воплощением всесилья, которым дышала увенчанная громоздкими золочеными люстрами комната. Остальные участники собраний не задерживались в триумфальном пространстве надолго: возникали и пропадали. Каждый смертный стремился сесть за широкий стол, бесконечно вынашивая заветное желание править, и, наверное, просил бы об этом Бога, если б Бог в самом деле был.
Переступив порог святилища, человек становился обитателем Олимпа, поначалу тихим, застенчивым по сравнению с бронзоликими старожилами. Новенький довольствовался первым освободившимся местом, но с течением времени, если оставался цел и невредим, рос, мужал и начинал перемещаться на своем стуле-корабле по тронному залу, то благолепно приближаясь к всесилию, то, по неосторожности, отодвигаясь дальше. Многих, кто попадал в святая святых, уже не существовало на свете — жить в непосредственной близости Солнца опасно. Солнце могло расплавить, испепелить сверкающим могуществом, хотя оно же давало жизнь. Человеческая сущность подобна порхающему мотыльку — люди неизбежно тянутся к свету. Подфартило молодцеватому Булганину, когда-то сам Сталин пророчил его в преемники, но и без Сталина Николай Александрович преуспел. Судьба улыбнулась Георгию Максимилиановичу Маленкову, сохранив ему не только жизнь, но и непомерно высокие посты. Все та же судьба низвергла с высот хитромудрого Лаврентия, покарала неугомонного Вознесенского, казнила искрометного Бухарина, занесла меч над непререкаемым поборником марксизма Молотовым, да только молотовская сила оказалась крепче судьбы — выжил! Новоявленные вожди — Суслов, Шепилов, Фурцева, Брежнев, Аристов — были осторожны, трепетно слушали старших, равнялись на них, подражали. Им тоже хотелось властвовать, но места, которые были им отведены, позволяли лишь скромно кивать, не выражая замысловатых суждений, они еще не укоренились в святилище, оставались еще подростками, малышней, лишь за дверьми царственного пространства перед ними падали ниц.
Молотов сидел насупившись. Микоян объявил присутствующим о приближающемся хрущевском торжестве, очередном дне рождения, который наступал 17 апреля. Микоян заявил, что Никита Сергеевич совершил невозможное — накормил людей, целина дала колоссальный урожай. Особо Анастас Иванович остановился на себестоимости зерна: если в Подмосковье один центнер пшеницы обходился в 129 рублей, то в Казахстане составлял в среднем 30. Таким образом, экономия получалась колоссальная, сельское хозяйство становилось сверхликвидным.
— За такие подвиги Никита заслуживает высшей награды Родины! — подвел черту Микоян.
— Какие еще подвиги! — брезгливо скривился Молотов.
— Я бы не пожалел второй Золотой Звезды, — уточнил Анастас Иванович.
— Мы так привыкли звездами разбрасываться, что скоро значение их обесценится, — выговорил Вячеслав Михайлович. — Тем более Хрущев уже герой.
— Орден, пусть даже самый высокий, не может по достоинству оценить его вклад в целинное дело. Комсомольцу Шелепину за целину орден Ленина вручили, а разве их заслуги соизмеримы? Несоизмеримы! Много лет подряд мы закупали хлеб за границей, а теперь свой в достатке, к тому же дешевый. Велика заслуга Хрущева, что бы вы ни говорили!
— Плохо, что сегодня с нами Никиты Сергеевича нет, — заметил Маленков. — Я уверен, он бы от второй звезды отказался.
— Дело не в том, отказался или нет, дело в нашей оценке! — настаивал Микоян. — Дадим человеку вторую звезду, так он станет втрое больше работать, гореть будет!
— Никита и без звезд сверкает! — съязвил Ворошилов.
— Как бы не сгорел! — проворчал Каганович.
— Целина — невиданное дело! — осторожно вставил Брежнев, но никто не обратил на его слова внимания.
— Вторая звезда — перебор! — определил Молотов.
— На целине вспахано 35 миллионов гектаров земель. 35 миллионов, вдумайтесь! А дороги, а инфраструктура?
— Благодаря Хрущеву бьется там сердце, — опять вставил Брежнев.
— Я думаю, вторую звезду надо дать, — высказался Николай Александрович. В отсутствии Хрущева он председательствовал на заседание Президиума Центрального Комитета. — Ничего плохого в этом не вижу.
Каганович выпятил вперед губу:
— Сталину дали вторую звезду, так он ее ни разу не надел, ходил с одной. А мы заладили — этому вторую, тому третью! Герой он и есть герой! Я — против!
Отчаянно против выступили Молотов и Каганович. «За» голосовали Микоян, Булганин, Сабуров, Суслов и Первухин. Маленков и Ворошилов воздержались. Брежнев, Фурцева, Шверник и Аристов, как кандидаты в члены Президиума, не принимали участия в голосовании.
— Я должен откровенно сказать: плохой разговор получился! — докладывал Брежнев Хрущеву. — Прямо зло берет!
— Не мельтеши, Леонид, разберемся! — выдавил Никита Сергеевич. Хоть он и получил вторую Золотую звезду, был здорово раздосадован.
19 апреля, пятница
Ни при каких условиях, был хлеб или не было хлеба, хватало денег или денег не хватало, ругали Сталина или не ругали, ядерная гонка в стране не останавливалась. Не останавливалась она еще и потому, что западные страны и Америка наращивали ядерный потенциал. В центральном районе Тихого океана Великобритания провела испытания водородной бомбы мощностью около одной мегатонны. На 30 мая Англия планировала очередной взрыв. Советский Союз снова вышел с инициативой о запрете ядерных испытаний, но на самом деле ни та, ни другая сторона не верили в либерализм и гуманность друг друга. Американские и английские взрывы пугали СССР, а мощные взрывы на Новой Земле заставляли вздрагивать Америку.
Спецсостав двигался без остановок. Академики Сахаров и Харитон ехали в Семипалатинск. Ученые разместились в удобных соседних купе. В главном вагоне купе было всего два, каждое с умывальником, туалетом, с удобной двуспальной кроватью, между ними общая на эти два купе ванна. Остальную часть вагона занимал просторный салон, по центру которого стоял стол на десять человек и буфет с посудой. Андрей Дмитриевич Сахаров был теоретик, а Юлий Борисович Харитон отвечал за внедрение новейших идей в атомное производство. По мнению Курчатова, эти двое здорово дополняли друг друга. Пассажиры пили чай, обмениваясь новостями, вспомнили и недавний забавный случай с Доллежалем, которого, наконец, избрали действительным членом Академии наук. Друзья преподнесли ему памятный подарок в духе шутника Ландау. Новоиспеченному академику досталась академическая, черного бархата шапочка, где золотыми нитками было вышито слово «действительный», а в комплект к шапочке прилагались трусы, тоже черные, семейные, то есть длинные — по колено, на которых спереди тем же золотым шитьем сверкала разборчивая надпись «член». Долго смеялись розыгрышу, вспоминая, как заставили ученого раздеваться и примерять комплект «действительного члена»!
Позавчера основных участников ядерной программы принимали в Кремле руководители государства. Хрущев заверял ученых, что страна не пожалеет сил для превосходства в ядерном вооружении и лично для ученых ничего жалеть не будет. Просил, чтобы работы по совершенствованию сверхмощного оружия велись ускоренными темпами.
— Надо сделать бомбу такой устрашающей силы, чтобы враги трепетали. Царь-бомбу! — определил Хрущев.
Булганин рассказал, что КБ под руководством Сергея Павловича Королева к концу года доведет до ума межконтинентальную ракету, которая сможет доставлять атомный заряд в любую точку земного шара, и если ядерщики дадут мощную бомбу, но такую, чтобы она уместилась в ракету, Советский Союз будет полностью застрахован от вражеского вторжения.
Говорили много и долго. Ядерщики делились сложностями, Курчатов на пальцах объяснял членам Президиума суть ядерной реакции, пытаясь донести, как непросто связать все технологические процессы воедино. Хрущев задавал много вопросов, под конец снова стал говорить: то хвалил ученых, то ругал, требовал полной самоотдачи, спрашивал мнение маршала Жукова, заставлял высказываться академика Келдыша, теребил Булганина и Первухина — ждал от всех ответа, как сделать так, чтобы у Министерства среднего машиностроения все задуманное получалось? Первый Секретарь сорвался на курировавшего оборонные отрасли Брежнева, утверждая, что тот мало времени уделяет атомщикам. Влетело и министру финансов Звереву, который с деньгами на бомбы постоянно затягивал. В целом, общение с учеными складывалось, но вдруг разговор поменял направление, Хрущев стал ругать ученых, говорить, что дело тормозится именно ими, что он ждал большего, что академики заигрались, и он обещаниям больше не верит, повысил голос, стал грозить. И тут с места поднялся академик Щелкин.
— Легко, сидя в теплых кабинетах, рассуждать. А вы не забыли, Никита Сергеевич, что наши соратники, наши близкие друзья, кто стоял у истоков ядерных исследований, умерли, а многие стоят на краю могилы?
Щелкин с горечью взглянул на Первого Секретаря.
— Звенягин умер, Малышева нет, Ванников при смерти. Мы с Духовым еле ноги волочим! Дальше перечислять?! От чего они умерли? От радиации, от страшной лучевой болезни! И нам скоро за ними! А вы рассуждаете, обижаете, говорите, что халтурим! Мы на волосок от смерти! Вы не Бог, Никита Сергеевич, вы нам защиту не дадите, сколько бы кулаком ни трясли! — и сел, ничего больше не сказал.
Присутствующих после слов Щелкина точно парализовало. Никита Сергеевич побледнел, с минуту сидел, не шевелясь, потом встал с места, подошел к Кириллу Ивановичу, остановился перед ним и — грохнулся на колени.
— Прости меня за несправедливые слова, Кирилл Иванович! — склонив голову, простонал он. — На коленях тебя умоляю, прости! И у всех присутствующих прошу прощения! Простите, Христа ради!
Курчатов с Первухиным и Брежнев кинулись его поднимать.
— Встаньте, Никита Сергеевич, встаньте!
Он медленно, словно столетний старик, поднялся с колен.
— Простите, простите! — лепетал он.
— Никита Сергеевич, не сомневайтесь, мы все сделаем, больше, чем все! — уверял Курчатов.
Щелкин растрогался, протянул Хрущеву руку, Никита Сергеевич обнял ученого.
Первый Секретарь потихоньку успокоился. Прощаясь, он у каждого попросил прощения: у Ванникова, у Зернова, Духова, Кикоина, Тамма, Зельдовича, Доллежаля, Алиханова, Сахарова, Харитона, Курчатова, Флерова. Щелкина снова обнял.
27 апреля, суббота
Став Секретарем ЦК, Леонид Ильич перевез семью в Москву. Квартира у него еще со времен первого восхождения, при Сталине, была отличная, туда-то теперь все и заселились, но городу Леонид Ильич предпочитал дачу. Брежнев не был полноценным членом Президиума, а являлся лишь кандидатом, потому особняка на Ленинских горах ему не досталось. Этим обстоятельством партиец не расстроился, ничем не хуже оказался дом в Заречье, на берегу Москвы-реки. В трехсотметровое деревянное строение они с Викторией Петровной и заселились. Единственное, что попросил Брежнев, так это подстроить к даче просторную веранду с видом на реку — ведь никакого удобства в бестолковом узком балконе!
Детей у Леонида Ильича было двое, Юра, старший, и Галя, младшая. Юре был 21 год, Гале 19. Юра только-только окончил Днепропетровский металлургический институт и готовился идти на работу, но с переездом в Москву не определился куда. Родители советовали еще поучиться, закончить аспирантуру, защитить диссертацию. Юрий согласился, он не спорил с родителями, знал, что родители плохого не пожелают, они всегда беспокоились за сына и за дочь, а всевозможные юношеские шалости улаживал папин помощник дядя Костя. Главное, регулярно родителям звонить, и если отец не уезжал в командировку, приезжать по воскресеньям на обед.
Юрий боготворил Москву. Безусловно, Москва — это не Днепропетровск, и не Кишинев, и тем более не Алма-Ата, куда по работе передвигали Леонида Ильича. Москва — это особая планета, в Москве хотелось жить. Юрий с первых же дней отправился на Бродвей, то есть на улицу Горького. Он не носил стильного прикида, как продвинутые московские модники, но кое-что, безусловно, имелось. Наряд его не был обескураживающим, как требовала новоявленная мода свободных от предрассудков людей: цветная рубаха, яркие как светофор носки, зауженные книзу серые брюки, однотонный галстук-селедочка с маленьким узелком, вишневые туфли на толстой подошве; и хотя будущий аспирант не надевал вызывающего шок яркого пиджака, который непозволительно иметь сыну Секретаря Центрального Комитета, у Юрия имелся магнитофон, который, точно небольшой чемодан, удобно переносился с места на место. Таких штуковин у молодежи еще не было.
На магнитофоне Юра прокручивал самую забористую музыку. Когда собирались друзья, он включал «грюндиг» громче и поучительно изрекал: «Из последнего!» На слуху только появился Элвис Пресли, а вместе с Элвисом компании захватил оглушительный рок-н-ролл. Рок-н-роллу у Юрия можно было поучиться. Танцевал он круто. Ребята и девчата заглядывались на высокого, крепкого парня, непонятно откуда свалившегося на голову «Коктейль-холла» или ворвавшегося в самую гущу «Шестигранника», или со стонами извивающегося под рыдания гитары в объятиях продвинутого ресторана гостиницы «Москва».
За первую неделю Юра свел знакомство с парнем по прозвищу Чарли, который делал вид, что иностранец, до неузнаваемости коверкая русские слова, к месту и не к месту используя громкие английские выражения. Вторым его приятелем стал разбитной Юлиан. Втроем они экстазно отрывались, воображая себя то американцами, то канадцами, то англичанами. Только Юрию выставлять себя иностранцем не очень получалось, лицо выдавало чистого русака. Большим его достоинством была искренняя прямолинейность, благожелательность и, конечно же, деньги — «манюшки», которыми щедро снабжала любимого сына мама.
Юрий пил коктейль сразу из двух соломинок.
— Так быстро выпьешь, пей как все, — на ломаном русском предупреждал Чарли.
— Через одну соломинку вкус не тот! — доказывал Юрий.
Личности в эксклюзивных заведениях собирались примерно одинаковые — золотая молодежь и примкнувшие к ней отпрыски интеллигенции составляли костяк. Реже появлялись и сами представители советской интеллигенции: писатели, поэты, художники, композиторы, артисты, архитекторы, не обходилось и без иностранных дипломатов. Загранграждане пользовались чрезвычайным вниманием, в их присутствии даже обаятельный трубач Чарли переставал интересовать женскую половину публики.
Юрий балдел от вечерней жизни города, она его поражала. Дом, где он проживал, находился в центре, и парень за вечер успевал перебывать повсюду. Юлик и Чарли перезнакомили его со всеми друзьями и знакомыми. Поначалу те Юрия принимали настороженно: во-первых, он был какой-то отстраненный, сам в себе, что ли; а во-вторых — парень с периферии, что само по себе делало начинающего «тусовщика» на ступеньку ниже столичного истеблишмента. Но Юрию было по барабану кто и что о нем думает, он заметил, что такое же отношение у завсегдатаев джазовых вечеров было и к московским парочкам, ведущим не такую богемную жизнь, случайно попадавшим в подобные заведения. Брежнева-младшего познакомили с Катей Судец и Ирой Брусницыной, с весельчаком Антоном, с находящимся вечно под градусом Игорем Золотухиным и Славиком Смиртюковым, несколько раз он разговаривал с Лелей Лобановой, которая появлялась на людях исключительно в сопровождении Сергея Хрущева. Правда, эта пара на вечеринках не засиживалась. В конце концов, молодой Брежнев вписался в московскую «тусу», став в доску своим.
Этот воскресный день Юрий и Юлик занимались исключительно важным делом. Для усиления собственной значимости решили почудней раскрасить собаку, бульдога Чапу. Но возникло два обстоятельства, которые надо было принять к сведению, а именно, что Чапа — абсолютно не подходящее для «тусовщиков» собачье имя. Ну что за имя Чапа, в самом деле? Полная ерунда! Поэтому решили назвать бульдога Вильсон, но вскоре переименовали на звучного Арчибальда, потом имя Арчибальд заменили на Кнопф. Только бульдог: а) был девочка, и б) на чужое имя не отзывался.
— Как вообще он будет понимать, что мы его зовем? — спрашивал Юлик. — Придется тянуть собаку на поводке, а обижать животное негуманно!
— Давай звать пса Чак. Чак похоже на Чапу.
Стали проверять, будет собака откликаться на Чака или нет? Откликнулась, собака была умная.
— Тут главное интонация, — подсказывал владельцу собаки Юрий. — Зови ее в привычной интонации.
Бедного бульдога перекрасили в изумрудно-зеленый цвет и долго сушили феном, новейшим электрическим прибором, появившимся в доме Леонида Ильича благодаря стараниям сердобольного помощника Кости Черненко, вырвавшего невиданную вещь из минторговского «Павильона зарубежных образцов». Леонид Ильич скрупулезно следил за собственной внешностью, и такая штука, как фен, безусловно, ему пригодилась.
— Вот отец ох…т, если узнает, что мы его феном собаку сушим!
— Это редчайшая порода, — в оправдание заметил Юлиан.
— Он вообще собак ненавидит, однажды собака его укусила.
— Это ему за нелюбовь к животному миру. Они, — владелец похлопал Чапу-Чака по толстой попе, — братья наши меньшие.
Когда существо было окончательно высушено, затейники отправились на Бродвей, Бродвеем, Бродом, именовалась прежняя Тверская, а ныне — улица Горького. Брежнев накинул на плечи плащ, чтобы своим экстравагантным видом — уж больно цветной рубахой не смущать в подъезде лифтершу и охранников.
Два нереальных красавца с ярко выкрашенной зеленой псиной приперлись в «Коктейль-холл» и устроили на входе настоящий базар. Привратник отказался их впустить даже за большие деньги, так как с ними — собака!
— Она член семьи! — доказывал краснощекий Юлиан.
Юрий тупо кивал, отбивая ногами ритм музыки, которая вовсю грохотала на втором этаже. В конечном итоге за десять рублей любимое животное оставили на привязи у двери.
Бар был битком. Юлик поманил Чарли, который, бесчеловечно коверкая слова, объяснял двум симпатичным девчушкам, что он только вчера прилетел из Лондона. Не дождавшись «иностранца», приятели пошли танцевать. Юрий жег так, что от усердия от правого каблука отвалилась часть подошвы. Чтобы из обычной получалась стильная обувь, модникам приходилась наращивать подошву, то есть путем приклеивания резины делать подошву в несколько раз толще.
— Вот, б…, оторвалась! — раздосадовано проговорил Юра. Он снял ботинок с ноги и удрученно держал перед собой.
— Прилепишь! — ответил товарищ. — Давай по дриньку?
— Е… я обувь! — выругался танцор.
К ребятам подошла Катя Судец.
— Привет, Катюха! Дринканешь?
— Нет, я пить не буду. Мне кофе!
— Олрайт! Посиди с нами, скрась наше жалкое существование! — взмолился Юлик. — А мы тебя за это на руках домой понесем.
— Меня пока Славик носит, — ответила девушка.
— А где твой Славик? — оглянулся Юлиан.
— Скоро приедет. Он у отца «Опель» взял. Сам за рулем!
— Круто! — присвистнул Юлик. — Смотри, вон Ирка!
Катя вскинула глаза и увидала подругу.
— Ирэн, давай к нам! — пытаясь перекричать музыку и махая изо всех сил руками, взывала Катя.
Ира заметила подругу и махнула в ответ.
— Ее на руках носите, она с Антохой разругалась, — подсказала студентка.
Брежнев внимательно посмотрел на Иру Брусницыну, но особого интереса не проявил, чересчур она была угловатая и в компании самая серьезная. Он опасался в девушках подобной умности, считал, что такие обязательно окажутся занудами, неспособными на беззаветную любовь.
Ирина подошла. Подруги расцеловались.
— Ваш зверь внизу?
— Как догадалась?
— На Юлика похож! — девчонки хихикнули.
— Мы его на дороге подобрали, он маму потерял. Тебе не нужен?
— Н-е-е-е-е! — замотала головой Ира.
— Ирк, бухать будешь?
— Мне «Шампань».
— А я маякну! — тряхнул кучерявой головой Юлик.
Коктейль «Маяк» пользовался популярностью, кроме ликера «Шартрез» и коньяка туда добавлялся яичный желток, который и плавал поперек стакана круглым желтым глазом.
— «Маяк» — очень крепкий напиток, — сказала Ира.
— Зато с закуской! — подмигнул Юлиан.
Расстроенный поломкой ботинка Юрий положил туфлю на стойку бара, за которой сидел, и тоже заказал «Маяк».
— Слушай, — спросила Катя, — а почему Чарли всем рассказывает, что играет на трубе?
— Он учился, — ответил Брежнев.
— Когда?
— В детском саду! — хохотнул Юлик.
Все заржали.
— Так он девок кадрит, — объяснил Брежнев. — Если хочешь, Катюха, я тебе тоже расскажу, как я на трубе играю?
— Не надо!
— Были Хрущевы-Лобановы? — поинтересовался Юлиан.
— Ушли.
— А-а-а-а!
— У Сергея родители строгие, — уточнила Ира Брусницына.
— И сам Сергей, словно инопланетянин, говорит так, точно ему сто лет, и одет как старпер.
— Молодой ученый!
— Что Лелька в нем нашла?
— Хрущев — вот что!
— Они скоро поженятся, — доверительно сообщила Катя.
— Я б на тебе прямо сейчас женился! — урча, как кот, замотал головой Юлиан, пытаясь положить голову девушке на грудь.
— Брысь! — прикрикнула Катя.
— Получается, у Сережи фазер строгий, — вздохнул Юлиан.
— Зверь! — подтвердил Брежнев-младший. — Когда он отцу звонит, тот час успокоиться не может.
Пришел официант и стал расставлять напитки. Брежнев смотрел на танцующих, оркестр играл композицию Дюка Эллингтона из фильма «Серенада солнечной долины». Заметив, что Юрик отвлекся, наблюдая за танцами, Юлиан положил на поднос официанта брежневскую туфлю:
— Уноси!
— Старье играют! — назидательно сказал Юрий. — Это уже не модно. Надо им Элвиса учить.
— Согласна! — подтвердила Катя.
— Катюх, а что это за чувиха с Чарли? — показал на незнакомку Юрий.
Чарли теперь болтал с высокой, коротко стриженной, в узком красном платье девицей.
— Где?
— Лукай, вот!
— Да где?
— Справа от сцены.
— Белка.
— Что за Белка?
— Люда Белкина.
— Знаешь ее? — обратился он к Юлику.
— Ходит сюда.
— Баруха?
— Нет! — отрицательно покачала головой Катя. — Нормальная девушка, из педагогического.
— Пойду знакомиться, — сказал Юрий и посмотрел на барную стойку, где должен был лежать его башмак.
— Где туфля?! — на весь зал закричал он.
Юлик, Катя и Ирка прыснули от хохота. Юлиан держался за живот, показывая на дверь кухни, мол, туда твой туфель унесли.
— Мудила ты! — выругался Юрий и, как был в одном ботинке, кинулся выручать свою обувь.
15 мая, среда
Никита Сергеевич третий день ходил мрачный. С субботы они с Ниной Петровной начали читать книгу писателя Дудинцева «Не хлебом единым».
— Мастерски написано, смело! — наперебой расхваливали москвичи. От ее содержания прямо случилось возбуждение умов. Некоторые писатели назвали Дудинцева гением: — Вопросы подняты острые, книга книг!
Хрущева же это произведение возмутило.
— Разбалтывание писателей идет, — пожаловался он жене.
Серов все чаще приносил материалы, где сообщалось о брожениях в писательской среде.
— Писатели — это наш рупор, а рупор, вернее, некоторые рупора, в другую сторону развернулись! Перерожденцы, а по существу, скрытые враги! — определил Хрущев. — Столько низости наплели — и ведь кто, самые наши первые литераторы!
И автора нашумевшего романа Никита Сергеевич отнес к перерожденцам, приказав изъять книгу из продажи.
В 12:00 на Старой площади открылась встреча с ведущими советскими писателями. Хрущев собрал для разговора, что называется, самый цвет литературы.
— Я, товарищи, почему решил вас пригласить? Потому что пришло время потолковать по душам, а то, смотрю, разнобой пошел в литературе. Специально к этому выступлению я не готовился, буду говорить, как с друзьями, ведь писатель — первейший друг Партии! Писатель не должен раздувать плохое, писатель должен подхватывать хорошее и нести хорошее людям, это основной принцип советской литературы. Писатели — это артиллеристы, а артиллеристы не стреляют по своим. Это плохие артиллеристы, которые хотят стрелять по врагу, а попадают по своим! — уточнил Первый Секретарь.
— Пережили мы, друзья, серьезное время, умер Сталин. А Сталин — это целая эпоха в жизни нашего государства. И правильно, Сталин, есть Сталин! Мы, и я, и вы, искренне верили Сталину, но вскрылись такие факты, которые заставили нас поменять к нему отношение. Ведь очень много плохого при Сталине делалось, хотя, и хорошее было, об этом тоже надо помнить. Но мы говорим сейчас именно об ошибках, и говорим для того, чтобы исправить их, чтобы в будущем ничего подобного не повторить — в этом главная цель. И еще одна главная цель — нельзя замарать звание коммуниста, ведь коммунист, это безупречный человек, на коммунистах держится наше великое государство! Сталин, безусловно, займет свое место в истории, история все расставит по местам, но сразу скажу: огласка вопиющих фактов при жизни Сталина не означает, что надо набрасываться на все вокруг и ругать без разбору. Идеалы коммунистов остались прежние, их ничто не поколебало!
Сидящий в первом ряду поэт Грибачев подобострастно кивал.
— Непросто было завесу над темной стороной приподнять, — продолжал Никита Сергеевич, — но мы правду обнажили. Казалось, писатели здесь помогать должны, а писатели вместо этого стали обличать и копаться в грязном белье. У нас, к несчастью, как начнут бить, так без разбору кулаками махают! А по существу все были обмануты Сталиным, и мы, соратники, и вы, писатели, и, самое страшное — собственный народ обманули. Здесь, товарищи, надо разделить коммунизм и неприглядные дела Сталина. Это совершенно разные вещи, тут надо понимать. Команды «Ату!» никто не давал, а вы, вернее, некоторые, как с цепи сорвались! Главное, бездумно сорвались, а ведь вы — голос Партии, голос Родины!
Когда враги получили доступ к докладу, с которым я выступил на закрытом заседании Съезда, а сделали это через Польшу, враги наши возлагали большие надежды на то, что события дальше развернутся. Они полагали, что ЦК, осудивший Сталина, тем самым осудил всю социалистическую систему и, в конце концов, ситуация выйдет из-под контроля тех, кто хотел исправить ошибки, а в результате Партия сама себя уничтожит. Польша служит этому подтверждением, и Венгрия служит подтверждением, и сейчас, если почитать буржуазную прессу, можно увидеть, что она говорит как раз об этом, говорит, что в СССР выросла интеллигенция, а интеллигенция не потерпит партийного руководства. Но я считаю, что мы самый опасный момент пережили. Партия выдержала экзамен на политическую зрелость.
Почему писатели оказались обиженными, не пойму?! Разве Партия и Правительство мало делают для писателей? Разве принижают их передовую роль? Разве не заботятся об их благосостоянии? Заботятся, делают не меньше, а больше, чем раньше, но литература у нас завиляла!
Я, конечно, всех книг прочитать не могу физически, и мы не должны читать их, как прохладительное питье пить во время жары. И, если бы я, хотя бы по одной книжке присутствующих в зале прочел, меня бы с работы выгнали, потому что я ничем другим, кроме чтения книг, бы не занимался. Но самые хорошие, самые стоящие вещи, читаю в обязательном порядке, и самые вздорные тоже в руки беру. Книга должна быть оружием в арсенале Партии, а чесать языки — это не литература!
Раз мы ведем откровенный разговор, скажу о Дудинцеве. Многие его хвалили и действительно, в книге Дудинцева есть очень сильные места. Хорошо он высказался о бюрократах, которые гробят новаторов и изобретателей. Очень остро и правдиво сказано. Один мой знакомый заметил, что чем-то мою речь напоминает. Напоминает, соглашусь, но есть большая разница. Когда я критикую, то критикую для того, чтобы устранить недостатки, указать пути их преодоления. У Дудинцева это есть? — выпучился в зал Хрущев. — Нет! Он смакует недостатки. Он ведет критику с вражеских позиций. Может, он не хотел этого, но он стал рупором наших врагов и теперь вся зарубежная пресса берет его на щит, издают его книги, делают кинофильмы. Дудинцев стал героем в борьбе против советского государства, вот что получилось. Это не соотносится со званием советского писателя! — Хрущев с раздражением толкнул трибуну, так что она закачалась. — В таком положении мы не можем оставаться спокойными зрителями, не можем допускать подобного! Гроссман Василий тоже пишет всякое, переходит черту. Я критиковал товарища Панферова, прямо ему говорил. Вы, наверное, смертельно обиделись, товарищ Панферов? — разыскав в третьем ряду писателя, спросил Никита Сергеевич.
— На пользу пошло! — отозвался Панферов.
— Я зла не хотел, высказал партийную позицию. И Твардовского критиковал. Мне очень жаль, что товарищ Твардовский после критики закупорился. Я его искал по телефону, хотел поговорить, но не нашел. Критика должна быть товарищеская, чтобы в критике людей не глушить, а помочь, с тем расчетом, чтобы люди эти еще с большей силой занимались творческим трудом. Я извиняюсь, если где-то перегнул, но сказать был вынужден — чтобы наша литература не перегнулась. Главное — не утопить человека, вовремя плечо подставить!
Я не сомневаюсь, что если б я оступился, товарищи Твардовский, Панферов, Грибачев мне бы плечо подставили. Грибачеву тоже досталась пара ласковых, но все мной перечисленные — хорошие писатели. Так почему, если они несколько увлеклись, ошиблись, мы не должны их поправить? И поправить должны, и поддержать! Если б не поддержали, мы б были плохими коммунистами и негодными руководителями!
В зале произошло некоторое движение. Многие сочувствовали Дудинцеву и уважали Гроссмана. Хрущев говорил резко, но в то же время не перегибал, не нападал сломя голову.
— За годы Советской власти изменения произошли колоссальные. Если сегодня сравнить какою была дореволюционная Россия, и какой теперь Советский Союз, каким стал народ при Советском Союзе — можно только порадоваться. Но враги, к сожалению, существуют, и оружие надо держать наготове, и прежде всего оружие идеологическое. Наши враги хотят разложить нас в первую очередь идеологическим оружием, не бомбами. Поэтому главный участок фронта — писательский участок, самый ответственный, потому что через вас хотят, влияя на нас, разлагать советское общество. Будем вместе защищаться против врага! — яростно выпалил Хрущев.
Кто-то из писателей захлопал.
— У нас благополучное положение в писательских организациях союзных республик, а хуже всего — в Москве. А ведь очень важно, кому служат московские писатели, какие цели они ставят. Было бы здорово, если б вы сами с этим разобрались, без нашего вмешательства. Не подбрасывайте неприглядные дела на плечи Центрального Комитета! Пожар начинается со спички, с искры. С теми, кто делает антипартийные выпады, не полезные для народа, сделайте то, что коммунист должен сделать! — отчеканил Хрущев.
— Надо всем оставаться друзьями! — с места сказала Мариэтта Шагинян.
— Я не хочу со всеми быть другом. Не хочу, чтобы дружба получалась за счет принципиального сползания с партийных позиций!
— Сползание бывает не вражеское! — продолжала Шагинян.
— Начинаешь не с вражеского, а скатываешься во вражеское. Ведь убийца не сразу становится убийцей, он постепенно к этому приходит.
— Здесь можно спорить!
— Тут у меня с вами расхождение выходит. Я хотел бы, чтобы был мир, чтобы была дружба, сплоченность, но не на беспринципной основе, а на принципиальной, на ленинской основе, именно так надо сколачивать коллектив. Писательская среда — это активная часть общества, она должна давать материал, на котором будет воспитываться народ. А как же мы будем давать такой материал, если писатель не определился, если ему не хватает твердой почвы под ногами? Некоторые говорят, что не надо писателю никакого руководства, это сковывает инициативу. Кого сковывает? — уставился в зал Хрущев. — Сковывает того, у кого душа не партийная, кто хотел бы совсем другого! Если я коммунист, так у меня не стоит вопроса приспосабливаться перед Партией, мы с Партией одно! Поэтому меня ничто не жмет, и все льется из моей души! Я смотрю на вещи, как большевик, следовательно, тверд. А кто такой Дудинцев после его романа? Никак не наш человек. Он — цыпленок! Ему ли вскрывать недостатки, если он их сути не понимает? Мы, товарищи, вскрывали недостатки для того, чтобы освободиться от них, чтобы освободить других людей, чтобы расчистить путь, сплотить народ и двигаться вперед.
Многие сидящие тут говорят: не сковывайте инициативу, дайте свободу! Я вам так скажу: если у вас в душе живет Партия, то ваше произведение будет отвечать интересам народа!
Мир сегодня состоит из двух половин, одна наша, а другая вражеская. Меня часто спрашивают иностранцы с противоположного края: как насчет встречи глав правительств? Я отвечаю, что мы всегда готовы. Мы можем, хоть с чертом встретиться, если это полезно для мира, для нашего народа. Но если с нами хочет Даллес или Эйзенхауэр встретиться при условии, что мы освободим из рабства восточные государства, то двести лет мы не встретимся, потому что то, что они считают рабством, мы считаем свободой, а то, что они считают свободой, — мы считаем рабством. Вот как мир разделился, поэтому какое же примирение может быть?
— Мне думается, в этой борьбе надо очень точно знать, кто свой, а кто чужой, — высказался поэт Михалков.
— А как это знать? — посмотрел на него Хрущев.
— Надо разобраться, кто просто ошибался, а у кого камень за пазухой, а то получится нехорошо, — ответил Сергей Владимирович.
— Нет безнадежных людей, товарищ Михалков! От нас с вами зависит, чтобы поскорей вырвать их из бездны. Для этого мы и критикуем. И критика, и самокритика — это внутреннее явление, нужное для того, чтобы держать в свежем состоянии дух человека. Но товарищи, не об этом идет речь! Есть люди, которые критикуют нас с другой стороны, кусают больно! С ними нужна борьба! То, что было на собрании московских писателей, выступления многих людей, это были выступления не с дружественных позиций, не с позиций желания помочь Партии. Вот ведь как обстоит! У нас огромные успехи, товарищи. Первый год Правительство и ЦК не обсуждает вопросы, откуда взять масло, откуда взять мясо, откуда взять другие продукты и товары. Почему не обсуждает? Потому что создали все это сами и не в ущерб нашей тяжелой промышленности. Многие считают, что Сталин был умнее нас, а он не сделал этого. Мы же остались без Сталина и сделали!
— А можно спросить, есть ли в Армянской республике масло? — снова задала вопрос Шагинян.
На совещании присутствовал первый секретарь ЦК компартии Армении.
— Отвечай! — посмотрел на него Хрущев.
— Мариэтта Сергеевна, масло есть, сахар есть, правда, масла стало меньше.
— Там живут мои родители, и я точно знаю, что масла там нет. Мы идем к коммунизму, а масла нет! — развела руками писательница.
— Мы с продовольствием, безусловно, наращиваем! — заговорил Хрущев. — В 1951 году колхозник за трудодень получал в среднем 40–50 копеек, а многие колхозники получали просто палочку в журнал, говорили, что за палочку работают. В прошлом году они в среднем получили за день 7 рублей.
Сегодня ЦК поставил задачу догнать Соединенные Штаты по производству молока, мяса, масла. И не так, что эта задача на сто лет. По маслу, я думаю, уже через год догоним, и положение с маслом кардинально исправится. Уже в этом году мы произведем в абсолютном объеме столько сливочного масла, сколько в прошлом году произвела Америка, но у нас население большее, поэтому надо темп прибавить.
Приведу цифры. В 1913 году Россия на душу населения имела 31 кг мяса, США — 86. В 194 °Cоветский Союз имел всего 24,5 кг, а США 85,5. В 1956 году СССР — 32 кг, а Америка 102. Казалось, разрыв больше чем в три раза, а я говорю за год, за два догоним!
Сливочного масла на душу населения Россия в 1913 году имела 700 грамм, а США — 3,6 кг. А в 1956 году СССР получил уже 2,8 кг, а у Америки было 3,8 кг. Тут победа не за горами, она очевидна.
Молока в 1956 году произведено 245 литров на душу населения, а у американцев 343 литра. Думаю, что и по молоку в будущем году нагоним. А ведь это все Партия сделала!
В зале захлопали, но Мариэтта Шагинян все равно отрицательно качала головой.
— В два раза по сравнению с 1953 годом увеличен выпуск тканей из тонкой шерсти: габардин, коверкот, бостон, трико, драп, — продолжал Никита Сергеевич. — Мы сделали два выходных дня в неделю и скоро перейдем на семичасовой рабочий день! А ведь недавно с утра и до ночи горбатились, и никаких выходных не было!
Тут забавный случай случился, — заулыбался Хрущев. — Приезжал к нам принц Йемена, он довольно молодой оригинальный человек, ему, понятно, наговорили всякого, что у коммунистов голод, нищета. И когда мы с Булганиным пригласили принца на обед, принц уже вернулся из поездки по Советскому Союзу, он сказал: у вас добротные дома, люди одетые, а у нас лачуги, люди голые ходят. Это не у вас коммунизм, у нас коммунизм! Ему про коммунизм наговорили, что человек при коммунизме ничего не имеет и с голода от ветра падает!
— Хорошее представление у принца о коммунизме! — подал голос Константин Федин.
— Мы изо всех сил мифы развеиваем. И второй случай, тоже показательный. Приехали в Узбекистан индусы. Глава делегации — человек материально обеспеченный, богатый человек, он сидел и плакал. Его спросили: «Почему вы плачете?» Он на это ответил, так: «Ведь, что нам писали, что мы читали о положении, в каком живет Советский Союз?! Теперь я увидел, как вы живете, об этом индийский крестьянин и не мечтает!» — от гордости Никита Сергеевич приосанился.
— Сегодня мы совершили коренную перестройку, сократили министерства, создали на местах Советы народного хозяйства. Поэтому скорость будет у нас невероятная! И эта скорость во многом от писателей зависит, писателям задавать тон!
Некоторые тут недовольны, некоторые там недовольны. Довольных всегда будет меньше, чем недовольных, это норма жизни, так уж человек устроен. Но вредить, высмеивать, предавать — нельзя! Люди ждут от нас демократического управления, но они ждут от нас и мясо, и одежду, и жилье ждут от нас. Они ждут материальных и духовных благ, поэтому надо сюда все силы приложить. Есть у нас такие возможности? Есть. Партия должна укрепляться на идеологической основе. Кто первый помощник Партии? Писатель. Вы лучшие пропагандисты, вы лучшая наша опора, поэтому мы должны вас поддерживать, вас сплачивать и бороться с теми, которые в вашей среде ослабляют ваши ряды!
В зале зааплодировали.
— Не только к писателям есть вопросы. Вопросы возникают повсеместно, и чтобы не блудить, мы решаем их по-партийному, по-ленински. Ко мне как-то подходит югославский посол и спрашивает, почему вы не подписываете с нами торговый договор? Давайте с вами жить на равных правах. Я говорю, вы нам предлагаете перец, виноград, виноградное вино, но у нас это свое есть, нам нужны другие товары, а других вы дать не хотите. Равноправие — это, где купец торгует, а я прихожу к нему и покупаю, что мне нужно, а что не нужно — не покупаю. Это равноправие. Посол мне говорит, вы же у болгар перец покупаете? Я отвечаю — покупаем. «Болгарский перец, чем лучше югославского?» Я ему объясняю, болгарский перец — это одно, а югославский — совсем другое! Почему спросите? Потому что у болгар мы покупаем, как у братской республики, а с югославами после раздора только дружить начинаем. Так что кушайте свой перец на здоровье сами! — ответил я югославскому послу.
Смех в зале.
— Поляки по договору должны нам поставлять уголь, а мы им железную руду. Тут польский премьер пишет Булганину письмо, что Польша не может в этом году выполнить поставку на 2 млн тонн. И не выполнит. А мы на уголь рассчитывали, включили его в план. Пришлось срочно изыскивать резервы, чтобы обеспечить себя топливом. Это, по-вашему, равноправие? Равноправие требовало бы следующего. Получив такое письмо, мы должны были написать, что со своей стороны, уменьшаем поставку железной руды на 2 млн. тонн. Юридически это было бы правильно, тогда это были бы действительно равноправные отношения. Но что бы тогда случилось у поляков? У поляков случилась бы катастрофа! И мы такое не сделали, не уменьшили поставку руды, и я считаю это правильным. Есть равноправные отношения, а есть дружеские, а дружеские требуют порой иного подхода, чем равноправие.
Я знаю, что некоторая часть вашего брата, интеллигенции, не всегда правильно понимает, когда читает в газетах о договорах, где мы оказываем помощь той или иной стране. Некоторые думают, вот, мол, труды нашего народа легко отдают в дар другим! Это, товарищи, примитивное мышление.
Нам приходится другой раз не только дружеским, а и полудружеским государствам продавать товар по льготной цене, например, оружие, или вообще давать его бесплатно. Выгодно нам это или невыгодно? С точки зрения бухгалтерской вроде невыгодно, но если политически рассуждать, то бухгалтерского подхода придерживаться не стоит, так как, придерживаясь этого, мы будем плохими политиками, — растолковывал Никита Сергеевич. — Смотрите, что делают Соединенные Штаты. Они знают, что стоимость содержания одной американской дивизии в Германии стоит столько-то, а дать оружие на дивизию Западной Германии стоит в несколько раз дешевле. И они оружия не жалеют. У нас есть свои союзники, и если мы им не поможем оружием, то должны всю тяжесть их защиты взять на себя. Она будет во много раз дороже, чем оказывать помощь. Так что нельзя базироваться на бухгалтерской основе. Политика имеет свою арифметику и свой баланс, и мы будем из этого исходить, не забывая, что деньги добыты трудом нашего народа. Но думая о народе, надо немножко дальше своего носа видеть, тогда и забота о людях будет эффективней.
Я считаю, товарищи, что встреча наша полезна. Вы меня извините, если я где-то сказал не так, как вы бы хотели услышать, но я сказал, как думаю. Борьба за правду не драка, не потасовка. Мы хотим сплочения рядов, хотим, чтобы человеку, который ошибся, помогли стать на ноги. Главное в оценке человека надо видеть не в том, что он делал вчера, а в том, на что он способен завтра. И Дудинцев не пропащий человек, жаль, что нету его сегодня.
16 мая, четверг
Ранним утром на дом Первому Секретарю поступило сообщение МИД, из которого следовало, что обстановка в Египте нормализовалась. Под нажимом американцев израильские войска покидали захваченные территории. Египетский президент Насер к Советскому Союзу был настроен крайне положительно. Всерьез пошел разговор о строительстве в Египте у Асуана гидроэлектростанции, которую раньше намечали делать англичане с французами. Советский Союз тогда упоминался египтянами лишь как приманка, чтобы стимулировать англичан быстрее дать деньги и приняться за строительство. Теперь же все поменялось — Советский Союз стал другом и партнером номер один! Громыко предлагал организовывать в Каир госвизит, но так, чтобы вместе с Булганиным туда обязательно ехал Хрущев. После смещения с поста министра иностранных дел, Шепилов, как Секретарь Центрального Комитета стал куратором МИДа. Рокировка такая не была случайной, министр иностранных дел, по мнению Хрущева, должен быть более жестким и последовательным, что искушенный дипломат Громыко исполнял бы с ослиным упорством.
— Тут нужен труженик, а не лирик! — объяснял Никита Сергеевич. — Дмитрию Трофимовичу в ЦК будет проще, а политического веса не убавится. На очередном Пленуме партии Шепилову был обещан перевод из кандидатов в члены Президиума Центрального Комитета. Дмитрия Трофимовича такой разворот устраивал.
17 мая, пятница
— Как, Николай, думаешь, не перебарщивает твой друг? — спросил Маленков, который после Президиума ЦК в сопровождении Кагановича провожал Булганина до машины.
Булганин насупился. Хрущев резко оборвал его на заседании Президиума — мол, молчи, тебя никто не спрашивает!
— Что-то не то с ним творится!
— Несет его, брат! — с сочувствием высказался Георгий Максимилианович.
— Может не туда занести. Обрати внимание, как он теперь документы расписывает: «Ознакомить секретарей ЦК!» — как Сталин! — продекламировал Каганович.
— Видел, видел!
— Мы с Лазарем разочарованы, а ведь всегда ему помогали, Никите Сергеевичу, а ты-то, Николай, особенно, а теперь он и тебя побоку. Только он один все знает, все умеет.
— Поговорить с ним надо, — примирительно высказался Булганин.
— Не поймет! — махнул рукой Маленков.
— У Хрущева титовская мания вождизма! — пожимая на прощание руку, определил Лазарь Моисеевич.
19 мая, воскресенье
Ракета Р-7 в очередной раз взорвалась.
— Как понимать?! Кто виноват?! Может, ты, Леонид Ильич?! — брызгая слюной, вопил Хрущев. — Не можешь организовать, так и скажи, других найдем! Почему ракеты не летят? Чем Королев занят?!
— Королев расчеты уточняет. Ракета полетит, — мямлил Брежнев.
— Слышать устал! Одна болтовня! Из ваших обещаний пирогов не напечешь! Бомбу в Америку на руках понесем?!
Брежнев удрученно молчал.
— Брехуны! Уходи, видеть тебя не могу!
Леонид Ильич ушел. Хрущев даже не подал ему руки.
Третьего дня Жуков с Неделиным в один голос говорили о бездарности Королева и бесполезности Брежнева.
«Может, и вправду заменить их?» — размышлял Первый Секретарь, но конструктор Челомей уважительно отзывался о Сергее Павловиче, ценил его как специалиста, а позавчера, со слов Сережи, который через день бывал у Владимира Николаевича, похвалил и Брежнева, сказал, что Брежнев на своем месте.
— Эх, ракеты-ракеты, когда же вы полетите? — вздыхал Первый Секретарь.
20 мая, понедельник
В самом сердце столицы, в Московском Кремле, немыслимыми темпами возводилось здание из стекла и бетона — Кремлевский Дворец Съездов, где планировали проводить самые ответственные государственные мероприятия. Дворец был задуман Никитой Сергеевичем взамен невообразимо огромного Дворца Советов, который предполагали строить на месте снесенного в 1931 году храма Христа Спасителя. Еще в бытность свою Московским секретарем Хрущев заикнулся Сталину об идее иметь в Кремле здание для торжественных мероприятий, но Сталин никак не отреагировал, ему нравилась патриархальность Кремля, а активы партии и значительные даты он любил отмечать, сидя в царской ложе Большого театра. Кремль, по мнению вождя всех времен и народов, имел историческое лицо, которое не стоило портить. Теперь же, при поддержке Булганина и Микояна, Никита Сергеевич осуществил задуманное. Архитектору Посохину было поручено подготовить эскизное предложение, куда Никита Сергеевич лично внес правки: велел отделать фасад белым мрамором и сделать шире лестницы, после чего бульдозеры и грузовики, изрыгая зловонную гарь, поползли по булыжным мостовым, ломая вековые постройки, белокаменные корпуса и церкви с узкими оконцами, освобождая площадку для будущей громады. Председатель Главмосстроя в присутствии Екатерины Алексеевны ежедневно докладывал Хрущеву о ходе строительства.
Очередной Съезд партии Никита Сергеевич наметил провести в великолепном новом здании.
31 мая, пятница
Иван Александрович провел коллегию Комитета государственной безопасности. Он поставил несколько принципиальных задач: вербовать как можно больше лиц на Западе, собирать любую научную и военно-техническую информацию; искать сведения, компрометирующие высокопоставленных зарубежных чиновников и членов их семей, негативно настроенных к Советскому Союзу; разыскивать укрывшихся в разных частях мира нацистов, особо сконцентрироваться на обнаружении Адольфа Гитлера, ведь криминалистическая экспертиза останков предполагаемого трупа фюрера не сделала ни положительных, ни отрицательных выводов, и Хрущев, читая результаты экспертизы, прямо сказал: «Ищи, Ваня, Адольфа, найдешь — мы на седьмом небе будем!» Вот и давал генерал армии задания разведчикам, хотя сам очень сомневался, что Гитлер жив.
Председатель комитета считал целесообразным завуалированно создавать в Европе и не только в Европе, различные структуры, приобретать на подконтрольные организации банки и другие финансовые учреждения, которые, в связке с уже созданными коммерческими предприятиями, будут задействованы в разного рода мероприятиях спецслужб.
Начальник Первого Главного управления Ивашутин доложил, что с прямым участием Советского Союза создан ряд международных организаций, таких как Международная федерация профсоюзов, Международная организация прогрессивных ученых и другие. В подобные организации под видом штатных работников направлялись законспирированные офицеры КГБ, цифра их была внушительной. КГБ имел своих людей в зарубежных коммунистических партиях в правительственных учреждениях иностранных государств. По линии Всероссийского общества культурных связей за рубежом по миру открывались многочисленные представительства, шло масштабное укрупнение уже имеющихся отделений. ВОКС имело представительства почти в каждой стране. Если до войны таких представительств у ВОКСа было всего пять, то к 1946 году их стало тридцать восемь, а к 1957 насчитывалось уже пятьдесят четыре. В ряде стран были открыты представительства «Союзинторгкино», наполовину укомплектованные разведчиками. От кадров КГБ пухли зарубежные торговые представительства. Тем не менее, работу внешней разведки предстояло усиливать. На коллегии ставился вопрос об открытии в каждой стране резидентуры, возглавляемой резидентом, который бы на месте управлял действиями разведчиков, получая указания из Москвы.
Неудовлетворительной, по словам Серова, была координация между звеньями госбезопасности, часто случалась путаница, многие вопросы велись параллельно, то есть на одни и те же задачи привлекались не связанные друг с другом подразделения. Из-за хронической занятости у сотрудников практически не оставалось выходных, численность КГБ после 1953 года резко сократилась.
Изменение внешнеполитического курса государства кардинально поменяло работу органов госбезопасности. За два последних года контакты с иностранными государствами настолько оживились, что Советский Союз захлестнул наплыв заграничных туристов, корреспондентов, политиков, бизнесменов, ученых. Обычным делом стали краткосрочные командировки за рубеж работников советских министерств и ведомств. СССР разворачивало в дружественных странах стройки предприятий тяжелой индустрии и энергетики, в долгосрочные загранкомандировки в сопровождении семей уезжали строители, инженеры, архитекторы, по военным вопросам ехали военные. Всех, и въезжающих, и отъезжающих, надо было основательно проверять. На Президиуме ЦК положительно решился вопрос о турпоездках советских граждан, количество поездов и самолетов, пересекающих госграницу, увеличилось многократно. Серов просил начальников Главных управлений дать предложения по увеличению штатов, он согласовал с Хрущевым возможность укрупнения структур госбезопасности на 10–15 процентов. Иван Александрович заговорил о необходимости организации отделов КГБ на местах, то есть в каждом крупном городе, в каждом промышленном центре. К концу года Комитет госбезопасности должен был иметь новое штатное расписание и четко отлаженную систему работы.
После совещания Серов сделал пометки в блокнотик, записал, кому что поручил, дабы на другой раз потребовать отчет. У жены сегодня был день рождения, и Иван Александрович обещал появиться пораньше. Он вызвал адъютанта, велел взять из комнаты отдыха заблаговременно приготовленные розы и нести их в машину — хотелось поскорее расцеловать милую Аню, потискать Зинулю. Поправив мундир, генерал шагнул к двери. На столе звякнул аппарат спецсвязи.
— Знают же, что уезжаю! — ругнулся на приемную Иван Александрович. — Чего трезвоните?! — схватив трубку, грубо выкрикнул он.
— Полковник Водопьянов умоляет соединить! — оправдывался дежурный.
Водопьянов руководил госбезопасностью в приграничном Чопе.
— Соединяй!
— Товарищ генерал армии, разрешите обратиться? — послышался в трубке голос подчиненного.
— Говори!
— Тут такое дело. Сегодня, в семнадцать сорок две, при пересечении госграницы был вскрыт железнодорожный вагон, где по документам находился автомобиль «Бьюик», следующий в распоряжение Академии наук. В поезде был сопровождающий, начальник хозуправления академии товарищ Скрипка.
— Ты по существу говори, времени нет!
— Так точно, по существу! В автомобиле обнаружены: четыре норковые шубы, одиннадцать ящиков выпивки: коньяки французских марок, виски и джин, пять ящиков сигарет «Кент», одежды навалом, два телевизора, музыкальные пластинки, журналы на иностранных языках.
— Ты чего мне голову морочишь?! — начинал раздражаться Серов.
— Вдобавок вместо одного автомобиля через границу следовало два, — смутившись, закончил доклад полковник.
— Зачем мне звонишь, Водопьянов, зачем всяким барахлом голову морочишь?! Не знаешь, что в таких случаях делают?
Как же надоели Ивану Александровичу бестолковые звонки! Если б оружие везли, секретные документы, на золото с бриллиантами наткнулись или людей нелегально провозили, а тут что? Херня мелкобуржуазная! — а у председателя КГБ время отрывают! Хотел вспылить.
— Товарищ генерал армии! — оправдывался Водопьянов. — Мои как положено протоколы составили, начальника ХОЗу задержали, да только тот требует, чтобы мы поставили в известность президента Академии наук. Объясняет, что все эти вещи, «барахло», как вы верно подметили, есть его личное имущество. И машина его, и меха, и выпивка, и так далее. Свяжитесь, говорит, с моим руководителем, чтоб он знал, а я, объясняет, человек подневольный.
— Связался? — кисло спросил Серов.
— Не посоветовавшись с вами, не решился. Он же депутат Верховного Совета, член Центрального Комитета, Герой Социалистического Труда. Вот и задаю вопрос, звонить ему или нет?
«Действительно странно, чтобы академик так запросто, ни с кем не согласовав, пер через границу сразу два автомобиля и всякий хлам!» — размышлял Серов.
— А вторая машина зачем, этот хозяйственник знает?
— Ответил, что на запчасти предназначается.
— М-мда! — протянул Иван Александрович. Такая беспардонность поражала.
«Может, для атомщиков везут? — предположил Серов. — Но при них наши ребята есть, они бы проинформировали. Выходит, не для атомщиков. Получается, что Академия наук у нас вне закона, особняком, словно академикам все дозволено! Органы под увеличительным стеклом каждого выезжающего за границу просматривают, можно сказать, изнанку выворачивают, многим в выезде отказывают, а тут — что хочу, то ворочу! Надо об этом случае Никите Сергеевичу сообщить, путь стружку с заевшихся профессоров снимет!»
— Ты, Водопьянов, ничего из хлама академического случайно не умыкнул?
— Да как мог, Иван Александрович! Я в таких делах ответственность понимаю. Но вот ведь какая штука, — продолжал подчиненный. — Товарищ Лобанов не только президент Академии Сельскохозяйственных наук, он, к тому же Председатель Совета Союза Верховного Совета СССР. Поэтому я, как положено, в таких случаях сразу к вам.
— Так то для Лобанова? — протянул Серов.
— Так точно, для него.
На прошлой неделе Серов завизировал бумагу из ЦК, которая согласовывала выдвижение Лобанова на пост заместителя председателя Совета министров Союза ССР. Генерал армии замолчал. Лобанов чуть ли не каждый день бывал у Никиты Сергеевича, к тому же дочь Пал Палыча выходила замуж за хрущевского сына.
— Пропускай груз! — скомандовал председатель КГБ.
— Так точно, пропускаю!
— Молодец, что позвонил.
3 июня, понедельник
На носу был фестиваль молодежи и студентов. По уточненным данным, Москва ожидала свыше тридцати тысяч участников из ста тридцати стран.
— Надо, чтобы праздник от сердца шел, чтобы на всю жизнь память осталась! — выговаривал Первый Секретарь.
— Не подведем! — клятвенно заверял Шелепин. Комсомольский вожак докладывал, как идет подготовка к международному форуму.
Никита Сергеевич оставил комсомольца обедать. За обедом вспомнил о целине, выспрашивал о настроениях молодежи, интересовался, какие фильмы стоящие.
— Отличный фильм «Павел Корчагин» режиссера Алова, — высказался Александр Николаевич. — Мы хотим выдвинуть его на Государственную премию.
— Стоящее кино, выдвигайте. Шолохова надо больше экранизировать, крупный мастер, целиком наш, советский. С каким удовольствием его новую повесть прочел — «Судьба человека»! Вот книга, а не какое-то блеяние! Я Михаилу Александровичу телеграмму послал, сказал, что и «Судьбу человека» обязательно в кино снимем. Прочти, Александр Николаевич, не пожалеешь.
Шелепину нечасто выпадало один на один, в неформальной обстановке, беседовать с руководителем Коммунистической партии.
— У меня Фадеев-выродок до сих пор в башке сидит, никакой ему пощады! — помрачнел Никита Сергеевич. — Надо про Фадеева разгромную статью дать, напомнить, что он распустившийся, скатившейся в пропасть пьянства перерожденец, что даже с молодогвардейцами разобраться не смог, все поперепутал, ребят-героев, отдавших жизнь за Родину, к врагам приписал. Это же надо! Два года в Донбассе сидел, факты изучал, а толком ничего не понял. И ведь, гад, на партию замахнулся! Вот замухрышка! А ведь партия его человеком сделала, живи, работай!
— Я просто удивляюсь, как такое возможно?! — возмутился Шелепин.
— Власть голову вскружила. Мы, когда стали разбираться, установили, что Фадеев был инициатором многих арестов среди писателей. И про это написать следует.
— По сути, он и коммунистом не был, отпетый приспособленец! — выдал Шелепин.
— Верно подметил. Таким пощады нет, не посмотрим, что умер!
— Можно, я текст подготовлю и вам покажу?
— Делай.
— Я, Никита Сергеевич, еще про музыку хотел сказать.
— Про конкурс Чайковского, что ли?
Хрущев дал Фурцевой задание провести в Москве Международный конкурс исполнителей классической музыки, которому дали имя выдающегося русского композитора Петра Ильича Чайковского.
— Нет, не про конкурс Чайковского. Западная музыка Москву заполонила.
— Западная?
— Да. Гнилая. Молодежь ею разлагается. Джаз всякий и прочие «буги-вуги». Надо с ней принципиально бороться. Некоторые в танце как обезьяны кривляются, запретить ее в ресторанах играть комсомол не может. Как проказа та музыка распространяется, ваша помощь требуется, Никита Сергеевич!
— Нехорошо! — вымолвил Хрущев.
— Гниль это, мерзость! — разошелся Шелепин. — Чему она хорошему научит? А танцы, Никита Сергеевич? Вы б посмотрели!
— По существу, я с тобой согласен, — отозвался Первый Секретарь. — Но давай, Александр Николаевич, молодежный фестиваль проведем, а пока торопиться с музыкой не будем. Сам понимаешь, иностранцы понаедут, а они к этому кривлянию привыкли. Нам надо себя с лучшей стороны показать, не для того мы слет всемирный затеваем, чтобы опростоволоситься. Проведем, а тогда подправим.
— Уяснил, Никита Сергеевич!
— Следующее, — Первый Секретарь стянул с груди салфетку, которую по привычке заправлял за ворот рубашки. — Я вчера по стипендиям предложение дал. В сороковом году решили, что стипендию должны только отличники получать. Надо исправлять допущенные Сталиным ошибки. Раз мы коммунизм строим, стипендию надо всем без исключения давать, отличникам — тем повышенную. Студент — это будущее советской страны! Запомни, Александр Николаевич, — будущее! — с выражением проговорил Хрущев. — За такой справедливый подход люди будут нам благодарны.
Шелепин с замиранием смотрел на руководителя.
— Конкретными шагами пойдем навстречу коммунизму, а не разговорами. Еще сельские школы меня беспокоят. Мало в сельской местности полноценных школ, а они должны быть, чтобы крестьянин не чувствовал себя ущемленным, чтобы не бежал в город. У деревни не должно быть разницы с городским содержанием, образование всюду должно даваться «под ключ».
— Я слышал разговоры о создании в Москве привилегированных школ, — проговорил Шелепин. — Тогда получится, будто некоторые дети лучше, а некоторые — хуже!
— Что за глупость, кто додумался? Я это целиком отметаю! Представляешь, до чего договорились? Никаких привилегий! Завтра пажеский корпус удумают создать!
— Мне кажется, Никита Сергеевич, надо больше внимания уделять моральному облику советского студента.
— Это да, да!
— В первую очередь надо принимать в высшие учебные заведения детей из рабочих и крестьянских семей. Следует исключить поступление в вузы морально неустойчивых людей.
— Вижу, ты двумя руками за высшую школу взялся! — одобрил Хрущев.
— Я уже записку в ЦК писал, но пока на нее не отреагировали.
— Мне напиши, я отреагирую!
15 июня, суббота
Министр оборонной промышленности Устинов сообщил Брежневу о неудачном старте ракеты Р-7. Этот провал убил Леонида Ильича, он не своим голосом промямлил Хрущеву о неудаче. Тот, не дослушав, бросил трубку. Брежнев пытался звонить Королеву, но Королев не отвечал. Его заместитель Глушко рассказал, что конструктор заперся в кабинете и никого к себе не пускает. Брежнев налил стакан коньяка. Руки у него дрожали. Королевские неудачи потрясали, ракеты падали одна за другой! Брежнев уже не надеялся, что Никита Сергеевич оставит его на посту Секретаря ЦК, в лучшем случае, отправят послом в какую-нибудь Гватемалу, чтобы не маячил перед глазами. Леонид Ильич залпом осушил стакан и схватился за сердце. Костя Черненко, не мешкая, принес валидол и вызвал доктора. В брежневском аппарате царила тревога.
Никита Сергеевич уезжал домой с отвратительным настроением. Не справился Ленька с заданием! Микоян за него заступался, говорил, при чем тут Брежнев, не Брежнев же технику придумывает?
— Заступник! — шипел Хрущев. — Все равно выгоню в три шеи, и того и другого! Ну, Королев! Ну, Брежнев!
Хрущевский кортеж свернул на Яузскую набережную и покатил в сторону Энергетического института, где последний год доучивался Сергей. Обычно отец с утра завозил его на занятия, а вечером, если часы отъезда совпадали, подхватывал домой. Зная, что отец за ним едет, Сергей послушно стоял на улице.
На перекрестке появился правительственный эскорт. Описав дугу, машины остановились около одиноко стоящего на тротуаре паренька. Дверь приоткрылась:
— Залезай! — скомандовал отец.
Сергей юркнул в автомобиль. Кавалькада двинулась дальше.
— Видела? — спросила у подруги застывшая на противоположном конце улицы девица.
Обе они были студентками того же Энергетического института.
— Хрущевский сынок!
— Вот бы за него замуж! — мечтательно протянула вторая.
— Опоздала, место уже занято! — отозвалась первая.
— Эх, не повезло!
Подъезжая к Огарево, хрущевская машина сбила собаку, прямо переехала через нее. Собака выскочила из-за деревьев и помчалась наперерез движению, маленькая такая, дворняжка. Водитель «ЗИСа» не пытался объехать животное, не затормозил — резкие маневры категорически запрещала инструкция Гаража особого назначения, основное в управлении правительственного автомобиля было не обеспокоить пассажира внезапным торможением или резким маневром. Когда колеса переезжали несчастное существо, ощутился заметный толчок. Хрущев видел, как под колеса бежит пес, но надеялся, что и водитель его видит и отвернет в сторону.
— Куда прешь?! Животное погубил! — прокричал Никита Сергеевич. — Тебя кто ездить учил?!
— Простите, Никита Сергеевич! — пробормотал шофер.
— Изувер!
От собаки осталась раскуроченное кровавое тело.
— Бежала себе псина, никого не трогала! — сокрушался Хрущев. — Видишь, дура на дороге, так пропусти! Нет, бл…, давит! А если б человек выбежал, тоже б убил?!
Водитель пристыженно жался к рулю.
— То ракеты взрываются, то собак давят! — негодовал Никита Сергеевич.
Вечером Хрущева навестил Микоян, принес новые виды мороженого, хвастался.
— Ты, Анастас, точно помешался на мороженом!
— Чего на мороженом? В тот раз рыбные консервы приносил, карпа в томате пробовали и печень трески, забыл?
— Помню.
— Ты еще хвалил.
— Хвалил, и сейчас говорю — хорошие консервы.
— Теперь мороженое пробуй.
— Не буду, кусок в горло не лезет!
Микоян, тем не менее, стал выкладывать из сумки-холодильника эскимо, рожки, вафельные стаканчики и совершенно новый вид — крем-брюле.
— Давай, Никита, покушаем!
Продолжая хмуриться, Хрущев сел за стол.
— То у нас, Анастас, ракеты не летят, то дураки собак давят!
— Про ракету слышал. На-ка, вот это, с орешками! — протянул завернутый в фольгу брикетик Микоян.
Хрущев ел без удовольствия.
— И еще Жуков задолбал!
Анастас Иванович вскинул голову:
— Жуков?
— Ходит, долдонит про памятник солдату-победителю, словно мы его делать не желаем, будто не любим нашего солдата, наш народ!
— Это он делает, чтобы Жукова больше любили, — определил Микоян.
— А нас не любили! — добавил Никита Сергеевич. — К Булганину насмерть пристал.
— Памятник такой, безусловно, нужен, — проговорил Микоян.
— Нужен, да, но без Жукова, без его замашек на главенствующую роль! Он хочет поставить не один памятник, а целое множество; в Москве, в Подмосковье, в Ленинграде, в Сталинграде, Севастополе, Одессе!
— Оформим решением Президиума и дадим в печать, — заключил Анастас Иванович. — Потихоньку делать начнем.
— Жуков, Анастас, прямо шашкой машет! Помнишь, как в Женеве он крылья распушил?
— Когда?
— Когда с Эйзенхауэром встречался.
— Польза-то вышла.
— Вышла, да только потом каким павлином пошел, самого Эйзенхауэра поджал!
— Не так уж и поджал. Потом, они оба в войну командовали, поэтому и говорили как друзья.
— Ты, Анастас, всей моей тревоги не понимаешь!
— Все я понимаю, успокойся!
— А как он о сокращении срока службы в армии трещит? Сам кричал — не сокращать, не трогать, а теперь другую песню завел — точно подменили! Все тот же хитрый расчет в голове!
— Не преувеличивай, он военный, а военные прямолинейны и настырны. Лучше про мороженое скажи: что, нравится?
Хрущев уставился на Микояна, глаза его повеселели.
— Иди в пень со своим мороженым!
— Нам надо больше положительных эмоций получать, а не дуться! — заулыбался Анастас Иванович.
— Не дуться! — изображая прищуренное лицо Микояна, подался вперед Никита Сергеевич. — Доставай еще мороженое!
18 июня, вторник
Вячеслав Михайлович Молотов пригладил ладонями волосы на висках, маленькой расчесочкой причесал упрямо торчащие усики, надел пиджак и, исполненный достоинства, прошествовал в огромную залу столовой.
— Подавайте! — кивнул он сестре-хозяйке, которая подобострастно выглядывала из-за двери.
Столовая, отделанная высокими дубовыми панелями, была залита солнцем. На огромные портреты классиков марксизма-ленинизма свет не попадал, но они и так были хорошо различимы. Молотов уставился на сталинский портрет.
— Привет! — подмигнул Сталину Вячеслав Михайлович. — Следит за мной, покойник, никак не может угомониться, что я живой! Мы еще поживем, Иосиф, поживем, поцарствуем! — снова подмигивая портрету, проговорил первый заместитель председателя Совета министров.
Перед Молотовым поставили мейсоновскую позолоченную тарелку, разложив по краям натертые до блеска серебряные приборы, придвинули ближе солонку и перечницу. На другой плоской тарелочке лежал тонкий кусочек подрумяненного в духовке белого хлеба, а рядом крошечный кусочек сливочного масла, которое Вячеслав Михайлович со старанием размазал по хлебцу и съел. Подавальщица выставила на стол два куриных яичка, сваренных всмятку, которые держались на специальных фарфоровых подставках. Вячеслав Михайлович любил, чтобы яйца были не большие и не маленькие, совершенно одинаковые, старший повар, капитан госбезопасности Федорчук самолично отбирал для охраняемого яйца. Молотов разбил скорлупу, аккуратно сковырнул ее и, подсаливая, целенаправленно выскреб ложечкой содержимое. Съев яйца, он промокнул салфеткой губы и застыл в ожидании кофе, запах от которого уже вползал в столовую из соседствующей сервировочной.
Завтрак по существу был аскетический, Вячеслав Михайлович следил за тем, чтобы не переедать и не прибавлять в весе.
— Где Полина Семеновна? — обратился он к сестре-хозяйке.
— Поехала в поликлинику.
Выпив кофе, заместитель председателя правительства поднялся и прошествовал к выходу. Во дворе, перед подъездом застыли три его автомобиля. Прикрепленный распахнул дверь, но Вячеслав Михайлович не торопился садиться, держа в руках мягкую фетровую шляпу, он, задумавшись, стоял перед машиной, то ли созерцая начинающий разливаться по окрестностям теплый летний полдень, то ли думая о непростых государственных делах. Со всех сторон звонко чирикало, присвистывало, заливалось многоголосье июньского леса. Благодать! Охранники не двигались, ждали, пока Молотов сядет в автомобиль. В этот момент на противоположном краю дороги появились машины.
— Никак Лазарь пожаловал? — вскинул голову Вячеслав Михайлович.
— Так точно, машины товарища Кагановича! — доложил прикрепленный.
Каганович мог являться к Молотову в любое время. Вячеслав Михайлович развернулся и пошел навстречу. Первый «ЗИС» остановился. Не дожидаясь, пока офицер распахнет дверь, Лазарь Моисеевич выскочил из автомобиля.
— Перехватил тебя! — заулыбался он.
— Застал, застал! — протянул руку Молотов.
— Прогуляемся?
— Походим. У леса ушей нет.
Соратники зашагали по лесной дорожке. Поймав властный жест Вячеслава Михайловича, охрана осталась у машин.
— Как спал?
— Я, Слав, сплю, как убитый. Сорок капель настойки пиона — и проваливаюсь в небытие. Еще плаваю перед сном, но без нагрузки, в удовольствие.
— Правильно делаешь, плаванье — это здоровье. Я зимой на лыжах хожу, а летом — велосипед.
— Тоже полезно. Раньше, при бессоннице, скажу между нами, — понизил голос Каганович, — я под Ленина засыпал, до умопомрачения Ильичом зачитывался, но когда последнее издание в руки взял — как отрезало!
— Чего?
— Знаешь что обнаружилось?
— Что?
— Подлинности нет. Все ленинские труды переиначили.
— Редактируют, чтоб доходчивей Ленин был! — Молотов изобразил на лице неприятную гримасу.
— Доходчивость есть, а Ленина нет! — мрачно заключил Каганович.
— Обкорнал Иосиф Владимира Ильича, обкорнал!
— Думал, Ленина усилит, как он все усиливал!
— Теперь в стране новый вожак — что ни газета, читай выступление тов. Хрущева! Тот не то, что Ленина, всех подряд усилит!
— Гений, твою мать! — оскалился Каганович.
— На любой вопрос интервью дает. Все знает, куда там Сталину!
— Сравнил жопу с пальцем!
Природа дышала жизнью, все утопало в зелени. Воздух нес медовые тона приближающегося полдня, кругом летали стрекозы, порхали мотыльки, бабочки. Одна заторможенная стрекоза с фиолетовыми крылышками чуть не угодила в лицо Вячеслава Михайловича.
— Уйди, ты! — взмахнул он, отгоняя дерзкое насекомое. — Вот же бестолочь, не видит, куда летит!
— Что, Вячеслав, делать будем? — проговорил Каганович.
— Снимать будем, что еще? — надевая шляпу, отозвался Молотов.
— Вой устроит!
— За нашими голосами никто балбеса не услышит. Он всем поперек горла, даже лучшему другу Булганину.
— А Егора как зашпынял? Вот у кого сна нет!
— Все за рокировку, и Шепилов, и Сабуров, и Первухин, даже товарищ Жуков, когда речь о Никите заходит, не спешит заступаться.
— Суслов упирается.
— Суслик! Нашел фигуру! — ехидно заулыбался Молотов.
— А Ворошилов?
— Клим одобрил. Ты сам посуди, за кем спокойней, за брехуном или за нами? Мы, Лазарь, старые большевики!
— А что с Микояном делать? Он к Хрущеву, как банный лист, прилепился.
— Недалекий человек. Ошиблись мы в Анастасе, думали, он мудрее, — продолжал Вячеслав Михайлович. — Министр торговли из него хороший, а в Президиуме, считаю, ему делать нечего.
— Жукова с поста министра обороны убираем?
— Обязательно. Жуков непредсказуемый.
— Если Хрущ будет вякать — его под арест!
Вячеслав Михайлович кивнул:
— Грехов у Никиты хватит.
— Был бы человек, а статья найдется! — нравоучительно вымолвил Каганович. — Устал я пацаненку поддакивать, а Клим на него просто плюется!
— Не переваривает.
— С Серовым что?
— Как говорил товарищ Сталин, «у чекиста только одна дорога, либо на повышение, либо в тюрьму!» Из этого будем исходить. Повышать Серова больше некуда, значит, остается второе.
— Пулю в лоб, как Кобулову!
— Шнурок! — высказался Молотов. — Я на серовское место хорошего парня подобрал, у меня в МИДе был заведующим информационным отделом.
— Тут не спеши, могут споры возникнуть. Давай, может, Шепилова туда, а твоего паренька к нему замом?
— Можно и так.
— А министром обороны Конева?
— Ворошилов Климент Ефремович, вот настоящий министр, а первым замом к нему Константина Рокоссовского, а Конев, как был, пускай с Войсками Варшавского договора управляется.
— Согласен! — кивнул Лазарь Моисеевич. — Я бы Верховный Совет возглавил, ты бы — Правительство, Булганин — ЦК.
— Разумно.
— Жуков так просто не уйдет.
— Сталин лишь слово сказал и утопал. С заседания Пленума Центрального Комитета прямиком в Одессу попиз…л! И у нас так будет. Можем сделать его председателем ДОСААФ.
— ДОСААФ? Ни за что не согласится, скажет, он — Жуков!
— Не согласится, значит, по-плохому уберем! — отчеканил Молотов. — Откуда брались жуковские победы, известно. Когда солдат и пушек вчетверо больше, чем у противника, воевать можно очень победоносно! Про Жукова Чуйкова расспроси, а лучше — Еременко, они суть разъяснят.
— И добра из Германии припер. Я был поражен крохоборством.
— А что за номер при живой жене с молодой девкой бесстыдно жить?! Где партийная совесть? Это я тебе с ходу набросал, особо в памяти не копаясь, — проворчал Молотов. — Хватит у нас и на Жукова, и на Серова, и на прыща-Хруща! Не белоручки были!
— Армия под ними.
— Какая армия? В стенах Кремля Президиум Центрального Комитета — армия! Ты со всеми переговорил?
— С кем планировали. Суслов, я тебе уже докладывал, в командировке, но его спрашивать без толку, он ерзает, а у Жукова ученья будут.
— Ясно, ясно!
— Брежнева с Фурцевой в расчет не беру.
— Вот политическую фигуру нашел, Фурцева! Бл…, одно название! — с пренебрежением отозвался Молотов.
— Веселый бабец! — заулыбался Каганович.
— Ишь! — подмигнул Молотов. — Сначала под тобой лежала, сейчас, поговаривают, под Никиту пристроилась. Правильно ее обозвали — «Спасские ворота!», — едко прищурился Вячеслав Михайлович.
Каганович весело отмахнулся.
— Мы ее куда-нибудь за границу послом отправим, чтобы ты, Лазарь, не соблазнялся. В Монголию! — пошутил Молотов.
— Придумаешь тоже!
— Если на Президиуме правильно себя поведет, оставим в Москве, сделаем председателем Комитета советских женщин.
— Хер с ней, с Катькой, а вот Микоян в разборке может навредить.
— Урезоним Анастаса!
— Брежнев с сердцем в больницу залег, ракетостроение, мудозвон, угробил!
— Насрать на Брежнева!
Запрокинув голову, Молотов посмотрел на небо. Сквозь редкие полупрозрачные тучки сверкало солнышко.
— Денек какой, не жарко, и настроение отменное! — высказался Вячеслав Михайлович. — Скоро разгоним шатию-братию! Ладно, Лазарь, поехали, надо дела вершить!
Каганович сел в молотовскую машину. Колонна двинулась в Москву.
На Успенском шоссе, освобождая проезд правительственному транспорту, милиция заученно перекрывала движение. Проезжая мимо Калчуги, Молотов, покосившись в сторону Огарева, погрозил кулаком:
— Вожак, твою мать!
В кабинете у председателя Совета министров сидели: Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов, Шепилов, Сабуров, Первухин и Николай Александрович Булганин
— Пора, товарищи, заканчивать с самодурством! — заговорил Молотов. — Хрущев не оправдал доверие партии. У нас нет другого мнения, как убрать его с должности Первого Секретаря и вывести из состава Президиума. У кого-нибудь будут возражения?
— Нет! — замотал головой Ворошилов.
— А ты что думаешь, Николай Александрович? — Молотов посмотрел на Булганина.
— Я — за, — опустив глаза, ответил председатель Совета министров, переговорив со всеми, он понял, что Никите на месте не удержаться.
— Первым Секретарем ЦК предлагаю товарища Булганина. Возражения есть?
— Нет! — за всех ответил Каганович.
— Климент Ефремович, вы прославленный маршал, вас попросим возглавить Министерство обороны.
— Нет возражений! — отозвался польщенный Ворошилов.
— Лазаря Моисеевича рекомендую на пост Председателя Президиума Верховного Совета, а я, с вашего одобрения, возглавлю Совет министров, — повысил голос Молотов. — Моим первым и единственным заместителем останется Георгий Максимилианович. Такая расстановка пойдет на пользу государству, усилит его международную позицию, усилит наши Вооруженные Силы, позволит больше делать для советского народа. Послезавтра предлагаю провести внеочередное заседание Президиума.
— Правильно! — за всех отозвался Маленков.
Участники заседания закивали.
19 июня, среда
В отличие от свадьбы сестры, свадьба Сергея ожидалась громкая. За неделю к ней стали готовиться, а в этот день словно со всех сторон навалилось! Огарево стояло вверх дном: кругом бегали, что-то носили, переставляли, суетились. Июнь выдался жарким, и хотя солнце палило немилосердно, кто подскажет, какой сюрприз погода преподнесет через час? Вдруг, в самый разгар торжества, которое запланировали проводить на свежем воздухе, хлынет дождь? Но и это предусмотрели: перед домом, на месте, где зимою заливали каток, поставили высокие конструкции, на которых, в случае необходимости, расправлялась непромокаемая ткань. Пойдет дождь, а гости окажутся под надежным навесом.
Конструкции разработал лично Сережа, недаром он на инженера учился. На деревянном помосте расставляли столы, стулья, серванты. Серванты заполнялись тарелками, чашками, рюмками, стаканами; сбоку выставили широкий стол для подарков. Помост и дорожки, ведущие к нему, старательно застелили коврами. Площадь, где предполагались танцы, укрыли туркменские сумахи. Сумахи, конечно, не такие мягкие, как ковры, зато удобны для обуви — более плотные, жесткие — танцуй на здоровье! — к тому же, их не жалко. Но как ни старались укрыть огромную площадь двора, то тут, то там на глаза вылезала упрямая трава — что с ней поделать, ведь природа кругом!
Первый секретарь Центрального Комитета Грузии товарищ Мжаванадзе прислал невообразимое количество боржоми, сиропы для приготовления знаменитой воды Лагидзе, сыры, овощи, зелень, коньяки и вина. Ереванский секретарь отправил в Москву армянские деликатесы, среди которых самым ценным была севанская форель — ишхан, или «царь-рыба», которую умудрились доставить к празднику живой. Украинцы передали любимому руководителю и колбасы, и зельцы, и копчености, и молочных поросят, и кур, и гусей, и уток, и любимое лакомство Нины Петровны — бадью мелко нарубленных, пикантно замаринованных свиных ушей. По указанию Леонида Ильича из Казахстана приехал десяток курдючных баранов и грузовик кумыса. По заданию Серова с Азова доставили белужью икру и осетрину; с северных областей везли омуля, сига, муксун, нельму; а будущий тесть, Павел Павлович Лобанов, пообещал завалить стол невиданными фруктами, выращенными в теплицах Тимирязевской академии. Вазы с продолговатыми плодами манго, вытянутые, словно лотошные бочоночки, плоды зизифуса, неповторимая на вкус фейхоа, непомерные грейпфруты, мохнатые киви — чего только не было!
— Ты, Пал Палыч, эти чудеса убери, все равно к ним никто не притронется. Не дай Бог какой дурак с непривычки потравится. Вот это что? — Никита Сергеевич ткнул в кучу зелени.
— Спаржа французская.
— Не знаю такую. А то?
— Итальянская трава руккола, имеет выразительный вкус, у итальянцев без рукколы стол не обходится.
Никита Сергеевич отщипнул пару листиков и сунул в рот.
— Не пойму, — сплюнул он. — Ни то, ни се! Щавель не щавель, но щавель лучше. А вот там?
— Артишоки.
— Артишоки! — повторил Никита Сергеевич. — Не выговоришь. А это? — Хрущев взял красно-оранжевый мясистый плод и покачал его на руке, как бы прикидывая вес.
— Папайя, в Индии растет, — пояснил Лобанов.
— Пусть им в Индии объедаются! — опустил фрукт на место Первый Секретарь.
— А вот, — указал Пал Палыч, — маракуйя.
— Как, как?! — скривил физиономию Хрущев.
— Маракуйя.
— Ругательство какое-то! Не морочь голову, Пал Палыч! Обойдемся огурцами с помидорами, да клубникой с черешнями. Не путай людей, после свадьбы сядем и все вдумчиво попробуем.
— А где малосольные огурчики?! — прогремел глава семейства.
— Несем, несем! — откликнулась Нина Петровна. Она взяла на себя хлопоты по организации празднования.
Гостей ожидалось много, человек под двести. Были приглашены все без исключения члены Президиума Центрального Комитета, Секретари ЦК и особо приближенные к Хрущеву товарищи. Хватало, конечно, и всевозможных родственников, и друзья молодоженов список дополнили, но в основном гостями оказались крупные государственники.
Чопорно раскланиваясь друг с другом, гости чередой шли на поздравление. Поначалу чуть ли не толкучка при входе образовалась.
— Рассаживайтесь, рассаживайтесь! — командовал Никита Сергеевич.
Указывая молодой жене на ковры, министр обороны Жуков ухмыльнулся:
— Точно мы где-то на Востоке, в Самарканде или Бухаре, а не в Подмосковье!
— Мне нравится! — пожала плечами его Галина. Они с Георгием Константиновичем подошли к Леле и Сергею, поздравили, пожали руки именитым родителям, а потом пустились отыскивать отведенные им места. Жуков впервые появился перед глазами Хрущева и Нины Петровны со своей новой миловидной дамой сердца.
Стол п-образно изгибался. По центру, окружая новобрачных, расселись родители молодых и свидетели, по периферии, согласно табличкам с фамилиями, гости.
Никита Сергеевич решил обойтись без тамады, сам говорил, сам предоставлял желающим слово. Требуя тишины, он выставлял перед собой хрустальный фужер, пронзительно стуча по нему чайной ложечкой.
Начались поздравления. Говорили, что молодые с этой минуты стали взрослыми, что начинают самостоятельную жизнь. Усердно пили за великолепную пару — Сергея и Лелю, потом отдельно за Сергея, за то, как повезло ему с красавицей женой, затем поднимали за Лелю, которой посчастливилось встретить и полюбить во всех отношениях образцового парня. Был провозглашен тост за замечательную новую семью, соединившую две великих фамилии — Хрущевых и Лобановых, говорили, что это неспроста, что где-то там, свыше, все было предопределено. Это утверждение Никита Сергеевич напрочь отверг, громко перебив тостующего:
— Любят они друг друга, а ничего не свыше! Сядьте на место!
Пили за родителей молодоженов, за Никиту Сергеевича и за Нину Петровну, за Павла Павловича Лобанова и его супругу. В конце концов, родители, свидетели и родственники высказались, а гости под шумные тосты, задорные возгласы и поцелуи влюбленных успели подходяще накатить, с аппетитом налегая на яства. Никита Сергеевич стал предоставлять слово членам Правительства.
— Тебе, Сережа и тебе, Леля, желаю побольше ребятишек, рожайте, не думайте! Дети — это великая радость, в детях вся наша жизнь! — с ударением закончил тост маршал Жуков. — Горько! — под конец выкрикнул он.
В двадцать второй раз Леля и Сергей целовались. Никита Сергеевич раскраснелся, он был так рад за сына!
Молотов говорил скупо, буравил своими настырными глазами новобрачных.
— Вы должны быть достойны завоеваний Великого Октября, вы должны хранить социалистические идеалы! Должны стать примером для подражания, должны воспитывать детей в духе интернационализма, взаимовыручки, чтобы не посрамить большевиков! Обязаны на совесть трудиться во благо нашей любимой отчизны — Союза Советских Социалистических Республик! — Молотов высоко поднял бокал, кивая новобрачным, и хотел было сесть.
— «Горько» забыл! — подсказал ему Маленков.
— Горько! — продекламировал Вячеслав Михайлович и опустился на стул.
Леля и Сергей снова потянулись друг к другу.
— Спасибо сердечное, Вячеслав Михайлович! Не подведут они, не из такой породы! — у Никиты Сергеевича сердце пело, он радовался, любуясь на детей: «Красивая пара! А друзья-товарищи так мало про их красоту говорят, словно чужие!»
— А теперь слово предоставляется еще одному уважаемому человеку, Георгию Максимилиановичу Маленкову! — глядя на Маленкова, произнес тамада-отец.
Хрущев манил Егора руками, как бы призывая — поднимайся, поднимайся! Грузный Георгий Максимилианович, пыхтя, выбрался из-за стола, держа перед собой рюмку.
— Дорогие Леля и Сергей! Свадьба — это особый день, как бы итог молодости. Когда влюбленные становятся мужем и женой, они вступают в самостоятельную жизнь и будут жить с этих пор ради друг друга, ради собственной семьи, — Георгий Максимилианович сделал паузу. — На первый взгляд изменение незаметное, ничего как будто не произошло, однако уже все по-другому: нет рядом ни папы, ни мамы, теперь решения надо принимать самим. Хочу, чтобы жизнь у вас сложилась!
— Сложится, не сомневайся! — перебил Хрущев.
— Да, сложится, я не сомневаюсь, — кивнул Георгий Максимилианович. — Горько!
Под улюлюканье и подмигивания гостей Сергей и Леля снова встали для поцелуя. Артисты ждали команды, когда можно будет начинать выступления.
— А почему Николай Александрович отмалчивается?! Как суслик в нору забился! Мы тебя сейчас подтолкнем, какую ты речь заготовил?! — Хрущев, улыбаясь, грозил кулаком Булганину. — А ну, вставай!
— Я тебе не «вставай!» — оборвал Николай Александрович, он сделался красный, как рак.
— Отлупить надо упрямца! — шутливо выкрикнул Никита Сергеевич.
Булганин еще больше побагровел.
— Чего, говорить отказываешься?! По ушам получишь!
Председатель правительства поднялся и без улыбки произнес:
— Сердечно поздравляю. Счастья вам. За молодых! — одним махом опрокинул фужер с коньяком, вышел из-за стола и направился к выходу. За ним, как по команде, последовали Молотов, Маленков и Каганович. Они ни с кем не попрощались, лишь кивнули напоследок.
— Вы куда? — растерялся Никита Сергеевич.
— Ты, Никита, сам догуливай, увидимся! — напоследок бросил Молотов.
Демонстративный уход, к тому же совместно с Булганиным, ошеломил Хрущева. Такой поступок не укладывался в голову, тамада моментально протрезвел, то легкое опьянение вином, опьянение праздником, головокружительная радость за молодых — все разом улетучилось, но Никита Сергеевич не подал вида, он так же беззаботно кивал головой, подмигивал окружающим, только в выражении серых глаз его притаилось что-то болезненное, напряженное.
Праздник продолжался, бразды правления взял в руки Анастас Иванович Микоян, он шутил, сыпал анекдотами, рассказывал забавные истории, пытаясь вовлечь в разговор и Никиту Сергеевича, кое-как расшевелить его. Наконец заиграла музыка, начались танцы.
— Расстроился, Никита Сергеевич? — усевшись рядом, тихо спросил Микоян.
— Пусть походят, проветрятся! Чуть праздник не сорвали.
— Плохо это, — сказал Микоян.
— Взбрыкнули. Ты, Анастас, не ссы!
— Вчера ко мне Маленков заезжал, спрашивал про новшества в пищевой промышленности, я рассказывал про консервные заводы, про пивные, про мороженое сказал. Слушал внимательно, потом спросил: как с мясом, с молоком обстоит? И вдруг такой вопрос задает: «Ты к Хрущеву как относишься?» — «Хорошо отношусь», — отвечаю. «Не подведет он с сельским хозяйством?» — «Не должен подвести», — говорю. Такой был разговор.
— Прощупывал, значит?
— Получается, щупал.
— Мракобесы!
— А сегодня, смотри, демонстрацию устроили! — обеспокоился Микоян.
— Да хер с ними!
— Как бы не задумали что.
— Чего они могут задумать, обормоты! И, главное, Булганина к себе затянули! — негодовал Хрущев. — У него что, глаз нет? С кем связался?! Мы с Булганиным полжизни вместе, а он у пустышек на поводу пошел!
Анастас Иванович почесал голову:
— Обстановка нехорошая.
— Ну их к лешему! Давай веселиться, ведь день-то какой — свадьба! — Никита Сергеевич разыскал Нину Петровну и повел ее в пляс.
20 июня, четверг
Свадьба гуляла до утра. Никита Сергеевич ушел спать в час ночи, выпил, конечно, подходяще, но неприятное чувство на душе не заглушил. И утром оно не рассеялось, а скорее усилилось.
«Вот сволочи! — переживал Хрущев. — Особенно Булганин, гад!»
Голова раскалывалась.
— Весь праздник испортили! — ворчал Никита Сергеевич. — Так разве друзья поступают?!
Он кое-как привел себя в порядок и спустился вниз, чтобы позавтракать.
— Не искали меня эти умники? — спросил жену Хрущев.
— Нет.
Муж грустно покачал головой. Слабая надежда, что Николай Александрович все-таки позвонит, заедет помириться, в глубине души оставалась. Нина Петровна принесла супругу наваристого куриного бульона.
— Попей, легче станет!
Никита Сергеевич взял кружку с бульоном и начал медленными глотками, чтобы не обжечься, пить.
— Почему они так? — произнесла супруга.
— Не спрашивай! — отрезал отец. — Пойду на реку, идем со мной!
— Пойдем.
— Покупаемся, вода теплая.
— Согласна.
— А молодые встали?
— Спят.
— Безобразие, ведь половина десятого!
— Пусть спят, не придирайся!
После купания Никита Сергеевич с час вздремнул, а потом, так и не дождавшись ни Сережи, ни Лели, отправился на огород. Огород был его слабостью, чего только он здесь не сажал, даже из Бирмы привез разных семян, правда, их высадил в доме на застекленной террасе. И в походе на огород его сопровождала супруга, понимая, что мужу нужна поддержка. На работу Никита Сергеевич собирался ехать после обеда.
На этот раз огород не вызвал у знатока сельского хозяйства ни восторгов, ни разочарований, он без интереса обошел грядки и отправился в дом.
— Лобанов на свадьбу невиданных плодов приволок, манго всяких да папай, недаром он академик, во фруктах понимает. Я запретил их гостям давать, чтобы недоразумений не было, у нас как до нового дорвутся, меры не знают. Давай станем с тобой пробовать?
— Давай! — согласилась Нина Петровна и улыбнулась: — Леня Брежнев вчера так отплясывал, что пиджак порвал! — припомнила она.
— Молодой, что с него взять, кровь бурлит!
— Может, рано ты его из Казахстана в Президиум взял?
— Рано, не рано, а дело сделано, Брежнев в Москве. Пусть лучше он рядом, а не эти недовольные рожи!
— И Шепилов вчера по-быстрому ушел, — припомнила Нина Петровна.
— Ему статьи научные нужно писать, он в университете преподает, профессор.
— А Молотов был зеленый.
— Лучше б синий. От него просто тошно!
— Не простит он тебе Министерство иностранных дел!
— Не нервируй, Нина, не хочу об этом думать! Давай заморские лакомства пробовать — ишь, какая гора! — кивая на неподъемное блюдо, которое водрузили на стол, проговорил Никита Сергеевич.
— А какой хороший тост Леша Аджубей сказал, особенно про нашего Сережу! И Лелечку похвалил, чувственный тост! — сменила тему Нина Петровна.
— Я плохо помню, расстроился из-за Булганина.
В это время в столовой появился Букин.
— Из Кремля звонит Аристов, просит вас к телефону.
— Чего ему-то надо? Забыл, что ль, что у меня свадьба?!
— Извиняется, говорит, дело срочное.
— Какое еще срочное дело?
Хрущев, кряхтя, поднялся:
— Вконец замучили, отдохнуть не дадут! — Никита Сергеевич вышел в соседнюю комнату к телефону.
Нина Петровна приподняла салфетку над хрустальным блюдом и взяла клубничку. Сладкая, правда, не очень крупная ягода уродилась на огороде. Скушав клубничку, хозяйка потянулась за следующей, а индийские и африканские лакомства так и лежали нетронутыми.
— Заседание Президиума ЦК открыли, представляешь?! — громко хлопнув дверью, возмутился Хрущев. — Без меня, без Первого Секретаря!
— Как такое может быть?! — всплеснула руками Нина Петровна.
— Получается, может. Меня требуют. Надо ехать.
— Что же это творится?!
— Молотовские фокусы!
В зале заседаний Президиума Центрального Комитета сидели Молотов, Маленков, Булганин, Ворошилов, Каганович, Микоян, Сабуров, Поспелов, Шепилов, Первухин, Шверник, Фурцева и Аристов. У Леонида Ильича ночью снова случился сердечный приступ — мало того, что на свадьбе он с усердием пил, так еще и плясал как умалишенный.
Через сорок минут Хрущев был в Кремле.
— Что стряслось?! — с порога начал он.
В повестке дня очередного заседания Президиума значился вопрос о праздновании 250-летия города Ленинграда, но заседание это должно было состояться послезавтра — так условились из-за предстоящей хрущевской свадьбы.
— Присаживайтесь, Никита Сергеевич! — менторским тоном проговорил Молотов.
Хрущев направился к своему месту во главу стола.
— В связи с тем, что на заседании пойдет речь о товарище Хрущеве, — продолжал Вячеслав Михайлович, — предлагаю вести заседание председателю Совета министров Булганину. Кто за то, чтобы Булганин был председательствующий?
Молотов, Маленков, Ворошилов, Булганин, Каганович, Шепилов, Сабуров, Первухин и Поспелов подняли руки. Возражал лишь Микоян. Кандидаты в члены Президиума Центрального Комитета в голосовании не участвовали.
— Большинство! — огласил Молотов. — Товарищ Хрущев, освободите место!
Хрущев с нескрываемым раздражением смотрел на Вячеслава Михайловича.
— Не пойму, что происходит?
— Я со своего места буду проводить, — сказал Булганин. — Можете не пересаживаться, товарищ Хрущев.
Никита Сергеевич смерил Булганина негодующим взглядом.
— Предлагаем вам отчитаться о проделанной работе, — срывающимся от волнения голосом продолжал председатель правительства. — Расскажите Президиуму, что вы сделали на посту Первого Секретаря?
— Вы что же, на Съезде не были?! — выпалил Хрущев. — На Съезде партии все итоги подвели!
— Мы не про успехи нашей партии говорим, а про вас персонально! — вступил Молотов.
— Ничего он не сделал! — с места гаркнул Каганович.
— Если вы спрашиваете, что произошло после ХХ Съезда, так это мы на каждом Пленуме обсуждали, вы там присутствовали!
— Да не может он ничего по существу сказать! — грубо продолжал Лазарь Моисеевич.
— Можно мне? — спросил председательствующего Маленков.
— Пожалуйста, — позволил Булганин.
— За несколько лет, которые товарищ Хрущев руководил партией, ничего путного не случилось, одна демагогия, здесь я товарища Кагановича поддерживаю. С тех самых сталинских времен, которые с таким усердием чернит Хрущев, мы живем по инерции, движемся, так сказать, по накатанному!
— Он уводит партию в сторону, тянет страну на дно! — определил Молотов.
— Погодите, погодите! — запротестовал Никита Сергеевич. — Что вы такое говорите?!
— Не перебивайте! — строго взглянул Вячеслав Михайлович. — Обещанный прорыв в сельском хозяйстве не случился, а денег туда потрачено немыслимое количество!
— Да как не случился, случился! — запротестовал Хрущев. — Целина сколько зерна дала, посчитайте! Море зерна! Я вам цифру приведу, — Никита Сергеевич выхватил из папки блокнот. — Вот, слушайте!
— Помолчи, а то будем без тебя говорить! — отрезал Молотов.
— Как это — без меня?
— Если не будешь отвечать на поставленные вопросы, выведем тебя из Президиума! — заявил Каганович.
— Вы тут не в гостях, а на заседании Президиума Центрального Комитета! — поддакнул Шепилов.
Увидев пренебрежительное лицо Шепилова, Хрущев совершенно растерялся.
— Что же я такое совершил, за что вы меня судите?!
— Прежде всего, ты нарушил принцип коллективности в руководстве, пытался все вопросы решать самостоятельно. Заимел привычку перебивать, хочешь, чтобы тебя одного слушали! Наверное, позабыл, что большинству в партии следует подчиняться? — едко выговорил Ворошилов.
— А для Хрущева закон не писан! — высказался Молотов. — Твоя грубость, безапелляционность и вульгарность перешла всякие границы!
— На ХХ Съезде мы говорили о культе личности Сталина, а у нас вовсю растет культ личности Хрущева! — добавил Сабуров. — Хрущев и пионерами занимается, и погодой, и космическими кораблями!
— Даже во внешнюю политику умудрился со своими гениальными идеями влезть, политику великого государства наизнанку вывернул! Это опасные зигзаги! — грозил Молотов.
— В печати, на каждой странице, сплошные хрущевские умозаключения! Вы кто, Никита Сергеевич, глашатай Центрального Комитета? Кто вам дал такие полномочия? — желчно осведомился Маленков. — Товарищ Хрущев не считает возможным советоваться ни по какому поводу! На каком основании так себя ведешь?
— Единолично дал интервью для американского народа! — повысил голос Молотов. — А мы, руководство, ничего не знаем! Узнаем из западных газет, где пишут, что советский лидер Хрущев высказал пути развития советско-американских отношений. Возмутительно! Можно ли такое делать? Нельзя! Вопросы американского корреспондента были заранее известны. Почему члены Президиума узнают о позиции государства из опубликованного в газете хрущевского интервью, и государственная ли это позиция?
Молотов неприятно посмотрел на Хрущева:
— А может, нахальная самодеятельность?
— Недавно про советско-египетские отношения объявил, — поддержал Ворошилов. — Нельзя допустить, чтобы члены Президиума узнавали о принципиально новой позиции страны по крупному вопросу международной политики после того, как это уже заявлено на весь мир!
— Обещаю впредь советоваться! — жалостно выдавил Хрущев, понимая, что дело приняло дурной оборот. Он стоял перед собравшимися, понурив голову, словно проштрафившийся школьник, которого отчитывали учителя.
— А головоломка с Советами народного хозяйства вместо министерств? Удивительная глупость! — снова возмутился Ворошилов.
— Совмин ни во что не ставит! — кипел Маленков. — Партийные органы берут на себя не свойственные им хозяйственные функции!
— Партия все дублирует, есть в ЦК Отдел машиностроения, и Отдел торговли, и Транспортный отдел и Международный отдел. Скоро можно будет Совет министров на замок закрыть! Штаты в ЦК как на дрожжах растут!
— Узурпировал власть! — подытожил Молотов.
— Надо немедленно эти отделы-дублеры ликвидировать! — предложил Первухин.
— Я предлагаю ликвидировать должности первых секретарей в областях, и в Центральном Комитете такую должность упразднить, — внес предложение Каганович. — Секретаря ЦК, который ведет подготовительную работу к Президиуму, можно назвать исполнительным секретарем, или ответственным.
— Но никак не Первым! — откликнулся Климент Ефремович. — Еще при Сталине такой проект согласовывали, а ведь Сталин, чем-то думал, когда предложение вносил! Сам Сталин от должности Генерального Секретаря отказался, потому что не было больше в этом смысла. Почему бы сейчас к этому не вернуться?
— Тем более что в стране есть председатель Совета министров! — тихо проговорил Булганин.
— Правильно! Правильно! — раздались голоса.
— Сегодня первые секретари республик и секретари обкомов развернули работу по дискредитации отдельных членов Президиума! — жаловался Сабуров. — За всем этим стоит Хрущев!
— Что тут думать! — взревел Каганович. — Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы освободить Хрущева с поста Первого Секретаря и ликвидировать эту должность?
— Не вы ведете заседание, Лазарь Моисеевич! — воскликнул Хрущев и в надежде обернулся к Булганину. — Николай, куда несетесь, давайте, посоветуемся, обсудим!
— Ставлю вопрос на голосование, — монотонно проговорил председатель правительства. — Кто за то, чтобы освободить товарища Хрущева от должности Первого Секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза? — и опустив глаза, поднял руку вверх.
Вслед за ним руки подняли Председатель Президиума Верховного Совета СССР Ворошилов, заместители председателя Совета министров Молотов, Маленков, Каганович, Сабуров, Первухин, Секретарь ЦК Шепилов. Возражали Микоян и Хрущев, Поспелов воздержался.
— Вопрос решен, — огласил Булганин. — Товарищ Хрущев освобожден от должности Первого Секретаря. Предлагаю вывести товарища Хрущева из состава Президиума Центрального Комитета.
— Вы нарушаете Устав партии! — запротестовал Хрущев. — Если хотя бы один член Президиума против, вопрос не проходит, а выносится на Пленум Центрального Комитета! А здесь трое против! Пусть Пленум решает, быть мне Первым Секретарем или не быть! Предложили отчитаться, так позвольте начать отчет. Если вы уж решили освободить меня от должности, так дайте высказаться, сами же кричали о партийной дисциплине!
— Пусть Никита Сергеевич говорит! — вступил Микоян. — Наш Президиум должен быть принципиален. Предоставить слово!
— Говорите, — уступил Булганин.
— Извините, — умоляющим голосом сказала Фурцева, — разрешите мне выйти? — она жалостливыми глазами смотрела на Николая Александровича. — Мне в женскую комнату надо, я высидеть не смогу!
Всем было известно, что в спецотсеке, где проходил Президиум Центрального Комитета, не был предусмотрен женский туалет, так как женщин, членов Президиума, раньше не было и, если у Фурцевой возникала надобность, она шла в противоположный конец здания.
— Идите, только быстрей! — позволил Булганин.
Екатерина Алексеевна выскользнула из-за стола и скрылась за дверьми.
— Я согласен с Никитой Сергеевичем, нельзя нарушать порядок, надо созывать Пленум, — начал речь Секретарь ЦК Аристов.
— Вы кандидат в члены Президиума и не имеете права голоса! — оборвал его Каганович.
— Думаю, товарищ Аристов в ЦК не задержится! — криво усмехнулся Молотов.
Первым делом Фурцева побежала в кабинет Микояна, который находился на третьем этаже, схватила ВЧ и соединилась с Жуковым.
— Георгий Константинович, у нас переворот. Хрущева снимают!
— Кто?
— Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов и Булганин.
— Булганин?!
— Да! Что делать, Георгий Константинович?
— Звони Серову, звони членам ЦК, я выезжаю к вам!
Жуков находился под Солнечногорском, на озере Сенеж, в расположении танковой бригады генерала Драгунского. Маршалу демонстрировали новый тяжелый танк Т-10 м. Фурцева понимала, что вместе с Хрущевым придет и ее конец. Она отзвонила Серову, разыскала находившегося в командировке Суслова, потом взяла в руки телефонный справочник и стала набирать тех из членов ЦК, кого знала, просила срочно ехать в Кремль, заступаться за Никиту Сергеевича.
Хрущев говорил второй час. Подробно остановился на сельском хозяйстве, начал перечислять преимущество работы Совнархозов, созданных вместо отраслевых министерств.
— Вы нам зубы не заговаривайте, — перебил докладчика Маленков.
— Закругляйся! — бросил Молотов.
— Я еще не сказал о положительных итогах во внешней политике.
— Надо дослушать, Никита Сергеевич много путного говорит, — вмешался Микоян. — Я не считаю, что Хрущева следует убирать из руководящего ядра партии. Такими руководителями не разбрасываются.
— Руководитель, который подрывает устои государства, не руководитель, а враг! — желчно заметил Молотов. — Страна имела четкий ориентир. Этот ориентир был Сталин. Хороший он или плохой, не будем сейчас разбирать, ясно, что он являлся и является в народе непререкаемым авторитетом! Со Сталиным наш Союз был нерушим. А посмотрите, что сделал своими выходками Хрущев? Обрушил веру в Сталина, растоптал нашу государственность, переиначил всю героическую историю. И что мы получили взамен — бунт в Европе получили, и где? — в странах народной демократии! Убрали войска из Австрии! Нами уже и Китай не доволен. Он расшатал партию, озлобил интеллигенцию, а это не мало! Многие пострадали от Сталина, кто-то больше, кто-то меньше, но мы государственники, мы идеалами не разбрасываемся, мы твердо шли по ленинско-сталинскому пути! А где сейчас этот путь? Куда идти? Под какими лозунгами? Хрущев и сам не знает. Все профукал товарищ Хрущев! За это надо ответить!
Вячеслав Михайлович зло сверкнул глазами:
— Раньше порядок был, все работали, а сейчас каждый с бестолковыми идеями лезет. Раньше никому не дозволялось высказывать собственное мнение, было мнение партии, и послушание было, абсолютное послушание! А при Хрущеве — диспут на диспуте, спор на споре, и главное — понять ничего невозможно!
— Одни пустые разговоры, а дел нет! — поддержал Каганович. — Толкут воду в ступе!
В этот момент в дверях появился министр обороны, Маршал Советского Союза Жуков.
— Здравия желаю!
— Присаживайтесь, товарищ Жуков, — пригласил Вячеслав Михайлович, — вы в самый раз подоспели.
— Вы что здесь, Хрущева снимаете? — Жуков пристально посмотрел на Булганина.
— Президиум уже принял решение, — за Булганина ответил Ворошилов.
— Как-то кулуарно, не по-советски!
— Как положено, большинством голосов, — отозвался Молотов. — Вы, товарищ Жуков, пока не член Президиума и не голосуете.
Жуков, как Фурцева, Брежнев и Аристов, был лишь кандидатом в Президиум Центрального Комитета.
— Хрущева избрал Пленум, равно как и всех нас. Вы занимаетесь самоуправством!
— Партийную дисциплину мы знаем! — ухмыльнулся Молотов.
— А почему, собственно, Хрущева решили освободить, какая необходимость? — поинтересовался Жуков.
— Много претензий. Хрущев больше не пользуется доверием Президиума, — разъяснил Ворошилов.
— На месте его никогда нет, мотается туда-сюда, как говно по полонке, морочит людям головы, а дела стоят! — заговорил Каганович.
Маленков, а после Шепилов повторили претензии к Хрущеву.
— Товарищ Хрущев слушает только себя, все знают его норовистый характер, — докончил Георгий Максимилианович.
— Давайте соберем Пленум, — обреченно проговорил Никита Сергеевич. — Меня Пленум избрал!
— Когда надо, тогда и соберем! — отрезал Молотов.
Хрущев покорно стоял перед своими судьями.
— Я выражаю вам глубокую признательность за критику, теперь я и сам вижу, что заблудился. Я сделаю надлежащие выводы, исправлюсь! Товарищ Булганин, Николай Александрович! Мы же с тобой столько лет дружим! И ты, Георгий Максимилианович, и вы, Климент Ефремович, я всем здесь присутствующим говорю огромное спасибо, что раскрыли глаза, обещаю исправиться!
— А что это за бесцеремонный призыв догнать и перегнать Америку по молоку и мясу? — возмутился Шепилов. — Сначала надо посчитать наши возможности, может, в первоочередном порядке стоит развивать тяжелую индустрию, машиностроение, а не соревноваться с американцами?
— Это лозунги, направления, то, к чему следует стремиться, — оправдывался Хрущев. — Без направлений не получается. И тебе огромное спасибо за прямоту, Дмитрий Трофимович. Неужели я так плохо делал, чтобы меня взять и за двери выставить? У вас, товарищ Маленков, тоже ошибки были, но мы вас, покритиковали, а заместителем председателя Совета министров оставили, и не кричали на вас и ногами не топали! Чего вы на меня всем скопом навалились?
— Разговоры про Маленкова сейчас неуместны! — оборвал Каганович.
— Разрешите мне завтра закончить отчет, я обязан подробно доложить Президиуму о своей работе, доложу, а тогда приговаривайте! — в сердцах воскликнул Никита Сергеевич.
— Вы и сегодня немало рассказали, мнение у нас сложилось, — проговорил Маленков.
— Не все сказал, далеко не все! Без подготовки, многое упустил. От моего отчета зависит моя судьба. Дайте возможность выступить?!
— Ни хера бы я Хрущеву не позволял! — сказал Лазарь Моисеевич. — И надо поскорей нахального генерала госбезопасности убрать.
— Серов при Хрущеве и нюх, и совесть потерял! — вспылил Булганин.
— Совести у него никогда не было! — заметил Молотов.
— Предлагаю Комитет госбезопасности подчинить напрямую Президиуму ЦК, — предложил Ворошилов. — Тогда никакой перегиб там не случится, а то Серов к одному Хрущеву на поклон ходил.
— Хрущев наверняка поручал ему за нами следить! — высказался Сабуров.
— Ничего такого не было, это наговоры! — запротестовал Никита Сергеевич.
— Я настаиваю, чтобы на заседании присутствовали все члены и кандидаты в члены Президиума, все Секретари ЦК! — с напором проговорил Жуков.
— Мы действуем в рамках существующего регламента! — оборвал маршала Молотов.
— Если нет, я обращусь напрямую к народу! Мы должны поступать по государственному!
— Ты что, нас пугать будешь?! — с вызовом спросил Каганович.
— Я выступаю за партийный порядок! — напирал Жуков. — Если проводим Президиум, значит, члены Президиума должны быть тут, у нас украинский Секретарь Кириченко отсутствует, Суслова нет, Брежнева, Мухитдинова!
— Брежнева забыли пригласить! Вот тоже прима-балерина! — протянул Лазарь Моисеевич. — А узбека ждать устанем!
— Не кипятись, Георгий Константинович, завтра недостающих соберем, — пообещал Молотов. — Ты, товарищ Шепилов, явку обеспечь. Согласен, товарищ Маленков?
Маленков кивнул.
— Закрывай, Николай Александрович, Президиум. До завтра, до двенадцати часов! — распорядился Вячеслав Михайлович. — Завтра поставим точку.
Хрущев, зажав под мышкой папку, мрачно шел по коридору, на лестнице ему навстречу выскочили Серов и Фурцева.
— Мы с Иваном Александровичем обзвонили членов ЦК, секретарей обкомов, всех, кто за нас, — сообщила Екатерина Алексеевна. — Жуков выделяет для доставки их в Москву военные самолеты.
— Звоните всем нашим, надо во что бы то ни стало открыть Пленум, чем быстрее, тем лучше! Представляешь, Ваня, как меня друзья-товарищи линчуют? От кого, от кого, а от Кольки не ожидал! Непомерной славы захотел. А Ворошилов, старый пердун, сидит, тявкает. После того как все мои злопыхатели на меня помои излили, он руку тянет, разрешите, говорит, и мне в сторону Хрущева опорожниться! О, как сказал! — Хрущев от злости позеленел, достал платок и громко высморкался. — Я скоро сам на тебя, Климент Ефремович, опорожнюсь!
— Слушаю внимательно, Георгий Максимилианович! — чуть не опрокинув от радости телефон, ответил Круглов. Маленков не звонил товарищу уже два месяца, и это угнетало опального министра, соседи теперь его сторонились, сослуживцы забыли, старые приятели отворачивались, в семье дочери шли скандалы, и он ничего не мог с этим поделать.
— Тут, Сергей Никифорович, хорошие известия случились, — выдохнул Георгий Максимилианович.
— Какие?
— Хрущева опрокинули.
— Как, когда?
— Сегодня сняли.
— Да что вы говорите!
— Да.
— Наконец-то!
— На Президиуме, с перевесом — семь против двух. Из этих двух один — сам Хрущев.
— А другой?
— Анастас Микоян.
— Понятно.
— Завтра итоговое заседание. Так что ты чисти перышки, следующим ходом до Серова дойдем.
Круглов повесил трубку и замер: «Неужели выкинули? Неужели наподдали мерзавцу?! Первым делом надо будет найти говенные материалы, где лысый расстрельные списки подписывал. Как ни старался Иван, как бумагу ни жег, все равно мерзкие подписи разыщу!»
Сергей Никифорович набрал номер дочери. Услышав отца, Лада обрадовалась, а когда он спросил про непутевого мужа — захлебнулась в рыданиях — руки распускает!
— Скоро утихомирим! — прошипел генерал.
21 июня, пятница
Алексей Иванович Аджубей еще вчера заподозрил неладное. Когда его «Победа» выруливала на Старую площадь, регулировщик, зная, чья это машина, всегда предусмотрительно придерживал движение, но этого не случилось, регулировщик вроде бы отвернулся, не замечая «Победы» хрущевского зятя, и водителю, поворачивающему от ЦК на улицу Разина, пришлось опасно вклиниваться между грузовиком и автобусом. Потом, в редакции, в его кабинет поступил странный звонок. По «кремлевке» говорил заведующий Первым Европейским отделом МИДа, который звонил по поручению Шепилова. Он сообщил Аджубею, что его вывели из состава лиц, принимающих делегацию Великобритании.
— Так что, вы, пожалуйста, не приходите, — предупредил дипломат.
— А на прием, после переговоров, прийти можно? — задал вопрос ошарашенный Аджубей.
— И на прием приходить не следует!
Аджубей был поражен таким поворотом. Как это, его, зятя Первого Секретаря, не допускают к англичанам? Он позвонил жене. Она сказала, что отца внезапно вызывали в Кремль на Президиум и пока он не объявлялся. Алексей Иванович знал, что Президиум ЦК намечался на послезавтра — а почему же сейчас? Алексей Иванович набрал приемную Никиты Сергеевича. Он был в доверительных, нет, скорее в дружеских отношениях со всеми секретарями и референтами, там ему подтвердили, что Первый Секретарь находится на экстренном заседании Президиума. Слово «экстренный» Аджубею совсем не понравилось, но больше все-таки насторожил регулировщик у здания ЦК: ведь вместо милиционеров-регулировщиков перед зданием Центрального Комитета и перед Кремлем в форме орудовцев стояли сотрудники Главного управления охраны. И Шелепина разыскать у Аджубея не получилось.
После работы, перед выездом в Огарево, Алексей Иванович заскочил в аптеку на улицу Грановского, жена просила забрать для малыша болтушку от кожного раздражения. Там он лицом к лицу столкнулся с Полиной Семеновной Жемчужиной, которая с какой-то торжествующей улыбкой кивнула хрущевскому зятю и быстро ушла. Обычно, когда они по-соседски встречались перед подъездом, Полина Семеновна непременно заводила длинный разговор, интересовалась детьми, спрашивала про Раду, справлялась о здоровье Нины Петровны, а сегодня — ни слова. «Странно!» — подумал Аджубей.
За тридцать минут езды за город Алексей Иванович упрямо пытался поймать по радио новости, но никаких особых новостей не передавали. И вот дома, только взглянув на Нину Петровну, он сразу все понял. Никогда еще супруга Никиты Сергеевича не была столь печальна и озабочена, но и она ничего не сказала, и лишь Рада, обняв мужа, прошептала в самое ухо;
— Папу снимают!
Хрущев приехал поздно и не один, с ним были маршал Жуков и генерал Серов. Они заперлись в кабинете. Спустя час подъехали Микоян, Суслов, Брежнев и Фурцева. Около двенадцати ночи посетители разъехались. Полночи Хрущев сидел в кабинете, разбирая бумаги.
Маленький Леша плакал, Алексей Иванович долго не мог заснуть, ворочался, периодически поглядывая в окно на свет в кабинете Радиного отца.
Будильник громко тикал, или это казалось? Нет, не казалось. Монотонное, хищное тиканье разбудило Алексея Ивановича без пятнадцати шесть. В трусах и в майке он вышел на балкон и, достав припрятанные под цветочным горшком сигареты, попробовал закурить. Прикурил, но затягиваться не стал, передумал, переломил сигарету пополам и кинул за балконное ограждение — раз бросил, значит, бросил, не буду курить никогда! — решил он. Утро, казалось, было отлито из свинца: пасмурное, угрюмое, небо давили низкие серые облака, и было нестерпимо душно. Редактор пытался снова лечь и заснуть, но не получилось — внутри все клокотало. Через полчаса Рада стала кормить Лешку, мальчик расплакался, мать долго не могла его успокоить, он плакал и плакал, предчувствуя что-то недоброе. Как могла, мать успокаивала его, брала на руки, качала, давала грудь, но ребенок ревел, всхлипывал и обиженно вздыхал.
Аджубей принялся помогать жене нянчить, но мысли его были далеки от младенца, он ждал трагической развязки, понимал, что свержение Хрущева напрямую отразится на его семье, думал, где и кем он будет работать, где они с Радой и детьми станут жить, ведь особняк на Москве-реке, необъятный дом в Огарево и многокомнатную квартиру на Грановского непременно отберут. «Будем ютиться в комнатке моей мамы на Арбате, той самой, желанной, малюсенькой квартирке, которую маме, как лучшей закройщице московского Дома моделей, предоставили по ходатайству Нины Теймуразовны Берии. Там можно даже очень хорошо жить. Мы с мамой там были счастливы! — прикрыв глаза, размышлял Алексей Иванович.
Мальчик задремал на руках у отца.
«Тяжело Раде будет перестроиться — впятером в одной комнате! — одолевали горькие мысли. — А мне как быть? Из газеты выгонят — куда пойду? Устроюсь на почту, у нас почта за углом. Хорошо мама шьет, как-нибудь проживем!»
Думы были тяжелые. Лешенька снова заплакал.
— Никому, думаю, не надо объяснять, что товарищ Хрущев не оправдал доверия партии, — начал речь Молотов. — На прошлом заседании большинством голосов было принято решение освободить товарища Хрущева от обязанностей Первого Секретаря Центрального Комитета. Поводом для этого послужило явное искажение основных положений марксизма.
— Да где такое было?! — возмутился Никита Сергеевич.
— Не перебивайте! — отрезал Молотов. — Высказывалось предложение отказаться в партии от первых секретарей снизу доверху, упразднить дублирующие отраслевые отделы в структурах ЦК. Было мнение, чтобы партия сосредоточила свою работу на идеологии, а не на хозяйственной деятельности и тем более не касалась вопросов внешней политики государства, — Молотов кашлянул.
— Недостаточно, Вячеслав Михайлович, ты остановился на личности Хрущева, совершенно недостаточно! — с места прогудел Каганович. — В его адрес вчера много негативного говорили. Пусть товарищ Булганин об этом доложит. Я же, со своей стороны, так как раньше других был с ним знаком, скажу следующее.
Товарищ Хрущев мало что знает и мало во что вникает, у него все просто: право, лево, поверхностные представления. А страна, это не тетрадка в клеточку и не деревня с тремя домами! Хрущева хорошо использовать под чьим-то авторитетным началом, тогда будет результат. Он подчиненный, а не государственный деятель, как дорвался до власти, все положительные качества растерял, в том числе и скромность. Посмотришь на него, с виду простой, человеколюбивый. Этой ласковой простотой он многих попутал, с сердечной улыбочкой втирался в доверие, и ко мне через простоту и напускную искренность влез. На самом деле Хрущев пустой, недалекий, грубый и злопамятный человек, к тому же — глупый. На его глупость и необразованность даже товарищ Сталин указывал.
— Так почему не выгнал меня, раз я дурак такой?! — поперхнулся от возмущения Никита Сергеевич.
— Руки не дошли! — с пренебрежением ответил Лазарь Моисеевич.
— Не перебивай, учись слушать! — напустился на Хрущева Маленков.
— От хрущевской простоты мало пользы! — поддержал Молотов. — Как он ведет себя с руководителями зарубежных государств? Да так же, как с рабочими на заводе! Похлопывает их по спине, отпускает непристойные шуточки, пугает, расхаживает без галстука в украинской рубахе. Десятилетиями вырабатывались нормы поведения советского государственного деятеля при зарубежных контактах, а он взял и на все наплевал!
— Где я не той стороной повернулся, Вячеслав? Кто разговаривать со мной не захотел? Даже королева английская два часа болтала!
— Королева с ним бол-та-ла! — оскалился Молотов. — Хватит паясничать!
Маленков с силой вдарил кулаком по столу, да так, что стоящий рядом графин с водой подпрыгнул.
— Мы второй день заседаем, в глаза тебе говорим, а ты делаешь вид, что не понимаешь! Считаю, надо принимать по Хрущеву окончательное решение, выводить из Президиума!
— Человек, у которого три класса образования, не может стоять у руля партии! — поддержал Шепилов.
— У меня тоже три класса, — хмуро сказал маршал Жуков. — Мне тоже заявление писать?
— Сейчас речь не о вас, Георгий Константинович! — промямлил Булганин.
— Сегодня не про меня, а завтра про меня пойдет! Вы тут не придуривайтесь, где существо вопроса?! Почему вам Хрущев сейчас не подходит, а раньше подходил? Где аргументы? Мне тоже кое-кто не нравится, но это не означает, что я могу его поедом есть!
— Вы, товарищ Жуков, себе и похуже выходки позволяете! — имея в виду рукоприкладство, проговорил Каганович.
— Тем, кто нарушает Войсковой Устав, я яйца отобью — армия есть армия! Если приказ дан, а он стоит и в носу ковыряет, за это не только яйца, за это голову можно открутить! — огрызнулся маршал.
— Не понимаю, почему игра идет в одни ворота! — заявил Микоян. — Вывалили на одну сторону весов плохое, а про хорошее позабыли. Так не годится!
— Есть предложение назначить Хрущева министром сельского хозяйства, — подал голос Сабуров.
— Лучше к казахам отправить! — высказался Каганович.
— Вы обещали предоставить мне слово для обстоятельного выступления, я ночь готовился! — затряс толстой пачкой бумаг Никита Сергеевич.
— Отставить! — выпалил Ворошилов. — Ставь вопрос на голосование, товарищ Булганин.
Николай Александрович заерзал на стуле.
— Так неправильно! — подняла голову Фурцева. — Надо дать слово Никите Сергеевичу!
— Никите Сергеевичу! — передразнил Каганович. — Сиди тихо, а то и ты вслед полетишь!
— И я настаиваю на выступлении! — проговорил прервавший командировку и теперь сидящий рядом с Микояном Секретарь ЦК Суслов.
За это же высказался украинский секретарь Кириченко, который спешно прибыл из Киева.
— Не давать слово! Кандидаты в члены Президиума права голоса не имеют! — отрезал Каганович.
— Мы с Кириченко законные члены Президиума, — отозвался Суслов, но его игнорировали. Не очень-то Михаила Андреевича чествовали молотовцы.
Снова накинулись на Хрущева.
— Кто тебя просил на встрече с художниками говорить о разногласиях с товарищем Молотовым?! Какое отношение это имеет к живописи? — задал вопрос Ворошилов.
— Их там триста человек набралось, — поддержал Маленков. — Среди них были совсем незрелые, идейно слабые люди. Ты их своими речами еще больше распустил!
— Вопиющие вещи! — кашлянул Булганин.
— Все им вывалил, даже то, что знать не обязательно. Там половина беспартийных!
— Не может такой человек в Президиуме находиться! — поддакнул Первухин.
— Надо предоставить Хрущеву слово для выступления! — настаивал Микоян.
— Снимать надо! — проговорил Молотов. — И будем снимать!
За дверями послышался шум.
— Что там? — насторожился Ворошилов.
Все прислушались. Снаружи доносились громкие голоса.
— Твои люди? — спросил у Жукова Каганович.
— Не в курсе! — отозвался министр обороны.
— Может, Жуков решил нас танками окружить, в плен взять Президиум Центрального Комитета?!
Ворошилов встал, подошел к двери, приоткрыл ее и выглянул наружу.
— Что там? — спросил Маленков.
— Члены ЦК, человек десять пришли, хотят с нами говорить.
— С кем? — оскалился Каганович.
— С членами Президиума. Спрашивают, чем мы тут занимаемся.
— На х…! — не обращая внимания на Фурцеву, выругался Лазарь Моисеевич. — Пусть сидят по своим областям и языки в задницу заткнут, а то и их нагоним!
— Я, как Первый Секретарь, обязан с ними встретиться, — приободрившись, заговорил Хрущев.
— Ты уже не Первый Секретарь! Шепилов встретится! — отрезал Каганович.
— Кворума у вас не было! — заартачился Хрущев. — Я пойду встречаться.
— Один не пойдешь! — цыкнул Каганович.
— Принять товарищей необходимо, или, на худой конец, выслать к ним представителей, — высказался Ворошилов. — Здесь Никита Сергеевич прав.
Молотов внимательно посмотрел на Председателя Президиума Верховного Совета. Интонация в голосе последнего еле уловимо изменилась.
— Поддерживаю! — произнес Микоян.
— И я — за! — поднял руку Жуков.
— Вместе с Хрущевым пусть пойдут Микоян, Ворошилов и Булганин, выслушают товарищей, — уступил Молотов.
Хрущев был на седьмом небе — успели ребята, в самый раз появились! Это Брежнев с Фурцевой всю ночь обзванивали членов ЦК, Серов и Жуков обеспечили их проезд и беспрепятственный проход в Кремль. Никита Сергеевич понял, что чаша весов начала перевешивать на его сторону, но сидел еще скромно, потупив голову, ждал, пока в Москву подъедут остальные его сторонники.
— Ведите нас, товарищ Ворошилов, — покорно проговорил Хрущев.
Переговоры с членами Центрального Комитета прошли на эмоциях. Члены ЦК в ультимативной форме требовали прекратить обсуждение вопроса о Первом Секретаре, в противном случае грозились открыть Пленум Центрального Комитета и переизбрать Президиум. Особенно выделялись три крикуна: Подгорный, Струев и Полянский, их накануне инструктировал Леонид Ильич. К концу переговоров в Кремль прибыли еще двадцать восемь сторонников Никиты Сергеевича. В конце дня Микоян передал присутствующим, что членами Центрального Комитета принято решение открыть внеочередной Пленум партии.
— Я им яйца оборву, этим крикунам! — рассвирепел Каганович. — Публикуйте в газетах решение о снятии Хрущева! — но с публикацией не получилось, так как в редакцию «Правды» и других центральных газет прибыли офицеры Комитета государственной безопасности, которые взяли под контроль все выходящие в печать материалы. Любую информацию в газетах разрешалось печатать после обязательной визы Суслова и Брежнева.
Вернувшись домой, Никита Сергеевич первым делом прошел в кабинет и набрал Булганина.
— Слушаю, — ответил Николай Александрович.
— Это я, Коля! Узнал?
— Узнал, — очень тихо отозвался Булганин.
— Заедешь ко мне?
— Не могу. Я не один, — в этот момент у Булганина дома находились Молотов, Маленков, Каганович и Шепилов, решали, как вести себя завтра на Пленуме.
— Свою кашу варите? — глухо проговорил Хрущев.
22 июня, суббота
Сегодня за Молотовым, Маленковым, Кагановичем, Первухиным, Сабуровым и Шепиловым подали урезанные кортежи машин, отсутствовали автомобили милицейского сопровождения и госохраны. Сократив выездную бунтарям, Серов вдвое увеличил число сотрудников государственной безопасности в местах проживания членов Президиума, правда, за Ворошиловым и Булганиным сопровождение сохранилось, на этом настоял Никита Сергеевич.
За четыре года Хрущев объездил почти всю страну, с каждым областным руководителем имел беседу, величал по имени-отчеству и, воротившись в Москву, никого не оставлял без внимания, звонил, интересовался делами, детьми, поздравлял с праздниками, чем мог, помогал. Такая открытость и доступность всякому импонировала, ведь в бытность Маленкова не было возможности до первого лица достучаться. Берия, тот подчиненных строил, отдавая распоряжения исключительно через заместителей или пользуясь строгими голосами начальников областных Управлений внутренних дел. Своей простотой и бесхитростностью Никита Сергеевич выбивался из кремлевского иконостаса. Одно то, что он пошел против Молотова и Маленкова, не уступал Кагановичу, отпускал замечания Ворошилову, еще больше притягивало к нему уездных начальников, которые рассчитывали на «своего Никиту». С Хрущевым им было понятней, и хотя Первый Секретарь мог под горячую руку снять стружку, накричать, обиды на него не держали. Руководитель партии упрямо завоевывал популярность, и новость о его досрочном освобождении прогремела, как гром среди ясного неба! Не могли секретари обкомов отдать любимого Никиту Сергеевича на растерзание, все как один явились в Москву, все как один встали на защиту.
Пленум открылся в два часа дня. Центральное место, усевшись лицом к залу за отдельный стол, занял Никита Сергеевич. По правую его руку сел Суслов, за ним — Микоян, Брежнев, Фурцева, Аристов и Кириченко. Слева бесцеремонно уселся Молотов, сразу за Молотовым — Маленков, дальше — Булганин, Каганович, Шепилов. Во втором ряду Президиума оказались Жуков, Сабуров, Поспелов, Мухитдинов, Шверник, Первухин.
— Сейчас мы родным членам ЦК доложим ситуацию! — с расстановкой сказал Маленков. Он не сомневался в непререкаемости Президиума, верил в его непогрешимость, тем более что кремлевских заговорщиков было большинство.
— И мы доложим, — без улыбки отозвался Никита Сергеевич.
Из ста двадцати одного члена Центрального Комитета в Свердловском зале Кремля присутствовало сто семнадцать.
— Слово для сообщения имеет Секретарь ЦК Суслов, — объявил Хрущев.
Худой, долговязый, с аккуратно зачесанными на пробор волосами, и ехидной улыбкой, Суслов занял трибуну.
— Позавчера на Президиуме Центрального Комитета товарищ Молотов внезапно предложил председательствовать товарищу Булганину, так как речь-де пойдет о крупных ошибках и недостатках в работе Первого Секретаря ЦК Хрущева Никиты Сергеевича! — начал Суслов.
По залу прокатился недовольный ропот.
— Затем слово взял товарищ Маленков, он выступил с резкими нападками на товарища Хрущева, обвинил его в культе личности, в нарушении принципов коллективного руководства. Маленкова поддержали некоторые другие товарищи, в особенности Молотов и Каганович. Товарищ Каганович заявил, что в Президиуме создалась атмосфера угроз и запугивания, что надо ликвидировать злоупотребления властью со стороны Хрущева, который извращает позицию партии по ряду вопросов. Их поддержали и некоторые другие члены Президиума.
— Кто именно, назовите?! — раздалось из зала.
— Поддержали Ворошилов, Шепилов, Сабуров, Первухин, Молотов, Маленков и Булганин.
— У Булганина позиция грешная! — выкрикнул Полянский.
— Товарищ Каганович резко высказался в адрес Первого Секретаря по вопросам сельского хозяйства, заявив, что успехи в этой области сильно преувеличены.
— Он нахально врет! — возмутился Подгорный.
— Каганович по-барски пренебрежительно отзывался о поездках товарища Хрущева на места, заявив буквально следующее: Хрущев бессмысленно мотается по стране.
Зал отреагировал бурно, поднялся шум, послышались возгласы:
— Каганович сам оторвался от народа. Хрущев — да, мотается, его вся страна знает!
— В заключение товарищ Булганин предложил освободить товарища Хрущева от обязанностей Первого Секретаря и поставил под сомнение вопрос о том, надо ли вообще иметь пост Первого Секретаря в ЦК, а на местах — первых секретарей.
В зале нарастал шум.
— Так недолго и до анархии дойти! — выкрикнул Струев.
— Товарищ Молотов в своем выступлении, кроме обвинения в возрождении культа личности, предъявил Хрущеву обвинение в том, что он будто бы хочет поколебать ленинский курс партии, выдвигая лозунг по увеличению продуктов животноводства. Товарищ Молотов заявил, что это сегодня вопрос не первостепенный, а по сути — авантюризм.
Смех в зале не дал Суслову договорить.
— Накормить рабочих — это не авантюризм!
— Конечно, у товарища Хрущева, как у каждого человека, есть недостатки, например, известная резкость и горячность. Отдельные выступления его проходили без должного согласования с Президиумом, и некоторые другие недостатки имеются, впрочем, вполне исправимые, на которые указывалось товарищу Хрущеву на заседании. Правильно отмечалось, что наша печать в последнее время излишне много публикует выступлений и приветствий Первого Секретаря, но при всем этом на заседании Президиума выражалась уверенность в том, что товарищ Хрущев сможет эти недостатки устранить. Про это товарищ Микоян говорил.
— Правильно!
— За последнее время наша партия стала сильнее, сплоченнее, это очевидно, — продолжал Суслов. — Партия еще больше укрепила связь с народом. Советский народ безраздельно одобряет политику партии!
Свердловский зал Кремля потонул в аплодисментах.
— Страна переживает огромный политический и экономический подъем. Не видят это только слепцы!
— Ослепли в кабинетах! — выкрикнул Полянский.
— Правильно, ослепли! Отправим лечить глаза! Голову лечить! — раздавались возгласы. — Поклеп на линию партии, попытки навести смуту! Партия таких терпеть не будет!
Аплодисменты снова прервали выступление Суслова. Когда зал успокоился, он продолжил:
— Глубокоуважаемый всеми нами товарищ Климент Ефремович Ворошилов на этом заседании сказал, что надо сделать все для того, чтобы партия, ее руководство были едины, чтобы народ был спокоен.
И снова зал аплодировал.
— Я, Брежнев, Фурцева, Микоян, Жуков отвергали требование Молотова, Маленкова и Кагановича о снятии товарища Хрущева с поста Первого Секретаря как совершенно необоснованное, поспешное и политически вредное, просили вынести данный вопрос на обсуждение Пленума Центрального Комитета, однако мы были в меньшинстве и поддержки не получили. Только по счастливому стечению обстоятельств прибывшие в Кремль члены Центрального Комитета смогли поставить твердую точку в этом горячем вопросе.
— Я извиняюсь, можно мне сказать несколько слов? — вмешался Хрущев.
— Пожалуйста.
— Когда пришла группа членов ЦК и попросила принять их, некоторые уже всем известные фамилии заявили, что «в партии нездоровая обстановка, нечего слушать крикунов! Может в Кремль скоро танки ворвутся!» Я тогда сказал: «Успокойтесь, это пришли не танкисты, а члены Центрального Комитета, их надо принять!» Но Молотов и остальные наотрез отказались. «Гнать в шею!» — кричал Каганович. Под нажимом Микояна и Жукова выслали к членам ЦК делегацию. Я поражаюсь, как можно не принять членов Центрального Комитета? Мы беспартийных принимаем, члены ЦК для Президиума — хозяева! — недоумевал Хрущев. — Представляете, боятся с глазу на глаз встретиться с коммунистами!
— Гнусная политика!
— Партия должна быть едина и нерушима! — докончил Никита Сергеевич.
— Товарищ Хрущев хорошо дополнил, спасибо ему! — поблагодарил Суслов. — Я вкратце доложил суть происходящего. Скажу также, что протокол и стенограмма на заседании Президиума не велись и нам остается восстанавливать ход событий по памяти.
— Слово имеет министр обороны Маршал Советского Союза товарищ Жуков, — объявил Хрущев.
Маршал Жуков воинственным шагом поднялся на трибуну и впился глазами в аудиторию. На его маршальском мундире сияли четыре Золотые Звезды Героя Советского Союза.
— После ХХ Съезда наш народ под руководством Коммунистической партии проделал огромную работу. Мы искренне радуемся тем политическим, экономическим и культурным достижениям, с которыми уверенно идем к 40-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции! Мы имеем прекрасные Вооруженные Силы, безраздельно преданные Родине, готовые по первому зову партии и правительства встать на защиту интересов нашего государства и разгромить любого врага!
Маршалу не давали говорить долго не смолкающие аплодисменты.
— Личный состав Вооруженных Сил заверяет родную партию, ее Центральный Комитет в безграничной любви и непоколебимой преданности!
В зале снова захлопали. Многим нравился Жуков, маршал Победы, маршал-герой!
— Настоящий Пленум является необычным по своему содержанию, — продолжал Георгий Константинович. — Как уже докладывали, Пленум является ультиматумом членов Центрального Комитета, с тревогой наблюдавших за заседанием Президиума ЦК, которое было созвано по требованию Маленкова, Кагановича, Молотова, Шепилова и Булганина.
Я, товарищи, не могу без горечи и гнева говорить о том, как были встречены в стенах Кремля члены Центрального Комитета, прибывшие с просьбой созвать этот партийный форум. Сообщение о прибытии делегации настолько вывело из равновесия Маленкова, Кагановича, Молотова и других, что они, не стесняясь в выражениях, стали недопустимо кричать на Никиту Сергеевича. В чем только его не обвиняли, каких только ярлыков не приклеивали! Договорились до того, что теперь он не может пользоваться доверием Центрального Комитета!
Некоторые члены ЦК поднялись с мест:
— Как это не может пользоваться доверием?! Может пользоваться, мы ему доверяем!
— По их словам, вслед за вор-вав-ши-ми-ся, я обращаю внимание на терминологию за «ворвавшимися» в Президиум членами ЦК, в Кремль по моему приказу ворвутся танки!
— Булганин имел наглость назвать членов ЦК парламентариями! — возмутился Брежнев.
— До чего можно докатиться в своих нечистых устремлениях! Я никогда не видел у Маленкова, Кагановича, Молотова, Шепилова таких озлобленных лиц. Очевидно, что к этому Президиуму они готовились задолго и тщательно.
— Президиум ЦК созвали по боевой тревоге! — не удержался от оценки происходящего ленинградский секретарь Козлов.
— Суслов здесь объективно доложил, в чем обвиняли товарища Хрущева. Они это делали с разных позиций, хорошо, обдуманно, но я бы уточнил, пошло и недостойно. У товарища Хрущева, как уже отметил товарищ Суслов, как и у каждого из нас, есть недостатки и некоторые ошибки в работе, о которых он со всей присущей ему прямотой и чистосердечностью рассказал. Но, товарищи, ошибки Хрущева, я бы сказал, не давали никакого основания обвинить его хотя бы в малейшем отклонении от линии партии и предъявить ему какие-либо серьезные претензии!
— Правильно, товарищ Жуков!
— На ХХ Съезде товарищ Хрущев доложил о массовых незаконных репрессиях и расстрелах, явившихся следствием злоупотребления властью со стороны Сталина. Это была целиком его идея. Но тогда, по известным соображениям, не были названы имена Маленкова, Кагановича, Молотова, как главных соучастников Сталина, а может, и виновников арестов и расстрелов.
— Об этом давно в партийных организациях говорят, а ЦК не разбирал! — снова подал голос Брежнев.
— Почему они замаскировались? На Съезде говорить об этом, может, и не стоило, слишком много делегатов, но когда избрали новый состав Центрального Комитета, надо было встать и покаяться! Мужества не хватило. Это был бы для них выход. Не хочу заниматься гаданием, но думаю, что они умолчали умышленно, потому что, если бы сказали о своей причастности к казням, вряд ли бы попали в Президиум.
Мы знаем, что тогда было тяжкое время, и если бы любой из нас отказался подписывать проклятые приговоры, сам бы угодил за решетку. Время действительно было страшное, многие здесь его застали, а кое-кто хлебнул сполна. Чтобы не быть голословным, — продолжал маршал Жуков, — хочу ознакомить с некоторыми фактами, из которых видно, что преступления делались не только под влиянием Сталина, но и по собственной инициативе. Я докажу, что они, образно выражаясь, засучив рукава, с топором в руках, рубили безвинные головы! У меня подлинный материал, я отвечаю за каждое слово, на бумаге стоят подлинные подписи.
Жуков потряс перед собой пачкой бумаг.
— С 27 февраля 1937 года по 12 ноября 1938 года НКВД получил от Сталина, Молотова, Кагановича санкцию на расстрел 38 679 человек!
Зал притих.
— Санкция давалась на руководящих работников, на наркомов, их заместителей, крупных хозяйственных руководителей, видных военных, писателей, деятелей культуры, членов Центрального Комитета. Давая санкцию, Сталин, Молотов, Каганович заранее определяли меру наказания, а суд оформлял ее приговором, по существу, формально выполняя свою обязанность. На списках к расстрелу указывались лишь фамилия, имя и отчество, там не стояло дат рождения, не было сказано, в чем обвиняется человек. Санкция давалась на все количество сразу. Так, например, Сталин и Молотов в один день 12 ноября 1938 года санкционировали к расстрелу 3 167 человек!
— Сволочи! — раздалось из зала.
— Я не знаю, читали ли они вообще этот список, ведь на 3167 человек много бумаги уйдет. И никто не поинтересовался, кто эти несчастные, в чем обвиняются? Ничего этого не было. Как скот, по списку, гнали на бойню: быков столько-то, коров столько-то, овец столько-то! — продолжал Жуков. — Только вместо быков, коров и овец — были люди!
21 ноября 1938 года НКВД был представлен список для санкции на осуждение к расстрелу на 292 человека, в том числе бывших членов и кандидатов в члены ЦК 45 человек, бывших членов Комитета партийного контроля и членов Ревизионной комиссии 28 человек, бывших секретарей обкомов и крайкомов 12 человек, бывших наркомов, замнаркомов, председателей облисполкомов 26 человек, ответственных работников наркоматов 149 человек и так далее. После рассмотрения этого списка Сталиным, Молотовым, Кагановичем были санкционированы к высшей мере наказания 229 человек. Списки арестованных, которые посылались в ЦК для получения санкции на их осуждение, составлялись НКВД небрежно, с искажениями фамилий, имен и отчеств, а некоторые фамилии повторялись в этих списках дважды или трижды. Препроводительные к этим спискам составлялись Ежовым на клочках грязной бумаги. Так, например, сохранилось письмо Ежова к Сталину, написанное на обрывке бумаги, такого содержания: «Товарищу Сталину. Посылаю списки арестованных, подлежащих суду Военной коллегии по первой категории. Ежов». Первая категория означает расстрел, — пояснил Жуков. — Резолюция: «За расстрел всех 138 человек. И. Сталин, В. Молотов». Никакой пощады! — приподняв над собой документ, прогремел Георгий Константинович.
В числе обреченных на смерть были Алкснис, Антонов, Бубнов, Дыбенко, Межлаук, Рудзутак, Чубарь, Уншлихт и другие.
По залу шел гул.
— Следующая записка Ежова от 20 августа 1938 года. Секретно. «Посылаю на утверждение четыре списка на лиц, подлежащих суду: на 313, на 208, на 5 жен врагов народа, на военных работников — 200 человек. Прошу санкции осудить всех к расстрелу. Ежов». Резолюция Сталина: «За. И. Сталин. В. Молотов». В тот же день судьбу несчастных порешили — пуля в лоб!
Вы Якира знаете, он был крупнейший работник. И он был ни за что арестован. 29 июня 1937 года, накануне своей смерти, Якир написал письмо Сталину, в котором обращается так: «Родной, близкий товарищ Сталин! Я смею так к Вам обратиться, ибо все правдиво сказал, и мне кажется, что я честный и преданный партии, государству и народу боец, каким я был многие годы. Вся моя сознательная жизнь прошла в самоотверженной, честной работе на виду партии и ее руководителей. Я умираю со словами любви к Вам, к партии, к стране, с горячей верой в победу коммунизма!»
На этом заявлении имеется три такие резолюции: «Подлец и проститутка!» — Сталин. «Совершенно точное определение!» — Молотов. «Мерзавцу, сволочи и бл…, одна кара — смертная казнь!» — Каганович.
Зал залихорадило:
— Палачи! Дайте ответ!
— А Каганович сейчас выйдет и скажет, что обстановка была такая, — продолжал Жуков, глядя на Кагановича. — Только Сталин тут уже ни при чем, раз от себя пишет, ведь не Сталин, он написал! На месте этих несчастных могли быть и мы с вами.
1 августа 1937 года нарком путей сообщения Каганович пишет в НКВД Ежову: «Арестовать Филатова — заместителя начальника Трансторгпита, ранее работавшего начальником Юго-Восточной дороги, как троцкиста-вредителя». Каганович сам определил, что он троцкист и вредитель. Из материалов дела видно, что Филатов — старейший член партии, характеризовался исключительно с положительной стороны. 14 августа он был арестован и расстрелян, а сейчас посмертно реабилитирован без каких-либо претензий, и никакого состава преступления за ним нет.
У меня есть еще справка. По неполным данным, с санкции и по личным запискам Кагановича в 1937–1938 годах было арестовано свыше 300 человек. Это уже было без влияния Сталина, здесь нельзя сослаться на мертвого, здесь сам лично дай ответ!
— Иуда! — в мертвой тишине раздался голос председателя Комитета советских женщин Нины Поповой.
— 11 мая 1937 года Каганович представил Ежову список на арест сразу 17 руководящих работников железнодорожного транспорта, в том числе по его письму были арестованы: члены партии зам. начальника Дальневосточной дороги Бирюков; начальник Красноярского паровозоремонтного завода Николаев; военный инженер Каменев и другие. В другом письме к Ежову Каганович пишет: «Мною были командированы на Пролетарский паровозоремонтный завод, в город Ленинград, Россов и Курицын. Россов вскрыл, что на заводе орудует шайка врагов и вредителей. Прошу арестовать следующих людей…» — и далее следует список на 8 человек. Тут, товарищи, нельзя сослаться на Сталина или на какую-то тройку, которая довлела над твоей волей, тут надо рассказать, почему Каганович представлял к истреблению коммунистов!
— Как же он мог! Изверг! Судить!
— Теперь о Маленкове. У меня есть материал, как по его письмам предлагались люди к аресту. Вина Маленкова больше, чем вина Кагановича и Молотова, потому что ему было партией поручено наблюдение за органами внутренних дел. Это — с одной стороны, а с другой стороны, он был непосредственным организатором и исполнителем черной, антинародной работы по истреблению людей. Маленков не только не раскаялся в своей преступной деятельности, но до последнего времени хранил в своем сейфе документы оперативного наблюдения. Я как-то зашел по делам к Булганину, и Булганин с возмущением показал мне документы, которые были изъяты из личного сейфа Маленкова. Что это за документы? Это документы с материалами наблюдения за рядом Маршалов Советского Союза, за рядом ответственных работников, в том числе за Буденным, за Тимошенко, за мной, за Коневым, за Ворошиловым и другими, с записью подслушанных разговоров, в итоге набралось их на 58 томов. Оказывается, все прослушивалось и фиксировалось. У Маленкова основной материал хранился в личном сейфе и изъят был случайно, когда понадобилось арестовать его личного секретаря.
— Помощника Суханова! — поправили из зала.
— За то, что тот проворовался, облигации спер! — с места дополнил Хрущев.
— В том числе был обнаружен документ, написанный рукою Маленкова, я его руку хорошо знаю, потому что у Сталина много раз вместе составляли документы. Этот документ об организации специальной тюрьмы для руководящих кадров, для нас с вами тюрьмы! — уточнил Жуков.
В зале поднялся невообразимый шум.
— Им была нарисована подробная схема тюрьмы.
— Маленков имел специальных инструкторов по тюрьмам, они живы, — прокричала Фурцева. — Можно их спросить!
— Вот какие крамольные документы хранил у себя Маленков! — повысил голос Жуков. — А мы, товарищи, наш народ, носили их в своем сердце, как знамя, верили этим вождям! Верили в их чистоту, объективность, искренность, а на самом деле — смотрите, насколько это грязные люди! Если бы народ знал, что у них с пальцев капает невинная кровь, он встречал бы их не аплодисментами, а камнями!
— Правильно! — раздались голоса.
— Я считаю, что надо потребовать объяснения от Маленкова, Кагановича и Молотова за антипартийные дела. Нужно сказать, что виновны и другие товарищи, члены Президиума. Я полагаю, что вы знаете, о ком идет речь, но вы знаете, что эти товарищи своей честной работой, прямотой заслужили, чтобы им доверял Центральный Комитет, вся наша партия, и я уверен, что мы будем за их прямоту, за чистосердечные признания считать их руководителями!
Бурные аплодисменты не дали Жукову говорить.
— В интересах нашей партии, чтобы не дать врагам пищу, чтобы не компрометировать руководящие органы, я не призываю сейчас судить эту тройку и исключать из партии, эта грязь не должна выйти на поверхность. Здесь, на Пленуме, они должны не тая сказать все начистоту, а потом мы решим, что с ними делать!
— Правильно! — раздались голоса.
— В заключение ставлю так вопрос: могут ли они в дальнейшем быть руководителями партии и государства? Я считаю, что нет!
Под оглушительные аплодисменты маршал Жуков покинул трибуну.
— Вношу предложение: пусть Маленков, Каганович и Молотов выступят и расскажут о своих раскольнических замыслах, — заговорил Хрущев. — В каком порядке будем давать им слово?
— Предлагаю давать слово начиная с Маленкова, потом Молотов, потом Каганович, но дать слово и другим членам Президиума, и тем, кто за генеральную линию, и тем, кто был за раскол, — объявил Струев.
— Слово имеет товарищ Маленков.
— Постойте, товарищ Хрущев! — с места поднялся Иван Александрович Серов. — Я должен дополнить выступление товарища Жукова! Я много лет работал в системе государственной безопасности, мне нужно обязательно сказать перед Маленковым!
— Дать слово! — послышалось из зала.
Председательствующий Хрущев объявил:
— Слово предоставляется товарищу Серову.
Серов занял трибуну.
— В подтверждение сказанного маршалом Жуковым сообщаю, что государственная безопасность располагает неопровержимыми сведениями, раскрывающими лицо Маленкова, как человека, причинившего своими действиями непоправимый ущерб партии и государству. Как уже говорили, в связи с арестом его помощника Суханова у Маленкова был сделан обыск. В рабочем кабинете вскрыли сейф, письменный стол и книжный шкаф. В шкафу и сейфе Маленкова были обнаружены документы, представляющие особую государственную важность, а именно: рукопись, в которой указывался порядок создания специальной тюрьмы для заключенных особого уровня; конспект ведения протокола допроса; обнаружена рукопись о формировании состава Советского правительства, датированная 4 марта 1953 года, когда товарищ Сталин был еще жив; изъята справка МГБ о наличии агентурных дел и разработок, находящихся в производстве на руководителей Советской Армии — Ворошилова, Жукова, Василевского, Тимошенко, других руководителей армии и флота. Как выяснилось, рукопись об организации особой тюрьмы принадлежит лично товарищу Маленкову. Записка о формировании Советского правительства имела поправки Маленкова и делалась при участии врага народа Берии!
— Выгнать вон! Исключить из партии!
— Несколько слов о тюрьме. По схеме Маленкова тюрьма была рассчитана на 30–40 человек с особыми условиями режима, а именно с ускоренной оборачиваемостью, специальной охраной и ничем не гнушающимися следователями во главе с начальником Клейменовым, которого инструктировал лично Маленков. Подобие такой тюрьмы было создано в виде обособленного учреждения в отдельно стоящих помещениях Лефортово. Там содержались партийные работники Ленинграда по так называемому «ленинградскому делу», о трагической судьбе которых всем известно. Хочу также сказать, что, выступая на июльском Пленуме ЦК КПСС с сообщением об антипартийной и антигосударственной преступной деятельности Берии, Маленков ни словом не обмолвился о своих близких взаимоотношениях с ним.
Коснусь истории. Незадолго до ареста бывшего наркома внутренних дел Ежова его первым заместителем был назначен Берия. В то время Маленков заведовал Отделом руководящих партийных органов, а затем стал начальником Управления кадров. Кадровая работа в то время требовала тесных взаимоотношений с чекистами, так как была установлена обязательная практика получения партийными органами документальных справок на назначаемых работников. Берия, став наркомом внутренних дел, произвел большую замену чекистских кадров, особенно в центральном аппарате. Его представления о назначениях новых работников в НКВД не получали в аппарате ЦК надлежащей проверки. Дело сводилось к тому, чтобы как можно быстрее утвердить кандидатуры, представленные Берией. Пользуясь таким положением, Берия сумел протащить в НКВД большую группу нужных ему людей.
Несмотря на то, что большую роль в разоблачении Ежова сыграл именно Маленков, Берия организует специальный допрос Ежова о Маленкове. Ежов дал собственноручные показания на Маленкова объемом 20 страниц. Из этих показаний следует, что Маленков был полностью осведомлен о том, что творилось в тюрьмах, какие страшные методы дознания применялись к заключенным, что он и сам бывал на жестоких, с пристрастием, допросах. Этот документ хранился у Берии, а уже после его ареста попал ко мне, однако товарищ Маленков потребовал его себе и не вернул. Думаю, что он его уничтожил.
Зал гудел.
— Товарищи! В 1949 году Абакумовым и его подручными было сфабриковано дело о Госплане, по которому был репрессирован Вознесенский и ряд руководящих работников. Дело Госплана было выгодно для Берии, так как он не хотел иметь Вознесенского на посту первого заместителя председателя Совета министров, рассчитывая занять это место сам. Маленков не только некритически отнесся к созданному делу по Госплану, но подключил работников аппарата ЦК для выявления дополнительных материалов.
В феврале 1949 года Маленков выезжал в Ленинград для расследования дела, связанного с анонимным письмом по поводу якобы неправильного подсчета голосов на выборах. В результате проведенной им работы были сняты секретари Ленинградского обкома, Ленинградского горкома и некоторых райкомов партии, а вскоре после этого Абакумов и его подручные организовали «ленинградское дело», по которому были репрессированы Секретарь ЦК Кузнецов, секретарь Ленинградского обкома Попков, председатель Совета министров Российской Федерации Родионов, секретарь Крымского обкома Соловьев, секретарь Ленинградского горкома Капустин и другие.
Были случаи, когда по выходе из кабинета Маленкова в здании ЦК арестовывались руководящие работники. Например, бывший Секретарь ЦК Кузнецов был арестован при выходе из кабинета Маленкова. Бывший председатель Совета министров России Родионов, бывший секретарь Ленинградского обкома Попков, бывший секретарь Саратовского обкома Криницкий, бывший нарком связи Берман были арестованы в ЦК, после посещения Маленкова. Нельзя не отметить и такие факты, относящиеся к 1937–1938 годам, когда Маленков, находясь в должности заведующего Отделом руководящих партийных органов и начальника Управления кадров, выезжал в Белоруссию, а после его отъезда был репрессирован бывший секретарь ЦК Белоруссии Гикало; приезжал в Тулу, а после его отъезда был репрессирован бывший секретарь Тульского обкома Сойфер; приезжал в Ярославль, а после его отъезда был репрессирован секретарь Ярославского обкома Зимин; приезжал в Казань, а после его отъезда был репрессирован секретарь Татарского обкома Лепа. Таким образом, вместо того чтобы сосредоточить внимание на правильности работы органов внутренних дел, госбезопасности, прокуратуры и суда, Маленков не только устранился от контроля, но и занимая высокие посты, позволял производить аресты в здании Центрального Комитета и, более того, лично занимался делом по организации особой тюрьмы.
Сохранившиеся записи по составу Президиума ЦК и Правительства СССР, датированные 4 марта 1953 года, подтверждают, что Маленков и Берия имели сговор по составу правительства и Президиума ЦК КПСС. Из записей Маленкова следует, что на пост председателя Совета министров Маленкова должен был предложить Берия. Это совершенно подтвердилось на Сессии Верховного Совета, где с предложением о выдвижении Маленкова в качестве председателя Совета министров СССР выступил Берия.
Сговор Берии с Маленковым об объединении силовых министерств ставил целью поставить Берию во главе Министерства внутренних дел и госбезопасности и таким образом передать в его нечистые руки силу чекистских органов!
Зал роптал, некоторые члены ЦК поднялись с мест.
— Обращает на себя внимание и тот факт, что при Берии, несмотря на освоение атомного оружия, он всячески препятствовал привлечению Советской Армии к его практическому изучению. Известно, что только после ареста Берии активно развернулись работы по водородному оружию и было обеспечено испытание водородной бомбы. Работники, занимавшиеся атомным делом, радовались аресту Берии, который вел работу окриком, угрозой, а по существу, ее тормозил. Маленков не проявлял противодействия, поскольку был всегда согласен с его действиями.
Приведенного, по-моему, вполне достаточно, чтобы дать оценку товарищу Маленкову. Пользуясь этой высокой трибуной как член ЦК, я хочу поставить перед Пленумом такой вопрос: после того, как дадут объяснения Маленков и другие, принять решение о дальнейшем их пребывании в Президиуме и в составе Центрального Комитета!
— Гнать в шею!
Серов сел. Маленков занял его место. Он был растерян.
— Правильнее будет, если я объяснения свои дам, ознакомившись с теми документами, на которые ссылались товарищи Жуков и Серов. Считаю, это будет справедливо. Хотя в двух словах об изложенных фактах и сейчас могу сказать, хотя правильнее будет все же после ознакомления.
— Говорите сейчас!
— Многие документы, которые я приводил, вы собственноручно писали и читали, — перебил его Серов. — Ответьте Пленуму, так это или нет?
— Да, читал, — тяжело вздохнув, подтвердил Георгий Максимилианович.
— Вы совесть свою посмотрите, тогда лучше вспомните! — выкрикнул ленинградец Козлов.
— Да, да, посмотрю…
— Ты тут, Георгий, не как с Пленумом разговариваешь, а как с вотчиной! — недовольно высказался маршал Жуков. — Говори по существу!
— Извините, я Пленум уважаю не меньше вашего. Мне по датам сейчас сложно ориентироваться.
— Нас сейчас интересуют не даты, а факты. Было это или не было? — с места спросил Хрущев и ударил ребром ладони по столу. — А в какой день, в какой час, это не имеет значения!
— Правильно! Правильно! — раздавалось из зала.
— Кое-что было.
— Опять лавирует! — выпалил Хрущев.
— Почему Президиуму не доложил? — наседал Жуков.
— Документы, о которых говорили, были переданы из МГБ и находились в архиве Центрального Комитета, их никто не скрывал. Какая же здесь тайна?
— Но тюрьму делал?!
— Относительно тюрьмы. Вам известно, и запись такая имеется, боюсь неточно указать, в какое время это было, товарищ Сталин продиктовал мне текст, сказал, что требуется организовать специальную тюрьму, так как он не доверял органам госбезопасности, чтобы в этой тюрьме можно было производить независимые следственные действия. Если помните, и Абакумова, министра госбезопасности, при Сталине арестовали. Абакумов вел дела по ленинградцам. Что касается существа «ленинградского дела», я его так же знал, как и другие. Никакого абсолютно отношения к организации этого дела не имел.
— Неправда! — выкрикнул Хрущев. — На допросы в эту тюрьму ездил?!
— Я не помню, чтобы один туда выезжал. А совместно, по поручению товарища Сталина, было несколько раз, в присутствии товарищей, которые и здесь сидят.
— Я тоже здесь сижу, но я не выезжал и не знаю, кто выезжал! — повысил голос Хрущев.
— Ты у нас чист совершенно, Никита Сергеевич! — покорно отозвался Маленков. — Еще раз подчеркну, следствие по «ленинградскому делу» вел Абакумов, — продолжал он. — Я к этому никакого отношения не имел, и как был организован процесс не знаю, это было целиком дело органов.
— Вы были Секретарем ЦК!
— Да.
Голос:
— Кузнецова арестовали по выходе из Вашего кабинета!
— Совершенно правильно. К моему стыду, ряд лиц был у меня, я не отрицаю. Здесь всем известно, что аресты производились по решению соответствующей инстанции, то есть с ведома исключительно товарища Сталина. Я теперь вместе с вами возмущаюсь и считаю себя виноватым. Это абсолютно верно.
— Расскажите.
— Что рассказать?
— Коммунисты шли в ЦК как в святая святых и пропадали там навсегда!
— Навеки!
— Я осуждаю это. Вы решите, я готов понести наказание. Еще раз повторю, все делалось по личному указанию Сталина, без него ни один вопрос не решался.
— Напрасно сваливаете на покойника! — выкрикнул Брежнев.
— Надо по существу говорить! — вторил Секретарю ЦК комсомолец Шелепин.
— Я отвечаю по существу. Я абсолютно никакого отношения к организации какого-либо наблюдения за маршалами, министрами, за подслушиванием и всем прочим не имел, так как я сам прослушивался. Это также установлено. Моя квартира прослушивалась.
— Неправда! — оборвал Жуков.
— Это можно доказать. То, что я говорю, можно комиссией, выделенной Пленумом, проверить и потом доложить. Я утверждаю: абсолютно никакого отношения к организации наблюдения я не имел.
— Георгий, ты не подслушивался! — поддержал Жукова Хрущев. — Мы жили с тобой в одном доме, ты на 4-м, а я на 5-м этаже, а маршал Тимошенко жил на 3-м, и установлена аппаратура была выше, над моей квартирой, но подслушивали Тимошенко.
— Пускай не подслушивали меня, какое это имеет значение? — развел руками Маленков.
— Это имеет значение! — ответил Хрущев. — Получается, ты выступаешь вроде как пострадавший вместе с Жуковым и Тимошенко, а фактически этого не было.
— Нельзя ли пояснить Пленуму, почему вы организовали заговор в Президиуме? — спросил Мжаванадзе.
— Никакой не заговор! Обстановка сложилась такая, что товарищ Хрущев в нарушение всех наших обычаев, всех правил стал самостоятельно выступать с важнейшими заявлениями перед партией и страной. Члены Президиума — один, другой, третий, а в данном случае семь человек, высказали ему свое отношение. И товарищ Хрущев это признал.
— Сложилась антипартийная группа! — воскликнула Фурцева. — Они не хотели никого слушать!
— Не группа, а большинство! — с места возразил Молотов.
— Никакой группы не было! Это мерзость, так говорить! — закричал Ворошилов и взволнованно замахал руками. — В Президиуме было большинство!
— Да, большинство! — повторил Маленков.
— Ты сам, Георгий, не знаешь, что говоришь! Сейчас запутался и раньше путался! — отрезал Хрущев. — Даже я лучше знаю, что происходило. А происходило вот что: когда допрашивали в тюрьмах людей, Георгий Максимилианович приезжал туда и свято верил, что они виновны. Он ласково разговаривал с ними, выспрашивал, советовал признаться, сказать правду, угощал чаем с сахаром. Сколько несчастных доказывали ему, что не виновны, сколькие реально обосновывали свою невиновность, приводя убедительные доводы, говорили, что кроме наговоров, никаких других доказательств их вины нет. Просили помощи, умоляли доложить товарищу Сталину. Никто им не помог, ни Маленков, ни Сталин. А сами обвинения? Георгий Максимилианович их вдумчиво прочитал? Думаю, нет. Мы сегодня читаем и поражаемся — вопиющие измышления! Неужели никто этого не видел или не хотел видеть? — уставился в зал Хрущев. — И что? И ни-че-го! Если не признаются арестанты, значит надо их бить, пытать, пока не сознаются, а к доводам здравого смысла товарищ Маленков почему-то не прислушивался. Как товарищ Маленков из тюрьмы уезжал, заключенных начинали избивать и мучить. Зато товарищ Маленков, удовлетворенный собственной работой, ложился на бочок и спокойно засыпал!
Думаете, он не знал, что происходит в застенках? Знал. Об этом многие знали. Но кто был он, а кто были мы! Он, Маленков, поставлен был надзирать над органами! Имел прямой доступ к Сталину и в то же время не мог ничего поделать! — обличал Первый Секретарь. — Ни его, ни Берию правда не устраивала. Мы, здесь присутствующие, не выдерживаем этих страшных воспоминаний, от которых до сих пор шевелятся волосы и воротит с души. На ночь заключенным под дверь ставили пластинки с истошным детским криком, вот до чего дошли! Хочется вскрыть этот гнойник, восстановить справедливость, снять с невинных грязные обвинения. Мы хотим хоть как-то оправдаться перед живыми, хоть чем-то обелить память мертвых. Поэтому я во всеуслышание сказал об этом на ХХ Съезде. А они? Что они? Молчат. Нету мужества признаться! И не просто молчат, они даже не пытаются что-либо сделать. Ни тогда не пытались, ни сейчас! Где им место теперь?! — выкрикнул Хрущев. — Я затрудняюсь сказать.
— И ты, товарищ Хрущев, не в стороне стоял! И ты органами командовал! — подал голос Каганович. — Не надо на нас кивать!
— О себе я первый сказал, вы не тем местом слушаете! Недаром антипартийную группу собрали!
— Мы собрались в конституционном порядке, без каких-либо нарушений! — с раздражением возразил Молотов.
— Предоставим вам слово, тогда будете говорить!
Поздно вечером Никита Сергеевич вернулся домой.
— Чуть расслабился, Нина, и поползли змеи, зашипели, так и норовят укусить! Насчет Молотова с Кагановичем у меня иллюзий не было, а вот Булганин прямо поразил, и Шепилов, интеллигентик — наш Никита Сергеевич! Наш дорогой! Как вы скажете, так и будет! А сам?! Двуличник!
— Обошлось, Никитушка! — Нина Петровна притянула мужа и поцеловала в лоб.
— Спасибо Жукову с Серовым! Жуков сразу «господ» на место поставил, а Серов членов ЦК в Президиум провел. И Ленька Брежнев с больничной койки сбежал и встал на защиту! — Никита Сергеевич стянул тесный галстук.
— А Анастас Иванович?
— Анастас — это особый разговор, ему я больше других благодарен, не дрогнул. Если б меня выперли, его б за мою защиту не пожалели. Микоян — золото. И Суслов с лучшей стороны открылся, шурупит товарищ Суслов. А мудозвоны сидят, воняют! Ну, мы им зададим!
— Ты кушать будешь?
— Супчика похлебаю, что у нас там?
— Бульон.
— Не-е-е!
— Гороховый остался, вчерашний.
— Гороховый давай. И рюмочку.
Нина Петровна пошла к буфету. Никита Сергеевич блаженно развалился на кресле.
— И Катька постаралась, в туалет отпросилась, а сама бегом к ВЧ и давай секретарям обкомов названивать, а ты ее чихвостишь!
— Ай, умница! Не стану больше ругаться, — пообещала Нина Петровна и, вернувшись к столу с графинчиком водки, снова ласково поцеловала мужа. — Люблю тебя, Никитушка!
— И я тебя, мое солнышко!
В комнату постучали, в дверь заглянул дежурный офицер:
— Вам Каганович звонит.
— Каганович? — сдвинул брови Никита Сергеевич.
Он встал и пошел к телефону.
— Никита! — послышался в трубке голос Лазаря Моисеевича. — Что ты с нами сделаешь?
— А вы бы со мной что сделали? — прохрипел Хрущев. — Идите вы на х…! — выругался Никита Сергеевич и со злостью бросил трубку.
1 июля, понедельник
Андропов явился на доклад к Леониду Ильичу. На прошлой неделе он был освобожден от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Советского Союза в Венгерской Народной Республике и по рекомендации Брежнева назначен заведующим Отделом Центрального Комитета по взаимодействию с коммунистическими и рабочими партиями. Брежневу и Микояну Андропов при посещении Венгрии понравился, они и заступились за опального посла, убедили Первого Секретаря, что дипломат в Будапеште сработал четко, не подвел. Если бы этого заступничества не случилось, Андропова, вместе с некоторыми руководящими работниками посольства, исключили бы из рядов КПСС, а потом отдали под суд.
— Юрий Владимирович! — протянул руку Брежнев. — Рад видеть! Когда прибыл?
— Вчера.
Бывший дипломат стоял перед Секретарем ЦК навытяжку, именно Леонид Ильич сыграл в его назначении решающую роль.
— В Москве обосновываешься?
— Благодаря вам квартиру на Кутузовском проспекте дали, теперь соседями будем!
— Хороший сосед — больше, чем родственник! — заулыбался Леонид Ильич.
При входе у самой двери Андропов поставил ящичек, который принес с собой.
— Что притащил? — кивнул на коробку Брежнев.
— Товарищ Кадар вино передал. Венгерский токай.
— Попробуем. Как он там, справляется, наш Янош?
— Справляется. И в гости ждет.
— Обязательно выберусь, — пообещал Леонид Ильич. — А мы с тобой сейчас к Хрущеву пойдем. Представлю тебя в новой должности. Давай-ка и токай прихватим, Никита Сергеевич вина уважает.
— Конечно, конечно! — засуетился Андропов, подхватывая коробку. — Надо было два ящика брать, как же я не додумал! На следующей неделе еще токая организую!
— Не суетись! — покровительственно отмахнулся Брежнев.
— Я вам бесконечно благодарен, Леонид Ильич! — распахивая перед благодетелем дверь, рассыпался бывший посол.
— Поработаем, Юра, поработаем!
3 июля, среда
Все члены «антипартийной группы», именно этими словами окрестили противников Никиты Сергеевича, признали свои ошибки, раскаялись, просили дать возможность искупить вину любой работой. В лучших традициях сталинского времени они вымаливали прощения, взывали к пощаде, один Вячеслав Михайлович Молотов твердо смотрел вперед, не отрекаясь от собственных убеждений. Молотов несколько раз брал слово на Пленуме, требовал слово! Снова и снова высказывал личную точку зрения, настаивал, что нельзя смешивать Сталина с грязью, что Хрущева следует строго предупредить о перекосах, которые тот допускал. Зал гудел, не желал слушать оратора. При каждом удобном случае Молотов пытался высмеять выскочек-холуев, унизить, лягнуть, указать шавкам место. Особо раздражали разнузданный Серов и приспособленец Брежнев, и еще мечтал Вячеслав Михайлович оказаться один на один и плюнуть в лицо до смерти перепуганному Климу Ворошилову, который сразу после появления в Кремле членов ЦК заюлил, стал называть Хрущева не иначе как Никита Сергеевич, полностью открестился от первоначальной позиции, запамятовал, что называл Хруща популистом, хвастуном и недоучкой! А как лебезил на Пленуме Булганин, выгораживая и обеляя себя, смотреть тошно! Молотов был выше их, куда выше! Он до конца дней останется железным и несгибаемым, никогда, ни при каких обстоятельствах не будет пресмыкаться, склонять в покорности голову, даже Сталину не удалось его переиначить, перековать, он стойкий солдат! И Бог хранил его, не попал товарищ Молотов в оборот к безраздельно преданным Родине работникам внутренних дел, не испытал на себе, на что они, бесчеловечные, способны. Вячеслав Михайлович ехал по Москве и думал: если бы удалось разогнать этих засевших в Президиуме балаболов, если б получилось сковырнуть бестолочь Хрущева, загнал бы он тогда говорунов за Можай, не стал бы церемониться.
— А слюнтяи не могут даже как следует врезать, как будут страной управлять?! — вздыхал несгибаемый воин. — Кто будет бороться за коммунизм? Разве ж можно подобных ничтожеств воспринимать всерьез?
Со вчерашнего дня ни обслуги, ни охраны у раскольников не осталось. Машину Молотову теперь подавали не персональную, а присылали из общего наряда мидовского гаража.
После обличительных речей и душераздирающих обвинений наказание оказалось гуманным. Вячеслав Михайлович получил назначение послом в забытую Богом Монголию:
— Уеду в Улан-Батор, и гори все огнем!
Он смирился с падением. Полина Семеновна только-только закончила переезд из подмосковных Девятых горок в квартиру на улице Грановского. С госдачи, которую Вячеслав Михайлович занимал без малого тридцать лет, повелели съехать, то есть попросту отобрали. Монументальный загородный дом послу был не положен, а ведь он жил там безвылазно, московскую квартиру посещал редко. Обойдя забытую квартиру и открыв платяной шкаф, Молотов наткнулся на шитую золотом форму Чрезвычайного и Полномочного Посла Советского Союза. Он вытянул ее на свет, оглядел, накинул пиджак — сидит в самый раз!
— Теперь в ней покрасуюсь, а мировую политику пусть вершат дилетанты!
Кагановича услали в город Асбест Свердловской области, назначив управляющим трестом «Союзасбест», Маленкова сделали директором Усть-Каменогорской ГЭС, суетливого профессора Шепилова направили в Киргизию, директором Института экономики республиканской Академии наук.
— Теперь в городе Фрунзе будет открытия совершать. В Киргизии никто Шепилова от науки отвлекать не станет! — кисло усмехнулся Вячеслав Михайлович.
С остальными, кто поддакивал против Хрущева, вопрос пока остался открытым. Ворошилов, Булганин, Сабуров и Первухин раскаялись, признали собственные заблуждения, обвиняя во всех смертных грехах Молотова с Кагановичем.
— Бог им судья! — проворчал Вячеслав Михайлович, и как был в шитой золотом дипломатической форме, направился к выходу из квартиры. Он громко хлопнул дверью, по ступенькам, не вызывая лифт, спустился на первый этаж и отправился в ближайшую булочную за хлебом — когда он сам ходил в магазин, уже не припомнить.
— Теперь похожу, не сахарный!
4 июля, четверг
Никита Сергеевич ликовал, из Президиума удалили Молотова, Маленкова, Кагановича и Шепилова. Георгий Константинович Жуков, Леонид Ильич Брежнев и Екатерина Алексеевна Фурцева были переведены из кандидатов в члены Президиума Центрального Комитета. Постановили, что в отсутствие Хрущева Президиум будет вести Леонид Брежнев. Первый секретарь ЦК Компартии Украины Кириченко был оставлен в Москве Секретарем Центрального Комитета, он занял кресло Шепилова. От союзных республик кандидатами в Президиум ЦК вошли грузин Мжаванадзе и вновь назначенный председатель Совета министров Российской Федерации, бывший ленинградский секретарь Фрол Козлов. В Президиуме пока оставались изменники — Булганин, Ворошилов, Первухин и председатель Госплана Сабуров.
— Как большинство Президиума вошло в антихрущевскую группу, как я поддался? — чуть не до крови кусая губы, сокрушался Булганин. — Затмение! — потрясая руками, объяснял он.
Хрущев с ним больше не разговаривал. А Ворошилов, тот прямо разрыдался в кабинете у Никиты Сергеевича, рассказывая, как его убалтывали по очереди Каганович с Молотовым, потом допьяна напоили, и лишь тогда, по пьяному делу, он принял их сторону.
Чтобы не дискредитировать партию, не показать единство бывших членов Президиума, выступивших против Хрущева, официальное порицание свелось к узкой антипартийной группе в составе Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова. Да и как-то странно бы получалось выпихнуть из высшего органа государства большинство его членов.
— Придется выродков потерпеть, — говорил Хрущев Брежневу, но ни Ворошилов, ни Булганин, ни Сабуров, ни Первухин Первому Секретарю были не нужны, нужны были свои, верные.
Секретарь ЦК Аристов стал курировать промышленность и транспорт. Больше полномочия в партии получил Михаил Андреевич Суслов. Кроме идеологии, Суслову отдали кадры. Самыми доверенными людьми у Хрущева стали Микоян и Брежнев, но даже тут Никита Сергеевич перестраховался, поэтому и провел решение, что в его отсутствие исполнять обязанности Первого Секретаря будет Леонид Ильич. Ведь кто знает, что взбредет в голову всезнающему мудрецу Микояну? Тем не менее, Анастас Иванович замкнул на себе руководство Советом министров, сделавшись единственным первым заместителем у председателя, став по существу руководителем Совмина, ведь Булганин теперь не имел право голоса.
— Меня от Шепилова трясет, — передернул плечами Никита Сергеевич. — Надо ж, какая гнилушка! Я ему объятия раскрыл, в дом приглашал, на высокие государственные посты выдвинул, у меня за столом он ел, пил, а что, подлец, вытворил — к бунтарям пристроился! За такое лицемерие на костре жечь надо!
— Встречаются хамелеоны, — подтвердил Анастас Иванович.
— Таким прощать нельзя! Мы, Анастас, должны людям душу открыть, стать ближе к народу, не должны за каменными стенами прятаться! А получается — заборами отгородились, милиционерами, не пускают за них простого человека, — выговаривал Никита Сергеевич. — Вот и возгордились, и замкнуло в голове! Разве Молотов открыт был для людей? Закрыт. А Каганович? А Маленков? Безусловно, закрыты. Про Сталина вообще молчу, тот за семью печатями сидел, как библейский герой. Что у нас за царственные выходки? Кому нужны батальоны охраны, от кого хорониться, от трудового человека? Стучи в двери — не достучишься! Окружили божков служки и — ни-ни! У князей слуг меньше было. Просто сил нет! — возмущался Никита Сергеевич. — Если уж решили тебя застрелить, будь спокоен, застрелят! Помогла Берии его многочисленная охрана? Не помогла! И нам не поможет, а сколько холуев понабрали?! Это ж для каких социалистов такое предназначено? Может, нужно еще, чтобы и задницу им подтирали? Стыдно! Барство надо искоренять. Всех сократим, все урежем! По одному порученцу и по одному прикрепленному члену Президиума вполне хватит, а то в смене двадцать человек расхаживает! Сто человек проезд обеспечивают, и еще двести на подхвате! Что это за коммунист едет на пяти машинах?! Коммунист Хрущев или коммунист Микоян?! — наморщил лоб Никита Сергеевич. — Надо от пороков освободиться и начинать надо с себя. Сам прикинь, что простой человек о нас подумает, если у члена Президиума свита больше, чем у наследника престола?
— Абсолютно верно! — поддержал Микоян. — На Ленина равняться надо. Он прост и доступен был. Как-то у него «Роллс-ройс» на дороге отобрали!
— Ну, ты припомнил! — скривился Никита Сергеевич. — Еще и про «Роллс-ройс!»
— Так ведь было!
— Было, было!
— По твоему предложению, Никита, я согласен, будем штаты урезать, но при доме я бы охрану не трогал.
— Дом — это крепость, там оставить можно, но в целом надо разогнать! Хороший пример подадим, в отличие от Маленкова с Молотовым.
— С дач-то их попросили? — поинтересовался Анастас Иванович.
— Съезжают. Пусть на периферии покрутятся, подумают, что к чему.
— Без пердунов воздух чище, — отметил Микоян. — А с излишеством пора кончать, ты правильно решил!
— Невозможно начальники распустились, — хмурясь, продолжал Никита Сергеевич. — Секретари обкомов при охране вышагивают, в персональных салон-вагонах по железной дороге катаются. Разве это порядок? Непорядок! Готовь, Анастас, постановление, будем все в соответствие приводить. А похвальба, Анастас, какая идет? Какое возвеличивание? Что за моду взяли давать городам, поселкам, кораблям или колхозам собственные имена? Что мы, боги? Разве революцию делали для того, чтобы своим именем город назвать?
— Глупость! — подтвердил Микоян.
— Именем Сталина что только не называется! Давай вернем городам исторические имена?
— И я как ты думаю. В одних названиях запутаешься: Сталинград, Сталинабад, Сталинск, Сталино, Сталиниди, Сталиногорск!
— Автомобильный завод имени Сталина, завод имени Молотова, и чертова гибель чего еще! Надо прежние названия возвращать, и точка!
— Только так, только так! — кивал Микоян.
— Я рад, что ты одобряешь, очень рад! — Хрущев пожал Анастасу Ивановичу руку. — Ошибка была с городами, грандиозная ошибка! Мы царей прогнали, а сами в цари заделались. Мне такая похвальба в гробу не нужна! Самолюбование — это порок.
— Но нам, я считаю, охрану надо сохранить усиленную! — проговорил Микоян.
— Нам — да, а то что-нибудь мракобесы удумают!
— И Жукову делай как нам, а то обидится.
— Георгию, безусловно, и охрана и обслуга положена, он герой!
Фигурой, способной по популярности конкурировать с Хрущевым, остался лишь маршал Жуков, со своим неукротимым характером и яростным стремлением к первенству.
— Как думаешь, не предаст Жуков? — спросил Анастас Иванович.
— Жуков? Никогда!
5 июля, пятница
— Что, Резо?
— Тошно! — ответил старый грузин, за последний год он еще больше поседел. — Крушат! Камня на камне от старого порядка не оставят! Моего покровителя выпотрошили. Николай Александрович после Пленума домой приехал и прямо рыдал навзрыд, как школьник. Не ел, не пил, мы все по стеночке ходили, чтобы не обеспокоить! Сегодня с него охрану сняли, остался прикрепленный, и того нового сунули.
— А старого куда дели?
— В отставку.
— Думаешь, не помилует Булганина Хрущев? — спросил Иван Андреевич.
— Хрущев? Помилует? Забудь!
Вано сидел прямо и смотрел на осунувшегося, похудевшего дядю.
— И меня, Роман Андреевич, из генералов списали, в отставку отправили, пенсию назначили совсем маленькую. В кадрах спрашиваю: разве у генералов такая пенсия? «Вы еще работаете, кремлевской столовой руководите, вот уйдете с должности, тогда пенсию пересмотрим». Так что и у меня печальные новости! — вздохнул сталинский шашлычник.
— Не знаешь, куда бежать! К кому? — проговорил Роман Андреевич. — Я пока в булганинском штате числюсь, со спецснабжения Кремля меня Смиртюков сдвинул.
— Ему-то чего?
— Ему абсолютно ничего, видно, сказали.
— Сегодня надо к Жукову пробираться.
— Там немец сидит. Ганс.
— Не Ганс, а Генрих. С войны с ним.
— Немцев держат, а нам, родным, пенделя под сраку!
— Еще не дали, еще держимся!
— Налей, что ли, помянем Иосифа Виссарионовича!
Бывший генерал завозился, извлекая из-под стола бутылку и стопки.
— Сейчас хоть упейся, все как ошпаренные по кабинетам носятся, посты делят.
— Да, после Пленума многих слили, много кресел поосвобождалось.
— Представляешь, сколько новых командиров появится?
— Жутко! И ведь кого берут? Не пойми кого!
— Раньше человек размеренно рос, по ступенечкам поднимался: одна ступенька, потом другая, шел, ума набирался. Чтобы опыт был, надо о-го-го сколько прошагать! А сейчас кого только наверх не тянут!
— Да, карусель закрутилась!
— А как локтями толкаются, аж противно! — разливая, проговорил Вано. — Ну вот, дядюшка, готово! — Вано разлил.
Пожилой грузин взял рюмку, руки у него заметно дрожали. Чтобы дрожь не бросалась в глаза, он предусмотрительно опирал их на стол или прятал, не хотел выглядеть разбитым и больным. Вано тоже приподнял рюмочку.
— Память тебе вечная, дорогой товарищ Сталин! — проговорил старик.
Выпили.
— Закусить чем?
— Извини, но звать никого не буду! — Иван Андреевич выдвинул ящик стола и достал оттуда три карамельные конфеты с вареньем внутри. — Закусывай!
— Мы как студенты!
— Точно! — разливая по второй, отозвался директор столовой. — Если сказать кому, что я генералом НКВД был, от меня как от чумного шарахнутся. НКВД теперь слово ругательное.
— Да, совсем нехорошее слово!
— Еще на допрос поведут, во как обернулось!
— Я мундир с наградами спрятал от греха подальше.
— Не знаешь, как там Светлана Иосифовна?
— Жива, здорова, детки растут.
— Вот кому жизнь отравили!
— Да-а-а!
— Хорошо, Валечка помогает. Я на Новый год позвонил, коробочку с колбаской подвез и вина грузинского. Света так благодарила! — чуть не прослезился Роман Андреевич.
— Валю видел?
— Видел. Валя все та же.
— Дай Бог и ей здоровья, за товарищем Сталиным столько лет ухаживала!
— Да, милый мой, были времена, большие времена, не то, что теперь! — Роман Андреевич разломал конфету напополам. — Лей, Вано, лей!
Завстоловой снова наполнил рюмки и, придвинувшись к дяде, тихо проговорил:
— Давай и Лаврентия Павловича помянем!
— Убиенного! — добавил старый грузин, смахивая скупую слезу.
7 июля, воскресенье
— Ты, Коля, для Никиты Сергеевича должен костьми лечь! — учил Подгорного Брежнев. Подгорный шел на должность первого Секретаря ЦК Украины. — Должен, знаешь, как работать, как комбайн! Украина — это крупнейшая республика!
— Клянусь, Леонид Ильич, не подведу!
— Для чего говорю, — Брежнев оглядел богато уставленный яствами стол, взял в руки бутылку перцовки, налил себе и гостю. — Говорю, чтобы краснеть за тебя не пришлось, ведь Никита Сергеевич к Украине по-особому относится, Украина его страсть!
— И мы всею душой любим Никиту Сергеевича! — подхватывая рюмку, клятвенно уверял Николай Викторович. — И вас, любим, Леонид Ильич! Сердечно любим, вы ж наш!
— Речь не обо мне!
— Нет, я должен сказать! — прижимая руку с рюмкой к груди, не уступал будущий украинский секретарь. — Вы, Леонид Ильич, друзей никогда не забываете, мы на вас равнение держим!
Он наивно хлопал глазами:
— Не обижайтесь за откровение, но вы в сердце многих коммунистов Украины оставили неизгладимый след. Вас помнят и любят! Вами, Леонид Ильич, украинцы дорожат!
— Спасибо, друг! — голос Брежнева дрогнул. Как ему было хорошо на Днепре, вся молодость прошла там, а какая любовь! Наталья, потом хохотушка Олеся, а Оксана-мотылек!
— Ох, Господи! — растрогавшись, выдавил Секретарь ЦК.
— За вас, дорогой Леонид Ильич, за ваши добрые дела! — Подгорный старательно опрокинул свою рюмку, крякнув, уселся на место, и принялся с азартом закусывать.
Леонид Ильич отвернулся — перед глазами стояла черноволосая девушка Оксана, которая истерзала ему сердце, но не согласилась с ним уехать, а согласилась бы — может, и вся жизнь его пошла наперекосяк. Желала Оксана настоящую семью, детей, чтобы муж был всегда рядом, а как быть рядом при такой работе? Но до чего была хороша, до чего статна, душевна! Где она сейчас?
— Я, товарищ Брежнев, вам родной мамою клянусь, не пидведу! Уси дила, — переходя на украинську мову, продолжал Подгорный, — уси, без исключений, тильки через вас!
— Ладно, ладно! Рад, что ты меня понял! — Брежнев уселся за стол и потянулся к тарелке, где лежало сало. Но тарелка оказалась пуста.
Брежнев оглядел стол:
— А, где сало, Коля?
— Сало?
— Да.
— Сало у роти! — вытирая жирные губы, расплылся в улыбке Подгорный.
8 июля, понедельник
После разгрома антипартийной группы у Алексея Ивановича Аджубея расправились крылья. Вроде бы с ним ничего сверхъестественного не произошло, вроде бы не на его улице случился праздник, да только веса у главного редактора несказанно прибавилось, да так прибавилось, словно это он одержал победу над заговорщиками. Имя Аджубея теперь произносили с трепетом, с придыханием, слово его стало основополагающим, и даже комсомольские вожаки вели себя с ним заискивающе.
— Алексей Иванович попросил… Алексей Иванович считает… Товарищ Аджубей просил напомнить… — голоса его секретарей и помощников приобрели особое звучание.
— Ты, Алексей Иванович, к поездке готовься, — сказал зятю Хрущев.
— К какой поездке, Никита Сергеевич?
— В Среднюю Азию поедем, а оттуда в Якутию.
— Ну и концы! — поразился зять.
— Не будешь крутиться, никуда не поспеешь! Будешь меня сопровождать, потом статью в газету напишешь.
9 июля, вторник
На очередном Президиуме ЦК Хрущев сменил гнев на милость и протянул Булганину руку. С каким благоговением Николай Александрович тряс протянутую ладонь, как благодарно заглядывал в глаза! При каждом хрущевском слове понимающе кивал, одобрительно чмокал губами, покорно ждал у двери, чтобы Никита Сергеевич, а потом маршал Жуков и Микоян прошли вперед, как подобострастно стал рассказывать о Первом Секретаре на многочисленных встречах и мероприятиях! Что только не делал Николай Александрович, чтобы загладить свою страшную вину, стереть черный след из памяти, из сердца Хрущева! Наладив отношения с женой, он посылал Елену Михайловну к Нине Петровне, передавал многочисленные приветы Радочке и Сергею, постоянно звонил Аджубею, но на душе примкнувшего к чужому берегу маршала не было спокойствия.
Микоян, с которым Булганин осторожно завел разговор о своей реабилитации, пожал плечами и пообещал при случае замолвить словечко, но до сегодняшнего утра, до спасительного рукопожатия, на горизонте маячили грозовые тучи: Булганин был никому не нужен, телефоны у него в кабинете молчали, приемная опустела. Микоян сделался первейшим советником Хрущева, а наилучшим товарищем, рубахой-парнем, ходил улыбчивый Леонид Брежнев. Лишь эти двое могли влиять на Первого, ко всем остальным Никита Сергеевич относился настороженно или просто не принимал в расчет. Микоян был к Булганину лоялен, и Леонид Ильич не проявлял агрессивности.
— Может, пронесет? Может, смилостивится? — вздыхал в одночасье постаревший ловелас. Перед сном и ранним утром, открыв глаза, втихаря он осенял себя крестным знаменем, прося Господа заступиться.
11 июля, четверг
Отношения с Иосипом Броз Тито катастрофически ухудшались. После перевода Надя из Румынии в венгерскую тюрьму посол Югославии в Москве высказал Громыко тяжкие обвинения. Передал, что Югославию коварно обманули, что гарантии Советского Союза и лично Хрущева ничего не стоят, что Тито не ожидал подобного двуличия от союзников, заявил, что выдача Надя и членов его правительства Яношу Кадару недопустима и перечеркивает все достигнутые договоренности, и что о размещении на Балканах советских войск и ракет не может быть и речи.
Хрущев не предполагал, что Тито так остро отреагирует на выдачу Имре Надя и членов его кабинета венгерским коммунистам. Единственным, кто мог повлиять на югослава, вразумить его, оставался Жуков. Хрущев лично поехал к Георгию Константиновичу.
— Зачем пожаловал? — удивился министр обороны.
— Тут, Георгий, ситуация назрела. Без тебя не обойтись, — проговорил Первый Секретарь.
— Опять кому-то по шее дать? — ухмыльнулся маршал. — Держись меня, Никита, не пропадешь!
Хрущева такие слова покоробили.
— Дело не во мне, — ответил он. — Тито взбрыкивает.
— Тито парень серьезный, — подтвердил маршал.
— Надо тебе к нему съездить. Тебя Тито послушает, ты — легенда! Заодно в Албанию заедешь.
— Энвер Ходжа тоже вождь мирового пролетариата, — с недоброй улыбкой заметил Жуков.
— И албанец с тобой спорить не станет.
— Энвер разбойник, такой же, как Сталин.
После смерти Иосифа Виссарионовича отношения с Албанией повисли на волоске, к тому же Албания и Югославия враждовали, не могли найти общего языка, слишком авторитарны, своевольны и амбициозны были их правители.
— Когда ехать?
— Не завтра, пусть Тито остынет. В октябре самый раз.
— У меня в октябре большое учение запланировано.
— У тебя каждый день учения! — отмахнулся Никита Сергеевич. — Балканы сейчас важнее!
С приходом Жукова военным министром войска то и дело перебрасывались с места на место, тренировались, готовились к внезапным боевым действиям. Жуков не хотел оказаться в положении, как вышло перед Отечественной войной — когда Советская Армия была практически небоеспособна, командный состав уничтожен, а те, кто уцелел, в прямом смысле дули на воду, боялись, что под каким-либо предлогом и их припишут к диверсантам и предателям. Чистка коснулась не только действующих частей, перед самой войной были репрессированы преподаватели многих военных академий, курсов, училищ. Перестраховываясь, Сталин вычищал сомневающихся в его гениальности, велел ликвидировать всех близких к опальным маршалам командиров. От тотального линчевания, к сороковому году армия представляла собой сомнительное подразделение. И Жукова тогда приписали к числу неблагонадежных, и его бы неизбежно ожидал арест, но победоносные действия комкора против японцев, блистательный военный талант, раскрывшийся на Халхин-Голе и озере Хасан, находчивость и упорство не только сохранили маршалу жизнь, но и возвели в ранг неприкасаемых. Зачистка командного состава дезорганизовала армию, в самом начале войны с фашистами привела к провалам по всей линии фронта: вражеские войска стремительно продвигались вглубь, практически не встречая сопротивления. Паническое отступление породило массовую панику гражданского населения.
При Жукове-министре воевать учились в любых условиях.
На поблажки маршала рассчитывать не приходилось: за малейшую провинность, неподготовленность, непродуманность, разгильдяйство министр карал нещадно. Учения шли за учениями, то Московский военный округ атаковал Киевский, то «бои» разворачивались на Урале или на Дальнем Востоке; то в Средней Азии отрабатывали наступление, но чаще у европейских границ ходили полки в атаку.
— 25 октября начинаются масштабные маневры.
— Ты пойми, Георгий, Тито надо место показать! — убеждал Хрущев. — Я ехать не могу, я вспылю.
Жуков нехотя согласился. Полководец понимал, что после отставки Молотова и Кагановича тяжелых фигур в Президиуме не осталось. Хрущева он не считал по-настоящему тяжелой фигурой. Крепкий хозяйственник, неплохой организатор, хороший контролер — Сталин ценил в Никите Сергеевиче именно эти качества, но вот политик Хрущев никудышный, и история с Иосипом Броз Тито это доказывала. Теперь все замыкалось на нем, на Жукове.
— Поезжай, Георгий, вправь Тито мозги!
— Ладно, поеду. Я тут записку в ЦК подготовил, надо бы восстановить денежные выплаты за ордена и медали. Солдаты и офицеры в войну жизни не щадили, а как отвоевались, взяли и деньги за награды срезали, несправедливо! Мертвым, Никита, деньги не нужны, а живые спасибо скажут.
— Где ж мы столько денег возьмем?
— Если офицерам выплаты на содержание обслуги срезать на треть и довольствие подсократить, экономия выйдет значительная! С лихвой затраты покроем. Прикинь, сколько у нас военных округов и сколько там офицеров?
— Раз так, другое дело! Но командиры обидятся, что без адъютантов останутся.
— Кое-кто останется, а кое-кому и одного адъютанта достаточно. На прислугу старшие офицеры немалые деньги получают. По две домработницы некоторые держат, будут обходиться одной.
— Если так, вопросов нет!
— Значит, я могу об этом как о решенном деле объявить?
— Объявляй.
— В понедельник коллегия Министерства обороны, там и скажу! — довольно проговорил Георгий Константинович.
Разговор этот совсем не понравился Никите Сергеевичу, все больше и больше вопросов стало замыкаться на маршале, а маршал Жуков боевой товарищ.
25 июля, четверг
Молотов с раздражением отбросил в сторону газету:
— Посмотри, Полина, какой цирк, Хрущев зазвал к себе архитекторов!
— Архитекторов?
— Да, делегатов Пятого Всемирного конгресса архитекторов. В архитектуре он что понимает — коробка сверху, коробка снизу, вот вся хрущевская архитектура! А он сидит, щеки дует и с умным видом их учит! Стыдоба! Архитектора Полякова за гостиницу «Ленинградская» при мне отчитывал: чего там такие большие номера сделали? С умом бы строили, можно было в два раза больше людей расселить! Тот чуть со стыда не сгорел, стал оправдываться, стоит, заикается, что здание конкурс выиграло, объясняет, а Хрущ — какой такой конкурс, если мест мало! За безмозглость Никиты мне стыдно было, ведь какая завидная гостиница получилась! Кто туда ни селился, нарадоваться не мог! А ему клетушки подавай! «Вы еще туда шелковые халаты положите!» — так сказал.
— А что плохого в шелковых халатах? — удивилась Полина Семеновна.
— Дурак, вот что! Кто запретил строительство нового здания цирка у Ленинских гор? Хрущев запретил! Совет министров России в тесноте ютится, он и там стройку перечеркнул: «Надо экономить!» — кричит, а сам деньгами разбрасывается, туда миллион швырнет, сюда миллион! Москва скоро превратится в улей — сплошные соты и кромешное однообразие, а он мировых архитекторов вздумал учить, прямо стыдоба!
26 июля, пятница
— На фестиваль молодежи столько чувих из-за границы приедет, закачаешься! — мечтательно говорил Юлиан.
— Я б на них зырил и зырил, и не только зырил! — затягиваясь сигаретой, кивал Юрий.
— Говорят, иностранки недотроги?
— Кто, бабы?! — лицо Брежнева-младшего выразительно вытянулось. — Ерунда!
— За границей нравы другие, девки там неприступные, — продолжал Юлиан.
— Ладно врать! Им самим интересно, для них русский мужик экзотика! Так что, Юлик, чисть перышки!
— Всегда готов! — по-пионерски отдавая салют, отрапортовал товарищ.
Юрий забычковал папиросу, она была последняя, а магазин внизу в восемь вечера закрывался.
— Вдарим по пиву?
— Не опоздаем?
— Пивняк до десяти.
— Пошли.
— В начале августа меня на кафедру дергают, — горестно вздохнул разбитной аспирант.
Как и планировали родители, Юрия зачислили в аспирантуру Института стали и сплавов.
— Заведующий мой такой гриб-мухомор, ему фестиваль точно по херу!
— А девки?
— И девки по херу, у него не стоит! — горестно вздохнул будущий металлург.
— Прям такой дед-пердун?
— Да, дед столетний, одна химия в голове. Говорит, приходи заниматься. А тут в Москве самая движуха начнется!
— И ничего нельзя сделать?
— Споить его хотел, бутылку «Столичной» и бутылку армянского коньяка принес — не пьет! Портфель кожаный в подарок припер — не взял. Ручку китайскую с золотым пером еле всучил, и то из-за того, что он в Пекине год просидел.
— Вот придур!
— Григорий Иннокентьевич! Он к тому же отца знает. После войны в Запорожье приезжал.
— Зато тебя в люди выведет, — с серьезным видом заключил Юлиан и уселся напротив друга. — Ты учись, Юрий, а мы будем тобой гордиться!
— Знаешь, что он мне напоследок сказал?
— Что?
— Не думайте, говорит, что за вас папа заниматься будет, в науке протекции не действуют. Если есть в вас мыслительное начало и усидчивость, тогда толк будет, а если разгильдяйничать думаете, то вам лучше чужое место не занимать и сразу из аспирантуры уходить!
— У тебя, выходит, никакого начала нет! — глядя на друга, хмыкнул Юлиан.
— Одно есть — между ног! — заулыбался молодой ученый. — Как бы я на фестивале оторвался! Такой случай может раз в жизни представиться.
— Ты химию учи!
— Придется аспирантуру бросить, — заключил раздосадованный Юрий и подпалил королевский бычок. — Такая петрушка! — попыхивая, жаловался он.
— Чего расселся, вставай, а то пивняк закроется!
— Встаю.
Друзья вышли на улицу.
— Ты, Юлик, какие языки знаешь?
— Французский знаю и испанский учу.
— А я немец. Получается, мы с тобой любую девку заговорим! — подмигнул другу Брежнев.
5 августа, понедельник
Крымское солнце палило немилосердно. Маршал Жуков сидел в низком парусиновом кресле под навесом, всматриваясь в безбрежную синь моря. Вода у берега была до невероятности прозрачна. Йодисто пахло водорослями. К супругу подошла Галина.
— Медузы есть? — спросила она.
— Кисель из медуз, — отозвался маршал.
— Я окунуться хотела, — вздохнула женщина. На ней было тонкое, очень свободное льняное платье, сандалии на босу ногу и соломенная шляпа с огромными полями. Галина была на сносях.
— Волны нет, на катере подальше уйдем и покупаемся. Вдали от берега ни одной медузы, — любовно глядя на жену, ответил Георгий Константинович.
Жуковы отдыхали в Мисхоре вторую неделю. Он не хотел ехать на юг, но Галя настояла:
— Как рожу, никаких поездок не будет!
До родов, по расчетам, оставалось полтора месяца.
— Ты б на солнце долго не сидела, напечет, — заботливо проговорил маршал и поманил супругу к себе.
Она встала рядом, Георгий Константинович обнял жену, прижавшись головой к ее большому круглому животу.
— Шевелится! — поглаживая мужа по голове, радостно сказала будущая мать. — Ножками стучит.
— Здравствуй, любимый! — воскликнул маршал, продолжая слушать мамин живот. — Как думаешь, слышит меня?
— Конечно, слышит, я ему песни пою!
Жуков беззастенчиво распахнул платье и поцеловал жену в голый живот.
— Георгий! — пытаясь запахнуться, запротестовала Галина. — Увидят!
Он погладил место поцелуя, а потом снова поцеловал, и лишь затем поправил одежду.
— Жду его не дождусь, ребеночка! — улыбнулся военный.
Галя мягко поцеловала мужа в затылок. Георгий Константинович выпрямился, все еще продолжая ее обнимать.
— Так ты меня в море везешь?
— Везу!
— Будешь со мной купаться?
— Сплаваю.
— Одни поедем, надоели все! — продолжала Галя.
— Одни. С катером я неплохо управляюсь.
Если не было волнения, супруги Жуковы уезжали подальше и голышом купались в открытом море. По-настоящему родные, будто созданные друг для друга, они постоянно находились вместе. Маршал любовно обнял жену, и они не торопясь двинулись к причалу.
— Хрущев просит в Югославию съездить, с Тито поговорить.
— Поедешь?
— Собираюсь. Жалко, что без тебя.
— Ты же знаешь, я не могу.
— Знаю. Привезу тебе гостинцев.
— Я буду скучать!
— А я как заскучаю! И по нему скучать буду, — и Жуков снова прикоснулся к животику жены. Она удержала его руку, чтобы муж мог почувствовать настойчивые движенья внутри, но малыш будто понял, что рядом папа, и лежал смирно.
— Если будет девочка, назовем Маша, — улыбнулась Галя.
— А если мальчик — Костя, в память моего отца, — проговорил Георгий Константинович.
Жена согласно кивнула.
— Никита странный, — двигаясь к катеру, продолжал супруг. — Конева в провожатые сует. Я его не люблю. Конев известный флюгер, куда ветер, туда и он, то на врачей нападал, потом для Берии расстрела требовал, после Сталина проклял, неровен час и на меня замахнется!
— Ну что ты говоришь, Георгий! Что за вздор!
— Вздор? А чего Хрущев в провожатые его тычет?
— Так не бери Конева с собой!
— Ясно, не возьму. Еще Миронова предлагает.
— А это кто?
— Хрущевский кадр, в Кировограде при Никите секретарствовал. Одно время у Серова в замах ходил, теперь в ЦК возглавил Отдел административных органов.
— Он-то у Тито зачем?
— Видно, хочет Никита Сергеевич, чтоб я под присмотром был, — слова «Никита Сергеевич» Георгий Константинович выговорил с подчеркнутым ударением. Маршал Советского Союза лениво потянулся, разморило под солнцем. — Не понимает Никита-дурак, что за мной армия!
Завидев военачальника с супругой, матросы концами подтянули катер ближе, так, что он намертво замер у основания бетонного пирса и в него можно было безбоязненно перейти.
— За ним самим присмотр нужен, несет его. То в одну сторону шарахается, то в другую, потому его чуть из Кремля и не выкинули. В политике четкость нужна, ясность, а не шараханье. Никого я с собой не возьму! — заключил Жуков.
— Правильно, — поддержала жена.
— Здравия желаю, товарищ Маршал Советского Союза! — вытянулся старший по причалу.
— Вольно, мичман! Где моя свежая рыба? Не наловили?!
— Наловили, аж два ведерка. Ставрида и пикша! — доложил мичман. — На кухню отнесли, Генриху.
— Молодцы!
— Рады стараться!
— Давай-ка, обопрись! — маршал подставил жене руку.
Они перешли в катер.
— Отпускайте, ребята!
Матросы мягко толкнули суденышко, Жуков завел мотор. Галина пристроилась рядом с мужем. Катер медленно разворачивался, покачиваясь на плавных волнах.
— Еще Никита на охоту зовет, — выкручивая руль, проговорил Георгий Константинович и окончательно развернул катер.
— Зверюшек жалко! — нахмурилась Галя.
— Я не еду. Если хочешь, говорю, давай по тарелкам стрелять.
— Какой ты у меня хороший! — просияла супруга.
— Покупаемся, а потом я тебя мороженым угощу. Генрих к обеду шоколадное сготовит!
— Капельку съем, простудиться мне сейчас невозможно.
— По-е-ха-ли! — прокричал маршал и поддал газ. Катер высунул нос из воды и, набирая скорость, пошел вперед.
12–22 августа, понедельник-четверг
Москва распахнула двери гостям Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Столица готовилась к этому большому событию загодя — школы, где должны были проживать участники фестиваля, ремонтировались, в классы завозились кровати, шкафы, в школьных буфетах менялась мебель, вместо видавших виды массивных столов и неподъемных табуретов привозили удобные легкие стулья и изящные столики, стены внутри перекрашивались в теплые приятные тона. Чтобы город наполняли задорные мелодии и душевные песни, на каждом углу цепляли репродукторы. Комсомол снова и снова разъяснял о нерушимой дружбе народов, вспоминал об упрямой борьбе с эксплуататорами и тиранами, говорил о том, что СССР протянет руку дружбы и помощи любому угнетенному народу — и в Африку, и в Азию, и в далекую Латинскую Америку! Своей открытостью москвичи должны были продемонстрировать, как дороги им посланцы далеких стран. Город наполнялся радушием, радостью. На главных улицах сверкала праздничная иллюминация, появились цветастые приветственные плакаты, тут и там благоухали клумбы, зеленели скверы — более семисот тысяч деревьев и кустарников было высажено в столице. Повсюду катали новый асфальт.
Так совпало, что именно в это время заканчивалось строительство Московской кольцевой автодороги. Теперь тихоходные, коптящие удушливой гарью грузовики ехали в объезд, не загромождая центр города. Основные участки скоростных проспектов — Комсомольского, Ленинского, проспекта Мира, и в особенности Кутузовского, поражали грандиозностью. Автозаводы выпустили к назначенному сроку новые модели автобусов и троллейбусов, которые катили по вымытым до блеска улицам и были намного удобнее прежних. К маю в столице открыли две новые станции метро: Фрунзенскую и Спортивную. Через Москву-реку перекинули невиданных размеров мост с автомобильным и железнодорожным движением, при этом скоростные поезда метро двигались внутри. «Метромост» был под стать новому веку молодой советской страны! В городе прибавилось гостиниц, кинотеатров, закончилось строительство современного многоэтажного универмага, получившего имя «Москва», который должен был разгрузить переполненный посетителями ГУМ.
В результате масштабной реконструкции путь до Центрального аэропорта «Внуково» сделался удобен и визуально красив, да и сам аэропорт привели в идеальный порядок.
За эти дни Александр Николаевич Шелепин и Владимир Ефимович Семичастный сбились с ног. Иностранные делегации со всего мира прибывали и прибывали. Каждую делегацию надо было не обойти вниманием, встретить, накормить, разместить. Некоторые делегации оказались непредвиденно велики, и как ни старались устроители фестиваля подготовиться, а мест участникам не хватало.
Триумфальное открытие праздника молодежи состоялось в «Лужниках». К собравшимся обратился Никита Сергеевич Хрущев. Он долго потрясал руками, зажигательно приветствуя гостей со всего мира, сказал, что двери для них открыты, что у Советского Союза нет и не может быть секретов от друзей!
Перед мероприятиями город не только убрали и помыли, но и удалили из столицы весь сомнительный элемент: алкоголиков, хулиганов, тунеядцев, отщепенцев и особенно — неблагонадежных, то есть людей, имеющих разногласия с советской властью, позорящих и ненавидящих ее. На время проведения фестиваля всех сомнительных отправили за 101-й километр. Фестивалю во всем дали зеленый свет, государственным ведомствам предписывалось оказывать всяческое содействие комсомолу, даже бдительная милиция прогуливалась по дорожкам с благожелательными улыбками. Повсюду звучала музыка, развевались флаги, сияла иллюминация, вечера не кончались до утра. По городу, как по морю, катились волны веселья, танцы, песни, смех! Молодежь ликовала, что творилось вокруг! Лето дышало молодостью, праздником, свободой. Композитор Соловьев-Седой и поэт Матусовский сочинили замечательную песню, и теперь из каждого уголка доносился ее душевный напев:
Не слыш-ны в са-ду да-же шо-ро-хи, Все здесь за-мер-ло до ут-ра. Если б зна-ли вы, как мне до-ро-ги Под-мос-ков-ны-е ве-че-ра!«Подмосковные вечера» перекладывали на тысячи языков, они сделались гимном фестиваля, гимном любви. Любовь выплескивалась повсюду, звенела поцелуями, кружилась в вальсе, клокотала в ритмичных плясках Африки, обжигала и завораживала. Москва породнила всех: темнокожих африканцев, желтых китайцев, пылких мексиканцев, улыбчивых японцев, застенчивых малайзийцев, чопорных англичан, жизнелюбивых французов, заводных итальянцев! Но особым вниманием пользовались негры. Они, точно магнитом, притягивали русоволосых девчат, а когда черные атлеты улыбались, завораживали женскую половину не только мускулистыми формами, но и ослепительным сверканием зубов!
Катя Судец рассказала, что вчера они собрались в сквере и стали играть в бутылочку, и она два раза целовалась с темнокожим красавцем из Эфиопии, а Ирку Брусницыну чуть не уволокли к себе в медицинское общежитие высоченные сенегальцы. Некоторые делегации расселили в общежитиях университетов. Юра, Юлиан, Чарли, Слава, Денис, Антон, братья Никольские ночи напролет каламбурили в гуще француженок и испанок. Антон попал в объятия стройной, высокой девушки из Перу и утверждал, что после фестиваля уезжает с ней. Коля Псурцев подарил белокурой польке альбом марок, которые собирал со школы и считал самым ценным своим сокровищем, а Вася Григорьев осыпал поцелуями и обещаниями жениться креолку из Аргентины. За эти 10 дней ребята успели сдружиться так, как будто знали друг друга с рождения. Веселье, шум, гам летели по улицам и утром, и вечером, и ночью. Когда гости стали разъезжаться, тысячи юношей и девушек провожали новых друзей со слезами на глазах. Кто-то обещал обязательно вернуться в Москву, кто-то клялся в любви до гроба, кто-то рассказывал, что скоро на земле не будет границ и можно будет запросто перемещаться по белу свету. Все плакали, обнимались, грустили и радовались — какое счастье, что их свела судьба! Неизгладимым следом фестиваль врезался в душу каждого участника, обручил Москву и весь мир. Никто не верил в разлуку, кругом царила любовь!
30 августа, пятница
В Массандре, чуть выше дворца Александра III, в прошлом году выстроили большой дом. Здесь планировали проводить встречи с руководителями братских коммунистических партий. Рядом с особняком оборудовали тир, напротив тира была поляна, где поставили аппарат, выбрасывающий тарелочки для прицельной стрельбы. Сегодня целое утро по ним и стреляли. Жуков, как и Хрущев, бил без промаха. Отстреляв час, решили сразиться за первое место, и соревнование началось. Сначала высадили Серова, потом вылетел Лобанов, потом Брежнев, дальше, четыре круга подряд, Георгий Константинович и Никита Сергеевич шли нога в ногу. Оба раскраснелись, разгорячились. Легкой победы у маршала не получилось, да и Хрущев не смог вырвать первенство. От тридцатиградусной жары и напряжения стрелки взмокли.
— Стоп! — прекратил состязание Анастас Иванович. — Тут законная ничья! — объявил он.
Соперники нехотя согласились. Пал Палыч Лобанов испереживался, что остывает приготовленный суп.
— Обедать, так обедать! — согласился Никита Сергеевич.
Жуковский Гюнтер с утра колдовал над мясом и кулебякой. К нежнейшей косуле предлагалось два салата, суп же на этот раз готовился легкий, грибной.
В Крыму постоянно пили вино. Известный винодел Егоров с молодым помощником Колей Бойко в сторонке орудовали с бутылками. Вина были на совести Анастаса Ивановича, который понимал в них толк и безошибочно разбирался, чем, когда и кого поить. Даже искушенных иностранцев Микоян заставлял восторгаться напитками. Жуков ел без аппетита, выпивать же наотрез отказался, настроение у маршала испортилось — не выиграл соревнование, а значит, ничто ему было не в радость. К тому же слащавый Брежнев действовал на нервы, встревая с постными анекдотами, над которыми ухахатывался Первый Секретарь. В отличие от коренастого кривоногого Жукова, Брежнев был высок, чернобров, осанист, и бабы на него просто вешались. А какие, кроме смазливого вида, у него достоинства? Тупые анекдоты? Принеси-подай! Одно недоразумение, а ведь Секретарь ЦК! Так бы и дал промеж глаз! За что только Хрущев его любит? Да и сам Никита в последнее время раздражал полководца — все знает, все умеет, несет полную околесицу! А по существу ничего не знает и не умеет ничего! Об этом ему в лоб сказали на Президиуме ЦК, и если бы не Жуков, в руках которого сосредоточена военная мощь, вылетел бы «стратег» из ЦК, как пробка из бутылки, сеял бы сейчас пшеницу в далеких казахских степях!
«Я спас, я удержал!» — не успокаивался военачальник.
Бестолковость Первого Секретаря после победы над заговором поражала: двуличного Ворошилова не наказал, изменника Булганина не тронул. Они ж были первыми подпевалами у Молотова с Кагановичем!
«Бестолочь, Никита, держит за пазухой тухлятину!»
Один Ваня Серов казался маршалу вменяемым и адекватным.
«Но Ванька — продукт бериевско-сталинского воспитания, а это само по себе нехорошо!» — размышлял Жуков.
Вернувшись из Белграда, маршал намеревался встретиться с Рокоссовским и предложить ему должность первого заместителя военного министра, от лицемерного Малиновского решил окончательно освободиться. На Рокоссовского можно положиться. Жуков специально промурыжил его без работы, чтобы предложение выглядело ценней, чтоб ближе стал Константин. Сначала были мысли Рокоссовского услать в Тмутаракань, на край света, но поразмыслив, Жуков передумал: лучше пусть рядом будут свои, чем чужие. Генералы Телегин, Крюков, Малинин, кадровик Кузнецов, десантник Маргелов составляли надежный костяк, но своих было недостаточно.
Жуков не терпел ограничений, ему хотелось дерзко шагать, лидировать, заставлять других поспевать за ним. Первейшая задача государства — рост боеспособности Вооруженных Сил. Только имея мощную, хорошо подготовленную армию, можно мериться силами с Западом, иначе любые переговоры обречены. Если бы Жуков не настоял на введении войск в Венгрию, оставался безучастным наблюдателем при обострении на Ближнем Востоке, СССР бы сдал лидирующие позиции.
«Мы должны уметь не только улыбаться, но и показывать зубы!» — говорил Жуков. И сегодня, хлебая суп и обгладывая косточки косули, смотреть на примитивную компанию было тошно. И «задушевный» Микоян раздражал.
«Все у него по-армянски — и нашим, и вашим! Куда идем?» — тяжело вздыхал маршал. Дома ждала любимая Галя, а заблудившиеся в двух соснах «вершители судеб» опостылели.
— Поеду я домой, — устало проговорил Георгий Константинович и поднялся.
Никто его не удерживал.
Начали прощаться. С Хрущевым и Микояном Жуков обменялся рукопожатием, кивнул Лобанову и Брежневу, которые держались несколько в стороне. Жуков не допускал фамильярности, всегда держал дистанцию, а этих двоих откровенно не переваривал. Серов вызвался проводить военачальника, предусмотрительно прихватив маршальское ружье и сумку с патронами.
— Как Аня? — спускаясь к автостоянке, спросил маршал.
— Спасибо, уже лучше.
На прошлой неделе Аня нещадно обгорела.
— Сам-то отдыхаешь или все время при них? — министр кивнул в сторону хрущевского дома.
— Да нет, здесь нечасто.
— Смотри, а то замучают! — бросил Жуков. — Лей, пей! — никакого воображения! Понабрали черт-те кого!
— Я тут раз в неделю появляюсь, у них своя свадьба. В море плаваю, в теннис играю.
— Корт сделал? — заинтересовался Жуков.
— Нет, хожу в соседний санаторий, в «Черноморье», — объяснил председатель КГБ.
— Сейчас солнце опасное, смотри, не геройствуй, а то, как твоя Анюта, сваришься! — предостерег военный стратег.
— Я после четырех на корт иду, — объяснил Иван Александрович. — Вчера случай забавный вышел.
— Что?
— Пришел на корт, а там Бещев с женой играет, мне его жена место уступила. Стали с Бещевым играть, а композитор Шостакович на высокий стул забрался и судит.
— Слышал про такого.
— Так вот, — продолжал Серов. — Он счет ведет. Я бью, вроде точно попадаю, а Шостакович — мимо! Я опять луплю, он снова — офсайд! — и мне очки не засчитывает. В третий раз подачу дал, ну думаю, попал в квадрат, а он — нет! Я ему говорю, вы смотрите внимательней, не путайтесь, я же вижу, что ударил точно. А Шостакович очки приподнял и знаете, как ответил?
— Как?
— С судьей, — говорит, — не спорят!
Жуков засмеялся.
— Нашелся судья, музыкант хренов! Он хоть знает, кто ты такой?!
— Должен знать, — пожал плечами генерал армии.
— А Бещев что?
— Смеялся, как вы!
8 сентября, воскресенье
Письма брат не писал, не мог, видно, изливать чувства на бумаге, и ведь кому писать? Единственным близким человеком, наверное, осталась сестра. Сестра любила брата больше, чем он ее, брат никогда не имел времени на «сюсюканья»: то блистал в высшем московском обществе, то влюблялся, а влюблялся он постоянно, то отбирал прославленных мастеров в футбольную команду Военно-воздушных сил Московского округа, то давал разгон подчиненным, то — пил. На родных у Васи времени не оставалось, а потом — куда денутся родные? Никуда не денутся. Вот и остался разжалованный генерал один-одинешенек, одна безулыбчивая сестра с измученными глазами о нем помнила: писала, приезжала, интересовалась и верила, что брата обязательно освободят, что вырвется он из железного силка, возьмется за ум, что снова все образуется, если можно так говорить, понимая, что отца их, Иосифа Виссарионовича, нету на белом свете.
К страданиям дети Сталина были привычны, всю жизнь их держали в клетке, с той лишь разницей, что клетка эта сначала была из чистого золота, даже на прогулки выводили как собачек — на поводке. Поводком этим были вездесущие охранники и сопровождающие, постоянно суетящиеся, напряженные, с одинаковыми натянутыми заискивающими улыбками — гримасами до отвращения неискренних людей. Все без исключения взирали на венценосных брата и сестру как на что-то недосягаемое, диковинное и, в общем-то, неодушевленное. По существу, брат и сестра всю жизнь были пленниками, остались ими и теперь, вовсе не так, как повествовал в романе про человека в железной маске восторженный романист Александр Дюма. Королевство кривых зеркал безраздельно властвовало повсюду.
Вася рано начал пить, не смог бросить, даже когда папа сменил гнев на милость, обласкал и приблизил. Вася потонул во вседозволенности. Сколько у него имелось друзей, все ходили в друзьях: и Берия, и Маленков, и Ворошилов. А женщин сколько! И прекрасные актрисы, и ретивые спортсменки, и пытливые журналистки, и пылкие комсомолки, была даже одна детская писательница, которая сочиняла в стихах. Но грянула трагедия, отца не стало, и ряды верноподданных поредели, недосчитывался он многих обожаемых друзей-товарищей, тихо стало в коридорах, и в ворота шикарной дачи настойчиво не сигналили подъезжающие машины. Наконец, случился арест, и ни одна живая душа не подала голос в защиту сталинского отпрыска, друга, возлюбленного, благодетеля; все, кому верил он, оказались безверными, а может — подлыми? Нет, не подлыми, неправильно, — насмерть перепуганными: ведь с кем водили они знакомство, с кем якшались? Выяснилось, что с преступником, с негодяем, с нечистым на руку человеком, с убийцей, в конце концов! Будешь мозолить власти глаза — решат, что и ты таков, что сообщник. И никакие они не друзья, оказались они у генерала совершенно случайно, по наивности. По доброжелательности здоровались с Василием Иосифовичем, а он, пьяница, насильно затаскивал их к себе.
— Мы совершенно ни при чем, никакого отношения к Джугашвили не имеем! — отрекались бывшие завсегдатаи искрящихся вечеринок. — Сидит — и правильно, пусть сидит!
Света не винила людей; испокон века известно, что своя рубашка ближе к телу, за что ж обижаться? Тем более что отец, вождь всех времен и народов, из спасителя отечества, героя, совести нации превратился в изувера и мучителя. Отец — изгой, враг! Брат — арестант. А она? Кто она? Света и сама не знала.
— Аминь! — громко произнесла Валечка.
Как арестовали Васю и как переселилась она к Светлане Иосифовне, так стала потихоньку молиться.
Света домыла посуду. Последние полгода она сама ее мыла, насухо вытирала и расставляла на полки, сама стала гладить, научилась вязать и шить; все это отвлекало, развеивало тяжелые мысли.
Валечка подала детям обед, и семейство устроилось за столом. На стене висела фарфоровая тарелка с изображением маршала Сталина со звездой Героя на груди.
— А дедуля к нам когда приедет? — кушая суп и уставясь на тарелку с портретом, пролепетала кудрявая Катя.
— Наш дедуля умер, — отвечала мама. — Он был старенький.
— А ты не умрешь? — повернулась к матери дочка, глазки ее наполнились слезами.
— Нет, я молодая! — громко ответила Света.
— Не надо умирать! — прошепелявил Иосиф. Он тоже испугался за маму. Про пап дети не вспоминали, папы в опальном доме не появлялись.
Покушали хорошо. У Иосифа был замечательный аппетит, а Катя постоянно подражала старшему братику.
Валечка унесла грязные тарелки и, облокотившись на раковину, закашлялась. Кашляла она страшно, где-то застудилась, но не желала идти к врачу. Сегодня ее просто разрывал кашель.
— Нет, так нельзя! — Светлана не выдержала и вызвала докторов из «кремлевки», те осмотрели больную и заговорили о госпитализации, да только везти больную на Грановского не получалось, Валя не была спецконтингентом.
— Госпитализация необходима, я кривить душой не могу! — признался терапевт.
— Что с ней?
— Предположительно воспаление легких. Думаю, мой диагноз подтвердится. Хорошо бы положить в Боткинскую, там очень знающие специалисты, — заключил Светин лечащий врач.
— А вы не сможете ее туда отвезти?
— Рады бы, да нельзя, не положено!
— Может, позвоните, спросите разрешения?
Врач сел у телефона, но как только он начинал кому-то объяснять просьбу, стесняясь, зажал трубку ладонью:
— И слушать не хотят, инструкции! — оправдывался он. — Может, вы с главным врачом поговорите?
— Поговорю.
Светлана Иосифовна быстро дозвонилась. Главврач «кремлевки» растерялся, он извинялся, объяснял, что подобное не в его компетенции, что Боткинская относится к горздраву, и он не знает, чем помочь, а когда Светин терапевт взял трубку, начальник, видно, его здорово отчитал: после разговора терапевт осунулся, стушевался и стал очень серьезен.
Валя снова зашлась страшным кашлем, и когда отобрала ото рта салфетку, на ней появилась алая кровь.
— Видите! — указал расстроенный врач. — В больницу ей надо!
Извиняясь, лечащий доктор попрощался, но перед уходом выписал два рецепта:
— Если с больницей не получится, начните давать эти лекарства.
Светлана Иосифовна вызвала из гаража машину и стала разыскивать няню, как раз сегодня она дала ей выходной, но надо было везти Валечку в больницу, и кто-то должен был остаться с детьми.
— Валюша, я тебя в больницу устрою! — чуть не плача, пообещала побледневшая от собственного бессилия женщина.
— Ты, Светочка, забудь, забудь! Я как-нибудь выкарабкаюсь! — и Валя опять зашлась в неистовом приступе кашля.
Иосиф принес за стол альбом, в котором рисовал, начал его раскладывать — хотел похвастаться, показать свои новые рисунки, но неудачно повернулся и, зацепив, опрокинул на пол тарелку. Тарелка грохнулась о кафель и разлетелась вдребезги. Света с Валентиной стали подбирать осколки, а детям велели не вставать с мест, чтобы стеклом не поранили ножки.
Выбрасывая мусор в мусоропровод на лестничной площадке, Светлана посмотрела на соседнюю дверь, в квартире напротив жил председатель Мосгорисполкома Яснов.
«Может, его попросить?» — и позвонила в дверь, но дверь никто не открыл.
«Видно, на выходные за город уехали!» — предположила Светлана и тут вспомнила про подполковника Букина.
Она зашла в квартиру, вытряхнула из коробки, той, что всегда стояла в прихожей на окне и куда она складывала всякую дребедень, содержимое, и, порывшись, нашла бумажку с нужным телефоном. Набрала.
— Приемная товарища Хрущева! — послышалось в трубке.
— Здравствуйте! Мне нужен товарищ Букин.
— Вы кто? — спросил сухой голос.
— Я Аллилуева.
— Аллилуева?
— Да, Светлана Иосифовна, дочь Сталина.
На конце провода воцарилось молчание.
— Вы слушаете?! — повысила голос Светлана.
— Да, Светлана Иосифовна! Извините! Сейчас Андрея Ивановича рядом нет, как он появится, мы скажем про ваш звонок.
— Спасибо! — Светлана с силой повесила трубку. — «Как действует на людей фамилия Сталин, как красная тряпка на быка!»
Букин перезвонил через час. Светлана изложила просьбу. Офицер пообещал помочь. Неотложка приехала ровно через двадцать минут, и Валечку увезли в больницу.
10 сентября, вторник
Анастас Иванович понимал: Хрущева что-то беспокоит, сильно беспокоит. Они сидели в беседке на пляже, небо было сплошь усыпано звездами — большими, маленькими, далекими и близкими, растворенными в дымке золотистого свечения миллиардов соседних светил, а почти у горизонта, низко-низко, сияла крупная, точно капля, звезда.
— Звезды здесь другие, не как у нас, — указывая на нее, проговорил Хрущев.
— Южные звезды, — заметил Микоян. — В них есть какая-то сказочность.
— Есть, согласен.
— Мне южные звезды родные, — признался Анастас Иванович. — В Москве звезды не мои, чужие.
— Юг есть юг, — вздохнул Никита Сергеевич. — Вот, Анастас, и отпуск пролетел, послезавтра в Москву. Прощай, отпуск!
— Я хорошо отдохнул — и поплавал, и позагорал.
Хрущев не отзывался, молчал, глядел вдаль. Еле различимо шумел прибой. Умопомрачительно звенели цикады.
— Что с тобой, Никита? Что беспокоит?
Хрущев хмурился:
— Ты-то ничего не замечаешь?
— Что?
— Жуков! — одними губами прошептал Хрущев. — Жуков нас скоро съест!
У Микояна с лица сошла добродушная улыбка. Да, Жуков и впрямь начал командовать, начал строить и ЦК, и Совмин. После разгрома антипартийной группы авторитетов для него не осталось. Маршал везде был первым, газеты его славили, народ любил, враг боялся. Последняя громкая инициатива маршала, где он вернул участникам войны выплаты за ордена и медали, разлетелась по стране молнией и еще больше упрочила его положение, усилила всенародную любовь. Сейчас он продвигал новую идею: для увековечивания памяти павших защитников Родины предложил установить в городах, где шли кровопролитные бои, мемориальные обелиски; потребовал, чтобы восстановили отмененный Сталиным праздник Победы 9 Мая, чтобы праздновали Победу, не сидя по домам и не вперемешку с Первомаем, а всенародно, горячо. Сконцентрировав власть и силу, министр обороны стал жестче, непререкаемее, непредсказуемее. Никита Сергеевич при нем вел себя скромно, тактично. Жуков без удержу летел вверх. Военные сделались в СССР самыми желанными, самыми почитаемыми, к ним особо прислушивались, демобилизация офицерского состава из армии притормозилась.
— Жуков, Жуков! — покачал головой Микоян. — Жуков опасен.
— И я про то! — отозвался Никита Сергеевич. — Перед поездкой на юг Георгий вызвал киношников, приказал переснять эпизод Парада Победы, где он на белой лошади выезжает из ворот Кремля. Его конь тогда споткнулся. Надо, говорит, это место переснять! Понимаешь, Анастас, что это значит?
Микоян сделался совсем серьезен:
— Понимаю.
— В адрес Центрального Комитета поступило письмо одного фронтовика, который предлагает за заслуги перед Отечеством присвоить маршалу Жукову звание Генералиссимус Советского Союза! Не предлагает, а требует! — возмутился Никита Сергеевич.
— Не случайное письмо, — подметил Микоян.
Они помолчали. Ветер с гор уже не был теплым, он нес прохладу, а означало это только одно — лето кончилось.
— С ним есть только один выход. Понимаешь, Анастас, о чем я? — Хрущев исподлобья взглянул на собеседника. — Понимаешь?
— От Жукова так просто не отделаться.
— Значит, надо не просто! — вид у Первого Секретаря был затравленный. — Охотиться ни разу не приехал. Как это, ведь глава партии приглашает?
— Наплевал!
— Именно. А ты спрашиваешь, чего со мной!
Микоян сделал глоток мадеры, каждый вечер он выпивал перед сном бокал крепленого крымского вина. Прибой совершенно стих, лишь цикады невыносимо звенели со всех сторон.
— У Георгия твой Серов любимчик.
— Близкий человек, верно, но не любимчик! — отрицательно покачал головой Никита Сергеевич. — Человек, если можно так выразиться, допущенный к телу.
— У них жены — сестры.
— Вранье! Ты, Анастас, Серова не кусай!
— Просто говорю тебе, — наморщил лоб Микоян. — Помнишь, когда справляли день рожденья Суслова, Жуков встал и предложил выпить за Серова, так как на нем, на Серове, спокойствие государства держится, так, кажется, сказал?
— КГБ, сказал, глаза и уши армии!
— Во, во, правильно! И добавил, что госбезопасность и армия должны быть рядом, как отец и мать. Помнишь?
— Припоминаю. Сам поразился: день рождения был у Суслова, а тост он поднял за Серова!
— Не исключено, что они с Жуковым сговорились.
Никита Сергеевич обомлел.
— С Серовым надо быть осторожней, не говорить лишнего, — продолжал Микоян. — Береженого бог бережет!
— Посмотрим, что с Серовым делать, а Жукову надо яму рыть. Он нам продыха не даст.
— Тут гибко надо.
— Гибко! — подтвердил Никита Сергеевич. — Как, пока сам не знаю!
Анастас Иванович опять потянулся к мадере:
— Ходят разговоры, что Жуков хочет Малиновского на Рокоссовского сменить.
— Я уболтаю, месяц-другой не тронет.
— С каждым днем жуковская властность приумножается. Как он однажды сказал? Без моей команды ни один танк из ворот не выйдет! Было такое сказано?
— Было.
— В этом ответ на вопросы!
— Георгия народ любит! — вздохнул Никита Сергеевич.
— По популярности он сравнялся с тобой, — продолжал Микоян.
— Налей-ка и мне винца! — грустно попросил Хрущев.
Микоян взял бутылку.
— Чуть-чуть, Анастас, чуть-чуть!
Анастас Иванович налил больше половины бокала.
— Для сна, — кивнул он.
— Какой уж сон! — подхватил рюмку Никита Сергеевич. — Зря мы ему четвертую звезду повесили, зря!
11 сентября, среда
Во всех газетах опубликовали Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об упорядочении дела присвоения имен государственных и общественных деятелей краям, областям, районам, а так же городам и другим населенным пунктам, предприятиям, колхозам, учреждениям и организациям».
«Президиум Верховного Совета СССР отмечает, что в деле присвоения административным центрам, предприятиям, колхозам, учреждениям, учебным заведениям имен советских государственных и общественных деятелей были допущены крупные перекосы и отступления от ленинских традиций, — говорилось в тексте Указа. — Великий Ленин учил советских людей быть скромными и сам был образцом скромности и простоты, непримиримым противником возвеличивания его имени. «Вы не можете представить себе, — говорил он, — до какой степени неприятно мне постоянное выдвигание моей личности». При жизни В.И. Ленина имя его не присваивалось ни одной области, ни одному району или городу.
Впервые его имя было присвоено после его смерти городам Ленинграду и Ульяновску в знак огромной любви народа к своему вождю и учителю и в целях увековечивания его памяти.
Президиум Верховного Совета постановляет: считать целесообразным произвести переименование областей, районов, городов, поселков, сел, предприятий, колхозов, учреждений и организаций, которым присвоены имена ныне здравствующих государственных и общественных деятелей.
Указанные переименования производить в каждом отдельном случае в соответствии с настоящим Указом.
Считать утратившими силу ранее принятые по этим вопросам законодательные акты».
13 сентября, пятница
Турция, которая находилась в союзнических отношениях с Англией и Францией, сосредоточила войска на границе с Сирией. В любой момент турецкая армия могла перейти в наступление и оккупировать Сирийское государство. СССР, связанный с Сирией договором о дружбе и взаимопомощи, выразил Турции протест, к берегам Египта выдвинулись советские военные корабли. Маршал Жуков был настроен воинственно. На Президиуме ЦК Микоян всячески сдерживал маршала, склонял добиваться компромиссных решений дипломатическими усилиями. Жуков негодовал.
— Надо бить! В начале года Греция дала согласие на размещение у себя ракет, направленных против России! Теперь Сирии и Египту угрожает. Завтра придут нам голову рубить!
Микоян стоял на своем, Хрущев его поддержал, сказал, что ракеты в Греции так и не разместили и что следует действовать деликатно.
— Нам, Георгий Константинович, военные конфликты не нужны, передергивать не будем! — увещевал Анастас Иванович.
— Передергивать?! — подскочил на месте Жуков. — Подбирайте слова, Анастас Иванович! Мы с вами не в карты играем!
Жуков уверял, что за три дня он опрокинет турок, но маршала не поддержали. Он нервно теребил блокнот.
— Головотяпы! — ругался полководец, хищно поглядывая на Серова, которого после окончания Президиума позвал к себе. — С кем приходится работать? Сталин, тот на лету схватывал, а у этих — узкие лбы! Губошлепы! Надо что-то делать, Иван!
— Что предлагаете, Георгий Константинович?
— Просрут социализм, страну просрут! — кипел маршал. — Ты, Иван, все приспосабливаешься, все на цыпочках ходишь, а посмотри на них — стыд и срам! Если б не я, хана бы Хрущеву.
— Знаю, Георгий Константинович.
— А для него мои предложения пустой звук. Больше заступаться не стану! Как может руководитель великой страны быть такой мямлей?! Ты меня случайно не пишешь? — маршал уставился на председателя КГБ.
— Пишу? Вас? Не пишу! — замотал головой генерал.
— Определись, Ваня, с кем ты, а то поздно будет!
Полночи Иван Александрович не мог заснуть, не шел из головы разговор с Георгием Константиновичем. Он ворочался, вздыхал. Аня придвинулась к мужу и потрогала лоб.
— Ты не заболел, Ванечка?
— Нет.
— Случилось что?
— У маршала был, у Жукова, — супруг тяжело вздохнул. — Он такого наговорил!
— Что?
— Против правительства, — прошептал Иван Александрович. — И меня спрашивал, ты с кем?
Аня прижалась к мужу.
— Что делать, не знаю!
Они долго лежали, не разговаривая.
— Зинуля как?
— По папе скучает, — подняла лицо Анюта и поцеловала супруга в губы.
Серов обнял жену крепче.
— Ты у меня сильный!
— С кем говорить, с кем советоваться? Не с кем! Надо к Хрущеву идти, рассказывать.
— Иди, — прошептала Аня.
14 сентября, суббота
Брежнев хотел закричать в трубку, заорать во весь голос, но только и выдавил:
— Понял!
Ракета Р-7 взлетела, но полетела абсолютно не туда, куда требовалось.
— Никогда Королев не сделает ракету, никогда не будет у нас надежной космической техники! — простонал Леонид Ильич.
Первейшая задача — покорение космического пространства — обрушилась. Еще недавно Брежнев, курирующий ракетостроение, докладывал о разработанной учеными программе запуска на околоземную орбиту первого в истории человечества спутника, рапортовал Никите Сергеевичу с огоньком, с азартом; а теперь как спутник полетит, куда?! Покорение неба являлось для Брежнева и покорением высот власти. Запустив спутник, Леонид Ильич невероятно бы укрепился перед Хрущевым, а тут: неудача за неудачей. И хрущевский сынок Сергей, частенько бывавший в конкурирующем с Королевым КБ Челомея, высказывал отцу сомнения в способности Сергея Павловича осуществить запуск космической ракеты. И Челомей оказался абсолютно прав: не получилось у Королева ракеты, способной надежно летать, а это значит — конец честолюбивым мечтам, конец карьере, конец всему!
Леонид Ильич вызвал Костю Черненко.
— Позови Любу и побудь в приемной, чтобы до меня не достучались.
Черненко понимающе кивнул. Через пару минут в кабинет зашла Люба.
— Иди сюда! — позвал Леонид Ильич.
Люба послушно приблизилась. Он нетерпеливо схватил ее, содрал одежду и прямо тут, у стола, расправился с ней. Иногда женщина вскрикивала, мужчина причинял ей боль.
— Прости меня! — отдышавшись, выговорил Брежнев. — Я сам не свой. Все, Любонька, у меня рушится! — в глазах Секретаря ЦК стояли невыносимая тоска и обреченность.
Люба погладила его по щеке.
— Все будет хорошо! — прошептала она.
— Будет! — простонал он и опять потянул ее, пытаясь снова овладеть.
Солнце било в окна. Они уже оделись и сидели в комнате отдыха на диване. Леонид Ильич достал из холодильника лимонад, открыл бутылку, разлил в два стакана, протянул один стакан Любе.
— У тебя волосок седой! — заметила женщина. — Не двигайся, сейчас его вырву.
За год, проведенный в Москве, Леонид Ильич начал седеть.
15 сентября, воскресенье
Во Франкфурте-на-Майне, во время конференции общественно-политического еженедельника «Посев», бывший офицер госбезопасности перебежчик Хохлов был отравлен радиоактивным таллием.
— Подох? — неприятно проговорил Первый Секретарь.
— В больнице. Пытаются его спасти, — ответил председатель КГБ.
— Живучий! — скривился Хрущев.
— Добьем, Никита Сергеевич, это дело чести! — отозвался генерал армии.
— Врагам пощады нет!
Это был третий случай расправы с беглыми изменниками за последние два года.
— У меня есть еще сообщение, — растягивая слова, проговорил генерал.
— Ну?
— О Жукове хотел сказать, о маршале.
— Что? — насторожился Никита Сергеевич.
— Спрашивал меня, записываю его или нет. Я ответил, что нет.
— А на самом деле?
— Он власти хочет, Никита Сергеевич! — выдохнул Серов.
— Влас-ти! — протянул Первый Секретарь.
22 сентября, воскресенье
Усталость и горькие раздумья Леонида Ильича сменила нежданная радость — ракета полетела! Черненко принес подробный отчет о последних испытаниях, неполадки, над которыми бились полгода, были полностью выявлены и устранены. На машиностроительном заводе в Филях приступали к сборке очередного изделия Р-7. В ближайшее время конструктор Королев намеревался запустить в небо искусственный спутник Земли.
— Неужели со спутником получится?! — не мог сдержать радости Леонид Ильич. — Неужели сдвинулись с мертвой точки?!
— Королев уверяет, что сбоев не будет, — проговорил Черненко.
— Завтра, Костя, в баню пойдем, смоем старые грехи! — ликовал Секретарь ЦК.
Последнее время Брежнев был точно наэлектризован, со дня на день ждал известия о своей отставке, теперь же дурные мысли ушли в прошлое.
— Поехали к Королеву, — сказал он помощнику. — Звони ему, пусть встречает!
29 сентября, воскресенье
Министр среднего машиностроения Первухин сообщил помощнику Хрущева о крупной аварии на предприятии по переработке радиоактивных материалов, расположенном около города Озерск. Из-за нарушения системы охлаждения разрушилась емкость с высокорадиоактивными отходами. Радиация попала в реку Тешу. Есть человеческие жертвы. После июньских событий, когда Первухин поддержал антипартийную группу, Хрущев с ним не соединялся.
— Положение опасное. Последствия аварии непредсказуемы, — пересказывал содержание разговора помощник.
В срочном порядке распорядились послать на место трагедии партийно-правительственную комиссию во главе с Брежневым. Заместителем к Брежневу определили скрупулезного зампреда Совета министров Алексея Косыгина.
Хрущева пугал масштаб катастрофы, пугали пагубные последствия, но на уме роились совершенно иные мысли — в конце октября маршал Жуков отправлялся с государственным визитом в Югославию и Албанию.
Ситуация с этими странами сложилась непростая. Энвер Ходжа не принял развенчание Сталина, для него Иосиф Виссарионович по-прежнему оставался центральной фигурой социализма и мирового коммунистического движения. Последний приезд албанского лидера в Советский Союз еще больше отдалил Москву и Тирану. На обеде, данном в его честь в Кремле, албанец, невзирая на увещевания Хрущева, умудрился поссориться с послом Югославии. Целый час гости обменивались нелицеприятными упреками, обвиняя друг друга в нечистоплотности. Хрущев никак не мог установить с Энвером Ходжой неформальные отношения, во всем натыкался на протест. Последнее время Албания тяготела к Китаю, не хотела слушать советы руководства СССР и, упаси Боже, их выполнять! Мао Цзэдун стал первейшим другом непокорного государства.
Энвер Ходжа не гнушался методов, которые громогласно осуждали, ему не чужды были ни пытки, ни казни. Албанца не заботило мнение мирового сообщества, капиталистов он однозначно считал врагами, исключая всякую возможность компромисса, что, собственно говоря, легло в основу противоречий с Советским Союзом. Энвер Ходжа не разделял курс ХХ Съезда, считал, что хрущевцы расшатывают социалистическую стабильность — раскрутили гайки, а теперь удивляются неповиновению и свободомыслию, он свято верил, что кругом ходят замаскированные враги, агенты США и Англии и излишний либерализм дает им дополнительные преимущества. Мировая революция, победа социализма на всей земле — вот генеральная линия коммуниста. Поговаривали, что албанцы могут выйти из Варшавского договора. Тирана требовала особого нажима, а такой нажим мог осуществить исключительно Жуков. Это было одним из обстоятельств, по которому Первый Секретарь упросил маршала ехать на Балканы. Непокорная Албания — раз, и независимый югославский правитель Иосип Броз Тито — два, вот кровоточащие язвы советской внешней политики. Возможно, маршалу удастся повлиять на Тито, нормализовать ситуацию.
Хрущев переживал, что слишком уж просто Жуков согласился выступить переговорщиком. Жукову было лестно выдвинуться на первый план, ему хотелось заявить о себе не просто как о военном, а еще — как и о политике-миротворце. Визит готовился на самом высоком уровне. О предстоящей поездке писали албанские, югославские и мировые газеты. Жукова превозносили до небес. Такое пристальное внимание к личности маршала Хрущева раздражало, раздражали и безапелляционные суждения полководца, но последней каплей, переполнившей терпение и нарушившей спокойствие Никиты Сергеевича, стало сообщение Серова о разговоре с министром обороны. В последний момент Первый Секретарь передумал посылать на Балканы Жукова, решил переиграть, заменить его дипломатичным Микояном, но Микоян запротестовал, сказал, что последует скандал, чреватый разрывом с Жуковым, а это будет почище антипартийной группы. Георгий Константинович никому и ни в чем не хотел уступать. Точно как и Хрущев в Англию, он решил плыть на военном корабле.
Позиции Жукова в советском руководстве неуклонно укреплялись, народ его боготворил. При нем замедлилось сокращение армии, которое вызывало особое недовольство, ведь, по сути, увольняя из Вооруженных Сил, фронтовиков выкидывали на улицу. Трудоустройством бывших солдат занимались спустя рукава, нашел работу — хорошо, а то, что предлагали госорганы, было форменным неуважением. Из хорошо обеспеченных офицеров, сытых и обутых рядовых демобилизованный превращался в брошенного на произвол судьбы человека — ни достойной работы, ни хорошей зарплаты, ни жилья, ни уважения. Военнослужащие на чем свет стоит поносили Хрущева, считая его главным виновником своих бедствий. За два года в запас отправили около двух миллионов человек. При маршале появилась надежда, что пагубный процесс развала армии прекратится.
Жуков участвовал в аресте Берии, в его разоблачении. Маршал стал ключевой фигурой при низвержении сталинской гвардии — Молотова, Кагановича, Маленкова. Он с глазу на глаз встречался с президентом США Эйзенхауэром, говорил с ним не официально, а вел беседу по душам. Разговор двух солдат был искренним. Оба они сожалели, что после разгрома гитлеровской Германии доверие между СССР и США утратилось и отношения двух стран перешли в откровенное противостояние, пришли к выводу, что появились условия изменить ситуацию к лучшему.
«Может, мы не станем в ближайшее время близкими друзьями, но и врагами не будем!» — решили полководцы.
Жуков, в отличие от Хрущева, мог на равных говорить с президентом Соединенных Штатов. Помимо прочего, маршал пообещал президенту повлиять на Мао Цзэдуна, чтобы освободить из китайского плена американских летчиков, захваченных во время корейской компании, а у Хрущева и с китайцем не все складывалось гладко. Жуков рос, Хрущев таял.
— Я, Нина, его с Урала в Москву вытащил, я! Берия тогда на рогах стоял, а мы с Булганиным пошли к Молотову и про Жукова сговорились. А теперь он что творит?!
Нина Петровна накапала мужу в стакан настойки пиона.
— Не буду пить, тошно! — отводил стакан муж. — Кто в стране главный? ЦК главный, не я, не Жуков, а ЦК! А он командует, словно на него управы нет! Есть управа!
— Ляг, поспи, Никитушка!
— Никитушка! — раздраженно повторил Хрущев. — Отрежет он мне яйца!
4 октября, пятница
Спутник в небе! Спутник в небе!
В шестнадцать часов сорок минут над всей планетой полетел позывной из космоса.
«Ти-ти-ти-ти! Ти-ти-ти-ти!» — ловили приемники. Это первый в истории человечества космический аппарат передавал сигнал с орбиты Земли.
«Ти-ти-ти-ти!» — разносилось над планетой.
Народ валил на улицы, народ захлебывался восторгом, народ пел, танцевал:
— Надо же, спутник летит!
— Спутник! Спутник!
— Русские в космосе! Русские запустили спутник! Он передает землянам сигналы!
В мире начался переполох. Поздравительные телеграммы нескончаемым потоком неслись в Кремль. Люди ликовали. Американцы были ошарашены, они думали, что первый спутник будет их. Хрущев был на седьмом небе. За столом в Огарево собрались близкие.
— Мы дополнили Солнечную систему, сотворив еще одну планету, ставшую младшей сестрой Земли и новорожденной дочерью Солнца! — зажав в руке рюмку, говорил Хрущев. — Наступила новая эра в науке и технике, началась разведка боем космических высот. Наш спутник — по существу новая луна!
— Я, Никита Сергеевич, прежде всего, поздравляю с победой вас. Сколько вами отдано сил, чтобы спутник полетел! Это ваша заслуга! — с напором говорил Леонид Ильич. — Вы определили: космос — завтрашний день человечества! За вас, дорогой Никита Сергеевич! За покорителя небес!
Микоян тоже приподнял за Хрущева, сказал, что все мечты Никиты Сергеевича сбываются, и если б Бог был, Хрущева можно было бы назвать пророком!
Никита Сергеевич не стал делать Микояну замечания, пропустил слова про Бога мимо ушей.
— Моя самая заветная мечта — чтобы люди жили счастливо! — сквозь внезапно нахлынувшие слезы отвечал Никита Сергеевич. Своими речами гости его растрогали.
Пал Палыч Лобанов взял слово последним.
— Первый искусственный спутник земли населен семейством научных приборов. Можно сказать, что в искусственном спутнике, как в капле воды, отразилась вся индустриальная мощь державы.
— А на том берегу соседи опростоволосились! — имея в виду американцев, перебил Хрущев.
— Не могло быть по-другому, Никита Сергеевич, не могло! Вы нас ведете! — затряс головой Лобанов. — Спутник начало космической эры. За спутниками придут межпланетные корабли, орбитальные станции, человек начнет завоевывать далекие галактики, — Пал Палыч кашлянул и раболепно уставился на Первого Секретаря. — Товарищи передо мной справедливо поднимали за Никиту Сергеевича, и правильно, чувствуется в этом большом деле хрущевский задор и хрущевский напор! Под боевой клич товарища Хрущева мы ворвались в космос! Но я хочу выпить не за Никиту Сергеевича.
Хрущев перестал улыбаться, Лобанов развернулся в сторону.
— Этот фужер я поднимаю за его сына-ученого, решившего отдать себя звездам!
Сергей Никитич, скромно сидящий за столом, просиял.
— Творчество юных, полных задора парней откроет Родине путь к солнцу! За тебя, Сергей, за молодых советских ученых!
Лобанов выпил, расцеловал Сергея, а потом поспешил целовать Никиту Сергеевича, который принял его в благодарные объятия.
Примеру Лобанова последовали и Микоян с Брежневым.
С запуском спутника позиции Советского Союза на мировой арене несказанно усилились. Очевидным стало превосходство СССР в современных технологиях, а значит, и военное превосходство.
Народ ликовал. Хрущев выступил и по радио, и по телевидению, в каждой газете печатались его интервью. Недавние сражения в стенах Кремля отступили на второй план, никто не вспоминал о низвергнутых с пьедестала Молотове, Маленкове и Кагановиче, никому теперь они были не интересны. Люди радовались силе своей страны, прорвавшейся к солнцу, восхищались выдающимися свершениями, и казалось, не будет им конца и края!
Получив рапорт об успешном полете первого космического аппарата, Жуков просиял. Перед поездкой за границу успех этот был особенно важен. Теперь и Тито, и Энвер Ходжа не посмеют ослушаться. Складывалось замечательно. В кругу семьи Георгий Константинович был особенно ласков и внимателен.
Малышке Машеньке шел второй месяц, она так трогательно попискивала в своей уютной колыбельке, укутанная кружевными пеленками! Маршал таял, когда заходил к дочке в комнату и особенно когда брал ее на руки, стараясь заглянуть в серые, точно как у мамы, глаза.
«Как мало надо человеку для счастья!» — думал Георгий Константинович, любовно целуя Галину, которая разрывалась теперь между мужем и дитя.
На вечер позвали друзей — генерала Крюкова с женой, певицей Лидией Руслановой, и генерала Телегина. Телегин второй день как приступил к обязанностям заместителя начальника Генерального штаба.
Генрих предварительно уточнил у министра меню.
— Пусть будут гуси-лебеди! — распорядился Георгий Константинович.
Повар на птице не успокоился. Кроме гуся и тетерева, запеченных в духовом шкафу, он тушил в чугунке зайца, нажарил сочных котлет из медвежатины. Закуски составили всевозможные паштеты и салаты. Пили, разумеется, водку. И у Жукова радовались, что спутник полетел.
— Неделин денно и нощно сидел у Королева, его заслуга тут велика! — поведал министр обороны. — Думаю дать Митрофану звание Главного маршала артиллерии.
— Он заслужил! — закивал Телегин.
— С утра Брежнев телефон оборвал, все поздравлять рвется! — продолжал Георгий Константинович. — Неделин, тот Королеву прохода не давал, а этот только красуется! Олух!
— Гнать таких надо! — поддакнул Телегин.
— Да кто такой Брежнев?! — накладывая салат, ворчал Крюков.
— Впрочем, и Никита мало что понимает. Эх, были б люди с головой! А из этих какие начальники? Правая рука не знает, что делает левая! — нелицеприятно высказался полководец.
— Но ведь как-то наверх пробрались.
— Ты правильно сказал — «как-то!» — выговорил Жуков. — Вернусь из поездки, поправим ситуацию! — глядя на Телегина, загадочно проговорил маршал. — Лида, спой нам!
Крюков сел за рояль и стал аккомпанировать. Русланова встала перед инструментом, и полилась песня.
6 октября, воскресенье
Министр иностранных дел Громыко был косноязычен, не годился для пламенных речей, поэтому на проводах Жукова, которые происходили в Министерстве обороны, куда приехали члены Президиума, Никита Сергеевич поручил выступить Фурцевой. Екатерина Алексеевна с задором, но и с чувством некоторого беспокойства говорила о маршале, ведь провожали его в Албанию и Югославию не на праздники, а на трудные переговоры. Напутственное слово произнес и Хрущев. Он отметил, что никто лучше Георгия Константиновича не справится с предстоящими переговорами, просил отстаивать ленинские принципы социализма, не размениваться на мелочи, нести югославам и албанцам советскую любовь, но в то же время и спуска не давать! Хрущев расцеловал маршала при прощании. С пристрастием министра обороны обнимал Булганин, он все еще чувствовал себя виноватым, поддавшимся антипартийцам, поэтому при каждом удобном случае пытался исправить досадное недоразумение, выказывая победителям плебейское уважение.
— Булганин так и лебезит! — недовольно фыркнул Хрущев. — Смотреть гадко!
Анастас Иванович Микоян просил Жукова передать от него привет товарищу Тито и ничего не передавать Энверу Ходже, которого за Хрущевым стал называть разбойником с большой дороги. На это пожелание Никита Сергеевич отреагировал очень положительно, уж совсем не нравился ему албанский диктатор.
На военный аэропорт в Кубинке, откуда Жуков улетал в Крым, а оттуда крейсером «Куйбышев», в сопровождении эсминцев «Блестящий» и «Бывалый», должен был отправиться дальше, министра обороны провожали: главнокомандующий войсками Варшавского договора Маршал Советского Союза Конев, заместители министра иностранных дел Фирюбин и Патоличев, главком ВМФ адмирал Горшков, начальник Главного политического управления Советской Армии и Флота Желтов, главком ПВО маршал Бирюзов, заместители начальника Генерального штаба Маландин и Малинин, генералы Герасимов, Гусев, Троценко, начальник Главного разведывательного управления. В поездке министра Обороны сопровождала небольшая группа военных и сотрудников Министерства иностранных дел. Никого чужого полководец с собой не взял. Как водится, перед самым вылетом военные подняли рюмку за своего министра.
— Дай Бог вам удачи, Георгий Константинович! — проговорил Конев. — Задайте им перцу!
— Дадим, дадим! И вы тут не расхолаживайтесь, посматривайте по сторонам, правительство не очень-то крепко стоит на ногах, — отозвался Жуков. — Ежели что, немедленно информируйте.
Об этом «ежели что» Конев в тот же день донес Хрущеву.
В Севастополе Маршал Советского Союза устроил смотр кораблям Черноморского флота. Толпы людей собрались на площади Нахимова посмотреть на маршала Победы и выразить ему свою любовь.
— Уплыл! — доложил Хрущеву украинский секретарь Подгорный. — В Севастополе тихо.
Подгорный до последнего находился подле маршала.
Хрущев дал на борт крейсера приветственную телеграмму, пожелал маршалу Жукову плодотворной работы на благо великой Советской Родины, вспомнил о роли маршала в победе над Германией, желал побед в социалистическом строительстве на Балканах.
Жуков ответил предельно просто: «Служу Советскому Союзу!»
7 октября, понедельник
Последствия радиоактивного выброса близ города Озерска были трагическими. Попав в воду, радиация разносилась по Челябинской области на сотни километров. Радиоактивный фон на берегах реки Теши привысился многократно. От радиационного облучения стали умирать люди. За первую неделю погибли двести человек. На предотвращение аварии бросили все силы Министерства среднего машиностроения, подключили военнослужащих. Не хватало врачей, медперсонал командировали в зону катастрофы отовсюду. Общее число пострадавших сложно было оценить, но стало очевидно, что цифра эта перевалит за сотни тысяч. Вернувшись из Челябинска, Брежнев как есть обрисовал Хрущеву трагизм ситуации. Поломку устранили, но уж слишком много смертоносного вещества вырвалось наружу.
— Почему случилась авария?
— Халатность, — ответил Брежнев.
— Кто виноват?
Леонид Ильич пожал плечами:
— Не уследили.
— Что за объяснение! Вы там прохлаждались! Кто персонально виноват, спрашиваю?!
— Этого сказать не могу, но могу сказать, что сделано комиссией для предотвращения подобного в дальнейшем! — повысил голос Брежнев.
Кыштымская катастрофа подтвердила, что ядерщики находятся в зоне особого риска, что грань между жизнью и смертью здесь невидима, а вероятность гибели велика. Надо быть предельно осмотрительным, строго соблюдать инструкции, но и в этом случае исключить возможность аварии не получалось — от одного неверного движения зависела жизнь тысяч людей.
Постановлением Совета министров при Министерстве здравоохранения было создано Третье Главное управление, медицинская служба, которой надлежало заниматься профилактикой и лечением заболеваний в системе Министерства среднего машиностроения. Вновь созданный Главк с ходу приступил к работе. Бесчисленное количество людей, в основном гражданское население, были заражены. Последствия испытаний и ядерные исследования неизбежно приводили к сокращению человеческих жизней, несли смерть, подвергая риску целые регионы.
Чтобы привлечь в опасную отрасль квалифицированных специалистов, надо было предлагать сверхвыгодные условия: высокие зарплаты, максимальное бытовое обустройство, хорошее жилье, питание и, безусловно, усиленную заботу о здоровье. Но глядя правде в глаза, приходилось признавать, что ядерщики умирают чаще. Даже под пристальным медицинским контролем последствия лучевой болезни неминуемо сказывались. Массовой проблемой стало нарушение деторождения — у мужчин развивалась ранняя импотенция, которая приводила к расшатыванию психики, пьянству, у женщин случалось бесплодие, и то и другое рушило семьи, тянуло за собой многочисленные пагубные последствия.
Челябинская область подверглась страшнейшему радиационному поражению. Радиация, как дождь, пролилась на землю, отравляя леса, поля, воздух. Гигантские силы были привлечены к ликвидации последствий аварии, но от бестолковости, неподготовленности к событиям такого рода многочисленные герои-работники получали несовместимые с жизнью дозы радиации, теряя силы, попадали в госпитали и больницы и уже не возвращались оттуда никогда.
До этого случая мало кого интересовал человеческий риск, отмахивались и от тотального ущерба экологии. Задача стояла предельно понятная — сделать бомбу! И делали. Рядом с урановыми заводами вымирало все.
Добыча урана, его переработка, производство плутония, систематические испытания проводятся, казалось, где-то далеко-далеко, на краю земли, немногое предавалось огласке, тем более что до 1956 года на подобных работах широко использовался труд заключенных, ведь за их судьбы мало кто беспокоился.
Брежнев первым заговорил об опасности в атомном производстве, настоял взять работы под пристальный контроль, ведь работы эти зачастую шли либо аврально, либо тупо «по накатанному», где о защите здоровья мало кто беспокоился. Он потребовал соблюдения на предприятиях элементарных норм безопасности, предложил проводить инструктаж персонала; на основе ежегодных диспансеризаций предлагал ввести регулярные медицинские осмотры.
О попустительстве в ведении подобных работ, о достижении цели в кратчайшие сроки и любой ценой говорили и раньше, жаловались наверх, но наверху должным образом не реагировали, просили перетерпеть, обещали в ближайшем будущем навести порядок, но практически ничего не менялось. Неиссякаемым потоком шли на спецпредприятия деньги, шли люди…
С подачи Леонида Ильича дело сдвинулось с мертвой точки. Именно под его нажимом скорыми темпами формировали в Минздраве Третий главк, который, может быть, хоть как-то защитит работающих в рисковых зонах.
Смерть поражала не только в закрытых цехах, она дотянулась до соседских деревушек, городков, городов. Леонид Ильич провел в Челябинске пять дней. Многочасовые совещания в Озерске не прошли даром, Брежнев и другие члены правительственной комиссии хлебнули радиации через край. Но разве думали тогда об этом? Не думали, не до себя было. Долго еще будет аукаться эта черная авария, долго еще будут плакать осиротевшие жены, но работы нельзя останавливать, работы надо гнать вперед!
Первухина отстранили от должности, обязанности министра среднего машиностроения возложили на Славского, на него и обрушился гнев Хрущева. Прокурору Руденко было приказано проводить скрупулезное расследование.
— После драки кулаками не машут, — угрюмо заметил Брежнев.
— Прокурор разберется! — злился Хрущев.
— В цехах идет дезактивация. Переработка урана приостановлена. Надо убедиться, что и на соседних заводах оборудование технически исправно. Проверка займет месяц, может, и два.
— Два месяца?! Ты с ума сошел!
— Без профилактических мер не обойтись, в Озерске царит паника, люди не хотят идти в зараженные помещения. Надо пожертвовать месяцем-другим, — убеждал Леонид Ильич. — И нужен новый министр, а не исполняющий обязанности.
— Кого думаешь?
— Я за Славского, хоть вы на него и ругаетесь.
— Мы со Славским в Первой конной служили, — припомнил Никита Сергеевич. — Я против него ничего не имею, но если он в халатности виноват — под суд!
— Система работ виновата, систему надо менять. Лучше Славского мы никого не найдем, он тему знает. Усмирите Руденко, Никита Сергеевич! — заступался за атомщиков Брежнев.
— Если в кратчайшие сроки производство запустит, будет министром! — пообещал Первый Секретарь. — Погоди, а Курчатов про него что скажет?
— Курчатов — за.
С мнением Брежнева Хрущев считался, Леонид ему никогда не врал, может, не разбирался в тонкостях производства бомб, зато кожей чувствовал, что к чему, с ходу улавливал суть. Проработав с оборонными отраслями год, он свободно общался со специалистами. Не у всякого такое получалось, Косыгин, например, больше дружил с цифрами, не мог заразить массы идеей, вдохновить, повести за собой, а Брежнев мог. Выступая руководителем правительственной комиссии, окунувшись в трагизм ситуации, даже в страшнейших условиях на месте катастрофы, Брежнев задавал оптимистический тон, хотя оптимизма в случившемся было мало. После общения с Леонидом Ильичом люди улыбались, верили в хорошее.
9 октября, среда
Вернувшись из района радиоактивного бедствия в Москву, Брежнев поспешил в Подлипки, сразу за Мытищами расположилось ракетное предприятие конструктора Сергея Павловича Королева. У Королева собрались: министр оборонной промышленности Устинов, академик Келдыш, конструктора Янгель, Челомей, Глушко и маршал артиллерии Неделин.
Пуск спутника прошел гладко, но задача изначально ставилась иная — запустить в космос не легкий, а тяжелый спутник. По параметрам, тяжелый спутник многократно превосходил первый по массе и размеру, вернее, размер его в точности соответствовал размеру атомной бомбы. Для мирового сообщества полет спутника преподносился исключительно как мирная инициатива, направленная на изучение космического пространства, но любому специалисту становилось понятно, что ракета не что иное, как способ доставки ядерного оружия, а размер спутника соответствует объему атомного заряда. Чтобы не осрамиться, ведь риск неудачи в запуске первого летательного аппарата в космос был огромен, Хрущев принял решение запускать сначала совсем небольшое устройство, но обязательно передающее радиосигнал, а уже второй очередью поднять тяжелый военный спутник. Сразу после первого пуска Королев доложил, что ракетоноситель к запуску тяжелого спутника готов. Но тут Хрущев усложнил задачу: потребовал вернуть спутник обратно, то есть отделяемую часть космического аппарата с орбиты Земли как-то подцепить и возвратить на Землю. Умы конструкторов давно ломали над этим голову. На совещании как раз обсуждали вероятность такой возможности. Королев предложил несколько технических решений, в том числе предлагал снабдить его собственными двигателями, академик Келдыш высказал свои соображения. Конструктора Янгель и Челомей также поделились идеями. После совещания стало понятно, что возвращение на Землю спутника возможно, однако требует серьезной технической проработки и неизвестно сколько времени. Ученым поручено было поспешить, перевес СССР в космосе требовалось максимально наращивать.
— Месяца на подготовку хватит? — спросил Брежнев.
— Вы что, издеваетесь?! — затряс руками Королев.
— А сколько надо? Никита Сергеевич ждать не любит!
— Любит, не любит, а время уйдет! Мы что, паровозики пускаем?
— Да успокойтесь, Сергей Павлович, я же спрашиваю
— Как будем готовы, так скажем.
Позже Хрущев дал указание: не мешкая, поднять на орбиту тяжелый спутник, пусть без посадки, но чтобы мир знал, что новый советский спутник в несколько раз превосходит по массе первый.
— И еще. Никита Сергеевич хочет послать в космос живое существо, — добавил Леонид Ильич.
Запуск в космос живого существа, а в итоге — человека, был коньком космической программы, такое событие стало бы эпохальным, а в условиях непримиримого соперничества между СССР и США эта задача приобретала особый смысл.
— Погрузим в аппарат собаку и запустим! — за Королева ответил Устинов. — С собаками ученые давно работают.
— Куда же она полетит, раз спутник не сядет? — изумился Брежнев.
— Без посадки полетит, навсегда, — пожал плечами Неделин.
15 октября, вторник
Советские газеты с восторгом освещали пребывание члена Президиума Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, министра обороны Георгия Константиновича Жукова в Югославии.
«Трудящиеся дружественной страны приветствуют Маршала Победы!» — писала «Правда».
«Советского полководца Белград встретил салютом!» — читали в «Известиях».
На центральных полосах газет пестрели жизнерадостные фотографии Жукова с Иосипом Броз Тито, с жителями югославской столицы, душевные снимки с ветеранами войны, со студентами, школьниками, врачами.
В шифротелеграмме на имя Хрущева Жуков говорил о непростых переговорах, о невиданной роскоши, в которой живет президент Югославии, удивлялся, как с такими настроениями можно называть себя социалистом? Сообщил, что переговоры трудные, допускал вероятность контактов Тито с американцами. В Белграде Жуков дал интервью, аккредитованным в югославской столице иностранным корреспондентам. Отвечая на многочисленные вопросы, маршал заговорил о Турции, которая все еще угрожала Сирии, пообещал, что СССР будет защищать Сирию всеми доступными средствами, упомянул, что советские баллистические ракеты могут достичь любой точки земного шара. Эти заявления министра обороны вызывали ответную реакцию Соединенных Штатов. Госсекретарь Даллес предостерег Советский Союз от военных действий, а в случае конфликта не исключал возможности третьей мировой войны. Но Жуков не намерен был делать реверансы, после заявления Даллеса он резко ответил: «Не отстанете от Сирии — будем стрелять!»
Заявления советского министра казались чересчур жесткими, особенно здесь, в Югославии. По Ялтинским договоренностям Югославия не попала в зону советского влияния, однако и в Белграде СССР намеревался претендовать на главенствующую роль.
Читая интервью военного министра, Хрущев ругался, тряс бумагами перед Микояном:
— Как может Жуков выступать от имени СССР, кто дал ему такое право?!
Особенно задела Никиту Сергеевича телеграмма, полученная от Жукова 12 октября:
«На обеде у государственного секретаря по делам народной обороны Югославии мною и им были произнесены речи. Все югославские газеты полностью опубликовали тексты этих речей. Наша же “Правда” ограничилась лишь оговоркой, что министр обороны Жуков и госсекретарь Югославии Гошняк обменялись речами. Я считаю, что такое отношение советской печати к моему пребыванию в Югославии может быть неблагоприятно расценено югославскими руководящими товарищами и общественностью».
— Подумаешь, фон-барон! — завелся Хрущев.
— За ним военные! — предостерег Микоян.
Они долго советовались, как отвечать Жукову. В результате родился следующий текст:
«В настоящее время за границей находятся две советских делегации: делегация Верховного Совета СССР в Китайской Народной Республике и военная делегация во главе с вами — в Югославии. При решении вопросов, связанных с порядком опубликования в советской печати материалов об этих двух делегациях, мы исходили из того, что нецелесообразно выдвигать на первый план материалы, связанные с пребыванием советской военной делегации в Югославии. Это могло бы быть превратно истолковано мировой общественностью, а с другой стороны, могло быть и неправильно воспринято в Китайской Народной Республике. Мы хотели бы, чтобы вы с пониманием отнеслись к изложенным соображениям.
Что касается вашего предложения о том, чтобы до отъезда вашей делегации из Белграда осветить итоги ее пребывания в Югославии, то мы с этим согласны и об этом уже даны соответствующие указания».
18 октября, пятница
Из институтской библиотеки Юрий поспешил на Белорусский вокзал, купил билет на усовскую электричку и поехал в Барвиху. Неподъемные килограммы книг — учебников, справочников, рефератов, без которых невозможно обучение в аспирантуре, выданные в библиотеке, пришлось тащить с собой. Еще Юрий нес пакет с бутылкой виски, «позаимствованной» у отца.
С этого года Брежнев-младший приступил к написанию кандидатской диссертации, но в данный момент заниматься науками не хотелось, на улице еще стояли прекрасные солнечные деньки, в такие деньки хотелось бродить по городу, балагурить с друзьями, целовать жарких подруг — но никак не вникать в металлургические страсти! Погружение во мрак химико-математических познаний не прельщало, и если бы не нудный завкафедрой, грозивший нажаловаться отцу, Юрий вообще забил бы на учебу, но профессор требовал явки, проверял явку, давал задания, спрашивал их, словом — мучил. Из-за больших оттопыренных ушей и чересчур вытянутого носа на худой физиономии Брежнев-младший прозвал Григория Иннокентьевича «Буратино».
— Разрешите в пятницу не приходить, мне надо домашние дела доделать, мы переезжаем, — соврал аспирант при разговоре с научным руководителем.
— Исключено! — прогундосил Буратино, но отгул все-таки дал.
Как раз в пятницу и условились гульнуть. Собирались на служебной отцовской даче Славы Смиртюкова. Его родители не признавали дачу, и Барвиха была целиком в распоряжении сына. У гостеприимного Славика собирались регулярно, и в этот раз думали пожарить шашлыки, попить вино, поплясать.
— Чертов Буратино! — ворчал Юрий. — С понедельника придется поселиться на кафедре!
Учился Брежнев всегда хорошо, в школе — отличник и в институте первый, но везде его подводила дисциплина: мог пропустить занятие, нагрубить.
Станция «Барвиха», впрочем, как и все вокруг, утопала в зелени. Слава встретил приятеля на железнодорожной платформе, помог нести сумки. Товарищи не спеша шли через лес к дачному поселку.
— Кирпичи несешь?
— Наука! — объяснил Юрий. — Сажусь «диссер» писать!
— Будешь умный, в очках.
— Почему в очках?
— В очках рожа смышленая.
— А так? — Юрий зверски оскалился.
— А так — балбес балбесом! — определил Славик.
Сам он учился на врача в Первом меде.
— Жаль, что тебе надо в институт. У меня предки в отпуск укатили, флет две недели свободен!
— Если не приду в институт, Буратино меня загрызет!
— А я кайфану! — мечтательно протянул Слава.
Приятели шли по деревенской улице с хилыми домишками, вдруг из подворотни выскочили два кудлатых пса. Один хрипло залаял.
— Е…ть-копать! — останавливаясь, вымолвил Слава. — Могут цапнуть!
— Херня! — отозвался Юра. — Собаки так устроены, что силу чувствуют, понимают, боятся их или нет. Ты вот зассал, и они сразу осмелели, чуйка!
Коричневый пес, рослый, с крупную лайку, но беспородный, истошно лаял, лязгая зубами, второй стоял сзади и гулко подвывал, из-за проломанного забора к ним присоединилась мелкорослая дворняга и тоже гавкнула. Слава побледнел.
— Сейчас как е…у! — гаркнул Юра, потрясая пакетами с тяжелыми учебниками. Первая и самая наглая собака попятилась. — Слав, чего встал, пошли!
Они двинулись вперед.
— У человека от страха что-то там выделяется, фермент страха что ли, звери сразу его улавливают, — разъяснял Юрий. — А если не боишься, то нет никакой опасности, тогда собакам страшно.
— Ну, на х…, страшно, не страшно! — вымолвил Слава. — Лишь бы не покусали, а то сорок уколов в живот делать!
— Я, как на собаку натыкаюсь, представляю, что схвачу ее и разорву! Прямо воображаю, как буду рвать на части. Ярость во мне закипает! Псы со мной не связываются.
Юрий смело шагнул вперед. Самый настырный коричневый кобель отскочил, другая псина, та, что стояла рядом и рычала, попятилась, и даже последняя, хилая коротконожка, что, завалившись на бок, чесала задней лапой ухо, недовольно повизгивая, отскочила в сторону.
— Идем! — поманил друга Юра и грозно взглянул в сторону собак, заходившихся истерическим лаем. — Никогда не показывай, что боишься!
Налаявшись, собаки пролезли в дыру в заборе и скрылись из вида.
— Без пятнадцати двенадцать, — посмотрев на часы, отметил Славик. — Скоро Антон с девчатами приедет. На отцовой машине их привезет, сам за рулем.
— Он водить-то может?
— С десятого класса рулит, его предки тоже на юге.
— С кем едет?
— С Иркой Брусницыной, Катей Судец и Тоней.
— Что за Тоня?
— Иркина подруга, с ней учится.
— Не знаю.
— Ничего, прикольная!
— А Белка будет?
— Ее мать не пустила.
— Жаль! — протянул Юрий, ему нравилась Люда, да только почему-то никак не могли они по-настоящему задружить.
— Девки на ночь останутся.
— Замечательно!
— Запомни, Катька моя! — предупредил Слава.
— Да знаю!
Друзья подошли к воротам дачного поселка. Вахтер с длинной бородой, похожий на Льва Толстого, поспешил отпереть калитку.
— Здрасьте, дядя Сеня!
— Здрасьте, здрасьте! — узнав сына замуправделами, закивал пожилой вахтер, нелепо приложив ладонь к козырьку фуражку. — Пожалуйте!
Изъяснялся он патриархально, как при царском режиме. Проходя в калитку, Юра громыхнул бутылкой, но дед был глуховат.
— Заниматься будете? — поинтересовался он.
— Заниматься, заниматься! — убедительно ответил Слава. — К нам еще студенты на машине подъедут, на белой «Победе», вы их пропустите.
— А как же! — снова козырнул стражник.
— Погодка сегодня на удивление, теплынь! — топая к дому, улыбался Слава.
— Погодка что надо, а нам водку пить! — вздохнул Брежнев-младший.
— Не водку, а виски, или ты про виски шутил?
— Ничего не шутил!
— Антоха чувихам шампанского взял.
— По Белке скучаю! — грустно вымолвил Брежнев.
— Женись! — отозвался Слава.
— Она меня не любит!
— Плохо стараешься!
— Никак не стараюсь, не видимся.
— Хочешь, анекдот расскажу?
— Валяй.
Славик поставил сумку с книгами на землю, и, разминая красные от непомерной тяжести ладони, встал перед товарищем.
— Твои книги мне все руки оборвали.
— Физподготовка!
— Уж точно. Ну, слушай. Одного парня ограбили, — начал Слава. — Пришел он в милицию, а заикается — сил нет! Следователь говорит: «Рассказывай, как дело было!» «Н-н-ну, я у-у-утром встал, в-в-з-здрочнул, — начал парень. — П-п-пошел умываться. У-у-умылся, в-в-з-здрочнул. Потом стал я-яичницу ж-ж-жарить, п-пожарил, в-в-вздрочнул! Съел, посуду п-помыл — в-в-вздрочнул. Т-тут ч-чай п-подоспел, я чай п-попил, и опять в-в-з-здрочнул. Я, как чай п-пью, всегда в-в-вздрочиваю. Т-т-ут в дверь звонят. Я п-пошел открывать, открыл, а д-дальше не помню, в-в-з-здрочнул или нет!»
21 октября, понедельник
Еще с пятницы на Старой площади началось непонятное движение. Приезжали и уезжали военные, приходили Генеральный прокурор и Верховный судья, к Первому Секретарю были вызваны министры внутренних дел и связи, периодически появлялось руководство Комитета государственной безопасности, а его председатель Серов вообще никуда не уезжал, обосновавшись в кабинете одного из хрущевских помощников. Всегда располагающий и доброжелательный Брежнев ходил по коридорам взвинченный. Микоян, Фурцева, Суслов, Аристов, Козлов, вместе и по отдельности заходили к Хрущеву. Комсомольский секретарь Шелепин, приехавший с докладом по целине, не был принят.
Сегодня хождения продолжились с удвоенной силой. Два раза в хрущевский кабинет являлся главнокомандующий сухопутными войсками Малиновский, приезжал командующий Московским военным округом Москаленко, приходили маршалы Советского Союза Еременко и Конев. В сопровождении Микояна прибыли Косыгин и Громыко. Из Грузии был вызван Мжаванадзе, из Белоруссии — Мазуров. Хождения прекратились к трем часам дня, а в пять открылось экстренное совещание. Хрущев предоставил слово Микояну.
— Я хочу доложить, что за последнее время с Маршалом Советского Союза Георгием Константиновичем Жуковым произошли кардинальные негативные перемены. Это подметили многие здесь присутствующие. Центральный Комитет Коммунистической партии и Совет министров находят поведение товарища Жукова недопустимым и вредным, — проговорил Анастас Иванович. — В поведении товарища Жукова снова, как много лет назад, проявляются бонапартистские замашки. Он ведет себя безапелляционно, с подчиненными не сдержан, груб с руководителями республик, министерств и ведомств, игнорирует установки ЦК и решения правительства, последнее время не стесняется присылать в ЦК и Совет министров заготовленные им тексты постановлений.
— Он уже никого из маршалов не слушает! — с места дополнил Конев.
— Именно! — кивнул Микоян. — Последние несколько месяцев Жуков действует по собственному усмотрению, что часто не соотносится с линией партии.
Народу в кабинете Первого Секретаря сидело человек тридцать, было даже несколько тесновато. Каждый, кто здесь оказался, безоговорочно стоял за Хрущева, однако лица у многих были совершенно растеряны — ведь маршал Жуков имел бесспорный авторитет и в армии, и в народе.
— Президиум ЦК всерьез взялся за перестройку партии, — перебил Микояна Хрущев. — Мы вычищаем накипь, всю скопившуюся слизь, за сталинское правление гадости скопилось немало. И Вооруженные Силы не исключение. Недавно из Президиума ЦК вышибли раскольников: Молотова, Маленкова и Кагановича. Вышли решения о возвращении городам исторических названий, была упразднена многочисленная личная охрана, ЦК провел у руководящего звена сокращение льгот, можно сказать, сам себе блага урезал! Делается все, чтобы выправить положение после сталинского произвола, очистить партию от пагубного синдрома величия и вседозволенности. Своим одиозным поведением товарищ Жуков не вписывается в новую систему государственности. Жуков все делает по-своему, а ответственность лежит на нас, на ЦК. У Георгия такое случалось и раньше, вы это отлично знаете. Вот сидят героические маршалы Конев и Еременко, они меня поправят, если я не так говорю!
— Вы верно говорите! — отозвался Конев.
— Вспомним войну: и там Жукова, мягко говоря, несло. Ценой неимоверных потерь водрузили знамя над Рейхстагом. Почему потери такие колоссальные случились? Потому, что Жукову надо было самому взять Берлин, не отдать Берлин ни Рокоссовскому, ни Коневу! За два-три дня при штурме погибло сто тысяч солдат! Сто тысяч, товарищи, вдумайтесь в эту цифру! Потери Жукова никогда не смущали, он, не задумываясь, ставил на карту человеческие души, а все для того, чтобы отрапортовать Сталину, какой он молодец! Взять-то он Берлин взял, а какой ценой?!
— Немцы бы и так сдались, они были обречены, — высказался Еременко.
— Жуков ждать не хотел, хотел быть первым, — дополнил Конев.
— Тогда не желал головой думать, беречь солдат и сегодня не изменился, — резко взмахнув рукой, заявил Хрущев. — Мы не хотим судить Жукова, то будет неправильно, хотим лишь навести элементарный порядок в армии, социалистический порядок!
— У нас не министр обороны руководитель государства, а Центральный Комитет! — слово в слово за Хрущевым повторил Микоян. — Возмущает жуковская одиозность, приезжают к нему делегации других государств, так им преподносится, что именно Жуков, а не советский народ, выиграл войну!
— Жуковский героизм раздут! — сухо проговорил Суслов.
— Возмутительно, товарищи! В армии родился культ Жукова! — истерил Никита Сергеевич.
— У меня с Жуковым был конфликт по космосу. Он тормозил развитие ракетостроения, — вставил Брежнев.
— И это тоже! — тряс головой Первый Секретарь.
— Если можно, Никита Сергеевич, хочу вас дополнить, — снова заговорил Брежнев. — Товарищ Жуков чуть не сорвал уборочную, отказался дать для сбора урожая автотранспорт и военнослужащих, мотивируя тем, что для армии грузовиков не хватает. А кушать, я извиняюсь? Армия каждый день кушает, три раза на день! А откуда все берется? Колхозы дают, а это министра обороны не интересует!
— У нас должна быть взаимовыручка, социалистическое единство, а не ведомственное чванство, где своя рубаха ближе к телу! Правильно Леонид Ильич подметил, — одобрил Хрущев. — По вседозволенности и недальновидности Жукова далеко ходить не надо. Вспомним учения на Тоцком полигоне, когда по его приказу произвели реальный атомный взрыв. Жуков бросил в атаку через эпицентр сорок тысяч солдат, три четверти умерли от непереносимых доз радиации. Мы с Булганиным тогда говорили, просто кричали — не надо спешить! Маршал Неделин может подтвердить! — Первый Секретарь ткнул в сторону маршала Неделина.
— Да, было такое!
— Не послушал Жуков!
— За такое судить надо! — яростно выпалил Суслов.
— Мы не хотим расправы, Михаил Андреевич! В борьбе с фашистами у Жукова были и положительные моменты, даже подвиги были, но та жестокость, с которой Жуков выполнял поставленные Ставкой Верховного главнокомандования задачи, потрясают!
— Он захотел от партийных органов в армии отделаться, политруков в войсках ликвидировать! — снова выступил Брежнев.
Хрущев посмотрел на Фурцеву. Екатерина Алексеевна, как школьница, подняла руку, и когда Никита Сергеевич кивнул, сказала:
— Не может такой человек руководить Вооруженными Силами!
— Это партийный разговор, партийный подход! — одобрил Хрущев.
— Несколько раз мы пытались говорить с Жуковым, делали ему замечания, но безрезультатно, — снова вступил Микоян. — Такое положение терпеть непозволительно! Только что, было высказано предложение: освободить товарища Жукова от занимаемой должности и отправить на заслуженный отдых.
— Пусть товарищ Жуков отдыхает, он отдых заслужил! — заговорил Никита Сергеевич. — Мы пригласили вас, товарищи, чтобы без задней мысли обсудить этот непростой вопрос, потому как без участия армии решать его нельзя. Вы наверняка знаете вздорный характер Жукова, а министр обороны не должен быть таковым. Что ж это, в самом деле? — У министра нет человеческих отношений с заместителями, с командующими округами?! — повысил голос Первый Секретарь.
— Кое с кем есть, — заметил Москаленко.
— Но далеко не со всеми, — вставил Малиновский.
— Да, далеко не со всеми. Со многими уважаемыми маршалами, героями войны, у него полный разлад! — высказался маршал авиации Судец.
— Жуков бывает недопустимо резок, — добавил Баграмян.
— Он бывает до отвращения груб не только с офицерами и генералами, но даже с главкомами Вооруженных Сил! — воскликнул Малиновский. — Спросите адмирала Горшкова!
— Жуков ставит себя выше всех! — выдал маршал Конев.
— И мы так думаем, Иван Степанович! — поддержал Хрущев.
— Друзей у маршала нет, — продолжал Конев. — Своего ближайшего товарища, Рокоссовского, он до сих пор держал в неведении, не давал конкретной работы, а перед отъездом услал командующим в отдаленный военный округ. В министерстве полгода Рокоссовский приходил в пустой кабинет, ничем не занимался, а назывался заместителем министра обороны!
— У Жукова нет этики, всех без исключения он тыкает, мат-перемат, совершенно распоясался! — высказался Еременко.
— И совершенно безграмотный, кончил два класса! — едко вставил Суслов.
— Не прекращается рукоприкладство, подчиненного легко может ударить, — дополнил маршал Малиновский. — Я сам, будь похилей, получал бы, а я — первый заместитель министра!
— Для коммуниста это вещи недопустимые! — изрек Хрущев. — Еще при Сталине его вождизм углядели, он тогда каялся на Президиуме и у военных извинения просил, а как видно, выводов не сделал! Думаю, надо поддержать поступившее от товарища Фурцевой предложение и отправить товарища Жукова отдыхать. Поддерживаете?
— Надо освобождать, другого выхода нет! — проговорил Микоян.
— Я — за! — отозвался Малиновский.
Конев, Еременко, Москаленко, Судец, Бирюзов, Баграмян, Горшков, Гречко, Батицкий, Неделин и другие военачальники в знак согласия закивали.
— Никогда не сомневался в военных! — обрадованно проговорил Хрущев.
— Надо перед командным составом выступить, разъяснить, — сказал Микоян.
— По полочкам разложить! — поддакнул недавно назначенный на пост председателя Совета министров Российской Федерации Фрол Романович Козлов.
— Перед комсоставом вам, Никита Сергеевич, надо выступить! — высказался Малиновский. — Только вы сможете предельно ясно суть донести. Ведь найдутся твердолобые, кто за Жукова встанет!
— Начальник Политуправления Желтов за него, кадровик Кузнецов такой же, — перечислял Конев. — Маршал Соколовский, начальник Генштаба, в рот Жукову смотрит, именно поэтому его сейчас с нами нет.
— Здесь надо как-то деликатно, нельзя сразу по носу бить, — предостерег Микоян, — может волна пойти!
— Только вы, Никита Сергеевич, растолковать истину сможете, — поддержал Малиновского Суслов.
— Вас армия послушает! — закивал маршал Судец.
— Откладывать не будем. Собирайте совещание партийного актива и центральных управлений Министерства обороны! — глядя на Малиновского, приказал Хрущев.
— Будет правильным провести собрания в военных округах, на флотах и в группах войск, — подсказал Микоян. — Следует всех охватить.
— Верно, Анастас Иванович, очень верно! И надо, чтобы на этих собраниях выступили члены Президиума ЦК, чтобы авторитетно получилось.
— Собрания должны подготовить военных к отставке Жукова, особенно комсостав надо к пониманию такого решения подвести, — продолжал Микоян.
— Не только высший состав, надо до каждого солдата довести! Я думаю, и сам Жуков с нами бы согласился. После собраний проведем внеочередной Пленум ЦК, закрепим решение, — подвел черту Хрущев.
Закончили на боевой ноте, но в глубине души предстоящие действия пугали: как собрания проводить, если значительная часть генералов сочувствовала Георгию Константиновичу, уважала его? Сможет ли Хрущев произвести впечатление? Перспектива была пугающей.
Вернувшись домой, Никита Сергеевич пошел в баню, как следует напарился, выпил двести грамм водки, настоянной на тархуне, и завалился в постель.
Очередной остановкой министра обороны была Албания. В Тиране Жукова ожидал коммунист-сталинист Энвер Ходжа.
С товарищем Энвером, не в пример своевольному Тито, общение шло гладко, Жуков и Ходжа друг другу симпатизировали. Албанский лидер откровенно высмеивал Хрущева и удивлялся — как смог он занять в Советском Союзе столь высокий пост? После обеда, который дали по случаю пребывания Жукова, глава Албании поделился с маршалом конфиденциальной информацией о том, что посол Советского Союза передал руководству Албании пожелание Президиума Центрального Комитета не награждать прибывающих с визитом советских военных орденами республики. Жуков позеленел:
— Да как так?! Кто такой Хрущев?! Кем он был в войну?!
Узнав про позицию хрущевского Президиума, маршал места себе не находил.
— Приеду — всех разгоню! — шипел Георгий Константинович. Но высшим орденом Албанской республики, невзирая на настойчивые советы, его наградили.
22 октября, вторник
Совещание комсостава Министерства обороны открылось в Колонном зале Дома Союзов в 11 часов. Темой совещания значилось: «Улучшение партийно-политической работы в Советской Армии и Военно-Морском Флоте». В Москву в срочном порядке были вызваны начальники всех Военных округов, штабов, командующие флотами, ответственные политработники. На совещании присутствовали члены Президиума ЦК. Вел совещание первый заместитель министра обороны, главнокомандующий сухопутными войсками, Маршал Советского Союза Малиновский. С докладом на трибуну вышел Хрущев.
— Тема, товарищи, нас собрала ответственная, — начал он. — Мы среди членов Президиума условились выступить на таком авторитетном собрании, и жребий пал на меня.
Оратора перебили аплодисменты.
— В этом зале мы провели много совещаний, собраний, здесь были и колхозники, и учителя, и ученые, но с представителями армии встречаемся в первый раз. Я думаю, что это плохо, думаю, мы должны на будущее это решительно поправить!
Снова гремели аплодисменты.
— Надвигается большой праздник — 40-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической революции, а об этом в армии почему-то ни слова. Вдумайтесь в цифру: 40 лет Советской власти! 40 лет как наша партия стоит во главе народа и руководит всем. Если сравнить, чем Россия была раньше и чем стала теперь — тут огромная разница, потрясающая разница! А все это всего за сорок лет.
И опять зал огласили аплодисменты.
— В любом направлении есть у нас успехи, а ведь мы, товарищи, буквально от сохи начали! Ленин — великий гений, о ста тысячах тракторов говорил, как о мечте. А теперь это не мечта. Мы захотели помочь Болгарии, и десятки тысяч тракторов туда дали, и еще десятки тысяч автомобилей, и это никак на нас не отразилось. Вот мощь какая! А кадры в промышленности? А кадры военные? А наука?
Вчера мы слушали конструкторов, работающих над вооружениями. Нет слов, чтобы выразить чувства признательности партии за то, что она вырастила таких прекрасных конструкторов, которые дают армии лучшие образцы военной техники, такой техники нет даже у американцев!
Военные хлопали.
— Когда мы пустили баллистическую ракету, мы сделали официальное сообщение, это вызвало, знаете ли, состояние какого-то шока для империалистического мира. А недавно мы запустили спутник, он сейчас над нами крутится и крутит воспаленные умы наших врагов! Все это сделано рабочим классом, трудовым крестьянством, сделано нашей интеллигенцией, вышедшей из рядов рабочего класса, это сделано нашими учеными! Разве это не мудрость, не смелость, не сплоченность народа и партии?
Зал не смолкал, участники совещания ликовали.
— Вернемся к решениям ХХ Съезда. Мы подвели итоги, наметили перспективы, мы вскрыли недостатки, и так вскрыли, что даже наши друзья стали говорить: не хватили ли мы через край? Нет, товарищи, мы не хватили через край, потому что иначе должны были исходить из прежних положений, из прежнего порядка, а народ уже этот порядок отторг, ни народ его больше не выносил, ни совесть человеческая!
Мы раскритиковали культ личности Сталина, и это правильно, это остается в силе и сегодня. Но то, что сделала партия, когда ее возглавлял Сталин, когда мы работали под руководством Сталина, — мы никогда этих завоеваний не отдадим и будем бороться за них, как за свое достояние.
И тут были хлопки одобрения.
— Все вы знаете, что произошло на последнем Пленуме ЦК. Шутка ли сказать, большинство в Президиуме заняло антипартийные позиции! Пленум собрался и всю ложную арифметику опрокинул. Произошло очищение, как в природе. Вот и в армии, мы считаем, идет неправильное воспитание, неправильное руководство. Товарищи скажут — а почему только сейчас это обнаружилось? И правильно скажут. Вы знаете, что по капельке собирается ручеек, из ручейков собирается поток, а из потока образуется море. Так и в этом деле. Было по капельке, все шло по капельке, друг на друга осматривались, удивлялись, давали замечания, но, как говорится, делали по Крылову: а Васька слушает, да ест! Вот и приходится в это дело вмешаться, как это всегда делал Центральный Комитет.
Товарищи! Мы провели войну, тяжелую войну, народ вынес на плечах эту войну. Начинали мы ее слабыми, потому что кадры, воспитанные в Красной Армии были истреблены, и военные, которые командовали фронтами и армиями, были неподготовленными. Многие из командиров в лучшем случае смогли командовать дивизией, а им давали армию, фронт. Командиры храбро сражались и многие погибли. А вы знаете, что в любом деле нужны знания. И не только знания, нужно еще и опыт приобрести. Армия терпела поражения, отходила, перестраивалась, закалялась и, в конце концов, остановила врага и перешла в наступление! Сталин, я считаю его умнейшим человеком, в результате своей старости и других качеств возомнил о себе и потянул не в ту сторону.
Вы знаете, что когда армия отступала, Сталин, как главнокомандующий, никогда не подписывал документов, все распоряжения исходили от Генерального штаба, а когда дело пошло к победе, только он и писал, и уже как Верховный главнокомандующий, как маршал, как генералиссимус, и всякое такое прочее. Напялил маршальский китель… я говорю «напялил», потому что когда военный надевает такой китель, его это украшает, но когда человек, которому по положению присвоено такое звание, надевает — это смешно, да, смешно! Это мое мнение. Тут и перехвалили Сталина, повсюду его хвалили, восторгались, фильмов кучу наснимали: «Битва под Сталинградом», «Падение Берлина», разных других. Все их смотрели. В «Падении Берлина» уже никого, кроме Сталина, не показывали, один он герой, рядом пустые стулья. Разве ж такое нормально? Это возмущало, потому что извращало историю. Такие фильмы дурно воспитывают народ. Подобная ситуация сложилась в печатных изданиях, особо в книгах по истории Отечественной войны, будто бы один Сталин стратег и победитель. Мы это тоже под свой пристальный контроль взяли, нельзя говорить о ком-то одном, забывая других людей, которые, не щадя себя, сражались против врага. Я тут еще на одно обстоятельство внимание хочу обратить, объяснить, почему ЦК написание истории войны взял под себя. А потому что один культ, о котором я только что сказал, сменил другой. То есть, если был у нас культ Петра и мы его отвергли, то взамен появился культ Ивана. А чем один культ лучше другого? Ничем не лучше. Вы меня, товарищи, поймете!
Я опять возвращусь к кино. Сам я не видел картины «Сталинградская битва», но знаю, что она начинается так: «Операцию Сталинградской битвы разработали маршал Жуков и маршал Василевский», и затем в картине идут факты, подтверждающие это. А присутствующие здесь что, в это время в кости играли? — уставился на военных Хрущев. — Это чепуха! Я это заявляю прямо, так как был там членом Военного Совета! Мы с Еременко написали тогда Сталину и изложили свою точку зрения. Я не хочу сказать, что мы с Еременко были самыми умными, я знаю, что и Рокоссовский Сталину писал, и покойный Ватутин, он командовал Воронежским фронтом, и маршал Малиновский к нему обращался. И это естественно, они же военные, а не олухи царя небесного! Я убежден, что есть достаточное количество командиров, которые знают это время и мои слова подтвердят. Так зачем снова изображать одного героя, выпячивать его? По взятию Берлина могу сказать — Жукова поносят. Мы Жукова уважаем и высоко ценим. Когда был жив Сталин, когда он бесновался против Жукова, то я всегда стоял за Георгия Константиновича. Но, товарищи, не надо злоупотреблять добрым отношением, это ненормально! Я ответственно скажу, Ставка — это в войну основной орган и Генеральный штаб, безусловно. Но все операции разрабатывались на местах, часто приходилось на месте принимать решения, а не примешь, уже будет не до Ставки и не до Генерального штаба, так как, может быть, и тебя в живых не будет! На местах кардинально знали обстановку. Нельзя командующих армиями, фронтами сводить на положение каких-то там безголосых подчиненных, это ключевые фигуры.
В зале послышались одобрительные возгласы.
— Давайте рассмотрим все операции, которые были проведены. Они проводились по планам, разработанным штабами фронтов и армий. Может, не так я говорю?
— Так!
— В Ставке, как правило, шла корректировка этих планов. Корректировка в том заключалась, что давали меньше войск, чем было затребовано, меньше давали пушек, меньше боеприпасов. Вот так выглядели корректировки. Это было закономерным. А в смысле замысла, который вкладывался в военные операции, в основе лежал замысел командующего конкретным фронтом.
— Правильно! — громче других выкрикнул главный маршал артиллерии Варенцов. Никита Сергеевич помахал ему рукой.
— Так зачем же сейчас обижать, зачем изображать так, что вы тупо сидели, а мы приехали и все увидали!
Если говорить об ошибках, то вы их знаете. В начале войны ничего не было. Танк Т-34 — хороший танк, но их были единицы. Да что там танк, обычного оружия не было. Когда ополчение в Киеве призвали, я позвонил Маленкову, говорю, людей вооружать нечем. Он ответил — чем хотите воюйте, винтовок нет — куйте пики. Винтовки только для Ленинграда и Москвы находили.
Это же издевательство, товарищи! Какое же к черту ополчение? С охотничьими ружьями люди шли и бутылками с зажигательной смесью дрались, и всякими прочими приспособлениями. Героизм был каждый день, каждый час, а винить командиров на местах и приписывать все заслуги Ставке неправильно и неприлично.
Вспомним операцию по окружению Харькова. Не буду говорить о замыслах, а буду говорить о результатах. Когда проводилась операция, выяснилось, что так, как она задумывалась, ее решить нельзя, потому что наша армия значительно продвинулась в направлении Полтавы. Противник совершенно открыл ворота, не сопротивлялся — пожалуйста, идите вперед! Фашист сосредоточил свои силы на наших крыльях. Родион Яковлевич Малиновский знает, он командовал Южным фронтом. Никто про это не говорит, а я скажу. Тогда сотни тысяч солдат погибли. Когда выяснилась обстановка, решили, чтобы немцев переиграть, прекратить наступление, вытащить танковые части, противотанковые части поставить по флангам, чтобы не дать противнику возможность замкнуть кольцо. Армия наша остановилась, ощетинилась пушками, настроение отличное — здорово вперед продвинулись! Через некоторое время заходит ко мне товарищ Баграмян и прямо плачет. Я говорю: «Что такое?» «Отменили, — отвечает, — наше распоряжение, приказали дальше наступать, а это смерти подобно. Только вы можете вмешаться. Позвоните в Москву!» Я позвонил Василевскому. Я очень уважаю Василевского. Говорю: «Александр Михайлович, вы видите, какое положение для войск создалось. Пойдите к Сталину и скажите, что катастрофа будет!» Он отвечает: «Товарищ Хрущев, я Сталину докладывал, он приказал дальше наступать».
Я знаю, что он иной раз к Сталину с глобусом приходил. Я говорю: «Вы карту возьмите, разъясните, как сложилась ситуация». «Я уже докладывал, — повторяет. — Больше не пойду!»
Это Генеральный штаб! Я позвонил Сталину на дачу. Подошел вместо Сталина Маленков. Я сказал, что хочу говорить со Сталиным, а он спрашивает, в чем дело? Я объяснил, но без толку. Сталин не подошел к телефону, а передал, что надо наступать, выполнять задачу. Через день или через 2–3 дня войска наши были окружены и погибли. Сталин, когда прочитал немецкое сообщение, а там немцы объявили, что они сотни тысяч взяли в плен, сказал, что немцы врут. Я говорю: «Товарищ Сталин, немцы правду говорят». Проглотил.
А кто должен за это отвечать? Если подобные ошибки делаются генералами, непосредственно управляющими войсками, они отвечают. Так почему не отвечают те, кто руководит? Я это к тому говорю, что, получается, самые умные в Ставке сидели!
Когда на фронт приезжали представители Ставки, то эти люди были не очень-то суть понимающие, а они управляли войсками, командующими фронтами, командующими армиями, корпусами, дивизиями. Надо правдиво историю писать, а не так, что с одним уклоном. Поддерживаете, товарищи, партийную точку зрения?
— Поддерживаем!
— Или вот картину художник нарисовал, где маршал Жуков обороной Москвы командует. Начальник политуправления Желтов приказал ее в музей Советской Армии на самое видное место повесить, объявил, что это точно икона Георгия Победоносца! Это уже трагедия, товарищи! Нельзя никому, какой бы он ни был уважаемый человек, переходить грани, категорически нельзя! А случай с картиной грань переходит.
— Был такой фильм «Волга-Волга», — продолжал Хрущев. — Там одна женщина своего директора хвалит, говорит «под вашим чутким руководством», а директор руку к уху прислоняет и переспрашивает: «Как, как?» Она еще раз повторяет. Директор не глухой был, знал, что она говорит, но ему хотелось много раз послушать «под вашим чутким руководством!», услышать что он «чуткий» и так далее, и он снова и снова глухим прикидывался, а женщина с выражением повторяла. К сожалению, у нас таких начальников хватает, и нельзя поручиться, что они скоро передохнут!
В зале произошло оживление.
— И у вас в военных академиях аналогичные явления процветают. Перед лекцией, прежде чем излагать тему, обязательно сошлются, так сказать, на изречения власть имущих. Назвать вам, кто у военных власть имущий? Сами знаете или подсказать?
В зале поднялся шум:
— Жуков, про Жукова говорит!
— И среди вас найдутся те, кто это делает, цитаты из товарища министра слушателям приводит. Правильно ли это? Правильное ли это воспитание? Неправильное! — заключил Хрущев. — Надо с этим бороться. Вот мы и собрали вас.
Тут мне прислали из зала записку с подковыркой: «Почему нет министра обороны на активе?» Автор этой записки сам газеты читает и знает, что Жуков в Албании, но такую записку прислал. Сердобольный товарищ! — покачал головой Хрущев. — Отсутствие Жукова вызвало у него беспокойство, но его не смущает, как могли быть допущены такие безобразия, о которых Центральный Комитет сейчас вам докладывает! А это, уважаемый автор, должно вас не меньше беспокоить!
— Это, наверное, Кузнецов написал, кадровик!
— Неважно сейчас, кто написал! Видно, этот писака из тех, кто подзуживает руководство Министерства обороны, доказывая бесполезность политработников. И о политработниках в войсках я вопрос подниму!
Что нужно командиру, товарищи? Командиру нужно иметь воспитанного бойца, который был бы хорошо подготовлен, умело владел оружием и слушал своего командира. Такая была задача, такая она остается и сейчас. А что нужно политработнику? То же самое: воспитать бойца, который мог хорошо владеть оружием и сознательно выполнять поставленную задачу. Это нужно и политработнику, и командиру. Есть ли здесь антагонистические отношения? Нет. Можно ли вести работу без политработника? Нельзя. Должно быть разделение труда, командир командует, а политработник разъясняет. Отсюда выходит, что должно быть содружество в работе командира с политработником. Это большое дело! Без этого невозможна наша социалистическая армия. Конечно, для парада можно выдрессировать человека. Что там человека, можно зайца выдрессировать спички зажигать! Но нам нужен сознательный боец, чтобы он знал, за что сражается, а поэтому нужно мозги бойца зарядить положительным зарядом марксистко-ленинского понимания истории и необходимости борьбы за это учение!
Зал зааплодировал.
— По последнему Пленуму ЦК все партийные комитеты написали отчеты об обсуждении его решений. Из военных округов один только округ прислал отчет. Гречко прислал. Больше из командующих никто не прислал. Потом Жуков прислал, подписался вместе с Желтовым. Можно пройти мимо этого? Пройти мимо этого нельзя, потому что Гречко, написавший отчет, получил, говоря на русском языке, разнос. Это, знаете, никуда не годится! Спрашиваю маршала Тимошенко: «Как так?» «Субординация!» — отвечает. Давайте же разберемся, что такое субординация! У нас есть Устав партии. В Уставе партии сказано, а это, между прочим, Сталин диктовал: «каждый член партии в одинаковой степени отвечает перед партией, перед Центральным Комитетом». Если какой-нибудь член партии захочет поделиться своими впечатлениями с ЦК, что же он должен об этом по команде докладывать? Некоторые молчат или мычат, некоторые говорят только по команде, другие считают — лучше помолчу, так спокойнее, и выясняется, что в войсках в ЦК идти запретили, к командиру иди! Как так?! Субординация, как изволил маршал Тимошенко выразиться! Мы, товарищи, считаем, что если кто-то написал в ЦК, его за это осуждать нельзя, он правильно пишет, по-партийному!
У Сталина рука была тяжелая, но в одном ему не откажешь, он целиком был предан делу марксизма-ленинизма! Не было другого Сталина, он только этим и жил, боролся за марксизм своими методами, другой раз извращал, люди могли дрожать перед Сталиным, но быть спокойны за партию. Мы собираем Съезды, Пленумы, оживляем партработу, развиваем партийную и общественную демократию. В чем же будет выражаться демократия, если ни один из военных коммунистов не смеет обратиться в Центральный Комитет? Это страшное дело, товарищи! Такую субординацию мы не признаем!
Опять военные волновались.
— И еще об одном хочу сказать. Вы знаете, что создан Совет Обороны. При Совете Обороны создан Главный военный совет, куда входят все члены Президиума ЦК, все командующие округами и командующие флотами. Так вот, этот военный совет ни разу не собрался, а месяца три назад товарищ Жуков внес предложение ликвидировать его за ненадобностью. Говорит: а кому он нужен? ЦК с такой постановкой вопроса не согласен!
— И мы не согласны! — крикнул кто-то из зала.
— Какому министру взбрело в голову, что Военный совет мешает?! Центральный Комитет хочет знать жизнь армии, хочет знать не через маленький канальчик, то есть через министра, а хочет и командующих послушать. Сейчас настолько разрослось армейское хозяйство, что один человек управлять и все знать не в состоянии. Чтобы сегодня все знать, надо уподобиться дураку, потому что дурак ничего не знает и счастливо живет, думая, что ему все известно!
По залу прокатился смех.
— Царь и тот имел советы, и тайные, и явные, — продолжал Хрущев. — Царь, он Богом помазан, и то признавал, что надо советоваться, нужно слушать своих генералов, адмиралов и советников. Что же это за советская демократия, которая подобное отрицает? Куда тогда идти?
Президиум ЦК вчера вопрос, поставленный Жуковым о ликвидации Военного совета, обсудил и отклонил, как говорится, в гроб положил, гвозди забил, так как его предложение не отвечает политике нашей партии, не отвечает решениям ХХ Съезда, а направлено против них. Надо открыть шлюзы, чтобы не возникало стен между военнослужащим и Центральным Комитетом!
Своим единоначалием, своей вседозволенностью товарищ Жуков и подчиненных распустил. Многие стали ему подражать, и к чему это привело? Ни к чему хорошему. Зачитаю вам одно донесение, о котором, может быть, слышали:
«В ночь на 1 января 1957 года уполномоченный Балтийской группы Управления государственной приемки кораблей Военно-морского флота, контр-адмирал Нарыков, будучи в нетрезвом состоянии и одетый в гражданский костюм, встретил у подъезда своего дома прогуливающихся с девушками матросов, стал беспричинно придираться к ним и, не называя себя, потребовал, чтобы матросы немедленно удалились. На просьбу матросов, принимавших Нарыкова за гражданское лицо, оставить их в покое, Нарыков стал натравливать на них свою собаку. В дальнейшем Нарыков, догнав уходящих матросов, потребовал, чтобы они остановились, угрожая применением оружия. Матрос Кондратьев пытался обезоружить Нарыкова, но последний выстрелил в него, нанеся тяжелое телесное повреждение. Установлено, что матросы Кондратьев и Кирпиченко вели себя спокойно и никаких грубостей не допускали».
Вот такой неприглядный случай. А все потому, что вседозволенность и хамство царят в армии. Насмотрелись командиры, так сказать, на уважаемого маршала Жукова и с него повадки списывают!
Еще о кругозоре командного состава скажу, вернее, о кругозоре высшего командного состава, что тоже иллюстрация к руководителю Министерства обороны.
Посетили мы с Жуковым Севастополь, где принимали участие в собрании моряков-черноморцев, правда, и из других флотов офицеры были. О чем там говорили, стыдно было слушать! Один, например, докладывал, что он пойдет на своем крейсере к Америке. «Голубчик, да как же ты дойдешь туда? Ты просто не знаешь современных средств!» — воскликнул я. Он подтвердил, что не знает ракетной техники, и еще сказал, что виноваты в этом мы, руководство. Тогда флотом еще адмирал Кузнецов командовал. Кузнецов, кстати, предлагал потратить больше ста миллиардов рублей на строительство крейсеров, эсминцев, авианосцев и разных там кораблей. Но ЦК отклонил это предложение. И Жуков ему не помешал в ЦК и Совет министров с такой немыслимой просьбой обратиться, хотя он его старше был по должности, а значит, Кузнецов его подчиненный. Мыслимо ли дело в современных условиях с такими сказками выходить? Мы тогда Кузнецова спросили: а на каком расстоянии стреляют пушки ваших крейсеров? На сколько километров бьют, на 50, на 60?
— На 35! — раздался голос из зала.
— Правильно, и он так сказал! — кивнул Никита Сергеевич. — Тогда мы ему говорим: «Ну какой же дурак на такой дистанции с вами будет вести дуэль? Сейчас ракеты стреляют на сотни километров». Он и про авианосцы сказал, что авианосцы нужны. Авианосцы строят американцы, разъясняю, так как ведут свою политику в Европе и на других континентах, а сами живут в Америке. Если прекратят строить авианосцы, значит, им надо бросать повсюду лазать и командовать!
Мы Кузнецова спросили, как в бою во время войны вели себя крейсера? Ответил, что у англичан были крейсера, и все они были потоплены, а два лучших японских крейсера были потоплены без единого выстрела! Так было, товарищи моряки?
— Так было!
— Вот бы мы, по предложению Министерства обороны, взяли у народа сто миллиардов, потратили их, а стали бы при этом сильными на море? Не стали бы. Мы бы истощили страну, но не повысили ее обороноспособности. Понадобилось бы вдвое больше денег, чтобы охранять и защищать от нападения корабли, стреляющие на 35 километров, а иначе их бы потопили к чертовой бабушке!
Зал гудел.
— Вот и получается, что товарищ Кузнецов, может, и хорошо плавать умеет, но человек технически безграмотный. Его учили 30 лет назад, и он совершенно отстал от достижений науки и техники. Такое неслыханное дело! А ведь был командующий флотами! Поэтому он и не учил своих подчиненных новому, не требовал с них современных знаний. Надо, товарищи, готовиться к войне не на старой технике, а на новой, надо с этой позиции перекраивать работу.
Военные стали хлопать.
— А что касается взрыва линкора «Новороссийск» в Севастопольской бухте, все шишки тогда посыпались на флот, мол, расхолаживались, гуляли, а товарищ Жуков как бы в стороне оказался. А ведь он был министр обороны, а значит, не должен стоять в стороне! По его попустительству дисциплина расшаталась, лично он представлял Пархоменко командующим флотом.
Если взять сейчас авиацию, то авиация находится на таком рубеже по своим скоростям, что нужно думать, куда вкладывать деньги, чтобы эти вложения были более разумными. Скорости истребителей доходят уже до двух с лишним тысяч километров в час. Как драться на таких скоростях? У бомбардировщиков скорости меньше, это понятно, но если бомбардировщик долетит до Америки, его что там, будут приветствовать? В Америке есть ракетная техника, об этом нужно знать.
Сейчас делается много зенитных пушек. Спрашивается, зачем? Министерство обороны заказывает. А эти пушки можно использовать только во время праздников, из них салютом очень красиво стреляют! Зенитки свое отслужили. Ракеты сегодня главное оружие, об этом нужно задуматься. Надо ракетами самолеты вооружать, корабли вооружать, а то, стреляем на 35 километров!
Зал опять захватили аплодисменты.
— Меняется время, товарищи, когда-то чудом казался самолет, с самолетов в войну и бомбили. Помню ночные налеты, сердце разрывалось, земля ходила ходуном. Но техника тогда была несовершенна. Сбросить бомбу точно в цель было проблематично, и по самолету из орудия попасть — нелегко, да и неразбериха царила при налетах страшная. А бывало, и свои же отбомбят. Кто из нас не был во время войны под бомбежкой своих бомбардировщиков? Я был и радовался, что плохо бомбят!
Вот во втором ряду сидит маршал авиации Скрипко. Мне припомнился такой случай. Разведка донесла, что имеется большое село Мачеха, занятое немцами, и немцы организовали там склады оружия и боеприпасов. Товарищу Скрипко была поставлена задача цель уничтожить. Наутро докладывают: «Мачехи нет, все уничтожено!» А когда заняли Мачеху, выяснилось, что там ни один дом не пострадал, и все колхозники живы и здоровы!
Военные смеялись.
— Я разве что-нибудь выдумал? Сами знаете, как было. Мой друг, товарищ Красовский здесь сидит, он также докладывал и говорил, что все горит. Но это уже в другом месте. Я сказал, что если все горит, то мне жалко, и что «все» гореть не может. Когда пришли к Днепру, то много ли сгоревшего мы увидели? Ничего не увидели. Я поинтересовался, кто же доложил, что все горит? Оказывается, доложил об этом летчик, летевший с поля боя. Может быть, горел скирд соломы, а ему показалось, что кругом горит! Я это говорю к тому, что надо правильно оценивать.
С какими скоростями мы летаем? На каких высотах мы летаем? Надо все учитывать. Сегодня появилось ракетное оружие, оно — безотказно. У ракеты нет сердца, она бьет и уничтожает. Сколько требовалось снарядов, чтобы бомбардировщик сбить? В среднем 400–500 снарядов. Сколько пушек стреляло в Москве при налетах, и сколько самолетов врага сбили за ночь? Всю ночь стреляли, и ни одного самолета не упало. Но теперь есть зенитные ракеты. Сколько нужно ракет пустить по самолету, чтобы его уничтожить? Одну ракету! Наших ученых просто расцеловать надо, это чудесные люди! С каким бы удовольствием назвал я их фамилии, да не могу, они люди засекреченные. Жизнь меняется и все меняется, и армия должна поменяться. Поэтому, товарищи, нам сейчас надо перестроить работу.
Что ставит Центральный Комитет? Он ставит задачу, которая была определена ХХ Съездом: повысить роль партии в руководстве всем, что есть на земле советской! Мы везде пустили корни. Мы хотим опереться на коммунистов, наша армия должна быть боеспособной, современно вооруженной, чтобы была она крепко политически спаяна, была действительной опорой народа. И все должны знать, что партия принадлежит не одному лицу, а является опорой для коммуниста!
На Хрущева обрушились несмолкаемые аплодисменты. Первый Секретарь успокоил присутствующих ладонью.
— По поводу ситуации в Вооруженных Силах: члены Президиума обменялись мнениями, и вот какой напрашивается вопрос, о нем мы решили доложить на нашем активе: может быть, министра обороны не следует держать в составе Президиума ЦК? Тогда маршалам и генералам проще будет высказывать собственную точку зрения, ведь без спора ни одно разумное дело не решается! Правильно это было бы?
Зал захватила овация.
Пружины расслабились. После выступления Хрущева было ясно: армия не встанет на защиту маршала Жукова.
23 октября, среда
Совещание в Военных округах, на флотах и в особых группах войск прошли не гладко, некоторые офицеры и генералы сочувствовали Жукову. Для них были полным недоразумением высказываемые в его адрес обвинения, они сочли их необоснованными. Потери в войну, особенно в самом ее начале, были колоссальные, и если сравнивать, где больше полегло солдат, то и у других военачальников получалось немало — война есть война. В войну надо выполнять приказ, какой бы он ни был тяжелый, и Жуков приказ выполнял. Многие командиры в войну погибли. На объединенном собрании Главного политического управления армии и флота и Московского Военного округа, на котором от Президиума ЦК присутствовали Ворошилов, Брежнев и Суслов, высказывания были очень резкие.
— Победа без крови не дается! — заметил начальник Главного Политического управления Советской Армии и Военно-Морского флота генерал-полковник Желтов.
По потерям говорили долго. Чтобы развернуть ситуацию в другую сторону, Суслов с расстановкой зачитал список присвоенных Жуковым в Германии дорогостоящих вещей и пустил по залу фотографии жуковского богатства, сделанные еще Берией.
— Расследование по Жукову было законченно в 1949 году! — возмутился генерал Крюков. — Товарищ Жуков сдал вещи на склад Совета министров. Не о чем тут говорить!
Генералы пожимали плечами:
— Да, картины везли, и ковры везли, и серебряную посуду, что тут особенного? Нам что, тоже трофеи сдавать?
Генерал-полковник Малинин заявил, что везли в то время и мебель, и автомашины, и серебро, и одежду — все, что под руку попадалось, и везти не возбранялось, тогда это официально разрешалось и солдатам, и офицерам. А если у Маршала Советского Союза обнаружили восемь золотых часов, как значилось в бумаге, прочитанной Сусловым, что тут ненормального? Разве сто часов у Жукова нашли? Нет, не сто, а восемь. О чем разговор?
— Смешные обвинения! — вступился за министра генерал Колесников. — Что-то могли подарить и товарищи по оружию. И тогда, и сейчас немецкие трофеи часто дарили друг другу.
— Кольца были обнаружены, говорите? А их-то сколько, уточните?
— Четырнадцать.
— Не смешите, товарищ Суслов! — раздавалось из зала. — Даже обидно вас слушать!
— Бриллианты нашли?
— Не нашли.
— Сапфиры, рубины, изумруды попались?
— Нет.
— А чего кричите про драгоценные камни?!
— Все перечисленное пустяки!
— Зачем эту гадость вытащили?! Тут наговоры какие-то!
— Неужели маршал не заслужил для дочерей по паре колечек с войны привести, по паре цепочек?
— И для жены что-нибудь надо!
— В том-то и дело, что не для жены! — доказывал Суслов. — Товарищ Жуков к тому же развратничал, медработников соблазнял и артисток!
Зал недовольно гудел, заявление это только озлобило военных.
— Он же мужик!
— Жены рядом нет.
— Такое на каждом шагу было! Поход, война! — не унимались генералы.
— Колечки и брошки на подарки дочерям и жене — это никакое не преступление!
— И про картины выводы поспешные. Дача у Жукова государственная, квартира государственная, ну украсил он стену немецкими картинам, гобелен прибил, что с того? Дачи ответработников укомплектованы исключительно трофейной мебелью и картинами. А откуда они брались — тоже из Германии! Разве не так?
Начальник Главного управления кадров генерал Кузнецов был прямо взбешен предъявленными Жукову обвинениями и требовал их снять:
— Совершенно пустое дело, не пойму, почему такой вой подняли?
Многие генералы его поддержали.
— Тут, товарищи, дело особое, тут есть другие обстоятельства, — начал речь Брежнев. — И дело не только в кольцах и картинах. Все это отдельные штрихи до портрета, так сказать! Есть, товарищи, и вопиющие факты мимо которых мы пройти не можем, есть такие факты, и тогда были, и сейчас. Согласен с вами, в войну тяжело было, и порядок и дисциплину надо было любой ценой поддерживать, чтобы отступление, а порой бегство солдат предотвратить, чтобы врагу оказать сопротивление. Но ведь есть совершенно немыслимые случаи. Вот, например, — Брежнев приблизил к глазам бумажку. — В приказе номер 270 от 16 августа 1941 года, Ставка предложила уничтожать плененных врагом бойцов и командиров в случае их освобождения, а семьи сдавшихся в плен лишать продпособий. Очень жестокий приказ Сталина. А вот, дальше слушайте. 28 сентября в специальной директиве № 4976 по войскам Ленинградского фронта Жуков потребовал расстреливать семьи сдавшихся в плен! Это, товарищи, уже собственная жуковская инициатива.
Теперь по солдатским потерям пару слов скажу. Командуя Западным фронтом, Жуков погубил под Вязьмой 33-ю армию. Затем до осени 1942 года он провел еще три кровавых наступления, где погибли сотни тысяч людей, но Ржев взять не смог.
— Он выполнял приказ!
— Дайте договорить! В августе сорок второго, в разгар Ржевско-Сычевской операции Жуков терял в среднем по 8 тысяч бойцов ежедневно.
— К чему вы нам это говорите? Сами разве не воевали, не знаете, что творилось?!
— Товарищ Жуков проявлял чудеса тактического искусства, умалять этого не следует! — выговорил Начальник Генерального штаба маршал Соколовский.
— Мы не умаляем достоинства товарища Жукова, — ответил ему Ворошилов. — Но мы обязаны вскрыть ошибки в Министерстве обороны, случившиеся под руководством Жукова! — и Ворошилов повторил то, что изложил в своем выступлении Хрущев.
С большой неохотой собрание поддержало резолюцию ЦК о выводе Жукова из состава Президиума Центрального Комитета.
Подобные собрания проходили во всех Военных округах. В Киевском Военном округе, собравшем полторы тысячи человек, присутствовали Секретарь ЦК Кириченко и Первый Секретарь ЦК Украины Подгорный. В Ленинградском, где количество участников перевалило за тысячу, к военным обратился председатель Совета министров РСФСР Козлов, который долгое время возглавлял Ленинград и Ленинградскую партийную организацию; в Приволжский военный округ приехал Секретарь ЦК Беляев, там, в зале сидело 1250 военнослужащих. В Прибалтийском округе зафиксировали явку 870 офицеров, там выступил Первый Секретарь ЦК Латвии Калнберзин. В Туркестанском военном округе перед восьмистами собравшимися делал доклад Секретарь ЦК Мухитдинов. В Северо-Кавказском и Одесском округах побывал Анастас Иванович Микоян, в Воронежском — член Президиума, председатель Советских профсоюзов Шверник. На Дальний Восток вылетел Брежнев. В результате инициативу ЦК поддержали, но везде раздавались резкие голоса, летели возмущенные реплики, а случались и прямые выпады в адрес партруководства. Многие негодовали: как это так, Президиум ЦК решает вопрос об улучшении партийно-политической работы без министра обороны? Спрашивали: почему, раз этой работе придается такое значение, начальника Главного Политического управления Министерства обороны не избрали в ЦК? Интересовались: что пояснил товарищ Жуков по поводу своего культа в армии, и в чем конкретно этот культ выражается? Не верили, что Жуков ставит себя выше ЦК, возвеличивает.
— Нам отступать нельзя, — прочитав отчеты о проведении собраний на местах, сказал Хрущев. — Тут, Анастас, надо рубить, не останавливаться!
— Кого решил министром?
— Малиновского. Подписывай Распоряжение правительства об отстранении от должности Жукова и назначении исполняющим Родиона.
— Лучше пусть Булганин подпишет, он председатель Совета министров, его народ уважает.
— Кого? — скривился Хрущев. — Бухгалтера?! — но с Микояном согласился.
Булганин, не раздумывая, подписал направленное ему распоряжение об отстранении Георгия Константиновича от должности. Процесс по низложению Жукова начался.
Алексей Иванович Аджубей приехал домой расстроенный.
— Что случилось, Лешенька? — целуя мужа, спросила Рада.
— Говорят, Жукова снимают.
— Кто снимает?
— В ЦК решили.
— Жукова?! Маршала?! Не может быть! — изумилась Рада.
Когда дочь встретила Нину Петровну, сразу спросила про Георгия Константиновича.
— Это не нашего ума дело! — строго ответила мать.
24 октября, четверг
На даче в Сосновке облетали листья, сыростью и прохладой дышала земля. Галина Александровна купала ребенка, ей помогали няня и пожилая докторша, опытный педиатр, прикомандированный на маршальскую дачу министром здравоохранения.
— Т-а-а-к! — ополоснув малышку теплой водичкой, протянула няня и отставила в сторонку кувшин.
— Идем вытираться, Машенька! — заботливые руки мамы подхватили ребеночка, одним движением вынули из ванночки и обернули полотенцем. — Какая умница!
Ребенка запеленали и положили в кроватку, после купания девочка обычно спала, ведь ей только исполнилось полтора месяца. Галина Александровна с любовью посмотрела на доченьку и вышла проводить доктора.
— Значит, у Машеньки все в порядке? — напоследок спросила мать.
— Все отлично, не беспокойтесь.
— Спасибо вам, Дарья Петровна! Я потихоньку с ней справляюсь, а сначала очень боязно было.
— Справитесь, дело обычное. Поначалу все думают, что не сумеют. У нас, в Морозовской больнице, малышню, знай, пеленай. Я когда училась, день и ночь по отделению бегала, как автомат пеленала, дело навыка, тем более вы — врач!
— Я терапевт, к тому же военный. Мои пациенты взрослые. Когда первый ребенок, сами понимаете, всего боишься, наверное, так с каждой женщиной.
— Навык придет, не переживайте.
— Еще раз благодарю вас! — маршальская жена приоткрыла дверь, выпуская доктора.
— Вы меня извините, Галина Александровна, — проговорила Дарья Петровна, — но у нас в больнице ходят разговоры, что Георгия Константиновича отстранили от командования, что было заседание в ЦК и там про это говорили. Не знаю, правда это или сплетни, но сказать вам обязана. Я Георгия Константиновича уважаю. Не обижайтесь, пожалуйста!
— Спасибо! — ошарашенно отозвалась маршальская супруга.
— Еще раз извините!
Врач вышла. Галина Александровна долго смотрела ей вслед.
«Что она говорит, как отстранили? Кого? Муж перед отъездом был у Хрущева, вернулся довольный. Летом вместе отдыхали. А июньские события, когда он выручил Никиту Сергеевича? Георгий стал членом Президиума Центрального Комитета. Какая-то несуразица!»
Она вернулась в детскую. Машенька спала, тихонько посапывая.
— Ты, Груня, посиди с ней, я отлучусь ненадолго.
Галина Александровна поднялась в кабинет мужа, сняла трубку и набрала номер.
— Приемная министра обороны! — отчеканил дежурный референт.
— Это Николай?
— Никак нет, полковник Зуев!
— Зуев? Я что-то вас не знаю. Это Жукова Галина Александровна.
— Слушаю, Галина Александровна! Николай Семенович в отгулах, — объяснил дежурный.
— А-а-а… — протянула супруга маршала.
— Слушаю вас?
— От Георгия Константиновича есть известия?
— Есть, Галина Александровна! На ваше имя получена телеграмма. С водителем отправляю в Сосновку. Еще какие-нибудь поручения будут?
— Нет. Спасибо. А вообще, все в порядке? — спросила она.
— Все без изменений!
— До свидания!
— До свидания, Галина Александровна!
Вроде обычный разговор. Георгий прислал письмо. Она каждое утро получала от мужа короткие известия, маршал скучал без жены. В последнем письме сообщал, что купил для Машеньки платьица, только с размером не уверен. Писал: ежели что — пойдет на вырост, а ей, Гале, — кольцо и сережки с бирюзой.
«Думает о нас! — улыбнулась Галина Александровна. — Только нам рано платьица носить, нам еще подрасти надо!» — улыбнулась мама.
28 октября, понедельник
Вышедшие сегодня газеты, которые до этого трубили о пребывании Жукова за границей, не обмолвились о поездке маршала ни словом. Такая директива вчера вечером поступила из ЦК. Газетчикам пришлось срочно переверстывать утренний номер, среди людей поползли разные разговоры, слухи, говорили, что Жукова в Албании убили, то ли покушение, то ли попал он в аварию, но потом кто-то сказал, что маршала снимают. Как-то неуютно сделалось после этих слов.
В десять утра открылся внеочередной Пленум партии. Претензии к маршалу предъявили тяжелые: развалил работу Министерства обороны, распустил дисциплину, распустил командный состав, зажал политработников; высказали старые претензии — зазнайство, мародерство, что маршал стал диктатором в армии, что он человек, готовый на все ради собственной карьеры и выгоды; не забыли и о его распутстве, и еще прибавили, что Жуков, точно как Берия, создал отряды особого назначения, готовые для свержения существующей власти, но об этом упомянули вскользь, не стали заострять внимание. На Пленуме уже никто, ни политработник Желтов, ни начальник Генштаба Соколовский, не подал голос в защиту Георгия Константиновича.
Вслед за Хрущевым очень резко выступал Конев. За ним на полководца накинулся маршал Еременко, потом говорили Малиновский и Рокоссовский. Все докладчики осудили Жукова. Малиновский сообщил, что на совещании командного состава Армии и Флота предложение ЦК о выводе Жукова из состава Президиума поддержали и что некоторые военные высказались за смещение его с поста министра. Пленум осудил маршала, вывел его из состава Президиума и Центрального Комитета. Распоряжением председателя Совета министров Георгий Константинович был освобожден от должности министра обороны и отправлен в отставку. На его место был рекомендован Маршал Советского Союза Малиновский.
Хрущев распорядился оставить Жукову полное министерское содержание, сохранить бытовое и продуктовое обслуживание по линии Главного управления охраны КГБ СССР, закрепить на постоянной основе машины «ЗИС» и «Победу», сохранить госдачу в Сосновке, обслугу при даче и квартире, а по линии Министерства обороны приписать адъютанта и ординарца. Никита Сергеевич наказал Серову «в оба глядеть» за маршалом, жуковская дача и квартиры в Москве и Ленинграде продолжали охраняться Комитетом госбезопасности.
Почти сразу после снятия Георгия Константиновича с должности многим генералам были присвоены очередные звания, офицерам вручены награды и солидные денежные премии, маршалам значительно увеличили жалование и штаты обслуживающего персонала.
В связи с освобождением маршала Жукова от занимаемой должности Пленум принял решение прервать его зарубежный визит.
29 октября, вторник
С утра Леонид Ильич Брежнев поехал в Министерство обороны.
— Разреши, Родион Яковлевич, сердечно поздравить тебя с назначением! — крепко обнимая Малиновского, проговорил он.
— Не спеши с поздравлениями, Леонид, пока меня на Президиуме не утвердили!
— Раз Никита Сергеевич сказал — ты, значит, ты! — улыбался Леонид Ильич.
— Приятно, Леня, что первым поздравляешь, приятно! — довольно отвечал маршал. — Хоть и утро, пошли по стопке пропустим!
Малиновский повел гостя в свой новый кабинет, который по-быстрому переделали из министерской библиотеки, с обратной стороны примыкающей к кабинету первого заместителя министра. Открыв потайную дверь, они оказались в просторном светлом помещении, комната отдыха была почти без мебели, но со столом и стульями.
— Пока здесь перекантуюсь, а то, неровен час, Жуков как черт из табакерки выпрыгнет!
— Жуков, Родион, нынче карта битая! — отозвался Леонид Ильич.
— Ты его плохо знаешь, он мстительный.
— Что мстительный и бесцеремонный, на себе испытал. Теперь пусть злобствует. Наливай, Родион! — усаживаясь на стул и перекидывая ногу за ногу, приказал Брежнев.
— Как Георгий свои шмотки заберет, перееду на министерский этаж.
— А эти хоромы зачем сделал?
— Не зачем, а для кого.
— Ну, для кого?
— Коневу останутся, ему его кабинет мал.
— Вот Степаныч! — протянул Брежнев.
— Он думал, его министром поставят, из кожи вон лез! — подмигнул Малиновский.
— Ивану и с силами Варшавского договора неплохо!
— А все-таки лез в Москву!
— Кто ж не хочет стать министром! — подхватывая рюмку, проговорил Леонид Ильич. — За тебя, Родион, за тебя, дорогой! Долгие тебе лета!
Чокнулись. Закуска была самая примитивная: баранки, горстка карамели и пол-литровая банка абрикосового варенья, которую по заданию маршала адъютант растворил в графине воды. Великолепная запивка получилась.
— Как на фронте! — указывая на скудный стол, усмехнулся Малиновский.
Из приемной доложили, что прибыли Конев, Бирюзов и Баграмян.
— Зови! — распорядился министр.
— Жуков сегодня из Албании прилетел, — рассказывал Конев. — Вышел из самолета, никто не встречает, один его помощник полковник Чикин топчется. Жуков спрашивает: «Что, сняли меня?» «Сняли», — полковник отвечает. «А кого на мое место?» «Маршала Малиновского!» «Хорошо, не Фурцеву!» — так сказал.
Кабинет потонул в хохоте.
Этим же днем Родион Яковлевич явился на доклад к Первому Секретарю. У Хрущева было отличное настроение.
— Приступил к работе, Родион?
— Так точно, приступил!
Хрущев крепко пожал Малиновскому руку — с Родионом он полвойны отвоевал.
— Из тебя отличный министр будет! — принимая военного в объятия, предрекал Первый Секретарь.
— Не подведу! — клялся маршал.
— Знаю! Садись, брат, садись!
Малиновский уселся напротив Никиты Сергеевича.
— Вовремя Жукова нагнали, — сказал Хрущев. — Я этому рад, а то пришлось бы его стрелять, а он — икона.
— Была икона, Никита Сергеевич!
— Правильно, была. И никакая не икона, а обычный человек. Теперь пусть себе отдыхает, заслужил.
— Сделали дело! — согласился Малиновский. — Рокоссовского куда?
— Поглядим. Жукову на нас обижаться нечего, — продолжал Хрущев, но в глубине души ему было совестно. — Все Георгию сохранили, и обслугу, и содержание.
— Смирится, Никита Сергеевич, смирится! А прилетел, как индюк надутый.
— Тебе звонил?
— Нет, не звонил. Я начал потихоньку его людей менять.
— Можешь не потихоньку, ты министр. А как там лис Ворошилов?
— На собрании в Генштабе здорово выступал, прямо резал Жукова.
— Выходит, исправляется?
— Исправляется!
— Эх, Родион, Родион! Никто в этой жизни не исправляется, как сгнил изнутри, так и все. Помни пословицу — горбатого могила исправит! Мотай на ус! Ты всех жуковских подчисть, особенно в кадрах. И про Маргелова не забудь, и про генштабовских.
— Про вэдэвэшника и штабных помню. Какие-то указания еще будут, товарищ Верховный Главнокомандующий?
— Будут!
Малиновский встал и вытянулся.
— Приказывайте!
— Что, маршал, идешь со мной на охоту?
3–4 ноября, воскресенье, понедельник
Поразительную информацию передали в новостях — собака Лайка на космическом корабле «Восток» запущена в открытый космос. Народ гудел, радостью и гордостью за Родину наполнялись сердца!
Открыв Президиум ЦК, Хрущев зачитал официальное сообщение о запуске тяжелого спутника с собакой Лайкой на борту.
— Еще недавно мы завидовали планете Юпитер, у которой много лун, теперь завидовать нечему, теперь Земля сама имеет несколько лун, и часть из них создана человеческими руками. Заселение космоса началось! Когда-нибудь собаке Лайке, которая первой несла службу на рубежах Вселенной, которая стала первым животным в исследовании космоса, мы воздвигнем памятник! — захлебывался от восторга Хрущев. — Американцы опять сели в лужу. Их ракеты взрывались, точно стукаясь о твердый небосвод!
— Вот как коммунисты встречают 40-летие Революции! Надо ученых и всех, кто готовил запуск, наградить, — предложил Микоян.
— Королева и других конструкторов, — уточнил Брежнев.
— Леонид Ильич, ты списки дай! — распорядился Хрущев. — Я должен персонально товарища Брежнева отметить, он это дело от начала до конца вел, непросто оно давалось, часто спотыкалось, даже некоторые на него с кулаками набрасывались, в том числе и снятый с работы Жуков. А товарищ Брежнев работу сделал. Я его от души благодарю!
— Позвольте, Никита Сергеевич! — запротестовал Леонид Ильич. — Космос персонально вы курировали, я лишь ваши указания проводил!
— Значит, хорошо проводил, хоть на тебя и ругались! — отозвался довольный Хрущев. — Космос, космические корабли — дело нешуточное, тут как у ребенка получается: когда ребенок учится ходить, ему надо сделать первый шаг. Шаг этот он делает, родители радуются, а ребенок еще устойчиво не стоит, может завалиться. А мы, наконец, в космосе на обе ноги встали!
— Я предлагаю этот день сделать государственным праздником! — с задором проговорил недавно избранный в Президиум ЦК Козлов.
— Фрол Романович не успел Россию возглавить, а уже праздники не жалея раздает! — покачал головой Хрущев.
— Я в том смысле, что жизнь с Земли попала в открытый космос, это великое событие и надо его праздновать!
— И по Жукову шумиха скорее пройдет, — согласился Микоян.
— Коммунисты про Жукова правильно поняли, — вмиг посерьезнел Хрущев.
— Но и обиженные имеются, — высказался Аристов.
— Далеко не большинство, а — мизер, — уточнил Хрущев. — Будем это дело, я имею в виду полет спутника с живым существом, усиленно отмечать. Товарищу Фурцевой это поручим. Ты, Екатерина Алексеевна, шороху дай! А в смысле праздника — торопимся.
— Не додумал! — смиренно кивал председатель Совмина России.
— Шурупить надо! — постучал по лбу Первый Секретарь, но предложение Козлова ему безумно понравилось. Дома, перед сном, он завел об этом разговор.
— Сегодня, Нина, Фрол Козлов стоящую вещь предложил, жаль, я до нее не додумался! — горевал Никита Сергеевич.
— Какую?
— День полета в космос живого существа сделать праздником!
— Здорово! А ты что?
— Что, что? Зарубил!
7 ноября, четверг
Москва с распростертыми объятиями встречала китайскую делегацию во главе с Председателем Коммунистической партии Китая товарищем Мао Цзэдуном. Огромным тиражом распространялся по Советскому Союзу цитатник китайского предводителя, каждая газета поместила на свои страницы рассказы о Китае, о Председателе Мао.
Отношения с Китаем еще при Сталине складывались неоднозначно. Ретивый вождь упрямо шел к власти, упрямо и скоро. Оккупация большей части Китая Японией, гражданская война против Гоминьдана требовали невероятных усилий. Главным союзником и опорой Китайской Коммунистической партии стал Советский Союз, но Сталину не нужен был сильный Китай, Китай устраивал Москву, как сырьевой придаток с полностью подконтрольным правительством. Но чем ближе товарищ Мао приближался к победе, тем независимей становился.
Без одобрения Сталина Мао развернул собственную пропаганду за рубежом. На Западе пошли разговоры, что китайский вожак может предложить миру большее, чем товарищ Сталин, что Мао Цзэдун преобразовал марксизм из европейского в азиатский. Еще находясь в Яньане, Мао стал называть свои вооруженные силы «Отряд Азия». Сталину не нравились все возрастающие амбиции Мао Цзэдуна. Москва ограничила братскому Китаю поставки оружия и денег, и положение поправилось — при каждом удобном случае китаец начал присягать вождю всех времен и народов, угождать, хвалить. Мао Цзэдун шлет в Кремль телеграмму за телеграммой, величая Сталина «Хозяин», называет «учителем китайского народа и всего человечества», умоляет, чтобы «Главный Хозяин» дал мудрые указания, настойчиво просится на аудиенцию, хочет лично доложить о важнейших делах и планах.
Гражданская война в Китае завершалась. 9 января 1949 года генералиссимус Чан Кайши бежал на Тайвань, и Мао Цзэдун, наконец, получил власть над Поднебесной, а соответственно, власть над одной четвертой населения планеты. Мао Цзэдун не просто стал во главе огромного государства, он решил превратить Китай в сверхдержаву, но без помощи Советского Союза это было маловероятно. Председатель был согласен на все, чтобы угодить Сталину, требуя взамен политическую поддержку и кредиты. Китаю были необходимы тяжелые танки, зенитные орудия, авиация. Для реорганизации армии требовались военные специалисты. Мао Цзэдун рассчитывал на помощь в строительстве заводов по производству самолетов, танков, другого вооружения, ведь кроме заводов стрелкового оружия в Китае ничего не было. В глубине души Мао мечтал о разделе мира со Сталиным.
Америка и Англия объявили Красному Китаю бойкот, соглашаясь на переговоры только при условии смены существующего режима. Советский Союз оставался единственным союзником и партнером. Жажда абсолютной власти стала основной причиной, по которой Председатель Мао решил дистанцироваться от Запада, одновременно это демонстрировало, что он безгранично предан коммунизму.
Хотя Мао Цзэдун взобрался на самый верх пирамиды, у него оставались причины для беспокойства. Влияние Запада в стране было велико. Многие представители интеллигенции получили образование в Америке, Англии, Германии и Японии. Почти все современные образовательные заведения были либо основаны иностранцами, либо находились под их влиянием. «Кроме газет, журналов и новостных агентств, — летом 1949 года писал Сталину Лю Шаоци, — только Америка и Англия имеют в Китае 31 университет, 32 религиозных образовательных учреждения, 29 библиотек, 2688 школ, 3822 религиозные миссии и 147 больниц».
Мао беспокоила привлекательность Запада в глазах членов его партии. Народная армия любила американское оружие: его собственные телохранители считали, что американские карабины гораздо лучше русских автоматов. Американские машины внушали благоговение.
«Мы были бы рады, если бы все посольства капиталистических стран убрались из Китая навсегда!» — сказал Мао представителю Советского правительства и действительно убрал из Пекина иностранные посольства за исключением стран народной демократии. Мао Цзэдун стремился задушить в зародыше возможность влияния Запада на своих партийцев в любой области, особенно в сфере потребления. По этим соображениям новый китайский режим не спешил возобновлять дипломатические отношения с Америкой и большинством западных стран. Но амбиции не давали вождю покоя. 16 ноября 1949 года в Пекине открылась международная профсоюзная конференция, где второй человек в КПК, Лю Шаоци, выступил с докладом, в котором ни разу не упомянул имя Сталина, а многократно повторял о «Пути Мао Цзэдуна» — вооруженном освобождении порабощенных народов от колониальной зависимости.
Раздосадованный Сталин послал в Китай Микояна, проверить лояльность Председателя КПК. Мао поселил кремлевского посланника рядом с собой. Анастас Иванович каждый день слышал здравицы в честь вождя всех времен и народов. Каждое утро Председатель громко повторял: «Пусть Сталин живет десять тысяч лет!» Мао Цзэдун добился своего, Москва опять стала к нему снисходительна.
Для решения многочисленных проблем и объемных госпрограмм Председателю Мао нужно было лично говорить со Сталиным. Вождь согласился увидеть Мао на собственное семидесятилетие, и долгожданная поездка в Москву состоялась. Генералиссимус ненадолго принял Председателя в день приезда, а потом — молчок, абсолютная изоляция, ни одной встречи с руководителями дружественных Коммунистических партий, которые также приехали на юбилей, ни переговоров по текущим советско-китайским взаимоотношениям. 21 декабря, в день своего рожденья, на торжественном заседании Сталин сажает Мао Цзэдуна рядом. Публика скандирует «Сталин, Мао Цзэдун!» В ответ китайский лидер несколько раз выкрикивает на русском языке: «Да здравствует Сталин! Слава Сталину!» Небывалое событие — речь Председателя Мао зал выслушал стоя. Все это встревожило старика-вождя. Через два дня состоялась короткая встреча Мао Цзэдуна со Сталиным, но конструктивного разговора по строительству китайской военной промышленности не произошло.
Запертый на подмосковной даче китаец негодовал. 26 декабря 1949 года он в одиночестве встретил свой пятьдесят шестой день рожденья. Через близких помощников Мао пустил слух, что находится у Сталина под замком. Одновременно английское посольство проинформировали, что Китайская Народная Республика не возражает против установления дипломатических отношений, и уже 6 января 1950 года Лондон признал режим Мао. Эти обстоятельства переменили позицию Иосифа Виссарионовича, он сел за стол переговоров. 14 февраля 1950 года между СССР и КНР был подписан масштабный договор, по которому Советский Союз получал невиданные преференции — на 14 лет монополию на вольфрам, олово и сурьму, к тому же Китай отдал в сферу советского влияния Маньчжурию и Синьцзян, что означало полный доступ к промышленной, финансовой и коммерческой деятельности богатейших по сравнению с другими китайских регионов, к тому же, огромные земли эти были богаты залежами полезных ископаемых.
По настоянию Сталина Пекин не только платил высокие заработные платы советским специалистам, но и уплачивал компенсацию предприятиям за выезд в Китай квалифицированных кадров. Сталин дал добро на строительство 50 крупномасштабных промышленных объектов, одобрил постройку двух десятков военных кораблей. Но все это Председатель Мао считал не достаточным. Главная его установка делегациям всех уровней, отбывающим в Москву, — брать как можно больше для укрепления обороноспособности Китая. Скоро советско-китайские отношения снова давали трещину. Связано это было с секретами производства атомного оружия.
Чан Кайши, под прикрытием американцев обосновавшийся на Тайване, ждал часа для возвращения. По мнению Председателя Мао, Чана во что бы то ни стало надо было уничтожить. Китай все настойчивей требовал у Москвы бомбу. Каждый визит китайцев начинался и оканчивался вопросом об атомном оружии. Сталин, хотя и согласился допустить китайских специалистов к ядерной теме, всячески тормозил передачу технологических секретов, тем не менее, за несколько лет наметились значительные сдвиги в китайской атомной промышленности. Больше семисот советских ученых, приехавших в Пекин после подписания глобального Соглашения, работали в областях, непосредственно связанных с производством атомного оружия и его производных. Количество командировочных из Китая в СССР и из СССР в Китай геометрически росло. Атомная бомба стала краеугольным камнем советско-китайских отношений. Китайцы учились, проникали в тайны атомного синтеза, не так скоро, как хотел Мао Цзэдун, но настойчиво, скрупулезно.
В 1951 году в Китае был создан Институт современной физики. Большую помощь ученому-ядерщику Цянь Саньцяню оказал Фердинанд Жолио-Кюри. Он считал, что у Китая должна быть своя бомба. Через два года в институте трудилось больше полутора тысяч русских специалистов, но сроки сдачи изделия отодвигались, Мао Цзэдун нервничал. И снова Чжоу Эньлай с пеной у рта доказывал Булганину и Хрущеву, что Китай оплот социализма в Индокитае, что китайцы дотянулись до Океании, распространили влияние на Индонезию и Филиппины, ими был оккупирован Тибет и преобразован в китайскую область. С 1955 года в Китае введена всеобщая и обязательная воинская обязанность. Вооруженные силы Китая стремительно развивались, вторгшийся на территорию Китая в августе 1956 года американский самолет-разведчик был уничтожен.
«Чтобы закрепить марксистский авторитет, чтобы вернее диктовать миру коммунистические постулаты, нам надо иметь сверхоружие!» — доказывал Чжоу Эньлай.
Значение Китая было велико, его нельзя было недооценивать, именно по этой причине для оздоровления советско-китайских отношений в 1952 году Сталин возвратил Пекину Порт-Артур, Дальний и Китайско-восточную железную дорогу. Хрущев так же понимал всевозрастающее значение самой густонаселенной страны. После кровавых событий в Венгрии и Польше, после обострения в Египте Хрущеву нужно было заручиться поддержкой Мао Цзэдуна, продемонстрировать нерушимый союз с Китаем. Первый Секретарь согласился дать дополнительные материалы по бомбе, допустить китайских наблюдателей в Семипалатинск и на Новую Землю, пообещал выделить китайской армии триста бомбардировщиков и истребителей. Огромное впечатление произвели запуски советских спутников. Мао был покладист, он улыбался Хрущеву, в его глазах тот был хотя и маленьким, но смелым человеком: уничтожил Берию, убрал с пути Молотова и Маленкова, сбросил с пьедестала Жукова: «Непростой гусь этот улыбчивый свинопас!»
И вот Председатель Мао Цзэдун в Москве. Переговоры прошли гладко.
В канун 40-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции, 7 ноября 1957 года, Никита Сергеевич Хрущев и Мао Цзэдун поднялись на Мавзолей Ленина и плечом к плечу встали на трибуне, приветствуя военный парад и демонстрацию трудящихся, которые маршировали по Красной площади.
«Пусть живет в веках нерушимая братская дружба между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой!»
«Да здравствует Великий Октябрь!»
«Вперед, к победе коммунизма!»
«Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!»
«Да здравствует Коммунистическая партия Китая!»
«Да здравствует товарищ Мао Цзэдун!» — эхом разносилось над Красной площадью, летело над Москвой, над всей Советской страной.
Мао Цзэдун и Хрущев, придерживая друг друга, широко улыбались.
16 ноября, суббота
— Вот, Леля, собаку Лайку в космос запустили, представляешь?
Отложив в сторону журнал, Леля взглянула на молодого ученого, вернее, на своего молодого мужа, которого переполняли эмоции — ведь и он в некотором роде был причастен к этому событию.
— Иди ко мне! — позвала она.
Сергей подошел к ней и склонился над диваном. Девушка лежала на спине. Она протянула руки, обхватив своего Сержика, и, потянув, повалила на себя:
— Целуй меня!
Сергей приник к любимой. Журналы, лежащие рядом, томик Есенина, телефонная книжка — все попадало вниз, а они целовались и целовались.
Когда бурные возлияния и ласки закончились, Леля сказала:
— Мне собачку жалко, умрет она в небе. Очень жестоко!
— Ничего не поделаешь, наука требует жертв.
— Тебя бы туда засадили!
— Надо было понять, поднимет ракета подобный груз или нет. Выяснили, поднимет.
— Могли гирю вместо песика положить, мучители! — скривила губки девушка.
Сергей не нашелся, чем возразить, он потер лоб и проговорил:
— Сейчас стало понятно, как космический аппарат посадить.
— Значит, нельзя было собачку в космос запускать, категорически нельзя! — хмурила бровки Леля.
— Следующим разом возвратят обратно.
— Наконец-то додумались!
Леля перебралась с дивана за стол, прихватив гору журналов. Она сидела за столом голая, так и не оделась после возлияний на диване.
— Может, чаю попьем? — предложил Сергей.
Девушка с ленцой потянулась за халатом, который, наскоро сброшенный, лежал на полу, накинула его — не станешь же голышом разгуливать по хрущевскому дому.
— Пойдем, — поднялась она и, оглядев себя в зеркало, добавила: — Я успею перед театром голову помыть?
— Мне в КБ надо, — виновато признался Сергей.
— А как же спектакль?
— Нас Челомей собирает, давай не пойдем?
— Мне будет скучно! — сложив губки бантиком, прощебетала Леля.
— Я, Лелечка, Владимиру Николаевичу прийти обещал.
— Можно мне с тобой?
— Там все секретно! — запротестовал муж и наклонился за портфелем.
— Тогда иди ко мне, а то обижусь!
Сережа снова закрыл на ключ дверь комнаты и приник к жене. Она целовала ему грудь, живот, опускаясь ниже.
— Ребята! — раздался за дверью громкий голос, в дверь принялись настойчиво барабанить. — Ребята, обед!
Это был голос Нины Петровны, она от всех требовала соблюдать распорядок.
— Вот пристала! — оторвавшись от мужа, недовольно насупилась Леля. — Скажи ей, что мы уже взрослые, сами знаем, когда обедать, а когда ужинать!
5 декабря, четверг
В домино играли до умопомрачения, изо всех сил стучали костями. Хрущев любил домино, и благодаря его любви эта настольная игра захватила дома отдыха, дачи, квартиры — Вселенную захватила! В воскресные дни в домино играли у Микоянов, у Булганиных, у Ворошиловых, задушевно забивал козла в Межигорье украинский секретарь Подгорный, перебирал костяшки узбек Мухитдинов. Председатель Совета министров Российской Федерации Фрол Козлов стал откровенным фанатом домино, каждую неделю он устраивал среди замов соревнование. Даже у Фурцевой в доме на серванте лежала знакомая коробочка, хотя ее домашние, мама и дочка, поигрывали в старомодное лото и к домино не прикасались. Первый Секретарь ЦК Грузии Василий Павлович Мжаванадзе брал в руки кости в поезде, когда ехал в Москву и всю дорогу упражнялся, заправски стуча по столу, подражая Никите Сергеевичу. Ну, а после охоты это стало первейшим делом!
— Хорошо, на домино остановились, а то бы играли в футбол или боролись! — обстоятельно заметил Брежнев. — Считайте! — поставив «рыбу», проговорил Леонид Ильич.
Андропов и маршал Малиновский бросили кости. «Козлом» второй раз подряд оказался Андропов, он еще не приноровился к игре, спешил.
— Надо соревнования среди отделов ЦК провести! — подтрунивал Брежнев. — Лучших на доску вывесим, а худших — на другую! Ты, Юрий, не переживай, значит, в любви повезет! — подмигнул Леонид Ильич. — Мой Костя настоящим мастером стал, я с ним играть не сажусь, так его ни одна баба целовать не хочет!
Андропов нелепо пожимал плечами.
— Ты, брат, вдумчивей подходи, а ты спешишь! И тренируйся.
— Уж не знаю, сколько тренироваться! — вздохнул Юрий Владимирович.
— Товарищ Мао Цзэдун, тот в бассейне плавает, — продолжал Брежнев. — Представляешь, Родион Яковлевич, что было бы, если б Никита Сергеевич плавать любил? Приходишь к нему на доклад, тебя в плавки переодевают и в бассейн ведут! Ты хоть плавать умеешь? — продолжал шутить Леонид Ильич.
— Ни хера не умею! — ругнулся маршал.
— Научим. Ты б в маршальской форме с пирса сигал! — не унимался насмешник.
Малиновский погрозил ему пальцем:
— Допи…дишься!
Но компания подобралась своя, опасаться Брежневу было нечего.
— Товарищ Мао, говорят, с молоденькими девушками купается, — потянулся Брежнев.
— Если б девки были, я бы с ходу туда сиганул! — выпалил министр обороны.
— Пока, Родион, мы в домино режемся!
Друзья только что вышли из парной и, усевшись вокруг стола, потягивали пиво.
— Мне, Лень, один егерь снадобье дал умопомрачительное. От всех недугов спасает и такую мужскую силу дает! — затряс кулаками маршал.
— Да ну?
— Да.
— Расскажи?
— Барсучья простата!
— Сучья?! — сделав серьезное лицо, переспросил Брежнев.
— Барсучья, твою мать! Целебнейшее дело. Настаивается на спирте.
— Что этим снадобьем, растираться?
— Пить, бл…! Пить по ложечке. Я однажды, ну, так сказать, расслаблялся, и знаешь, как одну отпетрушил?
— Как?
— Девка в голос кричала, так ей было здорово!
— А тебе-то было, или только той девке? — не унимался Брежнев.
— Ты как дурной, я тебе суть говорю, а ты все шутишь!
— Суть или ссуть? — хохотал секретарь ЦК. — Скоро у тебя на жопе барсучья шерсть вырастет!
— Вот мудак!
— У меня, Родион, и без твоей микстуры работает!
— Попробуешь, тогда скажешь!
— Вези, брат, вези!
На стол поставили огромное блюдо с раками.
— Чего-то вы с раками припозднились! — Малиновский недовольно взглянул на Черненко.
— Доходили! — развел руками брежневский помощник.
— Костя, садись с нами! — кивнул Леонид Ильич.
— Нет, спасибо!
— Садись, кому говорят! — рявкнул Малиновский. — Ты как будто в армии не служил, начальство приказывает — делай!
Черненко покорно сел.
— Пиво бери! — грозно прикрикнул маршал.
— Давайте, ребята, за выдающиеся успехи приподнимем! У нас и спутники полетели, и плывет по морям-океанам первый в мире атомный ледокол!
— У меня скоро два подводных крейсера в море уйдут, тоже атомных! За успехи! — поддержал министр обороны.
Тост выпили с удовольствием.
— Все это благодаря Никите Сергеевичу! — напомнил Брежнев.
— Великий человек! Человечище! — воскликнул Родион Яковлевич. — А ну, Костя, наливай! За здоровье Никиты Сергеевича выпьем!
— За нашего вождя! — тихо добавил Андропов.
Леонид Ильич встал и провозгласил:
— Многия лета!
Компания стоя выпила.
— А давайте, братцы, еще партию? — подбирая коробочку с домино, предложил Малиновский.
— Ты, брат, не забывай простату сосать! — засмеялся Леонид Ильич.
— Да что ж ты, е… твою мать, острый такой!
— Давай, Родион, играть! Не ругайся!
— Еще пивка? — осведомился Черненко.
— И пивка, и водки! — ответил маршал. — Пиво без водки — деньги на ветер!
— И тут собака как заорет человеческим голосом: «На-ли-вай!» — подставляя рюмку, взвыл Брежнев.
25 декабря, среда
Хрущев был очень доволен Фурцевой. Сделав ее членом Президиума и Секретарем Центрального Комитета, Первый Секретарь значительно расширил круг ее обязанностей. Никита Сергеевич считал, что, как Секретарь ЦК, Екатерина Алексеевна принесет куда больше пользы, чем руководитель Москвы.
— Ты, Катя, молодая, энергичная, хочу тебя целиком на ЦК определить. Москву ты переросла, как я раньше, а вертеться то здесь, то там — дело дурное!
— Ваши слова для меня — живая вода! — проговорила Екатерина Алексеевна.
— Суслов, хоть и надежный парень, но ты мне милей, потихоньку всю идеологию и кадры замкну на тебя. Так что расхолаживаться не придется!
— Я не расхолаживаюсь, Никита Сергеевич. Кого ж на Москву?
— Думал о Капитонове.
— Он человек четкий, только непробиваемый, толстокожий, что ли.
— А мне сюсюкать нечего, если что, я так по шее врежу!
— Это известно! — заулыбалась Фурцева. Ей льстило доверие Хрущева, она получила большой кабинет по соседству. Ни один серьезный вопрос не обходился теперь без ее участия. Суслов ходил зеленый, но при встрече старался еще ниже кланяться, согнувшись в три погибели, здоровался, всегда справлялся о ее здоровье и о здоровье Николая Павловича Фирюбина.
— Хамелеон! — шипела Секретарь ЦК, а в ответ мило улыбалась. Перебравшись на Старую площадь, Екатерина Алексеевна заняла особое положение в партийной иерархии, став третьей после Хрущева и Брежнева. Хотя Москву было жаль, всем сердцем привязалась она к столице.
30 декабря 1957 года, понедельник
Леля заставила Сережу встречать Новый год на Николиной горе. Сергей вынес тяжелейшее объяснение с матерью, но отец взял его под защиту и отпустил:
— Пусть молодежь сама празднует, а мы, Нина, Раду с Лешей позовем.
Нина Петровна долго не могла успокоиться — как же так, сын от рук отбился, Новый год справляет отдельно?!
— Лелька окончательно ему голову вскружила!
Но Лелю совершенно не заботило мнение Нины Петровны, она собиралась позвать гостей, устроить настоящее гуляние, с музыкой, с шампанским! И на следующий день праздновать продолжать: идти в дом отдыха «Сосны», кататься на санках с ледяных гор, а вечерами устраивать танцы! Гостей должно было собраться немало: Катя Судец, Ира Брусницына, Валентин, Слава Смиртюков, Коля Псурцев, Марина Бещева, Юра Брежнев, Юлиан, трубач Чарли, Василий Григорьев с Катенькой и братья Никольские — компания заводная!
— Ты не понимаешь, Сергуня, Новый год — это семейный праздник, а мы — семья, а у нас есть друзья! К тебе на Ленинские горы никого не пустят!
Сергей не спорил, но ему больше импонировало общество взрослых: рассудительные соображения, глобальные взгляды, заумные мысли, государственность и авторитетность высказываний — словно ты сам находишься в гуще событий, а ребята с девчатами умели лишь пить да балагурить. Но жене виднее! Пал Палыч Лобанов был мастак закатывать праздники и пообещал дочери все устроить в лучшем виде:
— Будут тебе и напитки, и угощения, и сладкое невероятное!
К столу Никиты Сергеевича, точно как и к застольям Микояна, Серова и Брежнева, он всякий праздник подсылал корзины с деликатесами.
По случаю шумного сборища на Никологорской даче сердобольный аграрий купил туда новый телевизор с громадным экраном, размером аж в том Большой Советской Энциклопедии. В Новый год молодежь прилипнет к телевизору, будет смотреть все подряд, с нетерпением ожидая «Голубой огонек».
Леля полдня просидела в парикмахерской, хотела поразить гостей прической.
С утра дачная прислуга начищала и наряжала дом, а пожилой дворник выволок на двор лестницу и, взобравшись на самый верх, стал украшать игрушками и огоньками уличную елку.
31 декабря 1957 года, вторник
Шел снег, мелкий, как крупа, сыпучий. Не чувствовалось в его стремительном падении свежести, новогодней таинственности и чистоты. Непохож был этот колючий снег на новогодний, замороженные полульдинки-полуснежинки с шипением падали вниз, образуя под ногами грязно-мокрую рыхлость. Промозглость да завывания ветра делали мир вокруг некрасивым и грубым. Подобный снегопад случался обычно в середине осени, начинался внезапно с протяжным ветром, небо резко темнело, затягивалось тучами и — враз начинало мести. Так и сегодня, снег некрасиво сыпал, не позволяя ветру удерживать на весу снежинки, баюкая их в томной медлительности. Угрюмый снег этот не застилал горизонт мягким смирением, он громко, точно дождь, срывался на крыши, царапал по окнам и — умирал на неостывшей пока земле. Первые некрасивые сугробики накидал лопатой коренастый дворник.
В Сосновке зажглись фонари. Маршальский дом, поблескивая мутными огнями окон, исполинским силуэтом проглядывал в сумерках, угрожая опрокинуть ненастье, которое осмелилось его беспокоить. С наступлением темноты выкрашенные в зеленый цвет стены здания все больше чернели и растворялись во мгле.
— Безрадостный снег, не новогодний, — вымолвил Георгий Константинович, глядя в окно.
Галя кивнула. Муж взял руку жены и ласково пожал.
— На работу мне ходить некуда, буду книгу писать, вспоминать былое, — печально проговорил маршал. — Не армейское занятие — в кремлевских коридорах честь отдавать.
— Книга — это здорово! — отозвалась супруга, на ее губах застыло подобие улыбки.
Последние два месяца, как мужа «ушли» с работы, он ходил черный, безулыбчивый, переживал падение, перемалывал в себе острые края правды, невыносимую обиду на близких, отвернувшихся в одночасье. Весь этот клокочущий зловонием позор он переваривал не умом, а сердцем, потому как лишь человеческое сердце способно вынести подобное, лишь сердце умеет любить, ненавидеть и прощать. Галина боялась, что у мужа случится инсульт или тяжелый сердечный приступ, и он угодит в больницу, а может, и того хуже!
«Хорошо, что Георгий задумал книгу, теперь у него появится занятие, он успокоится, отвлечется, а мне можно будет переключиться на малышку». Маша родилась крупная, три девятьсот, и росла очень активной.
Как только маршала уволили, заботы государства о жуковской семье не убавилось, хотя штат обслуги урезали, охрану удвоили. Машины, обслуживающие маршала, водили новые шофера, безулыбчивые, с внимательными глазами.
Галина Александровна разрывалась между мужем и ребенком. Она привезла из Орла тетку, которая оказалась плохой помощницей, ей уже искали замену.
Последние дни в прессе появились резкие статьи о военачальнике, маршалы Чуйков и Еременко обвиняли его в зазнайстве, попустительстве, в масштабных человеческих жертвах. Георгий Константинович расстраивался. Галина уверяла, что это ошибка, что все образуется, что даже вулкан постепенно затухает.
— В общем-то, теперь я никому не интересен! — вздыхая, соглашался супруг. — А Чуйков с Еременко мои старые завистники.
Не только люди вызывали теперь отвращение, отвращение вызывало все — газеты, журналы, телепередачи.
Этот Новый год Жуковы встречали одни, без гостей. Ни генерала Крюкова — шутника и балагура, ни жизнерадостной неугомонной его жены, певицы Руслановой, ни предупредительного Телегина, никого не позвали, в глубине души опасаясь, что и они не придут. Любой человек вызывал у Жуковых страх, им хотелось побыть одним, замкнуться в семье, отдышаться.
В обед Георгию Константиновичу позвонил бывший начальник Главного Политического управления Армии и Флота генерал-полковник Желтов, которого вслед за маршалом освободили от должности, поздравлял с Новым годом, просил Георгия Константиновича не расстраиваться, плюнуть, беречь себя и жену.
— Что бы кто ни говорил, вы — герой войны! Вы врезали японцам, врезали фашистам, вы принесли победу. История рассудит. Время расставит все по местам. Держитесь!
Маршалу был приятен этот звонок, ведь с того момента, как его сняли, телефон молчал, никто не звонил, словно не существовало героического полководца на белом свете. Однажды Жуков прошел сквозь гробовое молчание. Когда Сталин вывел его из ЦК, отправил в Одессу, а потом выслал на Урал, тогда воздух захлебнулся молчанием. Хорошо, что он повстречал в ссылке свою милую Галю, опала того стоила. Но сейчас маршалу было вдвойне тяжелей: он разочаровался в самых близких друзьях, в тех, кому верил, за кого был готов стоять насмерть!
Георгий Константинович тяжело вздохнул и поцеловал жену. Галина пополнела, она кормила грудью, но все равно была привлекательной и им любимой; губы и особенно глаза по-прежнему улыбались, лучились светом, были любящими, добрыми.
— Ты моя радость! — прошептал маршал.
Галя накрыла своей маленькой, мягкой ладошкой его большую, сильную руку и погладила.
— Ничего, Галюша, ничего, переживем! Для себя жить будем, на наш век хватит! — голос его дрожал.
Снег за окном все шел. Две высоченные ели напротив стали совсем белые, белесая в свете фонарей дорожка, уличные лавочки, сучья деревьев и беседка потонули в снегу.
— Нам бы, Галя, доченьку на ноги поставить. Одна у меня теперь забота — Машенька! — маршал утер кулаком невольно набежавшую слезу.
Его Галя подсела ближе, обняла своего Георгия, и они оба разрыдались.
Часы били полночь.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



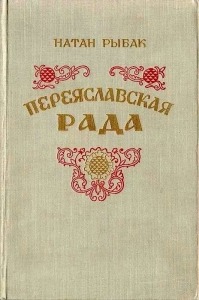
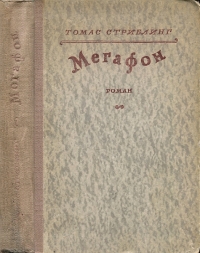

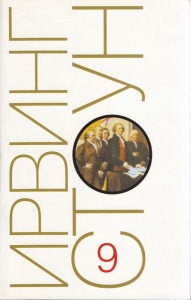


Комментарии к книге «Царство. 1955–1957», Александр Леонидович Струев
Всего 0 комментариев