Дмитрий Володихин Царь Гильгамеш
Об авторе
«Я коренной москвич и очень люблю родной город. Больше всего душа моя прикипела к одному чудесному месту в старой Москве, до сих пор, слава богу, не исковерканному современностью. Если встать в нижней точке Старосадского переулка спиной к Ивановскому монастырю, то справа окажется прекрасная древняя церковь Святого Владимира, а впереди – Государственная публичная историческая библиотека. Здесь моему сердцу уютно. Лучшее из того, что я когда-либо совершил, связано либо с храмом, либо с библиотекой», – так в одном интервью 2013 года выразил суть своего взгляда на жизнь Дмитрий Михайлович Володихин.
Его судьба накрепко связана с Москвой – со столичными храмами, архивами, журналами и университетом. В 1969 году Дмитрий Михайлович родился здесь и никогда не покидал город надолго, за исключением двух лет службы в армии. В 2014 году он признался Москве в любви, написав книгу «Московский миф» – о метафизике города. Среди прочего там сказано: «Моя Москва – маленькая, а не величавая, не историческая. Моя Москва – тополя, голуби, скрипучие качели, пустырьки, заборы с дырками, гаражи, скудные рощицы на задворках. Высокую красоту Города я открыл для себя только в зрелом возрасте. Переменилось время, переменилась и моя жизнь. Лет в тридцать, может быть, я начал понимать, что есть в Городе нечто, помимо кубических монолитов власти, опошленного Кремля и моего дворика, размноженного в тысячах вариаций. Только тогда я дорос до Москвы во всем ее великолепии, славе и силе».
Окончив исторический факультет МГУ, он остался в alma mater как преподаватель, защитил сначала кандидатскую, а потом и докторскую диссертацию на материале Московского царства – от Ивана Великого до царевны Софьи. Долгое время работал в Российском государственном архиве древних актов. Автор трех десятков монографий, справочников, учебных пособий по русской истории.
Ремесло академического историка легко и гармонично сочеталось в его жизни с ремеслом писателя. Из-под его пера вышло 11 романов, полсотни повестей и рассказов. По словам Володихина, «со времен Карамзина лучшие историки России всегда были хоть немного писателями».
Совместно с критиком Александром Ройфе и писателем Эдуардом Геворкяном в 1999 году Дмитрий Володихин основал литературно-философскую группу «Бастион» – своего рода «имперский клуб» для гуманитариев. Костяк его составили ученые и литераторы с государственническим складом ума – христиане, почвенники, консерваторы. На собраниях «Бастиона» они обсуждали проблемы изящной словесности, истории и политики. Спорили, писали статьи, выносили дискуссии на телеэкран и в радиоэфир. Позднее от ЛФГ «Бастион» отпочковалась еще одна организация, «Карамзинский клуб». Там проходит публичный разбор современных книг по истории – как романов, так и монографий. «Карамзинский клуб» всегда был и остается сообществом, где царит христианское мировидение.
В «нулевые» годы Дмитрий Михайлович много сил отдал жанру исторического портрета. Его любимые персонажи – государи московские, искусные воеводы, знаменитейшие святые Русской церкви. Широкую популярность и яркие отклики в прессе получили его книги «Иван Грозный. Бич Божий», «Царь Федор Иванович», «Высокомерный странник. Жизнь и философия Константина Леонтьева», «Иван Шуйский», «Митрополит Филипп», «Опричнина и псы государевы», «Рюриковичи». За биографический труд «Пожарский» Дмитрий Михайлович был удостоен Макарьевской премии.
«Визитная карточка» его творческой манеры – постоянный привкус мистики, пронизывающий исторические события и судьбы великих личностей. Неважно, какого века и какой цивилизации касается его перо – Московской ли Руси, древнего ли Шумера, – мир людей нигде не лишен божественного присутствия. Господь Бог вмешивается в исторический процесс ежедневно, ежечасно, а биографии прославленных персон древности несут в себе притчи о любви и ненависти, о труде и войне, о вере и безверии, написанные самим Небом.
Дмитрий Михайлович любит говорить: «Самое интересное в нашей жизни – это диалог человека с Богом, не прекращающийся никогда – даже если человек решил от него отказаться».
Избранная библиография Дмитрия Володихина:
«Гильгамеш» («Дети Барса», 2004)
«Иван Грозный. Бич Божий» (2006)
«Государева служба» (2008)
«Россия: великие моменты истории» (2009)
«Пожарский» (2012)
В оный день, когда над миром новым Бог склонял лицо Свое, тогда Солнце останавливали словом, Словом разрушали города. И орел не взмахивал крылами, Звезды жались в ужасе к луне, Если, точно розовое пламя, Слово проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, Как домашний, подъяремный скот, Потому что все оттенки смысла Умное число передает… Патриарх седой, себе под руку Покоривший и добро и зло, Не решаясь обратиться к звуку, Тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно Только слово средь земных тревог, И в Евангельи от Иоанна Сказано, что слово это Бог. Мы ему поставили пределом Скудные пределы естества, И, как пчелы в улье опустелом, Дурно пахнут мертвые слова. Н.С. Гумилев Дворец я покинул, Пошел воевать, Чтоб землю Гриады Эробсам отдать… Фараон Эхнатон ПравоверныйКлинок Баб-Аллона 2508-й круг солнца от Сотворения мира
«Раб, будь готов к моим услугам». – «Да, господин мой, да». – «Восстание я хочу поднять». – «Так подними же, господин, подними. Если не поднимешь ты восстание, как сохранишь ты свои припасы?» – «О раб, я восстание не хочу поднять». – «Не поднимай, господин мой, не поднимай. Человека, поднявшего восстание, или убивают, или ослепляют, или оскопляют, или схватывают и кидают в темницу».
Диалог господина и раба о смысле жизниЭнлиль судьбу властителя определил…
Гимн ШульгиЛуна покинула небесную таблицу.
Для нежного и холодного существа по имени Син несносны грубоватые ухаживания крепыша Ууту. В месяцы дождя и долгих теней этот неотесанный грубиян выступает не в полной силе. Его можно терпеть, можно даже оспаривать его право овладевать небесной таблицей изо дня в день… ибо изысканным натурам неприятна любая регулярность. Порою они подолгу ведут беседу среди бледнеющей тьмы. Она, высокая худощавая Син, осыпает мужлана колкостями, тонкие губы ее растянуты в презрительной усмешке… Он, кряжистый коротышка, мускулистый живчик Ууту, терпит ее издевательства, все пытается завести с нею дружеский разговор, но, конечно же, напрасно. В конце концов он прекращает спор своей властью, поскольку именно он владеет временем света. «Уходи!» – повелевает он Син. Тогда ей остается только смириться и уйти в изысканные сады тьмы. Но для столь, неторопливой беседы требуются месяцы дождя и долгих теней. Сейчас другое время. Реки вышли из берегов, землю оживила плодоносная влага, но месяцы зноя еще впереди. Стоит второй месяц высокой воды; солнечный диск просыпается рано, жар его нестерпим для белой кожи Син. Уста его источают странный аромат, от которого хочется быть побежденной… Но Ууту и сейчас еще не в полной силе, лишь время зноя и коротких теней сделает его владыкой.
…Луна убежала с небесной таблицы.
Миновала последняя доля второго шареха. Во втором шарехе Син появлялась в виде сияющего серпа. В первом она юным серпиком шествовала между прочими небесными знаками. Наступила первая доля нового шареха, третьего. По ночам холодная красавица будет выходить из города теней в наряде полнолуния…
Каждую долю в Высоком шатре войска Баб-Ану сменяется командующий, а вместе с ним ануннак, дающий силу и мудрость его приказам. Три лугаля трех мятежных городов, три ануннака, чья сила безгранична… Что может остановить могучий Урук, священный Нишгур и богатый Эреду, когда силы трех великих городов собраны воедино? Кто устоит против них?
Лугаль Халаш, князь священного города Ниппура, откуда начался великий путь ануннаков-освободителей, занял кресло из черного дерева. В такую рань сюда не зайдет никто из тысячников. Войско должно отдохнуть перед битвой. Они устали. Долю назад подошли отряды из-под Сиппара. Гарнизон сопротивлялся до последнего, в рядах борцов Баб-Ану, осаждавших сиппарскую цитадель, не хватало теперь каждого третьего. Шарех назад пала дальняя Барсиппа. И тоже пришлось потрудиться. Пускай отдыхают. Возможно, сегодняшняя доля завершит все их предприятие. А ведь в самом начале риск представлялся столь высоким, а прибыль столь сомнительной…
Халаш был родом из молодой семьи, еще два поколения назад не имевшей права защищать свою жизнь, свое имущество и свой скот в стенах ниппурской крепости, когда город осаждают врага. Даже за право торга приходилось платить! Теперь все переменилось. Ан! У твоих нет лежу я в пыли, тебе пою, твоей власти жертвую лучшее. Ты дал мне сияние мощи, какого не имеют и цари баб-аллонские. Ты возвысил меня и я слуга твой… Теперь все переменилось. Лугаль ниппурский, поставленный царем Донатом, мертв. Старые семьи унижены и смирились, а те, кто не смирился, пошли под нож. Праведники изгнаны из священного города, столичные чиновники-шарт скормлены псам. Молодые сильные семьи никому не уступят власть над Ниппуром. Ан! Послужим тебе до конца и совершим очистительный обряд над дерзким Баб-Аллоном, какой тебе понадобится. О, Ан!
…Его семья – из купцов, а еще того раньше они кочевали на самых границах Царства, не желая платить подати, рыть каналы и отдавать родичей в солдаты. Еще отец Халаша помнил те времена, когда старейшие никак не могли решить: осесть ли семье на земле ниппурской или сделать город своей добычей?
Лугаль раздувал ноздри. Привычка торговца: по запаху, исходящему от драгоценной ароматической палочки, определять, сколько сиклей серебра сейчас тлеет и превращается в дым? Напрасная трата. Да и весь этот поход следовало бы несколько… удешевить. Слишком много запасных стрел. Люди дешевле бронзы! Слишком много провизии. Конечно, идем по землям союзников, негоже обижать славный город Киш. Но ведь война… Да и земля эта – не священная земля Ниппура. Кое-чем можно было бы и попользоваться.
Тонкий аромат перемешивался со смрадом, силился победить его и не мог. Полбеды, что всю ночь в шатре наслаждались друг другом буйные влюбленные, и запах их неистовых схваток все еще не выветрился. У звероподобного урукского лугаля Энкиду на ладонях кожи не видно под шерстью, а его ануннак Иштар имеет странную привычку являться в обличье хрупкой девушки, на вид ему (ей? кто их поймет?) не дашь и пятнадцати солнечных кругов… Так вот, это полбеды. Но чем, великий Ан, так несет от его собственного, ниппурского ануннака Энлиля? Чем? Сколько мы с ним вместе, но привыкнуть невозможно. Сидит на другом кресле, из чистой бронзы, до чего же дорогая блажь! Пребывает в любимом обличье – человекобыка. Бычьего в нем – рогатая голова и… Разумный человек не обратит внимания, а женщины долго провожают взглядом. Никогда, ни единого разу Энлиль не прикрывал этого одеждой. Все, что угодно, Только не это. Ну хорошо. Бык. Но запах-то небычий. Простая ходячая говядина пахнет привычно; вообще, скотина, она и есть скотина, пахнет она вся уютно, по-домашнему. Как можно не любить скотские ароматы? А этот… Только по видимости бычьей породы. Тянет от него чем-то неопределенным, но очень, очень опасным. Оно и понятна – ануннаки – сильный род, люди против них как псы против львов. И глаза – совсем небычьи. Когда Энлиль является в человекоподобном виде, нет в нем ничего необычного. А сейчас. Даже смотреть страшновато. Добро бы один стоячий зрачок, как у кота. А тут – по три таких зрачка в каждом глазу.
Энлиль заговорил. У него был голос зрелого мужчины. Глубокий, звучный. Но совершенно обыкновенный. Ничего особенного. Язык городов темного Полдня Он знал, похоже, с рождения. Все ануннаки говорят на полдневном наречии чисто и складно, точно выговаривая все слова. Впрочем, они так же чисто говорят и на столичных говорах; никакой разницы – высокая эта речь или низкая. То же и с языком низкорослых эламитов. И даже редкие пришельцы с темной Полночи, люди-быки, чья мощь ужасает, говорят с ануннаками свободно, хотя их птичье щелканье, кажется, позабыто уже всеми со времен Исхода. У бородатых и черноголовых людей суммэрк, первейших слуг ануннаков, своя речь. Ануннаки понимают ее, а люди Полдня – нет… ну почти нет. Ведь все языки суть дети одного, старшего. Может быть, это речь людей-быков… Когда-то Халаш поинтересовался, как называется язык ануннаков в тех местах, откуда они родом. Энлиль засмеялся и в ответ издал странный басовитый гуд. Вот, мол, как называется. Запомни, мол, может, пригодится… Так вот Энлиль заговорил:
– В полдень к тебе придут послы от царя Доната. Они попросят вернуть Урук. И еще кое-что. Помельче. Наверное, Сиппар. Взамен предложат мир. Так вот, я советую тебе принять его.
– Советуешь или повелеваешь?
– Ты давно рядом со мной, ты знаешь, я никогда не приказываю. Я предлагаю взять что-нибудь и называю цену. Иногда я советую тебе, как лучше поступить. За это ты кормишь меня, поишь и приводишь ко мне жриц. Ну и славишь меня, согнув колени, когда потребуется.
«Как будто он из рода купцов, а не я», – досадовал лугаль. Странные боги. Не повелевают, а торгуются, втроем стоят целого войска, но ленятся поднимать оружие… Вот Энмешарра тот был да-а-а. Но для него не существовало своих и чужих. Он различал только то, что стоит на его пути, и то, что там не стоит… Энмешарра… Ан, что это было за существо? Бог?
– Господь Энлиль, если позволишь, я пренебрегу твоим советом.
– Нечего иного я и не ждал. Для нас не столь уж важно, что именно сегодня произойдет. Будет ли заключен мир, погибнет ли ваше войско…
– Войско борцов Баб-Ану, господь.
– Какая разница? От этого оно не перестает быть вашим.
Лугаль этого не понимал. Впрочем, важнее было другое.
– Господь Энлиль! Ты говоришь странные вещи. Либо мир, либо нас разобьют… Но сегодня у нас по два или даже по три бойца на каждого воина в царском войске. Время главенства Баб-Аллона закончилось. Царь Донат и его эбихи пришли к славному городу Кишу за собственной смертью…
Халаш мог бы добавить многое в пользу своих слов. Гордый Баб-Аллон взят в кольцо. Борцы не дают землепашцам набивать амбары зерном, палят ячмень на полях, отгоняют кочевников с Полночи, не позволяя им продавать скот. А великая река Еввав-Рат, по которой могли бы подняться к столице Царства торговцы рыбой, перекрыта кораблями людей суммэрк: им сполна заплачено серебром, тканями и драгоценными дощечками из кедра. В столице скоро начнется голод, если уже не начался.
Правда, упрямый лугаль Урнанши, владыка славного города Лагаша, отложившись от Царства, не пожелал присоединить свои силы к мятежной армии, и ануннака своего, Нинурту, не впустил за стену, не поселил в храме… За то и лишен сияния мощи. Но ведь и в спину не ударил. Правда, Эшнунна осталась верной царю Донату… Но она далека от столицы и слаба. Правда, за Иссин пришлось заплатить полной мерой… Но это было давно, и раны мятежного войска затянулись.
С начала великого похода и до сих пор Творец пальцем не шевельнул, дабы защитить «излюбленных сыновей» своих. Неудачи одна за другой преследуют царя Доната.
– Послушай, лугаль. Ты ведь не дурак, хотя и низкого рода. Ты видел мою силу. Ты знаешь, как далеко я вижу. Я даю тебе хороший совет. Ни Иштар, ни Энки не пожалели своих лугалей, не сказали им ничего. Я – говорю. Я знаю, что ты еще можешь нам пригодиться.
– Но почему, господь? Мы побеждаем…
– Вы – никто. Пыль под ногами. Жидкая глина, которую научили шевелиться и не расползаться в бесформенные груды. Ваша война – это битвы слепых и одноглазых. Слепые – вы. Царь кое-что понимает. То, что сейчас кажется победой, не более чем иллюзия собственной силы. Слышал ли ты когда-нибудь о пехоте ночи?
– Клинок царства? Последний резерв? Но их совсем немного.
– Даже если бы царь Донат не привел семьдесят, два раза по тридцать шесть ладоней воинов, то и одной пехоты ночи было бы достаточно, чтобы разогнать ваш сброд. Слышишь ты? Их будет всего-навсего двадцать четыре раза по тридцать шесть ладоней, но вам – хватит. Нетрудно одноглазым убивать слепых…
Энлиль засмеялся. И насколько обычным был его голос, настолько же странным – смех. Словно камнем били о металл, не щадя ни того, ни другого. Лугалю захотелось уязвить ануннака. Есть на свете существа, которых боится и он. Во всяком случае, боялся когда-то.
– Господь, ты помнишь Энмешар…
Многое произошло в следующий миг. В шатре стало холодно, свет померк, а Энлиль исчез со своего кресла в мгновение ока. Тотчас же длинные и тонкие, как у женщины, пальцы с неженской силой сжали губы лугаля.
– Ты! Как ты смеешь! – зашипел названый бог Ниппура.
Тьма понемногу рассеялась, пропал и холод. Но рука ануннака все еще запирала уста Халаша.
– Послушай меня, дурак. Я как раз решаю вопрос: убить тебя сейчас же ради собственной безопасности или подождать?
Халаш сидел ни жив ни мертв. Боялся пошевелить перстом, даже вздохнуть поглубже. С тех пор как выпал его жребий и жители освобожденного Ниппура выбрали его своим лугалем, прочие же пять вождей ушли из стен города, вокруг головы, плеч и ладоней Халаша пылало радужное сияние мощи – меламму. Такое же меламму было даровано Нараму из Эреду и Энкиду из Урука. Сияние тускнело, когда ануннаки выражали недовольство повелителями города, и, напротив, жарко вспыхивало, когда им нравились деяния лугалей. Не слова наглой священной коровы, не тон, которым они были сказаны, не сила пальцев ануннака больше всего Халаша испугали. О нет. Долго пребывая рядом чем-нибудь величественным и страшным, понемногу привыкаешь… Но прежде не было такого, чтобы меламму превращалось из ослепительного ковра в сеточку из редких и тусклых блесток. Краем глаза лугаль видел именно это: ладони почти не светились. Как жутко, Ан, как жутко!
– Так вот, послушай меня. Ты – не простой человек. Ты лугаль. И слово твое полновеснее целой толпы слов, если они изречены любым из тех, кем ты правишь… Одни только имена, произнесенные тобой, могут вызвать из царства теней таких существ, от которых земля смешается с водой и небом, кровь зальет весь твой город на высоту человеческого роста, огонь пожрет все живое. И даже тридцати шести раз по тридцать шесть слов тебе не хватит, чтобы загнать их обратно… А мне, поверь, жалко город, призванный отдавать мне все лучшее, чем владеют его жители… Простофиля, обещаешь ли ты никогда не произносить имя, которое только что чуть не слетело с твоих уст. Если да, медленно кивни.
Если нет или если ты неискренен со мной, твоя голова утратит связь плечами… Мне нетрудно будет узнать самые потаенные твои желания.
Халаш кивнул. Пальцы отпустили его губы. Когда ануннак уселся на свое место, лугаль разочарованно спросил:
– Но почему, господь? Ведь нам никогда не найти союзника сильнее…
Очень странно видеть смеющуюся корову. Рога чиркают по бронзовым фигуркам крылатых козлов, вставших по углам спинки кресла, как люди, во весь рост; струйки слюней брызжут во все стороны.
– Союзник? Страж матери богов – союзник тебе? Охо-хо. Да он в этом мире никому не враг и не союзник. Он просто верная смерть. Для всех. Даже для меня. Я не знаю, как устроена его голова. Но тебя, меня, всех жителей Баб-Аллона, Урука, Ниппура, Эреду, всех людей суммэрк, всех эламитов, да вообще – всех, он видит не как людей или живых существ, а как обстоятельства. Он не понимает разницы между тобой, медным ножом и пшеничной лепешкой. Охо-хо, союзник! Ты понял меня, лугаль?
– Да, господь.
– Ты ничего не понял. Ты не знаешь, что он такое. Я объясню тебе. Как ты думаешь, лугаль, кто победит: я или все войско славного города Ниппура, если оно выйдет против меня?
– Победишь ты, господь…
Энлиль заглянул в глаза собеседнику.
– И все-таки ты ничего не понял.
– Я понял, господь. Нет никаких сомнений в том, что победишь Ты. Ничто не помешает тебе одолеть нас.
– Сейчас ты несколько приблизился к истине. Но почему, мой любезный лугаль, князь священной кучки халуп, мы, ануннаки, не бьемся народа царского войска? Отчего мы лишь помогаем вам, людям, но не делаем за вас всей работы? Ведь для нас это, как могло бы показаться, совсем не сложно? Втроем, полагаю, мы обратили бы в бегство намного более сильную армию, чем та, которую выставил сегодня Донат…
Халаш решил про себя: как только дела пойдут худо, он вызовет Энмешарру, как бы ни пугал ею Энлиль. Вызовет хотя бы ради того, чтобы этот насмешник вновь поперхнулся от страха. И пусть хоть вся благословенная земля Иллуруду от моря до канала Агадирт и Полночных гор вывернется наизнанку! Вслух же он сказал то, чего ждал от него ленивый бог Ниппура:
– Я слепец, господь. Должно быть, я не способен разглядеть нечто важное.
«Иногда боги бывают ленивы, иногда жестоки, иногда глупы. Они как люди. Вот и все, чего я не вижу. Если Творец не властен над всеми нами, то боги – это просто очень много силы» – так размышлял Халаш. Лицо его… Да что его лицо: дед Халаша, великий торговец, выделывал с лицом еще не такие штуки! Даже очень мудрые люди купят у тебя старого коня или больную овцу, когда у тебя умелое лицо.
– Ты слепец. На земле и в земле, на воде и в пламени костра, в кронах деревьев и в дуновении ветра иногда можно увидеть, услышать, почуять шаги судьбы. И отойти с ее дороги. Мы можем кое-что делать за вас по вашей же просьбе. Иногда. Но вступи мы в открытый бой с царевой ратью, на ее стороне сейчас же встанут существа посильнее нас. Тогда вся благословенная земля Иллуруду вывернется наизнанку… А теперь скажи, милейший, ведь ты хотел бы знать мое истинное имя?
Лугаль молчал, пораженный. Не сам ли Энлиль повторял ему не раз: правильно назвать суть вещи или человека – значит наполовину завладеть им… Зачем отдает он истинное имя свое? Желает убедиться в покорности лугаля? Что не дерзнет он даже шагу сделать в направлении, откуда может грозить ануннаку опасность? Но ответь ему «нет», и все равно не поверит. Лугаль молчал, мудро молчал, даруя ниппурскому богу выражение лица, поворот головы и застывшие на подлокотниках пальцы – совсем как у потрясенного человека Лугаль молчал, будто бы пораженный.
– Действительно, не поверю, – молвил Энлиль, – но не столь уж это и важно. Имя мое таково, что использовать его мне во вред невозможно. Мое имя – цифра. Шесть раз по тридцать шесть и четыре. А имя стража матери богов – просто два. И мощь его во столько же раз, чтобы тебе было понятно, превосходит мою, во сколько шесть раз по тридцать шесть воинов и еще четыре сильнее всего двух. В наших краях так: чем меньше цифра, тем больше силы. А если ты не цифра, ты прах. Понял ли ты, благородный лугаль из погонщиков скота родом? Извини, запамятовал. Из скототорговцев.
– Господь, я внимательно слушал тебя. Уста твои…
– Уста мои как у коровы. И рога преогромные. Так вот, лугаль, представь себе того, кто встанет против него, против стража…
Халаш молчит. Кто встанет, тот и встанет. Не стоит бояться хорошей драки.
– …и что останется от земель и городов, которые станут знаками на таблице великой битвы… Со священным городом Ниппуром, например.
– Кто мы для вас, господь? Для тебя, для Иштар из Урука и для Энки из Эреду? Кто мы для вас? Зачем вы подняли нас в поход, если не верите в нашу победу?
– Кто вы?.. Вы – мертвые герои. Для Иштар и Энки лучше всего, если вы останетесь лежать здесь, на поле, недалеко от славного города Киша, как настоящие мертвые герои. Вам оставалось так немного до высоких стен Баб-Аллона… Ваши дети и ваша родня, я надеюсь, придут, чтобы отомстить за вас. Впрочем, по мне, так и трусы сгодятся. Если эти трусы достаточно ловки и сообразительны, чтобы заключить мир, когда им приносят его в дар. Пожалуй, этим трусам будет с чего начать потом, солнечных кругов через пять… или десять… Но, возможно, могучий лугаль, ты предпочтешь остаться героем в памяти потомков? Как нерасчетливо!
Халаш утвердился в своем решении. О, Энмешарра…
– Господь, я слушал тебя и слышал тебя. Если не хочешь помочь нам победить, отойди и не мешай, Мы победим сами.
Коровья морда усмехнулась совершенно по-человечески…
* * *
Когда царские послы, ничего не добившись, отправились восвояси, опустел и шатер командующего. Лугаль Урука Энкиду и лугаль Эреду Нарам ушли к своим войнам. Ануннаки, забыв о божественном величии, устроились на высоких пальмах – с комфортом наблюдать за ходом боя, ибо зрелище великого человекоубийства приятно для них. Халаш велел вынести черное кресло на возвышение перед шатром. Вокруг него со брались бегуны – разносить приказы войскам, крепкие ниппурские воины в доспехах с медными пластинами и лучники народа суммэрк – защищать жизнь лугаля, писцы с красками, кисточками и кусками пергамента – записывать деяния храбрых борцов Баб-Ану, обнаженные по пояс барабанщики – подавать войскам сигналы. В отдалении переговаривались командиры резервных отрядов в сияющих шлемах и дорогах одеждах – им предстояло в нужный момент по мановению руки Халаша устремиться в гущу сражения и добыть победу.
Между тремя лугалями было заключено соглашение: только один из них, а именно тот, кому подошла очередь, командует войском и принимает все решения на протяжении доли. Другие два знают обо всем важном, что происходит в эту долю, подают ему советы, спорят с ним, однако всегда подчиняются его приказам. Но лишь красавица Син стыдливо закроет свой лик, лугаль прежней доли склонит голову перед лугалем новой доли.
Так вот, исход сегодняшнего дела и всего предприятия мятежных городов полностью зависел от решительности и искусства Халаша ниппурского…
Лугаль обозрел равнину, черную от людей и приправленную искрами от оружия, блистающего на солнце, – как густая темная похлебка бывает протравлена маленькими ломтиками чеснока. Плохая, неплодородная земля. Торговец Халаш оценил бы ее очень низко: соляные проплешины тут и там, глина… Чтобы поднять се, потребовались бы усилия сотен крестьян и множество солнечных кругов. Слева – канал, древнее которого мет на земле Иллуруду. Столь широкий и столь глубокий, что кажется, будто прорыли его не люди, а гораздо более могущественные существа. Начавшись в Баб-Аллоне, тянется он от полноводного Еввав-Рата к славному породу Катар, а оттуда еще дальше – к великой реке Тиххутри. Весной Еввав-Рат бесится, заливая все вокруг, и Тиххутри спасает жителей этой земли, принимая в себя губительную силу паводка. Даже цари баб-аллонские не в силах чистить канал чаще, чем раз в сорок восемь и два года – так он велик. Берег его зарос высоким тростником, превратился в болото и приютил во множестве речных змей, чей яд убивает долго, но наверняка. Справа – другой канал, гораздо уже и мельче, но зато облицованный кирпичом, чистый. Строить царские мастера умеют, тут ничего не скажешь…
Ан, к тебе обращаюсь, нас ты научишь так строить?
…На том берегу, за каналом, во множестве росли финиковые пальмы. В поле колосился добрый ячмень… Месяц аярт, отметил про себя лугаль, скоро можно будет собирать урожай, жалко, осыплется, пропадет… да что же тут такого – пропадет? Это ведь не наше, это царское добро, пусть столица скрипит зубами от голода, пусть встанет на колени, попросит лепешку с отрубями, с травой пополам! Может, дадим. Не все же им из нас тянуть! А все-таки жалко, очень жалко, хороший ячмень… Белые поля хлебной рати перечеркнуты были черными клинками пожарищ. В прошлую долю конники жгли тамошние поля. Выгорело, однако, немного. Погода стояла безветренная, а все приканалье с той стороны разделено на небольшие участки маленькими канальцами, отходившими от главного, и дальше просто канавами. Огонь никак не желал перескакивать с участка на участок… Горелые и уцелевшие шесты водочерпалок-даллим укоризненными перстами торчали на канальцах тут и там.
Как раз посредине, между двумя каналами, белела пыльными колеями дорога из Баб-Аллона в Киш. Там, вдалеке, за вражескими отрядами, над нею высился безлесный холм. Там, наверное, тучи царских лучников, камнеметы – словом, вся радость… Даже несведущему в военных делах человеку ясно: кто владеет холмом, тот владеет сражением.
Тысячи пеших бойцов царя Доната III закрывали своими телами дорогу на столицу. С флангов поставлены были конные отряды.
Таблица этого сражения проявится гораздо позднее, когда поле между двумя каналами укроется одеялом из неуемных человеческих тел. Тогда каждый увидит, что было на ней начертано и кому назначена была победа. Но как тут не увидеть, как не понять с самого начала?!
Роли борющихся сторон ясны. Войско мятежных городов – таранит, ибо обойти невозможно. Силы Царства встречают удар тарана и стоят до последней крайности, поскольку отступить для них – гибельно…
Еще ни Халаш, ни царь не подали сигнала, а тлеющий огонек битвы уже отыскал себе первую пищу. Поединщики, отойдя от своих отрядов подальше вперед, раззадоривали товарищей геройством. Лучники вяло обменивались подарочками, целя в командиров. На той, царской, стороне громко скрипнули деревянные механизмы камнемета. Лугаль не слышал этого, но он увидел, как тяжелая глыба набрала высоту, а потом ударила землю, немного не долетев до его воинов. Нестройный хор солдатских голосов в отдалении выводил гимн в честь царя и всего Царства, как всегда бывало перед большим сражением.
Ууту стоял в сиянии всей своей огненной мощи – не так, как будет в месяцы зноя, но все же воинам, изготовившимся к бою, приходилось несладко. Тени исчезли.
Нет причин медлить.
Халаш поднял правую руку.
Сейчас же над полем поплыл барабанный гул. Пестрые знаний и флажки над головами борцов Баб-Ану колыхнулись. Пехота трех городов, стоящая в центре позиции, пришла в движение. Лучники выступили вперед и осыпали неприятеля стрелами. Большинство лучников мятежа – суммэрк. Лукавые люди, не любят меча не любят прямого боя сила на силу, зато стрелки из лука у них очень хороши…
Справа с гиканьем понеслась вперед конница кочевников, что живут на Полночь от Иллуруду. Ох, как опасно было приводить их на эту землю! И без того их летучие отряды то и дело пронзают провинции Царства… Прежде столичные эбихи останавливали их всех… нет, не всех, конечно, но очень многих, далеко от цветущих городов Иллуруду. В степях, где стоят одинокие крепости Царства, насмерть бились бабаллонцы вместе с провинциалами против диких всадников… Так было. Теперь, в смутное время, кочевники доходят до Урука, даже до Ура, даже до Страны моря. Изгнать их невозможно, покуда руки связаны борьбой с Донатом. Разве что вылавливать и отбрасывать назад самых дерзких… Или нанять. Многие сочли это неплохой идеей. Лугаль Нарам и ануннак Энки дежурили в ту долю. Нарам додал кочевникам половину платы за их мечи, обещал вторую часть после падения Баб-Аллона, принял трех тысячников с их людьми в войско и… приучил дикарей, что здесь они могут чувствовать себя как дома. Халаш был бы не прочь узнать после сражения о тяжелых потерях степной конницы. Об очень тяжелых потерях… Некоторые союзники беспокоят не меньше врагов.
Кстати, Нарам. Тоже родом из младшей семьи, бывшей в услужении у храма. Оттого слишком умный. Все желает перемудрить Доната. Все с ануннаками спорит. Халаш не то чтобы знал, а нутром чуял: победа достигается не силой и не умом, не храбростью и не богатством, а… Ан знает чем. Чем-то таким, что способно связать и то, и другое, и третье, и четвертое воедино. Но как назвать такую способность? Опять же, Ан знает… Но перехитрить бабаллонцев невозможно: иначе бы их перехитрили и растоптали шесть раз во тридцать шесть солнечных кругов назад или еще раньше. Нарам придумал попытать военного счастья новым способом. Посадил на колесницы лучников, прикрепил к ободам колес медные ножи и костяные шипы, а лотом уверял всех: мол, нагонит страху на царскую рать. Во-он они, его колесницы, домчались… а сзади держится конный отряд. Лошади дороги. Ох, как дороги лошади, расход ужасный! От Ура и Эреду на Полдень и до самых степных форпостов Царства на Полночь не найти удобного места, где их можно разводить. Так что почти все они – привозные. И ужасно, ужасно дороги.
Что там, вдалеке, справа и слева, не видно было Халашу. Побили кочевники царских конников или не добили? Нагнали страху колесницы Нарама или не нагнали? Пыль, поднятая копытами лошадей, встала непроглядной завесой. Далеко. Не видно. Прямо перед насыпью, на которой стояло кресло Халаша, пехота ударилась о пехоту. Над полем стоял всеобщий крик сражающихся воинов и лязг оружия. Царские пешие бойцы построились ровными рядами, выставив длинные копья. Когда падал один, на его место тут же становился копейщик из второй шеренги. Нападающие не имели никакого правильного строя. Толпы борцов Баб-Ану, словно множество роев рассерженных пчел, бились о стену щитов, кое-где проламывали ее ненадолго, но сейчас же вновь откатывались назад. Если бы Донат мог выставить равное по силе войско, центр мятежников был бы уже разбит. Но на равнине между каналами держало строй даже меньше бойцов, чем говорил Энлиль. Может быть, тридцать шесть раз по тридцать шесть ладоней. Может быть, сорок два раза Или, как считали полночные города по-старому, будучи еще под властью царя, тысяч восемь… Плюс немногочисленная конница. По четыре бойца Баб-Ану на каждого царского ратника. Халаш умел отлично считать. И счет говорил ему со всей определенностью: как бы умело ни сражались пехотинцы Доната, опора всей позиции, к вечеру их задавят числом, голой силой цифр, превосходящих другие цифры.
Если ты не цифра, ты прах…
С утра тени понемногу подбирают полы своей одежды, как люди, переходящие реку: все глубже, глубже, короче должны быть полы, иначе промокнут… Когда Ууту прямо стоит над землей и поливает своим жаром все живое, теней нет, полы подобраны к самому поясу Но потом становится не так глубоко…
Когда пальцы, тростник и фигуры людей стали давать крошечные тени, к Халашу явился бегун от Нарама. Перевел дух, опустился на колени, коснулся лбом земли.
– Говори.
– Высокий лугаль! Мой господин беседует с тобой моими устами… – Бегун перенял даже медлительную раздумчивую манеру Нарама. – Прямо за царской конницей большое болото, Халаш. Колесничих частью перестреляли из луков, частью же пропустили через строй, и они въехали в это болото. Конницы примерно поровну, никто не может одолеть. Дай хоть семьдесят две ладони бойцов, и я сломаю их. Я, Нарам, лугаль Эреду! – сказал.
– Передай господину своему, лугалю Нараму, мои слова своими устами. – Халаш помедлил. – Бейтесь сами. Я, Халаш, высокий лугаль, сказал. Беги обратно…
Нет, он ничего не даст. Черная пехота еще не вышла на поле. Что решит потасовка двух жалких горстей конницы? Пусть убивают друга. Им есть чем заняться на этой таблице.
Вскоре к шатру прибыл второй гонец, от полночных степняков. Их, дикарского рода. Борода покрашена в лазурь. Соскочив с коня, едва наклонил голову и заговорил на певучем наречии кочевников:
– Бой не взят ударом. Бой возьмут мечи.
Ни слова не говоря, лугаль указал ему в ту сторону, где сражались прочие дикари. Мол, сообщил – и возвращайся. Здесь выходило то же самое, что и у Нарама. Никто не опрокинул неприятеля. Теперь конники сошлись в неудобной и тесной сече. Там так узко, так худо для конного боя! С одной стороны – канал, с другой – кипение сражающейся пехоты. Не развернешься. Количество не сыграет роли. Тут либо одна из сторон переупрямит другую, а это вряд ли – и те и другие не любят отступать… либо… все решит пехота, и остается ждать успеха в центре.
Пока все шло, как и ожидал Халаш. Перед строем царских ратников лежало множество убитых борцов, но командиры мятежников приводили все новые свежие отряды. Бой шел своим чередом, перемалывая людей.
…Явился бегун от Энкиду.
– Говори.
– Высокий лугаль! Мой господин беседует с тобой моими устами… – Гонец сделал паузу и вдруг рыкнул изменившимся голосом: – Я иду. Я, лугаль Урука, сказал.
– Возвращайся назад.
«Должно быть, это очень страшно, – подумал Халаш. – Должно быть, это очень страшно, когда стоишь с копьем в шеренге, а на тебя идет чудовище с дубиной, усеянной каменными и медными шипами. Ибо именно такое оружие любит чудовище по имени Энкиду. Отсюда не различить, как повел своих людей лугаль урукский. Но в других боях Халаш бывал поближе и видел все своими глазами. Урук славится силачами, воины там хороши и любят меч. Однако это всего-навсего люди. И не более того. Их ведет за собой Энкиду. Их и… Очень редко люди бывают посланцами древних теней. Им нелегко среди сородичей, поскольку высокая тьма делает их нестерпимо дикими. Но силы в каждом из них – на трех человек, и звери идут за такими, как цыплята за курицей».
Вокруг гиганта с дубинкой, ослепительно сияющего своим меламму, прямо перед остальными урукскими пешими бойцами бегут степные львы и волки. И, добравшись до царской пехоты, звери будут сбивать ратников и рвать клыками. Не ради насыщения, а ради верности Энкиду. Тени слегка удлинили полы своих одежд.
Очередной заряд из камнемета поднялся над бьющимися пешцами и ударил в самое человеческое месиво.
У подножия холма строй ратников Доната стал понемногу прогибаться. Показалось? Нет, отходят. Отходят, отходят! Вот уже вступили на склон холма, им там неудобно драться. Как видно, добился своего чудовище Энкиду…
Медленно-медленно пешая рать Царства уступала поле боя мятежным городам.
Если Творец не пошлет чудо царю Донату, его дело погибло. В самом центре, там, где прогнулся пеший строй, Энкиду разрежет баб-аллонскую рать надвое. И тогда – все, конец. Осталось подождать скорого и неотвратимого исхода.
Халаш прикинул: он бы сейчас рискнул последним резервом. Цари баб-аллонские всегда поступали именно так. Уже случались мятежи, да и тьма внешняя не раз бросала свои полчища к воротам столицы. Когда нечем больше остановить врага, очередной государь вынимает свой черный клинок…
Ну так что же, покажет ли Донат пехоту ночи? Пора бы. Еще чуть-чуть – и она станет бесполезной. Лугаль ниппурский так ждал этого момента. Так готовился к нему. Чтобы раз и навсегда. Чтобы прихлопнуть наверняка. Прихлопнуть и забыть. Сколько их там будет? Двадцать четыре раза по тридцать шесть ладоней пеших бойцов? У него наготове втрое больше людей, отборных. Давай, царь! Бей.
А!
И впрямь, на вершине холма показались воины. Последний резерв Царства выходил на поле. Все произошло так, как ожидалось. Что теперь? Теперь они ринутся вниз, сомнут урукцев Энкиду, продавят пешие отряды, вставшие за ними, и растеряют силу удара в этом бою. Вот тогда-то ими и займется резерв… Ну, давайте! Это так удобно – ударить сверху.
Пехота Ночи не двигалась с места. Но перед нею происходило нечто странное. Продвижение Энкиду замедлилось. Остановилось. Люди на вершине холма все еще не начали своего движения, а борцы, знаменитые урукские силачи, побежали вниз, оставляя склон. Только теперь лугаль ниппурский понял: пехота ночи поливала атакующих стрелами. Четыре тысячи лучников, которые, по слухам, будут так же хороши в бою на мечах, а если надо, устроят копейный таран, – что это такое, Халаш не знал. Никогда не видел. Сейчас они работали как лучники. Четыре тысячи стрелков…
Склон опустел. Теперь пехота ночи начала свое гибельное движение. Халаш увидел, как спускается во склону один черный квадрат… второй… третий… всего восемь. Восемь маленьких черных квадратов… Не ускоряя шага, будто и не нужна им сила удара, они добрались до подошвы холма и нырнули в кипящее море вражеской пехоты. Лугаль не мог разобраться, что происходит у него в центре. Никак не разглядеть…
– Сейчас разглядишь. – Энлиль стоял у него за креслом. – Ты еще не знаешь, лугаль, как это бывает, когда твоя судьба оказывается у тебя под носом? Сейчас она придет за тобой.
– Я готов, господь Энлиль.
– Ты слепой дурак, лугаль. Беги, пока ты еще можешь удрать отсюда. Мне удобно было вершить дела вместе с тобой. Мне незачем давать тебе дурной совет. Так вот, беги.
– Зачем тебе надо спасать меня, господь? Меня не нужно спасать. Но если бы и потребовалось, отчего ты так заботишься обо мне? Ты, воплощенный холод!
– Затем, что ты ценный и умелый дурак. Я истратил на тебя столько времени! Другие дураки, поверь, намного хуже. Нарам и Энкиду тебе в подметки не годятся. Беги, Халаш, беги! Мы еще приставим тебя к делу, мы еще возвысим тебя. Быть может, ты вновь станешь лугалем.
– Мне не надо им становиться вновь. Я государь Ниппура и останусь им…
– …примерно семьдесят два раза по тридцать шесть ударов сердца. Столько тебе еще быть лугалем Ниппура, упрямец!
– Помоги или отойди, господь.
Ануннак замолчал.
Халаш наконец понял, чья берет в центре. Черные квадраты разрезал пешие отряды борцов, как медный нож режет баранье мясо. Ни на миг царские бойцы не останавливались. За их спинами тянулись широкие коридоры, усыпанные трупами и телами умирающих. Следуя за ними, поредевший строй царских копейщиков шаг за шагом теснил растерявшихся мятежников по всему центру. Вопль страха набирал силу над пехотой борцов Баб-Ану…
Черные шли молча. Никаких кличей. Никаких гимнов. Этим не нужно ни кличей, ни гимнов.
Лугаль поднял левую руку. К нему подошел гуруш Нумеа, командир ниппурских пешцов. Туда, как и в отряд Энкиду, отбирали лучших, сильнейших, самых рослых. Им достались дорогие доспехи. Их обучили бою в сомкнутом строю, как дерется баб-аллонская пехота Каждый из них ехал на онагре, а не взбивал ногами дорожную пыль: силы этой рати сохраняли для решающе го сражения. Халаш показал Нумеа цель атаки. Ниппурцы двинулись навстречу черным квадратам.
Лугаль должен был закончить дело сам. Да, отец его был торговцем, и дед тоже был торговцем. Но у всей их семьи текла в жилах слишком беспокойная кровь, чтобы навсегда согласиться с чьей-нибудь властью. Изворотливая покорность купца так и не стала мэ для рода Халаша. Отец незадолго до смерти сказал ему: «Все, что ты получишь после меня, – грязь. По-настоящему дорого стоят только две вещи: уметь повелевать другими людьми и никогда никому не подчиняться. Никто не встанет над лугалем Ниппура. За власть и силу свою пусть умрет гордый Баб-Аллон! Труп Царства будет лежать на этом поле…
Последний резерв мятежных городов поведет в бой он, лугаль священного Ниппура. Лучших конников, собранных в трех городах, от людей суммэрк, от эламитов и кочевников. Лучших из лучших. Их не меньше, чем бойцов во всех восьми черных квадратах. Они свежее, они рвутся в бой. И еще одно, главное. В отряд допустили только тех, кто крепко верит в пришествие Ана и его будущее воцарение. Эти будут биться за своего бога, а за богов люди бьются даже лучше, чем за собственную жизнь.
Черные квадраты разделили войско мятежных городов пополам. Ровно посредине. Они добились того, чего тщетно добивался звероподобный Энкиду. Не ускоряя и не замедляя темпа движения, пехота ночи двинулась навстречу ниппурцам. Стена щитов и копий со страшным грохотом столкнулась с другой стеной. Ровно миг держалось равенство сторон. Миг, не более. И миновало безвозвратно сразу после первого удара. Черная пехота прошла сквозь ниппурцев, никак не отличив этих воинов ото всех прочих. Будто не лучшие бойцы священной земли противостояли им, а пьяный сброд, будто не было истрачено столько серебра из городской казны на их доспехи!
Халаш хотел ударить сбоку, когда ниппурцы завяжут бой с черной пехотой. Ничего из этого не вышло.
Конники едва успели тронуться с места, а ниппурского отряда уже не существовало. Дорогу им преградила бегущая, обезумевшая от ужаса толпа. Последний резерв лугаля вынужден был остановить движение и пропустить беглецов.
Черные квадраты, разбив ниппурцев, остановились. Халаш и его конники стояли против них, изготовившись к бою. Лугаль видел пехоту ночи впервые. Так близко, что не составляло труда разглядеть лица. И это были лица людей совершенно спокойных и уверенных в исходе дела. На них не читалось ни страха, ни гнева, ни даже усталости! Халаш понял, что на таблице битвы с самого начала было начертано его поражение. Он не сумел бы победить эти восемь квадратов, хотя бы встал против них со всей армией мятежных городов…
Сколько там ему осталось ударов сердца?
Халаш мысленно простился со званием лугаля. Простился со своим прошлым, прошлым торговца. Простился с семьей. Его судьба очищалась ото всего, что не нужно для последнего броска. Древняя ярость, страшная, неукротимая ярость против всех, кто смеет возвышаться, полыхнула багровым пламенем. «Энлиль! Ты никогда не поймешь меня. В тысячу раз лучше укусить и подохнуть, чем служить. Халаш хотел одного – дотянуться и ранить, убить, разорвать, как рвут людей львы Энкиду, Помоги, Ан!
Кто желает быть выше меня? Сильнее? Чище? Кто желает править мною? Кто желает посадить меня на цепь? Кто хочет, чтобы я отказался от ничтожной доли моей свободы? Умри!
Умрите вы все!»
…Конную лавину на полдороги остановил дождь стрел. Воины падали, лошади переворачивались, топтали копытами своих, опрокидывались вместе со всадниками… Через барьер человеческих и лошадиных тел прорывались редкие умельцы – лишь для того, чтобы умереть на несколько мгновений позже. Бесполезное оружие рассыпалось по земле. Лучшие из лучших так и не смогли нанести удар.
Лугаль священного города Ниппура слетел с коня, грянулся оземь, круги поплыли перед глазами. Его войско гибло, а он сам валялся в пыли и ждал смерти. Ан! Отчего я даже не дотянулся до них? Не достал хотя бы одного? Ярость все еще кипела в Халаше, мешаясь с бессилием.
Сквозь гул сражения, сквозь крики гнева и боли прорывались иные звуки. Гуруши черных отдавали короткие лающие команды, стрелы с ласковым шелестом искали податливую плоть…
«Отчего я не ранил хотя бы одного из них?»
Конники падали, падали, падали, а у черных лучников все никак не заканчивался запас стрел.
«Да пусть же вместе с надеждой и свободой пропадет вся эта проклятая земля! Пусть не будет у нее хозяина!»
– Иди ко мне, давай иди, Энмеш…
Энлиль, все еще стоявший на насыпи, облокотившись о кресло командующего, поднял бровь. Халаш получил страшный удар в голову. Надо же было агонизирующей лошади так метко приложить его копытом…
* * *
Костер уже догорел, и только угли переливались багровым сиянием.
– Только три? Ты нашел только три стрелы изо всех? – Брови сотника Пратта изогнулись совершенно особенным образом. Если бы Творец – говорили эта брови, – явился бы прямо сейчас в сверкающих одеждах и заговорил громовым голосом, то и это не вызвало бы большего удивления. Рот, нос и щеки сотника никогда не были выразительнее пасти, носа или щек какого-нибудь онагра. Или, скажем, крокодила. Но брови собрали запас выразительности, предназначенный для всего лица. Бровями сотник гневался, ими же улыбался, они же выражали тоску, обиду, приязнь и желание выпить. Особенно хорошо получалось удивление. Небо не видело более живописного зрелища. Пратт во всем похож на медведя: велик, могуч, косолап, на редкость мохнат – и лишь аккуратно подстриженная бородка свидетельствует о том, что мишка вроде бы маскируется под человеческую особь. Очень и очень неумело маскируется. А голос – о! – всем голосам голос! Какие грозные рыки перекатываются в горле у сотника, когда он всего-навсего просит дать ему точильный камень или, скажем, хвалит местную сикеру – мол, знатное питье… Или, например, кормит коня каким-нибудь лакомством, дружески похлопывает скотину по морде, приговаривая совершеннейшую бессмыслицу, как и положено делать, когда разговариваешь с конями, любит он конягу, да и как его не любить, редкой крепости нужно существо, чтобы хребтина выдерживала этакую тяжесть, – так вот, сотник, значит, кормит-похлопывает-приговаривает, а конь прядает ушами и легонько пятится: хозяин-то хозяин, давно знакомы, да и говорить пытается все больше по-человечьи, а все-таки до чего похож на медведя, того и гляди, лапы раскинет, заревет ужасно и загрызет до смерти… И уж совсем явным было родство сотника с медвежьей породой в двух других случаях: во-первых, когда он залезал в канал и отмывал грязь. Поглядев на Пратта, на пучки его мышц, на узлы их, потягивания и перекаты, даже самый драчливый драчун отказался бы от мысли хотя бы раз в жизни затеять спор с этим человеком. Задерет… И во-вторых, время от времени Пратт гневался. Действующему сотнику вообще всегда найдется на что гневаться, даже если рядом с ним отсутствует неприятель. Трудно представить себе в полней мере, какие именно слова и в каком количестве извергает глотка сотника, когда он видит покосившуюся коновязь. Вот, смотрите, коновязь, а вот вся ее родня, друзья-приятели, множество сопутствующих предметов, а также… как бы получше выразиться? – многочисленные нежные воздыхатели оной коновязи, способствовавшие приведению ее в покосившееся состояние. Важно не то, что говорит сотник в подобных случаях. Важно – как. А в самом деле – как? Да так, что любому серьезному медведю стало бы чертовски завидно.
А теперь Бал-Гаммаст нашел только три стрелы, израсходовав всю связку, и брови этого самого медведя собрались в кустистый треугольник, лапы, то есть руки, разошлись в жесте полного непонимания, и все медвежье тело сотника приняло такую неуклюжую позу, что непредубежденному человеку стало бы понятно без подсказок: да, если уж медведя довели до столь высокого градуса недоумения, то дело серьезное.
– Ну что ж, дело хозяйское, Балле… Ты не обычный воин, к чему тебе беспокоиться…
– А если бы я был обычным воином, твоим солдатом, Пратт, что бы ты сделал со мной? Высек? Лишил жалованья?
Медведь качает головой: мол, жалованье – святое, отбирать его хуже, чем выливать сикеру не в рот, а на землю, неужели мы изверги какие-нибудь?
– Побил бы?
Морщится. Может, конечно, и помял бы солдатские косточки для порядку, но болтать об этом – к чему? Хорошая собака не лает, а кусает. Нет, молодой человек, эту возможность мы утопим на дне болота.
– Э-э… ну а что?
– Ты нашел бы, помет онагрий, хоть половину связки. Не меньше. Через седмицу, через месяц, через круг солнечный, а все равно нашел бы. Клянусь бородой!
– Через месяц, Пратт? Врешь же ты, дедушка. Мы бы ушли от этого места, неужто ты специально отправил бы меня отыскивать стрелы? Да врешь же ты, дедушка! Видит Творец, врешь.
Медведище пожал плечами. Стояло бы рядом дерево, подвернулось бы дерево под медвежье плечо, так дереву несдобровать. От единого неосторожного толчка рухнуло бы оно, как воин, павший на поле боя. Словом, Пратт пожал плечами энергично и укоризненно.
– Это мне ни к чему, салажонок.
– А-а? М-м-м? Что?
– Подсказываю: не важно, где бы ты нашел их…
– Все равно не понимаю, Пратт.
– Ты бы, помет онагрий, принес мне ровно столько стрел, сколько нужно, и сказал бы: «Так и так, отец мой сотник, нашлись». И я бы тебе ответил: «Так и так, сынок. Вижу я, ты стоящий солдат. Поэтому больше ты не будешь охранять казарму каждую ночь».
– А ты можешь заставить солдата караулить казарму каждую ночь? Пратт, а днем, днем ты дашь ему спать?
– Днем воины не спят. У них найдутся другие дела.
– Так как же.
– А как ты стрелы потерял? Получилось же как-то… Вот так и у меня получится. Я караульным могу поставить кого захочу. Послушай старого, в четырех местах продырявленного медведя, салажонок. Когда-нибудь, если Творец пожелает, тебе придется покруче обходиться с людьми, чем я. Покруче! Твои слуги, они ведь не стрелы будут искать… Стрела – что? Тьфу. То есть для сотника Пратта Медведя стрела, может быть, и не тьфу, а вот для тебя…
– Откуда ж их взять?
– Мне не важно, откуда ты их возьмешь, важно, чтобы они были. Укради. Выпроси. Найди другие стрелы на том месте, где их израсходовал другой лучник. Купи на свое жалованье, уж если ты такой же ленивый, как задница моей бабушки. А бабушка норовила не вставать, пока не случится пожар.
– Убедил, дедушка…
– Да не зови меня так! Мой хвост по земле еще не стелется.
– Меняю дедушку на салажонка. А стрелы пойду поищу.
– Нет, не пойдешь.
Бад-Гаммаст с понятным удивлением уставился на сотника. Не сходя с места, найти собственную стрелу, которая лежит-полеживает в трех сотнях шагов отсюда это настоящая задача для военного человека. Вероятнее всего, он еще недостаточно проникся духом, армии, а потому не совсем понимает, как оную задачу решить.
– Сумерки уже. Ты не сыщешь. Я пойду, у меня глаз наметанный. На такие вот дела. Посмотришь потом, сколько ты должен был найти… – Повернулся спиной. Сделал три шага. Бросил через плечо так небрежно, так мимоходом: – А ты пока мясо достань из-под золы… Старый, хитрый, наглый, коварный медведь! И вот ведь как издалека повел дело, лишь бы самому в горячую золу не лезть. «Это мне ни к чему, салажонок…» Лукавый и косолапый медведище…
Мясо пережило бурную биографию, прежде чем попало в кострище. Не столь уж важно, где оно паслось и кто его прирезал. Важнее другое: жестче этой баранины Бал-Гаммаст в жизни ничего не пробовал. Сотник резал мясные ломти потоньше и клал их под конскую попону. «Объездив» нехитрый солдатский харч в течение дня, Пратт вынимал его, отмывал от конского пота и говорил: «Вот, дело. Было твердым, как кизяк, стало мягким, как дерьмо». Потом обваливал мясо в глине, зажимал между двух плоских камней и закапывал в горячей золе. Довольно потирал руки и со значением поглядывал на Бал-Гаммаста: ясно, сейчас скажет: мол, тут не как с бабой, вынуть куда как тяжелее, чем сунуть…
Бал-Гаммаст потыкал мечом золу. Уголек подло выстрелил ему в руку. Здесь, кажется… Дым ласково потер ему очи. У-у! А с другой стороны? Э! Дым! Ты-то куда? Стой, где стоял! Э! Да что ж ты пристал ко мне!
…Сделав дело, он растянулся на траве. Это облако похоже на шлем. А это – на собаку с огромными ушами. А вон то – ну точь-в-точь как у корчмарки Ганы, две маленькие и упругие… м-м-м… совершенно ненужные… хотя, кажется, она посмотрела на него с особенным значением… как смотрят в таких случаях женщины? Наверное, вот так и смотрят… не важно… это все несерьезно… а это вот облако похоже на дом… раздвоилось… теперь оно совсем как скалы. А то – вылитый лев. А вон то напоминает маленькие и упругие… нет. Нет, нет и нет. Не думать. На задницу бабушки Пратта оно похоже.
Все началось с того, что папа сказал маме: «Я беру его в этот поход, Лиллу. Нет, Лиллу. Нет, Лиллу. Нет. Все равно – нет. Не рано. Да, Лиллу, решил. Без тебя? Ну да. Нет, Лиллу. Нет, любимая. Нет, дорогая. Нет, милая». В конце концов мама уступила. Но вместе с Бал-Гаммастом отправился и его воспитатель Лаг Маддан. «Тебе будет некогда присматривать за мальчиком…» – «Конечно, любимая».
Когда-то Маддан был великим полководцем. В далекой стране Ашшур он разбил тамошних знаменитых копейщиков. Однажды, будучи лугалем Ура, отразил набег кочевников. Перед мудростью его и опытом Бал-Гаммасту оставалось склонить голову. Да. М-м. Склонить голову и подождать сколько требуется, пока Маддан не всхрапнет в первый раз. Воспитатель любил рассказывать истории… С течением времени походы, битвы и осады слились для него в одну бесконечную историю, которую можно было рассказывать с любого места, поставив события в любой последовательности и добавляя ко всякому эпизоду присказку: «И поэтому мы их всегда били и будем бить».
Так вот, на расстоянии одного перехода от Баб-Аллона солдаты упоили Лага Маддана до состояния, когда на месте одного вола мерещится тучное стадо и хочется поздравить его хозяина с необыкновенной плодовитостью коров… или коровы? Приплод-то весь вышел рыжепестр и однорог… В общей слаженности действий Бал-Гаммаст почувствовал невидимую руку отца. «Какая жалость, – говорил потом папа, – столь достойный человек не сможет больше оказывать благотворное влияние на сынишку». Маддана, так и не вынырнувшего из глубоких сумерек, отправили обратно в столицу с почетной охраной из двух воинов. Бал-Гаммаст совершенно безо всяких на то оснований предположил, что охранники почтительно уговорят старика не возвращаться в армию, если тому и придет в голову такая идея, «Мэ, – наверное, скажут они воспитателю, – такая твоя мэ: отдыхать от праведных трудов».
Отец позвал его и сказал, хмурясь:
– Я, знаешь ли, занят. Не могу держать тебя при себе, как раньше. Теперь за тобой приглядит эбих Лан. Это мой друг, к тому же отменно отважный и умный человек. Слушайся его.
Лан Упрямец, сам медведь медведем, подбирал себе охранников и слуг того же телосложения. Он отвел Бал-Гаммаста к себе в шатер и сказал:
– Н-да.
Помедлил и добавил с выражением необыкновенного глубокомыслия на лице:
– Вот.
Огромный, медлительный в движениях, Лан почесал подбородок и, кажется, нашел подход:
– Ну что ж. Давай с самого начала Сколько полетов стрелы пройдет пешее войско за день в знойном месяце абе, если будет идти от рассвета до заката и сделает один привал, чтобы поесть? Ах да, я забыл добавить, это наше войско, пехота Царства.
– Я не знаю, – честно признался Бал-Гаммаст.
– А если это будут эламиты?
– Я не знаю.
– Конница, полночные кочевники, месяц аярт?
– Я не знаю, эбих.
– Так… – Лан произнес это с некоторым удовлетворением. – Угощайся.
И он первым протянул руку к горке фиников.
До поздней ночи эбих рассказывал ему, какие переходы делает царское войско и отряды всех ближайших соседей Царства, сколько оружия они таскают на себе и кого из них легче застать врасплох во время движения. Где стоит принимать бой, а где не стоит. Кого лучше таранить копейщиками, а кого разметывать ударом из луков. Чем всадники на верблюдах страшнее обыкновенной конницы. В каких случаях без пехоты ночи не обойтись… Иногда переспрашивал. Сам задавал вопросы, пытаясь убедиться в том, что его слушатель запомнил хоть что-то.
В конце концов сказал с удовлетворением:
– Слава Творцу, ты кое-что понимаешь. А теперь взглянем на карту…
Он развернул пергаментный свиток, от души раскрашенный разными цветами.
– Мы, Балле. Мятежники могут быть здесь… но вряд ли. Скорее здесь или здесь. Пешая разведка говорит, что они стоят в самом Кише, конная – что уже выдвинулись вперед. С утра мы с твоим отцом, эбихами Дуганом и Асагом прикидывали расстояние. Где выгоднее принять бой? Асаг полагает: они будут нас дожидаться на полпути… Почему? Надо быть онагром, чтобы занять ту позицию… Не-ет… мы с ними встретимся… встретимся…
Лан замолчал. Он нервно кусал ногти на пальцах левой руки. Пальцы правой руки перебегали по пергаменту от одного цветного пятна к другому… Глаза эбиха больше не видели ни шатра, ни карты, ни Бал-Гаммаста. Перед ним расстилались равнины, тянулись дороги, изгибались каналы. Пехота устало пылила навстречу смерти. Скрипели телега.
Молчание длилось не менее того времени, за которое взрослый мужчина смог бы минимум дважды, не торопясь, насытиться мясом, хлебом и чесноком. Наконец Лан вспомнил о существовании Бал-Гаммаста Удивился. По глазам видно – удивился. Кто это у него в шатре? Ах да.
И позвал самого большого медведя из своих людей. Сотника Пратта.
– Э-э-э, сотник. Ты приглядишь за мальчиком. Я, знаешь ли, занят.
Сотник издал невнятное рычание. Кажется, сообразил Бал-Гаммаст, ему не понравилось возложенное поручение.
– Э-э-э, знаю. Но это очень смышленый мальчик. Рычание повторилось.
И тут эбих Лан Упрямец преобразился. Что-то в лице у него изменилось. И в позе. Впрочем, лицо, поза – куда ни шло. Но голос! Голос – как у другого человека. Спокойный, холодный, повелительный. Бал-Гаммас-ху захотелось поклониться. Хотя он с детства плохо умел кланяться.
– Сын мой сотник Пратт! Приказываю тебе неотлучно быть при мальчике. День и ночь. Сотню сдать Алангану. Отвечаешь головой.
– Да, отец мой эбих… – с удивительной членораздельностью ответил ему Пратт.
– Если захочет сражаться с мятежниками, позволишь ему. Дашь стрелять из лука и биться мечом. В копейную шеренгу не ставить – убьют. Если он получит хоть одну рану…
Эбих покачал головой. Не дай Творец, Бал-Гаммаста хотя бы оцарапают.
– Забирай! Каждый вечер – ко мне в шатер.
– Отец мой эбих…
– Что тебе?
– Отец мой эбих, за кого считать… м-м-м… его?
– За солдата. Так его отец велел. Все! Лан отвернулся к карте.
– Вот здесь.
– Что такое, Балле? – Слова эбиха помимо произнесенного вопроса содержали еще один, непроизнесенный: «Как, ты еще тут, малец?»
За спиной Бал-Гаммаста сотник тихо сообщил заднице собственной бабушки нечто исключительно важное.
– Вы встретитесь вот здесь, эбих Лан. – Палец Бал-Гаммаста уперся в точку на пергаменте, совершенно неотличимую ото всех прочих. – Кажется, там должны быть холм и дорога.
– Бред Балле. Впрочем, твой отец почему-то говорит то же самое…
Так Бал-Гаммаст познакомился с двумя медведями за один день.
Сотник проследил за тем, чтобы подопечный лег спать пораньше, и на следующий день поднял его ни свет ни заря. Велел снарядиться, как будто к бою, и сесть на коня. Бал-Гаммаст натянул дорогой доспех, специально сделанный по его мерке и несколько облегченный. Закинул за спину охотничий лук, нацепил бронзовый меч и нож. Впрочем, меч был не намного тяжелее ножа. Взял в руки короткое копье. Возложил на голову шлем с золотой насечкой. А ведь хорош. Гана загляделась бы на него. Бал-Гаммаст представил себе, как она ходила бы вокруг него. Словно бы не обращая внимания, будто бы разговаривая с подружкой, есть у нее отвратительная подружка… так вот, ходила бы вокруг, не рядом, а на расстоянии, но не очень далеко, и бросала такие взгляды, ну такие, словом, как будто ей совсем не интересно, а на самом деле очень даже интересно…
Сотник Пратт Медведь ходил вокруг него и бросал такие взгляды…
– Слезай и снимай все это говно. Бал-Гаммаст подчинился. Пока он возился с доспехом, Пратт ласково беседовал с каждым предметом его вооружения:
– Этим говном не прострелить даже задницу моей бабушки. А этим говном свиньи не заколоть. А в это говно хорошо блевать: золото не тускнеет, начищать не надо…
Потом позвал солдата из своих и миролюбиво сообщил ему:
– Ты, помет, пальцем деланный, будешь следить за моим онагром и его конем. Пусть будут сыты и чищены как надо. Иначе шкуру спущу. А если ты их огорчишь…
И сотник покачал головой совершенно так же, как эбих Лан прошлым вечером. Доходчиво, иными словами.
– Мой конь! – не то чтобы испугался, а скорее удивился Бал-Гаммаст.
– Цыц, салажонок. Возьми барахло в руки.
Повел его в обоз. Там отобрал все, чем так гордился Бал-Гаммаст, и выдал ему вместо этого тяжелое солдатское копье, круглый деревянный щит, обитый кожей, длинный меч и высокий лук, такой тугой, что с непривычки и не натянешь как следует. Взял еще два щита, старых, никуда не годных, зачем их только возят…
А вот зачем, оказывается. Сотник вкопал оба щита в землю – один поближе, другой поодаль. Может быть, даже слишком поодаль. Несуразно далеко.
– Ужин ты свой, салажонок, получишь. А может, и обед. Еще не знаю. А вот насчет завтрака сейчас поглядим. Давай-ка по ближней мишени… три стрелы. Давай!
…Тетива ударила по рукавице на левой ладони со звуком «таг!». Он едва сумел справиться с нею. «Таг!» Третья стрела все-таки застряла в щите. Бал-Гаммаст со значением посмотрел на сотника. Учили все-таки кое-чему. Не такой уж и новичок в военном деле. В его роду все мужчины имели талант к…
– Лучник из тебя, как из вола рыба… Теперь про завтрак. Я дам тебе его съесть, только если положишь в дальнюю мишень пять стрел из десяти. Начали.
«Таг!»
– Ветер! «Таг!»
– Ветер же, помет онагрий! «Таг!»
– Выше бери! «Таг!»
– Выше бери, и рука прямая! «Таг»
– Попал, что ли? Нет. «Таг!»
– Руку держи вот так… вот так, тебе говорят! «Таг!»
– Опять про ветер забыл. «Таг!»
– Что, пальцы отбил? Терпи.
«Таг!»
– Олух. «Таг!»
– Плавно отпускай, не дергай. А! Все равно. Ни одной. Еда тебе не положена.
И заставил его весь переход проделать не на коне, а пешком, в общем строю. Месяц аярт – неудобное время для походов. Вода стоит высоко, все низменные места затоплены, приходится искать обходные пути по холмам, насыпям и прочим возвышенностям, вертеться, месить грязь… Бал-Гаммаст не сказал Медведю ни слова. К вечеру его ноги оказались сбитыми в кашу…
Эбих Лан Упрямец оставил дела. Он ждал. Бал-Гаммаст постарался не заснуть и очень постарался запомнить как можно больше из того, чем делился с ним третий человек в армии и восьмой – в государстве…
– Воспитателя поменять не хочешь, Балле?
– Нет.
– Очень хорошо. Пратт – достойный, отважный и умный человек.
– Да, эбих.
…Сотник осмотрел ему ноги при свете костра.
– Ну, помет онагрий, нормально.
Попросил у кого-то сухого волобоя. Получил. Сначала сунул пучок дурно пахнущей травы Бал-Гаммасту Под нос и пояснил:
– Это говно мы называем волобоем. Волы от него болеют и дохнут.
Потом запихал траву себе в рот и долго пережевывал с видом человека, которому достался кусок нежнейшей телятины, да вот беда – сплошные мелкие косточки, так что приходится двигать челюстями с осторожным тщанием. Измельчил до кашицы и размазал по бал-гаммастовым ступням.
– На живот ложись, салажонок. Ну-ка.
Принялся мять ему икры, перебирать пальцами мышцы помельче, прошелся по всем косточкам. Для медведя у него были очень ловкие лапы. Он еще не успел окончить, а его подопечный уже спал.
О, Гана…
С утра пришлось отскребать беловатую корочку спермы от одежды.
Пратт подождал, сколько нужно. Молча. Все приглядывался к Бал-Гаммасту, ждал, как видно, когда тот схватится за руку или за ногу, когда, наконец завоет от сотни маленьких болей, угнездившихся в непривычном теле после вчерашнего перехода.
Не дождался. Не даст ему такой радости Бал-Гаммаст. Отчего они все думают, что у сына знатного человека непременно должно быть изнеженное тело? Творец видит, напрасно ты это, сотник…
Пратт не выдержал:
– Что, болит? Терпи, салажонок. Я старше, уставать должен больше…
– У тебя что-то болит, дедушка?
Даже самый придирчивый и наблюдательный знаток душ человеческих не сумел бы расслышать в этих словах ничего, кроме безграничного уважения. Сотник покряхтел, глядя в сторону, и ответил раздумчиво:
– Я вот подумал, салажонок, почему мы вчера стреляли на один завтрак? Только задница моей бабушки знает почему. Сегодня будем стрелять на завтрак и на обед.
…Опять ни одной…
На третий день Бал-Гаммаст попросил Пратта Медведя:
Покажи, как правильно. Тот показал.
– Спасибо, дедушка.
Но это ничуть не помогло. Бал-Гаммаст отлично помнил, как сотник держал стрелу, как брал прицел, как отпустил тетиву. Но сам вновь не попал ни разу.
На обеденном привале, когда солнце палило нещадно, он бил и бил по мишени, бил и бил. Задерживал дыхание. Прикидывал ветер. Припоминал старые охотничьи уроки. «Таг!» – исправно лупила по пальцам тетива. Все, что он имел, кроме отца с матерью и собственного имени, отдал бы за одно-единственное попадание.
И в конце концов стрела поразила щит. Бал-Гаммаст изумился этому не меньше, чем если бы свинья заговорила человеческим голосом…
На пятый день он заполучил-таки завтрак и обед. «Так», – сказал Пратт. На шестой сотник оттащил мишень полусотней шагов дальше.
– Благодарю за науку, дедушка.
– Я тут подумываю и насчет ужина, салажонок. По-моему, ты слишком медленно ходишь. Еда, что ли, тянет твою жопу книзу?
…«Таг!» – пел его лук каждое утро. И каждый вечер в шатре Лана штурмом брались города, сцеплялись в гибельных сечах летучие отряды конницы, а пехотинцы на бурдюках, наполненных воздухом, переплывали реки.
– Почему ты не показываешь мне, как биться на мечах, Пратт? Как управляться с копьем?
– Сопли научились говорить?
– Почему, отец мой сотник?
– Мечу тебя учили во дворце. Лучше, чем я научу. Копье – это не то говно, какое тебе нужно. Что ты, в первом ряду будешь с ним стоять? Копье тебе нужно как нитка жемчуга заднице моей бабушки… Научись-ка ты лучше ездить на онагре – так, чтоб бедная скотина от усталости не подохла, а твоя родная жопа не стала сплошной мозолью. Давай-ка. Завтра же.
Так один опекал другого на протяжении многих дней. Пока царское войско не сошлось с мятежниками на равнине между каналов. И была там дорога. И был там холм, с вершины которого Бал-Гаммаст и сотник Пратт Медведь рука об руку били из луков во вражеской пехоте. И был миг, когда смерть подобралась к ним совсем близко. Один не пожелал уйти, другой не предложил ему уйти. Не важно, чей сын мужчина. Не важно, сколь страшно ему впервые видеть ярость настоящего врага и вражеское оружие – все в красных капельках. Не важно и то, что четырнадцатый в жизни этого мужчины месяц аярт не дотанцевал своих жарких плясок, и лоно женщины ни разу не открывало ему своих незамысловатых секретов. Не важно. Куда важнее другое. Мэ воина – не выходить из боя, покуда командир не прикажет ему… Это намного важнее всей предыдущей жизни с ее весельем и горем, удачами и потерями, а также всей будущей жизни, с ее любовью и величием, службой и забавами, зрелостью и старостью. Возможно, не бывать никакой будущей жизни, а жизнь прежняя пресечется здесь и сейчас безо всякого продолжения. Но только мэ воина – не покидать места, где его поставили для боя…
Поэтому один из них мог уйти, но не ушел, а другой мог предложить ему уйти и даже почти должен был сделать это, но не предложил.
…Это облако похоже на крепостную башню. Это – на кота, вылизывающего лапу. А то – на головку чеснока. А если как следует присмотреться к во-он тому, да-да, именно… округлое… а какая плавная, ловкая походка… походкой выделяется… среди других облаков… и белизной… кожи…
– За костром следить надо, Гляди, совсем погаснет.
Пратт больше не тряс его за плечо. Творец прекратил день. Солнце пряталось за пальмами, тени робко покидали дневного господина и давали клятву верности луне. Тьмы заметно прибавилось. Мутно-багровое око земли и хотело бы закрыться, отдохнуть, но Бал-Гаммаст добавил сухой травы, веток, потом кое-чего покрупнее, и костер ожил, повеселел, оставил теплую дрему. Повсюду, справа и слева, спереди и сзади, острова огней мешали теням окончательно принять роль рабов луны.
– Вот. Столько стрел ты должен высокому Баб-Аллону, солдат Балле…
Восемь.
«Что ему ответить?»
– Мясо, отец мой сотник. Уже остыло.
Пратт не убирал руку у него из-под носа. Чего он хочет?
– Приглядись, помет онагрий. Давай посмотри, открой глаза пошире. У тебя глаза или две дырки от задницы?
Бал-Гаммаст сонно водил очами.
– Да ты слепее безголового. Это два твоих первых. Понял? Понял, откуда я их вытащил? Две из восьми.
«Из задницы собственной бабушки, наверное… Надо же, и тут покойница подвернулась под руку… О!» Тут только он сообразил:
– Из мертвых тел? Из мертвецов, Пратт?
– Да, Балле. Из падали, которую сделал падалью ты сам, своими руками. Своими кривыми бестолковыми руками, солдат.
– А… сколько их там? Их там очень много?
– Отец мой…
– Их там много, отец мой сотник?
– Все поле, Балле. Там все поле, сколько видно, завалено падалью. Точно тебе скажет Упрямец или еще кто-нибудь. Давно такой жатвы не было. Жалко, много плохих мертвецов…
Сотник притянул к себе бурдюк с сикерой, разорвал; пополам черствую пресную лепешку и дал половину Бал-Гаммасту. Что ему бой? Какой по счету этот бой для него? Все поле завалено трупами, а он рвет зубами баранину…
Бал-Гаммаст прислушался к себе. «Убил двух человек. Или больше, кто их теперь сочтет? Там, за пригорком, все поле от канала до канала, от холма и до… что там было? Какая разница… – все-все забросано телами мертвых и умирающих. Плохо мне от этого? Страшно? Как мне? Да никак. Творец, прости мне, я ничего не чувствую. Хорошо, что жив. Я тебя очень люблю, Творец, прости меня, я так стараюсь пожалеть тех, кто там лежит, а ничего не выходит. Мне не жалко даже тех двух… Почему так получается, Творец? Прости мне это, пожалуйста. Когда дрался с сыном эбиха Асага, мы потом оба были в крови. Себя было жалко, и его тоже. И все на нас смотрели: дети, а уже как преступники. Нет, не все… отец… Теперь их так много, мертвецов, а я как деревянная колода! Ничего… Совсем ничего».
– Плохие мертвецы?
– Наших много. Многим хорошим бойцам сегодня выпустили кишки. И эти… мятежники… они нам вроде родни, свои. Плохие мертвецы, напрасные. Там еще кочевники были у них, суммэрк тоже были… это хорошие мертвецы, нужные. А те, помет онагрий, те – плохие… Ешь. Что сидишь?
Бал-Гаммаст взялся за мясо.
– Как они выглядели… отец мой сотник?
– Кто? – Медведь оторвался от добычи и уставился на него. – А… эти.
– Старые? Молодые?
– По правде говоря, они выглядели как две кучи говна, из которых торчат стрелы. Вернешься домой, помолишься за них и за себя. Грешно убивать. А не убьешь, так самому котел с плеч снесут…
Сотник пребольно стукнул его кулаком в лоб.
– Вот что, солдат Балле. Помолишься за их души, за свою душу и забудь. Выбрось это говно из головы.
«Прости меня, Творец…»
– Ты вот говорил, Пратт…
– Отец мой…
– Ты говорил, отец мой сотник, что потерянные стрелы все равно заставил бы вернуть. Не все, так много. А если бы я, скажем, не захотел позориться, но украсть-купить тоже не захотел бы, тогда что? Если б я подошел к тебе и сказал: «Отец мой сотник, позориться не хочу, а денег нет. Дай мне какое-нибудь дело в зачет потерянных стрел – тяжелое или опасное». Дал бы ты?
Медведь даже перестал жевать. Задумался. Помолчал. Мясной сок на угли капает.
– Может, и дал бы… А скорее ничего б не дал. Пинком бы вышиб из сотни. Не умеешь делать что положено, значит, у тебя другая мэ. Не солдатская мэ. Ищи другую жизнь…
Тут из темноты вышел знатный человек. Сразу не видно кто, понятно только, что доспех дорогой: медные пластины посверкивают, их много, прикрывают почти все тело от шеи до икр. Значит, не простой человек. С ним была свита, с десяток вооруженных людей. Все они, повинуясь повелительному знаку, остановились чуть поодаль.
– Здравствуй, Рат.
Огонь осветил лицо. Эбих центра, Рат Дуган по прозвищу Топор. Сотник вскочил с необыкновенной резвостью. Дуган:
– Сиди, Медведь…
Эбих поклонился Бал-Гаммасту, коснувшись ладонью земли. Как будто они были во дворце, как будто сотни глаз наблюдают за церемонией…
– Отец мой, царевич Бал-Гаммаст, да сопутствует тебе удача в делах, да будет к тебе милостив Творец! Отец твой, государь Донат, немедля требует тебя к себе. Твое обучение в сотне Пратта Медведя закончено. Мы послужим тебе охраной.
«Вот как… Дело должно быть серьезным».
Так Бал-Гаммаст перестал быть солдатом. Он подобрал меч, встал и сказал, стараясь подражать тому голосу Лана:
– Сотник Пратт, я доволен твоей службой. Прочее оружие отдай в обоз. Мое пришлешь завтра.
Повернулся к эбиху и его людям:
– Идите за мной.
* * *
У царского шатра – сотня личной охраны Доната, служители Творца, эбихи со свитами, чиновники, энси и лугали городов, оставшихся верными столице, по обычаю пели гимн во славу победившего государя. Все высокие люди войска – от эбихов до сотников – стояли на коленях, опустив лица к земле. Простые солдаты пели в строю, подняв глаза к небу. Царевич знал последовательность гимнов, приличествующую большому сражению, значительным потерям и великой победе. Последовательность энган, это бывает очень редко. Иногда – ни разу на протяжении всего царствования. На его памяти энган пели еще дважды. Один раз, два солнечных круга назад, отец брал его в поход на Полночь, против страшных горцев, людей-быков. Тогда все те, кто не получил раны, пришли к, царскому шатру и пели гимны по своей воле, славя удачливого царя. Отец стоял у шатра и плакал от счастья. Потом улыбался и опять плакал. Многие говорили, что Царство истосковалось по настоящему полководцу… Им было тогда за что благодарить отца. Сейчас – тоже есть. Но столько бойцов погибло сегодня на проклятом поле у города Киша, и так утомились те, кто уцелел, что прежней ослепительной радости не суждено было повториться. Энган пели по обычаю, пели справедливо, пели, почти падая от усталости. Сейчас будет гимн во славу Творца, потом здравие царской семье, и все закончится.
Площадка перед шатром была пуста. «Почему он не выходит? Он должен выйти. Поющее войско должно видеть лицо государя. Почему отец не выходит?»
В свете костров царевич разглядел группу всадников в богатых одеждах. Так же, как и он, ждут. Было бы оскорбительно до окончания ритуала войти в царский шатер.
Кто там? Бал-Гаммаст присмотрелся… брат, Апасуд. Улыбается ему. Лицо у него детское. Или женское. Полные губы, тонкая кожа, воловьи глаза… Двадцать кругов солнца царевичу Апасуду, а выглядит он как девушка. Бал-Гаммаст улыбнулся в ответ. Отлично, брат цел и невредим. Его почти не допускали к воинским делам, да и в походе против мятежного Полдня дворцовые служители держали царевича подальше от вражеских стрел и мечей… Творец и они уберегли брата. Собственно, это был первый поход Апасуда и пятый – Бал-Гаммаста. В локте от Апасуда – эбих Асаг в полном боевом вооружении и еще с десяток конников. Охрана.
«Похоже, мы выросли в цене. Полдня назад отец не боялся ни чужих лазутчиков, ни внезапного удара мятежников. Теперь наши жизни стоит охранять… Отчего?»
Причина должна быть или очень плохой, или хуже некуда… думать не хочется.
Когда воины затянули последнюю хвалу последнего гимна, царь вышел из шатра. Невысокий сухощавый человек стоял прямо, как шест, в окружении костров, растягивая губы в улыбке. Слушая стихающие звуки энгана, он поднял руки.
Нестройный рокот прокатился по рядам усталых победителей. Они помнили, что он совершил два солнечных круга назад, они понимали, что он совершил сегодня, они видели, что совершал он всю свою жизнь от самых ворот в возраст мужества.
«Жив! Жив! Жив! Цел. Жив! Отец…»
Царь опустил руки, и все, кроме личной охраны государя, разошлись к своим кострам. Апасуд и Бал-Гаммаст в окружении воинов приблизились к нему. Конники спешились.
– Пленные готовы? – негромко спросил отец.
– Стоят за холмом, в половине полета стрелы отсюда, великий отец мой государь. – ответил ему эбих Рат Дуган.
– Коней мне и Балле.
Бал-Гаммаст слышал, как царь вскрикнул, усаживаясь на любимого вороного жеребца. Всего милосердия сумеречной мглы не хватало, чтобы скрыть бледность на его лице.
«Отец!»
…Пленники были выстроены в три длинные шеренги, локти стянуты ремнями за спиной. Кто-то склонил голову, кто-то смотрел дерзко, кто-то плакал, кто-то молился, кто-то скрывал ужас под маской хладнокровия, но никто не посмел заговорить. Все молча ждали приближения судьбы. Царь мог даровать им свободу, мог пресечь мэ, а мог изменить его: стране больше не нужно было столько вооруженных людей, зато каналы, колодцы и стены требовали множество рук… война не умеет строить, но за всю ее озорную жестокость проигравшему приходится платить. Платить именно так – руками.
– Сколько их?
– 1384, великий отец мой государь.
– Свободы не заслуживает никто. Жизни – почти все. Но да будет пресечена мэ тех, кто отмечен. Дайте: мне даккат!
Даккат! Звонкое, как удар бича, слово. Шеренги вздрогнули, словно и вправду огромный бич прошелся по спинам побежденных. Даккат! Вот уже четырнадцать солнечных кругов не случалось шествия с даккатом во всей земле Алларуад. Из третьей шеренги кто-то невидимый коротко и крепко проклял царя. Двое или трое упали на колени, разразившись рыданиями. Отец обернулся к Бал-Гаммасту и Апасуду: – Вы должны увидеть и навсегда запомнить все то, что будет сейчас происходить. Мэ царя похожа на мэ ножа. Он сам ни в чем не волен и лишь служит руке. Творец, может быть, отзовется на ваш зов, когда вы захотите от него помощи или совета. А может быть, Он не обратит к вам свои уста. Но если Он сам пожелает нечто совершить через вас, вы поймете и должны будете послушаться. Вам надлежит знать: нет ничего более важного для правителя. Вы можете поступать по закону и по прихоти, пока не услышите Его слова. После этого для вас не существует ни закона, ни прихоти, но только воля Его.
Царь говорил так тихо, что никто, кроме Бал-Гаммаста и Апасуда, не слышал его слов. Помолчав немного, он продолжил:
– Вы поедете рядом со мной вдоль строя. Рука одного из вас все время должна быть в моей руке. Вам не следует освобождать ее, пока я не прикажу. Аппе! Ты – первый.
Четыре воина, вооруженных длинными копьями, встали рядом с царским конем. Агулан дворцовых писцов принес два медных сосуда с краской и тонкую кисть на длинной ручке. Сосуды понес один из воинов. Царь взял кисть в правую руку, а левой сжал пальцы Апасуда. Вороной жеребец, узнав нутряным скотским чутьем запах смерти, запрядал ушами, скосил бешеный глаз к собственной спине, но потом утихомирился и медленным шагом побрел вдоль шеренги бывших мятежников.
Апасуд вздрогнул. Темнота еще не до конца овладела полем и холмом, но сила ее стояла за шаг до полноты. Лишь Бал-Гаммаст заметил, как исказилось лицо брата. Царь на мгновение остановил шествие и взглянул на Апасуда. Молча. Тот выпрямился, стал прямей копья.
Еще десяток пленников – позади. Шеренга молчит, молчит стража, молчат царь и его сыновья… Что это? Всхлип, прозвучавший ударом грома, разорвал тишину. Апасуд! И сейчас же где-то там, позади, в отрезке шеренги, который теперь превратился в прошлое дакката, некто захохотал, надрывая глотку, а потом закричал:
– Спасибо! Спаси-и-и-и-бо! Творец, спаси-ибо!
Бал-Гаммаст увидел: брат извивается подобно кошке, которую крепко держат за заднюю лапу, не давая убежать. Серая кобыла нервно танцует под ним. Как и пойманная кошка, Апасуд боролся молча, не смея подать голос, а потом издал негромкий стон. Не ртом, утробой. Так лесной зверь, угодивший в ловушку, воет от безнадежности…
Ненадолго успокоился. Хорошо. Сотни глаз обращены к нему. Так нельзя. Царскому сыну непозволительно… Никогда, ни при каких обстоятельствах. Апасуд не надолго успокоился.
Царский конь остановился вновь. И тут Апасуд разомкнул уста и выпустил на свободу долгий протяжный крик, беспощадным ножом вспоровший поздние сумерки. Царь, не поворачивая головы и не отпуская сыновнюю руку, медленно поднял кисть, макнул ее в один из сосудов и прочертил на лбу у пленника короткую вертикальную черту. Черта светилась во тьме, как светятся гнилушки на болоте, только намного ярче, так, чтобы каждый ясно увидел: этот – помечен. Черта пылала нестерпимо алым. Товарищи несчастного мятежника в ужасе посторонились от него, будто от зачумленного. Никто из живых не желал заразиться гибелью. Ибо живой мертвец стоял между ними. Тот взглянул на царя, но даже сейчас, обладая свободой смертника, немедля опустил глаза. Не сумел быть дерзким до конца. Апасуд заливался, то и дело переходя на хрип. Над шеренгой летел его вопль, уязвляя робкие сердца. Серая кобыла поднялась на дыбы, опустилась и злобно укусила вороного; воины едва усмирили взбесившееся животное.
Помеченный даккатом пробормотал, не отрывая взгляда от земли:
– Будьте вы прокляты. Будьте прокляты вы все. Будьте прокляты.
Жадно чавкнули острия двух копий, входя в приговоренную плоть.
– Довольно! – приказал царь, – ты свободен, Апасуд. Бал-Гаммаст! Дай мне руку.
Апасуд ускакал прочь, не смея остаться среди свидетелей своего позора
– Асаг, он мне нужен. Очень скоро, – тихо сказал отец. Эбих, повинуясь царской воле, сейчас же понесся за беглецом.
Сильные отцовские пальцы стиснули ладонь Бал-Гаммаста не хуже деревянной колодки. Шепот:
– Не позорь меня, Балле.
Шеренга медленно поплыла назад. То, что настигло царевича, было хуже кошмара в душную ночь при полной луне. Вмиг чужие глаза, наблюдавшие за всеми этими людьми день назад, десять или двадцать дней, стали его собственными. Картины недавнего прошлого теснили одна другую перед его мысленным взором. Этот, бородатый, потрошил тела мертвецов на поле боя у Сиппара, добывая у каждого печень, неведомо для каких дел. Этот, с рожей эламита, жег хлеб и увечил пленных. Так забавно, наверное, продеть костяной крюк под ребро, сесть на лошадь и сначала шагом, а потом…
Царь не позволил Бал-Гаммасту остановиться.
Этот коротышка убил женщину. Вне боя. Спокойно. Ничуть не волнуясь о наказании: кто видел его тогда? Небо да ветер. Та умирала, широко открыв глаза от изумления… за что? за что? зачтозачтозачто? А не надо шутить вполголоса. Шутить следует молча.
– Алая черта.
Война бывает разной. Кое-что происходит между большими битвами.
Этому, в кожаном колпаке, так нравится насиловать мальчиков… А этому, лысому, больше по вкусу девочки. Этот, с окровавленной тряпкой на плече, бросил отраву в колодец, не пожалев целой деревни.
Алая черта.
Алая черта.
Алая черта.
Алая черта.
Алая черта…
Всего их оказалось двадцать шесть, помеченных алым.
Тьма наконец воцарилась полностью. Последним к царю подвели рослого худого человека в дорогой одежде. При свете факелов золотой браслет – змея с глазами из алого сердолика – тускло поблескивал у него на руке. Рат Дуган подал голос:
– Он говорит, что…
– Я знаю, кто это! – гневно оборвал его отец. Опустил кисть во второй сосуд и провел черту… нет, не алым, а льдисто-голубым. Глянул на Бал-Гаммаста:
– Ты видишь?
– Да, отец.
Царь помолчал немного, разжал руку и добавил:
– Такое не должно плодиться.
…У шатра их ждали Апасуд со склоненной головой и эбих Асаг, очень высокий, очень худой и очень злой человек, чудовищно искусный, к тому же боец на мечах. Земля Алларуад не знает более грозного вожака для атакующей конницы.
Отец подозвал эбихов Рата Дугана и Лана Упрямца.
– Я не могу слезть с коня сам. Держите меня.
Те молча спешились, подбежали, подставили сильные плечи, сняли вялую человеческую плоть с вороного – осторожнее, чем женщина снимает с шеи тонкую цепочку… Поддерживая под руки, они то ли ввели, то ли внесли царя в шатер. Оттуда раздался глухой усталый голос:
– Зови первосвященника. Скажи: обряд завершения мэ.
– Государь…
– Не время перечить. Иди. Царевичи подождут снаружи. Им не следует видеть… – Последние слова были произнесены столь тихо, что снаружи их не расслышал никто. Эбих Асаг выскочил из шатра и побежал, словно позабыв о собственном чине, понесся, как подобает бегунам, а не полководцам.
– Я надеюсь… на вас двоих, чуть меньше… на Асага, да еще на Уггала Карна, эбиха… пехоты ночи. Он выживет? – Голос звучал едва слышно, долгие паузы между словами. Царь еще не успел сделать всего и боролся теперь за каждый звук. Его мэ – не умирать, пока дела не окончены…
– Государь…
– Не мешай мне, Рат. Никакие лекари… мне… не помогут. Я знаю. Он выживет?
– Да.
– Слава Творцу, нас породившему.
У Бал-Гаммаста перехватило дыхание. Отец не может ошибаться. Если говорит: «Знаю», – значит, и впрямь знает. Но он должен ошибиться, должен, должен! Как же так…
– Ты, Топор, и ты, Упрямец, помните… вам… без меня… придется скакать по всей стране, как и при мне… приходилось… не забудьте… с любыми врагами справиться не так… тяжело… хуже всего… если будет сам Падший и слуги его… или… сюда опять ворвется… Старшая земля… горные быки. От первого… один Творец защитит. От этих… только пехота ночи. Только. Берегите…Ту, что во дворце… и моих детей… приказать уже не могу… прошу… я был с вам не только государем… но и… товарищем… прошу…
Первосвященник Сан Лагэн выгнал из шатра всех, потом посмотрел сурово и велел убраться подальше, мол, лишние уши не нужны, позовет, когда следует. Лан Упрямец кликнул энси царской охраны Уггал-Банада. Тому никто не мог отдавать приказы, кроме самого царя. Эбих посоветовал ему утроить стражу вокруг шатра и менять часовых вдвое чаще, чем обычно. Тот кивнул утвердительно, и вскоре в темноте раздалось деловитое бряканье оружия, приглушенные голоса десятников – словом, строгая воинская суета, как и бывает при смене стражи.
Бал-Гаммаст со всеми вместе ждал, когда кончится обряд. Луна стояла высоко, яркие, крупные звезды стелились низко, от солдатских костров плыл нестройным гомон, а здесь, у шатра, ни слово, ни какой-нибудь резкий звук не дырявили душное полотно ночи. Невесть откуда пришли к царевичу затейливые мысли, никем не сказанные и не написанные, однако ж посетившие его, как путники посещают заброшенный дом, не спрося разрешения у сгинувших неведомо когда хозяев. Бал-Гаммаст почуял на языке неприятный кислый привкус ломающегося времени. До полуночи победа владела землей Алларуад, после полуночи придет мутное колыхание черноты, приторный аромат падения. Кто сказал, что металл не пахнет? Просто его запах не хочется чувствовать. Полночь. Полночь над полем недалеко от славного города Киша делит сезоны бесконечно долгой судьбы, словно межевой знак кудуррат, указывающий границы двух земельных наделов. Как долго В Царстве стояла благословенная сушь! В полночь оборвется струна, придет сезон краткого и беспокойного зноя, а вслед за ним явятся дожди, ветра и холод. Где-то далеко на Полночь, за горами и за другими горами, за пустыней и за великими реками, говорят, лед падает с неба, когда землей- правит холодный сезон. Они там, в месяцах и месяцах пути, называют это словом «зима».
В стране Алларуад не бывает зим, но царевич почувствовал, что это такое – зимний ветер, холоднее льда… у самого сердца.
Первосвященник выглянул наружу.
– Государь Донат зовет вас всех.
Отцовское лицо бледно, лоб испещрили капельки пота, одежда заляпана кровью. Ему некогда было переодеться? Или незачем…
– Объявляю… волю Того, кто во дворце. Мой… старший сын… Апасуд… наследует венец государя в Баб-Аллоне и во всей земле Алларуад, а ему наследуют… дети его. Если детей… у Апасуда не будет, ему наследует… мой младший сын, Бал-Гаммаст. А Бал-Гаммасту наследуют дети… его. Если детей… у Бал-Гаммаста не будет… ему наследует… дочь моя… Аннитум. А после Аннитум… наследуют ее… дети.
Царь перевел дыхание.
– Ты успеваешь?
– Да, великий отец мой государь.
Роль писца в таком деле взялся выполнять сам первосвященник.
– Детям моим… Бал-Гаммасту и Аннитум… следует быть лугалями в старых и славных городах. Когда войдут… в возраст совершеннолетия… пусть царевич Бал-Гаммаст… уйдет из столицы… в Урук… и там правит под рукой Апасуда… до смерти своей или до воцарения. А царевна… Аннитум… пусть уйдет из столицы… в Баб-Алларуад… и там правит под рукой Апасуда… до смерти своей… или до воцарения.
Царь замолчал надолго, собираясь с силами. Кадык его ходил ходуном. Глаза были полузакрыты. Никто не осмелился прервать молчание. Наконец вновь зазвучал голос государя.
– Вы, эбихи, братья силы… слушайте мою волю. Уггал Карн из черных останется в Баб-Аллоне оборонять… Ту, что во дворце… и моих детей… Асаг… возьми пехоты ночи… одну тысячу мечей… своих конников… очисти Барсиппу… потом… будешь лугалем Баб-Алларуада, а потом станешь правой рукой… дочери моей… Рат Дуган и Лан Упрямец… вам… надлежит очистить Киш, Сиппар, Иссин… Эреду, Ниппур, Лагаш, Ур… весь Полдень Царства… Потом сядете лугалями… Рат… ты – в Ниппуре… Лан… ты – в Лагаше… Старые города Киш… Эреду… Ниппур… да будут лишены прав кидинну… на десять солнечных кругов… старый город Лагаш… если откроет ворота… да будет прощен… если не откроет… та же мэ… Творец… влейте… мне в рот… вина. Лан Упрямец протянул ему тяжелую глиняную чашу, покрытую лазурью, до краев наполнив ее вином. Эбих не подчинился царю. Апасуд:
– Отец сказал – прямо в рот!
Эбих молча держал чашу над грудью угасающего владыки. Тот скрестил свой взгляд со взглядом полководца и зашелся хриплым хохотом:
– Правильно, Лан… правильно… дай Творец крепких мальчиков твоей жене…
Отцовская ладонь медленно поднялась, пальцы приняли чашу у эбиха и понесли ее к губам. Рука не дрожала. Ни капли вина не расплескалось. Чаша, опустев, полетела в сторону.
– Урук виновен не меньше других… убили… моего лугаля… старика… Энмеркара… хотел послать Маддана, хорошо, не послал… да… но они – твердыня Полдня. Лишаю старый город Урук… права кидинну… на один круг солнца… посылаю туда… кого? Никого больше… у меня не осталось…
Царь слабел. Его воля удерживала в повиновении все меньшую и меньшую часть тела, мыслей, слов.
– Да… разве только… волей своей… дарую сан эбиха энси Уггал-Банаду… он и будет лугалем Урука… очистив его… да… потом… станет правой рукой сына моего Балле… царевича Бал-Гаммаста… да… Первосвященник… впиши имена их всех, кто слышал меня… вписал? Теперь… отпускаю вас всех… желаю… один…
У военачальников – каменные лица. Гораздо позже Бал-Гаммаст узнает, что его отец должен был умереть, не выходя из шатра и тем более не творя дакката. Еще тогда, когда войско пело энган. Так сказал лекарь. Но у государей – странная мэ. То ли Творец помогает им жить, пока дела не окончены, то ли… царя не зря звали в войске Барсом: оказался живуч как кошка. Эбихи, каждый на свой лад, изумлялись, храня на лицах броню: отчего он еще жив? чем он еще жив? Как далеко простирается на жизнь воля мертвого человека!
Они были верными людьми. Он был им хорошим государем – в меру щедрым и милостивым, в меру умным и жестоким, чрез меру отважным. Они приняли последний приказ холодеющих уст: служить царским детям и Царству. Они собирались выполнить его. Когда военачальники пошли к выходу из шатра, никто не лелеял в сердце измену… Они и впрямь были верными людьми. Откуда стало ведомо об этом Бал-Гаммасту? Чужое знание поселилось в нем после дакката. Он почувствовал, как лопнула натянутая струна, когда отец выгнал их вон. Дыхание будущего зноя горячим сквозняком опалило кожу царевича.
Неожиданно громко государь баб-аллонский произнес: – Нет. Пусть царевич Бал-Гаммаст останется.
Эбихи и первосвященник переглянулись между собой: что за притча? Ритуал исполнен. К нему нечего добавить. Царь следует своей мэ до самого конца, как и надлежит… Чего не помнят они, какую деталь упустили?
В теле Доната не было прежней силы. Твердость ушла, хотя сердце его еще билось ровно. Неведомо, как вышло у него… быть может, царь с последнего своего ложа в последний раз обратился к Творцу и попросил помощи, – да, неведомо, как вышло у него, но слова властителя загремели, будто он во всей силе своей и в прочном доспехе повелевает войску:
– Я, Тот, кто во дворце, жду, когда в моем шатре останется один мой слуга. И этот слуга – царевич Бал-Гаммаст!
Миновал удар сердца. В шатре – двое.
– Балле… я умираю.
– Нет, отец.
– Да, Балле. Всей моей жизни осталось на сотню-другую вдохов. – Все, что было в голосе царя живого и сильного, стихло. Боль и немочь побеждали непобедимого полководца. Неотвратимый срок звучал в его словах.
– Нет, отец, нет, нет! Как же это возможно… Это невозможно! Нет, отец.
– Да, Балле… – Царевич наконец поднял глаза. Его государь и его отец все хотел решиться на что-то, но не мог. То ли сроду не умел, то ли опасался – Творец знает чего.
– Балле… я так рано ухожу… я так мало тебе рассказал… я так мало тебе показал… Балле… сынок… сынок… подойди ко мне… иди ко мне… Балле…
Бал-Гаммаст опустился на колени и обнял его. Ни разу в жизни такого не бывало. Царевич обнял отца неуклюже, и тот обхватил его своими сильными руками, все еще очень сильными, даже у последнего порога.
– Балле… Балле… Балле… сынок Балле… Балле… мой сын… мне так жалко… я больше не увижу тебя…
Сколько было в царе железа, все ушло. Он не кричал, когда попал в плен к полночным горцам и те раскаленной медью ставили ему на ладонь клеймо раба. Он держал свой рот на запоре, когда старый Маддан, тогда еще, впрочем, совсем нестарый, вытягивал стрелу у него из ребер. Он не боялся ничего, кроме Творца. И вот теперь слезы в два ручья неостановимо лились по щекам царя, смешиваясь со слезами Бал-Гаммаста.
– Балле… сынок… Балле… Балле… Балле… Балле… Балле… Балле… Балле… Балле… Балле… Балле… Балла… Балле… Балле…
Царь обнимал самое большое сокровище изо всех, которые достались ему за пятьдесят солнечных кругов. Самый большой трофей, отнятый у судьбы в великой войне. Самый драгоценный дар, полученный им от Господа. Обнимал и все произносил имя, все цеплялся за имя, никак не хотел отпустить имя… Потом и имя смолкло, но губы еще двигались, силясь произнести:
– Балле…
Бал-Гаммаст не почувствовал, когда отцовское сердце шевельнулось в последний раз, а воздух в последний раз покинул отцовскую грудь.
* * *
Халаш прежде никогда не видел этого человека, но от лазутчиков и от Энлиля знал о нем немало. Низенький, чуть не в полтростника росточком, и очень широкий в плечах. Молодой, а волосы его, коротко обрезанные, черные, все испачканы седой солью. Бороду не носит. Почему? Обычно так делают, когда растет козлиная. Губы тонкие, вытянуты, будто прямая палочка. Кожа на лице темная, грубая, ветрами и зноем порченная, словно воловья шкура. На левой щеке безобразная лиловая вмятина в добрую четверть мужской ладони размером: плоть не была рассечена или отрублена, ее как будто вдавили… Глаза маленькие, колючие, серые, такими глазами умный злой волк высматривает больную овцу… ту, что будет отставать от стада. Халаш видел волков не раз. Наглые бесстрашные твари, он побаивался их зубов, как собака. Его бы воля, никогда не связывался бы с волками. Но пастуху иначе нельзя, пастух должен заглядывать в глаза волкам – иной раз с очень близкого расстояния… Этот, почти карлик, смотрел на Халаша с настороженной ленцой… настоящий волк. И двигается так же: не поймешь, то ли быстро, то ли медленно, только что вроде бы стоял вон там, а теперь оказался вот здесь… Как успел? Большие ладони, длинные цепкие пальцы, привычные к любому оружию, да и без оружия, видно, хороши…
Беспощадный Топор, эбих центра, Рат Дуган, Бывший лугаль ниппурский не боялся боли, не жаль ему было и крови своей. Он примет казнь свою, назначенную царем Донатом, без криков о пощаде. Три раза по шесть и еще пять солнечных кругов назад к их кочевому роду пришло недоброе время. У отца, слабого человека, отобрали почти всех овец. Рыбаки, грубые и дерзкие люди, кто сладит с ними! Даже царские писцы и гуруши, бывает, сторонятся тех рыбаков, что промышляют в море… Отец привел их всех в Ниппур, отдал последних овец Храму и поклонился священнику. Целый шарех вся семья ничего не делала, ела хлеб, сколько хотела, пила молоко и сикеру вдоволь. Потом пришел храмовый писец, было утро; Ууту, еще слабый и вялый, едва бросал свет на небесную таблицу, даже вспоминать не хочется… Люди Храма поставили отца пасти свиней. Свиней! Отец было попытался объяснить, что негоже ему, человеку не из последних, да еще торгового рода, иметь дело с нечистыми животными. Писец ему ввернул урукское присловье, мол, есть ослики, которые умеют быстро бегать, а есть другие ослики, которые умеют громко орать… Мол, будет тебе шуметь, ты теперь то же, что и мы, выходи на работу. Отец не мог противиться, его бы выгнали со всей семьей за стены, помирать от голода и дикого зверья. Так он увидел, что город быстро делает тебя младшим человеком, низким человеком. Сказал писцу: «Сейчас иду», а сам позвал Халаша и велел ему: «Погляди-ка!» Взял глиняный горшок, разбил его, осколком распорол себе тыльную сторону ладони и помазал кровью оба уха.
«Халаш! Я теперь должен верить в их Творца, хоть я его не видел и не слышал ни разу, он ничего не подарил мне, ни разу не давал совета и ничем не пригрозил. Слабый дух – вот он что такое. Но ты помни, кто мы. Помни, мы были вольными людьми. Каждый в нашем роду имеет сильных духов-защитников, и ты получишь таких же, когда тебе минет десятый солнечный круг. Они, Халаш, невидимы и очень легки, легче волоконца от лозы. Сидят у меня на плечах, один слева, другой справа, и разговаривают. Левый считает, что я ни на что не годен, но он шепчет в ухо самые ценные советы, он настоящий ловкач и видит воду вглубь, аж до самого дна. С ним легко обмануть любого простака. Правый с Левым спорит, наш, говорит, тоже ничего. Если надо бежать быстрее обычных людей и драться за двоих, этот поможет. У них такой обычай, что дают все даром. Если удача подвернется, то еще и добавят. Но если приходит недоброе время, тебя побили или обманули, то ты перед ними виновен. Надо платить кровью. Только своей. Сейчас меня согнули, и я плачу своим духам-защитникам, но совсем чуть-чуть, хорошо…»
Появились они в свой срок и у Халаша, точно отец говорил. Пять солнечных кругов Халаш пробыл пастухом, потом выбился в купцы, как дед и прадед. Творцу ли он поклонялся, ануннаку ли, простые боги людей кочевья не покидали его плеч. В них привычно верил бывший ниппурский лугаль, а иным силам доверять не хотел. Всю битву Левый говорил: «Беги», а Правый обещал: «Хочешь, сделаю так, чтоб одним ударом валил бы человека?» Кого из двух слушать? Надоели, старые ворчуны. Теперь, однако, был перед обоими виновен Халаш, и расплатиться следовало сполна. Он проиграл бой, всю войну, собственную свободу и все свое имущество: не оставят его добро в покое царские писцы, когда доберутся до славного города Ниппура. Много проиграл – и вина велика. Хотел было отомстить, когда очнулся. Тащат его в сторонку два царских пешца в кожаных шлемах, признали важную птицу по одежде, уже сумерки, лиц не видно. А только видно, что никакого меламму не осталось, не светятся ладони, даже слабой искорки не исходит от них. «Что ж, я теперь не лугаль? – усомнился было Халаш. И позвал: – Энмешарра! Энмешарра!» Ничего. До простых людей, хотя бы и недавних правителей, не снизойдет страж матери богов. Не получилось – отомстить. Выходит, кончилась власть и не уйти от кредиторов, а заем ох как велик. И то, что его теперь по велению царя оскопят – отличная новость. Он будет жить, и он не смирится, не просит. А духи получат великую жертву. Наверное, им достаточно. И каждый понимающий человек подтвердит: эти бестолковые бабаллонцы только помогают ему, делают полезное дело. Сам бы Халаш, пожалуй, отрубил бы себе кисть левой руки. Гораздо хуже. А это… жалко, конечно, но не так неудобно и… с чужой помощью.
На миг бывший лугаль усомнился: да неужели все так и вышло? Неужели мог он проиграть? Неужели кольца Ана не дошли до столичных ворот? Как же так! Непобедимая сила стояла у них за спиной. И не помогала… Вон лекарь перебирает свои железки, варит какое-то зелье. Нет, и вправду сделка рухнула, одни потери… Правда. Не во сне привиделось.
…А как страшно было смотреть со стен Ниппура еще до всего, в самом начале: в сумеречный час две темные фигуры, каждая по три тростника ростом, медленно приближались к городу. Колыхание их одежд по слабому ветерку завораживало взгляд. Люди сбежались с полей и из ближайших селений под защиту гарнизона. Гулко ударили створки ворот.
Глупцы! Защититься от этого стенами, воротами и мечами невозможно.
Первый великан – безлик и весь, с ног до головы, одет в черное. Ладони, шея и лицо обмотаны черными же тряпками. Кожи не видно ни на мизинец. Закрыты тряпками глаза, рот, ноздри, уши… При каждом шаге земля прогибалась под ним, не желая носить эту жуткую тяжесть. Стрелы отскакивали от него. Камень, пущенный из катапульты, ударил в живот, но великая ничуть не замедлил движения. Когда безликому оставалось до стен не более четверти полета стрелы, громоподобный шелест зазвучал в голове у Халаша: «Энмешарра… Энмешарра… Энмешарра…» Кто-то из стоящих рядом, застонав, стиснул виски ладонями, кто-то полетел вниз, на землю.
Вторая – женщина, если можно так назвать существо, у которого три пары грудей. Волосы собраны под пестрым платком, увитым пунцовыми лентами. До пояса она была обнажена, ноги и лоно скрывала юбка, состоящая из живых извивающихся змей. В правой руке великанша держала нож. Кожа ее – черней копоти, сама она толста и широкоплеча, тяжелый висячий жир собран в складки на спине и на бедрах.
Энмешарра остановился прямо напротив стены. Будь чудовище еще чуть повыше, оно увидело бы прямо за нею новенький дом почтенного кожевника Шана, владельца двух изрядных мастерских, главы одной из старших семей Ниппура… Энмешарра пренебрег воротами. Он даже не поднял рук. Просто все услышали тяжелый вздох – точно так же, как раньше слышали имя великана: вздох прозвучал в головах. Сейчас же рухнул участок стены, освободив пришельцам дорогу внутрь города. Энмешарра перешагнул через тела солдат, попадавших в пролом и израненных осколками кирпича. Еще вздох, и Шанов дом лег руинами. Потом еще один, еще, еще, еще…
Его спутница прошла через брешь, осыпаемая стрелами и дротиками. На ее теле не появилось ни одной царапины. Вместо шелеста в головах – пронзительный скрип: «Нинхурсаг… Нинхурсаг… Нинхурсаг…»
В тот же миг Левый шепнул Халашу: «Не бойся. Это может оказаться полезным. Только не оскорбляй пришельцев». А Правый пообещал: «Если придется покричать, твой голос будет втрое громче обычного. Помни это». Странные мысли зароились в голове у простого ниппурского пастуха: «А не пора ли переменить мэ? Не упустить бы случай».
Добрая половина солдат разбежалась, побросав оружие. Прочие стекались к лугалю ниппурскому, поставленному за солнечный круг до того царем Донатом. Лугаль велел немедля привести к пролому городского первосвященника, хоть бы тот и упирался.
Два чудовища стояли посреди развалин, от них исходил тяжкий смрад, как от разлагающейся падали, но ощутимей смрада был холод. Все, кто оказался в ту пору недалеко, поеживались от странного морозца, разносимого ветром от великанов. Энмешарра повел рукой. Руины, а также все, что было прежде создано с любовью и тщанием из доброго кирпича и подходящей глины, все, что накоплено было в домах: зерна, одежд, серебра и другого добра, все, что ныне лежало в хаотическом беспорядке у страшного пролома близ Речных ворот славного города Ниппура, немедленно обратилось в воду. Волна хлестнула по горожанам и солдатам. Кое-кого сбило с ног, некоторые закричали от ужаса. Но больше было таких, кто боялся двинуть рукой или ногой, боялся и слово вымолвить перед лицом кошмара, пришедшего в дом. Эти стояли по щиколотку в воде, не шевелясь.
В головах зазвучал голос безликого, и голос этот был таков, как будто камень ожил ненадолго и раздает повеления; не больше живого было в нем, чем в крепостной стене:
– Лугаль! Лугаль ниппурский! Слушай меня.
У молодого черноусого правителя, стоявшего во главе горсти солдат, достало мужества не ответить.
– Лугаль! Я собираюсь разрушить твой город, засыпать колодцы, обрушить каналы, убить людей и животных. Слышишь ли ты меня?
– Слышу, урод.
Халаш был совсем недалеко, он видел руки лугаля, закрытые ото всех прочих солдатскими спинами. Пытаясь унять страх, правитель сжал их мертвым замком, так, что кожа побелела
– Лугаль! Я очистил место. Вели всех собрать здесь. Если пожелаешь, я сохраню им жизнь. Но царь править ими не будет, и ты уйдешь отсюда. Лугаль! Почему ты медлишь? Если не скажешь им собраться, мэ города Ниппура оборвется через шестьдесят вздохов. Я сказал.
Бегуны, один за другим, отправлялись в разные кварталы. Правитель не стал перечить.
Солдаты, толпа ниппурцев и оба чудовища стояли в молчании. Не было привычного гуда, какой всегда летает над большим скоплением людей. Потоки воды растекались по утоптанной земле городских улиц. Понемногу изо всех концов города стали прибывать группки ниппурцев. Толпа множилась, и вот Энмешарра сказал:
– Достаточно. Пусть старый город слушает меня. Я пришел, чтобы распорядиться вашими жизнями.
Пауза. Ласковый шепот воды.
– Я дам вам закон и государя. Или убью вас всех. Лугаль:
– У нас есть и закон, и государь!
– Были, лугаль.
– Есть, урод!
– Мне ни к чему спорить с мертвецом, хотя бы он стоял во весь рост и подавал голос.
В толпе – испуганные шепотки: «Где же первосвященник? Где? Где? Ползком ползет?» Лишь на следующий день оставшиеся ниппурцы узнают, в тот же миг, когда древняя стена городская пала перед Энмешаррой, бит убари суммэрким восстал. Бит убари – кварталы чужеземцев – издавна были в Ниппуре, задолго до того, как отец Халаша привел в город свою семью. Самый большой из них принадлежал людям суммэрк, черноголовым. Сколько их жило там? Сто? Да, может быть, сто, в крайнем случае двести. Капля – для старого города Ниппура. Но наступило время перелома, и эта малость сыграла свою роль… Прежде бегунов лугаля черноголовые отыскали первосвященника ниппурского и зарезали его, со всеми слугами, а потом перебили иных священствующих со слугами и семьями. Так что некому было откликнуться на зов лугаля, некому было бороться с силой, против которой не помогают ни камень, ни металл, ни живая плоть.
И все-таки лугаль не желал уйти. Мэ не отпускала его. Энмешарра:
– Слушай, город Ниппур! Грядет ваш господь! Примите его и слушайтесь во всем.
Великанша занесла руку с ножом и ударила сама себя в живот. Ни один сикль страдания не взошел на ее лицо. Глаза Нинхурсаг оставались так же холодны, как голос Энмешарры. Между тем нож медленно двигался книзу, из расселины во плоти хлестала кровь, змеи подняли головы и принялись слизывать ее с черной кожи,
Вниз, вниз, вниз, почти до самого лона. Правой рукой Нинхурсаг стряхнула с живота шипящих гадов, как будто отмахнулась от назойливых мух; потом запустила пальцы в собственное чрево и вытащила тельце младенца. Обыкновенного смуглого… мальчишку. Так же бесстрастно обрезала пуповину. Положила чадо на мокрую глинистую землю и воздела обе руки вверх: в одной пуповина, в другой окровавленный нож. Уста ее разомкнулись – единственный раз за все время пребывания в Ниппуре – и проскрежетали всего одно слово:
– Примите!
Чрево Нинхурсаг стремительно затягивалось, а кровь на нем из алой превратилась в розовую, потом в белую и наконец стала невидимой, совсем исчезла.
Тут толпа не выдержала. Многие завыли во весь голос, особенно те женщины, которые отважились выйти к чудовищам вместе со своими мужьями. Двое или трое забились в судорогах, не помня себя. Добрая половина бросилась врассыпную. Но тут Энмешарра поднял руку и словно бы начертал в воздухе двойной клин. Те, кто уже почти скрылся на кривых расходящихся улочках, попадали замертво. Шелест в головах:
– На место.
Направляемые ужасом, ниппурцы послушались и вернулись обратно. Энмешарра продолжил:
– Вот ваш бог. Лугаль выкрикнул:
– Наш Бог – Творец!
– Теперь поклонитесь этому богу. Имя нового господа для Ниппура – Энлиль из рода ануннаков, слуг Ану, величайшего и лучезарного.
– Это, – не отступался лугаль, – враг и порождение врага. Я не поклонюсь ему, и другим не следует.
– Храбрый мертвец.
Младенец нечеловечески быстро рос. Люди дали бы мальчишке полтора солнечных круга или даже два. Энмешарра повелел:
– Слушай меня, город Ниппур. Ваш князь слаб, а я силен. Я покараю тех, кто не желает повиноваться. Вот ваш бог…
– Нет!
– …Вот ваш бог. Нового князя выберете сами, как он вам скажет. Царь вам не нужен, оставьте Царство. Будете сами по себе. Вся воля ваша, ничего не станете платить. А если Царство не отпустит вас, низвергните его. Сила непобедимая будет на вашей стороне. Смотрите, что может треть моего глаза, если освободить ее на время одного вздоха!
Энмешарра осторожно отогнул уголок тряпки, закрывавшей ему глаза. Отогнул совсем немного. Халаш стоял так, что не мог доподлинно разглядеть: какая именно часть глаза чудовища получила право взглянуть на мир, но по всему видно – никак не больше обещанной трети. Тут же в море ниппурских домов образовалась узкая просека. Будто некое огромное невидимое существо взяло нож и вырезало узкую полосу города, как вырезают кусок мяса из свиной ноги. От стены и до стены ниппурской образовался коридор шириной в шесть шагов или около того. Иные дворы и дома оказались разрезанными прямо посредине, мелкая домашняя утварь выпадала оттуда наземь.
Левый шепнул Халашу: «Смотри! Вот настоящий господин. Не будь простаком». Правый подхватывал: «Подчинись сильному. Может быть, он даст тебе что-нибудь».
Толпа ахнула. Бежать на сей раз побоялись. Громовой шелест сводил ниппурцев с ума:
– Те, кто не хочет повиноваться, пусть встанут рядом с вашим мятежным князем. Те, кто будет вереи Энлилю и всей силе нашей, пускай встанут напротив.
Толпа задвигалась. Лугаль выкрикнул:
– Творец и государь с нами! Встанем крепко! Стыдно бояться! Идите ко мне.
Но тех, кто встал напротив, оказалось намного больше. Некоторые старшие семьи остались верны ему и Донату, чиновники, ремесленники, работавшие на дворец, да и то не все. Из прочих перебороли страх немногие. На другой стороне собрались почти все младшие семьи, торговцы, рыбаки, многие из бедных земледельцев и пастухов. Те, кто боялся, и те, кто хотел большего. Халаш был среди них.
Мальчишка тем временем все подрастал, не открывая глаз и не подавая никаких признаков жизни. Тело, лежавшее у ног Нинхурсаг, могло бы принадлежать ребенку в возрасте пяти солнечных кругов.
Старый город Ниппур разделился. Как страшно! Никогда прежде не случалось стоять ниппурцам против ниппурцев. Разве это не страшнее двух великанов и чудовищного ребенка? Многие бы сказали – страшнее… Халаш не был родным для города. Он пришел извне, и аромат давней свободы был растворен в его крови. Дед его был богат и крепок. Отец ослабел, но не дал роду погибнуть. Их сын и внук ждал момента, когда свобода и богатство вернутся к семье.
Шелест:
– Что стоите, ниппурцы? Неужели воля наша непонятна? Неужели не хотите показать вашу верность?
Но так прочен был порядок в старом городе Ниппуре и так привыкли все его жители к непоколебимости этого порядка, что ни страх смерти, ни жажда возвышения не сдвинули толпу с места. Ниппур не хотел идти против Ниппура. Семья не хотела идти против родичей, а квартал против добрых соседей. Тогда Халаш – первым, – а за ним тамкар Кадан, рыбак Флорт, по прозвищу Крикун, да еще один черноголовый из битубари суммэрким – кто знает, как его зовут? – выскочили вперед и заорали:
– Бей!
Сейчас же великий вой встал у разбитой стены старого города Ниппура. Две толпы – одна, подобная грозовой туче, а другая – ночному небу – столкнулись. Только что город стоял на порядке и на любви. Но кое-что всегда было рядом, стояло в тени и ждало своего часа. Кое-что, чему нет имени и в то же время – много имен. Одного слова оказалось достаточно, чтобы выдавить это из сердец. У каждого – свое. У Халаша – жаркая горечь песка из бесплодной пустыни, где смерть ласково улыбалась его деду и отцу, обещая утешить, раскрывая объятия легко… так легко, так легко! И обманчиво слабый город живо сделал сильных людей кирпичом в своих стенах. Они не смеют! У Флорта – журчание свободы, дарованной грубой и опасной работой морского человека и оборванной трижды руками городских гурушей. Как он бился, не желая признать их власть! Как расшвыривал их, как дрался. Каждый раз стража пригибала его плечи к земле. «Воля не твоя, рыбак! Калечить людей тебе не позволено». Они не смеют! У Калана ноющий холодок ветра – за сто ударов сердца до урагана и за девяносто девять до спасительного горного ущелья. Кто опытнее Кадана в Ниппуре? Кто искуснее него? Он проходил путь от низшего в гильдии купцов до высшего всякий раз, когда бабаллонец с проклятыми табличками выносил приговор: «Отобрать все. Этот опять взял себе из имущества Храма». Они не смеют! Воля всего твердого и милосердного в городе столкнулась с волей черного огня, неверного, недоброго, зы6кого но упрямством своим – прочнее горного камня… Бывает, бывает огонь прочнее камня, будь он проклят!
Люди ударили в людей. Грудь в грудь. Пальцы сжимают чужие запястья, рвут чужие мышцы, тянутся к чужому горлу. Где там нагнуться, чтобы взять камень с земли! Если был с собой нож, бронза его не раз войдет в плоть врага, если не было, что ж, зубы попробуют человеческой крови. Две толпы калечат друг друга, ослепнув от ярости, не хуже пса и волка, которым сама их внутренняя суть не велит примиряться.
Многие из тех, кто встал против лугаля, нерешительно топталась за спинами нападавших. Они наблюдали за смертоубийством, не зная, куда себя деть. Как случилось такое? Можно ли мирно жить на одной улице с людьми, которые на твоих глазах всего за один удар сердца превратились в зверей? Они смотрели на свалку и хотели одного: чтобы происходящее не случилось. Никогда. Ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. А в двух десятках шагов перед ними один ниппурец ломал кости другому…
Халаша сдавливали со всех сторон, хватали за руки, били, сбивали с ног. Невесть как он поднимался. И старый, еще дедов, короткий нож у него был. Убирая заостренной бронзой врагов со своей дороги, Халаш рвался к лугаля. Так, будто неведомая сила откуда-то извне вертела им в толпе, безошибочно направляя туда, где бился черноусый князь, подталкивая, не давая попасть под чужой удар, помогая убивать без промашки.
Верных государю ниппурцев было по одному на восемь мятежников. Горсть солдат и гурушей во главе с лугалем была их единственной надеждой уцелеть. Но и у них тоже было свое – о чем не говорят никогда, но и не забывают даже на день. Они здесь были господами и опорой города. Они видели то, что стоит в тени. Они всегда, один круг солнца за другим, желали ударить и раздавить. Но закон останавливал их. Теперь, одной рукой приняв ладонь смерти, они освободились. А освободившись, били столько, сколько пожелают, того, кто попался первым, и так, как прежде им не было позволено. Каждому из них от всего сердца хотелось влить расплавленный металл в бесплодное влагалище бунта.
С обеих сторон – не было пощады.
– К пролому! – направил лугаль своих. Это был единственный путь для спасительного отступления. Солдаты падали вокруг правителя один за другим.
Безумие. Мятеж не отпустил бы никого, всех бы положил на месте. Те, кто бился с мятежом, взяли бы с собой, за порог оборванной мэ, сколько можно бунтовщиков. Чем больше, тем лучше! Любой ценой. Только что обе стороны отлично ладили в одном городе. Теперь мало кто думал о собственной жизни. Уцелеть? Спастись? Убить – нужнее…
– Бей!
Какая-то женщина, потеряв рассудок, билась в судорогах у самого края побоища и рвала на себе волосы. Ее глотка то и дело исторгала визг:
– Бей! Бей!
И все-таки понемногу толпа верных отходила к бреши. Солдаты, те, кто не убежал раньше, стояли крепко. За каждого из них толпа-ночь платила полновесным клоком своей тьмы. Наконец бой пошел на кучах глины и кирпича, между нависающих справа и слева челюстей городской стены. Верные, а их осталось, быть может, двести или триста человек, вырвались из бойни. Лугаль последним уходил из города, отданного под его руку царем. Лицо его и ладони были покрыты ранами, шлем сбит с головы, хриплое дыхание рвало горло. Он уходил последним и вдруг остановился, когда все его солдаты уже вышли наружу. Халаш и Флорт, один с ножом, а другой с дубинкой, встали против него. Смертельно уставший князь собрал всю силу, всю сноровку, оставшуюся у него в руках, и вонзил клинок рыбаку между ребер. Халаш ударил его ножом в плечо. Лугаль уже не смог достать свое оружие из мертвого тела. Отшатнулся. Прислонился спиной к стене.
– Слава Творцу… я остался.
Халаш впоследствии не раз думал об этих словах черноусого, но постичь их смысл не сумел. Остался? Дурак…
Он подошел вплотную и распорол лугалю горло. Схватил мертвеца за волосы, не дал сразу упасть. Кровь лилась черным потоком на одежду Халаша, на кирпич и на землю. Он не выдержал и закричал прямо в мертвые глаза, отдавая гнев – свой, отца и всех тех, кто жил с ними рядом в Ниппуре, с мечтами о настоящей воле, и кто никогда не решался даже заговорить о ней. Во всей жизни Халаша не было ничего приятнее жертвенной княжеской крови, щедро украсившей его грудь и пальцы.
Уставшие, покрытые грязью и кровью, победители встали у пролома, наблюдая за Халашем. У них не было сил преследовать беглецов и не было решимости повернуться лицом к новому закону. Наконец Халаш разжал пальцы, и тело лугаля распласталось на битом кирпиче. Кончено. Что теперь?
Шелест Энмешарры:
– Посмотрите на вашего бога. Поклонитесь ему.
Наконец все они повернулись. В грязи стоял на одном колене обнаженный мужчина. Не старше тридцати солнечных кругов. Рослый, крепкий, красивый. Короткие прямые волосы невиданного в земле Алларуад цвета бледного золота. Глаза… не поймешь, какая радужка: серая? голубая? зеленоватая? фиолетовая? алая? – оттенок все время меняется. Да и разглядеть трудно – поздние сумерки. Кожа белая, гладкая и чистая, словно у мальчика, притом мышцы как у опытного солдата. И… то, чем так тщеславятся мужчины… едва ли не побеждает здравый рассудок своими размерами. Но в общем, ничего необычного. Ничего божественного.
Шелест:
– Я сказал, поклонитесь ему. Город Ниппур! Каждый должен коснуться лбом земли, по которой ступает Энлиль.
Ниппурцы – все как один – покорились. И те, кто дрался только что, и те, кто стоял в стороне. Грязь на лбу объединила их прочнее кровного родства.
Это был великий и страшный миг в истории города. Его судьба словно бы разделилась на две части: до поклона и после него. Тем, что произошло до, можно было гордиться, а можно – досадовать, что не вышло умнее и краше. Что же касается после… тут уж либо держаться хозяев до конца, либо с первого удара сердца новой эпохи крепко учиться просить прощения.
Энмешарра указательным пальцем правой руки прикоснулся к плечу Энлиля.
– Я выпускаю тебя!
Новый бог Ниппура встал с колена, выпрямился. Весь он с ног до головы был заляпал кровью собственного рождения.
И тут оба духа-хранителя Халаша шумнули: мол, давай! Пришло твое время! Ради этого ты, недотепа, и прикончил лугаля. Может, Халаш измазал себя кровью высокого совсем и не по той причине. Может, он даже и не помышлял о продолжении. Может, и само действие принесло ему… что-то вроде освобождения… Но только не привык пастух и торговец, сын пастуха и торговца, пренебрегать столь очевидным советом своих кочевых богов. Что сделать? О, Халаш очень быстро понял, что ему делать. Он выступил из общей толпы и принялся сдирать с трупа сотника Анкарта одежду из тонкой шерсти. Тысячеглазая тварь Ниппур взглядом своим почти прокалывала ему спину, как костяная игла прокалывает непослушную кожу… Зыбкий шорох прошел по толпе. Суетливые люди в такие времена гибнут первыми… Это да. Зато и добиваются большего.
Халаш скоро справился со своей работой. Пал на колени перед Энлилем. Слова, способные возвысить, сами пришли ему на язык. Род его был таков: мужчины, так близко и бытово знавшие хождение по пятам за смертью, умели вовремя протянуть руку за прибылью, крикнуть громче, сказать нужное.
– О, господь! Твоя нагота совершенна. Мои глаза недостойны видеть твое тело. Одежда, которую я принес, чтобы даровать твоему величию, лишь первый и самый скромный изо всех даров, которые принесет тебе город Ниппур. Прими! Не держи на нас гнева за то, что ничего лучшего не можем дать тебе сейчас.
Энлиль не побрезговал. Неторопливо оделся. Потом, когда мятеж стоял во всей земле Алларуад подобно львиному рыку, он признается Халашу: мол, жребий в день выборов нового лугаля для славного города Ниппура вряд ли мог выпасть иначе… уж больно приятно было поощрить негордого и понятливого человека. Толпе одетых горожан и впрямь не стоит видеть своего бога обнаженным. Право, совсем не стоит! Еще подумают нечаянно, что это нищенствующий бог.
К тому времени тьма опустилась на город. Фигуры людей, громада стен и неровные линии улиц расплывались в неверном свете факелов. Кто-то стоя ждал своей участи. Кто-то опустился на землю в изнеможении. Бесконечный несчастливый день еще не иссяк с заходом солнца. Наконец Энлиль заговорил. Луна станет полной и вновь похудеет почти что до невидимости, потом вновь разбухнет и поплывет над городом, подобно бугристой серебряной лепешке, и тогда Халаш будет знать, как легко говорить его богу шестью разными голосами. Как легко ему подобрать голос, подходящий для новых обстоятельств. Скажем, голос, похожий на кожу, снятую с теплой ночи, ласковый и возвышенный; ради одного слова, сказанного так, ниппурские женщины готовы были резать собственную плоть и вскрывать жилы. Или голос… странный, двоящийся, насмешливый и высокий, какими бывают звуки у мастера тростниковой флейты… если признать, что голос может уподобиться человеку, то этот голос прячет за спиной серебряную пластину и то и дело легонько ударяет в нее маленьким молоточком. Но в тот вечер под ущербным сверкающим хлебцем, на политой кровью земле у разбитой стены зазвучал голос повелений… И вроде бы он был не столь уж громким, но от первых же звуков боль стискивала беспощадным обручем головы ниппурцев, из ушей начинала капать кровь, из мышц уходила сила. Сам воздух, кажется, дрожал, и дрожь передавалась телам людей. Не колокольчики, а барабаны раскатывались в словах господа из рода ануннаков, слуг лучезарного. Тысячи приглушенных барабанов, хозяева которых били так скоро, что скорее бить для человека невозможно.
– Я, Энлиль, беру старый город Ниппур со всеми душами в живущих телах. Слушай, город! Я владею тобой, воле моей нет препятствий. Ты моя вещь. Если скажу умереть – умрешь. Если велю сражаться – будешь сражаться. Если прикажу отдать все, чем владеешь ты сам, – отдашь.
Никто не смел перечить ему. Черные, слегка подсвеченные туши Нинхурсаг и Энмешарры скалами загораживали его спину. Голос защищал грудь не хуже бронзы. Страх и пролитая кровь держали ниппурцев крепче собачьего ошейника.
– Я, Энлиль, ставлю свою ногу на твою грудь, Ниппур. Желает ли кто-нибудь из тех, что населяют тебя, шевельнуться под моей стопой, показать свою силу?
Никто не пожелал.
– Я, Энлиль, вижу твою покорность. Я поселюсь в твоем храме, Ниппур. Не будешь ты, город, молиться Творцу. Не будешь поклоняться Творцу. Будешь сгибать колени передо мной. Дашь мне одежд, пищи, женщин и всего, чего я пожелаю. Изберу себе слуг, сколько нужно. Назову правителя. Дам тебе, старый город, новую мэ. Не желаешь ли возвысить голос против меня?
Халаш оглянулся. Все-таки на это могли решиться далеко не все. Но тогда никто не пошевелился в толпе. Лишь наутро стало известно о том, что еще две сотни ниппурцев ушли за городскую стену. Некоторые признались родне: поклоняться такому невозможно, страшно, преступно. Уж лучше оставить очаг за спиной, уйти из тела города и стать никем.
– Я, Энлиль, милостив к покорным. Сила моя безгранична. Но послушных рабов своих я пожалую. Ответь мне, Ниппур, куда уходят души тех, кто владеет твоей землей?
Куда… Творец их забирает, судит и дарит им мэ в мире своем, далеко отсюда. Суд его строг, но он любит свое творение и, наверное, не будет чересчур жесток, определяя посмертный жребий души. Так, во всяком случае, говорил первосвященник. Каждый ниппурец впитывал это предначертание чуть ли не с молоком матери. Впрочем, кто знает пути Творца… Говорят, он добр. Говорят, он не жалует злых дел и сам не творит их. Но никто в точности не скажет, как именно Он понимает добро и зло. Остается верить в его любовь и мудрость, как верит маленький ребенок, почти младенец, в любовь и мудрость своей матери. Вот чему поклонялись до сих пор в старом городе Ниппуре.
Что ответить новому богу? Веру нипурскую и всей благословенной земли Алларуад, подаренной Творцом, этот и сам, видно, знает… Кто должен ему отвечать? Был бы здесь первосвященник, ответил бы, как полагается. Был бы лугаль, тоже, наверное, сказал бы, что надо. Толпа молчит, толпа робеет.
И все-таки вышла вперед одна женщина, Мамма из квартала кожевников, полукровка, пришедшая от семьи суммэрк. Мать четверых детей, полная, грузная, с черными прямыми волосами, поблескивавшими в факельном свете. Муж ее, мастер Нарт, любитель сикеры каких поискать, все хвастался в питейном доме, сколь ласковы ее руки… Частенько жители квартала склоняли перед ней голову: кажется, само дыхание Маммы исполнено было щедрой женской силы, которой нетрудно и приятно подчиняться. Таких людей не много в Ниппуре… горожане говорят, что следы их сандалий прорастают цветами. Мамма тихо ответствовала Энлилю:
– Куда души уходят, Творец знает. Оба вы сильные. Но его я люблю, а тебя боюсь. Ты страх, и больше ничего.
– Ниппур! Ты знаешь, как ответить.
Ну, город городом, а Халаш знал ответ. Он подошел к черноволосой сзади. Мамма было начала поворачиваться на шум шагов, и в тот же миг смертоносная бронза глубоко вошла ей в бок. Халаш так и хотел: не убивать сразу. Пусть-ка поймет всеми кишками, что ее власть здесь тоже кончилась. Однако Мамма как будто предвидела свою судьбу, как будто загодя подготовилась к смерти. Для чего было заглядывать в глаза собственной гибели? Что можно увидеть в глазах смерти, кроме смерти? Что светится темным огнем в глазах душегуба, кроме убийства? О нет. Мамма успела еще обвести взглядом черные силуэты крыш. Этот город был с нею нежен. Эта земля ластилась к ее ступням.
– Здесь было так весело…
Халаш сделал в тяжелом женском теле еще четыре дыры. Кровь Маммы пала на его одежду, впиталась в нее и смешалась с кровью молодого лугаля. Такова была последняя любовь жены кожевника Нарта.
Иногда случается так, что, смерть сближает очень разных людей, при жизни едва знавших друг друга.
Глубинные сути их вольно смешиваются, уже не нуждаясь в телах… Князь ниппурский и Мамма, быть может, не перемолвились и десятком слов. Но было в них, надо полагать, нечто нерасторжимое. Энлиль:
– Я прощаю твой бунт, Ниппур. Ты сам исправил свою вину.
Никто из горожан не посмел поднять глаза.
– Я, Энлиль, желаю дать тебе, Ниппур, драгоценный совет. Знаю я, что бог твой прежний, которого вы именовали Творцам, всего лишь ловкий маг. У него в крови нет ничего божественного, он рожден матерью. Слава его велика, но он всего-навсего человек и подвластен смерти. Я – бог истинный и силой своей могу творить великие чудеса. Спрашивал я, куда отправляются души ваших умерших. Ты не знаешь, раб мой город. Ты ждешь какого-то суда, Ниппур. Так я покажу тебе и всем, чьи дома объяты твоей стеной, куда именно уходят души, когда мэ прерывается…
…Спустя две луны после первой встречи Халаша и Энлиля новый лугаль ниппурский как-то спросил у ануннака: отчего тот обращался с речью не к ниппурцам, а к городу? Тот ответил своему любимцу: мол, что за глупость! – несолидно для бога в день первого знакомства устанавливать столь фамильярные отношения со своими рабами. «М-м-м», – прокомментировал ответ Энлиля главнейший его раб…
– Я, Энлиль, поднимаю завесу тайного! – И действительно, голосистый мужчина в обносках Анкарта сделал рукой движение, словно убрал какую-то невидимую преграду перед толпой.
А! Была ночь. Обыкновенная ночь месяца уллулта. Тьма. Невыносимая духота сушила глотки. Но на город опустилась иная мгла, как будто тень истинной ночи, ночи ночей. И подернутая маревом серая водянистая плоть этой тени показалась ниппурцам чернее и гуще и предполуночной тьмы.
– Я, Энлиль, владелец города Ниппура, дарю тебе, мое имущество, слово. Это слово уцурту. Так зови, Ниппур, и все, кто тебя населяет, чертеж мэ от рождения и до смерти, а также и после смерти. Чертеж, ибо все предопределено богами с начала и до самого конца. Уцурту людей – служить и терпеть. Большего никому из них не позволено. Вот что такое посмертная мэ.
На колеблющемся полотне великой тени показались размытые пятна, силуэты… фигуры? Изображение становилось все отчетливее.
Большая тростниковая лодка. Столь большая, что никто в старом Ниппуре не сумел бы построить такую же. Высокий худой человек в одежде, сделанной из тон-кой льняной ткани и украшенной золотыми пластинами. На голове его шлем из желтого металла, за поясом тяжелый топор. Он вяло пошевеливает рулевым веслом. Тем не менее лодка быстро идет поперек течения великой реки – берегов ее не видно. Судно битком набито обнаженными людьми, мужчины и женщины перемешаны, и все они стоят в странном оцепенении, не в силах двинуть рукой или переставить ногу. Плоть нежная и плоть грубая поставлены рядом. Кожа тоньше чистой воды и кожа тверже старой циновки трутся друг о друга. Лица искажены страхом, досадой, гневом, печалью. Нет улыбающихся лиц…
«Понятно, – сообразил тогда Халаш, – если бы они могли сражаться, такая куча живо осилила бы одного перевозчика, хотя бы и голыми руками против топора. Видно, этот – тоже какой-нибудь бог. Держит их невидимой силой».
Среди прочих стояли в лодке и Анкарт, и его солдаты, и первосвященник, и Флорт, и многие другие ниппурцы, павшие сегодня у бреши в городской стене. Тела их еще не прибраны, а души… вот они, души. Черноусый лугаль – здесь же, у самого борта. И Мамма рядом с ним, бок о бок.
– Ниппур! Имя того, кто перевезет души твоих насельников из жизни в смерть, – Уршанаби. Единственный речной перевозчик, который не берет никого в обратную сторону, ибо смерть – это Кур-ну-ги, Земля, откуда нет возврата.
Корабль смерти скоро измерил пространство, отделяющее царство живых от царства мертвых. Нос его дрогнул на мелководье. Ладья остановилась, и тут вся толпа, вглядывавшаяся в уцурту посмертья, ахнула: побережье Кур-ну-ги на десять локтей выложено было хлебными лепешками, покрытыми густым слоем плесени. Выходит, и вправду, смерть безнадежна, раз хлеб не полагается ушедшим душам… Хлеб! Хлеб напрасно гибнет, и никому нет до этого дела…
Уршанаби выгрузил души, как бревна, таская их на плече, и оттолкнулся веслом. Лодка пошла обратно. Души сейчас же обрели признаки жизни. Кто-то метнулся было в реку, но перевозчика было не догнать. Кто-то заплакал. Кто-то лег и попытался заснуть, видно, жизнь наполнила его душу усталостью. Но в смерти не бывает снов, и глаза мертвецов не забывались…
Все собравшиеся на берегу были зрелыми людьми. Наверное, в посмертьи они вновь обретали тела времен собственного расцвета – вместо стариковского. А те, кто ушел из жизни в детском возрасте, становились за порогом такими, какими должны были стать на другом берегу через десять, пятнадцать или двадцать солнечных кругов после того, как мэ их прервалась.
Душам не позволили разбрестись. Скоро их окружила стая огромных рыкающих львов. А с неба… или нет, сверху откуда-то, нет неба в смерти, нет солнца и луны, а есть только высокий сумеречный потолок, – так вот, оттуда, с потолка, явилась стая крылатых баранов с копьями. Тыча остриями в человеческие тела, бараны погнали людей к высокой стене из серого камня. Львы следовали по сторонам, никому не давая отделиться от общей толпы и сбежать. И души, подчиняясь копейным уколам, почти бежали. Потому что боль в смерти есть.
Все они, дойдя до стены, двинулись вдоль земляного вала. Ни единой травинки не росло на скользкой глинистой почве. Сырой туман висел так низко, что за ним едва-едва угадывались каменные зубцы и башни. Бараны и львы остановили человеческое стадо у ворот. Створки… странные створки из того же серого камня, как будто закрой ворота – и стена сомкнется, не оставив ни трещинки на месте ворот… Так вот, створки были распахнуты наружу. Над воротной аркой грубо вытесан знак «оттаэ» – восемь. Выходит, для жителей земли Алларуад здесь приспособлены особые ворота. Может быть, людей суммэрк принимают под шестеркой, а горцев, старший народ, удостоили единицы… Впрочем, какая разница для мертвеца, где стоять и куда идти, ведь отсюда нет возврата.
Сразу за воротами открылся широкий, двор, мощенный диким горным камнем, столь драгоценным во всей земле Алдаруад – от моря и до самого канала Агадирт и полночного вала. Посреди двора стояло восемь кресел из черного металла. Такого не знал никто из ниппурцев. На возвышении – трон, искусно вырезанный из кости, а что за кость, думать не хочется… За троном, шагах в десяти, – двухэтажный дом. Преужасный! – Поскольку собран он весь из того же черного металла, поседевшего (видно, от старости) рыжими пятнами. Прямо на стене его грубо намалеван чем-то алым все тот же знак «оттаэ», что и на воротах. За ним – бесконечная равнина, даль ее укрыта густым серым туманом.
Из железного дома вышла женщина в одеянии, которое любит у суммэрк: четыре короткие юбки, сшитые из широких полос кожи неравной длины и надетые одна поверх другой. Выше пояса она была обнажена, и с телом ее происходило странное: контуры груди, плеч, рук слегка расплывались, и сколько мужчины из толпы мертвецов ни пытались разглядеть подробности, ничего не получалось; но каждый из них почему-то подумал, что при жизни не видел никого прекраснее. Смотрели на лицо. С ним тоже… творилось непонятное. Никто не умел остановить взгляд на подбородке, на носу или на лбу. Не получалось. Огромные глаза, миндалевидные, как у полночных кочевников. Выкаченные белки и темные пятна чудовищно больших зрачков с радужками… Слишком больших для человека. Так вот, глаза приковывали к себе все внимание, нимало не оставляя его для прочего. Глаза… невообразимо хороши, так хороши, что даже ужасны. Чего больше в них – красоты или угрозы?
Женщина хлопнула в ладоши. Села в одно из восьми кресел и принялась раскладывать на коленях рабочий прибор писца. Есть такой обычай в земле Алларуад: женщинам позволено исполнять работу писцов. Так, значит, и в тех местах, где судят души умерших алларуадцев, этот обычай соблюдается…
Из железного дома вышли двое мужчин, похожих на Энлиля как две капли воды. Они заняли еще два кресла. Один из них поставил перед креслом маленькую деревянную скамеечку для ног, но скамеечка оказалась слишком узкой, и левая ступня в сандалии то и дело соскальзывала вниз. Мужчина сделал неуловимо быстрое движение рукой. Сейчас же вместо двух ног на скамеечку лет толстый рыбий хвост, отросший прямо из торса.
Затем появились четыре раба с носилками, на которых возлежала худая изможденная старуха – кожа клочьями свисает с черепа. На голове у нее серебряная диадема: толстый обруч грубой работы, один высокий треугольный зуб спереди, надо лбом, а из этого зуба торчат четыре пары изогнутых кверху рогов. Диадема украшена сердоликом, лазуритом и сверкающими камнями, имя которых Ниппуру неизвестно. Рабы сажают старуху на трон.
…Однажды Энлиль ответит на очередной вопрос любопытствующего Халаша, почему, мол, остались пусты прочие кресла: «О! Чего ради мы не сделали лугалем Кадана? Наверняка он был бы сообразительнее тебя. Все так просто! Милейший пастух… ээ… лугаль! Нас там нет, потому что мы здесь…» А почему восьмерка? Что в ней за тайный смысл? «А потому, дражайший повелитель овец… ээ… ниппурцев, что ворота для вашей дохлятины – как раз между седьмыми и девятыми. Им-то и пристало быть восьмыми».
Рабы выносят восемь скипетров, каждый по три локтя длиной. Скипетр из кедра и скипетр из кипариса, скипетр из клена и скипетр из самшита, скипетр из серебра и скипетр из золота, скипетр из бледного золота, в котором часть долей истинно золотые, часть же – из чистого серебра, и скипетр из черного металла. Рабы становятся по бокам трона, у одного из них старуха молниеносным движением выхватывает черный скипетр; ее длинные бледные пальцы цепко держат тяжелый цилиндр, испещренный рисунками и письменами. Царица подземного мира открывает рот, шевелятся ее лиловые губы, приходят в движение объедки беззубых десен, но голос… голос тонок и приятен, как у маленькой девочки:
– Возлюбленная дочь моя, Гештинанна, великий писец Земли, откуда нет возврата, искуснейшая в своем ремесле, прекраснейшая из дев царства мертвых, чей взгляд обещает сладкую смерть, чья рука выводит уцурту душ, перевезенных сюда кораблем Уршанаби, тебя вопрошаю: сколько прерванных мэ явилось сюда, из каких мест пришли они к последнему причалу и какого они рода?
Большеглазая красотка:
– О блистательная мать моя, Эрешкигаль, дающая истинную силу, хозяйка Двора судилища, правительница Земли, откуда нет возврата, царица нижних чертогов, подательница искусства в темных обрядах и советчица женщин, страждущих тайного знания, неистовых плясок и власти, растущей из земли, тебе отвечаю: их тридцать шесть раз по тридцать шесть; прерванные мэ пришли к последнему причалу из земли Иллуруду, именуемой нечестивыми Алларуад; некоторые из Баб-Аллона и Сиппара, Лагаша и Уммы, Барсиппы и Эреду, Эшнунны и Урука, Ура и Кисуры, но более всего из Ниппура; семьдесят два и три из них – из рода людей суммэрк, честных и чистых рабов твоих; шесть и два из них – из рода полночных кочевников, не знающих богов; два – из рода хозяев гор, старших людей, ведающих чистые обряды; прочие же – простые подданные Царства, обманутые Творцом.
Эрешкигаль, для которой, как видно, вся эта церемония была делом обыкновенным, обратилась к «энлилям»:
– Вернейшие мои слуги, судьи-ануннаки, род преданный лучезарному и помощникам его, скоро повинующийся и служащий давно, род украшенный заслугами, вас вопрошаю: есть ли среди пришедших к последнему причалу те, кто достоин лучшей доли?
Судьи встали. Рабы с бичами принялись нахлестывать человечье стадо, строя его в шесть рядов. Ануннаки быстрым шагом обходили мертвецов, начав один с заднего ряда, другой – с переднего. Они то ли всматривались в глаза, то ли принюхивались, то ли отыскивали одним лишь им известные приметы. Тот, мимо кого проходил ануннак, валился лицом вниз и застывал. Кое-кого, очень редко, может быть, одного из сотни или полусотни мертвецов, они поддерживали руками, не давая упасть. Такие стояли, подобно пальмам на поле боя, окруженные неподвижными телами. Наконец обход завершился. Один из судей поклонился старухе и заговорил:
– О, могучая и пресветлая владычица наша, Эрешкигаль, дающая истинную силу, хозяйка Двора судилища, правительница Земли, откуда нет возврата, царица нижних чертогов, подательница искусства в темных обрядах и советчица женщин, страждущих тайного знания, неистовых плясок и власти, растущей из земли, тебе отвечаем: никто из нечестивцев, обманутых Творцом, лучшей доли не достоин; шесть раз по шесть и пять людей суммэрк лучшей доли недостойны; один кочевник лучшей доли недостоин; про старший народ знаешь сама; пять раз по шесть и три людей суммэрк имеют добрых наследников – вослед их ушедшим душам принесены жертвы; один человек суммэрк и одна(!) кочевник могут быть записаны в рабы, потому что пригодны к службе лучезарному.
Эрешкигаль нахмурилась. Ответ не порадовал ее. Халаш задумался: не желает ли старая стерва больше рабов? И какие такие заслуги нужны человеку, чтоб его заметили в Земле, откуда нет возврата, и возвысили званием раба на службе у лучезарного? А! А! Вот, выходит, какие! – Тот единственный человек суммэрк, которому дарована была эта милость, показался знакомым Халашу. Конечна. Именно он крикнул: «Бей!» – когда мятеж ниппурский едва тлел. Крикнул вместе с Халашем, Каданом и Флортом. Убитый лугалем Флорт тоже должен быть где-то там, в толпе, но ему одного крика не хватило для возвышения. Не жалуют, выходит, царевых подданных на том берегу… Больше, выходит, надо стараться.
Старуха отверзла уста:
– Вы, нечестивые, и вы, люди суммэрк, нерадивые рабы, хотя и чтите истинных богов, но верность ваша зыбка, обращаю к вам свой гнев! Души ваши достойны нижних чертогов. Ступайте туда. Хлеб ваш будет горек и тверд. Вода ваша будет солона и загрязнена нечистотами. Воздух, которым будете дышать там, наполнен зловонием. Свет больше не достигнет ваших глаз. Это мое владение, и под стопой моею будете выть. К вам нет ни милости, ни пощады. Век ваш отныне наполнен муками и никогда не прервется. Стража!
Эрешкигаль сделала паузу. Львы, бараны и рабы с бичами подняли укусами и ударами ранее неподвижные тела, сбила их в кучу и погнали к дому,
– Вы, люди суммэрк, чьи наследники и родня желают доброго ушедшим душам. Уцурту вашей посмертной мэ некрасив. Будете утруждены и покоритесь всякой нижайшей твари Царства моего. Но в пище и воде ущерба не потерпите. Ваш путь – в верхние чертоги, к владыке Нергалу… и передайте этому разгильдяю, что больше я за него дежурства отсиживать тут не собираюсь!
Легкий бег тростинки в руках Гештинанны остановился. Судьи застыли в своих креслах, отвернув лица от диадемоносной монархини. Впрочем, та быстро осознала промашку. «Чего не бывает со старыми… ээ… богами» – так по прошествии многих дней Энлиль прокомментирует Халашу этот маленький конфуз.
– Стража!
Увели верхнечертожников.
Перед троном теперь стояло четверо. Царица мертвых:
– Вы, старший народ, к вам обращаю я речь… – Она утомленно вздохнула и продолжила гораздо более буднично: – Как обычно. Поработаете тут у меня, пока новые тела не будут готовы… Может, шареха три.
Двое недовольно переглянулись.
– Но, пресветлая владычица…
– Цыц! Много стали на себя брать.
Два «хозяина гор» удалились безо всякой стражи.
– Теперь вы, не обойденные милостиво! Служили вы Творцу, ясно, как служили, иначе уцурту вышел бы вам другой. Желаете ли ходить под моей рукой?
– Желаем! Желаем!
– Гештинанна, забирай.
И напоследок, скороговоркой:
– Слуги мои и рабы! Во имя лучезарного, во имя Ала могучего, во имя силы его, суд мой справедлив. Возлагаю последнюю печать на уцурту осужденных.
…Серый занавес исчез над Ниппуром. И показалась ниппурцам ночь светлой.
– Я, Энлиль, твой владыка, старый Ниппур, дарю тебе свет истины. Нет никакого суда над душами тех, кто населяет тебя, помимо суда пресветлой царицы Кур-ну-ги, госпожи Эрешкигаль. Воистину, обмануты вы и унижены, ибо души всех ниппурцев получают в Земле, откуда нет возврата, худший уцурту: им суждено жить в нижних чертогах, во мраке, голоде и мучениях. Отныне я научу тебя, Ниппур, как провожать души твоих людей в Царство мертвых и как доставлять им добрую пишу, питье и прочее. Как славить истинных богов, какой заключать с ними договор, каким способом приходить к ним на службу и как добиваться их помощи. До сих пор ходил ты во тьме, теперь познаешь свет.
И закончил:
– Ты можешь убирать тела мертвецов, а потом отдыхать, мой город. Завтра, после захода Син, все жители твои соберутся на площади у храма. Я изберу себе слуги
…И все-таки не поверил Энлилю Халаш. И духи его шептали ему в уши: мол, какая разница? Следует приблизиться к силе, сила возвысит. А уж что она тебе говорит – не столь важно. Какой торговец не хвалит свой товар, но много ль правды в такой похвале? Первосвященник говорил одно, Энлиль показал другое, а Халашева простая вера, какую дарит кочевникам неласковое сердце степей и пустынь, предполагала, что все обстоит куда проще. Умер человек и умер, какая в нем душа? Было его тело живым, а стало падалью. Если голоден род, мертвеца можно бы съесть. Если нет, следует бросить его зверям и птицам. Падаль – их законная пища. Что мудрить! Забирайся выше, пока жив…
Лукавый Энлиль, открывая исток мятежа, скажет ему: «О, лугаль, потрясающий копьем, способный закопать все колодцы страны и накормить глотку ее пылью… Разумеется, ты видишь в том маленьком торжестве, которое я устроил в первый вечер моего владычества в Ниппуре, один обман. Представление, которым, бывает, забавляют народ музыканты, певцы, плясуны… только половчее. Не отвечай, я и так знаю. Милейший! Так вышло, что именно твоя вера мне нужна меньше всего. Ты мой… ты наш от макушки до пят безо всякой веры. Тебе и не нужно знать, сколько было правды в моей живой картинке. Просто делай, что велю, когда велю и как велю. С тебя достаточно».
А потом пояснил суть дела. Ан желает утвердить власть свою в Царстве. Желает появиться там во всем великолепии на царском троне. Но не может, потому что его сдерживает древнее проклятие, наложенное магом Творцом. Как преодолеть его? Нужен особенный обряд. «Баб-Аллон» – значит «ворота бога». И главные ворота столицы называются точно так же. Когда через них в город одновременно войдут шесть людей, несущих каждый в левой ладони кольцо с печатью Ана, а в правой чашу с кровью того, кто сопротивлялся Ану так или иначе и творил препоны победе его слуг, дело будет почти сделано. Им останется обернуться, вылить кровь на кирпич ворот и наречь их «Баб-Ану», ворота Ана… Именно люди? Да, именно люди, только люди и никто, кроме них. Нам, ануннакам, например, бесполезно туда соваться. Видишь, все очень просто. Правда, там видимо-невидимо стражи, и еще того хуже – вместе со стражей стоят слуги столичного первосвященника, а они довольно прозорливы для людей… Так что хитростью не выйдет. Да, уже пробовали. Но вместе с Ниппуром будут и другие города. Урук, Лагаш… прочие, может быть. Туда Энмешарра приведет иных ануннаков, а те посадят лугалей, каких надо.
– Принимаешь? – спросил он Халаша, протягивая перстень.
– Да.
На перстне красовалась тринадцатилучевая звезда – Халаш понял Энлиля по-своему. Кольца, да. Очень хороню. Нужен обряд. Понятно. Еще того нужнее сильное войско борцов под знаменем Баб-Ану. Очень сильное войско. А когда Баб-Аллон падет, там уж хоть с кольцами ходи, хоть на золоте сиди… Пусть это называется обряд с кольцами. Да пусть хоть как называется… Надо начать большое выгодное дело.
…И вот теперь все это позади. Дело, начавшееся так славно, окончилось крахом. Мэ, раз переломившись, утратила твердость, и ветер жизни потащил ее без чина и порядка, не обещая укоренить где-нибудь. Халаш лежал на траве лицом кверху и приглядывался к злому умному волку Рату Дугану. Да и волк изучал его. Занималось блеклое утро, нежная худышка Син держала: оборону на самом кончике небесной таблицы – совершенно так же, как и вчера, когда великое воинство борцов Баб-Ану стояло во всей славе и силе на равнине между каналами, ожидая приказа к первому натиску Ушла всего одна доля, и вместе с ней иссякла сила, кончилась слава, одноглазые свершили суд над слепыми… Руки! Проклятые руки связаны за спиной, Как они посмели!
Ненавижу. Почему они ломают нам хребет, а не мы – им? Чем достойнее они? Почему их ноги попирают наши спины, почему не мы повелеваем ими? Почему моя воля порушена? Ненавижу.
– Я ненавижу вас всех. От царя до последнего солдата. – Бывший лугаль ниппурский произнес это по-бабаллонски, громко, отчетливо, чтобы услышали и поняли все присутствующие. Двое копейщиков, приставленных держать его, заухмылялись. Лекарь, занятый своим делом, не обратил внимания. Лицо эбиха осталось бесстрастным.
– Слышишь меня, Рат Дуган! Я запомнил твое лицо. Ты знаешь, я останусь жив, и ты должен отпустить меня после того, как изуродуешь. Так велел тебе твой царь, а ты все исполнишь. Так знай, за всех и за себя я отомщу тебе одному. Мне не жаль моей жизни. Найду тебя и вырву твои поганые волчьи глаза. Слышишь, ты! Жди меня. Я никогда не отступлюсь.
Эбих вымолвил с безразличием в голосе:
– Я знаю.
Глаза его спокойны. Пса наказывают, пес визжит…
Тогда Халаш проклял его и весь его род до третьего колена самыми крепкими и ужасными проклятиями, какие только знал. Эбих как будто не слышал его.
– Пей! Будет не так больно… – Лекарь поднес к губам Халаша глиняную плошку с бурой жижицей. Четыре глотка живой горечи. Потом опустился на колени, натер его мужскую гордость и вокруг нее какой-то дрянью, так что все там занемело, словно умерло.
– Эбих! Позволь вопрос.
Рат Дуган медленно кивнул. Валяй, мол.
– Почему мы никак не могли поразить черную пехоту? Ни издалека, ни в ближнем бою. О, лучезарный Ану! Я не понимаю. Да хоть руку мою забери, эбих, вместе с этим, но объясни, в чем тут дело…
Усмешка чуть искривила губы полководца. Его спрашивали об очевидном.
– Вор, ты ведь из купцов? По ухваткам вижу. В тамкары не вышел, но торговый человек.
– Ты прав, палач.
– Твоя мэ – лодки и караваны, меры и гири, серебро и зерно. Отчего ты решился возложить на себя диадему правителя и взять в руку меч воина? Ведь ты купец. Ты захотел переменить мэ, потому что не сумел высоко подняться, придерживаясь собственной. Будь ты усерднее в своем деле и в своей судьбе, не захотел бы бунтовать. Ведь тогда ты стоял бы выше. Хотя бы тамкаром стал. Но ты пожелал взять много, быстро и без труда…
– Ты не хозяин, я не раб твой. Оставь поучения, эбих! Просто – объясни.
– Я объясняю. Нет никакого секрета. У черных пешцов мэ воина начинается с рождения. Они смертны, их можно ранить, победить, уничтожить. Но до сих пор никто не мог ни победить, ни уничтожить их, потому что они очень усердны. Весь их день от восхода до заката отдан мэ воина. Сравни себя… всех вас, не сумевших как следует научиться своему делу и взявшихся за чужое. Кто вы перед ними? Трава и дерево… Ты готов?
– Ненавижу… Говорю тебе без гнева. Ненавижу тебя, их всех, вашего царя… ты понял меня. За вашу высоту и надменность, за ваше усердие.
– Теперь это не важно. Ты готов. Это должно быть почти не больно.
И все-таки он не выдержал и закричал.
Щит Агадирта 2508–2509-й круги солнца от Сотворения мира
Сидури-хозяйка вещает Гильгамешу: …Ты, Гильгамеш, насыщай желудок, Днем и ночью да будешь ты весел, Праздник справляй ежедневно, Днем и ночью да будут твои одежды и волосы Чисты. Водой омывайся, Гляди, как дитя твою руку держит, Своими объятьями радуй супругу — Только в этом дело человека! Эпос о ГильгамешеГонец, точно осел, с которого срезали вьюк, помчался. Точно молодой степной осел, резвый и быстрый, он скачет, лицо свое к туче поднимает.
Энмеркар и верховный жрец Аратты2-го дня месяца симана, в полуденный час, туча светлой пыли поднялась над холмом напротив главных ворот Баб-Аллона. Перевалила вершину и встала в полуполете стрелы от городских стен, клубясь и посверкивая ослепительными молниями шлемов.
Апасуд поднял копье с конским хвостом белого цвета – старинный знак, еще до Исхода обозначавший победу. Он ехал бок о бок с братом в голове войска. Младшие офицеры тут же остановили передний отряд пеших копейщиков. «Сто-о-о-ой!» – прокатилось по бесконечной веревке армии из конца в конец. Пешцы, шеренга за шеренгой, смирили усталый шаг, конники придержали лошадей, колеса обозных телег перестали скрипеть. Грязные тряпки, до половины закрывавшие лица победителей, обрели неподвижность. На время пяти ударов сердца тишина плыла над войском. Один только шепот дорожной пыли, оседающей на серые лица, на шлемы, одежду и оружие…
Бал-Гаммаст, несообразно величию момента, подумал: «Хорошо бы замостить все-таки главные дороги, как мечтал еще прадедушка, государь Кан II Хитрец. А то в сушь – пыль, в дожди – грязь… Надо подсказать братцу, пускай займется. Пора».
Городская стража, глядевшая с башен столицы на царское войско, давно знала, как и все жители баб-аллонские, о победе над мятежным Полднем державы. Царица Лиллу, ныне жена покойника, два дня колебалась: чего должно быть больше, когда вернется войско, – праздника или траура? Воистину, великая победа. Мятеж, на протяжении семи лун, еще с месяца уллулт, царственно колосившийся по всей благословенной земле Алларуад, благодарение Творцу, сжат и обмолочен. Урожая голов довольно для успокоения страны. Но как мало вернулось победителей! Горький чад потерь осел в городах и селениях. И государь погиб… Так горевать или веселиться?
Бал-Гаммаст припомнил: однажды армия царя Уггал-Банада I – а знали его больше по прозвищу Львиная Грива – вернулась из похода на дальнюю Полночь, оставив там четырех солдат из каждых пяти. В обратный путь вел ее мертвец. Труп царя ехал впереди войска на повозке, запряженной ослами. Но и тогда земля Алларуад одолела, и все полночное приграничье очистилось от очередной кочевой орды… Задумывался ли кто-нибудь в ту пору, как встретить победителей? Нет. Венки из трав и цветов были на головах у воинов из первого отряда, входившего в город, и бабаллонцы славший храбрецов, лили им под ноги вино, бросали на дорогу ячменные лепешки…
«Столько времени прошло с тех пор! Как видно, веселье обмелело в Царстве…» – размышлял царевич, глядя на створки воршу медленно расходившиеся в стороны.
Эбих черной пехоты Уггал Карн возглавил войско, шедшее от Киша. Царица Лиллу велела ему передать: город Баб-Аллон встретит солдат как пожелает. Она сама не имеет сил устроить какое-либо торжество. Захочет столица выть – значит, такова ее воля. Захочет петь – и в этом вольна. Сама Лиллу не выйдет встречать победителей к воротам, потому что скорбит о муже, но встанет на дворцовую стену, и каждый воин сможет увидеть ее. Все войско пройдет мимо цитадели Лазурного дворца, где издавна живут государи земли Алларуад. Странная почесть, но все-таки почесть… Уггал Карн, слабый, как щенок, едва ли не полумертвый от раны, оставленной ниппурским копьем, усмехнувшись, заметил: «Когда ты хочешь пира, вина и сикеры, мяса и хлеба, молока и меда, а тебе предлагают плошку с водой, выпей хотя бы воды».
Армия, сломившая хребет мятежу и опаленная его черным пламенем, пришла пить воду.
Полдень едва переломился, и зубчатые стены великого города отбрасывали ничтожную тень. Снизу их мощь казалась непоколебимой. Слава Творцу, что бунт не докатился сюда и не испытал их прочности. Самая несокрушимая стена – всего-навсего кирпич и глина, хотя бы и поднявшиеся над землей на высоту в пять тростников…
Над столицей пронесся басовитый рокот сторожевых барабанов. Встречайте! Солдатские сандалии, копыта коней и онагров ступили на тень города. Первые ряды усталых победителей вошли в ворота, и дорожная пыль была им летучим эскортом.
Обычай, древний, как сам город, предписывал царю въезжать в столицу впереди войска и без охраны. Бал-Гаммаст придержал коня. На рыночной площади, раскинувшейся сразу за воротами, первым оказался невенчанный царь Апасуд. Бал-Гаммаст следовал за ним в двух шагах позади. На десяток-полтора шагов от них отставали два младших офицера, медленно трусивших на онаграх. Не охрана, а именно младшие офицеры копейщиков. Пехота дышала им в спины.
Главные ворота столицы были возведены как маленькая, но вполне самостоятельная крепость. Квадрат стен, возвышавшихся на два тростника ниже общегородской стены, был вынесен на пятьдесят шагов от нее. По углам квадрата высились четыре угрюмых стража – башни, построенные не из кирпича, а из дорогого привозного камня. Каждая повозка, каждый конник или пеший, вступавшие под своды воротного форта, оказывались под прицелом у лучников и метателей копий, которые день и ночь несли караул рядом с бойницами, вырубленными на высоте в полтора человеческих роста. Там же, рядом с солдатами, стояли слуги первосвященника баб-аллонского, наученные, как заметить и остановить могущественного мага или нечеловеческое существо, возжелавшее проникнуть за стену в человеческом обличье. Под землей строители вырыли цистерн ну для воды и облицевали ее обожженной глиной. Вся эта крепость соединялась со стеной Баб-Аллона широкой крытой галереей, где легко могли разъехаться две телеги. Называлась она «Ворота кожевников». Если бы неприятель одолел защитников форта, он еще не получал входа в Баб-Аллон: осажденные могли обрушить свод галереи, намертво закрыв тем самым путь внутрь столицы.
Прямо у въезда в город в давнее время поставлены были две каменные статуи: Доната I и Кана II Хитреца. Первый из них возвел новую столичную стену, а второй заменил все городские ворота на маленькие форты, вынесенные вперед. Дальше простиралась 6ольшая рыночная площадь. Если убрать с нее торговые ряды, которые ставятся в базарные дни рано утром и состоят из легких шестов, веревок и тростниковых циновок, то на площади уместилось бы пять тысяч человек, а может быть, и все семь. У Баб-Аллона много ворот, это великий город… Слева от площади прямо к самой стене подходил двор таможни. Справа высилась громада здания, где жил энси полдневной четверти столицы. Рядом пристроились домики городских чиновников помельче, а также писцов, занимавшихся составлением договоров и всяческих прощений. За ними расползался кривыми улочками огромный квартал кожевников, по которому и назвали ворота. Таможню окружал серый глинобитный забор, дом энси был щедро расписан золотой и лазурной красками – они издавна пришлись но душе горожанам. Ну а все прочие дома хозяева выкрасили кто во что горазд: Баб-Аллон любит все яркое… Ни в одном из городов земли Алларуад не мостили улиц и площадей. Утоптанная земля – вот и вся мостовая.
Отряды, входившие в жерло открытых ворот, должны были пройти две или три сотни шагов, чтобы выйти на площадь. Апасуд с удовольствием остановил бы их, надел бы доспехи простого воина и встал в общий строй, лишь бы не оказаться в том положении, в которое угодил. Поздно… Трусить – поздно. Эти самые пять или семь тысяч горожан запрудили площадь, оставив лишь узенький коридор в восемь шагов. Сплошь – женщины. Женские лица, старые, молодые, красивые, безобразные, гневные, усталые, печальные, но более всего – исполненные ожидания: что, жив? жив? жив? жив или нет? Творец, помоги, только бы он был жив! Так мало мужских лиц! И почти совсем нет радостных лиц…
Весь этот гнев, печаль, усталость и ожидание удушливой водной ударили в Апасуда. Попробуй мэ царя, новенький… Серая кобыла нервно заржала и сбилась с ровного шага. Как видно, ей тоже досталось.
Бал-Гаммаст подъехал ближе. Его лошадь теперь отставала от лошади старшего брата только на полкорпуса. Царевич взял кое-что на себя. В первый миг это было – как удар стенобитного тарана, пришедшийся на живую плоть. Потом легче. Легче. «Прежде всего, мы защитили вас!» Бал-Гаммаст мысленно обратился к Творцу как к любимому человеку, прося заботы и милосердия…
Огромная толпа безмолвствовала. Царевичу хотелось крикнуть им: «Да! Мы ведь защитили вас! Почему на ваших лицах так мало улыбок?!» Медленно, очень медленно Апасуд и Бал-Гаммаст плыли по живому коридору над головами ждущих.
Неожиданно от человеческой стены отделилась одинокая фигура. Девушка. Невысокая, худая, походка у нее замечательная: еще шаг – и перейдет на танец… Прямые, темно-русые волосы, высокий лоб, выщипанные по нынешней моде брови, маленький, дерзкий рот. Портит лицо длинный нос, чуть загнутый книзу… и все-таки есть в ней что-то… притягательное? Да, именно притягательное… Походка? Глаза? Радужка – тяжелый темный шарик. Ключицы выпирают. Что ж в ней такого? Одежда как одежда: короткая черная юбка, под которой угадывается шерстяной платок, кусок ярко-зеленой ткани, закрывающий грудь а живот. Бал-Гаммаст, внимательный к таким вещам, приметил: ткань заколота и нарочитой небрежностью. Мол, смотрите, я за этим не слежу… На ногах – тонкие браслеты из серебра и меди. Ах вот оно что! Плясунья. Из тех, что зарабатывают на жизнь, веселя народ в корчмах и на площадях. Поют, танцуют, кувыркаются… что ей нужно, Творец? Какой еще беды ожидать?
Девушка как будто распространяла вокруг себя волну тревоги. Ни слова не говоря, она уверила царевича в одном: ее представление может окончиться и худо, и хорошо, но уж точно не окончится тихо, гладко, спокойно…
Плясунья зашагала рядом с Адасудовой кобылой, положив ей руку на шею. Пять ударов сердца – и полотно безмолвия треснуло. Над площадью зазвучало пение. Низкий грудной голос. И выводил он такое, что у добрых подданных баб-аллонского государя челюсти поотвисали от изумления. Апасуд, растерявшись, застыл, втянул голову в плечи. Бал-Гаммаст возрадовался: «Нет, не издохло еще веселье в великом городе!»
На ночь я хочу героя, Ты подходишь мне, солдат! Если ты нальешь мне даром, Все у нас пойдет на лад.Плясунья пела старую кабацкую песню, за одно знание которой детей могут высечь, а взрослым отказать от дома. Корчемная девка набивается на ночь к солдату, уходящему в поход… Только вот петь это нужно на два голоса; куплет – девка, припев – солдат. А у плясуньи второго что-то не видно.
Точно. Второго не было. Она повернулась лицом к солдатам и махнула рукой, мол, помогите! Смотри-ка, хочет, чтобы ей подпевала великая армия Царства… Ловка.
Но солдаты не решались. Плясунья топнула ногой и крикнула им:
– Ну же!
Тогда и Бал-Гаммаст обернулся к копейщикам:
– Давай!
Нестройный хор солдатских глоток затянул:
Айя-ха! Ну, девка, бейся! Что-то тихо ты кричишь! Если будешь сонной мухой, От меня получишь шиш!Плясунья скривила им гримасу презрения: мол, сами вы поете, как сонные мухи…
Не тужи, солдат, о смерти, О своем последнем дне… Глянь-ка, пузыри пускает Меч, утопленный в вине.Ей ответили намного стройнее:
Айя-ха! Ну, девка, бейся!..Плясунья заулыбалась – вот, уже ничего.
Я и смерть – таких мы любим! Только ты уж не пеняй, Утром я тебя забуду, Утром ты забудь меня…Тут и солдат разобрал задор:
Айя-ха! Ну, девка, бейся!..Плясунья поглядела на толпу вызывающе: а вы, мол, кто такие, что не желаете с нами петь? Глухонемые? Или просто тупые? Петь надо сейчас! И – пошлет же Творец такое чудо – кое-кто в толпе посмел запеть:
Потягаюсь я со смертью — Кто сильней в твоей судьбе? Приласкаю тебя даром, Серебро оставь себе.Над пыльной лентой армии по обе стороны ворот неслось во всю мощь военных басов:
Айя-ха! Ну, девка, бейся!..Толпа понемногу входила в раж. Не все ж быть тихими и усталыми добропорядочным бабаллонцам!
На ночь мы с тобою вместе, Позабудь жену свою. Нет жены? Забудь невесту… Я тебе себя даю!В ответ загремел настоящий шторм:
Айя-ха! Ну, девка, бейся!..Почти такой же ураган поднялся по обе стороны от Апасудовой кобылы:
Ну а если уцелеешь, Приходи, солдат, за мной! Я рожу тебе детишек, Назовешь меня женой».И тут плясунья разом подняла обе руки над головой и медленно их опустила. Мол, все, бабаллонцы: вышло неплохо, а теперь я сама. И голос ее взлетел высоко, а потом перешел почти что на шепот. Но вокруг воцарилось молчание – такое же чудо, как и в тот миг, когда плясунья заставила толпу запеть. И в молчании кто слышал, а кто издалека угадывал последние куплеты песни:
Ты вернулся, славой венчан, В шрамах принеся песок Стран далеких, где от смерти Только Бог тебя сберег. Поцелую твои раны И омою их слезой. С запахом корчемной девки Ты смешай-ка запах свой! А ведь я, солдат, молилась, Чтоб ты жил… Еще о том, Чтобы ты за мной вернулся И привел женою в дом.Три куплета пела плясунья за девку, как и задумал тот, кто сочинил песню. Здесь припев уже не надобен… Солдаты, не умея играть голосами, просто ответили ей тише, чем раньше:
Ладно, девка, я вернулся Одиноким в дом пустой, Коли ты и впрямь молилась, Будешь, девка, мне женой…И в день горького торжества Царства эти последние слова, как видно, добрались до многих сердец. В море людских голов кто-то заплакал, кто-то засмеялся… Наконец послышалось: «Слава царю Донату! Слава царю Донату! Слава царю Донату!» Так – пока еще привычнее. Из толпы шагнула внутрь живого коридора старуха с глиняным кувшином в руках. Масло из горлышка полилось прямо под копыта лошади Апасуда.
– Слава царю Апасуду…
Как велика была только что власть плясуньи над толпой! Ни первосвященник, ни государь, хотя бы еще не венчанный, ни Лиллу, ни эбихи не смогли бы совершить такое. Теперь она шла по правую руку от царя, как и раньше, но никто не смотрел на нее. Толпа восторженно бушевала. Попробуй девушка запеть еще раз, пожалуй, ее бы даже не услышали… Краток был миг ее возвышения, но красив.
Так размышлял Бал-Гаммаст, когда плясунья, оставив серую кобылу и ее седока, подошла к царевичу.
– Не знаю, кто ты, царедворец, но благодарю тебя.
Наверное, она старше, чем в первый момент показалось. Просто – маленькая. Глаза – темно-карие, почти черные. Взгляд дерзкого и отважного человека. Такие не знают удержу ни о добре, ни в зле, когда считают себя правыми… Царевич, хотя и минуло ему всего четырнадцать солнечных кругов, понимал такую породу женщин. Мужчины земли Алларуад, залитой солнцем, щедрой во всем и требующей крепкой руки, взрослеют быстро.
– Я Бал-Гаммаст. Младший сын царя Доната. И это я должен тебя благодарить… Ты ведь плясунья?
– Да.
– Не желаешь ли со своими друзьями дать представление в Лазурном дворце?
Такие женщины привлекали и отталкивали его одновременно. Была в их силе какая-то тайна. Иной раз они слабы, как маленькие дети, но бывает и по-другому. Тогда их власть обжигающа. Встречаясь с ними, царевич всякий раз знал: не стоят связываться. Кончится плохо. Не проведя ни с одной из них ночи на ложе, он тем не менее знал это совершенно определенно, Творец ведает откуда… Будь Бал-Гаммасту тридцать, он запросто обходил бы таких. Но ему не было и пятнадцати; он хотел пробовать все и всем рисковать.
Плясунья взглянула оценивающе. В глазах у нее легчайшее презрение смешивалось с иронией и… интересом. Происходящее ее забавляло; любопытно, да… Но… не стоит. С такими мужчинами ей нечего делать. Они опасны. Их ласки либо губят, либо же губят их самих. А этот и вовсе мальчик. Но какой! Любопытно… И все-таки не стоит.
– Я Шадэа. И я не желаю тебя, хоть ты и царевич. Слышал же: «На ночь я хочу героя». Не знаешь ли ты какого-нибудь подходящего героя?
Глаза в глаза. Ему нетрудно выдерживать ее взгляд. Он не злится. Хорошо, быть может, что кончилось этим. Бал-Гаммаст подумал с некоторым облегчением: «Раз так, не сделать ли ей маленький подарок?»
– В обозе едет телега с эбихом черной пехоты Уггалом Карном. Этот – настоящий герой. Его люди решили дело. Он ранен, будь осторожнее…
Шадэа улыбнулась царевичу, и в улыбке ее плескалось целое море дерзости:
– Я пойму.
…Бал-Гаммаст уже несколько раз въезжал в Баб-Аллон Царской дорогой. Вместе с отцом. Если бы потребовалось специально отыскать самый грязный, самый некрасивый и самый неудобный путь от главных ворот до Лазурного дворца – лучше Царской дороги не найти. В самом начале она хотя бы широка: там, где прорезает богатый и невыносимо вонючий квартал кожевников. Впрочем, все столичные дороги, начинающиеся у ворот, широки. Не меньше двадцати шагов. И покуда голова армии не миновала квартал кожевников, Апасуд и Бал-Гаммаст держались точнехонько середины. Царило полное безветрие, губительный запах стремительно усиливался – сделай только шаг влево или вправо… С одной стороны выстроились в шеренгу скромные, но исправные двухэтажные домики ремесленников, которые работают на Храм и на Дворец, с другой – дома вольных кожевников, работающих на себя. Здесь и бедные тростниковые халупы, и целые дворы зажиточных хозяев. Через каждые два-три дома – лавка. Весь квартал выкрашен в алое и коричневое – любимые цвета гильдии кожевников.
Вскоре Царская дорога сузилась вдвое и вильнула в противоположную сторону от дворца. Бит убари энаим, то есть первый, самый древний квартал чужеземцев. Цвета буйствуют без меры и порядка, все краски, какие только существуют на белом свете, щедро положены на стены и крыши… Тут исстари жили люди пустыни – кочевники с Захода и Полночи. Когда-то их даже боялись селить в пределах городской стены: вспыльчивые, непокорные, они сулили одни неприятности. Но из них выходили неплохие солдаты и лучшие на земляной чаше тамкары. Лукавый ум не давал им вернуться из дальних стран без прибытка. Потом прежние кочевники переженились на местных, так что теперь их не сразу отличишь от природных бабаллонцев. Только говор чуть иной да кое-что из одежды. Настоящие люди пустыни, приводя караваны в великий город, с презрением смотрят на бывших сородичей: мол – вы размякли от нетревожной жизни, ослабли духом. Те отвечают тем же: мол – вы! дикие люди, не знаете всех благ цивилизации. В бит убари энаим победителей встретил шумный и пестрый народ. Женщины махали платками, мужчины отпускали шуточки, такие, что с первого раза и не поймешь – то ли смеяться вместе с тем, кто пошутил, то ли дать ему как следует в зубы… Солдатам совали финики, кувшины с молоком, куски баранины, завернутой в тонкие пресные лепешки. Кто-то выкрикнул имя царевича, исказив его шипом пустынных змей: «Гильгамеш! Гильгамеш!» Язык Царства для них тяжел…
Еще уже стала Царская дорога в грязном и пустынном квартале осадных дворов. Если чужое войско осадит Баб-Аллон, сюда должны прийти земледельцы из окрестностей города. Вода в здешних колодцах очень хороша – чиста и сладка. За каждой семьей записан особый дом, так что места хватит всем. В мирное время осадные дворы поддерживают в порядке младшие дети, нелюбимые жены, бедная родня. Тут и живут. Впрочем, последний раз кошмарные гутии добирались до столицы Царства еще при Кане II, а при Маддан-Салэне бабаллонцы бились с мятежниками Полдня прямо на улицах города, тут уж не до осадных дворов… Столько десятков солнечных кругов прошло с тех пор! Все давно забыли в великом городе, что это такое – осада… Но обычай содержать дворы никто не отменил. «Царство любит надежность!» – говаривал, бывало, отец царевича.
Весь этот квартал поставлен на плохой земле. И по всему Баб-Аллону ходят о нем недобрые слухи. Когда-то в старину здесь жили мастера тайных искусств. Всякого рода бару – гадатели и предсказатели – занимали четыре улицы: улица мастеров цифр и куба, улица мастеров жребия и земли, улица мастеров воды и масла, улица мастеров полета птиц и звериных внутренностей.
Обычай копаться в будущем – древний, его знали еще до Исхода… Сначала вера в Творца потеснила ремесло бару, потом гадать и предсказывать стало… как-то неудобно, еще позже – неприлично, а последних бару царь Донат I не поленился особым указом выселить за городскую стену. Среди незатейливых бару иной раз скрывался настоящий злокозненный машмаашу – мастер путей за стену и бесед с духами, маг. Темное искусство магии в Баб-Аллон принесли купцы из рода людей суммэрк, и как-то всякий раз она выходила боком. Или соседним кварталам, или всей столице сразу… Ее считали бедой чуть получше наводнения и существенно хуже, чем пожар.
Апасуд обернулся к брату:
– Говорят, на бывшем Перекрестке Звезды, знаешь, там…
– …там, где сходятся бывшие улицы бару? Знаю. Плоский камень действительно лежит на самом перекрестке. И первая из «Восьми таблиц Син-искусителя и Син-соблазненной» там, действительно, раз в шесть дней проявляется. Прямо на камне, братец.
Апасуд вздрогнул:
– Я полагал, сплетни, чепуха… Надо бы поговорить с первосвященником. Может быть, опасно… А ты не ошибаешься, Балле?
– Х-ха! «Знаешь ли ты, ищущий, каков закон, подаренный смертным муже-женщиной в свете ночи? Хочешь ли ты, ищущий, призрев низкое знание, обрести могущество? Готов ли ты, ищущий, жизнь и волю отдать за него? Тебе лягут под ноги тайны времени, и будешь знать час гибели царей, исход битв и день пришествия мора…»
– Ради имени Его! Остановись. Какую чушь ты несешь! Что это? Может быть, здесь кроется нечто опасное. Откуда это?
– Как раз первая таблица. Самое начало. Опасность? Да любой служитель Храма, любой, самый низкий слуга первосвященника заставляет все эти магические знаки раствориться, один раз прочитав коротенькую молитву. С каких пор ты стал таким боязливым?
– Оставь, Балле. Ты не понимаешь. Я совсем не хотел и не хочу того, что легло мне на плечи. Тысяча угроз нависла над Царством, и я не должен упустить ни одной… Как увидеть мне, как предупредить каждую новую беду, стремящуюся к столице Царства гремящей водой? Как остановить…
– Где-то я это уже читал. Э-э-м-м… Братец! Да зачем тебе это? Монолог царя Кана II, который за него придумала жена? Да еще через пять солнечных кругов после его смерти… Разве ты не помнишь, каков он в его собственном «Каноне наставлений»? Неужто не помнишь? Веселый, хитрый, пронырливый и храбрый. Хорош! Чудо как хорош! Неужто не помнишь? Да мы же вместе читали!
– Матушка считает иначе. Матушка полагает, что царица Аларкат, его жена, глубже проникла в суждения супруга, чем он сам. Это был праведный, добродетельный человек.
– Апасуд! Вспомни же: «Никого не бойтесь, никогда не выбирайте между плохим и плохим, любите своих солдат и не ждите беды от доброго вина. В остальном положитесь на Бога». Как сказано!
– Насчет вина. Я бы выразился как-то помягче. Не стоит до такой степени откровенно…
– У него там в другом месте говорится: «Беда приключается от двух причин: от твоей слабости и от твоей глупости». Если ты не слаб и не глуп, искушение вина тебе нипочем.
– Не хочу напоминать тебе о твоем возрасте, брат. Но зрелое размышление требует большей осторожности в оценках.
«Как баба! Творец, вразуми, вразуми моего зануду, я Тебя очень прошу!» – подумал царевич. Однако вслух сказал иначе:
– Не стоит нам спорить о таких тонких вещах. Наверняка люди его оценивают по-разному. – Бал-Гаммаст знал упрямство Апасуда как никто. Если уперся – не сдвинешь и двумя конями. Ладно. Не важно.
– Вот, Балле! Я искренне радуюсь твоему благоразумию…
Так болтали они, проезжая по кривым, скачущим с холма на холм улицам Баб-Аллона. Город рос – как жил. Бурно, ярко, иногда по строгому плану, а иногда безо всякого порядка. Ровные, аккуратные перекрестки сменялись темными проулками, пустыри – базарными площадями, а цветущие сады – вонючими водоотводными канавами. Царская дорога где-то вилась мимо высоких домов городских богачей с обитыми блистающей медью дверями, кедровыми перилами лестниц и тяжелыми створками раковин, вмурованных в стену, чтобы служить светильниками, а где-то расталкивала одноэтажные лачуги с дырявыми крышами – как, например, в квартале, где живут младшие ученики гильдии звездочетов.
Квартал лекарей, один из самых зажиточных во всей столице, дважды прорезали каналы с чистой питьевой: водой. Улица травяных знахарей, улица костоправов, улица пускателей крови, улица отсекающих больное, улица повитух… В столице чтили лекарское искусство. И платили щедрой рукой. Высокие дома, большие дворы… За глинобитными и кирпичными изгородями – настоящие сады. Смоковница и миндаль, персики и гранаты, дымчатые гроздья винограда и фальшивое золото лимонов.
Отсюда – совсем недалеко до Лазурного дворца. Апасуд и Бал-Гаммаст с детства знали чуть ли не каждый дом в квартале. Вот – пышная резиденция Горта Ламана, агулана гильдии лекарей. Когда матушка царица хворала, его приглашали во дворец. Раз или два на памяти Бал-Гаммаста. Лекари государыни, да и самого Доната, кланялись Горту Ламану в пояс, признавая его первенство. Когда ему было всего двадцать солнечных кругов, будущий агулан поставил на ноги одного золотых и серебряных дел мастера. Родня было сочла его мертвецом, а Горта Ламана приняла за злого колдуна, хозяина мертвых тел. Говорят, его связали и приволокли к самому первосвященнику, отцу Самарту. Тот посмотрел на лекаря, посмотрел на толпу испуганных родичей мастера и сказал всего одну фразу: «Уймитесь и заплатите сколько положено!» Ныне дом Горта не уступает жилищам эбихов. Стена, огораживающая двор, выкрашена в синее и зеленое – цвета порядка и милосердия, их любят в этом квартале. А за нею виднелись верхушки кустов с роскошными белыми розами.
Чуть дальше – длинное двухэтажное здание приюта для бездомных стариков. Его построили пятьдесят солнечных кругов назад и отдали на иждивение Храма. А еще через тридцать пять солнечных кругов Апасуд, Бал-Гаммаст и их сестричка Аннитум, переодетые в простое бедное платье, задирали лекарских детей. Кончилось это совершенно неправильно. Аннитум полетела в канал – ее бить не стали, потому что девчонка. Апасуд убежал. Правда, не сразу. Больше всего досталось Бал-Гаммасту, но он до сих пор не забыл, что одному все-таки дал как следует в ухо. Просто по-царски одарил…
– Балле! Ты помнишь, как она вылезает, вся мокрая, сердитая…
– Ну да. А на плече – здоровая жаба.
Сегодня лекари со своими семьями, слугами и учениками вышли на улицу и кланялись солдатам…
Тявкая нить армии вязала широкие петли по столице, словно струя воды, стекающая по неровному камню.
Дальше был квартал цирюльников. Стригли и брили они прямо на улице, а убирали тут всего раз в две седмицы. Войско вступило на живой ковер из человеческих волос. Солдаты брезгливо морщились, опасаясь подхватить вшей. Звонкие удары копыт в сухую землю сменились осторожным шорохом. Как будто гигантские кошки мяконько ступали по траве, вынюхивая добычу.
Потом – корчемный квартал полдневной четверти Баб-Аллона. До вечера еще далеко, так что народу тут было не много.
Потом – квартал дворцовых гончаров.
Потом – площадь и храм полдневной четверти. У стен посажены кипарисы – молоденькие, еще совсем низкие,
Потом – квартал рыбаков. Опять вонища.
Потом – бит убари суммэрким. Совсем маленький, потому что людей суммэрк в столице не любили. Сплошная, длинная, извивающаяся вместе с улицей стена, тут и там прорезанная узенькими проходами внутрь, и никаких окон… Похоже, местные жители отлично знают старинное искусство – как лепить улыбки из глины.
Потом квартал медных дел мастеров.
Квартал красильщиков. Храм здесь новенький, очень красивый.
Квартал с казармами для копейщиков.
Квартал писцов.
Квартал храмовых училищ. Здесь кто-то затянул старинный, полузабытый гимн аггант, каким и положено встречать победителей. Неровные, подобно лезвию плохо заточенного ножа, ломающиеся голоса мальчиков и юношей, у кого-то слишком высокие, совсем детские, а у кого-то басовитые, гудкие, честно вытянули аггант до самого конца. Надо же, помнят… Кое-кто с завистью поглядывал из толпы на Бал-Гаммаста: не старше нас, а гляди-ка, на войну его взяли! А вон там, чуть дальше, – стайка девушек. У них в очах совсем другой интерес.
Квартал вольных гончаров.
Квартал городской стражи.
Квартал храмовых тамкаров.
Квартал…
– Я устал, Балле. Хорошая мысль была когда-то про эту дорогу, но уж больно долго мы бредем. Жарко. В такое время надо быть под крышей. Наверное, такова царская мэ – терпеть все, что положено. Конечно, мы вытерпим.
Про мэ государя у Бал-Гаммаста в голове водились совсем другие мысли. Но решать выпало брату. Пусть будет так.
– Что за мысль? Ты про что, Аппе?
– Матушка объяснила мне еще давным-давно… Царь должен ехать впереди всех и без охраны… по самым странным местам. Не знаю, как тебе получше объяснить… Царь должен кое-что показать. Он не боится грязи, вони и не брезгует проехать по кварталу кожевников и рыбаков. Он равно ценит и храмовых работников, и дворцовых, и вольных. Он не опасается беды от злой земли того квартала… где…
– …где сейчас осадные дворы, ты хочешь сказать? – Да. Царь едет по самым богатым и по самым бедным улицам, потому что тамкар или эбих – такие же люди в его руке, как и нищие. Он проезжает мимо домов ученых и неученых людей, военных и невоенных, он пересекает кварталы своего народа и чужеземцев…
– Тебе так об этом рассказали? Аппе, мне отец говорил иначе. Чуть-чуть иначе.
– Что тут может быть иначе, братец? Тут все понятно и нечего добавить.
– Послушай! Отец половину солнечного круга назад сказал мне: да, говорят то, что вот ты мне, Аппе, сейчас рассказал. Но отец еще добавил: царь должен уважить город, а город должен уважить царя. Каждый обязан выйти и приветствовать его как подобает… – Апасуд удивленно поднял брови. – Если город молчит, если люди не стоят на улицах, значит, нечто переломилось в Царстве. А уж тем более, если кто-то захочет напасть… Такому государю стоит подумать, верно ли он правит… И верно ли ему служит город. Может быть, кое-что искажено и требует исправления.
Невенчанный царь долго молчал, серая кобыла медленно трусила, хвостом повергая назойливых мух в трепет.
– Я не думал, что можно так все… переставить. Матушка говорит: ты, сынок, слуга для всех. Ты говоришь: все слуги для тебя…
– Так вроде и должно быть. Первое верно, второе тоже верно. Что так заботит тебя, братец?
– Я… Кажется, я не привык принимать чужую службу. Мне неудобно.
– Да ведь иначе Царство не стоит!
– Не знаю. Не знаю… Мне… я не знаю. Я хочу, чтобы все они меня любили. Чтобы были счастливы. Чтобы никому не было тяжело, плохо. К чему выжимать из них все соки?
«Эх, матушка» матушка! Неужели трудно было простить отцу, что он мечется по границам с войском и дома его вечно нет?» – Рано было еще царевичу понимать, как спорят друг с другом мужчина и женщина, вкладывая каждый свою правду в головы детей.
– Соки выжимать не надо. Но любой, когда понадобится, должен дать тебе столько, сколько велит закон. И служить так, как велит закон.
– Да любишь ли ты всех их, Балле? Бабаллонцев. Весь народ земли Алларуад? Ты их – любишь?
– Да, они – то же, что и я.
– Я не понимаю, Ты, наверное, прав. И она права, конечно. Нельзя править, не любя своих людей. Но как любить – и принуждать? Вы все правы, а мне от этого худо.
– Алле! Ты так и войску не сможешь приказать, если понадобится: вот враг, идите на него!
– Нет. Все-таки смогу.
Губы у него тряслись. Слава Творцу, братья подъехали к стене Старого города. Жилые кварталы остались позади, и некому было видеть волнение молодого государя.
Еще Уггал-Банад I возвел эту стену. Тогда, девять сотен солнечных кругов назад, казалось: город никогда не выйдет за ее пределы. Не может быть такого большого города! Ан нет, теперь новые стены ограждают раз в десять или в двадцать раз больше, чем прежние. А в Старом городе давным-давно пустырь, и лишь редкие домики для караульных солдат рассыпаны тут и там. После того как был построен внешний пояс стен, здешние кварталы понемногу переселили и снесли. Теперь до самой стены Цитадели, Внутреннего города, – поле, голое, как стол. Если какой-нибудь неприятель, от чего упаси Творец, преодолеет два прочных и высоких барьера, выстроенных из лучшего кирпича, на этом поле ему негде будет прятаться от стрел и метательных снарядов из Цитадели.
Головные отряды миновали ворота Старого города. Солдатские сандалии, копыта лошадей и онагров ударили в неровные серые плиты. Кан II Хитрец успел вымостить привозным горным камнем только эту дорогу. Очень дорого. Очень красиво. Ногам, непривычным к такой дороге, очень неудобно.
Победители дошли по пустырю до Цитадели. Воротная башня с давних пор была украшена изображением льва, хищной молнией распластавшегося в прыжке; золотые пластины вмурованы прямо в стену.
У самых ворот – первосвященник Сан Лагэн в окружении слуг. Он опередил армию на несколько дней. Дряхлый белобородый старик, все выцвело в нем, только глаза необычного, пронзительно-желтого цвета, смотрят остро и внимательно. Стоит простоволосый. Как и все те, кто встал полукругом на шаг позади него. Сан Лагэн пел благодарение Творцу за всех, кто остался жив и вернулся домой. Он начал петь, едва завидев царственных братьев и передовой отряд. Старик. Дрожащий голос его скоро иссяк, и тогда благодарение затянули все прочие. Как видно, Сан Лагэн заранее приказал свите петь с ним по очереди: он один – все остальные, он один – все остальные… Подъехав к Лагэну, Апасуд и Бал-Гаммаст спешились и разом опустились на колено. Первосвященник благословил обоих, потом погладил Апасуда по голове как маленького ребенка, а его брату положил руку на плечо.
– Аппе… ничего не бойся. Творец не оставит нас без помощи, все будет хорошо… Голос его, ровный и высокий, напоминал теплый ветер, какой бывает после истощения дождливых лун: в первые дни месяцев суши с утра пасмурно и холодно, даже очень холодно, а к полудню развиднеется, припечет ласковое дуновение, покроет лицо сухими ласковыми поцелуями…
Царевичу Саи Лагэн сжал плечо несильными старческими пальцами. Бал-Гаммаст еще в детстве научился понимать значение этого жеста. Ты должен быть тверд, мальчик, говорил ему первосвященник.
– Сразу после заката жду в храме вас обоих. Старик шагнул вперед и оставил их за спиной. Младшие офицеры поворачивали армию в двадцати тростниках от стены Цитадели. Отряд за отрядом описывали широкую петлю, отправляясь к другим воротам, чтобы покинуть Старый город. Сан Лагэн благословлял солдат и улыбался им. Потом он велит принять в храмовые приюты одиноких калек, вылечить в храмовых больницах раненых, наградить всех, кого должно, серебром, тканями, вином… Храм всегда поровну делил это бремя с Дворцом. Но повеления начнут срываться с уст Лагэна не ранее завтрашнего утра. Потом. Потом. Все потом. А сегодня он мог только петь, улыбаться и благословлять…
Наверху, меж двух зубцов толстостенной воротной башни, стояла Та, что во Дворце. Ее плечи и грудь покрывал дорогой платок из Элама. Ветра почта не чувствовалось, и лишь ничтожный сквознячок едва-едва пошевеливал углы платка. Лица государыни снизу было не разглядеть. Вся ее фигура в лучах жестокого полуденного солнца выглядела литым черным силуэтом, а легчайшее движение ткани придавало сходство с огромной птицей, которая уселась на стене и лениво чистит перья.
Апасуд произнес:
– Матушка горюет об отце.
Это был тот миг, когда Бал-Гаммаст восхитился милосердием брата. Сам он ощущал в себе немножечко тоски по матери – ровно столько, сколько приличествует испытывать юноше, который вернулся только что из похода, а там занимался настоящим делом; еще он чувствовал досаду: ей стоило бы тоже спуститься вниз и встать рядом с Лагэном. С такого расстояния трудно различить лица воинов и невозможно заглянуть им в глаза. А солдат надо любить. Особенно этих. Братец сумел понять, простить и оправдать ее. У Бал-Гаммаста не получалось…
Победители вглядывались в силуэт царицы Лиллу. У всех было времени на три-четыре удара сердца, чтобы взглянуть на черное пятно. Каждый надеялся увидеть нечто особенное, необыкновенное – Творец знает, почему. Царица издалека… странная почесть, а все-таки должен сыскаться и в ней какой-нибудь смысл.
Апасуд, похлопав кобылу по боку, повел ее к воротам.
В этот миг у Бал-Гаммаста перехватило дыхание. Что-то не так… Как трудно дышать! Как будто гроза собралась обрушиться на них и ждет сигнала… Что-то не так. Само место, где они стояли, дохнуло на царевича вызывающе наглой неправильностью.
– Подожди! – Он схватил брата за руку. Апасуд удивился:
– Что? Что такое? – И царевич не знал, как ему ответить. Он чувствовал, как трещит и едва ли не переламывается какая-то тонкая дощечка, а ей не надо бы ломаться. Ей совсем нельзя ломаться.
– Давай… постоим здесь. Давай постоим, Аппе. Тот молча сжал пальцы Бал-Гаммаста, кивнул, мол, – давай, и встал рядом. Оба не знали, что это, и оба знали, как это бывает. Обоим кровь нашептывала время от времени: «Вот так будет правильно…»
Они стояли среди слуг первосвященника, смотрели на его спину и на бесконечные ряды солдат, все искавших гладами смысл где-то наверху, на башне. Цветные значки отрядов приближались, описывали полукруг и уходили дальше, дальше… Армия видела перед собой темную птицу, Лагэна с улыбкой на лице, его поющих слуг и царственных братьев, уважительно приветствовавших победителей. Все – как надо. И Творец с ним, с тайным смыслом царицыной почести, если все – как надо. Солдаты шли и шли; взгляд армии понемногу перемещался книзу. Никто уже не вспоминал, что Апасуд и Бал-Гаммаст были в походе, а младший даже и нашпиговал кого-то бронзой, говорят… Эти двое – как будто оставались здесь, в самом сердце Царства, а теперь вышли, чтобы встретить победителей и постоять от них в одном всего десятке шагов, без охраны; всякий поймет, для чего они тут. Показывают: вот, мол, видим вас, труд ваших мечей драгоценен, с вами земле Алларуад некого бояться… Ну и баба какая-то наверху, то ли птица… то ли еще что… не разберешь. Все – как надо.
Бал-Гаммаст смотрел на Лагэна. Старик стоял прямо, и подбородок его был гордо приподнят. «Да, все вышло правильно… Все правильно. Нам не следовало уходить от него. Отец бы не ушел. Отец точно не ушел бы, чем угодно клянусь! Нам надо стоять рядом с ним». Недомогание оставило царевича. Гроза, так и не разразившись, ушла. Рассеялась.
Воины Баб-Аллона текли нескончаемым потоком. Отряд Асага осаждал Барсиппу, Лан Упрямец и Рат Дуган носились по всему полдневному краю Царства, занимаясь великим очищением, Уггал-Банад стоял под Уруком. И все-таки их было очень много – воинов, вернувшихся домой. Копейщики и лучники, всадники и пешцы, офицеры и солдаты совершали медленный поворот, оказывая своим присутствием почесть Дворцу. А потом уходили.
Все, кроме пехоты ночи. Ибо здесь был дом черных. Эти прошли внутрь, и за ними потянулся обоз. На последней повозке в ворота Внутреннего города въехал Уггал Карн. Бледный, с ввалившимися глазами, весь в повязках. С утра он дважды пытался сесть на коня или хотя бы на онагра, но не смог. Потом произнес: «Ну, хватит. Эта война – не первая и не последняя». На повозку забрался сам и сейчас же принялся рассылать бегунов с поручениями. Посмотрел на Бал-Гаммаста, стоявшего тут же, поодаль. Усмехнулся. «Не веришь, – спросил эбих, – что такой мешок с дерьмом еще может командовать?» Царевич не знал, как ответить ему, и сделал лишь нейтральное движение бровью, мол, а ты сам-то знаешь? Уггал Карн сказал: «Если ты умеешь это делать здоровым, то сумеешь и полудохлым. Некоторые повелевают, даже с той стороны. Видишь, твоего отца мы до сих пор слушаемся…» Царевич не обиделся. Эбиху черных позволительно и большее. Намного большее.
Братья зашли в Цитадель, следуя за повозкой полководца.
Во внутреннем дворе деловито сновала челядь. Склады, мастерские, конюшни, домики для слуг… Сверху по узкой каменной лестнице медленно спускалась мать. На ней не было украшений. И драгоценный эламский платок на ее плечах, и длинные юбки были серыми, ибо таков цвет траура в Баб-Аллоне. Иначе, наверное, и быть не могло: здесь так любят яркие цвета…
Сбоку от нее с той же степенной неторопливостью шествовала вниз серая Аннакят – любимая кошка царицы. Кто у кого перенял походку? Аннакят изнывала под панцирем собственной шерсти, глаза ее были томно прикрыты до половины.
Царица Лиллу неотрывно смотрела на Апасуда. Так получилось, что он был в безраздельном ее владении семь солнечных кругов, в ту пору детства, когда душа впитывает все самое важное, чтобы из этого впоследствии соткать первые узоры на полотне мэ. Царь Донат воевал тогда на полночной границе, война выдалась тяжкой и кровавой. В столицу он наведывался ненадолго, сына видел мало, а потом… Потом ему оставалось признать: Апасуд – собственность матери, и тут ничего не изменишь. Должно быть, государь счел это ошибкой, а повторять ошибки было не в его характере. Так что второго сына вела по жизни его рука и держала прочно, не отпуская понапрасну ни на один день. Бал-Гаммасту и походов досталось больше, чем брату, и воинской науки, и отцовых поучений и… всего, чем мог и чем успел с ним поделиться царь-полководец, то и дело латавший прорехи в границах великого Царства. Та, что во дворце, и Тот, что во дворце, боролись за сыновей со всею силой и ловкостью, какая только возможна, когда мать и отец любят друг друга. Царевич помнил, как спорили, бывало, его родители: «Лиллу! Тот даже не нюхал походной пыли. Этот обязан знать, что такое быть воином… – Нет, Донат. Важнее быть человеком. Настоящим человеком, я имею в виду, то есть умным, милосердным, образованным и… – …И сидеть во дворце у мамкиной юбки! И ничего не знать, кроме дворца! – Стать воякой – невелик труд. Успеет. – Лиллу, подумай о том, что им придется когда-нибудь меня заменить. Во всяком случае, одному из них. А второй должен быть ему верным помощником. И что же? Оба не умеют простых вещей… – Зато они знают толк в сложных вещах, Донат. – Нет, Лиллу. Этому я дам другую мэ…»
Так вот, мать, конечно же, смотрела на Апасуда. Спустилась, подошла и… обоих прижала к груди.
– Живы… Слава Творцу, хоть вы-то у меня живы… Мои мальчики…
– Мру-ук… – потянулась Аннакят.
* * *
Вечером, после службы в храме, Сан Лагэн принял их там для доверительной беседы. Так же, как принимал обоих братьев с самого раннего детства. Обычно вместе с ними там бывала и Аннитум, но она день назад вывихнула ногу, а потому не вышла из своих покоев ни на стену – встречать армию, – ни в храм.
Бал-Гаммаст не ведал, о чем разговаривал с первосвященником старший брат, на какие беды жаловался, что в своей жизни счел неправильным и грешным. Апасуд тоже не узнал, о чем беседовали Сан Лагэн и царевич. Доверительная беседа – величайшая тайна. Сам Бал-Гаммаст, хоть и не чувствовал особенной горечи, рассказал о двух убитых им мятежниках. Первосвященник ответил, что это не столь уж страшно, ведь шло сражение. Царевич получил от него священный долг в пятьсот утренних молитв с земными поклонами. «Проси Его, чтобы простил, и Он простит, как все любящие…» – заключил Сан Лагэн. Бал-Гаммаст хотел было уйти, но первосвященник остановил царевича.
– Балле, твой старший брат вскоре взойдет на престол баб-аллонский. Готов ли ты быть щитом и копьем в его руках?
– Да, отец мой первосвященник. Напрасно ты спрашиваешь. Тут не о чем говорить.
– В твоем сердце не должно быть ни зависти, ни гнева, ни укора…
– Да ты же меня всю жизнь знаешь!
Сан Лагэн смущенно потер пальцем переносицу, И ведь действительно – знает. Как-то нехорошо получилось.
– Прости меня, Балле, мальчик! Я очень беспокоюсь за вас обоих.
– Ну… ты тоже извини, отец мой… Просто я… все и так, кажется, понятно…
– Старый я становлюсь, – произнес Сан Лагэн и пошевелил гармошкой морщин на лбу то ли удивленно, то ли с огорчением. – Ладно, ступай.
…Старший брат, оказывается, ждал его. Апасуд схватил царевича за локоть:
– Послушай! Послушай! – Глаза Апасуда блеснули в храмовой сумраке сумасшедшинкой. Как у загнанного зверя. На миг Бал-Гаммаст растерялся: да что за глупости сегодня творятся, Господи?
– Балле… я боюсь… царствовать. Я никогда не хотел царствовать.
– Я знаю.
– Как?! Я держал это в самых глубоких тайниках своей души… Я никому… даже матушке… Я решил открыться только тебе…
– Аппе! Об этом знают и мать, и все отцовы эбихи, и первосвященник, и еще много кто.
– И все-таки – как?
– Да это сразу видно, стоит только поговорить с тобой, посмотреть на тебя: как ты ходишь, как с людьми себя ведешь. Это видно, братец. Так же легко, как отличить добычливых рыбаков от тех, кто вернулся без улова. Тут и объяснять ничего не надо.
Безо всякого перехода медный жар тревоги на лице невенчанного государя отлился в твердь покоя. Как если бы иссиня-черная дождевая туча разом вся, от грозных глубин до клубящейся поверхности, превратилась в легчайший утренний туман. Творец… Наверное, Творец так умеет: провести рукой сверху вниз, и все, что под рукой, – тяжелая мгла, в то время как все над нею – ласковая дымка; дымки становится больше, больше, больше, а когда движение завершено и пальцы прикоснулись к бедру, уже и нет ничего, кроме дымки, все прочее исчезло. Ровно то же произошло и с лицом Апасуда.
– Так мне будет легче говорить с тобой, Балле… Ну что ж, знают и знают. Я теперь весь на виду. Все рассматривают. Это даже хорошо. Теперь я с радостью все расскажу, а сначала так боялся, милый мой Балле.
– Ты не можешь отказаться, Апасуд. Вот и весь разговор.
– Послушай… Тебе не стоит торопиться. Я… всем как будто чужой. Я не такой, как все, Балле. Я как иноземец, нашедший ночлег в бит убари у какой-нибудь дальней, давно меня забывшей родни. Мать любит меня, но она точно так же любит и свои драгоценности. Ты… ты мне как товарищ, но ты иногда очень груб и тороплив. Ты… почти никогда не понимал меня до самого конца. Вот сейчас, хотя бы сейчас постарайся, потому что, если ты не пожелаешь понять, никто другой просто не сможет, Балле.
Бал-Гаммаст потрясение молчал. Он едва сумел выдавить:
– Да, Апасуд.
– Это хорошо, очень хорошо, мой любимый брат. Ты совсем как взрослый человек – хочешь выслушать и берешься отвечать за все, что произойдет, когда ты выслушаешь и поймешь меня…
«Как он сложно говорит. Уж очень сложно. Тут вроде бы и думать не о чем…»
– Балле! Я больше всего на свете люблю три вещи. Во-первых, бывать здесь, вдыхать запах благовоний, которые курятся под храмовой крышей, радоваться чистой прохладе и полумраку, любоваться солнечными зайчиками, запрыгнувшими на пол из окон, внимать стройному пению… И молиться Ему, молиться с нежностью и любовью, Балле. Потому что Его я люблю намного больше, чем кого-либо из людей…
– Да мы все Его любим. А Он – нас. Что тут такого…
– Не перебивай меня, Балле! Я люблю Его, как, должно быть, любят женщин и как я не любил ни одну из них. Ты не знаешь, какое счастье представлять себе, что Он где-то рядом, совсем близко, может быть, за колонной, вон там… разговаривать с Ним… задавать Ему вопросы и за Него же придумывать ответы, какие мог бы от имени Его дать мне первосвященник… Иногда я целыми днями беседую с Ним. Кажется, порой я все-таки слышу Его настоящий голос, но… не головой, что это не игра моего воображения. Мне так хотелось бы остаться в Храме на всю жизнь! Здесь так чисто! Нигде не видел места чище…
– Аппе…
– Прошу тебя, заклинаю тебя всем святым, не перебивай меня. Я, должно быть, длинно говорю. Но этого в двух словах не выскажешь, Балле. Второе, что я люблю, – это выбраться вечером перед каким-нибудь праздником из дворца и уйти на берег Еввав-Рата. Особенно в безлунную и безветренную ночь. И не в паводок, конечно, ибо ярость великой реки сильна, а я не желаю ничего яростного, сильного, ничего грозного… Мой брат! Я слушаю, притаившись в кустах, как мастера тростниковой флейты болтают у самого берега под пальмами и испытывают собственное искусство. Это так красиво! Назавтра все это будет звучать приглаженно, приятно и… не знаю, с чем сравнить… словно женщина привела в порядок одежду. Но тут они извлекают из своих дудочек воистину божественные звуки. Ты только представь себе, Балле: темнейшая темнота, тишь, только река шепчет свои смешные рассказики да во дворце немножечко пошумливают… и… тончайший звук— тончайший. Это так невозможно у нас, здесь! Мне иногда кажется, только в чертогах у Творца такое имеет право на жизнь…
Апасуд кусал губы, борясь со слезами. Ему хотелось выдержать и не заплакать, он еще сказал далеко не все. Царевич молчал, подчинившись воле царственного брата.
– И еще, в-третьих, Балле, я люблю взять в руку какой-нибудь плод и рассматривать его, рассматривать долго, со всех сторон, не упуская ни одной трещинки в кожуре, ни одного пятнышка, ни одного бугорка. Знаешь ли, на поверхности смоквы я научился различать двадцать восемь оттенков! Как совершенно все то, что создал Господь! Нет ничего лучше и прекраснее Его творений. Балле, Балле! Разве весь этот дворец краше одного-единственного ячменного колоса? Мой брат!
Тут он обнял Бал-Гаммаста и все-таки заплакал. Этого не случалось уже с полтора солнечных круга… Царевич шепнул Апасуду на ухо одну короткую фразу, которая как раз и нужна была в подобных случаях:
– Я жалею тебя, Аппе.
Брат взглянул ему в глаза и просиял:
– Кажется, ты все-таки поймешь меня.
– Я стараюсь, Аппе.
– Где ты видел других людей, похожих на меня? Я не похож на других, и это очень плохо для царя. Я предпочитаю целый день провести, вдумываясь в прелести древнего гимна «Анкимт», сочиненного неизвестным умельцем в эпоху царицы Гарад… а не разбираться в варварских спорах энси казначейства с доверенными гурушами какого-нибудь лугаля сиппарского, входят у них там полночные пригороды в зону кидинну или не входят… Мне это неинтересно, не нужно, неприятно, в конце концов!
– Не горюй, Аппе. Ты ведь не один. Я с тобой, мама, советники, а их еще отец подбирал… – Бал-Гаммаст теперь не понимал, что ему делать и какие слова говорить. Выходило так: мало будет успокоить брата, видно, и впрямь нечто должно измениться… Апасуд был выше его почти на локоть. Тем не менее царевич протянул руку и погладил его по голове совершенно так же, как это сделал первосвященник у ворот Цитадели.
– Пустые слова, Балле! Моему сердцу тяжелее, чем если бы на него взвалили десять ослиных нош. Я… боюсь этих людей. Советников отца, я, например, боюсь. А в походе я боялся всех, кроме батюшки и тебя, мой брат. Я опасался подойти и заговорить, а еще того больше я пугался, когда кто-нибудь подходил, чтобы заговорить со мной. Все эти солдаты, советники, чиновники! Да они так грубы! Они очень, очень грубы! Кое-кто из них понимает, в чем состоит правда и справедливость, хотя, наверное, не многие… Но никто ни разу в жизни не дал себе труда задуматься, в чем состоит вежливость, тонкость… Балле… я часто думаю о нашей жизни: почему один взрослый человек никак не возьмет в толк, что ему надо бы оставить в покое другого взрослого человека и не дергать его по мелочам? Балле! Балле! Какое у тебя сейчас лицо! Чего ты больше боишься – меня или за меня?
– И тебя… и за тебя тоже. Ты… ты… тебе ведь придется править до самого конца жизни, пока мэ не наполнится до краев… Мне жаль тебя. Творец – свидетель, тут нет ничего плохого, просто… как же ты будешь мучиться!
Апасуд вновь обнял его.
– Ты понял меня! Как я рад… Та все-таки понял меня. Знаешь, я так рад, что сумел все это высказать тебе, мой брат! Мой любимый, умный, славный брат. Хочешь, скажу, какая у меня самая большая мечта? Хочешь?
– Скажи, Аппе.
– Вот если бы однажды Творец спустился на нашу землю и ходил между людей, облаченный в простые одежды. Как какой-нибудь рыбак или плотник… Конечно, я бы узнал Его. Не мог бы не узнать! Он отыскал бы меня, взял за руку и увел отсюда. Мне неуютно здесь, Балле, совсем неуютно. Он отвел бы меня в страну, которая мягче нашей…
В этот миг Бал-Гаммаст чуть было не перебил брата, едва-едва удержался. Начни он спорить – упрямству Апасуда не было бы конца. Спорить с ним бесполезно, это знают все, и даже матушка, власть которой над братом почти безгранична, – и та не станет оспаривать его мнение. Апасуд либо примет тебя сразу, либо, может быть, примет потом, умом или душой привязавшись к тому, что ты ему сказал, но только сам; и никогда не подчинится, возжелай кто-нибудь громогласно его вразумлять… обманчива мягкость нового царя бабаллонского. Он мягок с теми, кто мягок с ним, Бал-Гаммасту захотелось рассказать брату, как он сам любит свою землю, великую и веселую земляную чашу Алларуад, рай земной, где золотой ячмень обилен, женщины ласковы, хоть и насмешливы, мужчины трудолюбивы и отважны, чистая вода течет по искусно устроенным каналам, а гнилые болота остались только в самых глухих местах; где города гостеприимны для мирных путников и неприступны для врагов; где дороги давным-давно очищены от разбойников и странствующий добрый человек может встретить ночную пору на пути между двумя селениями, не опасаясь ничего, кроме непогоды и диких зверей… Славная и богатая земля – Алларуад! Базары твоих городов пахнут пряностями и благовониями, искусные мастера выведут любой, самый сложный узор по ткани и по металлу, глубокие реки твои, спокойно катят волны к морю, сады твои цветут ярче солнца и плодоносят щедрей осеннего дождя воистину вечное лето в твоих пределах! Как можно не любить тебя? Бал-Гаммаст иной раз, отправляясь куда-нибудь с отцом, испытывал желание целовать сам воздух над дорогой… Заговори царевич обо всем этом со старшим братом, и придется ему припомнить сон, с детства посещающий его хотя бы два или три раза на протяжении солнечного круга: бородатый солдат в пылающем шлеме, с мечом и луком, обнимает ослепительную красавицу – высокую, тоненькую, как птичий голос, с распущенными черными волосами до колен… они стоят в поле, под ноги им постелены травы и луговые цветы в самую пору звенящего роскошества соцветий. Сон о солдате и красавице стал являться Бал-Гаммасту в тот месяц, когда отец только-только принялся объяснять ему, что такое Царство, кого можно отыскать на его просторах, с кем за него следует драться и как им управлять.
Разумеется, ничего не ответил царевич брату. Неподходящий был вечер, чтобы объясняться в любви к собственной стране. Следовало действовать… но как?
– Балле! Мне тяжело и не хочется править. И еще. По нашим законам я не могу быть царем более двух солнечных кругов, если со мною рядом нет Той, что во дворце… А для меня такое соседство, брат мой, совершенно несносно. Творец свидетель, я не лгу. Не подумай…
– Не подумаю, Аппе. Я же знаю тебя. Мальчики тебе ни к чему.
– Ни мальчики, ни девочки, Балле. Никто. Мое одиночество мне нужнее. По правде говоря, я не знаю ничего более ценного, чем одиночество…
– Ты не намного старше меня, братец. А я еще ни разу не притрагивался к женщине…
– Мне говорили…
– Говорили – и хорошо. Мне нравится. Пусть так говорят. Ты только одно учти: пройдет солнечный круг-другой, и все в тебе переменится.
– Нет! В тебе говорит мальчишка! Неужели не видишь! Это – мне нужно чем дальше, тем меньше.
Оба замолчали.
Бал-Гаммаст утомленно опустился на пол. Поесть, как следует, он сегодня успел, но отоспаться не получилось. Апасуд взволнованно расхаживал между колоннами, не глядя на брата. Царевич почувствовал необыкновенную усталость. Словно не он, а отец разговаривает с Апасудом, и надо бы решиться на что-то, но отцовство – одно, а Царство – другое, и повредить нельзя ни тому, ни другому. Бал-Гаммаст еще ничего не решил и даже не почувствовал, что именно придется ему решать, куда повернуть дело и как закончить странную беседу с братом, но странная тяжесть уже пала ему на плечи каким-то неясным предсказанием.
– Хорошо. Чего ж ты хочешь, Апасуд?
Оба взглянули друг на друга с изумлением: фраза прозвучала точь-в-точь, как если бы ее произнес Донат, а не Бал-Гаммаст.
– Я? Я… Я желаю отдать тебе Царство. А свою мэ отдам Храму. Никому не зазорно быть слугой у первосвященника.
– Сан Лагэн не примет тебя.
– Этого мы не знаем оба, ведь так, Балле?
И точно. Решения первосвященника никто и никогда не брался предугадывать. Сколько в них от решений самого Творца? Наверное, много, если не все. Что ж, гадать о воле Творца? Совсем нестоящее дело. Тут Апасуд был прав.
– И все-таки ты не уверен, Аппе, что он примет тебя.
Старший брат уныло вздохнул:
– Да. Это так. Но если не примет, я смогу просто жить во дворце, как и раньше. Разве плохо быть братом царя?
– Ты желаешь отсутствия мэ для себя, Аппе?
– Я кое-что умею, Я пригожусь тебе и Царству. – Он печально улыбнулся. – Хочешь, я буду бледной, почти прозрачной птицей, сяду к тебе на плечо и стану услаждать твой слух негромкими песнями… А если ты утомишься мною, надеюсь, мне найдется местечко на плече у матушки или Аннитум…
Бал-Гаммаст не ответил. Он размышлял о вещах, бесконечно далеких от птичьего пения. Царство, доставшееся Апасуду от отца, только что миновало великую смуту. Лишь пять дней назад лугаля кишского, поставленного мятежниками, выбили из города, эбихи гонялись за шайками иноземцев или стояли у крепких стен старых городов… Как там еще пойдет дело у щеголеватого Асага, тяжеловесного Упрямца и страшного Дугана? Нового эбиха Уггал-Банада он почти не видел, но его мэ тоже задело краешком сознания царевича: как там сложится под Уруком у этого? Нет, в такую пору царский дом не должен колебаться. Будь сейчас мир, будь тишь над землей Алларуад, он, наверное, согласился бы. Мэ государя чуть-чуть пугала и манила его одновременно. Бал-Гаммаст чувствовал в ней что-то бесконечно родное, как будто ему возвращали его же собственную вещь, взятую без спроса. Но…
– Ты должен быть венчан, Апасуд. Я не приму Царство из твоих рук.
– Но почему? Ты ведь лучше меня приспособлен к правлению, хотя и юн… Все так говорят…
– Значит, уже начались разговоры?
– Разговоры! Да разве я сам не вижу? Сначала тебе помогут те же самые советники, а потом из тебя, Балле, выйдет…
– Нет. Ничего из меня не выйдет, Аппе. Просто я не буду царем вместо тебя. И разговаривать нечего.
– Но как… почему… ты… ты разве не понял меня?! Что я такое.
– Да не в том дело! Кто из нас моложе, Аппе? Кто первым выбрался из мамы Лиллу? Ты говоришь так, будто из нас двоих старше я. Подумай не о себе. Война кругом. Нам повезло, но война еще не кончилась, нам нужна твердость. Царство должно перейти из рук в руки тихо, правильно, как исстари водилось. Если оно перейдет ко мне, многие подумают: вот, вышло мимо закона, все досталось мальчишке, а первенца лишили наследства. Ты рискнешь поручиться, что не начнется кутерьма, что не будет новых мятежей против меня – самозванца?
– Ты говоришь как отец! Какая чушь! Все – чушь. Зачем ты не хочешь мне помочь? Я же знаю, я же чувствую, я вижу, я… я… да я всем, чем только можно, чую: у тебя, дурака, мэ царя! А ты… а ты… Дурак! Дурак! Упрямый онагр! Доска! Бесчувственная доска! И это ты – мой брат… Доска! Доска… Апасуд зарыдал.
– Аппе…
Старший брат заговорил сквозь слезы, раскачиваясь из стороны в сторону и не отнимая ладоней от лица:
– Ты… ты… разве ты не почувствовал ночью, там… у отцова шатра… ночью… после сражения… разве… ты не почувствовал… время переломилось… грядет зябкое время, и мне ни за что не удержать… не сохранить…
Выходит, и Апасуда опалило морозом. Выходит, и он узнал зной холода.
Наконец Апасуд опустил руки.
– Ты не осознал до конца, Балле… Ты обязательно будешь царем, потому что… потому что, брат, за два солнечных круга я не найду для себя Той, что во дворце… а заставить меня жениться никто не волен. Тогда ты будешь царем по закону… тебе не миновать…
– Да ты все продумал… Хитрый, как мытарь в базарный день!
– Зачем ты так, Аппе… Пожалей меня. За два круга солнца я… я просто убью себя. Моя душа заболеет… И Царству не будет лучше.
«Уступить ему, – думал царевич, – и смута запросто усилится. Я ведь читал. При Донате I так было. И еще раньше, при царице Гарад, тоже так было. Нет, это нехорошо, очень нехорошо… А если не уступить? Как тогда? Певчая птица на престоле… прости, Творец, я не должен так думать о родном брате. Царь, которому не нужно Царство. Не нужна жена, не нужны дети. Дела и к чему. Да что за царь такой! Его никто не будет любить. Это плохо кончится. Так тоже было – при Кане IV Молодом. Такой же безбрачник попался… Легко говорить: “Никогда не выбирайте между плохим и плохим…” А если не предлагают ничего хорошего, тогда как? Господи, Ты посоветуй мне что-нибудь…»
Тогда, в храме, сидя на холодном каменном полу, Бал-Гаммаст первый раз в жизни пожалел, что он не старше, что ему всего-навсего четырнадцать солнечных кругов, что на него свалились вещи, которые отцу достались за двадцать вторым солнечным кругом, а деду – за сороковым… Заводить такие речи и искать ответа на такие вопросы должен бы человек постарше, да-да, постарше! Как бы не вышло ерунды… он ведь совсем не постарше, он – то, что он есть.
– Помолись-ка со мной вместе, Аппе…
Братья подошли к алтарю и принялись молча молиться. Один просил у Творца пощады, другой – вразумления. Слуги прибирались у входа, в отдалении слышались их приглушенные голоса, гулкое шарканье. Снаружи ночь приняла Лазурный дворец в прохладные объятия. Пламя в масляных светильниках жадно насыщалось временем.
– Аппе… Кажется, я знаю.
– Что? Что?!
– Пусть венчают обоих. И тебя, и меня.
* * *
….Сегодня ему не повезло дважды. Во-первых, это была Арбиалт. Во-вторых, она решила познакомить Бал-Гаммаста с «Историческим каноном земли Алларуадской, составленным и записанным с почтением и точностью при государе Донате I». Три солнечных круга назад они с Апасудом затребовали себе в покои все восемь канонов, а затем Бал-Гаммаст, желая обставить брата, прочитал еще сто две малые записи о деяниях царей, первосвященников и иных достойных людей Царства. Так вот, канон Доната I был самым простым, самым скучным и самым коротким. И он, разумеется, знал этот канон почти наизусть.
«…И вся страна от Полдневного моря до канала Агадирт, прорытого старыми городами в царствие государя Доната I, дабы соединить великие реки Еввав-Рат и Тиххутри и защитить государство от немилосердных кочевников с Полуночи, зовется Алларуад – держава всех дорог… – монотонно читала Арбиалт. – Так зовется она, ибо сказал Творец, что отсюда начнется многое и все пути вытекут из благодатной земли нашей. Люди суммэрк именуют ее Иллуруду – кровь богов, ибо таковой почитают чистую медь, и только мастера наши умеют делать из нее наилучшее оружие и прочие необходимые вещи. Торговые люди и кочевники Захода, странствующие со своими стадами, с рабами, со всеми родами и семьями, нарекли нашу землю Се… Си… Синн…»
Бал-Гаммаст машинально поправил:
– «…нарекли нашу землю Сеннаар, а люди суммэрк – Ки-Нингир…»
– Да, отец мой царевич. Тут неразборчиво. Конечно, отец мой царевич.
Конечно, он мог бы разрешить Арбиалт называть его просто Балле. Старый онагр Маддан так и сделал когда-то – в первый же день, когда его поставили учить Бал-Гаммаста и надзирать за ним. Даже разрешения не спросил. Сан Гарт, агулан гильдии звездочетов, высокий, сухой, прямой, как колонна, серебряная борода, расчесанная на аккуратные прядки, еще древнее Маддана, но полон достоинства, так вот он, этот Сан Гарт, умел произнести «Балле» с интонацией торжественного величания, как будто выкликал звезду на небо. Наставница Латэа, лукавая, озорная, желанная, словно виноградная ягода, если смотреть сквозь нее на солнце, изгибала капризные губки… м-м, н-да, вроде бы из чашечки этих губок выпархивало только одно имя – Балле, но вместе с ним неслось на волю обещание самых необыкновенных ласк, ночей, превращающих ложе в поле для беспощадного поединка… и в то же время нечто сей же час похищало у пленительных миражей право стать частью мэ царевича. Заглянул за завесу – и будь добр удалиться. Займись, чем и положено заниматься: тонким ремеслом писцов… Кажется, один раз она сама так заигралась, что чуть было… Наверное, ее удержал лишь возраст Бал-Гаммаста: разделить ложе с мальчишкой? Латэа остановилась у самого краешка и тремя фразами стерла в порошок все затрепетавшие было упования царевича. Но чтоб так уметь, надо быть Латэа. А этой… этой… земляной мухе разрешить – значит приказать. И будет вполголоса выдавливать «Балле…», давясь стыдом и страхом. Не стоит.
– Достаточно говорить просто «царевич», Арбиалт.
– Да, царевич.
Она продолжила чтение.
Бал-Гаммаст попытался отыскать в ней хоть что-то, на чем можно было бы остановить взгляд. С тех пор как матушке минуло сорок пять солнечных кругов, она перестала принимать на службу во дворец красивых женщин. А тех, что были здесь прежде, она постепенно заменяла на дурнушек. Куда девались две гибкие львицы, которых Апасуд поставил дворцовыми служанками сразу после воцарения? «Э-э… братец! Это ведь я сгоряча, не посоветовавшись с матушкой. Она-то быстро мне показала, какие они ленивые и нерасторопные. Теперь? Теперь на их местах две почтенные женщины… Хотя их возраст и можно назвать… э-э… осенним, но они расторопны и трудолюбивы…» Да, Апасуд. Несомненно, Апасуд. Две древние трудолюбивые ветошки, В смысле, две расторопные престарелые онагрихи. «Зачем ты так, Балле…»
Теперь вот эта Арбиалт. Девочка-старушка. Маленькая, совсем маленькая – низенького росточка, тощая… На шее – желтоватый пергамент складками. Вообще, кожа у нее до неприличия бледная. Близко посаженные глаза. Творец! Да какого они цвета? Не поймешь: то ля серые, то ли зеленые, то ли светло-карие – словом, какие-то блекло-бурые… Меленькие зубки во рту – как пешее войско под предводительством двух могучих желтых лопат, гордо вставших посредине верхней челюсти. Жарко. Даже во дворце, в тени, в кирпичных стенах, все равно – жарко. Но Арбиалт куталась в теплый шерстяной плащ, неровно выкрашенный в коричневое. Словно хотела спрятать от его глаз свое тело, как можно большую часть своего тела… И, разумеется, от нее разило слегка подтухшей женщиной. Творец! Как пахло от Латэа…
Сам Бал-Гаммаст слушал урок обнаженным по пояс.
– «…в ту пору жили вместе с людьми-быками гутиями одним племенем в горах Раггадес, к Полуночи и Восходу от благословенной земли Алларуад. И лежал тогда весь мир во тьме, ибо никто из народов не поклонялся Творцу, лишь малые кочевые семьи, может быть Тень Падшего всюду покрывала землю и реки, горы и селения».
Отец как-то сказал: «Страшнее человекобыков с гор, почитай, никого нет. Они, конечно, очень сильные воины. И очень быстрые к тому же. Они свирепы и беспощадны. Они не боятся смерти. Но все это, Балле, не так уж опасно. Победить можно и сильного, и быстрого, и свирепого, и отважного… Другое хуже. Сколько сотен солнечных кругов прошло, а люди наши всё еще величают гутиев “старшим народом”. Многие все еще боятся их тяжелой руки, как сын боится отца. Более половины наших людей носят в сердце своем неуместное почтение: будто бы гутии – народ-отец, а мы, алларуадцы – народ-сын». Бал-Гаммаст спросил его тогда: «А как на самом деле?» Царь ответил: «Мы и они – два разных народа. И более разных народов, Балле, не сыскать по всей земле. У нас было родство когда-то давным-давно, после Исхода, но сейчас, слава Творцу, от этого родства ничего не осталось».
Невесть откуда налетел холодок… Царевич передернул плечами. Арбиалт отложила одну глиняную таблицу и взялась за другую.
– «…Творец явился и повелел покинуть горы, оставить рабов, помимо тех, которые захотят уйти в Исход как свободные люди, отправиться с семьями и скотом к Заходу и Полудню. Творец отметил перстом простого человека по имени Ууту-Хеган и повелел: „Вот этот будет вам царем. Ходите в его воле. Сыновья его наследуют ему, склонитесь перед ними». И сказал еще: „Будете владеть землей богатой и всем обильной. Страна ваша будет благодатной, скот умножится, хлеба станете печь вдоволь”. И ушел народ с гор Раггадес, и оставил рабов, и всех тех, кто убоялся или пожелал остаться под рукой Падшего. Труден был Исход. Гутии не хотели отпускать народ наш с миром и уязвляли ушедших оружием своим. С помощью Творца были они отогнаны. И был на пути ушедших голод и наводнение, недружественные племена и губительный зной. Привел царь по слову Творцову народ наш к месту, где прорыт будет канал Агадирт и поставлен полночный вал в пять тростников высотой. И сказал он: “Это наша земля, здесь встанем”. Многие же возроптали, ибо земля наша была тогда худшей изо всех земель. Ни пядь ее не могла плодоносить, ибо вся страна была покрыта топкими болотами, густыми зарослями, кишащими ядовитыми гадами, в других же местах почву пропитала соль так, что и трава не могла здесь расти. Реки затопляли ее, губя людей и зверей. Львы, волки и змеи, водившиеся в изобилии, истребляли скот. Не было тут ни доброго камня для строения, ни медной руды, ни свинцовой, ни оловянной. Даже хорошего дерева была тут лишь самая малость, ибо редкой оказалась тут почва, где может пустить корни дерево. И многие возмутились духом: “Для чего привел нас сюда…”» – Тут Арбиалт вновь запнулась. Да что там у нее? В архиве дворцовом всего одна копия этого канона, Бал-Гаммаст помнил ее преотлично: хорошая копия, пять таблиц, все без трещин и выбоин, ровные края… трудно найти неразборчивые места.
– «“Для чего привел нас сюда, царь, слышал ли ты волю Творца? Чем жить нам здесь? Никто не видит благодатной страны” – так говорили недовольные…» – подсказал ученик.
– Да… – пролепетала Арбиалт упавшим голосом. – Да! Конечно. Благодарю тебя, царевич…
Была бы она хороша, Бал-Гаммаст любовался бы ею, как Латэа. Была бы она недурна, он любовался бы тем, что недурно. Было бы в ней хоть что-то… Солнечный зайчик пробежал по сандалии, но небесная хмурь живо стерла его. Они с братом Апасудом и сестрицей Аннитум много солнечных кругов провели в этой комнате. Все здесь вызывало неудержимую зевоту. И могучие кедровые балки, держащие крышу дворца, и дверь, обитая пластинами из сверкающей меди, и стены, покрытые светлым гипсом и разрисованные поучительными картинками… Вон тому колесничему пять солнечных кругов назад Аннитум пририсовала усы. Так никто и не заметил. Сейчас помяни про эту детскую потешку – зашипит, мол, я взрослая женщина, не лезь со своей чепухой. Взрослая, да. И впрямь такая дылда вымахала… А вон там карта, вся повытертая настырными пальчиками. Когда-то она поразила воображение царевича: вся земля Алларуад на одной стене! Но с тех пор ему пришлось видеть много иных карт. Чаще всего они были далеко не столь красочными, но очень серьезными… А-а-а! Да, славно зевается. Тысячи раз притрагивался его взгляд по к лепесткам ромашек чудовищного размера… сердцевинки у них когда-то подкрасили золотом, но металлический блеск давным-давно выцвел и осталась только ленивая расплывчатая желтизна… Ни одна бабочка ни за что не села бы на такой неряшливый цветок. Передвинь Арбиалт свое кресло из ивового дерева чуть левее, и Бал-Гаммаст смог бы насладиться тем, от чего никогда не уставал. Там, как раз напротив него, величавым шагом шествовала по стене царица Га-рад, чья мэ прервалась двести солнечных кругов назад… Лица ее отсюда толком не видно, но вся одежда – одно большое пятно цвета ослепительной лазури, цвета ласкающегося неба, цвета чистой реки на равнине в полуденный час… Иной раз царевич представлял себе все Царство в виде такого же пятна, лежащего посреди сероватой мути.
– «…пришел к ним Творец и сказал: „Вы явились туда, куда я хотел привести вас… – Арбиалт не спешила прервать свой назойливый зуд, – и эту землю отдаю вам во владение. Будете трудиться, призывая меня на помощь, и получите обещанное. Осушите болота, проройте каналы, устройте колодцы, сведите дебри, напоите землю чистой водой, изведите ядовитых тварей. Я помогу вам во всем”. И, услышав глас его, многие ободрились. Некоторые же исполнились уныния и побрели розно неведомо куда…»
Наконец Бал-Гаммаст нашел на чем отдохнут его сонные очи. Правое запястье вялоголосой курицы Арбиалт украшал браслет. Все, что было у нее привлекательного для мужчины… Тусклое, нечищеное серебро, все в чернинках. Старая, грубая, очень выразительная работа, какая была в моде солнечных кругов сто назад, а может быть, и раньше. Гривастые львы переплетаются хвостами с диковинными зубастыми рыбинами. Львы, как видно, порыкивают, пасти их приоткрыты, чудовищные мышцы напряжены. Рыбы выкатывают глаза и изгибают тела, словно их вытащили на берег. Во главе странного хоровода – петух ростом с двух львов. Клюв его самозабвенно закинут кверху, гребень скошен, сладкозвучная песнь уносится к небу… Говорят, люди суммэрк склонны видеть в причудах какого-нибудь озорного мастера серебряных и золотых дел нечто божественное. Кое-какие зверюшки, надо полагать, значат для них больше, чем для простодушных детей Баб-Аллона. Символы каких-то высших сил… или низших сил… или средних сил… Творец не разберет. И в кукареканье слышится им отзвук неизреченных тайн. Тамкары, бывало, рассказывали: наденешь какой-нибудь перстень, и бедняги суммэрк среди улицы кланяются в ноги всей толпой; зато назавтра наденешь другой перстень, и ровно та же толпа глянет на тебя, будто кот перед хорошей дракой – с шалым бешенством и решимостью порвать в клочья.
По комнате носилось неслышимое «ку-ка-ре-ку!», вовсю споря с размеренным кудахтаньем Арбиалт. Пой, пока жив, горластый петух, пусть хамоватые львы и удивленные рыбы пляшут под твои предрассветные трели!
И петух поет…
– «…деды начали, отцы продолжили, дети закончили. С помощью Его насыпаны были холмы, выпрямлены русла рек и вырыты каналы, встали города и поплыли корабли, на полях хлеб давал урожаи, а пальмы плодоносили, как нигде более. Стала земля Алларуад благодатной. И внук Ууту-Хегана Уггал-Банад I поставил у границы Царства, там, где ныне прорыт канал Агадирт и стоит полночный вал, там, где впервые вступил на землю эту наш народ, несокрушимую твердыню Баб-Алларуад. Тогда же первые стены были возведены у города, названного Баб-Аллон – ворота Творца. Оному городу было назначено стать сердцем и столицей Царства, и вновь явился Творец и предрек мэ страны на шей: “Будет Царство стоять несокрушимо, пока…”»
Бал-Гаммаст хотел было вновь подсказать Арбиалт, но, когда посмотрел на нее, всяческая охота отпала. Наставницу заклинило, как видно, намертво. Прежде она, быть может, и брела по табличкам одним глазом, но сейчас оба глаза оказались бесповоротно устремленными на царевича. Арбиалт вовсю шарила взором по его смуглой коже, рассматривала грудь, соскальзывала на руки, бродила по волосам. Щеки наставницы пылали, как у больного тяжелой болотной лихорадкой.
Тут Бал-Гаммаст не выдержал, захлопал руками, будто крыльями, и во весь голос послал ей любовный призыв:
– Куу-ка-ррре-кууууууууу!
* * *
25-го дня месяца симана, уже в сумерках, у низенькой пристройки к храму Лазурного дворца отворилась дверь. Оттуда медленным и важным шагом вышла чудесная серая кошка Аннакят, в белом переднике и белых сандалиях, с длинными белыми усами и не менее длинными белыми волосьями, росшими из бровей. Потянулась, потом потяну-у-у-улась, напоследок еще раз потя-ну-у-улась и улеглась на пыльных плитах двора: лапы в одну сторону, морда и хвост – в другую. Зевнула. Прикрыла глаза. Эту красавицу, единственную на весь великии город по-настоящему пушистую кошку, царице Лиллу привезли из дальних полночных краев. Тут она стала немым укором голым и худощавым баб-аллонским мышеловам. Никого из местных котов, стремительных, тощехвостых и наглоглазых, Аннакят не пожелала приблизить к своей царственной особе.
Живи серая красавица на воле, в каких-нибудь полночных землях, сумеречный час поднимал бы ее с уютной лежки и заставлял охотиться на крыс, мышей, землероек, ящериц… Здесь охота превратилась в развлечение. Древний зов беспокоил ее в сумеречное время, но жизнь в неге и довольстве не давала доброй работы когтистым лапам и клыкастым челюстям. Поэтому, когда юноша, присевший рядом, предложил кошке игру, она с радостью откликнулась. Он гладил и ласкал ее, как гладил и ласкал бы женщину, она терлась о его пальцы, выгибала спину и урчала, как делала бы это, попадись ей достойный кот. Потом охотничий зов поборол в ней все остальное, и Аннакят, перевернувшись на спину, обхватила передними лапами ладонь юноши, ударила задними лапами в то место, где под кожей по темным ленточкам бежит сладкая кровь, сомкнула зубы на безымянном пальце… Впрочем, когти ее покоились в мягких чехольчиках, клыки кусали не кусаючи, а сладкая кровь так и не пролилась.
Оба были довольны. Кошка Аннакят – славной игре, а юноша – тому, что все наконец-то закончилось: споры между советниками, эбихами и энси, материнские увещевания, долгие торжества, а вместе с ними – настоящая и страшная угроза, притаившаяся на земле полдневных городов. Потому что 25-го дня месяца симана он и его брат были венчаны как цари баб-аллонские, равные соправители, со старшим и окончательным словом у первенца – на тот случай, если выйдет спор; в тот же день в Баб-Аллон прискакал гонец от Рата Дугана, старшего во всем краю Полдня. Упрямец хитростью вошел в Лагаш, Урук в конце концов открыл ворота Уггал-Банаду, Иссин и Ур сдались без боя, а сам Дуган штурмом взял Сиппар и Ниппур. Уж не Творец ли благословлял Царство?
Счастлива кошка, счастлив юноша, счастлива вся благодатная земля Алларуад.
Бал-Гаммаст еще не знал, что в этот день закончилась его юность.
* * *
Что за женщина! Никогда Бал-Гаммаст не видел такой женщины. Высока, смугла – много смуглее баб-аллонских девиц, но и не черна, как курчавые дочери страны Мелаги. Черны только волосы, уж в них-то вложил Творец столько цвета! Хватило бы и на все тело. Прямые, ровно подстриженные у самых плеч, волосы женщины отливают перламутром. Лоб открыт, и над ним царит серебряный обруч, украшенный посредине литой коброй. Почти живая. Изогнулась, распахнула ужасный щит, выстрелила раздвоенным языком. Вместо глаз – две капли бирюзы. И такая же бирюза в глазах у самой женщины… Два черных овала окружают глазницы, и от каждого тянется к вискам сужающаяся к острию черта. Губы… сплошь покрыты блистающим серебром. Пухлые нежные губы – как первые слова сказки, которой еще только предстоит быть рассказанной. Маленький рот, прямой тонкий нос, кожа поблескивает подобно литой меди.
Шея… Одежда скрывает грудь (впрочем, достаточно высокую) и все то, что так неотвратимо притягивает мужские взгляды. Но точеной шеи достаточно; судя по ней одной, прочее должно быть безупречным.
На женщине – белое льняное полотнище, мудрено завернутое вокруг ее тела, опушенное черной бахромой по краям и спускающееся ниже колен. У нее нет ни браслетов, ни бус, хотя женщины суммэрк очень любят их; иной раз Бал-Гаммаст видел на ком-нибудь из них настоящий «бусяной воротник»: полтора десятка нитей сплошным ковром от подбородка до груди. У этой – только круглая серебряная пектораль на кожаном ремешке. Снизу к нем подвешены маленькие треугольные пластинки, мелодично позванивающие при каждом шаге. На пекторали изображен высокий венец со множеством бычьих рогов.
На вид она старше Бал-Гаммаста солнечным кругом или двумя. Или еще старше? Он еще не знает, как читать женские улыбки, жесты, мельчайшие движения мышц лица… Невинность или уверенное знание? Губы говорят о первом, а нервное движение головы скорее о втором. Бал-Гаммаст силился разобрать, но эта таблица оказалась ему не по зубам.
Тело ее необыкновенно гибко. Ни разу за весь вечер женщина не танцевала, не выгибалась и не пыталась завязать себя в узелок, как умеют опытные базарные плясуньи. Более того, в движениях ее видна была скованность и угловатость. Но Бал-Гаммаст заметил, сколь трудно этому телу быть неуклюжим: как будто умелого борца заставили схватиться с противником вполсилы; старайся хоть до скрежета зубовного, а искусство даст себя знать… Слишком ловка, слишком хорошо эта женщина способна управлять собой. Заставь кошку ходить. по квадрату, так она из квадрата быстро сделает круг.
Один раз женщина прошла в локте от юного царя. Ее кожа пахла тамариском, душистой розой из земли Маган и еще чем-то… неприятным. Может быть, водорослями, гниющими на морском берегу. Бал-Гаммаст представил себе, как обнял бы эту плоть, как стал бы насыщаться ею и этот странный запах, пожалуй, испортил бы все разом. Неужели не чувствует сама? Женщины суммэрк сведущи в таких делах. У них есть сотни способов источать ароматы, бесконечно далекие от природного.
Музыкальных дел мастерица Лусипа родом из суммэрк. Не зная об этом, ни за что не догадаешься: их женщины – чаще всего полные коротышки с отвисшей грудью. Этой подмешали в кровь что-то еще. Среди суммэрк она вроде пшеничного колоса в окружении полбы.
От нее исходила непонятная угроза. Как будто воздух вокруг ее ослепительного тела пропитался опасностью. Почему?
Ее слуга. Не поймешь: то ли от рождения больной, то ли вовсе не больной, а просто – странный. Маленькое, сухонькое тельце, как у мальчишки. Но не мальчишка, конечно. Несоразмерно большая голова, украшенная кудрявой бородкой и жесткими вьющимися волосами, длинные руки, длинные ноги… Точно паук. Бледная кожа… очень бледная, как будто он никогда не жил под щедрым солнышком страны Алларуад. Лицо густо покрыто сажей или черной краской, кто ее разберет… Только губы – в серебре, точно так же, как у госпожи. Серебряной краской нарисована чудовищная улыбка: рот до ушей. Волосы собраны в пучок бронзовой заколкой в форме венца с бычьими рогами. На груди – пектораль… с изображением змеи. Тело слуги завернуто в черное льняное полотнище с белой бахромой.
Под мышкой у него – десяток небольших глиняных табличек. Понятно, зачем он здесь.
Слугу зовут Шаг. Странный язык суммэрк: слово «шаг» означает одновременно и «прекрасный», и «в наибольшей степени соответствующий своему назначению», и «находящийся в положенном месте», и «появившийся вовремя»… Любопытно, бурдюк с холодной сикерой – точно «шаг», если он попал тебе в руки в знойный полдень. А без сикеры, но прочный и вместительный – «шаг» или нет?
От слуги ничуть не слабее потягивало угрозой.
…Бал-Гаммаст сидел в высоком кресле и ожидал начала действа. Пятнадцать солнечных кругов назад на это кресло пошло множество маленьких деталек из невероятно дорогого привозного сандала. Буквально на вес серебра. И еще более дорогие смолы. На вес золота… Дразнящий запах далеких земель до сих пор не выветрился. Кресло благоухало чужими цветами, чужой травой и чужими женщинами. Знойный месяц аб, душитель теней, гончий пес нестерпимого летнего жара многократно усиливал сандаловый аромат.
Справа от Бал-Гаммаста в таких же креслах сидели Уггал Карн и Аннитум. Слева – Сан Лагэн, Апасуд и царица Лиллу. Еще три кресла пустовали. Обычно на Совет Дворца и Храма собираются восемь человек. Агулан баб-аллонских тамкаров ведает мэ торговли и ремесла. Верховному писцу подвластен счет всего, чем владеет Царство; под его рукой также школы и училища. Последнее кресло пустует давно. Его должен бы занимать один из эбихов от армии. Старшим считается Рат Дуган, вторым после него – Лан Упрямец, потом Асаг и Уггал- Банад. Но первый борется с остатками мятежа под Эреду, второй – под Уммой, третий ведет дела в Баб-Алларуаде, а четвертый – в Уруке. Пустое кресло стоит здесь, потому что таково старинное право людей копья… То ли даже не право, а особая служба, в Царстве люди не умеют отличать одно от другого; для них все это – мэ. Совет собирается по два-три раза в седмицу и занимается делами на протяжении трех страж – последних перед закатом. Решающий голос во всем принадлежит царице и Уггалу Карну. Три месяца миновало с тех пор, как эбиха ранили. Теперь он совершенно здоров, хотя выглядит исхудавшим и бледным, словно рыба, обвалянная в муке. Бал-Гаммаст чувствовал, как полководец и Лиллу перебрасывают друг другу нечто вроде невидимого клубка пряжи; в нем-то и заключается власть надо всей землей Алларуад… Они говорят друг с другом полуфразами, интонациями, тонкой игрой губ и век. Когда все прочие должны понять то, что решили царица и эбих между собой и почему они решили именно так, один из них объясняет суть дела пространно и прозрачно. Каким образом они договариваются о той, кто из двух возьмет на себя труд пояснений, ведает один Творец. Но до сих пор в игре полководца и Лиллу ни разу не случалось осечки. Бал-Гаммаст догадывался: кое-что остается открытым только для них двоих и никогда не прозвучит в зале Совета… Зато время от времени очень громко и очень сердито говорит Аннитум. Обычно невпопад. Еще реже высказываются он сам и первосвященник. Почти никогда – агулан тамкаров и старший писец. Апасуд всегда молчит. Он откровенно тяготится своим участием в совете. Бегуны из дальних городов, чиновники-шарт, провинциальные энси, богатые тамкары и офицеры-редцэм разного ранга приходят на Совет со своими делами. Лица изо всех концов страны Алларуад мелькают перед молодым царем, и он старается запомнить: кто, как зовут, в чем нуждается… Пройдет не так много времени, и это будут его люди. Ему следовало учиться: как это – быть милосердным и жестоким; чем отличается ненадежный человек от надежного; когда для решения хватает житейского здравого смысла, а когда требуется быть мудрецом; и, главное, сколь медленно течет жизнь, до какой степени она не любит спешки…
Сегодня Совет перемалывал дела не более полутора страж. Дыхание сумерек еще не достигло земляной чаши. Царица своей волей отпустила агулана и верховного писца. Вот, оказывается, кого мать считает легкими гирьками в своем торге…
Лиллу послала за кем-то слугу. Все застыли в ожидании.
Бал-Гаммаст обратился к эбиху:
– Что это будет, Уггал? Или кто? Тот ответил одним словом:
– Развлечение.
Изо всех полководцев отца именно Уггала Карна хуже всех знал Бал-Гаммаст. Да, они часто бывали рядом. Но Бал-Гаммаста всегда держала на расстоянии холодная мощь эбиха. Иной раз он не мог вспомнить черт лица Уггала Карна: все расплывалось, и память хранила странный образ тяжелой, изрезанной ветром, зубчатой скалы, о которую разбиваются морские волны. Упрямец был теплее и понятнее. Асаг так хотел быть похожим на эбиха черных, но он сам вроде Бал-Гаммаста, с той только разницей, что досталась ему не мэ государя, а служба копья. Этот скорее зверь, чем камень. Больше всех напомнил Уггала Карна Рат Дуган – немногословием, скупой точностью движений, непоколебимой уверенностью в словах и дедах. От него исходила такая же страшная сила. Но Дуган – это Бал-Гаммаст чувствовал с необъяснимой точностью – когда-то усмирил свою силу, обуздал ее непокорный нрав и теперь еще вынужден был иногда бороться с ее мятежами. А эбих черных всегда был спокоен. Этого человека стоило узнать получше. Когда-нибудь, наверное, он будет перекидываться невидимым клубком с Бал-Гаммастом. Завязать беседу?
– Уггал… К тебе должна была подойти девушка. Шадэа. В тот день, когда войско входило в столицу.
– Да, отец мой государь. Помню… – На людях эбих всегда и неизменно величал его царским титулом. Мать – ни разу. И тут тоже была какая-то игра, смысла которой Бал-Гаммаст пока не понимал.
– …помню… – собирался с мыслями Уггал Карн, – она спросила меня, тот ли я герой, которому Царство обязано победой в последнем сражении.
– Да, ей понадобился герой. Что ты сказал в ответ?
– Правду, отец мой государь. Я исполнил свай долг и по неудачливости получил дыру между ребер, да. Но героем был Рат Дуган. Именно его люди до самого конца не давали прорвать центр. И сам Дуган стоял в рядах копейщиков… Такова правда. Кроме того, она, Шадэа, кажется? – не тот человек… ей не надо тревожить мое одиночество. Слишком юна для меня. Совсем девочка. Я дал ей это понять.
Бал-Гаммаст мысленно перевел: «Это мне не следовало тревожить его одиночество». Между тем эбих продолжал:
– Тогда, отец мой государь, она поинтересовалась, где искать Дугана. Я ответил: «Точно сказать трудно, где-то на дороге между Кишем и Ниппуром. С войском». Она поклонялась… не столько мне, кажется, сколько моей ране, повернулась и ушла С таким видом, будто прямым ходом направляется в Ниппур.
– Эта могла бы.
Эбих закончил беседу вежливым кивком и полуулыбкой. Его не интересовал предмет разговора, но он обязан сообщить молодому царю все, что знает по этому делу. Сообщение исчерпано.
И тогда вошли эти двое. Бал-Гаммаст перебрал глазами каждую складочку на их одеждах. Что в них так тревожит его? Что? Мать заговорила. Она как будто высекала похвалу на каменной плите… но обрывки слов Той, что во дворце, едва долетали до ушей молодого царя… «Хотела… чтобы вы услышали… бесконечно тонкое… прежде я никогда… может быть, лучшая во всем Баб-Аллоне…» Тут он увидел, как лицо Апасуда превращается в каменную маску. Творец! Некоторые вещи брат чувствует сильнее… «Я… пожелала сделать всём вам необыкновенный подарок… голос…»
Смуглая женщина по имени Лусипа запела. О да! Это был голос, какого прежде никогда не слышал и Бал-Гаммаст. Как танец падающих листьев, как грация тихого ветра, как дуновение сумерек, как отражение полной луны в канале… как проблеск серебра в центре полуночной тьмы. По залу Совета разносился очень громкий шепот, и… словно бы два или три детских голоска подпевали Лусипе. Получалось нечто вроде звериной шкуры, в которой утоплены изгибы тонкой золотой проволоки. Певунья будто заставляла звучать инструмент, изготовленный нечеловеческими руками: то высоко, то низко, то едва слышным шелестом, то подобно нескольким флейтам сразу… Но пел один человек! Шаг не размыкал уст, лежал как собака у ног хозяйки.
Лусипа пела без слов. Она только пробовала свою власть на присутствующих, и власть ее была велика. Апасуд сидел с отрешенным лицом. Так же завороженно внимала певунье и царица Лиллу. Бал-Гаммаст поймал себя на мысли: «Не дать затянуть узлы…»
Когда флейты Лусипы отзвучали, в зале на десяток ударов сердца воцарилась тишина. И вдруг Аннитум таким же шепчущим голоском сообщила всем прочим:
– Пискля…
Мать и дочь посмотрели друг на друга с ненавистью. На лице Аннитум ясно читалось: «Этим меня не проймешь, матушка. Твои забавы ничуть не трогают девочку Аннитум». На лице Лиллу… гораздо проще: «Ты поплатишься за это. Я не забуду». Они боролись взглядами, и никто не желал уступать. Апасуд закатил очи к потолку и едва слышно бубнил строки из одного старинного поэта. Унаг Холодный Странник, «Небесный чертог», времена царицы Гарад…
«Пропал Алле, – подумал Бал-Гаммаст, – как лягушка под солдатским сапогом».
Мать и дочь все никак не хотели прекратить свою безмолвную схватку. Бал-Гаммаст знал: когда-то, очень давно, чуть ли не десяток солнечных кругов назад, их поссорил отец. Тем, что существовал. Он любил обеих женщин – и дочь, и жену. Обе они любили его. Каждая по-своему. Одна как неудавшийся мальчик-первенец, вечно искупавший эту свою несуществующую вину. Другая – как измученный жаждой зверь, которому всегда не хватало последнего глоточка. И обе желали владеть великолепным Барсом безраздельно. Когда сверкающий металл едва пробудившейся девичьей страсти высек первые искры, столкнувшись с непреклонной броней зрелого женского чувства? Кто из них словом или интонацией вывел первый знак соперничества? Разве вспомнишь теперь – с чего началось… Призрак почившего государя по-прежнему стоял между ними. Умер? Что с того? Тогда они бились за его любовь, теперь – за память о любви.
Бал-Гаммаста связывало с отцом глубокое, хотя и немое понимание… Сын Барса чувствовал, как никто: обе проиграли. Безнадежно. Ни супруга, ни дочь не имели даже тени шанса на победу. Никогда. Истинной госпожой царя Доната было иное существо женского пола… Великая земля Алларуад.
– Она будет петь на языке эме-саль или как говорят простые суммэрк? Низкую речь я плохо понимаю… – подал голос Сан Лагэн. Аннитум и Лиллу расцепились.
– Если отец мой и господин первосвященник пожелает, – учтиво ответила смуглая женщина, – я буду петь только на эме-саль. Мне ближе язык священного и высокого… Но все ли здесь знают его?
Аннитум фыркнула. Негромко. Недостаточно громко для новой стычки с матерью. Певунья:
– Я поняла вас, госпожа…
И Лусипа вновь запела. Шаг, встав на колени, держал перед ней таблицу с текстом. Это был древний гимн о великом герое Нинурте, прозванном «сын ветра». Однажды в земле суммэрк умножились чудовища. Многоголовые львы, огнедышащие драконы, демоны в обличье овец с зубастыми пастями наводнили открытую землю и подходили к стенам городов. Никто не смел выйти против них. Все боялись злобного демона, старшего среди прочих врагов рода человеческого, могучего и доселе непобедимого. Люди суммэрк понесли столь ужасные потери от него, что имя демона сделалось запретным. Произносить его – преступно. Владыки страны собрались в священном городе Ниппуре и призвали храбрецов очистить землю от чудовищ, «…чтобы мэ суммэрк были неуничтожимы, чтобы предначертания всех земель соблюдались». Откликнулся один Нинурта. Ему даровали талисман – золотую таблицу со словами власти для старого и славного Лагаша, города, чья тень простерлась над всем краем Восхода. Нинурта вышел за городскую стену и бился без усталаи, поразив чудовищ по всей земле суммэрк, от края до края, герой пришел к городу Лагаш и лег спать в селении Гирсу. Среди ночи на него напал старший демон. Нинурта поразил и его, но демон опалил героя «живым пламенем» и расплавил таблицу власти над Лагашем. Тогда Нинурта пошел к доброму городу Эреду, столице земли суммэрк, и призвал богов. Боги признали его заслуги. Они даровали ему лучшую награду – бессмертие…
О, Нинурта! Ты – прочная крепость суммэрк! За свое геройство ты к богам причислен! Владыка истинных решений, сын ветра! Льняную одежду носящий, Для определения судьбы и власти назначенный!.. 1Певунья самозабвенно играла голосом. Царица Лиллу закрыла глаза. У Апасуда две сверкающие ниточки слез перечеркнули щеки. Даже Аннитум, казалось, отдала себя во власть смуглой женщины. Первосвященник и эбих сидели с бесстрастными лицами; Бал-Гаммаст видел, как внимательно вслушиваются они в слова гимна.
Серебряные пластинки мелодично потенькивали у певуньи на груди.
Молодой царь пребывал в растерянности. Пение и впрямь неземное. Так ли поют во Дворце у самого Бога или лучше? И разве лучшее возможно? Да. Все это так. Но одно ужасно обидно: чего ради певунья так упорно именует Ниппур и Лагаш городами земли суммэрк? Только недавно отец показал, чьи это города. Половины солнечного круга с тех пор не прошло. И «старший демон» эбих Асаг побил как-то у Лагаша бродячую шайку разбойных суммэрк. Так какой радости для она тут… выводит!
Лусипа завершила гимн, и Апасуд сейчас же воскликнул:
– Необыкновенное искусство! Достойное чести и поклонения. Моя плоть наполнена радостью, моя душа испытывает восторг!
– Ты превзошла мои ожидания, дитя тонкости… – вторила ему царица.
Бал-Гаммаст оглянулся направо… оглянулся налево… Уггал Карн молчит, и первосвященник тоже – как язык проглотил. Тогда он сам подал голос:
– Хорошо, конечно, поешь. Только Лагаш и Ниппур – наши!
Аннитум несмело заулыбалась: – Я вот тоже… как-то… начала сомневаться.
– Мой брат! Не стоит понимать все так прямо! – Апасуд умиленно пояснил: – Ведь это поэзия.
– Поэзия, да. Я понял. Поэзия – это хорошо, а города – наши.
– Н-не стоит, Балле. Такая красота! Признай же.
– Точно. Красота. А города все равно – наши. Левой щекой, левым ухом, левым виском Бал-Гаммаст почувствовал, как сдерживается мать.
– Ты совсем как ребенок. Балле, брат. Неужто не понял ты, какое сокровище даровал нам сегодня Творец?
Бал-Гаммаст почувствовал раздражение. «Неужто ты сам, балда, не понимаешь, что сокровище – сокровищем, а города важнее. А? Не понимаешь? Почему, онагр упрямый? А? Только бы не сорваться! Нет. Не нужно. Это будет совсем не вовремя». И он не стал отвечать.
Зато ответила сама певунья. Растянув серебряные губы в почтительной улыбке, она заговорила по алларуадски безо всякого акцента, настолько чисто, насколько бывает лишена ила и грязи колодезная вода:
– Гимн о Нинурте-герое древнее кудурру, стоящих на коренных землях Царства. В нем рассказывается об очень далеких временах. Никто не может быть уверен в правдивости сведений о той поре и тех людях. Народ суммэрк помнит одно, народ алларуадцев – другое. Кто посмеет быть судьей? Впрочем, если отец мой государь пожелает, я готова покориться и признать его правоту. Аннитум:
– Пожелай-ка, Балле!
Бал-Гаммаст твердо знал: последуй он совету сестры, и царица сейчас же заговорит о рассудительности певуньи, о ее искусстве, об учтивой манере… Та, что во дворце, умеет держать баланс между тяжущимися людьми, хотя бы и тяжба шла о мелочи, Чужой спор она всегда обратит себе на пользу. Не грех поучиться у матушки.
И он промолчал.
– Я рад был бы услышать еще что-нибудь… если наша гостья не утомилась, – обратился к певунье Сан Лагэн.
Та поклонилась первосвященнику. Шепнула несколько слов Шагу…
– Если ваше терпение не иссякло, я буду петь поэму о царе Гурсар-Эанатуме, начертанную неведомо кем от его имени три раза по тридцать шесть солнечных кругов назад.
Аннитум отдала команду:
– Пой!
И Шаг поднес к лицу смуглой женщины первую табличку:
Я, Гурсар-Эанатум, царь Эреду, доброго города, Слово мое загон строит и скот окружает! Слово мое кучи зерна насыпает! Слово мое масло взбивает! Я первый канал прорыл, Я первый колодец вырыл, Пресная вода из-под стопы моей забила! Я съел восемь растений знания и землю познал! Я съел восемь птиц знания и небо познал! Я съел восемь рыб знания и воду познал! Я дом себе построил, Тень его выше города, Рогатый бык— его кровля, Львиный рык – его ворота, Пасть леопарда – его засов, Стены его – из серебра и лазурита, Пол его устлан сердоликом! Я создал из льна одеяние черное и облекся в него! Я обруч создал из золота и надел его на голову! Я своему слуге Ууту-Хегану дом построил, Тень его выше Змеиного Болота! Я даровал слуге моему верному пестрое одеяние!Бал-Гаммаст изумленно забормотал:
– Ууту-Хеган Пастырь – слуга?..
Шаг быстро поменял табличку.
В ту пору, когда Думузи еще пастухом овечьим не был, Люди стенали в холоде и голоде, Земля была как вода, и вода смешалась с землею! Я жалостью исполнился к людям, Жалость грудь мою стиснула, Жалостью наполнился рот мой. Я тихим голосом воззвал к богу нашему и нунгалю: «О, нунгаль, чье дыхание создало землю! О, нунгаль, чей детородный член встал, Подобно быку с поднятыми рогами перед схваткой, Оросил семенем землю! О, нунгаль, отделивший свет от мрака! Земля смешалась с водою, земля стала как вода! Люди стенают от голода и холода! Покажи мне путь, как осушить страну Ки-Нингир, Как рабов твоих спасти». И нунгаль ответил мне, Нунгаль дуновением слов своих дотянулся до меня, Нунгаль голосом громким сказал мне: «Ты, Гурсар-Эанатум, герой сильный, царь отважный Слово твое загон строит и скот окружает, Слово твое кучи зерна насыпает, Слово твое масло взбивает, Но ты мой раб. Выполни волю мою. Спустись на дно пресного океана, Нырни на дно великого океана, Уйди во мрак подземного океана, Там лежит ключ из живого серебра. Достань его и положи в реку Буранун, У самого моря, там, где Змеиное Болото, Среди священных тростников. Тогда осушится страна Ки-Нингир, Тогда спасешь ты рабов моих». Я, Гурсар-Эанатум, создал баржу из тростника, Посадил гребцов крепких, Дал им весла из дерева, привезенного с Полуночи. Я вывел корабль по подземной реке к подземному океану, К пресному океану, К океану великому. Я нырял шестьдесят дней и шестьдесят ночей, Но не нашел ключа из живого серебра. Тогда я вновь воззвал к богу нашему и нунгалю: «О, нунгаль, чье дыхание создало землю! О, нунгаль, чей детородный член встал, Подобно быку с поднятыми рогами перед схваткой, Оросил семенем землю! О, нунгаль, отделивший свет от мрака! Подай мне знак, как отыскать ключ из живого серебра». Так взывал я еще шестьдесят дней и шестьдесят ночей, И уста мои утомились. Но не ответил нунгаль. Тогда ударил я в священный барабан ала, В большие бронзовые сосуды вкуснот пива налил, Пиво сиропом из фиников подсластил, Дорогим вином серебряные сосуды наполнил, Велел шестьдесят черных быков зарезать, Мясо их в золотые сосуды положил, А кровь их в сосуды из черного камня собрал. Омочил свои уста вином и пивом нунгаль, Мяса черных быков вкусил нунгаль, Крови черных быков отведал нунгаль. Сосуды из бронзы, серебра, золота и черного камня Забрал в свой дом нунгаль. И молвил нунгаль, чье дыхание создало землю, Нунгаль, чей детородный член встал, Подобно быку с поднятыми рогами перед схваткой, Оросил семенем землю, Нунгаль, отделивший свет от мрака: «Я доволен тобой, раб мой, царь Эреду, Гурсар-Эанатум. Усладил ты мои уста видам и пивом, Усладил ты мою плотъ плотью черных быков Усладил ты мою кровь кровью черных быков, Я доволен тобой, раб мой, царь Эреду, Гурсар-Эанатум. Я открою тебе, как отыскать ключ из живого серебра. Перед тем как нырнуть на дно великого океана, Перед тем как отправиться на дно пресного океана, Перед тем как уйти во мрак подземного океана, Вскрой себе левую руку, Отдай воде шестьдесят капель живой крови. Тогда отыщешь ключ из живого серебра!» Так молвил нунгаль, великий Бог черноголовых. Я, царь Эреду, Гурсар-Эанатум, Вскрыл себе левую руку, Отдал воде шестьдесят капель живой крови И нырнул на дно великого океана, Отправился на дно пресного океана, Ушел во мрак подземного океана. И во тьме нашел ключ из живого серебра. Это был ключ из теплого серебра. В моей руке был ключ из мерцающего серебра. Ключ извивался, подобно рыбе, он был из живого серебра. И опечалился я, Гурсар-Эанатум, Тело мое устало, Мышцы мои удручила болезнь, Руки мои опустились, В голове моей поселилась боль. Тогда послал я верного слугу Ууту-Хегана Бросить ключ в реку Буранун, У самого моря, там, где Змеиное Болото, Среди священных тростников. Верный слуга Ууту-Хеган сделал все, как велено мною: Бросил ключ в реку Буранун, У самого моря, там, где Змеиное Болото, Среди священных тростников. Как я повиновался высокому, так мне повиновался низкий. И воззвал я вновь к богу нашему и нунгалю: «О, нунгаль, чье дыхание создало землю! О, нунгаль, чей детородный член встал, Подобно быку с поднятыми рогами перед схваткой, Оросил семенем землю! О, нунгаль, отделивший свет от мрака! Воля твоя исполнена». И тогда отступили воды, оставили землю.Молодой царь почувствовал удушливый запах гнева. Это всегда приходило к нему, как отзвук далекой грозы, которая все еще может пройти стороной… Все пятьдесят восемь законных государей и государынь баб-аллонских из рода Ууту-Хегана холодно смотрели на него из окон того Лазурного дворца, что стоит выше туч, – у самого Творца в ладонях. Холоднее прочих глядел Донат Барс. «Зачем она унижает первого хозяина Царства? Да еще перед его прямыми потомками? Почему? Понять не могу. Сошла с ума? И что за нунгаль такой? Уж верно, не Творец…» Но сказать он ничего не успел. Апасуд крикнул ему:
– Молчи же ты, упрямый онагр!
«Еще кто из нас двоих упрямее… Или онагрее?»
Шаг поднял третью табличку:
Я, Гурсар-Эанатум, царь Эреду, доброго города, Отделил землю от воды. Моею силой страна Ки-Нингир осушилась, Рабы нунгаля были спасены! Моею силой города вышли из-под волн! Страх тела страны, река Буранун несет воды ровно! Бородатая рыба сухур тянется к пище в пруду! Рыба карп в тростниках священных поводит Серебристым хвостом! Вороны черные, подобно людям с острова Дильмун, В гнездах каркают! Могучий бык взбивает землю копытом и бодается во дворе! Крепконогий дикий осел кричит, призывает ослицу! Барка с золотом и серебром спешит из Мелуххи, Гребцы ударяют веслами! Лен встает, и ячмень встает, поднимаются из земли! Смелые воины разбивают головы врагам, взятым в плен! Люди черноголовые из кирпича стену возводят, На священном месте город строят! Моею силой страна Ки-Нингир осушилась, Рабы нунгаля были спасены.– Головы, значит, разбивают, храбрецы-суммэрк… Апасуд зашипел.
Четвертая табличка была коротка:
Как небо обдувает ветер, Как траву песок обдувает, Так тело страны Ки-Нингир пусть песня моя обдувает! Власть нунгаля да будет над нею священна…1Дети царя Доната знали друг друга. Аннитум ухмыльнулась в ожидании потехи, Апасуд в отчаянии схватился за голову,
Бал-Гаммаст и князь Гнев иногда играют друг с другом в странную игру: им надо обязательно выяснить, кто окажется хитрее, кто кого поведет на веревке. Покуда царь держит в руке веревочную петлю, накинутую на шею гневу, тот холоден. Но стоит только поддаться его чарам и на миг отпустить веревку… О!
Ярость Бал-Гаммаста все еще дышала холодом…
– Я думаю, их надо изгнать из Баб-Аллона и запретить им бывать во всех крупных городах Царства. Полагаю, это решение надо принять немедленно.
– Ты солдафон и больше никто! – воскликнул Апасуд.
– Изгнать? Не изгнать… Может, просто высечь? – размышляла вслух Аннитум. – Дать серебра за работу и хорошенько высечь. Будут знать, что и при ком петь…
Апасуд, не в силах спорить, издал какой-то лошадиный сап. Всем своим видом он показывал: не понимаю, о чем вы тут говорите.
– Не понимаю, о чем вы тут говорите… – с необыкновенным весельем и даже некоторой нежностью в голосе произнесла царица.
– Чего ж проще – откликнулся Бал-Гаммаст. – Род царей баб-аллонских поставлен в услужение суммэрк. Наши города отданы им. Их князь и бог, этот кровожадный урод, правит миром. Серебро певунья заслужила, тут Аннитум права. И высечь бы надо – согласен. А потом обязательно изгнать. Обязательно! Невыносимая порча. Не слабее, чем от матерого машмаашу, а таких изгоняли отсюда с великим позором…
– Сынок, Балле… Я не вижу в милых и тонких песнях Лусипы ничего, кроме фантазии. А ведь на нее столь богато любое высокое искусство, и поэзия в том числе…
– А я вижу оскорбительное вранье. Бал-Гаммаст смотрел в лицо певунье, но ответа ждаk от царицы Лиллу. Он государь. Он в своем праве – требовать повиновения. И он гонит прочь ложь, прилетевшую на легких крыльях! Творец свидетель… Но почему тогда девица Лусипа столь мягко опустила веки? Если бы он сделал такое движение веками, то лишь по одной причине: когда ему потребовалось бы скрыть нечто неприятное для собеседника… Кто побеждает? Он ли загнал неприятеля на неудобную позицию? Его ли самого навели на непонятную ловушку? Что – там, у чужой смуглой женщины под веками? Слезы? Насмешливые огоньки? Торжество словчившего бойца? Девушка-суммэрк молчала. Царь смотрел ей в лицо и никак не мог избавиться от неуверенности. Что, наконец, ответит мать?
Ответил Сан Лагэн.
– Отец мой… э-э… Балле… то есть государь…
– Зови же меня по имени!
– Да.
– Как всегда зовешь. Что с тобой сегодня?
– Н-да… конечно же… Балле. Я… просто я, видишь ли, какая вещь… я растерялся.
Теперь шесть пар глаз высверливали дыры в тощем и нескладном теле первосвященника. Точно шесть мастеров собрались вместе, чтобы проделать отверстие в костяном крючке для ловли рыбы.
– Да, Балле… в голове у меня словно стоит месяц тэббад и льют холодные дожди, и на улицу выходить страшно… как бы не захлебнуться… и дома сидеть невозможно, надо заняться делами… какую непогоду ты устроил, Балле… извините его. Извините его все. И меня вместе с ним.
Аннитум:
– Как?!
Царица вздохнула. Ей было что сказать. Она сама хотела заставить мальчишку извиняться. Царь! Взбалмошный царенок. Еще немного, и она не сможет его держать под пологом своей осторожной мудрости… Сегодня Той, что во дворце, нужна была победа. Любой ценой. Иначе… здесь опять будет царство солдат. Мертвый Барс дотягивается из-за порога длинной своей когтистой лапой до сына и вновь портит ей узор. Балле становится тяжелее допустимого, И какова девчонка! Но теперь поздно. Сан Лагэн никогда не играл в ее игры; кажется, он вообще не понимает, в чем суть высоких игр Дворца. Барс понимал. Уггал Карн понимает. Аннитум начинает понимать, но пока еще слаба и пусть-ка побудет в отдалении от столицы. Для гармонии мыслей и дел так полезнее. Сан Лагэн! Разрушитель тонкости. Сегодня не будет ни победителей, ни побежденных. Так всегда случается, когда старик лезет в игру.
Бал-Гаммаст:
– Но почему? – и, выпалив, сейчас же спохватывается: прозвучало так по-мальчишески!
– Я был его учителем… То есть… я старался быть небесполезным учителем для Балле. Ярость… конечно же, способна затмить ясное разумение. Даже Бал-Адэн Великий, гневаясь, мог совершить деяния, о которых потом сожалел. Никто не защищен от угнетающей власти гнева… поэтому… прошу вас! простите меня и моего ученика, позабывшего давние уроки. Балле… позволишь ли ты мне напомнить…
– Давай же!
– …напомнить о предназначении великого города Баб-Аллона?
Бал-Гаммаст угрюмо махнул рукой, мол, да, напоминай, к чему так тянуть?
– Как и все лучшее в Царстве, Баб-Аллон ровно наполовину плод человеческого труда, а в остальном – дар Господа. Равный дар для всех, кто пожелает здесь жить. И для коренного народа алларуадцев, и для вольнолюбивых людей Полдневного края, и для дерзких кочевников, и для искусных мастеров из Элама, и для неутомимых суммэрк, и для любого диковинного народа, если его люди захотят поискать счастья в столице Царства…
Сан Лагэн закашлялся. Он кашлял долго, по-старчески некрасиво, тряс белой клочковатой бородой, всхлипывал, прикрывал рот морщинистой ладонью… Но никто не осмелился его перебить.
– Да, Балле… извини меня… Так вот… кто бы к нам ни пришел, ему даровано право спокойно жить тут, искать занятие по душе, заводить семью. Ему не следует идти против Творца и Храма, нарушать царские законы, причинять убытки и неудобства соседям… в остальном же он волен. Понравится лепить горшки – хорошо. Захочет службы копья – ему не закрыта дорога. Пожелает стать шарт – и это не запрещено. Даже самому чудаковатому и ленивому человеку здесь найдется дело во славу Творца и на пользу государю… Балле… за право жить в Баб-Аллоне никто не требует учтивости, единомыслия и единоверия. Без них в Царстве невозможно обрести власть… да… это так… но жить на земле царей разрешено и без них. Так за что… Балле… ты изгоняешь певунью? Она неучтива и верует не как мы… но ничем не нарушила закон, не возносила хулу ни на Храм, ни на Творца, никому не принесла убытка… Это особенный город… Балле… мы все здесь обязаны Богу милосердием. Нам всем следует верить, любить и прощать. Больше… чем где бы то ни было еще. К чему множить напрасную боль? Мир и без того неласков…
Сан Лагэн говорил медленно. Одышка то и дело заставляла его прерываться. В последние месяцы он одряхлел и словно бы уменьшился, ссохся. Только легкость маленького тела позволяла ослабевшим ногам первосвященника исправно таскать своего хозяина, поднимать его плоть на высоких дворцовых лестницах, не отказывать ему на долгих богослужениях… Все это так. Но сегодня в его голосе слышалось эхо тех далеких дней, когда Царство было молодым раем на земле, небо касалось верхушек холмов, роса наполняла траву радугами, хлеб сам просился в руки; в ту пору мало кто осмеливался грозить Баб-Аллону оружием, а тот, кто все-таки осмелился, потом долго жалел… Вроде бы что изменилось, что ушло? Аи нет, на всем лежит печать оскудения. Как будто хватает и радости, и красоты, и достатка. Хватает… да. Хватает в обрез того, чему раньше не вели счета. Зато страх умножился, а с ним – печаль и слабость. Как странно Сан Лагэн, отсчитывавший последние глотки усталой мэ, источал юность рая. Князь Смерть и князь Рождение во всем сиянии своей непобедимой мощи встали у него за спиной, напоминая о том, чего никто из присутствующих не знал и не видел, но каждый чудесным образом вспомнил.
Воистину, рассматривая таблицу с назначенным сроком, люди приближаются к тайне собственного начала…
Первосвященник был прав. Большая ошибка – со зла уронить то, во что веришь абсолютно, то, что является частью тебя самого. Бал-Гаммаста переполняла досада. Но перед стариком ему нетрудно было смириться. Вокруг Творца обвивалась воля молодого государя. Даже отец значил меньше… Обрушить стержень – значит пасть вместе с ним. Невозможно. Юный царь молча опустился на колени и прижался лбом к пальцам Сан Лагэна, так, словно это были пальцы его небесного отца.
…В первый миг Бал-Гаммасту показалось, будто перед его глазами сверкнул клинок. Нет. Не свет. Звук. Короткий громкий смешок, на полпути между кашлем и чихом.
Бал-Гаммаст вскочил стремительнее зверя, поднятого охотниками с потаенной лежки. Повернулся. Ну, кто? И встретился взглядом с певуньей. Не более двух ударов сердца он видел, как ворочается нечто хаотичное, пятнистое и очень недоброе в глубине ее глаз. Два маленьких злых зверя поселились по обе стороны от изящной девичьей переносицы… Шаг стоял перед певуньей на коленях и терся щекой о ее бедро, улыбаясь наподобие слабоумного в бодром настроении. Лусипа плавными движениями поглаживала шевелюру слуга, ловкими пальчиками заплетала волосы в колечки… Только что не завязывала узелки.
Несомненно, это Шаг издал смешок, и каждый на сидящих в комнате знал – кто. Но все молчали. Творец ведает, какие у кого были на то причины… Молчали все. Лусипа даже не пыталась сделать вид, будто сейчас она выговорит слуге за его дерзость или тем более накажет его.
Вдруг сестрица Аннатум прыснула в кулак, точь-в-точь как девчонка. И тогда молодой царь почувствовал облегчение. Волна клокочущего гнева неотвратимо поднималась в нем. Он уже не мог ни задержать ее, ни справиться с ней. Дальше надо всеми его словами и действиями волен только Бог…
– Ты! – заорал Бал-Гаммаст на певунью. – Вон отсюда!
Лусипа не двинулась с места и лишь скосила глаза в сторону царицы.
– Не слышала? Убирайся! Немедленно! Шевелись!
Раздался медовый голос Той, что во дворце:
– Это недостойно, Бал-Гаммаст. Я хочу, чтобы ты извинился.
– Да, Балле, выходит как-то нехорошо… шумно… – Это Апасуд.
– Госпожа моя и мать! Отец мертв. И все государи нашего рода мертвы. Им не защитить себя от… от… от такого! Почему я оберегаю нашу честь, а ты… потакаешь… этим!
Сладчайший мед:
– Сейчас же, Балле.
– Нет. – Сейчас же, мой мальчик.
– Нет!
– Мне не хочется настаивать, но тебе придется это сделать.
– Я государь баб-аллонский, и я не желаю их видеть!
Мелко захихикала Аннитум:
– О, мой великолепный братец! Ты так на них… на нее смотришь… Хочешь побить или… Или? Если желаешь подраться, могу предложить тебе, скажем… себя.
Эти слова начисто выбрали последний запас остойчивости. Молодой царь ответил не задумываясь:
– Дура! Да я убью тебя.
Щеки Аннитум окрасились багровым румянцем. Не давая сестре ответить, Бал-Гаммаст бросил царице:
– Нет! Нет, мама. По-твоему не выйдет!
Туман застилал ему глаза. Он боялся ударить кого-нибудь.
Бал-Гаммаст не помнил, как выскочил из зала, пронесся по длинным коридорам и очутился в своей комнате, на высоком ложе с резной деревянной спинкой, укрытом шерстяными коврами в несколько слоев.
Будь ему десять солнечных кругов, он бы позволил себе заплакать. Будь ему двенадцать, он бы закричал. Так бывало: он уходил куда-нибудь подальше от людей и кричал, пока ярость не отступала сам собой. В худшем случае, вопил прямо на людях: мэ царского сына дает кое-какие привилегии. Это случалось редко, Трижды на протяжении солнечного круга… или, возможно, четырежды… Но Бал-Гаммаст не помнил, чтобы отец хоть раз помог себе криком, а значит, и ему не следует. Разрешенное наследнику государя оказалось запретным для государя.
Бал-Гаммаст умел кое-что… Например, не бояться того, чего не испугается взрослый мужчина. Не заниматься тем, к чему нет способностей. В таких случаях надо отыскать человека, который это умеет. Он даже научился вести в голове человеческий реестр; тот хорош, когда следует толковать закон, тот пригодится, чтобы добиться необходимого от матери или от брата, а этот – незаменим в хорошей драке. Энси маленького городка Шуруппака, по имени то ли Масталан, то ли Месилим, лучше справляется с делами, чем иные лугали. А самый искусный из эбихов – Уггал Карн… Агулан баб-аллонских тамкаров считает серебро и хлеб много хуже некоего Хааласэна Тарта из Барсиппы, ибо агулан стар, слишком стар, и ясный рассудок его постепенно отступает под натиском порченой памяти… Бал-Гаммаст умел ждать, терпеть боль, легко сходиться с людьми. Еще у него на диво получалось угадывать ложь, отделять преднамеренный обман от легкости в мыслях и словах и даже скрывать это свое слишком взрослое умение.
Но к одной вещи, кажется, ему не суждено приучить себя никогда. Куда девать гнев, когда он комом стоит в горле, когда мир становится мал – чуть больше лица обидчика, когда лучшее из возможного – ударить? Но ударить нельзя. И нельзя заплакать. И закричать тоже – нельзя. Так куда же? Время… это что-то вроде сосуда с очень узким горлышком. Вино ярости едва капает оттуда!
Что делать с пламенем, которое разожгли внутри тебя, и оно рвется наружу, а тебе не следует выпускать его? Что? Что?!
Внутренний огонь сжигал его.
Он проиграл сегодня. Проиграл, как слабое войско, уступающее под ударами более сильного одну позицию за другой. Когда воины падают, и строй копейщиков, редея, все еще держит удар, но пятится, пятится, пятится… Ему следовало умнее напасть, но он не смог. Тогда он должен был иначе ответить, тоньше, серьезнее, но и тут был бит. Верные слова пришли к Бал-Гаммасту в голову только сейчас. Так просто было выговорить их, и так нелепо звучало то, что он выпалил матери в лицо! На худой конец, оставалось сохранять спокойный вид и не выдавать своего волнения… Надо же уметь так ловко сделать прямо противоположное! Зачем он вцепился в сестру? Да, ему ничего не стоит отправить ее в короткий сон одним ударом кулака, его крепко учили; но зачем делать врага из женщины родной крови? Плохо было все.
Бал-Гаммаст вертелся на ложе. Попытался молиться. Покой не шел к нему. Он сжал кулаки, напряг мышцы живота, закусил губу. К утру он будет – как всегда. Чего бы это ни стоило, он будет вроде города в мирное время: сплошь нетревожная суета. Во всяком случае, любой, кто заговорит с ним, будет видеть перед собой улыбающегося человека. Ничем не обеспокоенною. Он всегда убивал гнев. Но только нужно время, а у времени очень узкое горлышко…
Пробовал ли кто-нибудь заставить взбесившегося онагра – улыбаться? И жив ли он? Тот, кто попробовал…
Бал-Гаммаст чувствовал целое стадо взбесившихся онагров в собственной груди, между ребер. И еще парочку – в голове. Между ушей.
Наконец судорога свела ему ногу. Так. Бал-Гаммаст попытался расслабить лодыжку. Не выходит. Так. Сесть. Наклониться. Лицом в колени. Все равно не выходит. Так. Он взялся за стопу и потянул на себя… на себя… на-себя-на-себя-на-себя… Готово.
Напряжение разом отступило. Боль, покидая мышцу, колыхалась мерной зыбью.
И вместе с болью мэ Бал-Гаммаста ушел гнев. Весь, до последней капли. Буйные онагры опустили морды в траву.
– Хорошо.
Юный царь вздрогнул. Тощий силуэт Уггала Карна у входа в комнату.
– Боюсь, ты не проявил сегодня особенного ума.
– Я знаю.
– Ты знаешь, мой мальчик, иногда взбесившийся бык…
– Онагр.
– Что?
– Скорее взбесившийся онагр, Уггал. Сухой короткий хохоток.
– И все-таки царь Донат гордился бы тобой, мой мальчик.
Эбиху черных было наплевать на то, что он разговаривает с государем баб-аллонским. В темноте не отличишь царя от мальчишки… Поблизости никого.
– Нет. Я был сегодня вроде лука, который стреляет в обратную сторону. В лучника.
– Вроде дубины.
– Что?
– Скорее вроде дубины, которой хотят заменить лук…
Теперь рассмеялся Бал-Гаммаст.
– Ты смог проявить твердость. Хотя бы твердость. Донату нравились люди, которые смеют проявлять твердость.
– Что-то не так, Уггал. Я не могу сказать что, но чувствую: что-то не так. При отце было иначе. Я читал исторический канон царя Бал-Адэна Великого. Он предостерегал от царства женщин. «Слишком много легкости, слишком много наслаждений, слишком много изящества, предназначенного для чужих глаз. А в делах правления пустое изящество слывет лучшим проводником к землям глупости». Моя мать…
– …ни в чем не виновата, мой мальчик. Женщины – благо, посланное нам Творцом. Только благо, хотя и неверное. Лиллу была твоему отцу лучшей опорой. Государь не беспокоился, оставляя на нее Баб-Аллон и Лазурный дворец. Просто… ей захотелось отдохнуть. Лиллу мечтала дотерпеть, покуда царь Донат состарится и отдаст войско эбихам, а потом ей будет в самый раз проститься с заботами: муж рядом, дети рядом, дом устроен, ладонь прилегла ни ладонь, уши открыты для чудесного пения, для флейт и гонгов, а глаза ищут усладу в стихах царицы Гарад… Теперь так жить невозможно. Царство раскачивается. Но у матери нашей царицы больше нет сил, и она бредет по знакам своей мэ странным обычаем: будто Донат еще жив и с нею. Я не смею судить ее. И тебе не следует, мой мальчик.
Ни один из светильников не горел. В такой темени невозможно было различить выражение лица эбиха. Но Бал-Гаммаст почувствовал: он улыбается.
– А царь Бал-Адэн Великий… был очень умным человеком, но ему страшно не повезло с женой.
– Я слышу тебя.
– Дело не в глупости. Глупость губит редко. Убивает чаще всего слабость. Сильному легче быть мудрецом. А мы, увы, слабы. Ты должен знать, царь Балле: мы слабее, чем когда-либо. Так не было даже при Черных Щитах. За семь солнечных кругов две большие войны и две великие смуты…
– Баб-Аллону хватило сил с ними справиться! Мы еще не потеряли отваги.
– Хорошо, что ты так думаешь. Так должно думать. На самом деле… На самом деле… гений Доната, необыкновенное везение и благосклонность Творца – только это и спасало нас до сих пор.
Оба замолчали надолго. Потом Бал-Гаммаст не выдержал:
– Скажи мне одно, Уггал! Скажи: вот она, эта певунья, все несла, какие славные и великие люди – суммэрк. Неужели правда? Неужели, Уггал? Я не верю, эбих. Я не вижу в них величия. Только упорство, силу и суету. Или мне не следует… не следовало чего-то знать о них? А, Уггал? Скажи мне.
– Нет, Балле. Ничего высокого не случилось в мэ народа суммэрк. А певунья сама из суммэрк, как же ей петь иначе? Но мы и здесь проявляем слабость. Отчего даже тебя, царя баб-аллонского, беспокоят ее слова? Всего лишь слова, и ничего сверх этого?
– Не знаю. Что-то беспокоит.
– Донат дал мне, езде молодому, секретный канон «Об управлении Царством». Написано при Гарад. Там в подробностях рассказывается, чем были суммэрк, когда мы впервые встретились с ними семь с лишком сотен солнечных кругов назад. Балле! Они жали ячмень серпами из глины с кремневыми зубами. Сражались копьями с костяным наконечником. Плавали на тростниковых кораблях и совсем не знали письма. Медными вещами пользовался один из сотни суммэрк. Жалкий народ, бедный, всеми битый, жил в Стране моря, на самых болотах, и едва успевал насыпать холмы и дамбы, чтобы спастись от потопа… Так-то, Балле.
– А… Гурсар-Эанатум? Владыка Эреду, герой?
– Их столица, мой мальчик, «добрый город Эреду», – нищее селение. Тогда было еще и похуже, чем сейчас. Стены в два тростника высотой, дома не выше одного этажа. Большому кораблю ни за что не подойти к тамошней гавани из-за топей, мелей, болот. Речное русло в сторону ушло. Там все занесло илом. Балле, сейчас-то, пожалуй, почище будет… Царство для них стало избавлением. В ту пору они только и могли выжить, придя под руку царя баб-аллонского. Правды здесь не много. Эреду – очень древний город, это правда. Он древнее самих суммэрк и был когда-то блистательной столицей великого народа, неведомо как сгинувшего… Там новые ветхие храмы стоят на древних могучих, там живая бедность уселась на мертвое богатство, Суммэрк низвели Эреду, а не прославили его.
– Я благодарен тебе, Уггал. Эбих, не добавив ни слова, ушел.
Едва затихли его шаги, у ложа Бал-Гаммаста оказалась Аннитум. Как будто стража сменилась у городских ворот. С ленивой грацией сестра сложила руки на груди. Покачала головой.
– Пожалуй, тебе не повезло, братец. Творец свидетель, Балле, я удивлена. Никогда не думала, что стану дарить тебе украшения… А вот придется. Вообще, карапуз – сам по себе отличное украшение… для высокого кресла царей баб-аллонских. Но карапуз, которому подарен разбитый нос и пара светильников под очами, это украшение вдвойне. Давай-ка прямо завтра, во время полуденного отдыха. Как в старые добрые времена. Помнишь, братец? Конечно, помнишь, такое трудно забыть. Можно устроить так, чтобы вас никто не видел. В конце концов, я…
– Нет, Аннитум. Этого не будет.
– Но почему? – Сестра отлично знала, насколько брат ее не боится.
– Прости меня.
Творец знает, как она удивилась. Ужели это ее туповатый и бесстрашный братец Балле сейчас лежит перед ней? Может, шутит? Не-ет. Определенно, не шутит. Потом она поняла, до чего ей самой не хотелось этой драки. С кем угодно, мужчиной или женщиной, любым оружием или без него, в любое время и в любом месте! Она готова. Но бешеный онагр Балле – все-таки ее любимчик… Аннитум наклонилась и поцеловала его в лоб. А потом взъерошила волосы. Тоже – как в старые добрые времена. Больше ей нечего было здесь делать.
Князь Сон долго не желал обратить милостивый взгляд на ложе Бал-Гаммаста. Тот не торопясь отделял добрые колосья от сорняков.
…Уггал Карт. Воплощение силы Царства. Его волей вершатся дела страны Алларуад, и так будет еще долго. Сильный человек пришел к нему, царю, хоть я венчанному, зато избавленному до совершеннолетия от действительной власти. Пришел и даровал знание, живущее на его высоте. Это очень важно. Еще важнее, быть может, примирение с Аннитум, Но полезнее всего урок, который преподало Бал-Гаммасту собственное тело. Боль! Вот что нужно. Боль гасит ярость. Запомнить.
И еще одно: от хрупкой девушки по имени Лусипа исходило ощущение неясной угрозы. И от ее слуги – тоже. Что бы там ни говорил Уггал Карн…
Запомнить.
* * *
Утром следующего дня Совет Дворца и Храма уподобился ладони с пятью растопыренными пальцами. Каждый палец занимался своим делом. Один упрямо стоял столбом, другой трепетал, как трава на ветру, третий выводил в воздухе непонятные знаки… Пальцы оказались сами по себе и утратили способность сжиматься в кулак. Во всяком случае, на время.
Царь Апасуд на весь день уединился в своих покоях. Он чувствовал себя больным, ни на что не годным, всеми брошенным.
Бал-Гаммаст пришел в храм, молился и просил Творца избавить его от гнета ярости. Попросил Сана Лагэна сходить к брату и утешить его. А потом обратился к первосвященнику с вопросом: каков истинный смысл одинокого пути государя по Царской дороге от Ворот кожевников до Лазурного дворца?
Аннитум собрала три сотни воинственных девушек, свою гвардию, и занялась с ними солдатскими упражнениями. Бег, рукопашный бой, работа с длинным копьем…
Царица Лиллу и эбих Уггал Карн, каждый, занимаясь своими делами, рассчитывали, какие завитки необходимы для узора власти… Оба твердо знали: кое-что должно измениться.
Царица перечитывала канон «О власти гармонии», собственноручно написанный государыней Маммат, которая правила Царством в течение двух солнечных кругов. Тогда было смутное время. Монархи сменяли друг друга на престоле с неестественной быстротой. «…Ничто не должно быть избыточным. В суде не следует проявлять чрезмерной строгости, но и чрезмерное милосердие неприлично. Пристрастие к сухому следованию законам губит их смысл, но вольное толкование может разрушить веру в твердость власти. Никому из главнейших людей Дворца нельзя позволять единолично вершить дела в какой-либо области управления. Доверие уместно оказывать опытным чиновникам и полководцам, коим ушедшие солнечные круги ниспослали освобождение от страстей. Царю баб-аллонскому приличествует уважение к Храму, но не слепое подчинение ему. Не стоит спешить с нововведениями, но дурно выказывать пристрастие к старинным обычаям: это может оттолкнуть молодых людей. Правителю опасно приближать военных к вершине государственных дел, но надо всегда с уважением относиться к их мужеству. Соразмерность всего свидетельствует о благополучии. Стремление к гармонии дарует правильное отношение к собственной власти, а умение держать баланс между всем и всеми – многократно ее укрепляет. Царство следует содержать как хороший сад, где все ухожено, обеспечено водой, а если надо – вовремя подстрижено…» Лиллу вздохнула. Ее наполняло чувство глубокого согласия с Маммат и сопричастности к истине». Маммат прославилась как мудрый судья. Но ей не везло. Две проигранные войны сократили территорию Царства почти на треть. Маммат пришлось отдать престол Донату I Строителю. Тот был искусным государем, нельзя отрицать… Но Лиллу не покидала досада: жестокий случай оборвал правление Маммат, и какие возможности утрачены! Возможно, сейчас пришло время кое-что вспомнить. Итак… Сан Лагэн. Не трогать. Старик очень тяжёл. Тяжелее, чем кажется. Апасуд. Ее верная опора. Мальчик понимает, что такое осторожная мудрость… И не мешает правильному течению событий. Правильно было бы женить его… и чем Лусипа не супруга? Кое-кто из государей баб-аллонских не брезговал простолюдинками. Надо сознаться, и для нее самой певунья притягательна… почти так же, как Барс когда-то. Пусть побудет здесь. Аннитум. Плохо. Рвется к важным делам. Хочет оставить свой отпечаток на узоре, но ничего не умеет. Сильная девочка, любимая девочка… Под контролем держать ее не удастся, во всяком случае вечно. Да и трудно с ней… Отослать подальше. Что там в краю Полночи у Асага?..
Тем временем Аннитум любовалась своими девочками. Настоящие бойцы. Когда-нибудь они ей пригодятся. Если не здесь, в Лазурном дворце, то хотя бы в Баб-Алларуаде. Ведь это ее законная доля! По слову отца. Он бы порадовался, видя ее занятия, ее бодрость и ее силу… Почему упрямые реддэм не хотят состязаться с женщинами из гвардии? И черные – тоже. Приходится звать обычных солдат из столичного гарнизона. Иначе нельзя. Когда-нибудь девочкам придется сражаться против воинов-мужчин, им следует привыкать Сегодня Аннитум сама должна была драться на виду у всех. К ней подвели невысокого кряжистого десятника Он был обнажен по пояс, ниже – штаны и сапоги для верховой езды. Она… одета точно так же. Не побоялась. На лице у десятника пылал вызов. Наглый вызов уверенного в себе поединщика. Ему приказано – не щадить. Ну что же, Аннитум любит серьезных противников. И ставить им колено на грудь – тоже любит. Посмотрим, кто кого. Кулаки против кулаков. Она нанесла первый удар.
Сан Лагэн ответил царю уклончиво:
– У Царской дороги множество смыслов. Один из них принадлежат Дворцу. Другой – великому городу. Третий – Храму.
– Творцу, отец мой первосвященник.
– Творец и Храм неотделимы друг от друга. Иначе само существование Храма стало бы никчемным.
– Разве я спорю? Просто мне приятно принимать что-либо из рук самого Бога.
Сан Лагэн мягко улыбнулся:
– Хорошо, Балле. Третий смысл Царской дороги очень прост. Ты отдаешь себя в Его волю. Ты ведь веришь в Его любовь? Значит, Он позаботится о тебе лучше любой охраны и не даст причинить вред. Если царь не верит в это… ну… даже не знаю… у него, наверное, что-то очень не так в жизни иди в мыслях… что-то совсем не той стороной легло. Ты понимаешь? Ты сам – веришь?
– Не знаю. Отец мой… я, видишь ли… никогда не мог понять: как это – верить или не верить? Я Его просто люблю.
…Десятник и царская дочь не стали тратить времени на разведку. Оба начали бить сразу в полную силу. И оба предпочли ближний бой. Страшный, калечащий и безжалостный ближний бой. Скоро их лица были в крови. Капли разлетались во все стороны. Тысячелетняя кровь царей смешалась с безродной краснухой простого солдата. Десятник не постеснялся ударить ее в грудь. Она справилась с болью. Аннитум не постеснялась ударить его между ног. Он тоже преодолел боль. Такой вид драки не предполагает долгого состязания. Обе стороны выдыхаются быстро. Весь вопрос в том, кто – первым, Аннитум и десятник начали выдыхаться почти одновременно. Тогда она изловчилась и ударила его в носовой хрящ, сбоку. Боец взвыл, как раненое животное, и закрыл лицо руками. Тогда Аннитум молниеносной подножкой сбила его с ног и захватила горло. Так, чтобы дышать ему было очень трудно.
– Ну!
– Пощади, царевна и мать… Она разжала захват.
– …Существует еще один смысл, четвертый. Он принадлежит лично тебе. И когда-нибудь, Балле, ты его непременно отыщешь.
– Я услышал тебя.
…Царица Лиллу уверилась в своем решении. Аннитум надо убирать подальше. Бал-Гаммаст? Тут она не понимала. Да. От любимого сына Барса следовало ожидать чего-нибудь в подобном роде. Но это уж слишком! Балле стоило бы держать под рукой. Иначе он непременно наворочает дел… потом не разберешься. И может стать самостоятельной силой, если чутье не обманывает ее. Пожалуй… не отпускать. Что там насчет Урука завещал Донат? Гармония требует иного. Здесь, в Лазурном дворце, она сумеет утрамбовать его как следует. Благо самого Балле и всего государства предполагает долгое воспитание сорванца…
Но узор в тот день рисовала не одна царица Лиллу. Эбих черных просматривал таблички, присланные Упрямцем, Дуганом и Уггал-Банадом из края Полдня, далеко еще не замиренного. Он обдумал вчерашнее столкновение и пришел к выводу: «Надо убирать мальчика из столицы. Как можно раньше. Лиллу раздавит его из лучших побуждений. А он – наша последняя надежда…»
* * *
Паводок великой и бешеной нравом реки Еввав-Рат недавно закончился. Вода еще стояла высоко в канале Агадирт, и в великой реке Тиххутри, и в небольших каналах, и в канавах на полях земледельцев, и в искусственных прудах, и в болотцах. На глинистых всхолмьях, куда не добирались ни плуг, ни лоза, не пересыхали глубокие лужи. Край Полночи в стране Алларуад наполнился сырыми ветрами. Луна редко показывалась из-за туч.
Эбих Асаг, лугаль Баб-Алларуада, главного оплота Царства в краю Полночи, лежал голышом под пологом, защищающем от комаров. Сон не шел к нему. Два дня назад он прибыл из подчиненной ему Барсиппы, где наводил порядок после разгрома, учиненного там мятежниками несколько месяцев назад. Раны в стенах были заделаны, гарнизон бунтовщиков, сдавшийся после непродолжительного сопротивления, строил дома, восстанавливал дамбы и рыл колодцы. Город недавно присягнул на верность государям Апасуду и Бал-Гаммасту… Ниоткуда не приходило тревожных известий. Молчали лазутчики. Тамкары, вернувшиеся из полночных земель за каналом, не увидели там ничего угрожающего. Дозоры из Эшнунны, уходившие далеко в степь и предгорья, возвращались, не найдя вражеских отрядов…
Тем не менее 1-го дня месяца тасэрта эбих Асаг, повинуясь странному беспокойству, покинул богатый и веселый город Барсиппу ради строгой и унылой крепости Баб-Алларуад. Что поделаешь, в этой земле солдат всегда был главнее торговца.
Военное место. Здесь на трех мужчин не более одной женщины, и от этого бабье несговорчиво. Не то что в столице или в той же Барсиппе… Сегодня эбиха отвергла Аттам, дочь агулана водоносов. Да и Творец с нею. Беда невелика.
Беспокойство не оставляло Асага и здесь. Он не притрагивался к вину вот уже седмицу, с самой Барсиппы. Усилил стражу на стенах. Велел закрывать ворота в форте на переправе полустражей раньше обычного. Вчера вышел с конным отрядом за канал и разведал местность к Заходу от переправы… никаких следов неприятельского войска. На Восход по каналу – к реке Тиххутри – отправил на трех лодках сотника черной пехоты Маггата с солдатами. Тревога постепенно усиливалась, будто больной зуб просился вон из десны и дергал все настойчивее. Эбих осмотрел древние стены, хотя их и ремонтировали всего солнечный круг назад. Только говорят, что Баб-Алларуад построили еще при царе Уггал-Банаде I. Конечно, с тех пор эту твердыню враг ни разу не подчинял под свою руку. Ни штурмом, ни осадой, ни хитростью. В пророчестве сказано: «Будет Царство стоять несокрушимо, пока не пали ворота Царства…», то есть Баб-Алларуад, ибо это имя означает как раз «Ворота земли Алларуад». Сюда Младший народ пришел во времена Исхода. Здесь вырыт был первый канал Царства… Не важно. От Уггал-Банада I, по прозвищу Львиная Грива, в стенах крепости не осталось ни одного кирпича. Ее дважды разрушали, хотя само место оставалось за Царством, и неприятель не мог выбить его защитников из руин. Потом дважды восстанавливали. Несчетное количество раз ремонтировали. Говорят, Кан II Хитрец, сто солнечных кругов назад истративший прорву серебра на новый форт, пошутил: «Не знаю более высокооплачиваемого пророчества…»
У Асага под началом числилось пятьсот солдат пехоты ночи, еще тысяча лучников и копейщиков царской службы, неполная сотня конников, а также сотня гурушей, охранявших порядок в городе я ближайших селениях открытой земли. Если поставить на стены ополчение горожан, привычных к военным грозам, он получит еще тысячу или две.
Этого достаточно для хорошего боя. И офицеры у него вполне надежные. Ветераны, за каждым по доброму десятку походов и более того. Прежнее царствование выдалось щедрым на битвы, как бывает иной солнечный круг щедрым на дожди, на хлеб, на урожай гранатов или на саранчу…
И все-таки эбих никак не мог успокоиться. Так случалось с ним раньше, и всякий раз – не зря. В отблесках огня и в шуме ветра, в плеске рыбы на прудах и в едва различимом шепоте травы ему чудилась надвигающаяся угроза.
Иной раз, когда подступало к нему такое, эбих сам себе казался львом, бредущим в высокой траве; звуки и запахи несут ему не понятное для человека слово о пище и опасностях; невнятный каприз подталкивает его пойти в одну сторону, а не в другую; страх перед тем, кто сильнее и может оказаться за первым же поворотом, мешается с желанием убить и уверенностью в собственной мощи; ноздри нервно втягивают илистое зловоние приречных зарослей; лапы сами собой выбирают то место, где под ними ничто не треснет и не зашуршит. Рат Дуган говорил ему на это раз и другой: «Не понимаю. Я должен знать наверняка. Иначе не умею». Лан Упрямец помолчал-помолчал и сказал вот что: «Ты, друг любезный, заполучил от Господа полезную вещь. У меня ее нет. Н-да. Но иногда мне достаточно взглянуть на человека, послушать, как он говорит на протяжении сотни ударов сердца, и я буду знать, где он надежен, а в чем слаб, какая в нем сила, куда его отправлять с поручением не стоит и куда – стоит. Меня всегда интересовало, Асаг, кем взять дело и как это совершить, а тебя – кто ударит первым и откуда, потом – будь что будет. Должно быть, Творец увешивает мэ эбиха странными игрушками… Я верю тебе. Ты и впрямь похож на дикого кота. Если б можно было поставить нас троих командовать армией в одном сражении, мы были бы непобедимы. Ты разведал бы все как надо и выиграл первую сшибку. Я бы добился преимущества в середине. Рассчитал бы, как добиться. Ну а Топор закончил бы дело в нашу пользу, потому что он из нас троих – самый упорный и неуступчивый…» Про Уггала Карна тогда не задалась беседа. Тот стоил их троих, вместе взятых. Не самое большое удовольствие – говорить об этом вслух…
Сегодня днем Асаг молился в храме. А потом преподнес городскому первосвященнику в дар для Дома Творца расписную алебастровую вазу и костяной ковш с тонкой резьбой. Дал бы что-нибудь подороже, но не та у него была натура, чтобы копить серебро, барахло, скот. Ценные вещи не задерживались у Асага. Любил коней и женщин. Но и с конями, и с женщинами как-то выходило, что сами они оказывались во владении эбиха и сами же куда-то девались. Любил еще войну. И это единственное, чего было у него за тридцать семь солнечных кругов хоть отбавляй.
Асаг слышал, будто существуют люди, которым доступно иное зрение. Некоторые чуть ли не за день чувствуют бурю и грозу. Другим доступно слово Творца, и их после смерти называют святыми. Третьи за двадцать шагов узнают мага или слугу Падшего – хоть бы и принял он человеческое обличье… Никогда прежде Асаг не видел такой военной бури, какая надвигалась на него сейчас. Какой-нибудь набег сотни-другой кочевников, обычное дело для этих мест, ничуть не потревожил бы его. Нет, он чувствовал иное. Как будто целых три достопамятных битвы на поле под Кишем должны были явиться одна за другой. И первая из них выйдет самой малой…
Сон не шел.
Асаг оделся и отправился в Приречный форт. Хоть и был форт поставлен не у настоящей реки, а у рукотворной, местные жители упорно именовали его Приречным. Да и то правда. Канал Агадирт давно не чистили, он зарос, развелись в нем тьмочисленные горластые лягушки, плавали по нему рыбацкие плоты – словом, река и река… Там, на втором этаже воротной башни, должен был бодрствовать старший офицер крепостного караула и одна смена караульных. Вторая стоит на стенах, а третья и четвертая – спят. Обычно караул выставляют в три смены, но Асаг распорядился о четвертой. Солдаты будут больше спать, меньше устанут, а значит, не столь многие заснут, прислонившись к зубцу… Лишь бы не упустили то, чего нельзя упустит Сегодня за охрану крепости Баб-Алларуад отвечал сотник Дорт… Эбих по узенькой витой лестнице поднялся наверх. Караульный, как и положено, не пропустил его внутрь, кликнул сотника. Ни царь, ни эбих и никто иной, кроме караульного офицера, не властен над солдатом, который стоит на посту. Разве только сам Творец…
Невидимый больной зуб неожиданно напомнил о себе, как никогда прежде: глубокая черная тоска вмиг сменила прежнюю тревогу. Будто сумерки пали, и воцарилась полночь… Тьма обрела глубину. Господи, какое испытание грядет?
Жаркая, сырая ночь. Тяжело дышать. Стояла тишь, ветры угомонились, и полное безветрие царило над городом. Дорт взглянул на эбиха неприязненно. Настолько неприязненно, насколько позволял его чин. Бледное и неровное пламя светильников едва позволяло разглядеть черные мешки под глазами у сотника. Асаг отметал про себя: самый юный из старших офицеров гарнизона, по молодости попадает в караул через день или через два дня. После того как все закончится, надо бы проделать вторую дырку в заднице тысячника Хегтарта. Бережет дружков своих, стариков, пес…
Дорт доложил ему, так, мол, и так, все тихо, солдат проверяли, на постах не спят.
– Когда проверяли?
– В полночь, отец мой эбих.
– Идем, сотник. Сделаем это еще разок.
Дорт взял было тяжелый каменный светильник, зажег фитилек.
– Не суетись, сотник. Не делай своим солдатам легче.
– Да, отец мой эбих…
В фиолетовой мути, которая становится одеянием ночи на полдороги между полночью и рассветом, огонек лучше медного гонга расскажет об их приближении лучникам, стоящим на постах.
Асаг и Дорт отправились в обход по крепостной стене. Первый из часовых действительно не спал. Всего их должно быть семь в форте и десять в самой крепости. Пошли дальше.
– Сотник, не правда ли, хорошо получить от отца по наследству глину и таблички, а не копье и кожаный доспех с бляшками… Шарт берут от государя столько же земли и серебра, сколько и мы с тобой. Но сейчас все они спят. Что скажешь?
Асаг спиной почувствовал невысказанный ответ офицера: с таким, эбих, дерьмом, как ты, в неурочный час шататься по стенам – и впрямь пожалеешь… Но отец Дорта был, кажется, тысячником, а дети реддэм любят превосходить своих отцов. Этот, наверное, еще в училище мечтал стать эбихом, выбиться в лугали. Ну, на худой конец, в энси. Правильно. Асаг и сам испечен из той же муки. Он бы ответил, мол, шарт хоть и спят спокойно, зато мы спим с их бабами. Бабы нас любят горячее…
– Зато бабы нас больше любят, отец мой эбих!
– Молодец, сотник. Порадовал дурака-начальника. Я бы не явился к тебе сегодня, если бы, говенная дырка, не ждал, неприятностей. А больше всего бабы любят пехоту ночи. Это уж ты запомни твердо.
…Второй тоже не спал. Дорт неожиданно спросил:
– Не знаешь ли, отец мой эбих, кто и за что прозвал их пехотой ночи? Они лучше бьются под луной, чем под солнцем?
– Под собачьей задницей, сотник. Им все равно, когда биться, в какой сезон, на земле или на воде, против людей или против слуг Падшего. Да им хоть трупы заново резать. Уж тем более не важно, днем они, вечером, утром или ночью исполняют службу копья.
– Тогда – почему, отец мой эбих?
Лучше бы ты спросил, офицер, какие неприятности сулит нам сегодня мэ. Для дела полезнее. Или о бабах спросил бы, чем так нравятся им черные пехотинцы, Асаг хотел было послать его за болотной лихорадкой, но раздумал. Сколько парню солнечных кругов? Двадцать? Двадцать два? Реддэм служат с пятнадцати. И здесь, в Баб-Алларуаде, на полночном валу, он уже видел и кровь, и смерть, и сам дрался… Говорят, как надо дрался. Наверное, бывало, раза по три-четыре за солнечный круг. Такое неспокойное место. А может быть, жопа ослиная, сидел ты, сотник, в глухой осаде на отдаленном форте, в степи, вокруг бесились кочевники, а ты считал пригоршни зерна и молился, чтобы помощь прислали вовремя. А солдаты молились на тебя, потому что ты был там за старшего и ты им всем обещал: будет подмога, обязательно будет. Ты много чего видел, сотник, только красивая и высокая жизнь прошла мимо тебя. Ладно, послушай кое о чем оттуда.
– На всех табличках из Дворца и от его шарт этих называют черной пехотой. Или просто черными. Видел?
– Да, отец мой эбих.
– Пехотой ночи их называют многие, да любой кусок собачьего дерьма в Царстве их так зовет… Но никогда от имени государя не придет сюда приказ, в котором были бы слова «пехота ночи»… Вот же жопа ослиная! Тебе никогда не казалось это странным?
– Не знаю, отец мой эбих.
– Об одной истории мало кто помнит, сотник. Я служил при Донате III, теперь служу при царях-братьях… Те, кто взял копье в один солнечный круг со мной или даже кругами пятью раньше, не знают, не помнят, не ведают… Уггал Карн служил еще при Донате II. Он знает, но говорит: мол, все стали забывать очень быстро. «Не хотели помнить», – этот стручок говорит. Уже в тот солнечный круг, когда от получил чин энси, мало кто знал… Мне самому рассказал Лаг Маддан. А ему, старому волчине, – восемь десятков солнечных кругов. Его рука взялась за копье еще в смутную пору. «Суд Творца над землей Алларуад лишился милосердия. Была гроза и великая неурядица…» – Ну, жопа ослиная, знаешь, как говорят про такие времена. Царь Маддан-Салэн, покуда не добился своего, раза три или четыре чуть было не выкинул свою голову в болото, а другими головами заплатил без счета…
– Не зря его зовут Человек Жестокий, отец мой эбих.
– Люди помнят его жестокость, хотя в исторических канонах, жопа ослиная, его никто так не именует. Человек Жестокий? Никогда. Восстановитель, Маддан-Салэн Восстановитель, и все. В канонах о той истории нет ничего. Даже в дворцовых архивах… Ни единой таблички за вторую седмицу месяца тасэрта в солнечный круг 2444-й от Сотворения мира! За двести солнечных кругов до того – есть! Даже за восемьсот солнечных кругов – и то есть кое-что… Я когда-то полазил там, полазил не хуже камышового кота, но сам не сумел разобраться. В ту пору я уже был эбихом, но архивные шарт все равно не нашли мне ни строчки об этом. Как видно, мало оказалось моего чина, чтобы знать кое-какие секреты… Макнули мордой в дерьмо, крысы. Вежливенько так макнули. Так вот, сотник. Маддан-Салэн – странный человек. Жестокость он проявлял много раз. Спаси Творец нас с тобой от такого. Но он не был злым… злобным царем. Скорее в нем было слишком много доброты.
– Жестокий добряк? Не понимаю, отец мой эбих. Разве такое бывает?
– Может быть, он слишком любил Царство. Послушай, сотник, дела шли худо. Тогда стоял мятеж. Такой же, жопа ослиная, как только что. Но удачи они себе добыли гораздо больше. Началось, как водится, в крае Полдня, гнилое место, все дело замутили суммэрк. Так вот, они вошли в Баб-Аллон. Они взяли весь город, кроме Лазурного дворца и Заречья… Ты бывал в столице?
– Нет, отец мой эбих…
– Великая река Еввав-Рат, эта бешеная канава, делит город на две части. Одна – старая, богатая, она и побольше. Там – Лазурный дворец. Другая, к Заходу от Еввав-Рата, и есть Заречье, она поменьше и победнее. Маддан-Салэн стоял там с последним войском своим, с черной пехотой и другими верными. Со всех сторон его подкусывали вражеские отряды, как голодные шавки, встретившие раненого льва. Переправиться и отбить Старый город Маддан-Салэн не мог. Сил не хватала То ли ему не везло… Его били, били и били. Не знаю, как такое может быть, сотник. Да жопа ослиная! Не вижу причин, чтобы слабый народ взял верх над сильным… Царство лежало с переломанным хребтом и должно было, по всему видно, издохнуть. Вдруг все переменилось. Враз. Наоборот, царь принялся громить всех, и никто не смел противостоять ему. За одну ночь, сразу после того, как Еввав-Рат вошел в берега, черные переправились на другую сторону, дрались до рассвета и более того…
Асаг замолчал. Было тут нечто, неподвластное его пониманию. Нечто, скрытое от него. И эбих, попытавшись когда-то добраться до сути, отступил. Не из-за упрямства архивных шарт. Нет. Его в тот раз тоже посетила особая тревога… Не стоит смертным, хотя бы и тем, у кого тень длинна, выходить за круг дозволенного. Что там произошло шестьдесят четыре солнечных круга назад? Творец знает… Асаг почувствовал тогда, в архиве Дворца, да и сейчас чувствует: его нетерпеливые глаза ждало нечто ослепительное… то ли ослепляющее…
– Отец мой эбих, я знаю: царь возложил руки свои на плечи Полдня и заставил склонить голову народ суммэрк. Так учат…
– Да, так учат… Маддан-Салэн не разрешил черным брать пленных. Они выполнили приказ. А потом два дня весь город считал трупы. Падаль перегораживала улицы. Всего, сотник, одиннадцать тысяч людей суммэрк и людей Полдня. Все, кто не успел удрать, побросав оружие и себя не помня от ужаса… С тех пор черных и зовут «пехота ночи». Той ночи, сотник,
– Одиннадцать тысяч! Целая страна с городами и селениями…
– Зато Царство уцелело. Пало бы оно – и сколько народу перерезали бы тогда? Маддан-Салэн любил землю Алларуад… Откуда-то он раздобыл немного удачи и поторопился использовать ее, вот что я думаю. А откуда… не спрашивай, не знаю. Третий не спал…
– Царство, устояло, сотник. Оно, ослиная жопа, опять устояло. Времена такие были: все падало, все рушилось, все чувствовали себя стариками. Лаг Маддан говорит: моя, я как будто родился старым. Странное, очень странное время было. Как будто смерть подошла к царству, как земледелец к ячменю, навострив серп… Все, сотник, ждали, все почти что знали: скоро погибнет великий город Баб-Аллон и вся страна вместе с нам. Но время обмануло всех, не переломилось…
Они подошли к Сигнальной башне. Внизу – ворота в Приречный форт. Тускло поблескивала черная вода. Часовой должен бы их окликнуть. Пора. Не заметит через пятнадцать шагов – и останется без жалованья за полмесяца, через тридцать – его хорошенько отдерут кожаными ремнями по спине, через полсотни – ему грозит подвал и скудная пища… на месяц примерно, если раньше за ним не было особых нарушений. Эбих сбавил шаг.
– Так вот, сотник. Держава царей баб-аллонских не умерла. Но старой была, а сделалась… какой-то… больной, что ли… как паршивая собака. Или дряхлой. Будто какая-то дрянь точит ее изнутри. Раньше иначе жили. Я читал, как они жили раньше. При Халласэне Грозе – как львы, могучие и бесстрашные. При Дорте V Холодном Ветре – строгие и стойкие, вроде каменных скал. При царице Гарад – словно небесные приближенные Творца, печальные, мудрые, искусные во всем. А теперь? Бьемся как будто в пол-удара, смеемся в полсмеха, веруем в полверы. Это, ослиная жопа, какая-то болезнь… Что?
Дорт успел издать короткий стон и мешком повалился прямо на спину Асагу. Эбих повернулся было, но не смог завершить движение. Чьи-то чудовищные когти прошлись ему прямо по сердцу. Асаг остановился и послал в небо звериный вой. Как будто волк-одиночка, голодный, злой подранок, отставший от своих, где-нибудь на пустошах за Полночным валом, недалеко от малой сторожевой крепостицы, на берегу почти пересохшей речки с мутной солоноватой водой, которую пить не надо бы, умирая, отыскал в разрыве туч свое блистательное божество, услышал его зов и ответил, как умеет… Еще раз, еще и еще. Асаг не волен был шевельнуться. Он боролся, но на его сердце нечеловеческая тоска нежно вырезала магические знаки.
– Гу-у… Гу-у-у… – донесся снизу надрывный крик, Асаг споткнулся обо что-то, упал, колено пронзила боль. Эта боль да еще непрекращающийся крик помогли ему прийти в себя.
– Гу-у-у… – Эбих прислушался.
– Гу-утии!
Под ногами у него – тело часового, то ли спящего, то ли мертвого. Тот, кто останется жив сегодня, завтра разберется. За спиной – тело сотника Стрела? Дротик? Вроде бы нет. Асаг пнул обоих поочередно и побежал к башне. Живы – очнутся. Откуда взять время, ослиная задница, чтобы разбираться с ними?
– Гу-утии! Голос какой-то знакомый, тьма его забери. Ш-ш-ш-ш-ш… – шелест летящих стрел.
Эбих на одни миг выглянул из-за кирпичных ступенек зубца. У самых порот на земле барахталось черное тело, невнятное пятно, не разберешь, что там с ним. Как будто обезумевший медведь вышел к стене форта и катается в грязи.
Крик оборвался.
Мэ царского эбиха стремительна и переменчива. Миновало пять ударов сердца. Асаг потревожил сигнальное било. Четыре раза… остановка… еще четыре раза… общая тревога. Над крепостью поплыл гулкий стон меди. Копейщик, стоявший на посту рядом с билом, зашевелился. Значит, не мертвый, просто сомлел. Есть у Гутиев искусные машмаашу… добраться бы до них да выпустить потроха.
Асаг в ярости закричал:
– А говенной дырки не хотите попробовать? Не прошла ваша уловка!
Тюк-тюк-тюк – заколотили стрелы в кирпич, осыпав эбиха крошкой.
У канала роились человеческие фигуры, как будто насекомые выползали на берег.
– Джелэ-эль! Наги-и! Шарлага-ар! Наги-и! Гап! Гортанные крики чужих командиров резали предутреннюю темень.
Вдруг на берегу канала, на лодках и у самых ворот разом вспыхнули сотни факелов. Если бы вождь гутиев приказал зажечь их, потом его тысячники передали приказ сотникам, а сотники – солдатам, огоньки зажглись бы в разное время, Но нет, в один миг между водой и камнем вырос прямой пламенный клинок…
Асаг не принадлежал к тем людям, которых легко испугать. Прежде многих иных наук мальчиков-реддэм учат не бояться крови и презирать смерть. Служба копья не терпит боязливых. Баб-аллонскому эбиху непозволительны покой, лень и трусость. Во всяком случае, при царе Донате такие не выживали. Асаг время от времени даже бранил себя за то, что пугался позже того момента, когда для дела полезно как следует испугаться. Это чувство в нем притупилось. Но сейчас он пережил смертный ужас длительностью в десять ударов сердца.
Море огня колыхалось и рябило. Но гутии стояли не двигаясь. Даже не пускали стрелы. Они разглядывали крепость, которую им надлежало разрушить, искали глазами на ее стенах защитников, которых следовало уничтожить. Взгляды тысяч людей остановились на эбихе…
Вдалеке, у самых тростников, над толпой факельщиков возвышались две чудовищные фигуры. Ученые люди Царства иногда затевали спор: люди ли гутии? Или, может быть, не совсем… Имелись кое-какие отличия у Старшего народа. Например, все те, кто принадлежал к роду горских царей, вырастали вдвое выше прочих. И там, между приставшими к берегу лодками, стояли, наверное, старое чудище царь Гургал и молодой звереныш, его сын Сарлагаб. Асаг так и подумал: «Звереныш…» Обыкновенные люди остереглись бы зажигать огонь – к чему становиться мишенями? Но этим было все равно. Гибель одного, сотни или тысячи не значит ровным счетом ничего. Сколько знал эбих самого страшного противника Царства – всегда было так. Если командирам Гутиев удобнее отдавать команды при хорошем освещении, они получат достаточно света. Над вражеским войском медленно таяло полотно магии. Асаг не видел его, не умел видеть, но почуял, как собака чует недобрый запах. На него повеяло странным холодком, зябким, пронизывающим. Как от моря… а не от моря людей.
– Наги-и! Джан!
Огненный прилив разом вскипел у ворот. «Рой» обнажил клыки, как будто одно-единственное огромное тело, покорное воле сильного и злого машмаашу, не щадя себя, бросилось вперед – утопить чужой металл в собственной плоти.
Асаг очнулся, услышав стук штурмовых лестниц, приставляемых к стене.
…Бой на стенах Приречного форта длился до утра, а потом, не переставая, еще до самого полудня. И еще, может быть, стражу или полторы. Но Асаг впоследствии сумел вспомнить лишь несколько первых своих приказов. Потом все слилось для него в бесконечную пляску крови и меди. Вот он велит поднимать городское ополчение… Вот по его слову солдаты строят баррикаду за воротами…
Беспокойный ковер из горцев, пошевеливая огнем и железом, медленно полз на стены. Гутии ставили лестницы одну к одной, сплошным рядом, так, чтобы свалить набок можно было только крайние. К воротам подтащили чудовищный таран, выточенный из цельной каменной глыбы. Раскачали его на ременных петлях. Удар! С первого же раза ворота откликнулись глухим скрипучим басом. Асаг знал по десяткам прежних штурмов и осад: это плохой голос. Он означает, что ворота решили посопротивляться для виду, а потом пасть. Двадцать это будет ударов или двести – все равно. Участь ворот не изменить.
Эбих вроде бы постарался сделать все, как нужно. Сверху на горцев падали тяжелые глиняные болванки, загодя сложенные у самых зубцов, летели дротики и стрелы. Защитники Баб-Алларуада опрокидывали штурмовые лестницы, по трое и по четверо взявшись за раздвоенные рогатины, которые были специально припасены для таких случаев.
Гутии защищали своих бойцов у тарана квадратными плетеными щитами. Лучники снизу старательно выцеливали солдат Асага: высунешься лишний раз из-за зубца, и в последний миг увидишь всю свою мэ, вычерченную незамысловатым узором на маленькой таблице…
В темноте не видно, убит ли хоть один из Гутиев. На стене трупов становилось все больше. Эбих почуял, как опускается на форт колеблющаяся дымка поражения. Она едва заметна… пока.
А таран лупил и лупил. Творец, какая несправедливость: для Гутиев серый горный камень не стоит ничего, он там под ногами валяется, из него даже дома строят… А тут за тесаную глыбу расплатились бы звонким серебром, без особого торга. Ну не родит земля Алларуад камень! И кирпичные стены ее городов, и дорогие деревянные ворота недолго стоят против камня… Значит, каменными должны быть люди.
Ворота отвечали уже не басом, а надтреснутым хряском, как будто таран входил в живую плоть. Горцы сменялись у ременных петель, не снижая темпа ударов. Там, внизу, какой-то их десятник или… у них счет восьмерками… восьмерник, что ли… мерно командовал:
– Наги-и-и… ту! Наги-и-и… цал! Наги-и-и… ту! На-ги-и-и… цал!
Ту – удар! Цал – удар! Ту – удар! Цал – удар!
И дерево жалобно застонало…
Асаг понял, что пора ему спускаться со стены. На баррикаде, спешно собранной из кирпича, перевернутых повозок и мелкого хлама, столпилось около сотни бойцов. Эта война длилась так долго на земле Царства… Все уже наперед знали свои роли. Асаг прикидывал, хватит ли ему этой сотни, сможет ли он задержать горцев до нужного момента, больно быстро пошло дело. Трое офицеров-реддэм и девяносто два копейщика думали об ином: повезет ли им отделаться ранением? Раненому не так стыдно упасть и притвориться мертвым, а там, если Творец не против, свалка закончится, Потому что бежать – нехорошо, умирать не хочется, а справиться с этими чудовищами просто не суждено.
Ворота не рухнули, но таран пробил такую дыру, что в нее свободно мог пройти человек с оружием и в доспехах. Горцы, словно огромные жуки, полезли внутрь. Сверху, из дырок, проделанных в кирпичном своде, полетели стрелы. Упал один из нападающих, другой… Дальше все смешалось. Пять или шесть смельчаков кинулись вперед, презирая смертную свою долю и желая закрыть брешь в воротах вражескими телами. Асаг знал, что случится дальше, но удержать людей не успел. Всегда найдется пять или шесть смельчаков…
Они словно бы ударились о каменную стену. Миг, другой – и все до единого попадали под нога Гутиям.
Очень, очень хороши воины Старшего народа. Широки в плечах, велики ростом, настоящие верзилы. Но дело не только в этом. Их натаскивали заниматься военной работой с детства. И теперь каждый из них, как волк в овечьем загоне, выбирал глазами: ну, с кого начать? Реддэм стоили некоторого внимания; их, пожалуй, имеет смысл убивать с уважением, как равных. Прочие – вроде сорной травы. Пахари, гончары… В худшем случае рыбаки или охотники… Живые мертвецы, одним словом.
Мясо для жертвоприношений.
Гутии не торопились. Каждому из них лицо закрывала маска из костяных пластин, соединенных жилами. Некоторые еще не бросили факелы. У других были копья, щиты и тяжелые булавы с каменными гирями на конце. Кое у кого на голове красовалась пара бычьих рогов. Асаг поймал себя на мысли, нелепой для урожденного реддэм и странной для эбиха: жалко скотину. Бодались бы уж лучше между собой эти бычки…
Сегодня таблица битвы начиналась нехорошо. Первые знаки: гибель своих, превосходство чужаков, слабость окружавших его бойцов. Асага бил озноб. Холодно. Ярость топила в себе страх. Он и должен бы бояться, но уже не очень умел. Ему нужно было вымочить свое оружие в чужой крови. Так, чтобы солдаты увидели это, чтобы набрались наконец куражу, иначе их тут и впрямь порежут, как детей.
Он закричал на поганых человекобыков, выхватил у кого-то тяжелое копье, предназначенное для боя стенка-против-стенки, и швырнул его не целясь. Рука сама выбрала, куда направить удар. И острие нашло дорогу между медными пластинами на кожаном доспехе чужака. Там, в шевелящейся массе врагов, кто-то коротко вскрикнул. Жирно чавкнула большая лужа, принимая тело,
– Джан!
Жуки полезли на баррикаду.
Дальше было очень плохо. Хуже некуда. Когда Асагу было восемь солнечных кругов, он подрался с сыном охотника, а тому было на четыре солнечных круга больше. С детьми реддэм не дрался только ленивый: они считались воинами от рождения, и всем мальчикам из шарт, пахарей, тамкаров, да из кого угодно, очень хотелось доказать: вот, мол, тебе, воин, тут не один ты умеешь махать кулаками, на, воин, получи впрок… В пятнадцать, да хотя бы и в четырнадцать, юноша-реддэм воином действительно становится… и тогда его уже очень опасно бить – он убьет в ответ. Но в восемь – совсем другое дело. Тот мальчик, уже почти мужчина, полудикий, привыкший жить на неогороженной земле, вдали от кирпичных стен и городских ворот, приканчивать подранков, пить мутную воду из каналов и рек пополам с илом и зеленой мелочью, терпеть боль, холод, дождливую погоду и знойный ветер из великой пустыни на Заходе, – он был как обожженная в печи глина; сначала Асаг отбил об него пальцы, потом тот лупил его долго и жестоко, сделал из лица кровавую кашу… Будущий воин не мог сдаться, он отмахивался лежа, корчась в траве; когда заплыл глаз и даже когда левая рука, хрустнув, перестала быть оружием, Асаг все еще пытался достать врага, дотянуться, хотя бы плюнуть ему на ногу. Сейчас выходило точно так же. Человекобыки неторопливо валили его копейщиков одного за другим. Упали двое из трех реддэм. Баррикада выросла чуть не до высоты человеческого роста – за счет тел, густо покрывавших ее… Асаг убил одного гутия. Другому разрубил ноту. Может быть, зацепил кого-то еще, он не помнил, не видел: тьма глотала его выпады, тело скоро наполнилось десятками маленьких болей. Правое плечо ныло от удара булавой, а по предплечью скользнуло острие колья. Зазубренный каменный нож вспахал ему щеку и подбородок. Кто-то метко ударил ногой по колену. И левое ухо. И ступня правой ноги. И безымянный палец на правой руке – чем его достали? До чего ж больно!
Иногда его бойцы выпускали кишки горцу. Платили за одного – четырьмя. Наверное. В темноте не видно. Обычно расплачивались именно так – один к четырем. Не зря он в самом начале воткнул в чужого копье. Если б не это, на баррикаде лежали ли бы сейчас все царские солдаты, И его собственное тело, наверное, босые ступни гутиев глубоко вдавили бы в общую груду мертвецов. Может быть, так и будет. Скоро. А пока баб-аллонские копейщики вес еще заставляли чужих платить.
Земля Царства любит кровь чужих.
«Да где же они! Задница… Задница ослиная! Ведь так и не успеем…»
Его последний реддэм повалился навзничь.
«Все, кажется… Творец, суди меня милостиво! Не успели».
Вдруг человекобыки расступились. Эбих баб-алларуадский огляделся. Не более полутора десятков его солдат все еще держались на ногах и могли оказывать сопротивление. На стене шел бой. Нет, не бой даже, а какая-то дикая свалка, без разбору швырявшая вниз трупы горцев и защитников форта. Прямо перед ним толпа Гутиев разошлась надвое, будто старая тряпка, порванная пополам. Тухлятина вонючая! Оказывается, ворота успели разбить в щепы. На обломках стоял с медным топором в лапище старый матерый зверь – царь Гургал…
И тут Асагу вновь представилась таблица сегодняшнего сражения. Так явственно, словно неровная грань формованной глиняной плитки лежала у него на ладони. Знаки покрывали ее до середины, низ еще пустовал, призывая писца… А вот ровно по центру глина набухала странным и недобрым знаком: тринадцатилучевая звезда хищно ощетинивалась своими шипами. Звезда то виделась эбиху отчетливо, то исчезала, то размазывалась ровно наполовину. Будто подмигивала.
«Да что за говенная причуда! Опять, что ли, их маги взялись за свои игрушки?»
Гургал сделал шаг. Другой. Его интересовал Асаг. Вот оно что. Кровью эбиха не зазорно испачкать царское оружие. Это никак не могло считаться человеком. Гургал возвышался на четыре головы над Асагом. А насколько он был шире в плечах, даже считать не хотелось. Медведь бы испугался и убежал. Вот же задница! Какая выходит задница… Лица Гургала, конечно, не видно. Лицо закрывает золотая маска, по которой змеятся огненные блики. Из-под маски слышится рык с какими-то звериными подвываниями, как у хищной кошки, если ее разозлить. У хищной кошки размером с двух медведей.
Царь сделал молниеносное движение. Топор просвистел у самого носа эбиха. Невозможно так быстро работать столь тяжелым оружием…
«Творец!»
Асаг не знал, как ему сладить с чудовищем. Но как-то справиться с ним было необходимо. Свои и чужие смотрели на них. И тело эбиха, измученное, сочащееся кровью, но все-таки сильное, гибкое и навычное к драке, начало опасную игру с топором Гургала. Асаг то приближался, грозя пощекотать царскую плоть мечом, то отскакивал, и заостренная медь на палец не доставала до его черепа.
«Творец!»
Они кружили, а кровь упрямым ручейком стекала по лицу и доспехам Асага. Чья мэ крепче? Большинство тех, кто наблюдал за поединком, считали эбиха че-ловеком-на-пороге: странно, что еще жив, впрочем, это ненадолго.
Тринадцатилучевая звезда вспухла нарывом на поверхности таблицы…
«Творец!»
Дротик, брошенный откуда-то из-за спины эбиха, вонзился царю-быку в горло, у самого подбородка. В неверном свете факелов было видно, как разлетаются веером капли крови. Гургал не смог даже крикнуть. Вздохнул глубоко, как дышат старики, боящиеся выпустить из себя жизнь вместе с дыханием, и повалился набок.
Странно, сколь быстро отлетела душа от этого огромного тела. Если была она там, душа… Странно, как бесславно оборвалась мэ царя.
Пехота ночи никогда не чтила поединков. Черные – не реддэм. Они просто убивают.
Асаг успел сделать несколько шагов назад, и над телом Гургала тут же сомкнулись два строя. Эбиха сбили с ног, и он не сразу сумел встать, а когда встал, не сразу занялся делом. Асаг все никак не мог поверить: жив! живой… Черные и человекобыки деловито резали друг друга. И если копейщики подбадривали друг друга воинственными криками, а горцы ревели, не хуже настоящего зверья, то черные работали молча. Им было наплевать, сколько впереди них Гутиев, чем они вооружены и чего хотят. Черные очищали площадку перед воротами так, словно давили ядовитых жаб. Теперь гутии отдавали за одного черного трех или четырех своих.
«Успели…»
Далековато они стоят, казармы черных. У самых Рыбацких ворот, за храмом. Далековато.
Асаг отошел подальше от побоища на баррикаде, присмотрелся к тому, что творилось на стенах. Его меч больше не нужен был этому бою. Лихая вышла сшибка. Теперь – все. Руки отдохнут. Может быть, еще разок… чуть погодя. Потом.
Ему необходимы были три вещи; знамя лугаля баб-алларуадского, компания эбиха и резерв, чтобы вовремя затыкать прорехи в обороне. Как лугалю, ему полагалось копье с четырьмя конскими хвостами, как эбиху – полусотня охранников, бегунов, писцов и пять реддэм для важных поручений. Опытный военачальник, он понимал, что отразил только первый натиск и еще много людей должны будут сгореть в сегодняшнем побоище.
Асаг остановил сотню черных, подтягивавшуюся к воротам, забрал у сотника нескольких бойцов и разослал их куда требовалось: поторопить старшего агулана ополченцев; отыскать дежурного реддэм компании, пусть ведет всех сюда, к Сигнальной башне, и немедленно; разыскать тысячника Хеггарта, этот должен прислать знамя, двести копейщиков и полусотню лучников.
Миновала четверть стражи. Теперь у Асага было все, что нужно. Человекобыки вновь схлестнулись с черными и оставили перед Сигнальной башней сотни рогатых трупов. Издалека, наверное, могло бы показаться, будто здесь забивали скот. Если бы было кому смотреть на эту свалку издалека, если бы был день, а не ночь, если бы пространство у разбитых ворот вновь не покрылось темной живой массой…
С рассветом начался дождь. Он то вставал непролазным тростниковым полем, то ослабевал и едва капал редкими слезами, то вновь сходил с ума, то делал короткую передышку, то напоминал о себе всерьез… Земля навстречу дождю выдыхала холодноватый пар. Горцы и чёрные не замечали его. Так странно для человеческой породы стоять под хлещущим дождем и не чувствовать хлещущего дождя! И тем в другим было не до того. Князь Вода пытался переупрямить их, будто оба войска были его невестами, но ни одна, ни другая не спешили сказать хотя бы слово, хотя бы повернутые нему голову, а он раз за разом же пытался привлечь их внимание… Дождю не везло в тот день, князь Вода был не ко двору. Асаг некстати припомнил язвительную десятую табличку из «Поэмы о нетревожных снах», сочиненной то ли самой царицей Гарад, то ли кем-то из ее учениц:
Как нелюбимый человек Дождь приходил, Когда не ждешь его, И уходил, Когда с чужим дыханьем Уже смиришься…1Прозрачная безвкусная жидкость мешалась на земле с красной соленой жидкостью. Розовый ручей вытекал из воротного проема наружу. Семь раз гутии приступали к стенам и баррикаде у Сигнальной башни. Городское ополчение еще до восхода солнца вступило в дело и билось наравне с черными и обычными копейщиками. Около полудня человекобыки заняли стену справа от ворот примерно на три аслата, а заодно и Болотную башню. Тогда сам эбих вновь превратился в простого воина. Побыл собственным последним резервом…
Лугаль Баб-Алларуада так и не понял, когда человекобыки оставили город в покое и окончательно отступили. Слишком устал. Давешняя таблица боя заполнилась до самого низа. Последний знак последней строки: робкая победа… Тринадцатилучевая звезда растаяла перед мысленным взором эбиха.
…Сумерки. Два десятка солдат разбирают завал в воротах Приречного форта. Луна и солнце стоят на небе в равной силе. Вновь хлынул холодный ливень, но Асаг не позволил прекратить работу. Ему нужно было во что бы то ни стало закрыть ворота. Ближе к полуночи усталые десятники доложили, мол, дело сделано. Завал разобрали, починили воротный засов, отделили трупы своих от чужих тел. Своими завтра займутся, сейчас сил нет… Чужих отнесли за канал. Пускай там гниют, Гутиев мертвецы не интересуют, они не вернутся, чтобы подобрать их.
– С утра сжечь! – коротко приказал эбих тысячнику Хеггарту. – И вот что… Дорт жив? Хорошо. Дорта десять дней в караул не ставь. Хвост оторву, старый лис.
Ему надо бы поспать. Людей не делают из меди. Даже царских эбихов… Но он все стоял у ворот и тупо смотрел, как солдаты копошатся, собираясь в казарму. Четверо подтащили чей-то труп прямо к ногам Асага. К ногам победителя. Кто?
– Вот, отец мой эбих, нашли ажно в самом низу. Под кучей.
Лицо открыли. Черный сотник Маггат. Вроде ежа: отовсюду торчат оперенные стержни. Всего одиннадцать стрел.
То-то Асаг подумал тогда: «Голос знакомый…»
* * *
Она послюнила пальчик и принялась оттирать пятно у Бал-Гаммаста на щеке.
– Нет, ну вы только подумайте! Он весь в моей краске! Он весь в моих притираниях!
Отняла пальчик от щеки. Посмотрела на него. Да, весь зеленый. Лизнула. Поморщилась.
– Какая хорошая краска, и до того горькая!
– А ты меньше мажься…
Она вытерла зелень об овечью шкуру. Две изрядно вытертые овечьи шкуры служили им ложем.
– Мастера эти суммэрк делать всякие штуки для женщин… Украшения наши лучше, хоть медные, хоть из серебра… А краски, например, или благовония, или, скажем, воду с любовным запахом… лучше брать у них. Да и дешевле.
– Шкуру жалко, Садэрат, шкура будет зеленая…
Она рассмеялась. Откинулась на спину и рассмеялась, – так, чтобы грудь исполнила у самых Бал-Гаммастовых очей танец легчайшего соблазнения… легчайшего! Как прикосновение пшеничного колоса к коже лица. Она, как обычно, чуть-чуть торопилась и жадничала. Впрочем, ей ведь не пить из этого сосуда каждый день, так надо напиться впрок, надо побыть землей, умаявшейся от зноя и ненасытно вбирающей нежность первого дождя, и надо побыть дождем, насыщающим усталую землю.
– Балле, а тебе какие украшения больше нравятся: медные или серебряные? Серебряные дороже и считаются… ну, лучше… по мне, так начищенная медь гораздо красивее серебра Оно такое белое, бледное, никакое…
Она принялась за другое пятно. У Бал-Гаммаста на подбородке. И… ну, конечно… пальчики на другой руке небрежно прикоснулись к его груди. Почти мазнули. О, эта небрежность! Женщине нужно либо очень много опыта, либо очень много жажды, чтобы выводить на мужском теле узоры столь точной небрежности.
– А ты никогда не хотела золотой браслет? Или кольцо…
– Шкуру не жалей. Она такого повидала, что и позеленеть не зазорно.
– Очень хорошо и ловко это у тебя получается… то, что ты… а-а-а… забыл, что хотел сказать… вот на груди… пальцами… но… а-а-а… нет, целовать меня так еще рано. Я еще после первого… не совсем… а-а-а… в общем, получится слабее, чем можно бы было… а-а-а… ну нет. Убери-ка губы с моей шеи, мы еще немно-ожечко переждем.
– Золотой браслет? Хотела, конечно. И сейчас хочу. Очень даже хочу. Но только ты не старайся, не придумывай. Ничего брать у тебя не желаю. Тебе же легче: ни за что не подумаешь, будто бы я люблю тебя не за тебя самого – Ладно. Если говоришь, потом выйдет сильнее, я подожду. Но не больше, чем самую малость.
– Про шкуру можно было и помолчать. Не хочу слышать. И кстати, до меня ты владела одним мужем. Так ты говорила. Ведь так? Да?
– И кстати, что делают пальцы твоей ноги у меня на щиколотке… о! и твои губы у меня на… бедре? уже не на бедре… а! да… они там… что, прости… м-м… Ты же отдыхал? Вот и… о! Вот и… о-о! Вот и… и…
– Не отказывайся. Я ведь подарю от чистого сердца. И вовсе не буду я думать, что ты меня любишь не за… нет. нет. Нет. Это я с тобой буду играть, а ты должна лежать тихо-тихо. Э! Э! Э-э-о-о-о. Ну хорошо, дай мне времени на сотню вздохов, И псе. Нет. Эту сотню вздохов ты сидеть на мне не будешь. Вот так. Да.
– У меня и был один муж. Ладно. Сотню вздохов. Но моя рука будет у тебя… вот тут. И лежи. Не хочешь – не буду на тебе сидеть. А-а муж… муж был очень хороший. Он был такой… Нет, – я не стану тебе рассказывать, тебе ведь, наверное, будет неприятно… Да? Ну, я поняла, что – да. Руку убирать не надо… ах вот ты что… н-да. Так даже лучше. В общем, муж бы как раз по поводу, овечьей шкуры… м-м… как бы лучше сказать? – подходящий. Я тебя очень люблю, Балле. Я тебя не обидела?
– Ты настоящая красавица, Садэрат. Ты наполняешь меня весельем, Садэрат. Я счастлив, что могу прикасаться к тебе, Садэрат. У тебя есть какое-нибудь ласковое имя? А то все время Садэрат, Садэрат… Как будто принимаешь смотр баб-аллонских гурушей… Вот их энси. Энеи Садэрат, я доволен вами, ваши люди выглядят бодро!
– Хи-хи-хи.
Только так у них и получалось разговаривать друг с другом. Она не отвечала на его вопросы или отвечала, но потом, потом, потом… Он не обращал внимания на то, что она щебечет. Ну, почти не обращал внимания. Из них двоих именно ему досталась роль серьезного и здравомыслящего человека. А ей, соответственно, досталась роль того, кто нагло щекочет серьезного и здравомыслящего человека. Они прекрасно ладили друг с другом.
Отхихикав положенное, хозяйка скользнула с ложа и принялась разжигать еще один светильник. Потом еще один и еще. В комнате запахло горючей наптой.
– Что ты делаешь, мое совершенство?
– Пусть будет светлее.
– А?
– Ведь красавица я? Так? Выходит, я все-таки красавица? Первый раз, между прочим, ты мне это сказал за все время, пока мы… с тобой. Ну, говори еще. Посмотри на меня. Говори мне, как я прекрасна. Как я прекрасна вся… и… отдельные мои части.
Стояла теплая полночь 5-го дня месяца аярта 2509-го солнечного круга от Сотворения мира. Лишь раз успели за эту ночь корчмарка Садэрат и царь Бал-Гаммаст насытить друг друга на ложе из овечьих шкур, настеленных поверх глиняного пола. Лишь раз их тела выводили быструю и жадную пляску страсти. Лишь раз их руки перекрещивались в объятиях. Лишь раз ее губы метались по его лицу. Лишь раз его губы странствовали по ее груди. Но иногда ночи, эти странные и неверные существа, возможно, против собственной воли бывают милосердны к людям… А значит, длятся долго. Ночь 5-го дня месяца аярта обещала нескоро разлучить пальцы корчмарки и юного царя. Оба верили, что утро застанет их утоленными.
Колеблющиеся тени метили стены ее жилища знаками нервного танца. Напта выбрасывала к потолку алые язычки пламени и невидимые в полутьме черные дымки. Садэрат встала перед ложем в отблесках живого огня четырех светильников, поставленных по углам комнаты. Развела руки в стороны и потянулась кверху, встав на цыпочки. Качнулась. Бросила руки как дикий зверь в прыжке, скрестила их, закрывая лицо… Качнулась в другую сторону… И только тут Бал-Гаммаст понял: Садэрат изображает пламя над пятым светильником, которого нет в середине комнаты и который должен быть, потому что на его месте танцует Садэрат.
Не то чтобы корчмарка была искусной танцовщицей. Но ею двигало желание хотя бы раз в жизни вытащить изнутри, из самой глубины, собственную суть и показать ему,
В Лазурном дворце бывали лучшие танцовщицы земли Алларуад, Элама и народа суммэрк. Но никто еще не танцевал для него одного. Никто не хотел душу свою вынуть и подарить ему, принеся в ладонях. Бал-Гаммаст смотрел на ее движения зачарованно. Еще миг, быть может, и протянулась бы между ним и Садэрат нить, которой лишь Творец волен связывать людей… Да и разорвать ее способен тоже лишь Он один.
Но этого мига как раз не хватило для Садэрат и Бал-Гаммаста. Он всмотрелся в лицо танцующей корчмарки; в полумраке сложно было разглядеть его четко, но тут как раз что-то затрещало в светильнике, и пламя взвилось маленькой молнией. Отблеска этой вспышки хватило… хватило… Господи, чудны дела твои!
Бал-Гаммаст расхохотался. Слишком неожиданно. Он не сумел сдержаться. А потом никак не мог остановиться.
Все, что пело, цвело и трепетало в Садэрат, разом застыло. Она сцепила пальцы в замок и сжала их до боли. Что делать ей: гневаться? досадовать? плакать? Как может он так мерзко…
– Так ты… говоришь… – просипел Бал-Гаммаст, давясь смехом, – мастера… делать… штуки для женщин… лучшие… краски… говоришь…
– А-ах! – Хозяйка метнулась прочь из комнаты. Босые ножки зашлепали глуше, глуше… на первый этаж. Внизу у нее хранилась чуть ли не самая большая ценность – настоящее бронзовое зеркало, дорогая вещь, подарок покойного мужа. На тыльной стороне была там сцена видения царя Набада Сиппарского Отшельника, которая очень нравилась Бал-Гаммасту. Изготовили зеркало, наверное, где-нибудь в провинции, может быть, в том же Сиппаре. У Творца, явившегося Набаду, такая борода, что надо бы ее закидывать за плечо, иначе обязательно наступишь и упадешь. Понятно, бородатый – значит, мудрый. Сам Набад был человеком тихим, набожным, очень добродетельным и невероятно худым, поскольку любил постовать во имя Творца. Здесь же зеркальных дел мастер изобразил царя настоящим атлетом – плечистым, могучим, с мускулистыми руками. Тоже, впрочем, понятно: раз государь, значит, могучим быть обязан. Так что все вроде правильно… С точки зрения провинции. Интересно, есть ли у Творца борода?
Снизу донесся корчмаркин вопль. Мудрено соседям те подумать какого-нибудь лиха: вот, вломились к одинокой женщине разбойные люди, то ли режут, то ли чести лишают… По какой иной причине будет она среда ночи так заливаться?
Видели бы они эти жуткие зеленые разводы от шеи до самых бровей… Поневоле заголосишь. Себя в зеркале до смерти испугаешься.
Бал-Гаммаст даже несколько встревожился: никто в Лазурном дворце не знал, где он. Никто не знал о Садэрат. Ни мать, ни даже Апасуд. Иначе он не мог: надо было поразмыслить, что с этим делать и как поступать дальше… Пока Бал-Гаммаст еще не понимал, что и как. Пускай узнают потом, когда он будет готов, когда ему станет ясно, на одной ли таблице написаны их мэ: царя и корчмарки.
Плеск воды. Шлепанье босых ног. Садэрат скорбно поднимается по лестнице.
– Ничтожный царишка! Да как ты мог смеяться, когда я показывала тебе… такое.
Садэрат прыснула в кулак. Потом села на ложе спиной к нему и заплакала. Плечи ее обиженно вздрагивали.
– Садэрат, я видел все, что нужно. И я понял. Ты… хотела показать, какая ты… внутри. Я видел. До того как… В общем, ты не напрасно танцевала передо мной. Я этого не забуду.
Она отлепила ладони от лица.
– Садэрат, Садэрат… Зови же ты меня Саддэ. Четыре солнечных круга я этого имени не слышала.
Бал-Гаммаст обнял ее за плечи. Она, не поворачиваясь, подалась к нему, отдаваясь спиной, шеей, руками, всей кожей.
– Саддэ.
– Ты можешь гордиться собой. Прежде мои мысли не путались до того, чтобы я забыла смыть краску прежде… прежде ложа.
– Саддэ…
Корчмарка освободилась от его рук. Слез нет в помине. Развернулась так, чтобы лицом к лицу. Они сидели друг напротив друга, зрачки в локте от зрачков. Их ноги перекрещивались. Садэрат взглянула на него с вызовом и властно положила руку ему на шею.
– Мне кажется, я жду слишком долго.
В ответ Бал-Гаммаст положил ей руку на шею и посмотрел почти угрожающе:
– Шутки кончились, Саддэ.
…На этот раз она была как неистовство летнего дождя. В сезон паводка дожди не злы и не холодны. Их капли яростно стучат по земле и воде, бьют по траве, деревьям и людям, и столько в них, кажется, силы! Чуть-чуть – и стены домов падут под их натиском. Но это всего лишь капли теплой воды… И сила их нежна.
Садэрат покрывала его ковром из летучих поцелуев. Ее губы едва касались плеч, груди, рук и лица Бал-Гаммаста, а коснувшись, немедленно улетали прочь, чтобы чуть погодя вновь хищной птицей кинуться на его тело. Ее руки то обнимали юного царя, то отталкивали. Ее тело порхало над его телом, как бабочка над цветком. Ее ресницы касались его кожи легче, нежели свет луны касается озер дождливой ночью. Корчмарка хотела дать ему столько, чтобы утомиться самой.
– Саддэ!
Он пытался обнять ее – и не успевал. Не желал успеть, сам увлекшись игрой. Его пальцы отвечали ей лаской уверенности. «Ты, – говорили они, – не сумела завершить свой танец передо мной, так танцуй же надо мной, я внимаю тебе!» Его пальцы на миг впивались в плоть корчмарки, вроде бы стремясь задержать стремительную пляску Садэрат, – и тут же отпускали…
– Балле! Ты мой.
Наконец дождь стал стихать. Скорый бег теплых капель замедлился. Без прежнего неистовства соприкасались они с землей. Тогда Бал-Гаммаст обнял и притянул к себе слегка сопротивляющуюся Садэрат. Царь вложил всю свою благодарность и всю свою страсть в томительно долгий поцелуй. Такой, чтобы на время его забылись имя и город, в котором живешь, собственная судьба и лучшие друзья…
Пришло его время. И он мог бы многое совершить из того, что называют искусством. Она сама, доверяя Бал-Гаммасту, учила, как извлекать из ее тела искры любовной ярости. Но… так бывает иногда: опыту, искусству и всему тому, чему можно научиться, – следует отступить. А подчиниться надобно древней и светлой интуиции, которая одному с необыкновенной точностью рассказывает о желаниях другого… Садэрат вела всю игру, задавая неуловимый, стремительный ритм, но отдала Бал-Гаммасту право красиво завершить ее воздушный узор, побыть последним аккордом дождя…
Не прерывая поцелуя, он перевернул ее на спину и так же, не отнимая губ, соединился с Садэрат. Все закончилось за несколько ударов сердца. Она с жадностью стиснула его руками, он так же крепко прижался к ней.
Корабль коснулся пристани, вернувшись из дальнего плавания, россыпь теплых капель напоила выгоревший парус.
«Он мой! Мой! Мой! Мой! Какое чудо…» – думала она, глядя в потолок и расслабленно лаская его пальцы своими.
«Какое чудо! Как она хороша! Соседи навестят нас теперь неизбежно…»
– Тебе всего четырнадцать, Балле… Каким же ты будешь в двадцать восемь?
– Таким же искусным, как ты…
– Я солгала тебе. Мне не двадцать восемь. Мне тридцать. И мне совсем не нужен твой браслет.
– Какая разница… Может, сам Творец привел его в эту корчму, кто знает. В полуденный час Бал-Гаммаст возвращался из-за внешней стены города, с открытой земли. Там он встречался с лугалем Баб-Аллона и эбихом Уггалом Карном. Первый считал, что надо бы в пяти полетах стрелы от столичных стен выпрямить русло Еввав-Рата: неудобное место – после паводка тут по три месяца и дольше стоит огромное болото. Эбих, усмехаясь, говорил, что не позволит. Мол, надо рыть втрое больше, чем кажется, иначе обмелеют два других канала и по ним можно будет с легкостью проникнуть в город; тут, отец мой лугаль, придется рыть добрым двум третям бабаллонцев, и только через пять месяцев они закончат; готовы ли вы, отец мой лугаль, осчастливить город? Лугаль горячился, мол, а вы на что, отец мой эбих? Обмелеют каналы – так ваши доблестные груди закроют брешь, покуда мы исправим дело… Да и то сказать, может, не обмелеют. Уггал Карн, еще шире растягивая губы, отвечал, мол, наши груди не должны вас интересовать, есть множество иных грудей, которые могли бы вас заинтересовать намного сильнее… Эбиху подчинялся гарнизон города, пехота ночи, дворцовая стража и почти все прочие воинские силы Баб-Аллона. Эбих мог бы приказать. И приказал бы в конце концов. Но лучше бы явился царь: из его уст тот же самый приказ прозвучал бы менее обидно для чиновной власти столицы. Эбих возвышается всего на два пальца над столичным лугалем, а царь – на две головы… Это невеликое дело доверили Бал-Гаммасту. Кое-какие невеликие дела доверяла ему мать, советники и эбихи… В последнее время Уггал Карн старался почаще вывозить его из Баб-Аллона; однажды Бал-Гаммаст провел целых три седмицы в Кише, хотя, кажется, там могли обойтись и без него… Или нет? На этот раз он поехал, чтобы посмотреть, какое такое выпрямление русла задумал лугаль. Посмотрел. Ничего не понял. В каналах он вообще мало что понимал. Послушал обоих. Оба говорили убедительно. Как бы поступил отец? Отец был, точно, храбрым, как барс… и осторожным, как любая кошка… «Я слушал вас. Я понял вас. Я напоминаю, что война все еще тлеет. Еще осаждают наши войска мятежного лугаля Нарама в городе Эреду. Ради безопасности столицы я решил отложить выпрямление русла на один солнечный круг». И хотел было что-то возразить лугаль, и даже рот открыл, но тут встретился с милым юношей взглядом, вспомнил, кто царь в земле Алларуад, и рот у него сам собой закрылся…
Уггал Карн удовлетворенно хмыкнул.
Теперь Бал-Гаммаст возвращался во внутренний город, довольный собственной твердостью и обещая себе через месяц знать все самое главное о рвах, насыпях, плотинах, каналах, канавах, выпрямленных и скривленных руслах, а также обо всех прочих земляных делах.
Царя сопровождали четыре конных лучника из дворцовой стражи и юноша-знаменосец его же возраста. В руках последнего было копье с восемью разноцветными конскими хвостами – знак присутствия государя. Копье гордо таращилось в зенит, хвосты уныло обвисли в надир. К полдню все обвисает в надир, и спать бы надо в такое время, как делают добрые люди, коих Творец не лишил здравого разумения. Одни глупцы и злодеи суетятся в неурочный час…
Шесть всадников, измученных зноем, все глаза проглядели, отыскивая открытую корчму. Ледяной воды. А еще того лучше – ледяного молока. А лучше всего – ледяной сикеры. Не торопясь… Да полно! Кто держит корчму открытой в такое время? О! Вот, кажется, одна, с виду убогая…
Так и есть, внутри заведение выглядело еще беднее, чем снаружи. Подушки, набитые соломой, тростниковые циновки да доска для игры в дахат с горстью разноцветных глиняных фишек – вот и все убранство. Хозяйка поставила перед ниши два кувшина, затем, учтиво улыбаясь, пришлась разливать ледяную сикеру по глиняным плошкам. Приглядевшись, она выделила самого рослого из лучников и обратилась к нему как к старшему:
– Отец мой воин, жаль, не знаю, как зовут такого молодца… этим стручкам тоже наливать? – Корчмарка кивнула в сторону Бал-Гаммаста и знаменосца.
Солдаты застыли в нерешительности. Бал-Гаммаст рассмеялся. А знаменосец выскочил из-под навеса на улицу, отвязал копье, накрепко притороченное к конской попоне, и влетел обратно с обиженным воплем:
– Да это же царь! Ты что, не узнаешь?!
И для верности ткнул ей под нос все восемь конских хвостов.
Хозяйка попятилась. Глаза ее заметались от хвостов к Бал-Гаммасту, от Бал-Гаммаста к знаменосцу, от знаменосца к лучникам и опять к Бал-Гаммасту. Не то чтобы она видела когда-нибудь царя-юношу. Не то чтобы хвостатое копье подсказало ей правду – ведь далеко не всем известно о смысле этого знака. Не то чтобы Бал-Гаммаст был одет как-то по-особенному: одет он был дорого, но просто так мог бы выглядеть сын тамкара или энси. Но глаза, глаза! У четырех здоровяков, которые ехали вместе с юношами; в глазах не появилось ни на сикль веселости. Только оторопь, досада и даже страх… За нее. Словом, это, должно быть, и впрямь царь. И какой только машмаашу навел его на корчму?!
Корчмарка отступила на шаг-другой» низко поклонилась и заговорила извиняющимся голосом:
– Отец мой государь! Прости. Я недавно в городе и не знаю всех его обычаев… Что мне делать, чтобы ты не гневался?
– Налей мне сикеры с горкой. Так, чтобы она стояла на два пальца выше глины… Можешь?
На миг она растерялась. Сикеры с горкой ему! А летающую козу с мордой онагра изловить не надо? Если на медленном огне да с чесночком – сам Творец, знаете ли, не откажется. Жаль, козы не летают…
Солдаты тем временем захихикали. Есть у мужчин такая зловредная манера хихикать, от которой всякая женщина чувствует неудобство: что? что они там захрюкали? может, с одеждой какая-нибудь нелепица? или краска потекла? наверное, краска… проклятая эламская краска, дешевое дерьмо, надо было у суммэрк покупать! Эти четверо нашли повод: должно быть, забавное у нее сейчас лицо… Как бы выйти из такой заминки?
– Смогу, отец мой государь. Если ты прикажешь, я все исполню… Хочешь, на три пальца выше глины? Только прикажи. Все повинуются тебе, и сикера тоже обязана.
Теперь солдаты заткнулись и все разом посмотре-ли на нее с ужасом. Знаменосец этот прыщавый чуть палку свою не выронил. Зато захихикал сам этот… царь.
– Назови свое имя и сядь с нами. Выпью с тобой из одной посудины.
– Садэрат, отец мой государь. Я вдова писца Алагана и хозяйка этого заведения.
Усмехнулась про себя: для какого-нибудь мальчишки, наверное, большая честь пить из одной плошки с царем. А мне-то… Зачем, кстати, я сказала ему, что вдова?
…Он отхлебнул сикеры и передал ей плошку, не отрывая взгляда от лица корчмарки. Садэрат не выделялась ничем особенным: не худа и не полна, не высока, но и не коротышка, не юна, но и не старуха, солнечных кругов ей, должно быть, двадцать шесть или двадцать семь. Кожа ее светла, почти бела. Светло-карие глаза. Насмешливые ямочки на щеках. Над головой – шар из вьющихся черных волос. Вот, пожалуй, чего нет у других женщин: никто не умеет так ладно укладывать шар… Садэрат ловка и быстра в движениях. Ходит как легкий ветер. Бал-Гаммаст почуял в ней каким-то необъяснимым навыком простой и хваткой мужской души неизбежное да. Да. Конечно да.
Она тоже отхлебнула и вернула ему плошку. Только сейчас Садэрат решилась посмотреть на него по-женски. Смуглая кожа. Хорошая кожа, еще нежная, не обветренная, как у солдат, и оттенок этот светлый всегда ей нравился. Руки – сильные, мускулистые, на ладонях мозоли. Так бывает в знатных домах Баб-Аллона: ладони у молодых людей от упражнений с оружием и тяжестью грубеют пуще, чем у земледельцев от плуга. Невысокий. Ровно с нее ростом – это Садэрат заметила, еще когда все они входили в корчму. Лицо удлиненное, прямой, аккуратный такой нос, у простых людей подобных носов не бывает. Высокий чистый лоб. Тонкие губы сжаты в упрямую ровную складку. Прямые черные волосы почти до плеч – ухоженные, блестящие, потому что иначе не может быть во Дворце, но сейчас – разбросанные до состояния совершеннейшего беспорядка, потому что иначе не бывает у юноши его возраста. Глаза большие, желтые, чуть ли не золотые… то ли ласковые, то ли наглые, как у кота. Здравствуй, кисонька, не желаешь ли сливок вместо сикеры? Скажи м-р-р-р-р-р… Ох, Боже мой. Какие у него ресницы! Длинные, как у девушки. Какие ресницы! С тех пор как милый Алаган, гостя у родни, утонул во время дурного паводка, она ни с кем не бывала близка. Память его была дорога Садэрат. Творец, суди его ласково! Конечно, иногда проверяла свою женскую силу: пойдут ли к ней, ежели когда-нибудь понадобится? Выходило – пойдут. Но ни разу не доводила до конца. Три с половиной солнечных круга прошло и еще месяц, а она все никак не может вынуть Алаганову тень из сердца. Да и не хочет. Не получалось у нее – любить легко и забывать легко. Но к этому… царю… ее потянуло. Может быть, если бы ее долго уговаривали, она бы и согласилась… ненадолго… попробовать, как это бывает… когда легко. И ведь есть древний закон: ночь с царем никакой женщине не может быть поставлена в вину… даже ребенок… если случайно… не будет считаться незаконным. Но нет, Ни за что не соглашаться. Нет. С мальчишкой? Нет. Нет, конечно,
Бал-Гаммаст все не отводил глаз.
Она не выдержала игры взглядов и подмигнула ему…
…Ночь 5-го дня месяца аярта 2509-го солнечного круга от Сотворения мира неотвратимо катилась к утру. На улицах великого города стоял самый негостеприимный час, час воров, волков и колдунов. Царь и корчмарка отдыхали, обнявшись. Она знала, что до утра сумеет еще раз вызвать в нем щедрое буйство. Он переживал восхищение и медленно, несуетливо целовал пальцы у нее на руках. Один за другим.
Чуть погодя Бал-Гаммаст заметил слезы на щеках Садэрат.
– Саддэ, ты плачешь?
– Нет.
– Тогда почему мои губы чувствуют соль на твоих щеках?
– Отстань, Балле.
– Ну же, Саддэ. Скажи мне.
Он принялся целовать ей глаза, а когда кто-нибудь целует вам глаза, плакать очень неудобна Корчмарка смирилась с тем, что вволю поплакать ей не дадут. Ладно.
– Как жаль, Балле. Царю положено жениться на дочерях реддэм или на дочерях шарт. В крайнем случае на какой-нибудь знатной иноземке, чтобы с тамошними иноземцами был мир. Вот так-то. А я кто? Дочь солдата, которого отставили по выслуге лет, и женщины из квартала храмовых медников… Я не из рода какого-нибудь энси, или эбиха, или судьи… Я тебя люблю, Балле. Мне жалко, что женой твоей мне не бывать. Я тебя очень люблю. Я тебя и так буду любить, Балле. Но сейчас мне грустна…
– Ну почему же? Я читал, что царь Дорт V Холодный Ветер был женат как раз на корчмарке. Царь Маддан II – на женщине из общины земледельцев под Кишем. А царь Кан II Хитрец, мой прадедушка, женился на дочери отставного солдата. Как видишь…
– Тебе и жениться-то рано по закону. Нет еще пятнадцати кругов… Да-а? Дорт Холодный Ве-етер? – Тут наконец она его услышала. – А я и не зна-ала…
– Жениться мне можно будет через полтора месяца. В двадцатый день месяца симана мне будет ровно пятнадцать кругов. С этого дня мне дается два солнечных круга» чтобы выбрать себе жену по вкусу. Надо будет переговорить с первосвященником. Он добр, он нам поможет. И брат не будет против. Вот только матушка… Кое-кто из эбихов и советников поддержит… – Бал-Гаммаст углубился в обдумывание вопроса как.
– Они не разрешат тебе, не разрешат. И жену бы надо тебе помоложе… – бормотала Садэрат, пугаясь самой мысли: «А может быть все-таки? А?»
– Так-так. Я знаю, многие хотели бы сделать свою дочь царицей. Наверное, придется спрятать тебя на месяц-два где-нибудь на открытой земле. Не бойся, я найду надежное место. Да. Надо будет тебя спрятать от них, иначе неровен час… – Он подсчитывал возможности, искал союзников, прикидывал, кого послать с нею за городскую стену, потому что оставить ее без охраны – неблагоразумно…
Наконец он споткнулся мыслями, заметив на лице Садэрат печальную улыбку. Когда-то ему хотелось, чтобы так на него смотрела мать… Корчмарка взяла его ладонь и поцеловала ее.
– Нет, мой мальчик. Нет, Балле. Нет, мой любимый. Я не стану твоей женой.
– Почему, Саддэ?
А маска печальной любви не сходила с ее лица.
– Почему же, Саддэ?
Она могла бы ответить Бал-Гаммасту, что он ни разу не решился назвать ее любимой, что он не спросил, желает ли она сама стать его женой, что через пятнадцать солнечных кругов ей будет сорок пять, а ему всего лишь двадцать девять, к тому же он мужчина… Все это – правда и неправда одновременно. Если б только это, она все равно соединилась бы с ним без колебаний. Ее женская душа, чуткая к странным и почти нечитаемым знакам, которые оставляет для каждого человека судьба, идущая на шаг впереди, предупреждала: мэ ее любимого иная, и с ним не бывать ни покою, ни легкости; сам он когда-нибудь замучается утешать ее; и жена ему, по правде сказать, нужна бы совсем другая. Тоже выходило – и правда, и неправда… Что ж, все равно решилась бы Садэрат. Взяла бы сколько можно ярких красок от их любви, а потом любила бы детей от него… и стала бы ему второй матерью. Простила бы ему как-нибудь всех тех, кого он заведет после нее. Наверное, простила бы. Ведь заведет – нет сомнений. Но отказала Садэрат по иной причине. Есть вещи, которые для мужчины – мелочь мелочью, да и женщина, возьмись она вслух рассуждать о них, никогда не признает, насколько они важны для нее. Как признаться, что какая-нибудь воздушная тень из прошлого оказалась дороже всего мира с его красотами, самой несбыточной любви и твердо обещанного благополучия? Как?
Женская верность – странная вещь. Иной раз переломить ее легче, чем сухой тростник. А иной раз она тверже камня. И кому женщина хранит верность? Мужчине ли? Может быть, она верна двум дням из незапамятного далека, потому что именно в те дни мужчина дал ей, сам не сознавая, именно то, о чем с самого девичества грезило ее сердце? А может быть – сну, пришедшему к ней однажды поутру, когда его рука лежала на ее плече? Или образу, сотканному из высоких слов, праздников и вычурных теней, а потом со случайной точностью наложившемуся на живого человека… хотя бы и не до конца, а лишь на две трети? Лишь Творец знает немые женские тайны.
Словом, была у нее причина. Говорить о такой причине было бы нелепо и неправильно. Она только и сказала Бал-Гаммасту:
– Мне нужен кто-нибудь попроще тебя, Балле.
Впрочем, это тоже было правдой…
…Во второй раз он пришел к ней один. Тоже – в жаркое дневное время, когда все спят под крышей или дремлют на полях в тени, а корчемные содержатели закрывают свои заведения. Явился в бедной одежде. К чему знать всей улице, какой гость зашел к корчмарке Садэрат?
Она молча поставила перед ним сикеру и твердое вяленое мясо, как готовят на Восходе Царства. Оба сидели и молчали. Бал-Гаммаст робел и не решался даже поднять: глаза. Как легко ему было в прошлый раз и шик Худо все получалось сегодня… Наконец он посмотрел на корчмарку. Э! Да ей самой неловко. Ей очень неловко, она прячет глаза, мнет какую-то ветошь в руках. Кто из них двоих, наконец, старше?
– Эй!
Она вздрогнула и взглянула на него. Он взял двумя пальчиками тонкую полоску мяса.
– Ты ведь из Эшнунны, Садэрат?
– Точно, я оттуда, отец мой государь…
– Балле, Садэрат. Балле. Такое мясо делают в Эшнунне. И говорят с птичьими присвистами, точь-в-точь как ты, тоже в Эшнунне.
– Тебе не нравится, как я говорю? Что тебе не нравится?
Тогда он подмигнул ей.
– Мне правится. Кстати, самых красивых женщин Царства, по слухам, тоже делают в Эшнунне. Ты как будто не собираешься со мной спорить?
– Конечно нет, Балле. Это правда…
В тот день она подарила Бал-Гаммасту ощущение всемогущества, столь драгоценное для всякого мужчины. Она кричала и наслаждалась его телом, а он – он прежде всех прочих чувств – гордился… Ведь всю эту радость именно он доставил Садэрат. И лишь неярким фоном к пылающему рисунку гордости звучало его собственное наслаждение.
А привычные посетители корчмы, пришедшие под вечер, расходились кто куда, не найдя хозяйки, и заводили ворчливые разговоры…
…Теперь она отказывается стать его женой. Женщина из дальней и нищей Эшнунны, провинции, которая пожирает гарнизоны не хуже, чем огонь сухую траву… Что ни солнечный круг, то кочевники или, упаси Творец, горцы тревожат тамошних жителей. При отце Бал-Гаммаста Эшнунну отбивали дважды. Еще дважды случалось при отце отца – Донате II. И именно Садэрат – женщина с бедной и Творцом проклятой окраины – отказывается от высокой мэ! Все бунтует в нем перед необходимостью склониться. Она сказала: «Я тебя и так буду любить…» Но нет. Слова, поступки и желания перемешались в голове Бал-Гаммаста. Одно он помнил твердо: как-то сестрица Аннитум объясняла ему: «Упорство мужчины – это так необычно. Мы не можем быть такими. Мужское упорство иногда меняет саму женщину. Ну и решение ее тогда тоже поменяется. Это же понятно».
– Я очень хочу, чтобы ты была со мной, Саддэ.
– Нет. Поверь мне, я тоже хочу этого. Но… нет. И потом, я ведь с тобой. Я никуда не делась.
– Саддэ, а что, если я покажу тебе Царство… от края до края. От джунглей в Стране моря, до чистых полей за каналом Агадирт и полночным валом? Отвезу тебя на эламские базары? Туда приезжают люди из очень далеких стран. Они привозят бирюзу, жемчуг и обсидиан, дерево, узоры которого прекрасней золотого литья, тонкую льняную одежду – хочешь, цвета заката, а хочешь – цвета зарослей над рекой… А если пожелаешь, мы выйдем в море на корабле. Желаешь?
– Балле… – Она заколебалась.
Тут снизу донесся стук в дверь. Была у нее крепкая деревянная дверь, от мужа в наследство досталась; мало кто в квартале мог похвастаться настоящей деревянной дверью – все больше завесы да циновки. Ломился кто-то очень серьезный. Соседи?
Садэрат быстро накинула на себя что оказалось под рукой и зашлепала по лестнице вниз. Бал-Гаммаст присел на ложе. Он не мог появиться перед соседями и ожидал, что Саддэ их угомонит сама. Но нет, голоса внизу не стихали… потом… как будто засов отодвинули в сторону с характерным стуком… позвякивание оружия… шаги… наверх, наверх идут!.. много людей, может быть, пять… или семь… где же Саддэ? Бал-Гаммаст нашарил длинный нож с острым и на редкость прочным лезвием – столичной работы. Сзади глухая стена. Светильники с наптой – тоже оружие. Он не собирался умирать. Негромкий голос;
– Тагат! Ты со своими останься на лестнице. Веди меня, корчмарка!
В комнату вошел эбих Уггал Карн. На этот раз великий насмешник не позволил себе даже тени улыбки. Не старина Уггал пришел к славному мальчику Балле, а полководец к государю.
– Отец мой государь Бал-Гаммаст, да сопутствует тебе удача в делах…
– Оставь, Уггал. Последний раз за мной посылали эбиха в ту ночь, когда умер отец. Говори без церемоний, что стряслось?
А Садэрат смотрела во все глаза, как преображался её любимый. Как приподнялся его подбородок. Как появилась в его осанке властность. Кажется, будто юноша разом подрос на три пальца… Голос… она никогда прежде не слышала, чтобы Бал-Гаммаст так говорил. Царь стоял перед эбихом обнаженный, но ни один, ни другой не потрудились заметить это.
Уггал Карн:
– Бегун из Урука. Под городом появился мятежный Энкиду с отрядом головорезов. Уггал-Банад вышел и отбил его, но положил всех своих старших офицеров, половину войска и погиб сам. В городе волнения.
– Кто отправил бегуна?
– Сотник Пратт Медведь.
– Сотник? Ясно.
– Утром на Урук выходит летучий отряд из восьмисот солдат на конях и онаграх. В краю Полдня неспокойно. Рат Дуган под Эреду. Лан под Уммой. Если мы хотим удержать Полдень, царь должен быть там. Судить, решать, строить. До Баб-Аллона слишком далеко. Вышло не так уж плохо, что у нас два царя. Воля твоего отца была – поставить тебя лугалем Урука после совершеннолетия. Осталось полтора месяца. Не важно. Никто не смеет повелевать тобой. Царский совет предлагает тебе отправиться в Урук. Если ты согласен, через две стражи отряд выйдет за внешнюю стену Баб-Аллона.
– Кто поедет со мной?
– Энеи Ангатт и слуга первосвященника Мескан.
– Ты с самого начала знал, где я бываю?
– Да.
– Кто еще знает?
– Два моих доверенных офицера.
– Никто, кроме вас, не должен знать, пока я не разрешу.
– Да, государь.
– Жди меня внизу, эбих.
Когда Уггал Карн вышел, Бал-Гаммаст обнял корчмарку.
– Саддэ! Поезжай со мной. Я сделаю тебя своей женой.
– А это… все? – Она обвела рукой вокруг, – мол, как же добро мое, – уже понимая бессмысленность этого вопроса.
– У тебя будет намного больше.
Она колебалась. Ей надо было подумать. Вся ее женская сущность упиралась: нельзя торопиться, надо подумать, все взвесить… Не имея такой возможности, она страшилась ответить «да».
– Оставь мне что-нибудь на память о себе, Балле…
Он снял с пальца золотое кольцо-печатку.
– Возьми и прощай, Саддэ. Подай мне одежду.
Она как будто окаменела. Все никак не могла оторвать взгляда от кольца. Там был изображен лев, а под ним изящными клинышками выведено: «Апасуд и Бал-Гаммаст, цари баб-аллонские по воле Творца».
Как жаль, что сегодня у них не вышло третьего раза…
– Балле! – позвала Садэрат, но никого уже не было в доме.
Она побежала вниз, вышла на улицу. Клочья луны цепляются за бахрому туч. До рассвета далеко. Взбитая копытами пыль все еще клубится. Первая возлюбленная царя баб-аллонского закрыла глаза.
«Ну здравствуй, Алаган. Видишь, я к тебе вернулась».
Так нежная корчмарка Садэрат предпочла надежный покой неверному счастью…
Копье Урука 2509-й круг солнца от Сотворения мира
О, жених, как усладить твою мысль, я знаю, спи до утра в моем доме. И потому, что ты меня любишь, прошу, коснись меня своей рукой, мой божественный господин, владыка, страж. Поэма о правителе Шусиие и его невесте Теперь мотыгу сила битвы пусть заменит, оружие битвы пусть на бок твой вернется, блеск славы пусть оно создаст. Гильгамеш и Агга«Я, Маддан-Салэн, царь Баб-Аллона и всей земля Алларуад, законный сын царя Кана II по прозвищу Хитрец, родной брат царя Уггала V, погубленного в мятежное время. Творец не дал мне детей. Обращаюсь к младшим братьям своим, к племянникам, ко всем мужчинам и женщинам царственного рода Ууту-Хегана, которые впредь будут править великим Царством баб-аллонским. Молю быть добрыми и милосердными к стране, отданной вам под руку Богом! Молю всех вас следовать моим путем, оберегая благословенную страну Алларуад от гибели.
До сего дня правление мое не было счастливым.
В людях умножились слабость, дерзость и корысть. Все, взятое в руку, расползалось, подобно гнилой одежде. Ни в чем не было надежности. Разобщились города и области. Дворец и Храм, души людей и желания разных народов Царства. В мятежное время мне досталась страна Алларуад!
Восставали отдельные города. Потом весь край Полдня, вся Страна моря я вся область суммэрк, объединившись, напали на столицу. Брат мой и государь Уггал во имя Творца открыл ворота, не желая кровопролития. О, сколько терзаний принес великому городу Баб-Аллону мятеж, бесчинствующий в его стенах! Жизнь отдал и сам государь за свою слабость.
Три солнечных круга не было ни царя, ни Царства. И только в городе Кише некто Симут Суммэрк называл себя „государем всей страны Алларуад». Семья наша скиталась и пряталась, защитил и спас ее союзный народ Элама.
Потом я вошел в возраст совершеннолетия, венчался на царство, покинул землю Элама и вошел в коренные области страны Алларуад с малым отрядом верных. И Царство восстало! Города открывали мне ворота, армия множилась, враг боялся нас Бунтовской род Симуга пресекся. Гнезда мятежа, Баб-Аллон, Киш и Эреду, окружены были моим войском и сдались один за другим. На радостях я простил зачинщиков, не казнил никого.
Минуло семь лет, и вновь поднялся мятеж. А был он жесток и черен, города рушились, в срединных областях Царства явились злокозненные маги и чудовища из Мира Теней. Голод и мор изнурили страну, поражения обескровили войско. Народ гутиев и кочевники из пустынь Захода вырывали куски от плоти Царства. Ни в чем не было победы, и мало осталось верных.
Иссякла сила, иссякла отвага, иссякла вера, иссякло усердие.
Враг пришел к Баб-Аллону, и осаждал стены его, и вошел на улицы его. В домах и на площадях бились царские ратники с армией мятежа. Отдал я полгорода и полстраны. И на том, что отдал, исчезло Царство, встала тьма. Государем и внуком Тизкара назвал себя безродный пастух Ильтасадум.
Умирала страна Алларуад, дар Творца людям, светлое место, память о садах и чертогах Предначалья. Всей его мэ оставалась одна капля у меня на ладони. Суждено ли было простоять ему день, месяц или же более того, но только новый солнечный круг начался бы над землями с другим именем, другим законом, другой верой. Я увидел, как шествует сюда великая Тень, чтобы поглотить город и землю.
Последние сильные люди покидали меня, полагаясь на бегство.
Тогда я удалился в пустынное место и воззвал к Творцу, моля его спасти и сохранить Царство. Два дня и две ночи я не спал и не ел, проводя все время в молитвах. Потом я оставил моления и стал убеждать Бога всеми мыслимыми доводами, призывая позаботиться о своем народе. Потом я упрекал его и бранил. Потом выпрашивал милость, легши наземь лицом и разорвав на себе одежды. Я кричал, обращаясь к нему безо всякого строя и порядка: “Сбереги Царство! Прошу Тебя, сбереги Царство!” Но ответа не было мне. Наконец я произнес: «Ты же любишь нас всех, Ты любишь меня! Ради Твоей любви к одному человеку, ко мне, будь милосерден, измени Свой замысел! Ради любви Твоей ко мне, а моей к Тебе спаси Царство от гибели!» Тогда пришел ответ.
Мне нельзя рассказывать в точности ни то, что было мне явлено, ни то, что было мне сказано. Творец откликнулся на мольбы. Он обещал избавление. И ради сохранения Царства сделал черную пехоту, гвардию Дворца, непобедимой. Если все щиты Царства падут, черная пехота всегда защитит его, надо лишь дать ей приказ. Люди черной пехоты, и без Божьего дара сильные, отважные, неутомимые, стали воистину львами битв. Мятежного государя, вражеское войско и город Киш поразили они оружием и лишили царственности. Баб-Аллон очистился, царственность вернулась в его стены.
Но, получив этот Завет, я узнал и печаль, ибо сказано было: «Мэ Царства не вечна. Всему наступает срок; придет срок – исчерпается и Завет».
Каждому новому государю следует вознести молитву Творцу ради возобновления Завета. Если он не пожелает сделать это, Завет утратит свою силу. Если совершит должное, то получит ответ, который получил я.
Никто, кроме государей и первосвященников земли Алларуад, не должен знать о Завете, дарованном мне от Бога.
Молю вас, братья, племянники, дальние преемники мои! Молитесь ради Царства. Жалейте свой народ. Берегите его от черной мэ. Будьте милосердны. Жизнь Царства – на ваших устах.
Таков секретный канон царя Маддан-Саяэна. Записано в Лазурном дворце со слов царя Маддан-Салэна и по воле его. Писал первосвященник Аггалан. Месяца тасэрта в 20-й день 2444-го круга солнца от Сотворения мира.* * *
…Войско Бал-Гаммаста всегда встречали с радостью. Горожане и те, кто живет на открытой земле, видели в отряде дворцовых ратников проявление силы, а не знак угрозы.
Зато самого юного царя приветствовали по-разному. Иногда – с открытой душой. Иногда – с затаенной насмешкой. Чаще всего он читал в глазах энси, городских первосвященников и агуланов печальный приговор: «Никого не осталось, кроме мальчишек. Бот и их уже посылают выпрямлять мэ Царства». Стольким людям было горько от его молодости! С какой надеждой смотрели бы они на отца! И с какой тревогой смотрят на него….
Лишь однажды в небольшом, но богатом Шуруппаке, городе высокомерных торговцев, наглых проводников и дивных поэтов, городе сытных хлебных запахов, городе, где все женщины щеголяют серебром и золотом, городе, наполненном воплями измученной вьючной скотины, его, царя баб-аллонского, восприняли всерьез. Энси Масталан пожелал уединенной беседы с ним.
Когда они остались одни, энси поклонился ему низко, не по обычаю. Выпрямившись, он заговорил:
– Отец мой и государь, я должен был показать тебе свое почтение. Я хочу говорить с тобою о неприятных вещах, и я хочу говорить честно. Если ты позволишь мне это, мой низкий поклон послужит доказательством моей почтительности, сколь бы дерзкие мысли яви.
– Мы – двое мужчин, которых никто не слышит. Говори что хочешь и как хочешь.
– Благодарю тебя. Ты знаешь мое имя – Масталан. Но так перекроило меня Царство. Мой отец – эламит, он служил бегуном в Баб-Алларуаде. А мать жила в бит убари энаим старого Киша. И когда-то меня называли именем Месилим…
– Твои родители?
– Умерли. Это было давно… Я рад, что Царство переиначило меня. Я никто, человек без народа, без семьи, без богатства, без Бога и без честного звания. Не будь Царства, я и остался бы никем. А сейчас Творец и государь Донат отдали мне под руку целый город…
– Без Бога?
– Мать верила в одно, отец в другое, а я верю в то, во что должен верить, став тем, кто я есть.
– Ты не веришь в Творца?
– По правде сказать, я не верю ни во что. Но воле Храма я подчиняюсь без горечи и тяготы. Мне нетрудно. Если там, на небе, есть кто-нибудь, может быть, мои молитвы избавят меня от большого зла…
– Не будь Царства…
– Да страна Алларуад – это страна-для-всех. Здесь много безродных и пришлых людей. Не меньше, чем старого, коренного народа, приведенного сюда Ууту-Хеганом Пастырем. Да, мы подняты Царством из пыли, и я люблю его за это. Но мы сильны. Наша кровь моложе, а коренной народ устал. Я видел твое лицо, в тебе плещется сила, точь-в-точь как плескалась она в Донате Барсе, поистине великом государе… Мне это нравится. Я люблю людей мощи. Я сам таков. Но ты – старый народ, и ты тоже устал… еще когда твоя мать была беременна тобой. Держи Царство крепче, чтоб оно не расползлось. Держи! Изо всех сил держи! Зубами, ногтями держи! Мы, новые… не знаю… как назвать…
– Я понял и без того.
– …хорошо. Мы поможем тебе. Но только пока ты не утратил силы, воли и удачи. За тебя и за Царство мы будем драться с любым врагом, пока ты можешь удержать все это… – Он обвел вокруг себя рукой.
– Я удержу.
– Смотри же. Иначе мы поднимемся и станем хуже любого врага. Мы боимся потерять ваш закон и вашу защиту, но, когда закон падет, а защита ослабеет, нам потребуется самим подумать о себе. Никто тебе этого не скажет, но я не боюсь, я скажу. Мы – твой лучший щит, и мы же – самый опасный нож для твоей спины. Твоя сила – редкость среди людей старого народа. Вот и будь силен…
– Не знаю, старого ли я народа… Может быть, на равнинах страны Алларуад появилось нечто новое. Ты видишь? Полдень кипит. Ты видишь?
– Не понимаю… – Масталан-Месилим улыбнулся. – Отец и государь, если хочешь наказать меня, то я покорно жду изъявления твоей воли.
Двое мужчин в одних только чистых белых шебартах – набедренных повязках – испытующе смотрели друг на друга. Бал-Гаммаст первым отвел глаза. Да, этого человека стоило наказать, даже казнить. Или сделать его своим другом, оставить ему Шуруппак и опереться в трудный час, если понадобится… И Масталан совершенно точно знал, что не будет ни наказан, ни казнен, что у юноши, беседующего с ним, просто духу не хватит – раздавить. Однако энси надеялся на волю и здравый смысл царя. Может быть, он решится стать другом, может быть, не оттолкнет, не убежит.
Так вышло: оба все понимали друг о друге. И Бал-Гаммаст отлично видел превосходство своего собеседника. Этот невысокий, худой, налитый мышцами человек был бы, наверное, хорошим царем, но Бог рассудил иначе и сделал его хорошим энси. Лицо у него какое! Люди с такими лицами видят собственную смерть и улыбаются ей. В худшем случае немножечко бледнеют…
Чего душе этой не хватает? Отчего она смотрит на все вокруг и видит одни свои отражения?
Бал-Гаммаст с пронзительной силой понял: не хватает любви. Столько воли, столько ума! А нет ни любви, ни милосердия. И надо сдержаться. Надо подпустить энси Масталана поближе к себе. Он может оказаться очень полезным – в нужное время в нужном месте.
– Обнимемся и будем добрыми товарищами, Масталан!
Обнялись…
* * *
«Не совершил ли я ошибку, когда отказался от Завета? – размышлял Бал-Гаммаст, прощаясь с городом Шуруппаком. – Творец, как же худо, если я ошибся! Как худо, как худо… Кому на съедение отдал я Царство!»
* * *
Бал-Гаммасту снился чудесный остров. Большой остров, покрытый лесами и садами. Только один раз в жизни Бал-Гаммаст видал столько деревьев сразу – когда Барс отправил сына вместе с дворцовым караваном пересечь пустыню и привезти драгоценное синее стекло: его делали умельцы одного сердитого народа, живущего на побережье моря Налешт. Там – да, там были леса, поражающие воображение. И еще кедровые рощи, от которых захватывало дух. Так же и здесь. Леса острова кишели зверями и птицами, в ручьях плескалось рыбье серебро, горные склоны затканы были ровным узором виноградников,
Остров окружало странное, недоброе море. Морская волна бывает синей, бывает зеленой, бывает прозрачной – и тогда принимает бело-желтые тона коралловых садов или песка на отмели, В бурную погоду она надевает грозные фиолетовые покровы. Но никогда море не бывает черным. А здесь оно было именно таким: черные волны с серой веной на верхушках. Казалось, вокруг самого острова море чернее и злее. Беснующаяся вода бьет в отвесные каменные щиты берегов с особенной силой. Нигде на острове берег не спускается полого к самой воде. Лишь в одном месте вырубленная в скалах лестница ведет к гавани, внутреннему озеру, защищенному поясом гор от злобы морской.
Бал-Гаммаст заметил, что небо в этих местах ниже, чем он привык. Над островом оно ласковое, голубое, чистое, столь чистое, что не бывает такого в мире, где он живет. Над морем вместо неба – серая каша с темными комками.
Посреди острова, на зеленом холме, высился огромный дом белого камня. Если бы пятьдесят человек один за другим встали друг другу на плечи, а Творец даровал бы нижним силу выдерживать тяжесть верхних, то и тогда верхние не достали бы до самой крыши.
Во сне зрение может сыграть с человеком презабавную шутку: видя что-нибудь под самым носом, он не может ни разглядеть, ни запомнить. Стены дома расписаны были, как стены дворцов страны Алларуад, но сколько ни старался потом Бал-Гаммаст, не смог вспомнить ни одного рисунка. Наверху красовались вытесанные из прозрачного горного хрусталя фигурки людей и животных, витые серебряные башенки, острия шпилей, и все это выглядело величественно и нарядно. Однако подробности покинули память Бал-Гаммаста сразу после пробуждения.
Он почувствовал, что находится у самого входа в дом, заходит внутрь, оглядывается по сторонам.
Отсюда стены казались светлой дымкой, крыша была прозрачной, и по небу плыл князь Ууту во всем блеске, щедро делясь теплом. Вместо пода стелились мягкие травы, ячмень колосился на полях, перечеркнутых каменистыми реками с чистой, как в колодцах, водой. Здесь и там разбросаны были селения, пасся скот. Люди ходили в красивых, разноцветных одеждах. Ни ветер, ни зной, ни потоп, ни голод, ни вторжение вражеского войска не угрожали им.
Жизнь торжествовала в светлом доме на острове.
Бал-Гаммаст подумал: «Все это похоже, наверное, на небесный чертог, из которого Творец выгнал когда-то людей за непослушание. Наверное, потом он сотворил для них на Земле нечто похожее. В десять раз хуже того, чем владели они до изгнания, и в десять раз лучше того, чем владеют они сейчас повсюду. Повсюду, кроме, может быть, Царства».
Некто велел ему: «Обернись!»
Бал-Гаммаст повиновался. Здесь, у самого входа, легчайшая дымка оборачивалась каменной стеной. Он пригляделся. А!
Стена снизу доверху, сколько улавливал глаз, покрыта была сетью трещин. Так дряблая таблица старческого тела обезображена бывает немилосердными строками морщин…
* * *
Дорогой от Баб-Аллона молодой царь успел переговорить с Месканом о тысяче вещей. Отряд спешил, но его путь, прерываемый полуденным солнцем и полуночным холодом, был все-таки неблизким. Мескан, мудрый человек, оказался отличным собеседником. Бал-Гаммаст неуютно чувствовал себя рядом с ним. Холодноват, да. Но не каждому определено Богом источать тепло свежеиспеченного хлеба… Очень красивый человек. Очень спокойный. Очень закрытый… Правильная мужская красота, соразмерность во всем. Солнечных кругов ему вдвое больше, чем царю: в темных, коротко стриженных волосах одна седая нить цепляется за другую… Бал-Гаммаст никак не мог решить для себя: робок Мескан или храбр? Ему нравились смелые люди, он хотел бы видеть смелых людей вокруг себя. Но ученик первосвященника вел себя по-разному и никак не давал решить этот вопрос окончательно,
– Откуда ты знал о Завете, Мескан?
Однажды он принес Бал-Гаммасту почерневший от времени серебряный футляр, внутри которого оказался прямоугольник из тонко выделанной кожи; на нем-то и был выведен несмываемой и не выцветающей от времени краской «Секретный канон». «Тут, государь, о старинном Завете, полученном когда-то от самого Творца. Моими устами первосвященник баб-аллонский просит тебя прочитать это в уединении…» С того мига мысли Бал-Гаммаста заняты были содержанием Завета. Но теперь он отвлекся и вдруг понял, сколь дорого стоит этот человек, ведь не кто иной, как Сан Лагэн, передал в его руки величайший секрет Царства. Должно быть, самый надежный хранитель тайн во всей земле Алларуад…
– Тот, кто в Храме, скоро умрет, – просто ответил Мескан.
– Сан Лагэн умрет? Как?
– Государь…
– Не нужно.
– Государь, в подобном разговоре мне удобнее говорить так, как мне подобает это делать, а не так, как ты разрешил.
– Хорошо. Говори же.
– Государь, один солнечный круг – самое большее, на что хватит мэ первосвященника баб-аллонского.
– Отчего ты так спокойно сообщаешь об этом? Он ведь твой учитель! Сан Лагэн…
– Моя боль и мои чувства – совсем не то, что может кому-то пригодиться. Отец мои и государь» «Секретный канон» создавался словами царя, рукой первосвященника и повелением Творца. Тот, кому он не предназначен, даже и узнав о «Секретном каноне», даже прочитав его, ничего не запомнит. Письменные знаки немедленно покинут его память… Твоему брату показали «Секретный канон» Маддан-Салэна раньше, чем тебе, и он все рассказал царице Лиллу. А потом очень удивлялся, отчего Та, что во Дворце, не понимает ни слова о Завете, сколько бы государь Апасуд ни пытался завести с ней разговор о тех давних делах.
– Сан Лагэн… Сан Лагэн…
– Сан Лагэн умрет, когда Бог перстом проведет черту, обрывая его срок… Я скорблю об этом. Но сейчас он еще жив, зачем же оплакивать его прежде времени?
Мескан был прав своей холодной прямой правдой. Бал-Гаммаст промолчал, тут ничего не скажешь. Его собеседник продолжил:
– Государь, когда мэ первосвященника исчерпается, я займу его место. Иначе и я не запомнил бы ничего. Храм и Дворец – одно. И готов подчиняться твоей воле, так же как и ты, я думаю, не желаешь зла Храму.
Бал-Гаммаст постарался сохранить спокойное лицо. Впрочем, сейчас уже не имеет значения, что, когда и чья память сохранила…
– Твой брат, государь, возобновил Завет немедленно. Но без тебя его действие осталось незавершенным. Не будет ли с моей стороны…
– Мескан, я расторг Завет.
– Ты! Ты…
– Я расторг Завет. Осуди меня. Осуди меня теперь, ты, тот, кем будет держаться Храм земли Алларуад! Я сделал ошибку? А? Я был уверен: нет ошибки! Теперь я сомневаюсь, Мескан. Ты обещал покоряться моей воле, зная, сколько мне солнечных кругов… Но я-то ведь тоже помню свой возраст! Может быть, я ошибся, Мескан? Что ты думаешь? Я по дурости убил свою страну? А? От молодечества. Опыта не хватило. Отец мой… мой отец, Барс, и дед, и другие, умные же люди, все они ведь иначе поступили… У меня… У меня… Такое было красивое, искреннее чувство, мне показалось – правильное. Мне показалось, сам Творец вложил его в меня… Такое красивое чувство, я не мог ему не подчиниться! Что, Мескан?
Он почти кричал.
– Государь, я боялся… и… надеялся, что хоть тебе хватит духу…
– Что?
– Только тише, тише! Зачем кричать о таком? Они отъехали с дороги и остановились на таком расстоянии от войска, где никто не услышал бы их.
– Государь! – И тут Мескан заговорил с горячностью, которую Бал-Гаммаст меньше всего ожидал найти в нем: – Государь! Мы когда-то сломали замысел Творца и все еще продолжаем доламывать его. Кому Царство скручивает шею, подавляя мятежи? Своей же собственной части, краю Полдня. Я склоняюсь перед соразмерностью Царства, перед гармонией жизни, власти и веры, я понимаю, почему так хотелось царю Маддан-Салэну сохранить это навечно… Но есть другая гармония, еще глубже, еще важнее, и она не велит сохранять навечно ничего, помимо двух вещей…
– Каких, Мескан?
– Вечна любовь в нас самих и Бог над нами. Царство – очень правильная жизнь, очень красивая и очень надежная. Но Царство меньше любви и меньше Бога. Во мне самом такой любви нет, но разумом я понимаю, как должно быть… Творец захотел другого. И отступился от своего замысла, пожалев одного человека, царя Маддан-Салэта. Но на благо ли это всей земле Алларуад? Вот край Полдня: тот же вроде бы народ алларуадцев, населяющих срединные земли, а… не тот. Моложе. Восемьсот солнечных кругов назад, по слову царя Халласэна Грозы и его преемников сюда уходили из коренных областей Царства самые отважные люди, самые сильные, и была им льгота от государей баб-аллонских. Потом их захотели сделать такими же, как все прочие алларуадцы, и край Полдня восстал, ведь не умеет юноша жить подобно старику… У них тут иные обычаи, они лишены нашей мягкости, даже язык тут иной…
«А ведь верно… Они не совсем то, что мы. Вернее, они – тоже мы, но чуть-чуть другие». Бал-Гаммаст слушал Мескана очень внимательно. Да, здесь говорили иначе. «Здесь» – значит на земле, которая лежит полдневнее Иссина и Ниппура; эти два города вроде врат между двумя половинами Царства… Здесь его собственное имя нещадно корежили, произнося «Билагамэсэ» или вроде того. Алларуад называли Иллуруду, да и всякое слово звучало напевнее и свободнее. Старость и юность, слабость и сила… В последнее время с ним часто говорили об этом. Уггал Карн, Масталан, Мескан. Да он и сам кое-что знал. Царству дарован был необыкновенно долгий закат, слишком долгий, неестественно долгий…
– …Может быть, государь, им следовало победить тогда… при Маддан-Салэне. Разогнали бы потом суммэрк, поставили бы в полный рост иное Царство, новое, но не настолько новое, чтобы в нем умерла вечная истина. Их бунтари были чистыми людьми. Я много читал о тех временах… Потом стали хуже, злее, подлее. Сейчас, говорят, сплошная гниль…
Бал-Гаммаст вспомнил того мерзавца, оскопленного по воле Барса. Да, грязь. Да, гниль. Если и была у них чистота, то давно вся скисла.
– Но, может быть, осталось еще что-то. Если мы, падая, не потянем их ко дну, если они не уподобятся жестоким людям числа, суммэрк, если не растворятся в этом племени без следа, тогда, наверное, в них сохранится какая-то струя света. Наверное, не само Царство, но… но… хотя бы образ Царства. Ты, государь, пожертвовал благополучием страны Алларуад. Творец, сделай так, чтобы эта жертва не оказалась слишком запоздалой!
Бал-Гаммаст подъехал к Мескану вплотную, обнял его и поцеловал в висок. Сколько холодных и красивых мыслей наговорил этот человек, и надо бы кое-что запомнить – пригодится… А кое-что сразу же выкинуть из головы за ненадобностью. Но среди всего Месканова нагромождения одно обдавало истинным теплом: Царство меньше Бога и меньше любви. Оно красиво, оно родное, но следует его отдать.
Тогда, прочитав «Секретный канон», Бал-Гаммаст решил все очень быстро. Любишь Бога – так и верь Ему, Он о тебе позаботится. Чувство доверия было необыкновенно сильно в Бал-Гаммасте. Такому он не посмел сопротивляться. Да разве может случиться, чтобы Творец не позаботился обо всех любящих Его теперь, когда пошатнется главная опора их жизни!
И царь прошептал в тот миг: «Боже, пускай Завета больше не будет!» Произнеся несколько слов, расторгших Завет, Бал-Гаммаст сейчас же ощутил, как соткалась из воздуха рука и ласково погладила его по голове; затем соткались уста и прикоснулись к его щеке.
А потому ничуть не усомнился в правильности содеянного. Сомнения пришли к нему потом…
Не будет, значит, острова со светлым домом… Но… как там Мескан говорит? Струя света во тьме? Остается надеяться на свою силу и Его помощь.
– …Ты утешил меня, Мескан.
* * *
Бал-Гаммаста одолевали тысячи вопросов. Поздно вечером, уже на привале, он возобновил разговор с Месканом. Но на этот раз беседа не задалась.
– Мескан, неужто всему суждено разрушиться? Неужто все погибнет?
– Не знаю. Думаю, прежде всего нам покажется, будто жизнь встала на уши и поскакала на них резвым скоком. Все вокруг переменится. Даже подумать страшно.
Бал-Гаммаст рассмеялся:
– Кто придет нам на смену, Мескан? В ком растворимся мы… «струйкой света»?
– Я думал об этом много раз. Точно сказать трудно. Только не гутии, только не они! Иначе – всему конец. Кочевники с Захода? Лучшее из возможного. Бал-Адэн Великий как-то сказал: «Их кровь легко мешается с нашей». Но скорее всего это будут суммэрк.
– Суммэрк?
– Сейчас их земли – часть Царства, хотя и впавшая в мятеж. Люди с кровью суммэрк были когда-то нашими государями. Мы живем рядом с ними вот уже несколько сотен солнечных кругов. Они неутомимы, трудолюбивы, многочисленны и знают, как нужно холить эту землю, чтобы она не предала хозяев…
– Мескан, с ними тяжело договариваться, если только сила дне за тобой…
– Да, государь. Но скоро их останется не так уж много. Сколько крови суммэрк выпила война!
От этого разговора у Бал-Гаммаста кружилась голова. Сейчас он уже не мог как следует задуматься. Наверное, суммэрк – не худшее из возможного, но почему так противно становится от одной мысли, что они могут стать господами земли Алларуад? Не горько, нет, – противно.
– Худо, Мескан… Худо «растворяться» в людях, которые всего боятся. Смельчаками их способно сделать лишь одно – страх перед чем-то еще более жутким.
– Государь, существуют народы, глаза которых не видят ничего, кроме силы. Большая сила, меньшая сила, но всегда – только сила. Потому и боятся прихода сильнейшего… Но от этого они еще не становятся народами сплошных убийц.
– Мне всегда было трудно их понимать. И не очень хотелось. Отец говорил: ты должен знать то-то и то-то. Так и с народом суммэрк. Я читал, я расспрашивал… Но каждый раз при этом становилось мне тошно. Именно от суммэрк, Мескан. От простого-то разговора о них настроение портится.
– Мы с ними слишком разные, государь. У нас один строгий царь и один милостивый Бог. У них – множество безжалостных демонов, именующих себя богами, и не менее того слабых царьков… по десятку на область. Они не так считают, как мы, они не так думают, время в их глазах никуда не движется, оно в лучшем случае описывает петли и всегда возвращается в изначальную точку. Каждый холм, каждая рыба и каждый день для них суть нечто, поочередно испытывающее влияние разных богов-демонов. Они сами себя считают детьми глины. Боги-де вылепили народ своих слуг-суммэрк из глины. Работать надо, иначе боги накажут. Почитать их надо, иначе наказание не только найдет тебя здесь, оно еще потянется за тобой через порог смерти. Глина распадется, но душу-то можно истязать вечно… Вопрос только в том, сколь сильно станут ее мучить загробные сторожа. Суммэрк темны, это так. Но они хотя бы не одержимы жаждой уничтожения. Кроме того, суммэрк – очень способные ученики. Они всему быстро обучаются.
– Да пойми ты, негоже царю уповать на счастливое рабство своего народа! А ты сам… будешь ведь первосвященником… а в храмах твоих станут молиться какому-нибудь мерзостному Энлилю! Ты отлично все знаешь про суммэрк и умно, наверное, говоришь. Только злит меня эта беседа. Брось, Мескан.
– Государь! В их сказаниях мы становимся то чудовищами, то героями. Пусть хотя бы так послание о Царстве дойдет до будущих…
Бал-Гаммаст прервал его нетерпеливым жестом.
– Я слушал тебя, Мескан, и я слышал тебя. Но, может быть, еще устоит Царство. Или устоят осколки его. Я буду надеяться на это, я буду драться за это. А теперь заткнись.
* * *
Месяц аярт был на исходе. Последняя ночь перед Уруком выдалась жарче обычного. Маленькая армия восстала от полуденного сна и вышла на дорогу в тот же час, что и раньше, но князь Ууту ничуть не утишил своих грубых ласк. Прежде – за день до того, за два, за пять – выходило иначе…
Когда дозорные увидели черный силуэт Урука, прорезавший ночь над холмами, да огоньки костров, Ангатт остановил войско. Энси действовал тихо и быстро, не повышая голоса, не позволяя неразберихе поднять голову даже на один миг. Это был сильный, уверенный в себе человек, отличная опора. Бал-Гаммаст радовался, что именно Ангатт оказался рядом с ним.
Царя окружили два десятка копейщиков: энси велел усилить охрану. Куда-то вперед унеслись три отряда конных разведчиков.
Над открытой землей стояла тишь. Лишь доносились от головы колонны деловитые переговоры Ангатта и сотников, всхрапывали кони да позвякивало оружие. Воины молчали, никто не смел выйти из строя на обочину. Мескан, ехавший рядышком, нервно потирал руки. Наглый крик его онагра раз или два вклинивался во всеобщую негромкую возню…
Войско то продвигалось вперед самым медленным шагом, то вновь останавливалось. Дорожная пыль лезла в глаза. Бал-Гаммаст озяб – такой знойный день и такая холодная ночь… Казалось, всех охватило какое-то странное нетерпение: ну что там? идем, наконец, или становимся на привал?
Шум впереди усилился. Чуть погодя рядом с Бал-Гаммастом появился молодой реддэм, почтительно отправленный Ангаттом с вестями: самому энси недосуг было отвлекаться.
– Отец мой и государь, у самых городских стен разведчики видели банду мятежников. Энси Ангатт собирается напасть на нее.
– Много ли их… там?
– Сотен пять или меньше, отец мой и государь. Энси Ангатт просит подарить ему радость невеликой службы во имя царей-братьев. Он хочет разогнать разбойных людей и очистить дорогу к городу.
Бал-Гаммаст закусил губу. «Он хочет, чтобы я не лез и не мешался. И еще он хочет доставить меня живым и невредимым. А пуще всего он хочет драться и победить… А я? Хорошо, хоть лица моего не видно в темноте». Бал-Гаммаст тоже хотел драться. Но и Ангатта он понимал очень хорошо. Энси не любил случайности, действовал наверняка. Зачем ему сейчас лишние хлопоты? Выполнить простую работу – и дело с концом…
– Хорошо. Передай Ангатту: я буду здесь, пускай займется мятежниками.
Реддэм ускакал. Затем вдоль колонны промчался бегун, какие-то отряды сдвинулись и миновали то место, где стоял молодой царь с охраной. Позади него на дороге осталась добрая сотня бойцов, сюда же подъехали усталые разведчики…
Послышались крики, лошадиное ржание, шипнула стрела, пушенная кем-то из мятежников высоко над головами передового отряда. Бал-Гаммаст, сколько ни вслушивался, не услышал лязга мечей. Потом какие-то тупые удары, как будто деревяшкой о деревяшку, опять крики… Алларуадцы нестройно кричали: «Апасуд! Бал-Гаммаст!» Им отвечали невнятной бранью.
Шум воинского столкновения быстро иссяк. Кажется, дело закончилось в пользу Царства.
– Да что же они там? – нетерпеливо произнес Мескан. Ему никто не ответил.
Вскоре появился давешний реддэм.
– Отец мой и…
– Коротко: суть дела.
– Они разбежались, оставили двадцать убитых. Мы потеряли всего одного… это… энси Ангатт.
– Ранен?!
– Он мертв. Случайный дротик попал ему в горло.
– Как же… – пролепетал Мескан.
Наверное, следовало пожалеть погибшего энси, но в тот момент Бал-Гаммаст лишь подумал с досадой, как не вовремя случилась эта беда. Ему потребовалось время десятка вдохов, чтобы отыскать у себя в голове правильный вопрос:
– Кто командует войском?
– Никто. Энси Ангатт не назначил старшего после себя. Войско подчиняется теперь только тебе, государь.
– Вот оно ка-ак…
Творец ведает – молодой царь не был готов к такому повороту событий и не знал, что ему делать. Все умные мысли в один миг улетучились из головы.
– Тогда… тогда… возвращайся-ка обратно, вели от моего имени опять собрать всех в колонну…
– Уже сделали.
– Да? Ну… пусть идут к самым городским воротам и подождут меня там… Поезжай.
Бал-Гаммаст был сам себе противен. Вею жизнь его готовили к этому моменту. И что же? Царь баб-аллонский не говорил, а блеял.
«Никогда! Никогда я не позволю себе такого голоса…»
– Подожди, – сказал он Мескану и повторил: – Подожди.
Тот удивленно уставился на царя: кажется, никто ничего у него не просил и не спрашивал…
Бал-Гаммаст молча собирался с духом. Потом хрипло выкрикнул:
– Старшие разведчиков и сотник… ко мне, сюда!
Те живо оказались рядом с ним.
– Ведите своих к воротам самым скорым шагом.
…Подъехав к Уруку, он услышал обрывок вялой перебранки. Один из сотников кричал: «…за вас дрались». Со стены ему отвечали: «Еще надо посмотреть, кто вы такие! «Царь спешился, велел подать ему факел и подошел к стене.
– Я Бал-Гаммаст.
– Да ты… – было вякнул кто-то сверху, во ему живо заткнули рот: кто ж знает, а вдруг этот, внизу, – и впрямь царь…
– Освети лицо! – раздался властный голос. Очень знакомый.
Осветил.
– Разглядел, Медведь?
– Да, отец и государь. Прости. Сейчас откроем ворота.
Бал-Гаммаст огляделся. Ворота! Ха! Стена едва держалась: даже в темноте видно было, до чего она искорежена. Кое-где ее снесли до половины, в других местах – полностью, до самого низа. Огромные проломы перегорожены были завалами, над ними поблескивали медные бляхи копейщиков.
«Ну и война тут шла…»
Он шагнул в низкий коридор надвратной башня. Навстречу ему вышел здоровяк в шлеме и полном пехотном доспехе. Пратт медлил, не зная, как ему приветствовать правящего царя баб-аллонского. От большой умственной натуги он не сдержался и ляпнул:
– Вот незадача…
Бал-Гаммаст рассмеялся:
– Здравствуй, дедушка!
– Э! Салажонок…
Они обнялись.
– Как ты жив-то тут, Пратт?
– Да сам понять не могу. Без Творца дело не обошлось.
Мимо них медленно проходили баб-аллонские сотни. Урук встречал своего владыку пустынными улицами и звездным небом.
– Как дела в городе, Пратт?
Сотник почесал подбородок. Почесал в затылке. Копнул в ноздре. Потер глаза.
– Отоспись. Завтра… не торопись вставать.
Это был мудрый совет. Бал-Гаммаст последовал ему, еще не сознавая всей мудрости Медведя. Следующий раз государю баб-аллонскому удастся отоспаться лишь через несколько месяцев.
* * *
Что главное в городе? В любом городе Царства? Без чего не может существовать ни один город Царства? Без дворца правителя? Нет. Правитель – обыкновенный человек, и, если снимет приличествующие его чину одежды, положит наземь оружие, позабудет о гордом взгляде и высоких речах, никто не отличит его ото всех прочих мужчин. Чтобы судить, правителю достаточно чистого поля и высокого кресла. Чтобы пережить ночь, ему хватит длинного теплого плаща или конской попоны. А чтобы сытно питаться, можно обойтись и доброй корчмой… Так ли уж потребен правительский дворец с трапезными залами, просторными опочивальнями и судным двором? На худой конец, заменит его любой дом, построенный основательно и красиво, соответственно положению правителя. Кое-кто говорит, что дворец поддерживает уважение к власти, но и это неправда. Если кто-нибудь получил под свою руку город или страну, как Бал-Гаммаст получил Урук, край Полдня и половину власти над всей страной Алларуад, то, значит, власть пришла к нему от Бога, а не от дворца и содержится опять-таки в человеке, а не в роскошном строении. Дворец ли уважают?
Львиный дворец лугалей Урука разбит и разорен был до состояния жалобной ветхости, а кое-где стены его совершенно обрушились. Бал-Гаммаст выбрал для себя несколько комнат, велел прибрать в них и решил, что всеми остальными помещениями, как бы жалко ни выглядели они, придется заняться в последнюю очередь… Есть вещи поважнее.
Варе когда-то говорил: «Нет в Царстве города без храма и крепостных стен. Если рухнули стены – значит, уже не город, если рухнул храм – город, но не в наших краях».
Челюсть крепостных стен Урука приведена была в страшное состояние. Осколки «зубов» щерились беспорядочными грудами кирпича-сырца и обожженной глины. Кое-где стена была цела на протяжении пятидесяти или даже ста шагов, но не более того. Да и храм в городе оставался всего один: его восстановили при Уггал-Банаде. Все прочие храмы со времен мятежа стояли в развалинах. Иштар, поселившейся здесь в ту пору, не требовались каменные святилища; владычица Урука пожелала владеть священным садом, устроенным специально для нее… Уцелевший храм стоял пуст, так как последний священствующий погиб в один день с Уггал-Банадом. Тело его до сих пор не могли отыскать.
Как раз на этот случай Сан Лагэн дал Мескану особую табличку. В соответствии с нею Мескан теперь становился первосвященником Урука и мог ставить священствующих в другие храмы, когда они будут восстановлены.
Со стенами дело обстояло намного сложнее. У Бал-Гаммаста было восемьсот бойцов и с десяток ученых шарт. У Пратта оставалось сто тридцать копейщиков, десятка три лучников, а также четверо шарт. И как он удержал город – знает один Творец… Всего вернее, мятеж тоже пришел в немощь, и нечем было ему взять старый Урук. Еще в городе было двести ополченцев, подчинявшихся почтенному Харагу, старшему агулану Урука. И если бы ему пришло на ум вновь отдать город Энкиду, или, скажем, Нараму, или какой-нибудь бродячей шайке «борцов Баб-Ану», а то и просто разбойной, то эти две сотни урукцев повиновались бы его приказу. Увидеть бы этого Харага… Во дворце он появляться не торопился. Кроме того, в земляных ямах сидело восемьдесят пленных бунтовщиков, главным образом суммэрк. Пленников, допустим, сразу можно было отправить на восстановление стен. Воинов молодой царь разделил на три части: одна из них должна была охранять город, другая отправлена была вычищать край от всяческих банд, наполнивших землю Полдня в военное время, а третья занялась все теми же стенами… ходило до смешного мало первых, ничтожно мало вторых и уж совсем курам на смех – третьих.
А еще следовало помочь эбиху Дугану, изнемогающему в земле суммэрк, эбиху Лану Упрямцу, безуспешно осаждавшему гордую Умму, установить добрую связь и безопасное дорожное сообщение с Лагашем, подправить кое-что из каналов и колодцев, подселить новых людей в пустеющие деревни, восстановить правильный суд и рассудить дела, давно ожидающие своей очереди, и много другого. Так много, что в первый же день у Бал-Гаммаста дух захватило от одного перечисления всего самого важного и неотложного…
Ему требовалась помощь города.
Вечером он позвал к себе старших людей Урука, и прежде всего Харага.
Явились двадцать человек: агуланы, тамкары, просто очень богатые люди, старый писец таможни, уважаемый всеми за необыкновенную честность… Двадцать пар настороженных глаз. Двадцать пар каменных лиц. Впрочем, нет, кто-то там, за спинами стоящих впереди, легонько ухмыляется.
– Я приветствую тебя, старый Урук. Кто будет твоим голосом?
– Я, отец мой и государь. Старший агулан Хараг.
– Мне приходилось слышать о тебе, Хараг. Я доволен твоей службой. Ты сделал много доброго Уруку. Без тебя город достался бы мне не иначе как в развалинах.
– Я старался, государь, делать доброе городу.
Итак, Хараг не пожелал ответить любезностью на любезность. Бал-Гаммаст обозлился. Урук, какой бы он ни был драгоценностью, всего лишь кусок Царства. Откуда такой гонор? Откуда? Или тут не вставал мятеж? Или не пылало туг преступное буйство? Или не было урукской дружины на том поле, где царственный Барс выпустил кишки бунту?!
Полдень моложе. Полдень может оказаться надеждой… Бал-Гаммаст представил себе собственный гнев в виде лохматого пса, схватил его за глотку и хорошенько сдавил. Лес выпучил глаза и жалобно заскулил.
Пауза затягивалась.
Нет, нет, только по делу.
– Крепостные стены Урука приведены в негодность. Я отправлю своих воинов чинить стены, но это нужно нам всем. Город должен помочь, рабочих рук не хватает.
Старшие люди Урука переглянулись. Видно, между собой они уже говорили об этом деле и поладили на чем-то определенном. Хараг прошелся взглядом по лицам.
– Город даст людей сколько потребуется, государь.
– Начнем работу завтра же.
– Город готов, государь. Но…
Хараг замолчал. Бал-Гаммаст мог бы ему помочь, мог бы спросить, в чем дело, отчего собеседник не дерзает заговорить… Но собеседник явно только делал вид, что не дерзает. Вот пускай сам и начнет. Барс как-то сказал ему: «Не торопись делать за других людей то, что они и сами обязаны были сделать».
Старший агулан внимательно посмотрел на молодого царя. И – как ни бывало смирения в его речах:
– Урук остался без мужчин, отец мой и государь. Одни погибли, другие служат неведомо где, третьи в плену, четвертые отрабатывают в дальних краях мятежную свою провинность. Мужчин мало в Уруке. Некому зачать детей. Нашим женщинам, да и многим женщинам по всему краю Полдня, следует отыскать мужчин… Иначе… поголовье народа уменьшится.
Вот она, старая нелюбовь к столичным шарт с их табличками! Явились – собирать подати, пришли – отбирать, высчитывать положенные Баб-Аллону хлеб и серебро… с поголовья. Бал-Гаммаст счел полезным пропустить это словечко мимо ушей.
Да, он мог бы сказать: восемьсот новых мужчин недавно пришли в Урук. Из них добрая половина не успела обзавестись женами… О чем разговор? Но старый Хараг поставил на своего государя ловушку, как ставят ее на каких-нибудь мелких зверушек: нельзя тем женщинам, у которых мужья оказались невесть где, предлагать других мужей – это против закона. Хараг ждал, ждал, ничуть не выдавая своего нетерпения, ждал со сладостным трепетом: давай же, скажи, побудь посмешищем в глазах Урука!
– У меня есть один свободный мужчина для старого Урука и всей земли Полдня. Это царь и сын царя Бал-Гаммаст. Любая из одиноких женщин, о которых Урук говорил только что голосом старшего агулана Харага, может взойти на мое ложе. Если, конечно, она здорова и бездетна. Каждую ночь. И мы можем начать с сегодняшней ночи. Любой женщине из тех, кто понесет от меня ребенка, будет дано достаточно серебра на его воспитание.
Этого они не ожидали. Никак не ожидали. Даже не сразу поняли. Не поняли в достаточной степени для того, чтобы изумиться… Закон Царства разрешал любой женщине взойти на царское ложе, и это не сочли бы преступлением, изменой супругу, достаточным обстоятельством, чтобы разлучить мужа и жену. Даже ребенка, родившегося от ночи с царем, никто не назвал бы незаконным. У царя баб-аллонского не бывает незаконных детей… Это очень древний закон, не все о нем помнят, но ведь никто его и не отменял.
– …В достаточной ли степени я удовлетворил желания города?
– Урук благодарит тебя, государь Бал-Гаммаст. Старшие люди города собрались уходить, но царь не отпустил их.
– Это еще не все. Я хочу, чтобы вы посмотрели на двух людей, стоящих слева и справа от меня. Пратта Медведя вы знаете. Второй – ученик первосвященника баб-аллонского, именем Мескан… Взгляните на них, запомните: после меня их слово в Уруке будет выше всех прочих. Мескан встанет во главе Храма в вашем городе. А Пратт… Его службой я доволен. До сих пор он был простым сотником, но сейчас я дарую ему чин тысячника и звание реддэм – с правом передать его детям.
– Балле… отец мой… э-э… и государь мой… я… вот задница…
– Еще он получит право называть меня как угодно… Потому что называть правильно все равно никогда не научится.
Бал-Гаммаст поймал несколько одобрительных улыбок. Это все, что удалось ему сегодня. Это все. Он бился о город, как о скалу. Он чувствовал с необыкновенной ясностью: город видит в нем чужака. Город приглядывается, город принюхивается, подобно огромному зверю. Город не любит его, хотя и не испытывает ненависти. Город холоден к царю. Глаза Урука говорили: «Прислали мальчишку. Дела идут плохо. Вояка! Устроил какую-то свалку у ворот… Стены – да, это понятно. А бабы? Хы-хы. Посмотрим на него, каков он, посмотрим… Лихой котенок…»
* * *
Поздно вечером по приказу Бал-Гаммаста был погребен энси Ангатт. Со всеми подобающими почестями. Говорят, он мечтал стать эбихом и прославить имя свое победами…
* * *
То место в душе Бал-Гаммаста, где жила любовь, устроено было совершенно иначе, чем у отца Барса. Тот по-настоящему сильно любил только страну; намного меньше – жену и детей, хотя и умел бывать с ними внимательным, ласковым, заботливым… Со всеми другими царь Донат был ровен. У Бал-Гаммаста любовь разматывалась на мириады нитей, и, кажется, он мог бы полюбить весь мир. Творец ему виделся истинным отцом, обожаемым и великолепным. Отец был вроде старшего брата – сильного и мудрого. Настоящего старшего брата Бал-Гаммаст любил как брата младшего, опекаемого и ранимого. Женщины – мать, сестра, Саддэ и все страстные дочери Полдня, всходившие на царское ложе в сезон зноя, – были им любимы почти одинаково. Пожалуй, как сестры… С каждой из них он мог быть нежен, но никому не позволял разделить мэ. Ни одна нить не оказывалась прочнее других… Бал-Гаммаст не понимал, не чувствовал, что такое жена. И еще того менее он знал, что такое возлюбленная.
Бог служил ему опорой. Людей же же представлял себе чем-то вроде живых цветов на своем лугу.
…Их оказалось очень много – пожелавших царской любви. Больше, чем он мог подумать. Больше, чем хотели старшие люди Урука. Больше, чем позволяло здравое разумение. Но отступать было поздно. И государю, и городу.
…С первой оказалось тяжелей всего. Полная немолодая женщина лежала перед ним, водила зрачками, но больше ничем не двинула на ложе. Куча сырой глины, Молчала. Не проронила ни слова, кроме разве что в самом конце: «Благодарю тебя, отец мой и государь…» Бал-Гаммаст знал совершенно точно: любовь жива в ней, но только это любовь к другому человеку, мэ которого, наверное, уже исчерпалась. Может быть, и единственную ночь с царем женщина провела, подняв перед умственным взором платок с образом того… мертвого.
…Вторая тоже оказалась намного старше Бал-Гаммаста, да и старше Саддэ. Веселая, невероятно искусная женщина. Совсем не красавица. Жидкие волосы, длинный нос, отвратительный шрам на правом боку, хриплый резковатый голос. Однако эта дочь города Урука заставила его испытать добротное удовольствие – как от хорошо приготовленного мяса. Бал-Гаммасту она долго рассказывала городские новости; государь Урука не без интереса узнал о таком, чего не видели и не понимали, вернее всего, ни старый Хараг, ни Пратт Медведь. О! Это было очень полезно. Потом Бал-Гаммаст попытался сделать то, что было бы приятно ей самой. Очень старался, но ему не хватило тонкости. Женщина улыбнулась ему напоследок, мол, не робей, мальчик, для начала вышло совсем неплохо… Но больше он ее к себе не звал. Нет, неправда, было еще один раз. Когда двадцать четвертая расстроила его, да так, что и говорить не хочется. Третьего раза Бал-Гаммаст не пожелал… Царь познакомил ее с Праттом, и они переговорили о делах, но потом Медведь сообщил ему: «Бойкая она, да, точно, как собачий хвост бойкая… Однако службы никакой не хочет».
…Шестая болтала без умолку, но была милосердна к его неопытности. Пахла навозом.
..Восьмая была холодна, как зимний дождь. Всего боялась. Ее ледяные пальцы сбили его раз, другой… Потом царь повернул супругу-на-ночь спиной к себе и… не сбился.
…Однажды Бал-Гаммасту попалась женщина, удивительным образом подходившая ему телесно. До такой степени подходившая, как никто из прежних. Невысокая, коренастая, крупногрудая. Тонкие брови, широкие скулы, упрямо сжатый рот. Из земледельческой общины, жившей на расстоянии одного дня пешего хода от Урука. Крепкие руки. И удивительно, несообразно чистая кожа: ни родинки, ни царапины. Чистая, благоуханная кожа… От женщины пахло душистыми травами. Ее походка ничем не отличалась от походки тысяч других женщин. Все, что она говорила, было либо неинтересно, либо противно Бал-Гаммасту. Все, чего она желала, показалось ему глупостью… Он соединялся с нею без устали добрых полночи. Она умела принять его тело, словно дар Бога. Но утром, когда Бал-Гаммаст взглянул на нее, еще не проснувшуюся, и почувствовал, как возвращается желание, он немедленно ее отослал. Можно спалить всю свою мэ на очень сладкие вещи, но на смертном ложе горькой покажется такая мэ… Он запомнил ее имя: Маннарат, Маннэ. Имена других Бал-Гаммаст забывал очень быстро.
…Двадцатая из тех, кто пожелал царской любви, была очень смешлива. И смеялась в самые неподходящие моменты.
…То ли двадцать первая, то ли двадцать вторая оказалась грубой, как мужчина. Ей хотелось драться с царем. Высокая, гибкая, жилистая, пропахшая тиной речной, дочь рыбака. Она все рассказывала, как надавала затрещин одному парню, другому, третьему… Глаза у нее были зовущие, играющие. Глубокие темные глаза, она попыталась стиснуть Бал-Гаммаста… взглядом. Движения были у рыбачки – в точности как у горной реки. То плавные, нежные, а то вдруг она бросалась на царское тело, как взбесившаяся вода на камень. Бал-Гаммаст драться с ней не стал. Послушал ее. Вытерпел игривый шлепок, вытерпел все ее намеки на «хорошо-бы-схватиться!», вытерпел пихание локтем, потом сказал: «Не тем ты родилась, милая девица» и живо сделал свое дело. Она вскрикнула, закрыла глаза и надолго ушла в какие-то невидимые страны. Голова перекатывалась по одеялу, уста шептали нежные слова на несуществующем языке… «Вот и не тем… Ой…» – оторопело думал юный царь. Как только очнулась дочь реки, он отправил ее домой, не дожидаясь утра. Есть женщины, которые могут призывать лихо одним своим присутствием. Не хочешь лиха – не связывайся. Уходя, рыбачка смотрела на Бал-Гаммаста, но не видела его, как будто он стал прозрачным.
…Не откажется ли он разделить ложе со слепой? Не отказался. На взгляд, совсем еще девочка, ничуть не старше Бал-Гаммаста. Тоненькая, хрупкая, светловолосая. Жадна была до ласк и высосала из него все силы, будто вино из меха. Он уснул было, но слепая разбудила его и знаками показала: еще! ну еще же! мужчина ли ты? Расставаясь поутру, молила о второй ночи, губы тряслись, все сдерживала рыдания…
…Двадцать четвертая… нет, не хочется говорить. Редкая дура!
…Двадцать шестая сказала ему после первого соития: «Пфф! Хм… царь». Он услышал несказанное: «И это все, на что способен царь?» После второго соития ей пришлось признать: да, царь… Остаток ночи они мирно проспали.
…Двадцать восьмая сжимала губы, не давая себе закричать. Бал-Гаммаст, глядя на нее, изумился и воскликнул: «Да кричи же!» Она ответила: «Нет, я этого никогда не делаю…» Хорошая, милая женщина. Нерешительно-нежная. У нее еще был серебряный браслет старой работы. Уходя, она оставила его Бал-Гаммасту в подарок.
…Двадцать девятая… начисто выпала из памяти.
Царю все казалось: приходят к нему женщины из плоти и крови, а ложе он делит с воздухом и цветами.
* * *
…Нестерпимый месяц таммэст властно правил всей землей Царства. Небо ослепительно сияло его раскаленным лицом. Ветер с Захода, рожденный знойным сердцем пустыни, перешагивал через темный поток великой реки Еввав-Рат, сеял повсюду безжизненное семя барханов, приправлял пылающее небо черным румянцем песчаных туч и в изнеможении бился о стены Баб-Алларуада. Вода в каналах умирала раньше обычного. Ночь между днем и днем была как скупой глоток воды. Люди опасались выходить из дому от восхода и до самых сумерек. Крепыш Ууту, разжиревший, красномордый, играючи губил огненными пальцами все живое. Как может солнце давить людей? А вот, оказывается, и таким бывает оно – вроде тяжкой пяты на хребте…
Старики не помнили, чтобы таммэст когда-нибудь бывал столь же гневным, как в это лето. Кажется, мэ всего мира стекала воском по медной бляшке на щите. Кажется, стены, облицованные кирпичом, возжелали вспять повернуть свою суть и вновь превратиться в простую бесформенную глину. Кажется, сила жизни толчками выходила из людей, разом постаревших и ссутулившихся, – подобно крови, покидающей рану.
Эбих Асаг в час, когда еще далеко до сумерек, уронил голову на стол в корчме у ворот квартала шарт. Здесь никто из воинов не увидит, как лучший солдат города наливается вином. Асаг не покидал корчму третий день. Презрев полдневное пекло, он оставался там, когда никто не решался остаться и хозяйка закрывала дом. В первый день за эбихом зашел тысячник Хеггарт. И сначала он говорил очень ласково, даже заискивающе, хотя такого не водится среди реддэм. Асаг упрямо молчал. Потом Хеггарт позволил себе сказать несколько фраз тоном выше допустимого. Эбих тогда повернул к нему голову и ответил одним словом:
– Вон.
– Что? Что? – в растерянности переспросил тысячник.
– Вон, шелудивый пес!
На другой день эбиха посетил целый десяток отборных копейщиков.
– Царевна Аннитум желает видеть тебя прямо сейчас… – только и успел произнести их командир.
Асаг выхватил у ближайшего воина из рук копье и молча ударил десятника тупым концом по голове. Копейщики было двинулись на него, но эбих остановил их одним взглядом.
– Но… царевна… – лепетал десятник, размазывая кровь по лицу.
– Ты знаешь меня, Брадд. За то и получил. Уходи. Десятник не решался убраться, не сделав порученного дела. Тут Асаг посмотрел на кучку солдат и произнес:
– Надо бы сказать вам не «уходите», а «бегите»… Жаль, я не приучен к таким приказам. Надо бы скорей приучиться, жопа ослиная, а то ведь как болит моя несчастная голова! Как болит, как болит! До чего она, проклятая, болит, спасу нет…
Копейщики невольно попятились. Глаза у хмельного эбиха светились тяжким безумием. То ли болью. То ли пьяным задором. То ли всем сразу, что уж совсем нехорошо… Теперь, когда это заметили, подойти к нему решился бы только смертник. Солдаты оставили эбиха в покое.
Без малого три дня Асаг пил и не пьянел, пил и не пьянел, пил и не пьянел. А потом просто устал и заснул, уткнувшись лицом в ивовые прутья стола.
Тогда старый мудрый агулан всех городских писцов-шарт, давно наблюдавший за военачальником, подошел поближе. Он вытянул морщинистую старческую шею и почти уткнулся носом в Асатов висок. Спит. Точно спит. Нет никаких сомнений – спит. Тогда агулан кликнул четырех ловких молодцов-гурушей… Те, соблюдая величайшую осторожность, сняли с эбиха оружие, связали его крепчайшей жильной веревкой и понесли на двор к царевне.
Та кружила по двору на дорогом караковом жеребце и любовалась своими девушками-воинами, состязавшимися в искусстве меча, копья и лука с копейщиками гарнизона. Гуруши положили Асага в тенек, рядом прилег отдохнуть его меч. Царевна знаком отпустила агулана и его людей. Она приблизилась и взглянула на связанного мужчину. Он был хорош. Почему раньше она не замечала этого? Высок – в точности как сама Аннитум, черноволос – волосы были срезаны цирюльником очень коротко, чуть ли не до самых корней, и… лицо… какое красивое было у этого человека лицо. Хищное. Заостренный подбородок, тонкий, чуть изогнутый книзу нос; маленький, как у женщины, рот; высокий лоб без морщин; чуть смугловатая, почти белая кожа – такой светлой кожи иной раз не сыщешь у одного из десятка жителей Царства; брови, приподнятые как будто насмешливо… Ай! Только сейчас, когда глаза Аннитум привыкли к тени, царевна увидела, что Асаг и сам рассматривает ее. Она невольно вздрогнула. Как будто горный лев, тощий и жестокий, встретился с ней взглядом.
Аннитум быстро справилась с волнением. Держась за шею Каракового, она наклонилась и мечом разрезала веревки. Только после этого царевна позволила себе спросить:
– Ведь ты будешь вести себя смирно, эбих?
Позорно было бы задать этот вопрос связанному человеку. Но как страшно – развязывать горного льва!
Эбих, растирая запястья, поднялся.
– Благодарю тебя. Я буду вести себя так, как прикажешь ты, царевна и мать.
– Отлично! Я звала тебя, и ты не явился. Я нуждалась в тебе, и ты оставил меня и своих воинов Я послала за тобой людей, и ты разогнал их, как голодных псов. Эбих, почему?
Асаг опустил глаза.
– Все напрасно, мать и царевна. У меня так болит голова…
Аннитум расхохоталась. Она постаралась сделать свой смех оскорбительным. Ей хотелось спорить с этим человеком, ей хотелось задеть его, покорить его. Но она была слишком горда, чтобы унизить непокорного.
– Что ж, тебе удалось ударить меня, мать и царевна…
– Ты будешь называть меня Аннитум. Аннитум, и больше ничего. И ты станешь в точности выполнять все мои приказы, вплоть до ничтожнейших. Мне хватит решительности, чтобы казнить тебя после первого же ослушания.
– Смерти от твоей руки и по твоей воле я не боюсь. Она и так стоит между нами и держит ладони на наших плечах.
Не сумев разозлить эбиха, она разозлилась сама:
– Что ты хочешь сказать, Асаг?! Ты боишься головной боли и не боишься смерти? Поистине, мужчина, подружившийся с хмельным питьем, жалок…
– Что я хочу сказать, Аннитум… Ты прекрасна. Никогда я не видел женщины красивее тебя. Мои глаза, царевна, не хотели бы видеть это тем мертвым. Дай мне, Творец, счастья умереть до того.
Больше всего на свете ей хотелось ударить его. Крепко ударить. Так, чтобы потом болели пальцы. Но царевна сдержалась. На ум ей пришли два великих человека, умевших управлять людьми: мать и отец. Мать была соперницей, а отец – богом, но оба они владели искусством власти. Кроме того, оба умели сохранять самообладание и внешнее бесстрастие, борясь с волей тех, кто не желал подчиняться. Аннитум решила последовать их примеру. Она не размыкала уст, пока не убедилась, что может говорить спокойно. Только после этого царевна задала вопрос:
– Эбих Асаг! Твой долг означает повиновение. Сейчас это прежде всего повиновение мне, правительнице города по воле царей-братьев и нашего отца Доната. Оставь шутки и похвалы. Объясни мне, отчего ты пренебрег своим долгом?
Мужчина опустил голову. Кажется, губы его шевелились. Молится? Аннитум терпеливо снесла его молчание. Донат Барс как-то сказал: «Следует беречь столпы Царства». Мать тогда ответила ему: «Следует осторожно разговаривать с самыми сильными и опасными людьми Царства».
– Аннитум! Существует две правды. Одна совершенно ясна и по этой причине совсем не похожа на правду. Другая видна только мне одному, и я прослыву безумцем, если выскажу ее всю до конца.
– Начни с первой.
– Ты помнишь ту ночь, когда из города по твоему приказу ушла черная пехота? Вся, до единого бойца
Она промолчала. Только в этот миг царевна поняла: этот мужчина имея над нею какую-то странную, противозаконную власть. Она… трепетала в его присутствии. Никак не могла определить, гневаться ли на его слова, прощать ли, принять ли их всерьез или сейчас же забыть, как неудачную шутку. Когда Асаг стоял рядом, она становилась подобна неверному порывистому ветру… Но довольно. Все это должно отойти в прошлое. Царевна знала, что именно будет говорить ей эбих. И только слабость зазвучит в его словах. Одна только слабость мягкого сердцем мужчины,
«Наши сердца холоднее – подумала она, – мы тверже. Они устали считать себя победителями. Мы – как раз научились. Они всегда хотят иметь резервы за спиной. Мы готовы драться, когда угодно и с кем угодно».
Она почти испытывала сожаление, прощаясь с силой Асага.
– Пять дней я всеми силами противился отправке черных в столицу. И ты вывела их из города, когда я спал, когда я не мог остановить их.
– Да, эбих. И я была права.
– Ты можешь наказать меня, царевна, но ты ошибаешься. В городе не осталось никого, способного остановить гутиев. Обычных солдат они погубят в первом же приступе. Твоих девушек, на которых ты так наденешься, положат, ничуть не испытав стыда. Я обязан сохранить город, предотвратить вторжение гутиев на землю Царства и сберечь твою жизнь. Город падет, врата Царства откроются, ты погибнешь. Я не могу предотвратить этого.
Туг гнев Аннитум перестал быть ее личным делом и превратился в дело правления.
– Я не верю в это, но, даже если бы все было именно так, отчего ты не стал готовиться к битве? Отчего ты не пожелал продать свою жизнь и жизни твоих воинов подороже? Отчего ты не захотел убить как можно больше гутиев, чтобы как можно меньше их угрожало сердцевине Царства? Отчего ты; эбих, Мир Теней тебя поглоти, ничего не сделал за эти дни и только налился вином по самые уши! А? А?
И она с удовольствием выругалась – теми словами, которые слышала разок у походного костра копейщиков и которые никогда не осмелилась бы произнести в присутствии матери.
Эбих не поднимал глаз. Аннитум крикнула, почти взвизгнула: «Ответь!» Добрая половина людей во дворе вздрогнули: голос правительницы обрушился на эбиха как плеть.
– Да, я виновен в этом… Я… по уши… только не в вине, а в дерьме. Наши сердца постарели… я заливаю вином отчаяние вместо того, чтобы радоваться драке… ты… делаешь ошибки… каких бы делать не должна… Но кое-что я все-таки сделал… отправил сотника Дорта в Баб-Аллон… На лучшем коне… Еще тогда, наутро.
– Зачем? Ты ведь знал: я отдала командиру черных приказ не возвращаться в Баб-Алларуад, а выше моей воли – только царская.
– Я же говорю: прямо в Баб-Аллон. Бегун сообщит, что город взят, а мы с тобой мертвы. Тем скорее они придут сюда – отбивать ворота Царства.
Добравшись до вершины гнева, Аннитум делалась холодна, как дождливая ночь в конце месяца калэм. Тем и отличалась от братца своего Балле. Она усмехнулась:
– А не удариться ли нам в бега? А? Эбих? Тогда не умрем. Ты представить себе не можешь, как обрадуются нам в столице! Вернулись целыми и невредимыми… Правда, город гутиям подарили, ну так это мелочь, зато живы.
Асаг все-таки взглянул ей в глаза. И хотела бы Аннитум отыскать на его лице злости хотя бы на ячменное зернышко – любой настоящий мужчина разозлился бы сейчас. Но нашла только печаль. «Трус? – на миг заколебалась она. – Не может быть. Отец возвысил его».
– Мы не сбежим. Я не оставлю город и солдат, а ты мне не веришь и не поверишь. И есть еще вторая правда. Желаешь знать ее?
– Мне все равно. Но я слушаю тебя.
– Почти все эбихи умеют некоторые вещи, на которые не способны обыкновенные люди. Так же, как, наверное, и государи, и первосвященники, и высшие шарт…
– Я знаю. Дальше.
– Я могу чувствовать будущее. Кое-что… Моя мэ прервется до заката, а твоя – почти одновременно с моей. Таблица боя стоит у меня перед глазами. Она завершена до последнего клинышка, и завершена не в нашу пользу. Мы погибнем, и еще одно великое сражение будет здесь вскоре после нашей смерти. Я знаю. Оттого-то у меня и болит голова… просто иссякает мэ и надвигается поражение.
Он не мог быть прав! Да, Аннитум знала о способностях эбихов и кое-кого еще. Но… Асаг не может быть прав, иначе у нее действительно остается один выход – бежать, бежать… Так будет мудрее. Царству не нужна ее гибель. Души людей содрогаются, когда бывает пролита кровь царского рода. Но она никогда, ни за что не позволит себе отступить… Это значит – оказаться недостойной отца и слабее мужчин. Невозможно. Да и о чем разговор? Эбих Асаг никак не может быть прав.
– Ты! Был бы ты прав… и то я не оставила бы город и солдат. Не ты, эбих, а прежде всего я сама. Но ты не можешь быть прав… не можешь! И я способна доказать это.
Асаг смотрел на нее с прищуром. Задиристо. Почти нагло. Как сильный и драчливый мальчишка на сильную и драчливую девчонку. Быть не может! Эбих и правительница! Младший класс эдуббы! Но угадал верно, помет онагрий. Да. Будем драться. И ты получишь свое. И получишь как следует. За все эти дни. И за последнюю беседу – отдельно.
– Эбих… Ты и обычный воин из гутиев – кто сильнее?
– В хорошей настоящей драке я перережу глотку одному-двум. Если повезет.
– Мои девочки – вроде меня. Чуть послабее, чуть посильнее… Не важно. А я справлюсь с тобой, эбих. Хочешь на мечах? Или на копьях? Она чуть было не предложила кулачный бой, но вовремя опомнилась: да, какова была бы забава всему Баб-Алларуаду, когда двое старших людей города разобьют друг другу носы! Надо быть взрослее. А приятно было бы сойтись… с этим…
– Нет, Аннитум, с тобой драться я не буду.
– Чего ты боишься?
– Я не боюсь ни боли от тебя, ни смерти. Но я клялся еще Донату Барсу, а потом твоим братьям, что никогда не посмею поднять оружие на кого-нибудь из их семьи. Ты можешь зарезать меня, но не можешь биться со мной.
– Ты будешь драться!
– Нет.
Тут она дала себе волю – съездила как следует по этой упрямой роже. О! Какое наслаждение! Давно правительница не испытывала такого простого, сильного и… и… правильного наслаждения. Пальцы и впрямь заныли. Хорошо, значит, съездила. Эбих утер кровь.
– Будешь.
– Нет.
Теперь весь двор смотрел на них.
Аннитум ткнула мечом в Асагову плоть – как раз в том месте, где ключица проходит у самого горла. Темная, почти черная капля скользнула вниз.
– Будешь.
Эбих медленно поднял руку, взялся тремя пальцами за лезвие и потянул его на себя. Металл углубился в его мясо, кровь брызнула на белую тунику. Асаг потащил острие ниже, делая им разрез в собственной плоти.
– Нет.
– Будет шрам.
– Мне все равно.
Она почувствовала, что совершается нечто непотребное. Мужчина и женщина, обезумевшие от страсти… или, может 6ьть, от безделья, могут предаваться таким играм. И женщина в ней хотела продолжения. А вот правительница – нет.
Аннитум выдернула меч до его пальцев.
– Хорошо. А с моими девочками клятва тебе не запрещает состязаться?
– Если прикажешь.
– Прикажу.
И она позвала Шанну – высокую, сухощавую, лучшую на мечах – лучше даже ее самой, хотя в этом Аннитум не признается никогда и скорее всего убьет человека, который посмеет произнести такое. Мысленно же правительница со вздохом добавила: еще, пожалуй, лучшая лучница… и плавает лучше всех… Довольно.
– Бой на мечах, эбих. До первого пореза. Шанну, выйди с ним на середину двора и научи вежливости. И помни: мне совсем не нужно, чтобы ты убила или покалечила его.
Поединщица склонила голову.
– Нет. Так не пойдет.
Аннитум изумленно воззрилась на Асага. Капризный как… как… баба!
– Выставь против меня двух. Для ровного счета.
Она не желала спорить. Хочет эбих горшего позора – получит желаемое.
– Хаггэрат! Ты вторая.
Называя это имя, правительница почувствовала себя так, как, наверное, должен чувствовать себя могучий я злобный машмаашу, вызвавший из Мира Теней чудовище – вдвое более сильное и злобное, чем он сам. У Хаггэрат фигура кузнеца, руки рыбака, лицо разбойника и рост матерого медведя, поднявшегося на задние лапы… Если добавить природную хваткость и необъяснимую в таком теле звериную какую-то легкость, то как раз и выйдет… чудовище. Достаточно ловкое для боя на мечах и достаточно страшное, чтобы без меча к нему никто подойти не посмел бы.
Нет, обе они, и Шанну, и Хагтэрат, уважали своего противника. Им некуда было торопиться. Им незачем было бросаться очертя голову на человека, которого, говорят, черные обучили многому сверх положенного каждому реддэм. Они собирались разведать его ухватки и приемы, оценить его силу, отыскать слабости, утомить боем на две стороны, а уж потом в нужный момент разделаться с наглецом. Они знали, как вести правильный бой.
Но Асаг не уважил их правильным боем… Он даже не прикоснулся к собственному мечу. Вместо этого эбих поднял заостренную палку, обтесанную наподобие клинка. Единственное дерево, невысоко ценящееся в земле Алларуад, – ни на что не годный тополь. По иронии Творца только тополь да финиковая пальма растут здесь в изобилии, других настоящих высоких деревьев очень мало… И вот Асаг вышел с дешевой деревяшкой против двух бронзовых мечей; мог ли эбих яснее показать свое пренебрежение?
Он криво ухмыльнулся, и тут его шатнуло в сторону, на протяжении двух или трех вдохов каждому во дворе казалось, что это хмель заплел ноги эбиху… Асаг сделал несколько неуклюжих движений, размахивая деревяшкой самым нелепым образом, и завершил пьяный танец каким-то дурацким подскоком. «А считался чуть ли не лучшим бойцом на всей полночной границе!» – закусив губу, подумала Аннитум. Творец знает отчего, ей было неприятно видеть, как Асаг проявляет слабость…
Но тут она заметила, что Хаггэрат медленно опускается на землю, схватившись за коленку. Вроде бы она даже не успела приблизиться к эбиху, стояла чуть ли не в четырех шагах! А Шанну, конфузливо поджав губы, поднимает выбитый меч… Как это? Быть не может!
Какая-то глупость…
– Еще раз! – потребовала Аннитум. – Ты в состоянии драться, Хаггэрат?
– Я в состоянии раздавить его, как земляную муху! О, мать и царица, я…
– Никаких смертей! Никаких увечий, Хагтэ! Ваши жизни понадобятся для более важных дел.
Аннитум огляделась: многие ли заметили, как ее только что назвали царицей, многие ли сообразили? По лицам не поймешь… Рано. Сейчас – рано. А там посмотрим.
Пока она не царица даже в Баб-Алларуаде. Чуть больше, чем лугаль, чуть меньше, чем государыня. Высокое и ненадежное положение. Впрочем, она никогда не надеялась на большее в ущерб родным братьям и против их воли. Царство велико, троим хватит с избытком. А пока… О! Нет.
Во второй раз схватка длилась дольше. На три или даже четыре вдоха… Но Хаггэрат больше подняться не могла Эбих с участием в голосе сказал ей: «Скоро боль пройдет, и ты сумеешь встать. Приложи козий помет, быстрей рассосется». В ответ Хаггэрат пробурчала сквозь зубы: «Горшок…» Асаг непонимающе поднял брови. «…С протухшими помоями», – завершила фразу поверженная женщина. Шанну молча поклонилась Асагу и бросила на правительницу извиняющийся взгляд. «Чуда не будет», – читалось в нем.
«Значит, не глупость и не случайность. Но тогда… Нет, нет и нет. Таких мыслей допускать нельзя».
– Тебе придется поверить, – произнес эбих примирительным тоном. – Я хорошо знаю Свое дело.
Она приподняла подбородок и сжала губы. На тот случай, когда не знаешь, как поступить, позаботься о том, чтобы выглядеть величественно. Это Аннитум усвоила сама – без помощи отца и матери. Любое ее действие будет сейчас поражением, и чуть ли не любое слово… Так пускай говорит и действует он сам. Посмотрим, сколь долго протянет безупречность эбиха.
– Пусть их будет шесть против меня одного… – И тут Асаг вновь схватился за виски. Палка его полетела в сторону. Весь задор, приобретенный в схватке, вмиг исчез. Черное лицо. Какое черное у него лицо!
– Слишком близко… Творец! Я слишком быстро трезвею… Мать и правительница… я… поставь сразу двенадцать… я… хочу доказать нечто важное для города и Царства… ты… увидишь…
Она молчала. Асаг, не дождавшись ответа, потерял самообладание и вскрикнул:
– Двенадцать! Пусть их будет двенадцать! Я прошу!
Между ними больше не осталось тех горячих невидимых нитей, которые протягиваются от женщины к мужчине; только власть и долг. Как женщина, Аннитум могла бы отказать Асагу. Как правительница, она должна была дать ему просимое. Слишком важен их спор. Наконец она решилась:
– Шанну… Матэа… Натарт… Энна… Лиррат…
Девушки выходили одна за другой. Вот перед эбихом собралась вся дюжина.
О! Что он делает! Что он…. Асаг отбросил палку и разделся, оставив на себе только шебарт.
– Прикажи начинать.
Она помедлила, раздумывая: не слишком ли? Но потом все-таки приказала:
– Начинайте.
…Асаг почти не нападал. Он вертелся ужом, прыгал, отскакивал, проходил под самым мечом, отступал, убегал, потом вновь поворачивался и каким-то непостижимым образом избегал верного, казалось бы, удара. Сам он бил только тогда, когда оказывался один на один и никто не мог зацепить его сбоку или со спины. Бил только один раз. Но после каждого удара очередная противница оказывалась на земле и не могла продолжать схватку. На восьмом ударе эбиха Аннитум прекратила бой. Ей было достаточно.
Он подошел к царевне и поклонился. Конечно, Асаг – не порождение Мира Теней и не какой-нибудь машмаашу, а простой мужчина. Очень искусный в бою, очень уставший, и очень несчастный. Два свежих глубоких пореза тянулись по левому предплечью и по левому бедру. По правилам боя ее девушки одолели Асага… Но есть истина выше правил и законов; Аннитум понимала, кому досталась победа в соответствии с этой правдой. Трепет, было оставивший ее душу, вернулся к ней. Асаг, разогнув спину, тихо, так, чтобы слышно было лишь им двоим, спросил:
– Теперь ты понимаешь, почему у меня болит голова?
Теперь она понимала.
– Эбих! Оденься и иди за мной. – Обращаясь к девушкам, она добавила:
– Старшей оставляю Шанну.
Аннитум искала местечко потише и поукромнее. Зачем – еще не знала сама. Наконец такое нашлось.
Аннитум взяла эбиха за плечо, повернула лицом к себе и уж совсем собралась сказать нечто воодушевляющее, даже рот открыла, но тут поняла, что не знает, какие слова ей следует произнести. Более того, не знает, какие действия предпринять. Он прав, этот проклятый человек, он прав, и это так ужасно.
Она всхлипнула и упала к нему на грудь. Прижалась к его телу, щекой почувствовала его кожу, обняла и зарыдала. Старалась рыдать негромко, чтобы кругам никто не услышал ее, но иногда срывалась… Слезы текли неостановимо. Он прав. Почему же он прав? Как так получилось? Зачем? О, Творец… Ей сделалось так страшно! Она перестала быть правительницей, воином, гордой женщиной, страх прорвался изнутри и сразу же превратил ее в комок дрожащей плоти. Все высокое осыпалось в ней за время одного вдоха, и остался только напуганный человек, которому совсем не хочется умирать. Бежать бы… Может, все-таки бежать? Как хочется сбежать отсюда! Бросить тут всех и все, выскочить из города, пятками ударить коня, пусть бы он понесся вскачь!
Она разревелась еще пуще.
Отчего ей нельзя бежать? Отчего же? Неудобно. Нехорошо. Но тогда придется умереть. Зачем так все устроено? Неужто выхода никакого нет? Творец, смилуйся, спаси! Ведь все только-только начиналось! И кончиться должно… когда? Он сказал – до полуночи… Как это несправедливо и неправильно, как это ужасно, что всей ее жизни осталось – до полуночи, а потом уже ничего не будет. Ни жизни, ни молодости, ни силы, ни надежд…
Аннитум сжала эбиха крепче, крепче…
Так хотя бы сделать этого проклятого… замечательного… сильного… ничуть не способного помочь… любимого… мужем. На весь маленький остаток жизни. На чуть-чуть. Неужто она порушит долг и повредит делам? Да нет, никто ее не отговорит и не запретит. Но… но… Аннитум стеснялась. Она не знала, как надо сказать, чтобы… Может, ей самой начать? Нет, неудобно. Жить – неудобно. Любить – тоже неудобно. Только умереть-то и удобно, хотя очень не хочется умирать.
Может, он сам… как-нибудь? Иначе… ничего не будет, ничего не выйдет, у нее руки дрожат от страха, а губы – от рева.
Аннитум подняла глаза и увидела: Асаг тоже плачет. Беззвучно и так же безнадежно, как она сама.
Ему совсем не хотелось умирать. Ему тошно было все проиграть на самом обрыве мэ. Уйти без славы и чести. Продуть город. Отдать врата Царства. Сдохнуть как псу безродному, под топорами гутиев. Быть правым и бессильным.
Бессилие! Слово – как приговор.
Он, рука, поднимающая бойцов, она, голова, повелевающая рукой, оба плачут от бессилия и отчаяния. Не как правительница и эбих, а как два сморщенных и подгнивших плода, когда-то называвшихся правительницей и эбихом. Лет пятьсот назад, наверное, такие же люди вышли бы на стену, возложили руки на плечи врагов и истребили бы их, ничуть не раздумывая и ничего не опасаясь. Почему же они вдвоем с Аннитум чувствуют немощь свою так остро? И сила не исчезла до конца, и ум не пропал, и видение тайных знаков судьбы не сгинуло еще, но оба они готовятся умереть. И оба смирились с этим, им осталось оплакать собственную гибель в объятиях друг друга.
Асаг хотел эту женщину и, наверное, любил ее. Даже сейчас, сквозь слезы, сквозь темный ужас неизбежности, желание сочилось язычками пламени и все никак не утихали его неистовые пляски. Может быть… Может быть, все-таки он…
Нет, он не смеет.
Чуть погодя они отстранились друг от друга и пошли прочь – он в одну сторону, а она в другую.
Правительница Аннитум по лестнице с высокими ступенями взошла в зал Суда. Сегодня он пустовал, светильники не горели, тень затопила его. Лишь из узеньких окон на высоте полутора тростников от пола лился солнечный свет, оживляя тела воинов и рыбаков, пастухов и цариц, заставляя волноваться стебли ячменя и тростниковые заросли, избавляя от неподвижности цветущий тамариск и онагра, задравшего морду к небу… Стенная роспись поигрывала под скупыми солнечными лучами, как поигрывает телом кокетливая любовница, пробуждаясь ото сна на глазах у любовника. В шаге от дальней стены стояло кресло правителя с высокой спинкой, вытесанное из драгоценного кедра и, покрытое тонкой резьбой.
Самообладание вернулось к дочери Барса. Она позвала служанку и, когда та подошла, ровным голосом перечислила ей все предметы свадебного наряда, понадобившиеся именно здесь, именно сейчас. Но прежде всего прочего правительнице потребовалось омовение. Что? Да, прямо здесь. И прямо сейчас. Немедленно. Да, в зале Суда!
Аннитум принесли все необходимое. Служанка сняла с нее одежды, приличествующие царевне как воину, и очистила ее тело мыльным корнем. Затем омыла его чистой колодезной водой, щедро умастила кунжутным маслом и драгоценный составом из Мелаги, от которого вокруг распространилось благоухание чужих, но прекрасных цветов. Вода пролилась на пол, выложенный серым с желтоватыми прожилками горным камнем, никогда прежде не знавшим омовений…
Служанка трижды обернула девственное лоно царевны платком тонкой льняной ткани, привезенной яз страны Маган. Его последним совлекает супруг с тела жены… Поверх платка легла длинная юбка из белого полотна – до щиколоток, а плечи обнял такой же длинный белый плащ из овечьей шерсти, скрепленный ровно посредине костяной заколкой – так, чтобы грудь и живот закрыты были до урочного часа; но лишь придет срок, и одно краткое движение пальцев обнажит их. И юбка, и плащ оторочены были темно-синей бахромой.
На шею Аннитум служанка возложила три нити бус – из небесного лазурита, холодного белого серебра и цветущего золота. Царевна, поколебавшись, велела против всех свадебных обычаев добавить бусы из алого пламенеющего сердолика, очень короткую нитку, такую, чтобы кашли камня перечеркивали ей горю. Служанка, до того смотревшая на госпожу удивленно, тут взглянула со страхом… К нижней, самой длинной нити – из золота – прикреплен был золотой же диск с литым изображением львицы, играющей со львом. Подарок отца.
Искусные руки расплели две косицы, и длинные черные волосы царевны легли на белое полотно плаща. Служанка убрала их жемчужными нитями, синими лентами и золотым обручем, с которого на тоненьких цепочках свисали фигурки зверей, птиц и рыб: баран и медведь, карп и орел, волк и бык, онагр и кот. Потом она подвела глаза Аннитум черным сурьмяным порошком и уже задумалась было, чем бы сделать ее кожу белее: тут ведь есть четыре испытанных способа… Но потом присмотрелась получше и оставила эту мысль – госпожа и без того была бледнее воды в полнолуние.
– Все? – спросила Аннитум.
– Да, мать и правительница, да подарит тебе Творец детей, здоровых и крепких… Не придется ли наказывать мой язык за дерзость, если я спрошу об имени того…
– Придется.
У нее не получилось стать невестой Асага, так пусть смерть станет ее супругом.
Аннитум подобрала с пола свой клинок, села в кресало правительницы и выгнала служанку. Так просидела она в этом кресле, не шевелясь, до захода солнца. Потом снаружи послышался шум, больше шума, очень много шума…
В этом наряде она скрестила свой меч с мечом гутия, простого воина, первым пробившегося в зал. И покатилась по каменному полу, роняя золотые бусинки и захлебываясь кровью. Аннитум осталось одно мгновение жизни, и она прошептала: «Асаг».
Тот, кого она звала в свой смертный час, сделал даже больше, чем обещал. Он забрал у чужаков три жизни. И только потом на живот ему, раненому и обезоруженному, сел Сарлагаб с кремневым ножом в руке. Чуть помедлил – разглядывал побежденного врага. И в глазах у него стояло равнодушие – столь холодное, что ни одно человеческое тело и ни одна человеческая душа не способны выдержать такого холода… Асаг как будто на миг проник в мысли Сардагаба. Тому требовалось, по обычаю, вырезать сердце у человека, из-за которого погиб его отец. Да и у воинов это прибавило бы уважения к новому царю. Сарлагабу не хотелось возиться – разбить бы череп безо всяких затей, вот дело… Но… ладно, придется повозиться. Владыка гутиев поерзал, устраиваясь удобнее, и Асаг получил немного времени. Самую малость. Он успел мысленно обратиться к Аннитум: «Ты, любимая… У меня так болит голова!» А потом просто позвал Творца на помощь. Душа скоро покинула измученное тело эбиха.
* * *
Насколько месяц таммэст был нестерпим, настолько же беспощаден оказался месяц аб, пришедший ему на смену. Немилосердней солнечный дождь губил счастливую землю Алларуад.
А царь Бал-Гаммаст сидел в разоренном Уруке, принимал на ложе своем женщин Полдня и не щадил мужчин, возводивших городские стены. Он всем своим существом «прислушивался» к жару за стенами дворца, и казалось ему, будто именно этот гибельный зной почувствовал он в ночь, когда умер Донат Барс. И не сам ли он выпустил гаев солнца на волю, отвергнув мольбы мертвого царя Маддан-Салэна?
Бал-Гаммаст ждал вестей, и вести приходили к нему – одна другой страшнее.
Несокрушимый Рат Дуган, неизъяснимым образом всегда знавший, где у неприятеля слабое место, куда направить решающий удар, отступал, огрызаясь, от стен Эреду. С шестью тысячами ратников он не мог совершить ничего достойного и уж тем более не мог взять главный город суммэрк, сердце мятежа. Эбих едва сдерживал орды суммэрк. По словам из его донесения выходило: если Лан Упрямец не возьмет Умму в ближайшее время, остановить их будет очень трудно. Царству надо готовиться к великому нашествию этого народа… 1-й день месяца аба.
Медведь Лан, Упрямец Лан, стоит под стенами Уммы с тремя тысячами ратников. Этого слишком мало, чтобы взять город, к тому же у него нет им одного из черных. А войти в гордую Умму надо, ох как надо. Сейчас именно она – ключ ко всей позиции в обезумевшем от зноя краю Полдня. Упрямец готовится к последнему штурму, ему не хватит серебра и хлеба, чтобы совершить еще одну попытку… 4-й день месяца аба…
Стремительный Асаг погиб в Баб-Алларуаде вместе с царевной Аннитум и всем гарнизоном. Ворота Царства пали, и гутии просачиваются в коренные земли страны. Сестра мертва… Пусть она погублена собственной ошибкой, но разве от этого легче? Шестой день месяца аба.
Крепкий энси Шуруппака Масталан болен горячкой, ожидает кончины и прощается. Жалеет, что не смог стать другом юного царя… Одно его упование – на Творца, в которого лукавый эламит уверовал только на смертном одре. Седьмой день месяца аба…
Бал-Гаммаст делает все, что может. Не с тем ли он явился в старый Урук – удерживать этот край Царства на краю войны и разрушения? Он отправляет людей Дугану, хлеб – Упрямцу и лучших урукских лекарей – Масталану. Не находит слез – оплакать гибель Аннитум, не находит сил – и дальше брать в жены жаркую землю Полдня…
Ему снится бегун. Высокий, могучий человек с лицом, исполненным света. Он без устали бежит по песчаным барханам, и за спиной его зной сменяется дождем, трава лезет прямо из песка, разливаются реки.
Восьмой день месяца аба выпил вино сумерек. Рослые тени перестали быть клочьями и слились в одно большое одеяло, укрывшее землю. Люди вышли на улицы, открылись лавки, ремесленники, пробудившись от дневного сна, принялись за работу. Водоносы со своим драгоценным грузом отправились в ежевечерний обход кварталов. Каждый из них, с важным видом ступая по улицам Урука, тенькал маленьким медным молоточком но медной же тарелке и кричал: «Воды! Кому – воды? Свежей! Холодной воды! Воды-ы!» Корчмы наполнились гуляками. Не напрасно говорят: «Вечерами сикера течет быстрее…»
Бал-Гаммаст все молился Творцу о бегуне со счастливыми новостями. О, как ему нужен был бегун с полудня, как он жаждал узнать, что непобедимый Рат Дуган остановил суммарк!
И в тот день к нему привели бегуна. Наверное, самого нелепого изо всех бегунов земли Алларуад. Это был невысокий, коротконогий человечек. Черный, подобно купцу из страны Мелага. Какой-то тщедушный, похожий на маленькую птичку; плечи – как у мальчишки. Кожа покрыта волдырями: ему пришлось бежать днем и ночью, не думая об отдыхе, и Ууту, князь-солнце, вдоволь натешился с его телом.
«Должно быть, последний в древнем роду бегунов, – подумал Бал-Гаммаст. – Иначе как он сумел добиться своей службы с таким телосложением?»
Мэ бегунов – как раз посредине между реддэм и шарт. По давнему обычаю их считают шарт, учат службе таблицы и тростниковой палочки, а не копья и лука. Но усталость лишь они умеют превозмогать не хуже воинов.
– Отец мой государь Бал-Гаммаст! Шарт Ладдэрт привез тебе голос эбиха Лана. Позволь передать его.
Для человека, от усталости едва держащегося на ногах, бегун говорил на редкость складно.
– Я слушаю голос Лана.
– Отец мой государь Бал-Гаммаст… – Медлительные интонации эбиха как бы с трудом вытекали из глотки бегуна. – Гордый город Умма поражен оружием Царства ж очищен от мятежа Твое, государь, войско потеряло двести тридцать ратников. Семь сотен вражеских воинов сдались, положив оружие. Сын твой эбих Лан ждет приказаний.
– Слава Творцу, нас породившему! Я так надеялся, что мы все еще можем себя защитить!
Брови бегуна вскинулись в немом удивлении… Бал-Гаммаст, досадуя на собственную болтливость, хотел было отправить Ладдэрта к Пратту – пускай поест и отдохнет. Но прежде…
– Сядь… Нет, ляг… вон туда, на тростниковую циновку. Мне нужно еще немного твоей силы, сын мой шарт. – Ладдэрту на вид можно было дать тридцать солнечных кругов, или около того. Бал-Гаммаст поймал себя на том, что все еще не умеет без содрогания произносить положенные ему, как государю баб-аллонскому, слова «сын мой» или «дочь моя», обращаясь к любому человеку земли Алларуад, кроме брата… «Сыну его», агулану лекарей Урука, скоро девяносто пять солнечных кругов. А «отцу», соответственно, в пять раз меньше… И как называть собственную мать, царицу Лиллу, – тоже «дочь моя»?! Дурее кирпича-сырца выходит… Надо будет спросить у Мескана – Ты, вероятно, принадлежишь к древнему роду бегунов и ты получил свое искусство от отца, как тот от деда, а деда от прадеда… так?
– Нет, отец мой государь Бал-Гаммаст. Я первый в своем роду бегун. Мой родитель – торговец из Эшнунны, и дед был таким же торговцем. Но никто не добился богатства и никто не возвысился до звания тамкара.
– Тогда как ты оказался в бегунах при… таком сложении тела? Конечно, никому в Царстве не запрещено переменить искусство предков на иное занятие, но…
– Я… хотел увидеть всю великую землю Алларуад… от канала Агадирт до Страны моря, от лагашских болот до черных крепостей в пустыне на Заходе…
«То есть того же, чем я хотел одарить Саддэ. Просто так. Потому что она – моя Саддэ. Была – моя…»
– И еще я хотел стать кем-нибудь, отец мой государь Бал-Гаммаст. Я мог бы считать себя человеком, лишь совершив нечто важное, сослужив какую-нибудь важную службу, – продолжал бегун. И Бал-Гаммаст совсем уже было решился сказать ему: «Сегодня твоя служба совершена», но в последний миг удержал свой язык. Иногда люди значительнее, нежели могут показаться на первый взгляд. Не миновало и вдоха, как Ладдэрт подтвердил это:
– Твой отец, царь Донат, даровал мне землю и серебро, показав значительность моей службы. Но я не оставил искусство бегуна. Настоящий бегун должен иметь сильные ноги; сердце, не склонное к усталости; кожу, которой нипочем ни ветер, ни дождь, ни зной; память мудреца… ну… и еще он должен быть грамотнее любого другого шарт: кто знает, какие послания придется ему читать и запоминать наизусть, незнание какого языка подведет, незнание какой дороги умертвит… Мое тело плохо подходило для такой работы, моя голова – голова обычного небогатого торговца из глуши… Но если ты очень хочешь чего-нибудь, положись на силу воли. Тщедушие ей не помеха. Воля способна сделать из тебя желаемое, если ты не будешь щадить мясо, кожу и кости. Я стал бегуном. При царе Донате меня считали одним из десяти лучших во всем Царстве. Раньше я мечтал совершить нечто, теперь – оставаться тем, кто я есть, пока не оборвется моя мэ. Ответил ли я на вопрос, отец мой и государь?
– Да… – Этот человек нравился Бал-Гаммасту. Поистине, дух его должен быть тверже дикого горного камня, иначе как мог Творец из столь непригодного материала извлечь столь совершенный результат! В первый раз молодой царь ощутил в полной мере, сколь огромна принадлежащая ему власть. За одну блистательную ночь он мог даровать то, ради чего люди готовы повернуть всю свою мэ… – Теперь расскажи мне в подробностях, как пала Умма.
Ладдэрт помолчал немного, собираясь с мыслями. Попросил воды. Напившись, начал рассказывать:
– Молодую и богатую Умму брали рано утром, отец мой и государь. Солнце еще не взошло. Войска встали по местам, а эбих Лан собрал на холме всех реддэм, которым не надо было лезть на стены, бегунов, воинов охраны и держателей больших сигнальных барабанов. Он повернулся спиной к вражеской крепости и велел поставить перед ним водяные часы. Малый медный котел, подвешенный над большим медным котлом, так, чтобы вода из него стекала вниз тоненькой струйкой…
– Это устройство я знаю. Рассказывай о самом сражении.
– Да, отец и государь. Эбих Лан махнул рукой барабанщику, и тот подал сигнал к началу бою. Я был рядом и видел все: как и откуда шли воины, к какой стене приставляли лестницы, к каким воротам подтаскивали на глиняных катках таран, покрытый мокрыми кожами, как бились мятежники… А он не видел ничего.
– Упрямец? То есть… эбих Лан?
– Точно так, отец мой государь. Пока его ратники бились под стенами и на стенах, он ни разу не взглянул в сторону Уммы…
– Но почему, Ладдэрт?
– Тысячник, имени которого я не знаю, осмелился задать тот же вопрос Эбих Лан ответил ему. «Либо я вижу ход боя от начала и до самого конца силой моего ума, и тогда мы возьмем этот город, либо я не вижу его, и тогда мои глаза не помогут делу». Первый отряд в тысячу человек с лестницами и таранами, повинуясь сигналу, напал на старую Умму у Навозных ворот. Машины из глины, ивовых прутьев, жил и кожаных ремней бросали камни в защитников города. Но и нашим войнам приходилось трудно. По ним били из луков, обливали их кипящим маслом и нечистотами, сбрасывали на их головы чуть ли не целые дома. Со стороны Царства лучников оказалось совсем немного… Когда из маленького котла вода вылилась до последней капли, а потом котел был наполнен вновь и утратил половину своего содержимого, эбих Лан велел подать второй сигнал. И еще одна тысяча царских копейщиков двинулась к стене слева от Овечьих ворот, в том месте, где раньше удалось сделать пролом до половины ее высоты. Было всем нам ясно: эбих оттянул силы мятежников к Навозным воротам, а потом ударил в другом месте. И тут наших лучников оказалось мало… Вражеские стрелы ранили и убили великое множество копейщиков. Умме хватило воинов, чтобы защищать стену в двух разных местах одновременно… Вот вновь иссяк маленький котел, и опять наполнили его; вытекло же совсем немного, когда волею эбиха подан был третий сигнал. Всего одна сотня или, может быть, две ринулись к Храмовым воротам, где стена особенно высока и башни неприступны. Но, видно, это были лучшие воины, самые искусные и быстрые. Их обороняло столько лучников, сколько не было их у первых двух отрядов, вместе взятых. Все мы во второй раз подумали: ясен замысел эбиха! Здесь, у Храмовых ворот, никто не ждал атаки. Лучшие бойцы Уммы ушли отражать натиск царского войска в других местах… Остальные же и головы поднять не смела, хоронясь от дождя из стрел… Вышло все по воле эбиха Упря… Лана. Храмовые ворота держались недолго – забравшись на стену, наши копейщики распахнули их изнутри. Мятежники перестали биться и попытались спастись: кто-то спрыгнул со стены, покидая город, кто-то бежал к своему дому, видно надеясь скрыться в потайном подвале… Посмотрев на наши лица, эбих сказал: «Слишком просто! Проще, чем мне казалось…» Тогда тысячник, тот…
– …имени которого ты не знаешь…
– Не знаю, отец и государь… Так вот, он спросил: «А если б не смог третий отряд войти на стену и открыть ворота? Если б там было больше воинов, чем… чем на самом деле было…» Эбих Лан рассмеялся и ответил довольным голосом: «Ты прав! Положиться на волю случая не значит видеть бой и владеть им. Третий отряд принес нам победу, но не сумей он совершить задуманное, мы вошли бы в мятежную Умму иначе». – «Как же?» – допытывается тысячник. «Все наши атаки были фальшивой мэ сражения. Истинная мэ кралась по дну канала, питая дыхание через соломинки… Сто пятьдесят отборных воинов наших давно в городе. Остальные должны были всего-навсего произвести побольше шума, отвлечь внимание… Но раз уж заодно сломили гордую Умму, слава им!»
– Воистину слава…
– Только тогда эбих повернулся лицом к Умме… Такова наша победа, отец мой государь. Две тысячи пленных заново отстраивают стены. Более мне добавить нечего.
Бегун поднялся с циновки.
«Каков Упрямец! – изумился Бал-Гаммаст поступкам Упрямца. – Нет… каков гордец! Но дело сделал – просто и ловко. Не знает, как видеть тайное, не умеет чувствовать неслучившееся, зато сумел заставить их играть в его игру. Прав был отец, возвысивший Упрямца».
Он чувствовал необходимость что-нибудь даровать бегуну Ладдэрту. Дар, пожалованный не за славное дело, а за добрые новости, всегда казался ему бессмыслицей; но теперь к Бал-Гаммасту невесть откуда пришло понимание: смысл все-таки есть, и заключается он в том, что некоторые поступки приличествуют государю… Женщинам Полдня он должен был отдать большую часть своего серебра. Войне и городу Уруку – почти все остальное. Кое-что следовало сохранить и не тратить, пока не наступит день боли и поражения. Тогда чем же он владеет сейчас, не считая хлеба, вина и власти? Нынче царь баб-аллонский беден.
Бал-Гаммаст мысленно попрощался с отцовским подарком. Он отдал вестнику нож, бесценную работу столичного мастера Дорт-Салэна, с литым изображением женщины и коршуна на рукояти. Лезвие рябило крошечными клинышками – именами царей Кана Хитреца, Доната Барса и самого Бал-Гаммаста
Согнув птичье тело в поясном поклоне, бегун сказал очень тихо, почти прошептал, возвращая подарок:
– Я не смею. Мое тело и вся моя служба стоят не так дорого.
– Отец был бы рад, знай он, как я распорядился его ножом. Прими и владей. Сейчас тебя отведут к тысячнику Пратту Медведю, накормят и уложат спать. Я доволен твоей службой.
Бегун замялся. Видно, что-то мучило его. Не любопытство ли? Сколько раз Бал-Гаммаст видел на лицах приближенных, а еще того пуще – горожан Урука, этот невысказанный вопрос. Хорошо. Почему бы нет? Пусть осмелится задать его хотя бы один человек, тем более, он достоин…
– Если желаешь спросить меня о чем-нибудь, не медли.
– Отец и государь… прости… прости… сколько тебе солнечных кругов?
Бал-Гаммаст улыбнулся самой мальчишеской своей улыбкой. Он мог бы еще драться со сверстниками на пыльных площадях Баб-Аллона… Не будь его отец Тем, кто во дворце.
– Девятьсот девяносто девять. От Исхода.
Ладдэрт почтительно склонил голову.
…Оставшись наедине с самим собой, царь негромко повторил:
– Слава Творцу, нас породившему…
Меньше всего он надеялся на Упрямца. Среди «братьев силы», людей, поднятых отцом на высоту звания эбиха, Бал-Гаммаст считал слабейшим именно Лана. Медлительный, самоуверенный человек, хотя и сильный, но начисто лишенный способности читать знаки будущего, проступающие на теле мира… И вот именно он добился успеха. Его простой ум и его простая сила. Значит, есть выход и есть надежда. Уж не Бог ли явил всей земле Алларуад знамение, дав победу в руки такого человека? Мир становится проще. Нежность ладоней Творца более не принадлежит высокому и сложному… Может быть, до поры до времени. А может быть – навсегда.
В сердце Бал-Гаммаста поселилась необъяснимая уверенность: что бы ни произошло, род его, вера и само Царство не исчезнут бесследно. Бал-Гаммаст прислушался к Небу. Никогда прежде он не делал этого. Но теперь каждый верный шаг означает глоток жизни для Царства, а каждый неверный – глоток гибели. Возможно, Творец даст ему подсказку…
Но свыше никто не сказал царю, что он затевает благое дело или совершает ошибку.
– Хорошо. Значит, не Рат Дуган, значит, Упрямец… Ну, так тому и быть, – сказал он сам себе.
Позвал доверенного шарт и продиктовал послание к эбиху Лану.
– «Желаю владеть в краю Полдня вторым оплотом Царства, не менее мощным, чем столица и прилегающие к ней срединные области. Береги воинов. Любые пополнения, приходящие в Урук, будут отправляться дальше на Полдень, к тебе. Ибо Урук, славный и древний город, войною лишен крови и жизни. Твердыней мощи ему не быть. Гордой Умме наказанной быть не должно, ибо край Полдня и так разорен. Моей волей отбери у города кидннну на один солнечный круг, лиши имущества зачинщиков и отправь их в Баб-Аллон работать в царских мастерских. Тебе надлежит оставить в Умме сильный отряд до прихода воинов Рата Дугана или моих, а самому отступить в Лагаш. Там, на богатых землях, защищенных с трех сторон реками и болотами, легко тысяче защититься от двадцати тысяч. Сделай страну Лагаша неприступной для любого врага. Накопи запасы, необходимые на тот случай, если враг пожелает напасть на город большими силами и осадить его. Приведи в порядок стены Лагаша. Создай тайные убежища. Договорись о помощи с ближайшими соседями – войнолюбивыми сынами страны Элам.
Я, царь Бал-Гаммаст, сын Доната Барса, доволен твоей службой, брат силы, эбих Лан. Словом своим я ставлю тебя лугалем города Лагаша и всей области его.
Записано в старом городе Уруке
со слов царя Бал-Гаммаста
и по воле его.
Месяца аба в восьмой день
2509-го круга солнца
от Сотворения мира».
…И он оставил на сырой глине оттиск перстня-печатки.
* * *
Зной истомил всю землю Алларуад, от дальних сторожевых башен до срединных земель. Сезон безжалостного солнца парил над Царством, словно огромная птица, распростершая огненные крылья.
Двое беседовали в маленьком покое, который когда-то собственноручно расписала царица Гарад. С тех пор эту комнату в сердце Лазурного дворца называли «Родник Уединения»… Царица-мать Лиллу с давних пор любила предаваться здесь размышлениям о делах тонких и не терпящих ошибок. Раньше ее постоянным гостем бывал Уггал Карн, теперь он ушел в поход на Баб-Алларуад, забрав с собой цвет черной пехоты.
Сегодня к ней напросился для беседы первосвященник Сан Лагэн. А она не хотела видеть никого. Гнетущая жара, въевшаяся в тело, усталость и яд горя, отравивший кровь Лиллу, заставляли ее искать одиночества. Чем старик сможет облегчить ее ношу?
Никто в Лазурном дворце не знал, сколько горя принесло царице Лиллу известие о гибели дочери. Все помнили их ссоры. Все видели бесстрастие, ничуть не покинувшее мать, когда ей рассказали о смерти Аннитум. Все полагали главным ее любимцем молодого царя Апасуда. Но ни одна живая душа не знала, что равной себе во всем Царстве она почитала только дочь, одну дочь, никого, кроме дочери. И пришло бы время, наверное, ей удалось бы отдать все в руки той, у кого бьется в груди сердце дикой кошки. Сыновья… Оба – мальчишки, только один старше и послушнее, другой моложе и упрямее. Оба ей милы и любимы ею, но ни один из них не обладает душой, способной достигнуть совершенства. Мужчины… застывают в детстве и на протяжении всей жизни, становясь умнее, сильнее, великолепнее или же падая в слабость и грязь, они всегда и неизменно несут в себе мальчуганов, дерущихся на пыльных улицах. Настоящим правителем может стать только тот из них, полагала Лиллу, кто сумеет победить в себе детство, забыть о нем, преодолеть его зов. Барс мог… Он был великим мужем, настоящим даром небесным земле, которая оскудела мужеством. Но даже Барс не был совершенен. А сыновья его… сыновья его котятки. Отчего это Уггалу вздумалось отослать в Урук гневливого Балле, не способного пока еще к делам правления? Что он увидел в мальчике? Эбих говорил ей: «Сейчас надо плыть по течению, куда вынесет жизнь. У нас слишком мало силы, чтобы противостоять течению. А жизнь хочет от нас правителя на земле Полдня. Больше послать некого, Лиллу…» Плыть по течению – это ей понятно, это значит отыскать мелодию гармонии и слиться с нею… Но хитрил Уггал, конечно же, хитрил, это она потом поняла. Зачем понадобился ему Балле в Уруке? Убирать его оттуда уже поздно, сделанного не воротишь… Следует подождать. Гармония сама повернет события в правильное русло, глядишь, и Балле вновь окажется рядом с нею. Но… девочка… милая, бесконечно любимая дочь-соперница, тайная звезда ее потускневшего неба… Девичья душа открыта и уязвима, с удивлением она взирает на мир, как птенец из гнезда, в ней столько нежности, сколько приносит ее первый дождь после месяцев суши. Увидев жестокость жизни, она и сама на время ожесточается, и тогда приходит возраст, который должна пройти каждая женщина, потому что это правильный путь. Возраст диких кошек. Лишь потом, научившись как следует кусаться и царапаться, женщина может позволить себе милосердие. Тогда она становится сильна и ласкова одновременно, подобно вечернему солнцу. Но и это еще не завершение пути. В самом конце возвращается одиночество, забытое с девичества, и вечный холод подступает к сердцу; в холоде и одиночестве женская душа превращается в бесконечно мудрое и совершенное существо. Теперь эту душу следует сделать осью гармонии для всей страны и дать ей сильные руки мужа, строителя и воина. Двое, слившиеся в одно, обладающее душой женщины и руками мужчины, – вот образцовый правитель. И дочь могла дойти до совершенства, дочь должна была дойти до совершенства… Отчего Творец не позволил? Отчего? Что теперь делать? В чем смысл, ради кого жить?
Ради Царства? Она устала от Царства, ей бы отдохнуть. Разве она не заслужила покоя? Жаль, нет рядом верного Уггала… Пуще того жаль, что невозможно держать дела целой страны в равновесии, не покидая дремы. Иначе Лиллу дремала бы месяцами….
Ради сыновей? Сейчас Балле не принадлежит ей, и даже думать о его мэ не стоит. Все, что она может сделать для младшего сына, – поторопить отправку серебра хлеба и бойцов к старому Уруку. Та, что во дворце, опасалась невозвратимости совершенного ею поступка: из Баб-Аллона ушел один сын, а вернется, наверное, совсем другой… Но она не в состоянии ничего изменить, надо ждать, ждать, ждать… Апасуд радует ее сердце, он тоньше, он просвещеннее, но и… слабее. Как странно, Лиллу испытывала к нему любовь, смешанную с брезгливостью. Сильных людей следует опасаться, однако и любить их – легче…
Ради себя самой? Она ничего не желает для себя.
Разве только… Лусипа Творец знает: жена Барса ни с кем, кроме царя и супруга, не вступала в игры любви. Но нынче… нынче сердце ее истомилось и ослабло. Сладчайший голос певуньи-суммэрк так же ласкает ее тело, как мог бы ласкать мужчина. Иногда Лиллу, слушая Лусипу, теряла себя. Вот звук флейты, вот переливы ее голоса, а вот ее нежные пальцы… или это все-таки были не пальцы, а пение, всего лишь пение, чудесное пение, вынимающее душу и зовущее ее к солнечным холмам? Но, кажется, пальцы… руки… были один раз или, возможно, два. Или три. Царица иногда не могла понять, как далеко от нее стоит певунья: в полушаге или в пяти шагах? Если бы она знала наверняка, ни за что не позволила бы себе… Но… но… все происходившее граничило с тонким наваждением. Явь? Мечта? Дрема? Звуки или прикосновения? Как будто облако сходило с небесной караванной тропы и заключало плоть Лиллу в объятия, само не обретя плотиной твердости. Можно ли утратить верность прежней любви, сойдясь с воздухом и звуком?
Больше всего Лиллу беспокоило то, что маленький противный спутник Лусипы никогда не покидал певунью. Он не выходил из покоя, даже когда… даже… Впрочем, со временем царица стала находить его не столь уж безобразным.
…Зато первосвященник выглядел очень худо. Лиллу поразилась: почему раньше она не замечала его старческого уродства? И чем он пахнет? Женщине показалось, будто в воздухе, пропитанном зноем, растворен едва уловимый запах тления. Неужто Сан Лагэн заживо превращается в труп? Как может такой человек управлять великой силой Храма! Нет, немыслима Ей, наверное, мерещится нечто несуществующее… На миг Лиллу собрала всю свою волю. Старик был некрасив, но неуродлив, и он явственно благоухал душистым маслом. Но тут назойливый аромат мертвечины опять ударил ей в ноздри с неожиданной силой.
Что он говорит? О чем он говорит, этот ходячий труп! А ведь он заговорил с ней…
– Подожди… Подожди, мне нехорошо!
Лиллу не понравилось, как взглянул на нее первосвященник Царства. Для такого случая ему приличествовал бы испуг, он мог бы позвать слугу… Между тем в глазах старика помимо испуга читалось какое-то невысказанное подозрение.
– Позвать лекаря?
– Нет… Я… справлюсь сама.
Царица вновь сделала волевое усилие. «Творец! Да помоги же ты мне!» И сама удивилась. Вроде бы она не чувствовала в себе никакой хвори. Только усталость и… какую-то неясность. Как будто все вокруг слегка двоилось. «Да нет же, я должна!»
Мэ царицы взяла верх. Она должна, она обязана, она не приучена покоряться чему-либо, кроме воли Творца им мужа. Она женщина, но она же и воин, от стойкости которого многое зависит.
– Говори. Я слушаю. Я не расслышала первых слов, начни с самого начала.
Теперь Лиллу стало легче, будто она вынырнула из глубокого колодца, заполненного теплой водой. Но вот какая странность огорчала ее: благовонная смола еще боролась с запахом тления; он не ушел окончательно, он все тщился вернуться.
– Я раза три слушал твою… гостью, Лусипу. Какой дивный у нее голос, чудесный голос, очень у нее… он… да.
Первосвященник замолчал, остановившись на полуслове. На лице его застыло выражение: «Что за нелепость я говорю?» Сан Лагэн поморщился, поднес пальцы правой руки к левой ладони и растер невидимую муку. Должно быть, этот жест помогал ему сосредоточиться на важном.
– Она… как она сюда пришла?
Лиллу не понимала. Зачем он явился? Что ему понадобилось?
– Я услышала о ней от…
– А нет же! Именем Творца, скажи мне простую вещь: через какую дверь эта поскакушка вошла в Лазурный дворец?
Сан Лагэн осмелился перебить ее…. Иному человеку Лиллу не спустила бы такого оскорбления, но первосвященник – простец. Он никогда не был по-настоящему своим в Лазурном дворце. Любил его покойный Барс да еще, пожалуй, Балле. Прочие уважали, побаивались, кое-кто сторонился первосвященника. Тот родился в хижине, на вытертой циновке, полжизни в качестве сиденья использовал связки тростника, а молоко мнил настоящим лакомством… Но почему-то именно его возвысил собор первосвященников алларуадских двадцать пять солнечных кругов назад. К тому времени Сан Лагэн успел вогнать в себя немыслимое количество табличек, но изъясняться любил просто… Поскакушка! Из какой глухой деревни это словечко пожаловало в столицу? Слова иногда бывают так похожи на родимые пятна!
– Поскакушка?
– Э-э-э… замечательная девушка, замечательная… Мне нужен ответ.
И тут Лиллу встревожилась. Первосвященник вел себя необычно.
– Какой ответ? Как она попала сюда? Я узнала о ее искусстве и позвала
– Через какую дверь она вошла внутрь?
Сан Лагэн задал вопрос очень тихо. Кроме того, он постарался сделать так, чтобы в голосе не звучало даже и на ползернышка вызова. Царица испугалась всерьез. Редкий случай: она ответила, не задумываясь о смысле вопроса, хотя и не должно так поступать правителю.
– Она… появилась на лодке, украшенной цветами… так она попросила сама. И вошла через старые Пальмовые ворота, со стороны реки…
– Но они же закрыты! Ими никто не пользуется Творец знает сколько времени.
– Специально для нее отворили ненадолго; по словам Лусипы, старинному звучанию песен, которыми она собиралась нас одарить, должны соответствовать одежды на ней, язык ее речей и даже путь, ведущий ее к нам. А Пальмовые ворота – красивая старинная постройка…
Чем больше говорила Лиллу, тем больше ей казалось, что следовало бы молчать. Не было никаких видимых причин сокрыть от первосвященника правду. Но нечто боролось с волей и здравым рассуждением царицы. Отчего Сан Лагэн допрашивает ее? Смеет ли он задавать свои вопросы, не объяснив суть дела? К чему ведут его уклончивые действия? Ей почти больно было продолжать. Тревога охватила ее и затворила уста.
– Выходила ли она с тех пор хотя бы один раз из Лазурного дворца в город? Просила ли доставить сюда ее пожитки?
И тут на Лиллу тяжкой волной накатила дурнота. Две золотые луны ее серег, казалось, сдавили уши с удесятеренной силой. К горлу подступил ком тошноты. Царице никак не удавалось вдохнуть полной грудью. Только воля ее, воля правителя, не смеющего показать свою слабость, мешала выпроводить первосвященника и послать за лекарем. На миг она прикрыла глаза. Пусть Сан Лагэн думает, что она копается в памяти, отыскивая ответы. Пусть.
Когда она вновь подняла веки, перед ней сидел черный трехрогий урод, слюни тонкими веревочками тянулись у него из пасти, маленькие свиные глазки налились кровью. Трупное зловоние непобедимо торжествовало в воздухе.
О нет, Лиллу не испугалась. Теперь она знала, как ей поступить. Сан Лагэн, великий столп Храма, не может быть ни чудовищем, ни магом. Слишком сильна была в ней способность мыслить холодно и побеждать силой ума все невозможное. Она давно приучила себя: невозможное просто не стоит принимать в расчет. Пусть все внутри надрывается в едином вопле: «Беги!» Она, царида баб-аллонская, не приучена сдаваться наваждениям. «Я больна. Как некстати…» – сказала себе Лиллу.
«Творец! Творец! Что ты делаешь со мной? Только не сейчас! Освободи меня от… от… этого».
Урод медленно оплывал, рассеивался, серьги ослабили хватку, вновь отступил этот проклятый запах. Но дурнота все-таки не оставила ее окончательно. Царица, сколько себя помнила, всегда терзалась слабостью и уязвимостью тела; дух должен быть сильнее, он и стал сильнее… И что для духа ее побороть простую хворь? Придя в себя, Лиллу встретила пронизывающий взгляд первосвященника. Изо всех людей, чьи решения создавали мэ Царства, он считался добрейшим… Но только не сейчас. Неужели она призывала Творца вслух? Спрашивать не надо бы… Уггал Карн как-то говорил о первосвященнике: «Я чувствую в нем большую мощь. Но не понимаю, как она устроена и на чем держится». Сейчас собеседник внушал ей безотчетный страх.
– Ее покои недалеко от моих. Я не слышала, чтобы она хотя бы раз выходила в город или спрашивала о пожитках. Все принадлежащее ей – кроме того, в чем пришла, – получено во дворце.
– Вчера я разговаривал с одним из прозорливых священствующих. Наша беседа исполнена была мира и покоя, мы не касались важных дел. Я упомянул имя певуньи, и тут он признался, что ни разу не видел ее, хотя слышал о новой обитательнице дворца много раз. Я на всякий случай в тот же день спросил о ней у другого и у третьего священствующего. Тот же результат. Пришлось собрать всех шестнадцать и…
– …ни один?
– Похоже, мое старичье прошамкало нечто серьезное.
Сан Лагэн не обвинил ее ни в чем. Более того, он самое возможность вины возложил на магическую стражу подчинявшуюся Храму. Он избежал резкости. Но и в таком виде его слова означали непередаваемую жуть. Шестнадцать священствующих, сменяясь по нескольку раз в день у входов во дворец, блюли его от нападения магов и порождений Мира Теней, – благодаря дарованной им Творцом особой способности видеть невидимое для простого глаза… Если некто вошел внутрь, избежав их взгляда, а потом умудрился ни разу не столкнуться с ними в течение нескольких месяцев, то…
– По воле Творца жизнь столь пестра! Могло случиться и простое совпадение.
Теперь она знала, чего хочет Сан Лагэн. И у нее, царицы баб-аллонской, матери царствующих государей, верной Творцу и Храму, нет никаких причин пойти против его желания. И все-таки внутри нее заходилось в крике, подобно пойманной птице, пронзительное желание сказать «нет!». Она едва справилась… Она справилась, объяснив самой себе: «Да не может быть».
– Испытание? Когда?
– Сейчас же.
– Да будет так. О результате мне следует знать первой. Сегодня же вечером.
…В Архивном крыле дворца было место, где два коридора перекрещиваются под прямым углом. Сан Лагэн расставил людей, да и сам встал на перекрестке. Самый юный из магической стражи, священствующий Аннарт, занял позицию чуть позади него, собой закрыв эту сторону коридора. Как жаль, думал первосвященнику что он хоть и глава Храма, но лишен прозорливости и ему приходится брать с собой на опасное дело безусого юношу, едва ли не мальчика. Правда, сильнейшего из всех, по словам прочих священствующих стражей… Оба вооружились обыкновенными бронзовыми мечами. Не важно, чем разить порождение тьмы, важно, в чьих оно руках. Для рук первосвященника оружие было явно тяжеловато: возраст не тот, чтобы запросто играть с нечистью в кошки-мышки… Прежде все это выходило легче. Сорок солнечных кругов назад он в одиночку гонялся по бесконечным топям Страны моря за сумасшедшим магом Наргелом из народа гутиев… теперь и не вспомнишь, в какой трясине утоплены Наргеловы косточки.
До чего же все стало даваться тяжелее!
Но в собственной твердости он уверен был более, чем в твердости кого-либо иного.
Сан Лагэн знал, что эта… это отправилось в архив. И на обратном пути не минует перекрестка. Осталось ждать и надеяться на помощь Творца.
Ждать пришлось недолго.
Когда странная пара – поскакушка и ее слуга – проходили мимо первосвященника, он просто позвал их:
– Эй!
Оба остановились и повернулись к нему. Этого мгновения оказалось достаточно для Аннарта. Под гулкими сводами полились слова древней молитвы. Значит – увидел.
Парочка шарахнулась в сторону, будто на них брызнули раскаленным оловом. Но молитва была еще и условным сигналом: с трех сторон к центру перекрестка двинулись двойки священствующих стражей с мечами. Восемь голосов заливали молитвой все пути к отступлению…
Девушка заметалась по кругу и вдруг издала рык – не хуже льва, загнанного звероловами. Слугу ее неизъяснимым образом притянуло к хозяйке. Его тело прилепилось к ее телу и начало расползаться, – совершенно как мокрая глина, если полить ее водой. Плоть соединилась с плотью; девушка стремительно росла в размерах, спутник же ее исчезал, исчезал, исчезал! Она оступилась, упала и завыла, а когда поднялась, ничего человеческого в ней уже не было. Сан Лагэн ужаснулся. Чего стоила одна бычья морда с тремя стоячими зрачками в каждом глазу!
«Господи! Неужто сам Энлиль! Помоги же Ты нам!»
Ни на миг не прерывалась молитва. Запахло паленой плотью: похоже, существо, попавшее в засаду, медленно поджаривалось под действием слов, обращенных к Творцу. Очертания его теряли четкость. Тело оплывало, и с него сыпался на пол черный порошок. Еще несколько мгновений – и посреди перекрестка стояла уже не искаженная, фигура чудовища, а непроницаемая темная туча.
Вдруг за спиной у первосвященника зазвучал крик. Он знал: поворачиваться не стоит, прерывать молитву нельзя. И еще того лучше знал, что не надо бы царице-матери следить за ними из секретного окошечка, пройдя в Архивное крыло по тайному ходу… Но Аннарту все это было непонятно: он оглянулся назад и сбился. Сейчас же из бесформенного облака в грудь ему ударила черная молния. Страж упал, меч его откатился в сторону, но над телом священствующего встал Сан Лагэн. Существо двинулось было в его сторону, однако молитва отшвырнула его прочь.
Энлиль вновь оказался на перекрестье коридоров, под ударами с четырех сторон. Жала мечей резали воздух в считанных шагах от него. Туча сжималась, на ее поверхности то и дело появлялись воронки, как будто невидимые палицы обрушивались на нее отовсюду.
И тут облако исчезло. Так бывает, когда хозяйка отмывает грязное пятно: вот оно было, одно движение – и его нет.
Сан Лагэн разорвал материю на груди у Аннарта. У правого соска – пятно как от ожога. Тело мертво. Душа… ею распорядится Творец, судья благой и милосердный. Первосвященник заплакал.
Лиллу вышла, отворив потайную дверцу в стене.
– Отчего ты плачешь? Оплакиваешь стража? Для него такая смерть – лучшее завершение мэ изо всех возможных.
– Да, я оплакиваю… И его. И еще тысячи людей. Война… никак не оставляет в покое нашу землю. Никак. Я каждый день молю Творца остановить… а война… никак. Сколько еще людей должны умереть? Отчего… это… все… не останавливается? Я… не понимаю…
Та, что во дворце, опустилась на корточки и погладила рукой пепел на каменном полу. Черное пятно пепла – вот и все, что осталось от… кого?
Теплый. Пепел был теплым…
– Он жив… – сквозь слезы произнес первосвященник.
– Кто – он? – машинально переспросила царица. Она перевернула ладонь. Ну вот, пальцы теперь придется оттирать губкой…
– Это был Энлиль… древнее существо…
– Энлиль? – Царица не вслушивалась. Она ухватила щепоть пепла к помазала им губы.
– Энлиль… порождение мира Теней… Мы его… только… отогнали… да посадили пару волдырей…
Тихий стариковский голос тонул в рыданиях. Лиллу обнажила грудь и легла на пол. Она терлась о пепел щеками, лбом, плечами, подбородком, сосками… А Сан Лагэн все не утихал.
– Да замолчи же ты, наконец!
* * *
В 6-й день месяца аба царь урукский узнал о недоброй кончине своей сестры. Седьмой день наполнен был тоской. 8-й скрасила ему радость от взятия Уммы, День 9-й прошел в никчемном и гибельном бездействии. На 10-й к Бал-Гаммасту пришел агулан Хараг и спросил, отчего отец и государь более не принимает женщин Урука.
– Я потерял сестру, – честно ответил Бал-Гаммаст. – Я не могу.
Хараг поджал губы. Люди Полдневного края так делают, когда хотят показать собеседнику, что лучшего от него и не ожидали. Агулан бесстрастно произнес:
– Ты царь. Ты волен поступать как захочешь. Но город ропщет от твоего молчания, отец и государь. Выйди на площадь, сам объяви Уруку свою скорбь.
В первый раз за все месяцы, проведенные в старом Уруке, Бал-Гаммаст не сумел сдержать гнев. Просто не успел. Его затопило яростью в один миг.
– А ну-ка прочь отсюда! Я ничего не желаю говорить! Я ничего не желаю объяснять!
Хараг отпрянул. Посмотрел на лицо своего государя, вздрогнул и скорым шагом удалился.
Свидетелем их разговора был Мескан. И он подождал, пока Бал-Гаммаст кусал собственную руку, унимая злобу. Подождал, не напоминая о своем присутствии ни словом, ни звуком. А потом подошел и заговорил с холодной убежденностью:
– Отец мой Бал-Гаммаст! Невозможно так оставить это дело.
– А как?!
– Ты – государь, Тот, кто во дворце. Ты – узел, которым скрепляется Царство. Если узел ослабнет, все развалится. Не дай им заподозрить в тебе слабость…
– А я и слаб, Мескан. Мне так худо, Мескан! – Последние слова он почти выкрикнул.
– Я знаю. Это так. Но твой долг выше тебя. Сначала ты царь и лишь потом – человек. Выйди к ним, от этого многое зависит.
– Нет, Мескан. Сначала я человек. И моя душа ноет. Дай мне побыть одному, потом, когда… потом… потом я выйду.
– Мой учитель, Сан Лагэн, говорил: «Если долг требует сделать нечто, а ты не можешь, то надо все-таки сделать».
Бал-Гаммаст поднял глаза. Перед ним был умный, преданный, чистый, как колодезная вода, человек… И – безжалостный. Пощады от него не жди. «Как мог милосердный старик Сан Лагэн говорить такие вещи? Почему он этого взял в ученики?»
Видно, лицо его скрыло слишком немногое – Мескан сейчас же ответил, словно прочитав мысли:
– Он сам когда-то был таким, как я. И когда-нибудь я стану таким, как он.
Бал-Гаммаст сжал голову руками. Больше всего ему хотелось быть не здесь, не сейчас и не тем, кто он есть. Еще ему хотелось сжаться в комок и стать незаметным для всех. Но так не будет. «Творец! Значит, и это надо пережить. Дай мне сил. Дай мне сил. Ты один можешь дать мне сил, сколько нужно».
Город требовал его боли. Он мог ответить только подарком. Таким, чтобы сердце облилось кровью, но никто не увидел и не понял бы этого. Им понравится. В конце концов, они не виноваты. Такова царская мэ.
Им понравится…
– Хорошо, Мескан.
Вечером царь позвал к себе старших людей Урука. Он постарался говорить, как должно это делать государю и как он не любил говорить.
– Я исполнял свой долг на ложе, выполняя обещание, и сделал довольно. Теперь скорбь по сестре моей, государыне Баб-Алларуада и дочери царя Доната Барса, отвращает меня от лона урукских женщин. Но пусть никто не смеет упрекать меня в недостатке внимания к городу. Попирая скорбь, сегодня я еще один раз возлягу с женщиной, попросившей этого дара.
И он прошелся взглядом по лицам. Да, им понравилось. Но было два или три человека, скорее напуганных, чем довольных. Им Бал-Гаммаст был благодарен более, чем кому-либо еще в последние месяцы.
* * *
Их оставалось еще много – женщин, хотевших царского ложа. «Бог рассудит», – объявил Бал-Гаммаст. По жребию ему досталась некая Анна, дочь писца Анагата, оставшегося верным в пору мятежа, а потому убитого.
Незадолго до полуночи молодой царь, ожидая, когда приведут к нему эту самую Анну, сидел на ложе и мучился гадкими сомнениями. Да, он решился сказать все, что надо. И с недобрым удовлетворением отметил, сколь изумлен Мескан. Но теперь требовалось сделать все, что надо, а сил-то нет. Ему нестерпимо хотелось спать. В голову не шли забавы тела, мысли все время перескакивали то на Аннитум, то на отца, то на Садэрат, а то и вовсе на какую-то ерунду. За миг до того, как Анна Анагат вошла в его судьбу, Бал-Гаммаст размышлял о городских стенах: сколько дней он не интересовался строительством? Три? Или уже четыре?
…Высокая, худая, тонконогая, широкоскулая, совершенно чужая. Длинные черные волосы – как трупы на поле боя, безо всякого строя и порядка. Тяжелый подбородок. Пухлые губы. Мясистый нос. Улыбка – доверчивая, как у ребенка, уверенного в том, что его сейчас не обидят, да и вообще все будет хорошо. О да. Улыбка замечательная. Бал-Гаммаст позабыл о груди и бедрах, о коже и… обо всем он позабыл. Даже о городских стенах. Конечно, он не обидит ее. Конечно, все у нее будет хорошо. Он очень постарается, чтобы все у нее было хорошо.
И голос у Анны оказался высокий и звонкий, совершенно детский.
– До чего же ты устал, мой царь. Как же ты устал! Пощади его, Творец…
Она подошла вплотную и ласково прижала голову Бал-Гаммаста к своему животу.
– Откуда ты… знаешь?
– Что ты устал?
– Да.
– Просто знаю. Как-то само собой.
Ребенок утешает царя. Так все быстро произошло! Анна увидела его и за один миг сломала ту стену, которая всегда бывает между мужчиной и женщиной, встретившимися в первый раз. Бал-Гаммаст не знал, что говорить, и не хотел останавливать ее. Анна перебирала пальцами его волосы. Казалось, будто у нее и в мыслях нет переходить к буйному поединку на ложе.
– Когда ты родилась?
– Двадцать солнечных кругов назад, мой царь.
Совсем не ребенок. Впрочем, какая разница! Бал-Гаммаста посетило странное чувство, словно он был отцом Анны, но в то же время Анна каким-то непонятным образом была его матерью…
– Я буду счастлива уже тем, что обнимаю тебя. Если ничего другого не случится сегодня ночью, то и этого будет достаточно.
Такой щедрости Бал-Гаммаст никак не ожидал. Он точно знал: Анна не лжет и действительно будет счастлива от самого невинного соприкосновения их тел. И так же точно знал, сколь многого она желает, сколь далеко простираются ее мечты. Бал-Гаммаст видел ее – до самых глубин души и не мог отыскать там, внутри, никакой грязи. Нежность, смирение, искренность и достоинство. Если бы кто-нибудь спросил у него, откуда взялась эта способность – заглядывать в душу – и как долго останется с ним, то Бал-Гаммаст не смог бы ответит. Он просто видел, да и все тут. Как Анна видела его усталость.
– Сядь ко мне на колени. Я постараюсь дать тебе все, чего бы ты ни пожелала.
– Да… – прошептала она.
Они долго сидели обнявшись, не говоря ни слова.
– Я так любил ее… Я так любил Аннитум. Очень любил ее.
– Сестру?
– Да, сестру.
– Расскажи мне а ней.
– Она… как… дикая кошка. Умная, непокорная. Не знаю, как про нее рассказывать. Я столько знаю про нее, но толком рассказать ничего не могу. Слова у меня сегодня путаются…
– Просто скажи, что она была хорошим человеком.
– Она была очень хорошим человеком. Она была моим другом. Она была очень хорошим человеком. Мне больно, Анна. И ничего с этим не поделаешь. Отца нет, ее нет, я один… Прости меня.
– Тут нечего прощать. Если тебе больно, расскажи мне что-нибудь другое. Давай ляжем лицом друг к другу, как маленькие дети на берегу канала, и станем говорить о разных вещах, на только не о плохом. Или… в общем, о чем захочешь.
– О чем мы оба захотим.
Они так и сделали. Бал-Гаммаст, сонный и смущенный, никак не мог отыскать тему для продолжения их странного разговора. Тогда Анна спросила его:
– Что за народ – гутии? О них так много сейчас говорят, их все так боятся! А я ни разу в жизни не видела…
– …ни одного гутия?
– Ни одного. Если можешь, расскажи. Они… действительно такие жуткие?
– Пожалуй, тут есть чего опасаться… – И он говорил о Гутиях, а потом о путешествиях в дальние страны, а потом о том, каким замечательным человеком был отец, а потом о Лазурном дворце… Анна жадно внимала, время от времени переспрашивала, вставляла замечания. Одновременно их пальцы переплетались.
Кажется, он ненадолго задремал, а когда очнулся, уже Анна, ничуть не заметив его дремы, рассказывала о каналах и дамбах, об искусственных озерах и наступлении моря на землю – словом, о делах, которыми занимался Анагат. Все это интересовало ее гораздо больше обычных девичьих забав.
Двадцать солнечных кругов – многовато для невесты. Впрочем, Анна не сетовала на судьбу. Как вышло, так и вышло.
Бал-Гаммаст слушал ее со вниманием. По словам Анны выходило: быть великому потопу после великой суши и великого разора тонкой системы каналов. За каналами надо следить в оба, а война не дает… Царь мысленно сделал заметку – спросить у Мескана, и, если есть настоящая угроза, стоило бы сделать особые запасы хлеба…
Ему стало легче. Прошло полночи, тело требовало сна. Но Бал-Гаммаст все никак не мог оторваться от нее. Его пальцы сами собой принялись выводить на теле Анны замысловатые узоры. Легчайшие прикосновения заставляли ее сбиваться, припоминать ход мысли, опять сбиваться… Он не торопился. Он хотел бы каждое касание превратить в подарок. Долго, очень долго он пользовался одними только подушечками пальцев и лишь потом решился прикоснуться губами к ее шее. Тогда она положила ладонь на грудь Бал-Гаммасту, и он сам стал сбиваться в ответах.
Их беседа наполнилась ощущением неминуемости.
Ласки становились все требовательнее, а разговор – все хаотичнее. Но нет, Бал-Гаммаст не ждал с этой женщиной ничего медленного, постепенного, текучего. Может быть, потом… Он принялся целовать ей лицо.
Все произошло в несколько движений. За это время невозможно перелить даже сат масла из кувшина в кувшин. А потом обоих сморил сон, и они уснули, не расцепив объятий.
Наутро Анна увидела обнаженного царя стоящим на коленях и молящимся. Она ждала, пока Бал-Гаммаст не закончил молитву, а затем сказала ему:
– Вчера, мой царь, ты обещал сделать все, чего бы я ни пожелала…
– Ты хочешь быть моей женой? Хорошо. Ты будешь ею. Мы хотим одного.
– О! Мы точно хотим одного. Только я… сейчас… о другом…
– О чем же?
– Ммээ… о вчерашнем… в самом конце…
– Я понял.
– Мой царь! Еще раз, и подлиннее.
– А все остальное?
– Да мы родились мужем и женой! Прекрасное выдалось утро. И необыкновенно продолжительное.
* * *
Последний день умирающего месяца аба был вроде сковороды, на которой жарились миражи. Казалось, еще чуть-чуть, и вода обернется песком, а песок спечется в бурую соль… Из столицы в Урук прибыл бегун, худой, как сушеная рыба. Он передал: «Пехота ночи отбила старый город Баб-Алларуад и крепость его. Эбих Уггал Карн исчерпал свою мэ».
Пал крепчайший столп Царства. И… и… очень хороший человек.
Земля Алларуад сильна была необыкновенными людьми. И вот они уходят, уходят, уходят… Отец, Асаг, Уггал Карн, кто из сильнейших остался? Первосвященник да Рат Дуган… Как будто само время, мелеющее, изменяющееся под натиском зноя., больше не смеет принимать в свои объятия слишком крупных людей.
Бал-Гаммаст нашел предлог, чтобы уединиться на время от сумерек до полуночи. Ни Пратт, ни Мескан, ни кто-нибудь иной не должны видеть слезы царя в дни, когда Царство шатается и стены великого дома устали держать крышу. Даже Анна… Стоит ли дарить любимому человеку слабость и страх? Любовь – она вроде печи, и топить ее следует силой и щедростью.
* * *
…Он стал человеком вечера. У него ничего не осталось: ни власти, ни славы, ни имущества, ни дома. Его жена пропала невесть куда: ветер войны закружил ее и унес. Не важно. Он никогда не любил жену, а наследниками все равно не способен обзавестись. Он подурнел. Здоровый жир сошел на нет, кожа болталась сухими тряпками. Мышц под ней оказалось совсем немного, какие-то веревки, а не мышцы… Глаза ввалились, морщины рассекли пашню лба, синие жилы взбугрились на ладонях. Багровые нарывы на шее. Его плоть… как у снулой рыбы – все вялое, все лишено силы и жизни. Даже волосы поредели не по возрасту, добрая половина выпала безо всякой видимой причины. Он него исходил мерзкий запах. Совершенно такой же, какой идет от подтухшей рыбины. Иногда он просыпался от собственного крика: ему казалось, будто он карп и вольно плавает в канале, но кто-то прямо с берега всаживает в него острогу, вынимает из воды, и пронзительный кипяток воздуха выжигает ему жабры. По утрам он бросал взгляды на собственные плечи и живот. Знал, что не может такого быть, а все-таки опасался появления рыбьей чешуи… Иной раз он терял силы и валялся долю или две, совершенно беспомощный.
Непонятная болезнь поселилась внутри него и старила тело намного быстрее положенного срока. Его отовсюду гнали. Он немного работал пастухом, но продержался всего месяц. Потом нанимался на самые черные и самые тяжелые работы, но никто не хотел держать его рядом с собой более двух шарехов, даже и не зная, какая птица залетела в глушь и отыскивает пропитание подобно обыкновенному нищему бродяге. Тогда бродяга умножились на дорогах Царства, Тех, кто забирался в непроходимые болота и сколачивал банды, скоро находили и убивали. Царство любило внутреннюю чистоту, будь оно проклято… Другие, мирные, быстро пристраивались в какой-нибудь деревне или даже городе – порушено было слишком многое, рабочие руки требовались повсюду. И земля Алларуад еще не разучилась верить людям, просящим пищи и места под крышей, лишенным имени и желающим возобновить его силу или обрести другое. Привечали почти всех. Оставшимся без мэ щедро давали в самые руки нить новой мэ. Но он оказался среди редких изгоев, которых не любили, не понимая, почему не любят, даже не задумываясь, что отделяет их ото всех прочих.
В одной деревне под Иссином он отчаялся и закричал на старшину деревни, глубокого старца, упрятавшего таблицу собственного лица в неровных линиях морщин. Отчего? Почему именно он? Тот отдал ему пяток лепешек, горсть фиников и мех с чистой водой, молча довел до кудурру на границе земель, которые тянули к деревне исстари, а там все-таки сказал:
– Ты, молодец, совсем простой. Из, новых людей. Таких мало пока, и все как глиняные. Ничего не понимаете, ничего не видите. Это, молодец, очень древняя земля. Такая древняя земля! Здесь люди раньше могли больше, чем сейчас. Они все знали, холодно ли будет на другой день или жарко. Сколько будут идти дожди, стоит ли строить новый загон для скотины или амбар для зерна… Заранее знали, понимаешь? Раньше, молодец, тут невозможно было сказать хотя бы одно слово неправды. Еще нельзя было написать хотя бы один знак неправды. Раньше, молодец, люди видели друг друга, чувствовали друг друга… не знаю, как тебе… посмотри, вон там – канал. Он весь открыт перед тобой. Два берега, вода, тростник, птицы… И люди были так же открыты, все видно. Теперь, молодец, заглянуть внутрь и все там увидеть мы не умеем. Или совсем мало. Вот дед мой – тот умел. И сестра его – тоже умела… Я умею чуть-чуть, в десятую часть дедовской силы. Но кое-что осталось. Они все… мы все… мы… чуем, если от человека веет бедой, правдой, гневом, любовью или чистым злом. Многие сами не скажут, как это они чуют… Ты пришел, искал любви, хотел жить между нас, хотел пристанища. Но сам ты никого не любишь, сам ты всем нам желаешь зла и гибели. Отчего? Я, молодец, не спрашиваю. Никто не спросит. Но такого человека никто не пожелает поселить рядом с собой. Может, в городе?
Он не стал говорить, что в городах Царства, в великих старых городах, да и в гордых новых, его скорее всего узнают, а потому наверняка не захотят оставить в стенах. В малых же он сразу попадется на глаза первосвященнику или слугам его, и те прочтут его немедленно, как читал Людей тот самый дед проклятого старшины.
Все ослабело в нем, одна только ненависть клокотала, как варево в медном котле. Ненависть жгла его изнутри. Ненависть не давала ему покоя. Он был слаб и давно бы свалился, чтобы испустить дух прямо на дороге, но сила ненависти оживляла его. В ту долю он принял хлеб из рук старшины и плюнул ему на одежду. В той деревне он украл нож. Этим ножом он срезал длинную прямую ветку ивы и заострил ее с одного конца. Присоединившись к какому-то казенному каравану, он в ночное время укрепил острие, хорошенько поджарив его над костром. Потом выждал глухого времени между полночью и восходом, подкрался к одному из спящих копейщиков, охранявших караван солнца, схватил его за плечо и легонько потряс. Тот открыл глаза и получил удар колом в горло; подергался, истекая кровью, но умер беззвучно, – убей спящего, и он обязательно вскрикнет или хотя бы застонет, а пробудившийся человек тихо расстается с мэ…
Он ничего не взял тогда. Убить – было его священным долгом. Кража испакостила бы убийство. Ивовый кол он оставил в горле мертвеца, возвестив силам невидимым, но могучим о своем действии.
Котел ненависти принял в себя щепоть кровавой приправы и ненадолго затих.
Он наловчился зарабатывать на жизнь игрой в дахат. В краю Полдня эту игру именовали «тавалети». Суммэрк называли ее «ки-эвен-ишиб». Ему даже дали прозвище Намманкарт – странствующий умелец. Явившись в город, он обходил постоялые дворы и питейные дома, обыгрывая каждый раз двух-трех любителей. Почти всегда ему удавалось победить. После этого его просили убраться прочь, точно так же, беспричинно не любя, откупаясь пищей и одеждой. Однако он заметил: стоило прийти в городской бит убари суммэрким, как его переставали гнать. Уродство его презирали, от запаха отворачивались, а от ненависти – нет. То ли ее здесь не чувствовали, то ли не считали за опасное лихо. А среди суммэрк было немало любителей побаловаться дахатом… В Кисуре он понял, что его ищут: убийство копейщика не растворилось в пучине войны.
Недалеко от Шуруппака он переправился через Еввав-Рат и по бесплодным землям, по краю пустыни, иной раз целую долю или даже две не встречая человевеского жилья, устремился в мятежную страну суммэрк, бедные задворки Царства, где еще вился на ветру гибельный огонек мятежа. Города он теперь обходил стороной. Страшный месяц аб застал его в дороге и едва не погубил. Больной, истощенный, он поселился в вымершей, то ли покинутой жителями деревне суммэрк. Когда мог, выходил на реку и ловил рыбу. Ею и жил. Когда нена-зываемая хворь, губившая его тело, не позволяла встать или ловля рыбы не удавалась, он попросту голодал. С голоду иной раз он съедал пойманную рыбину живой, не разводя огня. Огненный месяц таммэет высушил колодец. Он попытался было пить воду прямо из реки, но внутренности взбунтовались, не желая принимать внутрь мутное, вонючее, илом испорченное пойло. Какое-то время он провалялся в беспамятстве. Чуть не умер. В полубреду увидел степного льва, забравшегося в дом. Застыл. Может, зверь примет его за мертвеца и не станет рвать?.. Лев обнюхал его, отвернулся и побрел прочь. Или это было всего лишь видение? Окончательно придя в себя, понял: надо добираться до старого города Ура, он тут ближайший. В Уре его никто не знает, и никому не придет в голову искать его в этих местах. Сельские суммэрк, злые и бедные, могли продать его в рабство, а в городе все-таки царский энсн, войска, купцы… там порядок, там над ним не совершат беззакония, там можно как-то прожить. Он мечтал: дойти до города, заработать на пищу и жилье дахатом, изгнать из тела непонятную хворь, набраться сил… а там можно и возвращаться.
Потому что он хотел вернуться и отомстить. Да, именно так. Мстить. Долго, как можно дольше. Отбирать жизни царских слуг и воинов сколько выйдет. Если получится, собрать отряд таких же бродяг, таких же поверженных героев этой войны,
У него ничего не осталось на этом свете, кроме ненависти и мести.
Ненависть подняла его на ноги. Ненависть на протяжении двух долей ввела его по пустынной дороге. Ненависть дала ему силы прикончить душегуба, попытавшегося убить и ограбить его самого во время полуденного сна.
Наутро третьей доли едва живой Халаш, бывший лугаль нипурский, мятежник и убийца, вошел в старый город Ур.
Последний, самый дальний оплот Царства в краю Полдня был занят армией суммэрк. У ворот валялись неубранные тела царских копейщиков. Голые, обобранные, изуродованные. Оказывается, лугаль Нарам из Эреду по прозвищу Гу, то есть Бык, не сдался. Оказывается, мятеж набирал новую силу. Оказывается, Царству все еще есть чего бояться.
Халаш поглядывал на низкорослых воинов суммэрк в кожаных, войлочных и тростниковых доспехах, с тяжелыми деревянными щитами, каменными палицами, бронзовыми топориками, длинными копьями. Теперь их дело, их война и их победа его не касаются. Халаш покинул войну, перестав быть ее частью. Его собственная, личная война клокотала внутри. Сегодня он – жалкий бродяга, мечтающий выздороветь и убивать. Кому нужно такое добро? Прийти к Нараму и сказать: «Вот я! Хочу биться рядом с тобой, как было когда-то…» Нарам… хорошо, если не казнит сразу, а всего лишь посмеется. Ответит что-нибудь вроде: «Ты был лугалем, а теперь ты куча старого тряпья, которое лучше бы подпалить, чтобы не разводить мокриц». А может быть, укажет на него, Халаша, своим бойцам; те молча пробьют ему череп – таков обычай суммэрк… С ними требуется быть сильнее… – либо просто не связываться.
Нет, Халаш не желал, да и опасался просить милости и возвышения у нынешних победителей. Его положение в Уре оказалось ненадежным. Старая власть исчезла из города и не могла защитить его. Для новой власти он был малоценным, но все-таки небесполезным ходячим имуществом. Таким имуществом, которое способно немного поработать, перед тем как испустит дух… Лучше всего было бы уйти отсюда, но для этого не было сил. Все, что оставалось ниппурцу, – попытать счастья в игре и положиться на темных богов. Пусть он чужой для суммэрк. Но ануннакам Халаш был верным слугой и собирается еще порадовать их сердца кровью алларуадцев… Узенькими кривыми улочками он пробирался к порту и безмолвно взывал к Ану, Иштар, Энмешарре… ко всем темным божествам, силу которых знал. Но настойчивее всего Халаш взывал к Энлилю, прежнему своему господину. С этим – казалось бывшему лугалю ниппурскому – все-таки можно договориться. Этот понятен. Этот попроще…
Гавань на великой реке Еввав-Рат почти пустовала. Здесь уместились бы десятки судов, но сейчас у пристани стояли только четыре маленьких кораблика из просмоленного тростника. В воздухе носились запахи речной тины, рыбы, масла и свежеиспеченного хлеба. Рабы в набедренных повязках прямо посреди припортовой рыночной площади вкапывали квадратный каменный столб, чтобы поставить на него каменного болванчика… У суммэрк богов – словно капель в дожде, поди разбери, кто из них заявил право на гавань. Портовый чиновник лениво бранился с купцом из-за таможенной пошлины. За купеческой спиной стояли шесть вооруженных молодцов… «Это он напрасно. Наверное, молод. А значит – дурак», – про себя отметил Халаш. Из суммэрк выходили самые свирепые мытари Царства. Пугай их, не пугай, они все равно возьмут сколько полагается и найдут сколько отобрать сверх того, ничуть не нарушая закона. Сами алларуадцы были милосерднее… даже столичные шарт не шли ни в какое сравнение с суммэрк. А тут они стали хозяевами! Прячьте, люди добрые, серебро. Его из вас повыдавят, как выдавливают сок из виноградной кисти…
Здесь, в порту, Халаш почувствовал, как его мэ замедляется, замедляется. Будто переводит дыхание. Еще чуть-чуть. Еще самую малость потянуть перед… чем?
Значит, скоро опять понесется, как бешеный онагр.
Левый заплечный дух шепнул ему ободряюще: «Давай-ка займись делом. Дурачье только и ждет случая поделиться с тобой всем, что имеет». Правый пообещал: «До сумерек не будешь чувствовать голода. Дольше не могу».
Ууту еще не поднялся высоко, и жар его не скоро загонит всех в дома. Времени достаточно, однако и медлить не стоит. Ниппурец нашел подходящий постоялый двор. Здесь играли на вино и серебро. Он поставил себя и выиграл. Вновь поставил и вновь выиграл. К вечеру Халаш был сыт и пьян. Он заработал на ночлег и на портовую девку. Здесь их называли звонким словечком «каркидда». Та была рада случайному заработку и старалась вовсю. Воины-суммэрк норовили получить все даром, а уговаривать они умели. Вот, видишь, какой синячище? И тут. И еще тут…
Бывший лугаль вдоволь получил горькой радости скопца. Не следовало нанимать девку. Засыпая, Халаш поблагодарил Энлиля за помощь и обещал ему верную службу, если, конечно, понадобится.
Всю следующую долю он играл. А на третью обзавелся дюжим гурушем с дубинкой: теперь Халашу было что терять.
Ки-эвен-ишиб, игра мудрых… Имя ее, если перевести с языка суммэрк, означает «земля правителей и жрецов». Но этот странный язык похож на цветок: из сердцевины каждого слова растут лепестки множества особенных значений: тайных, только женских, только мужских, только для жрецов, праздничных и походных, для устной речи и для письма. Ки – земля. Она же вроде бы и страна. Она же и народ, землю (страну) населяющий. Она же родная земля суммэрк. Она же власть – но не вся, а только определенных людей. Эвен – жрец. Он же правитель, царь. Он же в некоторых случаях – жертва, а в других – сила. Ишиб – тоже жрец, но другой, второй, пониже. Помимо правителя-жреца есть еще правительница-жрица эвенмин. Ишиб ниже ее по положению, и выходит, что он не второй, а третий. Но он же – постоянство, а иногда – вечность, в то время как «эвен» – это еще и чуть-чуть… ненадежность. С чем бы рядом «и стояло слово «ишиб», все становится прочнее камня… Выходит, ки-эвен-ишиб – родина силы и постоянства. А если взглянуть по-другому, то получится «народ вечной жертвы». И так можно накрутить с десяток значений, если не больше. Язык Царства прям и правдив, его наполняет свет Ууту; хотя и нечего в Царстве любить Халашу, но разве не легче так говорить, так думать и так чертить таблицы? Язык суммэрк лукав, изворотлив и насмешлив. Его будто бы зачали на лоне Син…
В ки-эвен-ишиб, в старый добрый дахат, можно играть вдвоем и вчетвером. Доска состоит из пяти квадратов: один в центре, и по одному прикрепляется к каждой стороне центрального. Все квадраты расчерчены на поля и каналы, пересекающиеся под прямым углом. Посредине – шестнадцать полей «храма» (у суммэрк их тринадцать). Рати игроков строятся каждая на своем квадрате: белая рать, серая, черная и пестрая. Или только две. В каждой маленькой армии – пять земледельцев, три пастуха, два воина, ученый шарт, быстрый тамкар, могучий эбих, мудрый первосвященник и великий царь. Все они ходили по-разному. Еще четыре фигуры играли против всех: маг, чудовище, зверь и ворота в бездну. Их действиями никто не руководил; но на каждом тринадцатом ходу один из игроков выбрасывал черный кубик, и, подчиняясь приказу кубика, одна из ничьих фигур нападала на какую-нибудь армию, нанося ей урон, или же исчезала с доски. В дахате всегда была сильна случайность… то ли высшая воля. На каждом четвертом ходу оба игрока по очереди выбрасывали другой кубик, белый, дававший тому, кто его кинет, какое-нибудь преимущество, подарок. Побольше или поменьше. Тот, кто занимал в «храме» большее количество нолей, считался победителем. Иначе можно было взять верх, истребив все неприятельские рати или все ничьи фигуры. Кроме того, в очень редких случаях победу мог принести счастливый бросок белого кубика…
Первосвященник Ниппура – тот, которого суммэрк погубили в самом начале мятежа, – говорил, что дахат подарен людям Творцом для простой и приятной забавы да еще для изощрения ума. И нет будто бы в нем ничего, кроме деревянной доски да костяных фигурок. Никакой магии, никакого лиходейства. Суммэрк верили в иное. Им казалось, будто все битвы на доске – отголосок сражений в иных, очень отдаленных местах. И не сами люди играют, но ими играют темные боги, а темными богами играет еще кто-то, неведомый «хозяин ки», у которого целый корабль имен… Другие утверждали, что по игре можно предсказывать судьбу игроков. Третьим казалось возможным убивать и воскрешать, передвигая фигурки по доске.
…Халаш играл самозабвенно. Прежде он подолгу думал над каждым ходом, прислушивался к советам Левого – пока не оказалось, что тот играет хуже него самого. Он уставал от каждой партии, как от хорошей драки. Теперь – иначе. Теперь он отвечал молниеносно, тянулся к своим «ратникам» чуть ли не раньше, чем противник его отрывал руку от фишки, переставленной с поля на поле. Тем не менее ниппурец побеждал почти всегда, не реже одиннадцати партий из двенадцати. Играя, он испытывал непередаваемый восторг.
И лишь невыгодный бросок белого кубика мог принести Халашу поражение. По странному стечению обстоятельств бывшему лугалю обыкновенно доставались меньшие «подарки», чем его противникам. Иногда они давали столь значительное преимущество, что даже самая искусная игра не могла переломить ход партии. К исходу третьего шареха месяца аба он стал богатым человеком, а потом на протяжении одной доли проиграл почти все, кроме себя, одежды и маленького кусочка серебра, едва достаточного для одной ставки.
Но никто не хотел ставить против него. Халаша слишком хорошо знали. В корчмах и на постоялых дворах гавани на Еввав-Рате, и на улице тамкаров, и у дворца правителя, и в квартале, где суммэрк собрали и поселили всех беднейших бедняков и бездомных нищих, и на площади у храма, прежде посвященного Творцу, теперь же отданного жрецам божественного существа по имени то ли Наина, то ли Син, очень у суммэрк почитаемого… Одним словом, по всему великому городу Уру.
Наконец он сел за обеденный стол в маленькой небогатой корчме, где не был еще ни разу. Доска и набор фишек тут имелись. Хозяйка – явная алларуадка, судя по лицу, наряду и выговору, – поставила перед ним сикеру и финики. А потом принялась развлекать необыкновенно интересным разговором. Она сообщила Халашу, что цены на хлеб высоки, на вино еще того выше, зато серебро падает в цене; что у нее три дочери: одна рябенькая, но хозяйка хоть куда, вторая совершенно не слушается матери, а третья замужем; что сразу видно, какой он умный и сильный мужчина, настоящий подарок для одинокой и небедной женщины; что она очень боится потерять корчму, которую получила от Дворца в управление как вдова сотника-реддэм и за которую получала хлеб, вино, масло и мясо, а теперь, смотри-ка, корчма вроде бы стала ее собственная, ведь где теперь дворцовые шарт с их табличками? А серебра – как следует вести хозяйство – нету, и откуда его взять бедной, несчастной, одинокой женщине, разве поможет кто-нибудь по сердечной доброте; что вообще ужасно она не залюбила суммэрк, ведь нельзя же наводить такие дурацкие порядки: Творцу молиться нельзя, на конях ездить нельзя, – говорят, вредно и для коня, и для всадника, – на колесницах по городу тоже ездить нельзя, дорогие украшения носить нельзя, даже настоящим солидным женщинам, и, того и гляди, лишишься своего дома…
– Дома? – меланхолично переспросил Халаш. Здесь он не был ни разу. Точно не был. Может быть, придет хоть кто-то и сделает ставку?
– Да, дома, дома! – подтвердила хозяйка. И с новой силой принялась лопотать о невиданных порядках. – Сады вырубают, не любят суммэрк сады в городах, будут строить дома на месте садов. А у кого-то уже отобрали жилище, сказав, мол, не ютиться же избранному народу в хижинах! И, представь себе, не-знаю-как-те-бя-зовут…
– Намманкарт.
– Так вот, Намманкарт, хозяев переселили в квартал нищих… И кстати, вечером я буду кое-что чинить, и не желаешь ли помочь как раз после захода…
– Я болен.
И сказал бывший лугаль ниппурский эти слова таким голосом, каким обычно отгоняют назойливого слугу. Корчмарка скривилась и убрела, вполголоса ворча о временах, когда вежливые мужчины сами собой повывелись, как выводятся мыши после наводнения…
Между тем Халаш не солгал ей. Он отъелся, зажили раны, перестали шататься зубы – это да. К нему вернулись прежние силы, ведь в последнее время он спал на циновке под крышей, а не на земле, не на голом глиняном полу и не под открытым небом. Все так. Но прежний владыка великого Ниппура оставался хвор, безобразен и вонюч. Как же, должно быть, ей невтерпеж… А ему после той каркидды и думать противно о женщине.
Пища и вино ничуть не утоляли жажду Халаша. Варево ненависти требовало крови и смертей, а без этого немилосердно жгло его изнутри, Он чувствовал, как плоть его истончается, и сколько ни корми ее, а еда не идет впрок. То, что поселилось в нем, требовало лучшей жертвы – человеческой… Халаш ощущал свою болезнь как часть самого себя. Как чувствуют собственную руку или ухо. Боль смешивалась внутри него в в равной пропорции с непонятным наслаждением.
Ему нужно было много серебра, как можно больше, чтобы нанять воинов. Отправиться с ними назад, в коренные земли Царства, и там убивать. Надо же так некстати проиграться… И никто не идет сюда…
– Ты Намманкарт?
Перед ним стояла тоненькая, невысоконькая, болшеглазенькая девчушка дет девяти-десяти. По обычаю бедняков-суммэрк обнаженная по пояс. Длинная юбка из грубой шерстяной ткани. На талии – магический шнурок дида, который суммэрк не снимают на протяжении всей жизни. Две нитки стеклянных бус на шее – Халаш прикинул цену, и цена им была – никакая. Волосы закрыты тюрбаном из настоящей ветоши. Груди отсутствуют, вместо них – два больших коричневых пятна. Кожа цвета ячменной лепешки, испеченной с толком. Руки – палки. Ноги, наверное, тоже, но их не видно. Два зуба выпирают из верхней челюсти подобно двум щитоносцам перед каким-нибудь князем, опасающимся неожиданного нападения лучников.
И вся она похожа на… на… хрупкий тонкостенный сосуд с драгоценными ароматическими смолами – одним словом на то, что не следовало бы ронять. Уронишь – неизменно разобьется.
– Я.
– Отлично. Я слышала о тебе. И я хочу сделать ставку.
Она бросила на стол кусочек серебра раза в полтора больше того, которым располагая Халаш.
– Но ты…
– Принимаешь игру или как?
В самом деле, почему бы нет? Серебро девчонки ничем не хуже серебра любого взрослого мужчины. Какая разница? Хочет проиграть – так надо ей помочь.
– Да.
Она попросила у корчмарки доску, поставила ее на стол, потеснив миску с сикерой, и принялась сноровисто расставлять фишки. Совсем как подвыпивший гуруш. Ему бы ведь что? Ну, правильно. Поиграть, разбить доску о голову победителя, как следует подраться и опять хлебнуть винца. Так и эта… самая… хрупкая.
…Она играла в необычной манере. Пыталась убить всех его ратников. Борясь с ее натиском, Халаш едва-едва продвигался к «храму». Вскоре он понял, что связался с игроком редкой силы. И даже усомнился: успеет ли встать на заветные поля. Силы его армии таяли. Он был бы в еще более тяжелом положении, если б не диковинное поведение белого кубика. На этот раз Халашу определенно везло. Каждый бросок приносил ему удачу, хотя, видят духи заплечные и всякие иные силы, ни разу такого не было с тех пор, как он вступил на землю старого Ура.
Его противница передвигала фишки молча, бесстрастно, затрачивая на раздумья над каждым ходом ничтожное время. Поистине, странная девочка!
Вот кубик подарил ему возможность отказаться от игры. Это единственный предусмотренный правилами шанс ничейного исхода. Ставка осталась бы за Халашем. На миг он задумался: «Вот когда можно остановиться! И что там корчмарке потребовалось чинить? И не помочь ли ей?»
Ниппурец внутренне содрогнулся. Чужая какая-то мысль. Кто волен остановить его, кроме него самого? Кто волен перегородить реку его воли? Зачем ему женщина и хозяйство? Зачем ему ничья в игре и малая толика серебра? Он пригляделся к позиции. Нет, стоит побороться. Еще есть силы.
Через десять ходов он понял: проигрыш неизбежен.
Халаш осмотрелся. Хозяйка ушла в дом. Никого поблизости нет. Место тихое. Что лучше – свернуть мерзавке шею или просто как следует треснуть и забрать серебро. В любом случае надо срочно уходить из города…
– Ну-ну. Не стоит, – произнесла мерзавка голосом очень серьезного мужчины. – Как легко читать твое лицо, мой любезный лугаль, повелитель священной кучки халуп… кх-м… впрочем, бывший повелитель.
…Как будто чья-то безжалостная рука влезла Халашу прямо в живот, ухватила его внутренности, потянула наружу… и что-то там безнадежно обрывалось, лопалось, мертвело.
– Ты, Энлиль? Ты?
– Прежде, милейший, тебе удавалось выговорить: «Ты, господь…»
Мысли одна другой опаснее и соблазнительнее понеслись обезумевшим стадом в голове у Халаша. Убьет? Да зачем ему… Возвысит? А раньше где был?! И почему – сейчас? Значит, понадобился. Может, просто пришел насмехаться? Нет, этот – всем тамкарам тамкар, не станет зря тратить время. Нечто предложит. Соглашаться? Предаст, продаст, обманет… или нет? Надо разведать, надо поторговаться…
Левый заплечный дух: «Не сразу соглашайся, поиграй. Потяни. Он к тебе пришел, а не ты к нему». Правый: «Сейчас твои лупала станут безумно печальными. Только не упусти его, простофиля!»
Халаш глянул на ануннака безумно печально.
– Зачем ты посетил меня?
– У меня для тебя есть дело. Жалеть не будешь. Вспомни, я и раньше был к тебе милостив.
Халаш подумал отстранение и холодно: «Если предложит убивать царевых людей, надо соглашаться. Просто соглашаться. И помочь во всем». Но натура его не терпела простоты.
«Визжи!» – посоветовали ему. «Сделаю в лучшем виде, только рот открой…» – обещали ему. И бывший лугаль завизжал:
– Кто ты такой? Ты предатель! Ты господин, предавший своего слугу, но кто из господ не поступает именно так? Ты воитель, предавший и погубивший целую армию. Но кто из сильных не поступает именно так? Ты… прежде всего я ненавижу тебя не за предательство. Чем ты лучше лугаля ниппурского? Ты – господь мой? Но ты же и выше меня! Он был выше, царь Донат был выше, его шавки всегда были выше меня, но выше всех – ты! И сила твоя мне ненавистна.
Левый заплечный дух тихонько шепнул ему в ухо: «Смотри не переборщи!» А Правый предлагал свои услуги: «Хочешь, голос будет дрожать как бы от гнева и досады? Очень правдоподобно получится. Не дури, к чему отказываться?»
И голос у Халаша действительно дрогнул, задребезжал дырявой медяшкой обиды…
– Ты… бросил меня, как падаль…
Энлиль усмехнулся, и так это вышло странно! Пухлые девичьи губки выдали ухмылку ведомого лихого душегуба.
– О великий! О могучий! О победоносный! Как сладок твой мятеж! Как красива свобода твоей души! Как: непреклонен твой нрав, о владыка… глиняного курятника. Все-таки именно я дал тебе кое-что. Я не говорил, что даю навсегда Но на время ты получил, согласись, очень многое. Похитить мэ государя и пожить внутри ее чеканных: узоров – это всем подаркам подарок. Не будешь же ты спорить с очевидным?
Левый: «Не слушай его, тупица! Обманывает. Какие у него – подарки?» Правый приструнил его: «Ладно, Левый. Заткнись, наш-то, чай, не дурак, сам понимает…»
Халаш ответствовал, и лик его обрел выражение мученичества за правду:
– Я не верю им. Я не верю тебе. Мое благо – лишь во мне самом.
– Ну-ну. Дружок, набиваешь себе цену, как гуруш караванный. Пока был молод и крепок, ценился за молодость и крепость. Теперь уже не тот, но зубы заговаривать научился любому нанимателю… Сила твоя, благе твое и твоя цена расчислены до последнего ячменного зернышка, до последнего глотка сикеры. Сколько стоишь, столько и будет заплачено.
Правый: «Хочешь, настоящую слезу пущу? Хочешь – настоящую праведную слезу?» Левый осторожничает: «Слезу не надо. Вообще – никаких деревенских трюков».
Халаш между тем размышлял: «Был бы я тебе безразличен, ты бы ко мне не пришел. Был бы я ни на что не годен, отыскал бы ты другого. Не так часто к нищему скопцу из Мира Теней приходят его хозяева…»
– Не следует мне с тобой иметь дела.
Левый: «Так и продолжай. Смотри не продешеви!» Энлиль:
– Хо-хо-хо. Спрашиваешь, что я тебе дам взамен?
Правый: «Помолчи-ка сейчас. А я твое молчание сделаю скорбным и геройским. Понял?»
И Халаш скорбно молчит, точь-в-точь изувеченный храбрец, жертва великой войны. Смотрит на него Энлиль, усмехается и тоже помалкивает. Бывший лугаль ниппурский осторожно осведомляется:
– Спрашиваю, зачем ты здесь?
– Власть я тебе не верну. Лугаль не может быть скопцом, правителю приличествует совершенное тело, а ты и это-то… носишь, как тряпки. Вернуть твоей плоти здоровье я тоже не могу; впрочем, это в твоей воле.
И хотел было Халаш ответить как следует – из-за кого он стал уродом, кто подвел его в решающей битве? – но смолчал. Смолчал, потому что Правый почти насильно стискивал его челюсти, а Левый визжал, как роженица: «Заткни-ись!» Ануннак продолжал:
– Могу дать серебра. Столько, что ты сможешь вспомнить прежнюю свою жизнь… И еще – возможность отомстить. Итак, мой подарок – серебро и кровь. Хочешь взять?
Правый: «Сейчас ты будешь красноречив. Очень красноречив!» Левый: «Время собирать урожай, время вытащить карпа из пруда, время заколоть барана… Только сделай все… как бы нехотя…»
– А ну-ка цыц! Вы, два куска степного навоза, осмелели? Будете немы целый шарех.
Халаш почувствовал чужой ужас – над правым плечом и над левым. Голоса обоих и впрямь немедленно умолкли, как будто кто-то могущественный ножом прошелся по их невидимым глоткам… Значит… слышал? Он все слышал? Бывшему лугалю понадобилось время трех вдохов, чтобы в полной мере осознать свое положение и наполниться страхом до краев, как глиняную плошку наполняют ледяной сикерой в жаркий день. Ненужные, неправильные слова уже успели вылететь из него, рот захлопнулся с опозданием:
– Твои дары – обман…
Всего три слова, и он вновь сделался нем. Но лишнее уже было совершено.
Все люди вокруг, двое или трое их было, застыли. Вместе с ними застыла пыль и пресеклось дуновение ветра Птица в десятке тростников над головой – и та застыла, распластав крылья. Халашево тело отказалось повиноваться своему хозяину. Ни крикнуть, ни защититься рукой, ни убежать… Он весь стал… как мягкий камень.
Ладони Энлиля, маленькой милой девчушки, стали медленно превращаться в клешни. Настоящие рачьи клешни, только больше, гораздо больше. Темные, блестящие, с зазубринами на внутренней стороне, заостренные спереди. Две половинки левой клешни сжали горло Халаша. Правой ануннак разорвал тунику на его груди и вырезал между сосками знак «эну-геттхаш»– первый звук имени Энлиль и тайный символ божественной власти ануннака надо всеми детьми глины.
Все, что мог Халаш, – это испытывать боль и задыхаться. Энлиль с интересом смотрел на него. И когда перед глазами Халаша завертелись черные круги, ануннак отпустил его. Бывший лугаль услышал ГОЛОС… Голос власти, такой же, как когда-то в Ниппуре:
– Ты мое имущество и не смеешь проявлять непокорство. Ты сделаешь все, как я велю.
– Да, господин. – Каким-то чудом Халаш сумел открыть рот и пролепетать ответ.
– Неправильный ответ.
Клешня на горле сжалась еще плотнее.
– Да… господь… – просипел ниппурец.
…и еще плотнее.
– Я… умру… за тебя… господь… только… вели…
– Вспомнил. Молодец.
Клешня разжалась. Халаш чувствовал, как из ушей у него идет кровь – от одного голоса Энлиля… Орудия пытки исчезли в один миг, люди задвигались, все кругом ожило. Напротив бывшего лугаля сидела безобидная девчушка. Он схватился за тунику – все цело. Скосил глаза себе на грудь… не видно.
– Кровь пропала, но шрам останется навсегда, – спокойно сообщил ему Энлиль.
Чего больше было тогда в сердце Халаша: ужаса или гнева? Он отучился бояться чего-либо в этом мире. Если смерть неожиданно подступала к нему, страх, застав Халаша врасплох, еще мог его одолеть, но потом улетучивался за один вдох. Поэтому первым вопросом ниппурца, после того как он пришел в себя, было:
– А сколько… серебра?
Девчушка расхохоталась хриплым басом пьяного старшины в рыбацкой деревне. Торговец-суммэрк, присевший чуть поодаль, подавился куском мяса. Наконец Энлиль унял хохот.
– Теперь слушай, болван и мерзавец, что тебе придется делать,
– Слушаю, господь.
– Хорошо ли ты знаешь пустыню на Заходе?
– И пустыню, и города за ней, и Мелагу, и Маган, и море Налешт и великие города на его побережье…
– Оставь свою похвальбу для какой-нибудь дешевой каркидды. Посреди пустыни, на Тропе Стекла, есть маленький оазис, суммэрк называют его Ки-Ан… Ты бывал там?
– Там давно не ходят караваны… Опасное место…
– Ты бывал там?
Три слова – как три удара каменной палицей по голове.
– Да… господь.
– Там, посреди оазиса, крепость Анахт. Не те глиняные загоны для скота, которые вы тут строите, а настоящая крепость, из черного камня… только пустая. В ней давно никто не живет. Ты помнишь крепость?
– Я… помню. Мы бывали там с отцом… очень давно. Отец меня не подпустил к ней даже на полет стрелы… Говорил, что людям там… делать нечего.
– Твой отец – мудрый человек. Не может людям принадлежать место, которое когда-то называли Кровь Смерти – на языке, не известном, наверное, никому из простых смертных. Послушай, какая красота заключена в звуках этого языка: Кгэн'грах Траш'тмор.
На девчоночьем личике блуждала мечтательная улыбка. Халаш склонил голову в знак согласия. Да, мол, конечно, мол, ужасно красиво… Наплевать и забыть на всю эту старинную чепуху.
– …А теперь это всего лишь Анахт – Имущество Хозяина… И соваться внутрь тебе действительно не стоит. Слушай внимательно. Ты отправишься туда на онагре. Вот… серебро. Тут хватит на покупку онагра, пищи, воды и подходящей одежды. Отправишься туда один. Что? Что? Лицо твое плавится, как добрая руда в горне… Не бойся.
– Туда… нельзя добраться в одиночку… господь.
– А ты доберешься. Тебя, можно сказать, доведут, хотя провожатых ты не увидишь. Там… есть очень, очень тайное святилище кочевого племени, из которого родом ты сам. Овечьи камни.
– Овечьи камни… – огорченно повторил Халаш. Надо же, и об этом знает.
– Отыщешь там плоский камень с головой барана. Прирежешь над ним онагра своего и польешь камень его кровью. Пощедрее. Потом своей. Пары капель будет достаточно. Сразу после этого отправляйся к воротам Анахт, только не суйся внутрь. Ни в коем случае. Стой и жди. Оттуда выйдет караван… теней. Тени людей, безгласные и не нуждающиеся ни в пище, ни в питье, ни в отдыхе. Тени онагров и иных зверей… не пугайся, они похожи на очень больших скорпионов, но для тебя они не опасны. Большой караван, очень большой, тебе не приходилось еще водить такие. Груз серебра, меди, но больше всего – драгоценных кедров.
– Я один, господь, не смогу уберечь…
Девочка-Энлиль рассмеялась совершенно по-детски:
– О, там будет охрана. Тебе понравится, милейший. Зовут его… или ее? Не знаю, оно одно в своем роде. Имя – Хумава. Не приближайся к нему даже на пятьдесят шагов. Может сжечь тебя… совершенно случайно. По ошибке. Не пытайся ему сказать что-нибудь. Или спросить. Или приказать. Оно само знает, как надо действовать. И поверь, более надежного стража не сыскать по всей земле Алларуад. Проведешь караван до самого Ура, до земель суммэрк. Здесь тени растают, и тебе придется нанять погонщиков-людей и воинов-людей. Не скупись, можешь потратить до трети от всего груза. Набери двадцать раз по тридцать шесть человек, или вроде того. Будешь начальствовать над ними, будешь у них караваноначальником… или князем, а хочешь, называй себя лугалем… как пожелаешь. Твоя цель – Урук. Дополнительно найми людей в окрестностях города, там еще бродят бездомные… м-м-м… борцы… во множестве Возьми Урук, разори его, снеси стены, убей жителей, засыпь колодцы. Тогда можешь возвращаться сюда и будешь богат.
– Двадцать раз по тридцать ше-есть? – с сомнением в голосе потянул Халаш.
– Ты, сын свинаря, до обидного мало веришь в мою силу… Я уже начинаю задумываться: тот ли ты человек? Пригоден ли ты для серьезного дела? С тобой останется Хумава, а это стоит целой армии. И с тобой будут кедры – еще одна армия.
– Я верю в твою силу, господь. Просто я… человек.
– Тем хуже.
– Отчего не бросишь ты на Урук горсть покорных суммэрк? Они ведь глина в твоих ладонях… Зачем… э-э…
– Тратиться? Иногда ты способен мыслить здраво. Прежде я и сделал бы так. Теперь в их городах и селениях из шести мужчин-суммэрк, способных стать воинами, не хватает трех. Они устали, их мало, из их войска волк Рат Дуган выгрыз слишком большие куски. Ничто, кроме богатства, не способно поднять их еще раз. Они не скоро восстановят силы… Хватит вопросов, принимайся за работу. Ты знаешь все необходимое.
Однако напоследок Халаш поинтересовался:
– А все-таки… сколько мне причитается?
– До завершения мэ на безбедную жизнь хватит. Теперь иди прочь.
Ниппурец ушел с гордым чувством победителя: существо великой силы не забыло о нем, явилось с поручением, вело торг и заключило сделку, обещавшую прибыль… И еще: оно было обмануто. Серебро! Разве стоит оно разоренного Урука? Разве сравнится оно с утоленной жаждой?
Ануннак, оставшись в одиночестве, медлил, не оставляя Срединный мир, не уходя домой, за стену. Он утомился. Халаш… Каков глупец! Каков гордец! В сущности, очень слабое существо, малопригодное для настоящего дела. К сожалению, ничего лучше нет. Во всяком случае, сейчас. Царство столь редко производит подобный товар! И с таким упорством давит его, калечит и корежит, чуть только распознает склонность к порче подобного рода. Остается… что остается. И от этакого ничтожества теперь зависит успех великого дела! Печально.
Очень маленький торгаш из Ниппура. И торговую мэ, как видно, ничем не выбить из его жизни. Мог помолчать и получил бы все то же, но гораздо быстрее, притом не настроив против себя создание бесконечно более высокое. Но ему требовалось обмануть, набить цену собственной глупости, показать норов. Лукавая шавчонка. Орудие слабое и кривое, будешь сломано, чуть только необходимость в тебе отпадет. Было ты глиной, глиной же бессловесной и станешь.
Стражи баб-аллонские, словом жегшие плоть, и те не вызывают столь сильного отвращения. Обычные враги…
Халаш был совершенно прозрачен для Энлиля, прозрачнее колодезной воды, прозрачнее ветра над морем. Ануннак родился в первый раз тридцать шесть по тридцать шесть и еще два солнечных круга назад в глубокой норе между глиняных корней холма, которого ныне уже не существует – на его месте вырос великий город Ниппур. Впрочем, Ниппур тоже когда-нибудь исчезнет… А тогда еще и Царства-то никакого не было. Тьма владела этим местом, тьма насмешливо лепила причудливых созданий, лишенных живой души. Во множествен Он сам – порождение мертвой женщины и каменного зверя, не знавшего ни света, ни цвета, ни звука, ни запаха, находившего добычу по одному только теплу, которое от нее исходило. Энлиль оказался так же силен, как и его родитель, но слишком чувствителен для своей мэ. Он знал боль, мог различать оттенки более темного и менее темного, кроме того, чувствовал существование могучего невидимого Хозяина… Не по запаху. В первой жизни он и понятия не имел, что такое запах. Зато у него была способность ощущать миазмы Владыки. Откуда бы ей взяться? У людей ее нет, и тем более обделены ею человеческие мертвецы. Следовательно, мать никак не могла наградить этой способностью. Отец… Ну, или нечто наподобие отца… не мог чувствовать свою принадлежность Господину, как не чувствует ее вещь… любая вещь: кувшин, скребок, топор… Он был обыкновенным камнем, ожившим и почувствовавшим необходимость убивать благодаря малой толике магии. А вот сын его постоянно слушал зов. Наверное, сам Хозяин вмешался и сделал ему такой дар. Просто шутки ради. Он мастер шуток… В первый раз Энлиль прожил семьдесят два солнечных круга, и еще четыре доли. Из них семьдесят два солнечных крута, плюс три доли он шел на зов, испытывал голод и боль, искал и не находка подобных себе существ, истреблял всех, в ком чувствовал биение жизни. Все это время он провел под землей, подобно кроту прорывая длинные ходы. Впрочем, тоща он еще не ведал, что такое солнечный круг, но зато имел обостренное чувство времени… В последнюю долю жизни Энлиль вылез из-под земли, узнал солнечный свет и вместе с ним – самую страшную боль изо всех возможных. Он хотел скрыться в норе, но земля сомкнулась перед ним и не приняла его обратно. Солнце убивало его медленно, оно поджаривало бледную плоть Энлиля от рассвета до заката. Сын камня сам не был камнем, его червеобразное тело страдало позорной уязвимостью… Энлиль свивал кольца, пытался вгрызться в неподатливую почву, в ужасе бился о нее и умирал. Иногда он слышал хохот и не мог понять, какая беда с ним происходит вдобавок ко всему остальному, поскольку от рождения не способен был слышать, и понятие «хохот» ничего ему не говорило. В более поздних жизнях он сохранял память более ранних, и тогда ему открылся смысл смеха и значение слова «слух»… Первая смерть пришла к нему в закатный час. Уходя из мира живых, Энлиль чувствовал себя сгустком ненависти. Владыка судил ему провести еще семь жизней в неведении. Это были жизни одна другой страшнее, и каждая из них оказалась горше предыдущей. Он научился копить собственную боль, гнев и отчаяние, капля по капле наполняя ими великий: колодец. Он научился причинять страдания другим живым существам, а также делать эти страдания изощренными и продолжительными. Он научился повелевать и отточил искусство власти в совершенстве. Только потом Великий Шутник открылся ему, возвысил, одарил магической силой и женой. Ибо восемь начальных жизней Энлиль провел в телах, не приспособленных для плотского соития… Только потом узнал Энлиль величие Мира Теней, существующего рядом с Поднебесным и Подземным. Только погожему было явлено великое обилие магических существ, лишенных души, но исполненных силы. Хозяин открыл ему, что во всех мирах только три вещи имеют смысл: Наслаждение, Месть и Мятеж. Прочее – иллюзия. Девятая жизнь посвящена была познанию наслаждений, Десятая – размышлениям. На заре одиннадцатой Господин призвал его на службу: «Ты будешь учить других тому, чему я научил тебя».
Сколько стоит ничтожная ненависть Халаша в сравнении с его собственной? Дикарский слепок из глины, снятый с утонченного произведения искусства… Ни чистоты в ней нет, ни должной соразмерности.
Любопытно, какой инструмент потребен, чтобы вколотить в ниппурского торгаша единственную сверкающую истину: нет разницы между злом и жизнью. Зло – это жизнь, а жизнь – это зло. Конечно, существует наслаждение как один из способов, при помощи которые Господин властвует над тобой. Но наслаждение еще требуется заслужить… Халаш бесконечно далек от понимания сути вещей; оно и невозможно без долгого и тщательного очищения. Наверное, одной исчерпанной мэ для этого слишком мало…
* * *
…Такар Маддатарт из Кисуры в смерти своей жены невиновен. Освободить.
…Община на Соленых-Холмах на Полдень от старого Лагаша напрасно передвинула межевые знаки. Повинна вернуть их назад и заплатить Дворцу три мины серебра за разор.
…Ведомо лихой человек Хадат в ограблении иссинского Храма невиновен. Хадата отпустить, в Иссин отправить шарт Абадорта Тонкого Умельца и десятника Гана Щербатого с семью копейщиками для скорейшего розыска и ловли виновных.
…Общине старого Урука запретить базарные грузы и меры на урукский манер, введенные мятежным Энкиду. Вернуть грузы и меры, общие для всего Царства.
…Земледелец Гашен-Кан со зла на торговцев Кисуры устроил два пожара в городе. Достоин смерти, но да будет выкуплен за деньги Дворца. Повинен рыть каналы и насыпать дамбы до исчерпания мэ; в Кисуру и в свою деревню не вернется никогда.
Два писца скоро строчат тростниковыми палочками по мокрой глине…
Дела старого Урука требовали царского суда. Да и обычного городского суда они требовали ничуть не менее того. В месяцы мятежа здесь судили мало: не того склада был Энкиду, чтобы разбираться в хитросплетениях законов. Потом некоторое время тут не было ни власти, ни судей. Позже явился Уггал-Банад, и он хотел все успевать сам, но не успевал, потому что его ела поедом война… Кое-какие дела, неподсудные городскому правителю, он отправлял в Баб-Аллон, а там доискаться правды было куда сложнее, да и время скакало боком, как испуганный кот, и все сомнительное в столице откладывали до поры до времени… откладывали, откладывали, откладывали, Сотник Пратт Медведь, кроме воинского «Уложения о наказаниях и поощрениях», составленного при Маддан-Салэне, иных законов не разумел, а потому и судить не брался. Старый Хараг ведал суд по торговым делам, и к нему стали приходить люди с просьбой рассудить дело о мелком воровстве, об увечье или, скажем, о старом долге. По закону агулан не волен был разрешать такие дела, но никто другой не мог, и он все же взялся делать то, что у него так просили. Бал-Гаммаст на третий день своего пребывания в городе велел Мескану тайно просмотреть таблички с приговорами Харага: не следует ли пересуживать? Тот чуть погодя ответил: где он, Мескан, мог понять обстоятельства дела, агулан вроде прав. Да и люди Урука с жалобами на него не приходили. Бал-Гаммаст кое-что велел Харагу больше не судить; кое-что прибавил к торговому суду сравнительно с прежними временами; пожаловал агулана дворцовым полем за добрую службу; выбросил решенное дело из памяти.
Но ни Хараг, ни Пратт, ни кто-либо другой не мог судить высших лиц Дворца и Храма, военачальников выше сотника, тамкаров и еще много кого. Никто, кроме царя, не мог завершить таблицу дела, за которое ответчику грозила смертная казнь. А если бы агулан взялся судить о земельных межах, наследстве и делах семейных, рано или поздно его убили бы. Один ли кто-нибудь в ночную пору всадил бы в него нож, или весь город посреди светлого дня явился бы порвать его на части – какая разница? Власть большая, нежели дается человеку рукой самого Творца, убивает неотвратимо…
Придя в Урук, Бал-Гаммаст в первые два месяца судил за себя и за городского судью, да еще и за пять или даже семь недостающих городских судей в соседних областях. То есть изо дня в день помногу, и только самое срочное. Он бы поставил в судьи Мескана, но не может быть судьей городской первосвященник. Он бы поставил судьей Пратта, но не может быть судьей войсковой сотник. Он бы поставил судьей Харага, но тот отказался, и отказался честно, правильно, как должно: «Отец мой государь Бал-Гаммаст! Дед мой был медником, отец мой был медником, я медник, и дети мои унаследуют мой дом и мастерские. Творец создал меня не для суда. Если велишь, твоей воле сопротивляться я не могу, но добра из этого не выйдет». Так и остался Хараг при малом – торговом – суде. Кое-кого, обученного для судейского труда, прислали Бал-Гаммасту из столицы, хотя и далеко не сразу. Судья, бежавший из Ура от нашествия суммэрк, отправлен был в недавно отвоеванную Умму. Упрямец отыскал в Лагаше некоего ученого шарт из нижних чинов, но большого умника и просил за него. Бал-Гаммаст разрешил поставить его судьей лагашским. А сюда, в Урук, вызвал прежнего своего воспитателя – Лага Маддана. И угадал. Старик, бродивший в потемках у самого обрыва мэ, вдруг встрепенулся и ожил. Хвори, сросшиеся с кожей, костями и плотью его, угомонились, притихли. Неуклюжая бездумная дряхлость – и та отступила. Поговаривали, что судит строго; иные толковали, будто вышел из него большой гонитель на мздоимство…
«Вот славно, – радовался юный царь, – хоть тут не вышло ошибки».
Месяц за месяцем он спал ровно столько, сколько требовалось, чтобы не свалиться.
…Караван почтенного тамкара Анга, по верным вестям из Страны моря, погиб весь, а шарт с таблицами в руках требуют от семьи тамкара вернуть большой казенный долг. Казне следует уменьшить долг вдвое и отложить получение на полтора солнечных круга.
…Тамкар Горт-Кан из Урука задолжал лекарю Наггану десять мин серебра и отказывается платить, говоря, будто есть у него важное царское дело и на то дело он, тамкар Горт-Кан, потратил все свое имущество. Повинен заплатить долг за месяц, а сверх того еще две мины серебра лекарю Нагхшу и одну мину – Дворцу. Буде не пожелает платить, на Арамом деле лишится всего имущества.
…На земле Уммы появился странный человек Ярла-ган, смущающий умы хулой на Творца и творящий великие, но злые чудеса. Выслать в Умму свежую полусотню и с нею отправить двух прозорливых стражей из четырех, недавно прибывших в Урук с особым предостережением от первосвященника баб-аллонского. Каждые полмесяца донесения об этом деле из Уммы должен получать сам Бал-Гаммаст и Сан Лагэн. Ежели стражи сумеют взять или убить странника Ярлагана, то царское разрешение на та им дано.
…Тысячник Уггал Губа из войска эбиха Дугана в гневе убил десятника, который бросил своих копейщиков и спасся из боя бегством. Повинен смерти, но получает волею царя полное прощение и должен быть освобожден.
Царь Бал-Гаммаст, владыка половины земли Алларуад, на ложе своем познал множество женщин. Но души их были ему непонятны, а души Анны и Саддэ едва-едва приоткрылись. Он не ведая правильной семьи, не понимал, как это – иметь собственных детей и откуда взялись позволения и запреты в делах семейных, позже получившие силу закона. Оттого болела его голова в те дни, когда жены приходили к нему, чтобы пожаловаться на мужей, дети восставали на отцов, братья тягались из-за клочка земли, а рачительный тесть давил последнее ячменное зернышко из дочери умершего зятя… Если б не война, прошедшая страшным разорением по всему краю Полдня, если б не ожесточение сердец, если б не страшная гниль, которой мятеж заразил эту землю, люди были бы намного милосерднее друг к другу. Так говорили и Мескан, и Лаг Маддан, и даже Пратт Медведь. Сотник высказал ему всю государственную мудрость Царства в одной фразе: «Родня промеж собой должна быть ласкова, а не как сейчас!» Не важно. Бал-Гаммаст мог бы скинуть семейные дела на других, но судил их сам и только сам. Он дал себе зарок: заниматься этим, пока не дойдет до ускользающей от него сути, пока не научится решать такие дела так же, как владеет он мечом или искусством сложного счета.
Этому отец его не учил.
В 14-й день месяца уллулта ему досталось три таких дела, одно другого хуже.
– …Сын мой Алаган из квартала шорников, в месяцы мятежа ты взял к себе в дом женщину из народа суммэрк, по имени Намэгинидуг, как рабыню и дал за нее серебро. Она жила с тобой, восходила к тебе на ложе и открывала тебе лоно свое?
– Да, отец мой и государь… – Шорник Алаган стоял понурившись напротив. Он прятал глаза и отвечал на вопросы едва слышно.
– Сын мой Алаган, была ли Намэгинидуг помощницей тебе в делах твоего дома и в умножении твоего имущества?
– Была, отец мой и государь…
– Разоряла ли она тебя или, может быть, бранила? Отказывала от ложа? Воровала твое имущество? Открывала лоно свое другим мужчинам? Выдавала секреты твои? Делала долги без твоего согласия? Бесчестила словом или действием твое имя? Или, может быть, она бесчестила твою семью?
– Нет, отец мой и государь, она… – Алаган отвел взгляд куда-то в сторону и жалобно добавил: – Она хорошая женщина.
«Чего ж тебе, черепку никчемному, надо? И сам ты неказистый, и нет у тебя особенного богатства, и по ухваткам твоим видно, что с женщинами водиться ты не горазд… Может, в ней все дело?»
Нет, положительно женщина шорника дурного слова не заслуживала. Была она не очень красива, но и не страшна. К тому же во всем походила на самого Алагана. Так же стояла, не глядя в глаза Бал-Гаммасту, так же смущалась, и видно было, как трудно ей удержаться от слез.
Мескан шепнул ему на ухо:
– Может, дети?
– Сын мой Алаган, подарила ли она тебе детей и здоровы ли те дети?
– Да, отец мой и государь, она принесла мне сына… И сын тоже хороший вышел… спасибо Творцу.
Очень хотелось царю оставить судебную манеру – строить чинные тупые вопросы. Подойти бы к шорнику, тряхнуть его как следует и допытаться попросту. «В чем дело?» Может быть, Бал-Гаммаст и поступил бы так, да, бывало, и поступал… Но раз или два наткнулся на усталый взгляд, в котором столько было душевной муки: «Знал бы, в чем дело, наверное, и суда бы не потребовалось…» Не говорили такого люди, но души их кричали об этом.
– Сын мой Алаган, ты не хочешь сделать Намэгинидуг своей женой из-за того, что она не верит в Творца?
– Все в точности так, отец мой и государь.
– Дочь моя Намэгинидуг, дорожишь ли ты своей верой настолько, чтобы она помешала тебе стать женой шорника Алагана?
– Я… отец мой… я… отец мой и государь… я… хоть завтра. Верю я в Творца. Моя старая вера мне не нужна… Хоть завтра я ее… я ее… переменю… – тут она всхлипнула, но рыданий на волю не пустила. – И женой его… моего… Алагана моего… стану… по обряду земли Алларуад… пожалуйста… хоть завтра, хоть сегодня… я…
– Помолчи. – Бал-Гаммаст вновь обратился к шорнику. – А ты, сын мой, видишь ли теперь, как исчезло препятствие, вас разъединявшее?
– Все равно… отец мой… и государь… Обычай наш уж больно несходен.
– Она была тебе помощницей в доме. Восходила на твое ложе и принесла тебе сына. Ты хочешь отказаться от нее, но из дома своего не прогнал. Ты назвал ее хорошей женщиной. Выходит, прежде не мешал тебе ее нрав и ее обычаи?
Шорник булькнул в ответ нечто невразумительное. Повинуясь внезапному порыву, царь спросил у истицы:
– Он хорошо с тобой обращался?
– Да, отец мой и государь… он… мой… Алаган мой— очень добрый человек.
– Вовсе же я не твой, Нимэ. Никакой я не твой… – вчетвертьголоса зашелестел шорник.
Рабыня его и наложница всхлипнула громче.
Вроде бы дало не стоило глотка воды. Чего проще! Рабства нет в Царстве, на этот счет существует древний и нерушимый закон Ууту-Хегаиа Пастыря. Серебро свое шорник безвозвратно потерял. По «Уложению о семейных делах, наследовании и чести» царя Бал-Адэна Великого в таких случаях наложница становится женой – если пожелает. А если нет, то может уйти от бывшего хозяина и получит при этом выкупное – не столь уж разорительное для прежнего владельца, но и не скудное. Кстати, если бы женщина завела себе раба-наложника, то и ей пришлось бы потерять столько же при тех же условиях… Не важно, Намэишндуг хочет остаться и готова принять новую веру. Закон говорит, она должна стать женой шорника. Существует множество причин, по которым в Царстве разрезают нить брака: измена, бесплодие, бесчестие, тяжкое преступление, совершенное одним из супругов, смена веры, некоторые болезни и добрый короб всего прочего… Только одно считается непозволительным: уйти жене от мужа или мужу от жены просто так, безо всякой причины, или по той незамысловатой причине, что супруг разонравился. Нить брака между Алаганом и Нимэгинидуг разрезана быть не может.
Бал-Гаммаст знал верное решение. Но это не доставляло ему удовлетворения. Два человека жили дружно, родили ребенка, все у них ладилось, а тут вдруг остановилось на полном скаку… Отчего понадобилось шорнику расстаться с его женщиной? Юный царь мог бы сейчас же завершить дело, но не желал сделать это, не поняв причины, породившей ссору.
Жестом он подозвал к себе Алагана. Тихо-тихо, так, чтобы не слышала Нимэгшшдуг, спросил у него:
– Любишь другую?
– Нет! Нет, отец мой и государь, нет! Как можно! И в глазах у него стояло бесконечное удивление, будто Еввав-Рат разлился по второму разу за солнечный круг…
Мескан молчал.
Тогда Бал-Гаммаст повернулся к Анне – сегодня он попросил ее быть рядом и следить за всем происходящим, не вмешиваясь. Она – женщина, пусть подскажет, как все это выглядит с той стороны. Анна поглядела на него внимательно.
– Не понимаешь, Балле?
– Знаю что делать, но не понимаю – почему.
– Отложи.
– Что?!
– Отложи решение на день-другой.
– Ты сможешь объяснить мне?
– Я попытаюсь. От маленькой отсрочки не проиграет никто. Ни ты, мой царь, ни они.
– Хорошо. Мескан?
– Закон невозможно прочитать двумя способами. Нимэгинидуг – его жена.
…И все-таки Бал-Гаммаст решился отложить решение на день. Второе дело, столь же ясное, с точки зрения закона, и столь же запутанное, если говорить о мотивах, запомнилось ему надолго. Мать судилась с родным сыном. Тот достиг совершеннолетия и потребовал дать ему долю из отцовского наследства – для самостоятельной жизни. Семья была богата, и мать, выделив требуемое, не оказалась бы на грани разорения. Но она отказалась. Закон повелевал ей выполнить требование, однако она кричала, что нет и быть не может правила, по которому надо разлучить мать с сыном, а если оно кем-то и заведено, то самое время его отменить. Потом пожаловалась Бал-Гаммасту на болезнь сына, на явное его слабоумие, от которого происходит полная неспособность жить отдельно и самому заниматься делами дома. Бал-Гаммаст подозвал ее сына и, недолго поговорив с ним, убедился: никакого слабоумия нет и в помине. Тогда царь рассудил тяжбу в его пользу. Он и здесь не вышел за рамки закона. Более того, он понимал, в чем причина ссоры: мать не желала расставаться со своей властью над сыном, а сын уже тяготился ею.
Точно так же и Лиллу до последней возможности не хотела отпускать его от себя, всяко отговариваясь и уходя от правды. Она ведь даже не вышла попрощаться, когда Бал-Гаммаст отъезжал в Урук…
Рассерженная женщина взывала к Творцу, кричала о несправедливости, ругалась, плакала, топала ногами. Уходя, она крикнула: «Почему нами правит слецец, не способный увидеть очевидное!» – и тем самым заработала двадцать плетей.
Царь, уверенно и правильно завершивший дело, недоумевал: зачем ей такая власть? Зачем им всем такая власть?
Третье дело оказалось хоть и сложным, но приятным. Разводились реддэм Шаддаган, сотник царского войска, и его жена, худенькая миловидная женщина лет двадцати пяти по имени Нагат. Сотник отыскал себе другую жену. По 8-й статье «Уложения о семейных делах…» он был вправе уйти. Нагат все время должала, и дом его не покидала бедность. Женщина ничуть не желала причинить зло своему мужу, просто ее мечтательный характер и страсть к тонкому искусству стенной росписи превратили ее в большую беду для дома Шаддагана. Сотник никогда не ставил ей это в упрек, безропотно терпел и любил как мог. Но когда полюбил другую, предлог для расставания с Нагат отыскался без труда. Жена его столь же безропотно отпускала. Он ей оставлял серебро, сколько полагается по «Закону о разводных делах» царя Маддана II.
Только Нагат не желала принять серебро. И даже затеяла судиться, лишь бы ничего не брать у прежнего своего супруга. Шаддаган сожалел, что вводит ее в огорчение своим уходом. Нагат сожалела, что обязана принять у него серебро. Сотник отказывался забрать его назад. Тогда женщина сказала: «Я любила его и люблю до сих пор. Если Шаддаган не может жить со мной дальше, я отпускаю его с чистым сердцем и не желаю ему никакого лиха. Он принес мне бесконечные равнины счастья, по которым текут полноводные реки счастья. Теперь я ни за что не соглашусь взять у него хоть малую толику серебра или иного имущества: это непереносимо испачкает мою душу».
И опять Бал-Гаммаст никак не мог вникнуть в тайную и невидимую суть происходящего. Чего ради кривляется Нагат? Что ей неймется? Весь город смеется над нею, и трудно понять, какие мысли привели ее на суд…
Впрочем, недоумение не помешало ему рассудить дело в тот же день. Он спросил только, есть ли у Нагат и Шаддагана дети. Оказалось – дочь, маленькая девочка. Ее поселила у себя сестра жены, не чая от Нагат доброго пригляда за ребенком… Тогда Бал-Гаммаст сообщил решение. Своей волей он преступает закон Царства: все спорное серебро достанется девочке, а тратить его на содержание будет сестра Нагат, половину же пусть отложит как будущее приданое.
Тем царский суд и отличается ото всех прочих, что царь выше закона, царь – источник закона. Если закон – на каждый день, то воля государя встает над ним в исключительных случаях. Лиллу говорила сыну: «Лучше бы никогда не пользоваться этим». Отец же думая прямо противоположное: «Закон ради жизни, а не жизнь ради закона. В общем, если потребуется, не стесняйся».
…За трапезой Бал-Гаммаст все улыбался. Анна не удержалась и спросила:
– Отчего, мой царь?
И он ответил – больше своим мыслям, чем жене:
– Нет, не должен Урук смеяться над Нагат, а должен бы гордиться ею.
– Почему же? Она понравилась мне своей чистотой, но чем тут особенно гордиться?
– Они оба, и Нагат, и сотник, были выше пустой корысти, выше обстоятельств, которые ломали их мэ. Если бы все Царство было сборищем хороших людей!
Мескан:
– Триста солнечных кругов назад оно и было таким. Балле, просто нам досталось… меньше… всего этого.
– Нам досталось меньше чего? Души? Ума? Благородства? Чего, Мескан? – переспросила Анна.
– Не знаю, как выразить это. Наверное, нам досталось меньше… высоты.
А Бал-Гаммаст все улыбался.
Двести пятьдесят солнечных кругов назад умер царь Бал-Адэн Великий, не оставив прямых наследников. Земля Царства осиротела. Кончилось время недосягаемого величия, когда страна Алларуад плыла, будто сокол в небе, над пенистыми бурунами соседских усобиц. Завершился покой. Все, кто мог претендовать на престол, сошлись в долгой кровавой войне. Черная хворь дважды приходила, чтобы забрать жизни уцелевших. Гутии впервые глубоко проникли в плоть Царства и разорили старый Сиппар. Ветры гуляли над заброшенными полями, каналы зарастали, ветшали стены городов. В коренных областях Царства объявилось войско самозваного государя, сторонники которого красили высокие овальные щиты в черный цвет. Так и говорили потом: «Хуже, чем при Черных Щитах…» Значит, совсем плохо. Царь-мечтатель Уггал-Эган, случайно оказавшийся на вершине власти, желал бросить свою страну, посадить лучших воинов, священствующих, ремесленников и красивейших женщин на большие корабли, вывезти их в море и там скитаться, основывая новые державы, бросая алларуадское семя на чужих побережьях… Его сменил на престоле бессильный младенец, жизнью заплативший за свою царственную мэ. Наконец Черные Щиты пришли под самый Баб-Аллон и потребовали открыть ворота. Два самых сильных претендента из дальней царской родни, преодолевая ненависть друг к другу, сплотились ради последней битвы с самозванцем. Сколько воинов легло тогда у столичных стен! Казалось, хребет Царства переломлен и не подняться теперь увечной стране… Но нет, видно, ушла в землю самая буйная кровь, остальные же сумели договориться между собой. Алларуадские твердыни опять поднялись, опять зацвели сады, опять зазвучали флейты. Силы было очень много в Царстве, так много, что она выплескивалась через край. После того как Черным Щитам перерезали глотки, она, буйная эта сила, поубавилась вдвое, но еще не ушла совсем, еще можно было напиться ею вдоволь на землях великой и веселой страны Алларуад. Еще знамена с золотыми львами на поле чистой лазури без страха плескались над зелеными холмами. И люди Царства не стали хуже, проще, криводушнее и корыстнее.
Бал-Гаммаст наизусть помнил исторические каноны об эпохе Черных Щитов. И еще он помнил стихи Саннаганта Учителя, сложенные в то время и о том времени:
Время было цветком,
Обратилось же в каплю,
Застывшую на лепестке
Под губительным зноем…
Злоба умножилась,
Как саранча или же отмели
На судоходной реке.
Перекошена суть городов и людей…
Однако же суть вернулась и была восстановлена.
Теперь – другое дело. Теперь Царство – вроде трупа, оживленного волшбой какого-нибудь машмаашу. Ходит, но не дышит, сражается, но не роняет кровь, обнимает, но не любит, сохранило память, но утратило желания. Вроде бы и потерь, подобных тем, вечно памятным, нет, но жизненные соки остыли и загустели, вновь перекашивая сути… И как сладко было царю увидеть живое благородство среди людей, отданных под его руку Творцом! Остатки ли это неумершей плоти в теле мертвеца? Или из трупа, так и не успевшего распасться в мелкий прах, уже растут новые цветы? Не важно. Жизнь – стихия ошибок, но ее сила всегда благодатна. Бал-Гаммаст ни за что не выразил бы это словами, но его сердце отлично знало, чему стоит радоваться…
– Балле, мой Балле, ты слышишь меня? Слышишь? Анна, подобно полуприрученной кошке, хотела либо всего внимания для себя, либо не интересовалась им совсем.
– Я слышу тебя. Я смотрю на тебя. Я люблю тебя. Она наклонилась над столом и прикоснулась ладонью к его щеке.
– Ты… хотел знать про шорника и его рабыню.
– Жену.
– Да. Жену. Тебе это все еще нужно?
– Именно сейчас мне это нужно больше, чем когда-либо. – Бал-Гаммаст не стал уточнять, что хотел бы послушать и про строптивую мамашу, и про дело Нагат. Алаган с его Намэгинидуг привели его в недоумение, мать и сын – разгневали, а шорник и его бывшая жена порадовали; но понимание тайных глубин дела не пришло к нему ни разу за сегодняшний день.
– Тогда слушай и не перебивай меня. Он, этот шорник, боится своей жены. Там была еще мать, судившаяся с сыном. Так она боится своего сына. А Шаддаган и Нагат ничего не боятся. Ничего. Вижу я, мой царь, по твоим глазам, что тебе не стало понятнее. Сейчас я объясню. Подожди.
Она выпила холодного молока, перевела дыхание и продолжила:
– Может быть, шорник и его женщина-суммэрк ладили друг с другом. Судя по всему, они отлично ладили. Но у него было столько власти над нею, сколько у тебя – над половиной Царства. А теперь всю власть у шорника отняли, она исчезла, пропала, нет ее. Вот он и боится, что добрая рабыня станет злою женой, скрутит его и захочет быть полной его хозяйкой. Он боится, мой царь, он боится, боится ее. А… эти… мать и дитя… совсем наоборот. Мать была госпожой и хозяйкой сына. Теперь она не желает расстаться со своей властью. А расставаясь, вопит о несправедливости. Нагат и Шаддаган ничего не боятся. Как видно, оба они владели друг другом безраздельно, а значит, ни один из них не был хозяином другого. Оттого и расстаются как человек с человеком, а не как человек с вещью…
– Ты говорила много, я слушал тебя, я радовался каждому слову, исходящему от тебя. Но я все равно не понял. Отчего так худо одним, когда они теряют власть, а другие отчего так боятся подчинения? Ведь это семья, родня. Анна, моя Анна! За властью, за страхом должна быть спрятана какая-то ценность. Как за крепкими сторожами. Но ценности-то я как раз и не могу разглядеть.
– Ты… можешь отпустить остальных? – Бал-Гаммаст осмотрелся. Придется оттаскивать от стола троих. Нет, этого делать не следует. Отец лучших и доверенных людей считал друзьями, и ему бы надо. Только вот друзей не гонят из-за стола.
– Пойдем со мной.
…В спальном покое она обняла его. По лицу Анны нетрудно было прочитать ее мысли: «Юный, неопытный, любимый…» Быть неопытным ему не хотелось. Впрочем, она не произнесла ничего этого вслух.
– Я расскажу. Это… еще будет у нас с тобой. Наверное.
– Что – «это», Анна?
– Иногда бывает вот как… Два близких человека заводят меж собою целую страну из жестов, слов, улыбок и воспоминаний. В той стране идут дожди и светит солнце, города поднимаются из ровной глины, войска блещут оружием, звучат флейты и гонги, о любви поют нежнейшие голоса… Но знают о существовании потаенной страны только двое. А иногда – только один из них, другой же едва слышит эхо тех песен и едва видит отблеск того солнца… Никому, кроме двоих, основавших державу-только-для-себя, туда ходу нет. Она замкнута. Она создана быть потаенным краем. Она может быть невероятно тонка. Жизнь внешняя постоянно давит на нее и грозит разрушить. Если мэ хоть одного из двоих испытает резкий перелом, то он станет способен, желая того или нет, изменить нечто важное в потаенном краю, а то и разрушить его. Власть бывает потребна, чтобы другой владелец державы-на-двоих не изменился. Власть; нужна, чтобы потаенный край жил как. живет…
– В твоем голосе, Анна, я слышу едва ли не гнев. Почему ты злишься?
– В мире есть то, чему надо оставаться неизменным, и то, чему следует изменяться, развиваться. Державу-для-двоих, подержав немного в сердце, нужно разрушать. Всегда. Я уверена. Иначе до исчерпания мэ человек останется в… состоянии вечного месяца саббад… первого в круге солнца. Он не станет кем-нибудь, он не узнает ничего нового, он всегда будет жителем потаенного края, но и все.
– Что – неизменно?
– Любовь. Бог.
– Им больно?
– Кому, мой царь?
– Тем, кто разрушает свой потаенный край.
– О да! Тот, кто научился не испытывать боли при этом, – страшный человек, настоящее чудовище. Тот, кто готов смириться с этой болью, – великий человек…
Бал-Гаммаст умел дарить, бывать нежным, чутко слушать другого человека, радоваться чужому счастью, но о потаенном крае он прежде не знал и не чувствовал ни эха, ни отблесков его. Слишком тонко, слишком хрупко, слишком бесполезно.
– Анна, у… шорника и Намзтинидут была своя…
– …замкнутая страна? Была. И он боится, что жена станет сильнее и грубее, ворвется и смахнет всю тонкость. У матери… которая судилась с сыном, тоже было нечто… только сыну оно не нужно. Сын, может быть, и не заметил ее потаенного края… А сотник и Нагат… там все проще некуда. Вдвоем они держали замкнутую страну; потом ему захотелось другого, а она пожелала сохранить все в чистоте и неприкосновенности – для одной себя.
– Из-за такой чепухи! Знал бы…
– О нет! Для иных людей потаенный край дороже золота, чести и веры. Это очень дорогой товар.
– Не чувствую, Анна. Но понять… понять, кажется, могу. Все бывает в этом мире, под рукой Творца.
…На другой день Бал-Гаммаст спросил у Намэгинидуг:
– Ты любишь его?
И женщина ответила твердо, так, чтобы слышали все вокруг:
– Я люблю его больше всего на свете.
Сила внешняя, великая и добрая, дала юному царю понять: Намэгинидуг правдива. Правда ее любви пустила глубокие корни.
– А ты, сын мой Алаган, любишь ее? Шорник опустил голову и едва слышно сказал:
– Да, отец мой и государь…
И этот не врет.
– Ваша любовь пускай пребудет в неизменности. Закон Царства и моя воля едины: нити, прикрепляющие жену к мужу, разрезаны не будут. Ты, Намэгинидуг, примешь веру в Творца. И живите в мире.
Шорник и его жена ушли обнявшись…
Он судил еще раз, другой и третий семейные дела. Убедился, что сможет делать это когда пожелает и уже не пройдет мимо сути. Тогда Бал-Гаммаст передал суд по семейным делам старого города Урука Лагу Маддану. Мэ царя и без того не разрешала ему отдыхать вдоволь.
Старший агулан Урука, почтенный Хараг, стоял у левой руки Бал-Гаммаста всякий раз, когда тот судил важнейшие дела. Никогда не размыкал губ, если царь не просил у него совета. Когда требовалось, давал совет, говоря кратко и дельно. Не произнес лишнего слова. Не сделал лишнего жеста. Одно лишь изменилось в нем: на первых царских судилищах презрительная улыбка не покидала уст Харага. Потом лицо его сделалось во всем подобным глиняной маске. Более он не позволял себе ухмыляться.
…Кочевое племя, пришедшее с земель Элама, просит у Дворца и Храма мира, земли и веры; все готовы признать над собой царскую руку… Если Храм не против, Дворец дает мир. Землю поверстать в течение месяца – к Заходу от Урука, там, где особенно обезлюдели деревни.
…Мытарь Кан Хват в превышении таможенной пошлины невиновен. Взял верно, не утаил для себя ничего. Освободить. Торговец, ложно его обвинивший, должен дать десять сиклей серебра за поруху чести.
…Шарт Мабатт в затоплении полей и фруктовых садов четырех деревень виновен, ибо неверно провел канал. Лишается имущества и чина, отдан будет слугой тамкара на дворцовое судно – для дальних морских походов. Канал да будет засыпан.
…Энси Кисуры в недоборе людей на воинскую службу виновен. Лишается правительского кресла, отныне будет простым сотником. На его место да взойдет реддэм Шаддаган…
Месяц уллулт выжигал травы.
Князь Халаш миновал передовые посты армии суммэрк, подчинявшейся лугалю Нараму, и оказался ровно на середине пути между Уром и Уруком. Нарам явился с большой свитой, подъехал на коне к Халашу, бросил на него оценивающий взгляд. Он, правитель Эреду и Ура, величавший себя чуть ли не царем Полуденным, слез со своего жеребца и поклонился Халашу, поклонился в пояс, а свите своей велел встать на колени и согнуть негнущиеся спины так, чтобы кожа лбов поцеловала землю… Нарам был по крови отнюдь не суммэрк, а чистейший алларуадец, родился в молодой семье, жившей на дальней Полуночи, за каналом Агадирт, в диких, Царством не охраняемых местах. Потом весь род его откочевал на землю Царства и рассеялся, он же осел в Эреду. Нарам славился холодной, ничем не перешибаемой смелостью. Не боялся ни человека, ни зверя, смеялся над любыми богами, кроме тех, что оказывались ближе шести шагов от него. Теперь в глазах его поселился ужас…
Халаш с трудом набрал в Уре воинов сколько велено – суммэрк, алларуанцев, пустынных кочевников и всякого иного сброда. Все они – все до единого – боялись своего князя. Однажды он подслушал отрывок разговора: «…этот наш… отдал за силу все… получил уродство… оказался рукой… могучего существа… мог бы вернуть красоту и здоровье… но хочет… ненавидеть… быть сильным…» Они к Хумаве относились без особой опаски: держись подальше, и оно не тронет. А от Халаша ждали одного только лиха.
Ему было все равно. Он почти не говорил от самого Ура, а когда это все-таки требовалось, едва-едва цедил слова.
Страх прочно вошел в его плоть. И отнюдь не чудовищный страж пугал его. По отношению к Хумаве он держался того же мнения, что и вся армия… Просто… князь Халаш побывал у раскрытых ворот замка Анахт. Он видел, как тянулись наружу языки черного огня длиною в десяток тростников. Именно длиной, а не высотой – пламя било не вверх, а в сторону, параллельно земле. Оно тянулось к Халашу и едва-едва не дотягивалось. Халашу померещилось, будто бы вовсе не ворота перед ним. Нет, не ворота. Лоно громадной женщины удерживает в себе темный хищный мир, и стоит ему вырваться, нет сомнений – миру нынешнему, простершемуся под солнцем, суждено быть поглощенным без остатка. Хрупкая каменная стена в шесть тростников толщиной отрезала тот мир от этого, и не будь она укреплена магией, перемычка рухнула бы в один день…
Наконец тени вышли из своего царства, а вслед за ними и Хумава. Путь до Ура они провели в безмолвии.
Тогда, путешествуя с караваном теней, Халаш понял: маленькие люди боятся больших людей, большие люда – еще больших, а те, в свою очередь, боятся бесконечного ужаса, которому нет названия. Таким образом, власть делит всех на низших и высших по количеству страха.
…На другой день после того, как его свеженабранная армия вышла в поход, Халаш узнал о дезертирстве копейщика. Тогда он велел привести оставшихся одиннадцать бойцов из дюжины беглеца, а вокруг них поставил других копейщиков, так, чтобы каждый, кто пожелает вырваться из круга, натыкался на металлические жала. Потом Халаш собственноручно зарезал одиннадцать человек. Не торопясь. Деловито. Досадливо морщась, когда кровь брызгала в лицо. Всей армии было объявлено: бежит один – казнят дюжину, бежит дюжина – казнят шестьдесят воинов, пощады не достоин никто; следует присматривать за соседями. На следующий день князю принесли головы четырех дезертиров. Этих прикончили свои. Больше ни один из его людей не посмел удариться в бега.
Армия Дугана стерегла переправы через Еввав-Рат, она оказалась далеко в стороне. Халашу противостоял только гарнизон Урука…
* * *
К 5-му дню месяца уллулта в округе старого Урука был сжат хлеб – весь, до последнего зернышка. Амбары в краю Полдня – от зыбких границ мятежной области до лагашских топей, по которым проходил великий эламский рубеж, – наполнились зерном.
Земля простиралась между городами, как старуха с дряблой кожей, иссохшей грудью и набухшими темными жилами рек. Каналы гнали по ее телу загустевшую мутную жидкость; клейма бурой, неживой травы пятнали его. Песок засыпал водоотводные канавы и поля. Не хватало людей, чтобы задержать его наступление, оживить остовы покинутых деревень. Разрастались ржавые полосы бурьяна – там, где поля лежали впусте.
Нет, земля Алларуад не умерла. Она не умерла еще! Так много жизни влил в нее Творец! Так много света хранили ее сады! Так много силы оставалось в ее людях. Война и зной истязали страну, но она все стояла, все не падала на колени, все никак не желала подставить горло под чужой нож… Царство, казалось, застыло, как призрак себя самого, трепеща в раскаленном воздухе над землей и водой. И люди Царства, неутомимые земледельцы, непобедимые воители и мудрецы, хранившие светлую веру, все никак не иссякали на его равнинах, как видно, не умели они смириться с уходом целой эпохи. Возможно, мэ их, мэ всей страны, ожидала чего-то, то ли человека, то ли вещь, то ли завет, то ли память, то ли и вовсе нечто почти бесплотное, до сих пор не переданное младшему времени… А может быть, дому на острове прежде следовало погибнуть, а соленым водам – сомкнуться над его крышей, и только тогда одна эпоха осмелится прийти на смену другой? Не в смерти ли золотого дома родится то величие, который затмит красу счастливого Царства?
Многие люди томились тогда, переживая великую сушь 2509-го1 солнечного круга от Сотворения мира. Души их мучились ожиданием близкой тьмы, а тела страдали от смертной жары.
Юный царь и древний первосвященник терзались, быть может, более всех прочих, зная, что происходит вокруг них и подозревая, почему это происходит.
И Сан Лагэн в одном лишь Боге находил утешение. А Бал-Гаммаст как раз в день 5-й месяца уллулта узнал о небывалом на его веку урожае и возрадовался: Анна собиралась стать матерью.
* * *
…Земледельцы страны Алларуад не чаяли добра от земли, воды и неба. В иной солнечный круг они, сжав хлеб, сейчас же засеяли бы поля по новой. Земля Царства во второй раз одарила бы их ячменем, как водилось исстари… Но теперь нелепица с погодой ввела их в сомнение. Долго ходили толки: сеять все же или нет? Вокруг – половодье зноя! Однако в конце концов, положась на Творца, общины принялись за сев. Стар и млад молились, выпрашивая ранний дождь. До месяца арасана, богатого водой, и уж тем более до ливней калэма было слишком долго. Если ранний теплый дождь, случайно забредший в томительно-багровый уллулт, не приласкает землю, то хлебу – конец.
Дождя все не было.
…Раннее утро. Лучшее время для всякой работы. В утреннюю пору сильнее руки и звучнее голоса. Бал-Гаммаст давно покинул ложе и сейчас размышлял над грудой таблиц о многих вещах. О хлебе и мятежном Нараме, о судьбе Царства и караване с оружием из Элама, о том, что стены Урука скоро будут ничуть не хуже старых, и о том, до чего опасен этот маг Ярлаган… Из-под Уммы писали: при первой попытке захватить его или уничтожить Ярлаган семерых копейщиков сделал тенями на воде… Хотя и сам едва ушел. Зато бегун из Шуруппака принес добрые вести: энси Масталан совершенно излечился.
– Балле! Под стеной объявилось волосатое чудище.
– Что, Пратт?
– Чудище. Нечто среднее между слоном и мною – руки все в шерстя. То есть лапы.
Бал-Гаммаст удивленно воззрился на тысячника. И Пратт, правильно поняв этот взгляд, пояснил:
– Это не просто козлиный горох, это важно. Царь, ни слова не говоря, пошел за ним. До сих пор Медведь ни разу не ошибался, отделяя важные вещи от… от… да хотя бы от козлиного гороха. Тысячник по дороге рассказал ему:
– Поначалу этот мохнатый буянил, попросту буянил, у задницы моей бабушки не спросясь. Разогнал всех от ворот. И никто ему сдачи не давал, понимаешь? Ни один.
– Он человек?
– Да-а. Только очень здоровый. Конь. Бык. Очень здоровый.
– И ни один?
– Нет, Балле. Караульный сотник насторожился. Надо же: разбойник безобразничает среди бела дня, а все его стороной обходят, и жаловаться на разбой никто не идет… Послал он трех копейщиков. Буян этот парень не промах – одному руку сломал, другому челюсть своротил, третьему копейное древко о плечо располовинил.
– Лучники?
– Сотник вызвал меня, и я уже лучников с копейщиками выслал. Так вот, буян оказался умником. Отбежал в сторонку, дал нам побитых бойцов забрать. Стрелам шкуру свою подставлять не захотел. А потом вернулся на место и прокричал: мол, покуда не явится ваш царек, покою не бывать. Зовите, мол… Резвый такой помет! Не догнали мы его.
– А теперь, Пратт?
– Теперь он опять там. И всем боязно выезжать из ворот… Так я подумал: верно, он непростая птица. Стоит тебе поглядеть.
Бал-Гаммаст добрался до стены и взошел наверх, в караульное помещение воротной башни. Глянул в узкую щель окна, прорубленного для лучников. «Не может быть! Нет, не может быть…» Далеко внизу сидел на корточках маленький человечек – на таком расстоянии кто угодно покажется малышом. И посматривал он как раз на окошечко, у которого стоял Бал-Гаммаст. Чуял, надо полагать.
– Медведь, и ты его не признал?
Тот подошел поближе, долго вглядывался, потом утомленно потер глаза.
– Не знаю.
– Это Энкиду, государь мятежников. Зверь и хозяин зверей. Я видел его на поле в тот день, когда умер отец.
– Да я стрелял по ним, Балле, а не разглядывал! – с досадой ответил Медведь.
– Возьми двух лучников порезвее и пойдем вниз. Я знаю, чего он хочет.
Пратт перечить не стал. Вчетвером они вышли из ворот и направились к Энкиду.
– Медведь, до поры я встану у тебя за спиной. Хочу посмотреть на него вблизи.
Они приблизились к мятежнику. Шагах в двадцати тот остановил их жестом.
Был Энкиду грузен, широк в плечах, велик чревом и чернобород. На голове волосы приняли подобие птичьего гнезда. Ладони и впрямь поросли шерстью. Но лицо – вполне человеческое, правильное, почти красивое. Да нет, просто красивое: пухлые капризные губы, прямой нос, высокий лоб и черные глаза, почти круглые, широко распахнутые, словно у кокетливой женщины, сочащиеся лукавством и силой.
– Меня послал к тебе царь Бал-Гаммаст. Чего ты хочешь?
– Во! Значит, верно. Людей моих поубивали, город мой отобрали, зверей моих пугают… теперь и женщин отвадили. Эй, ты! Зачем отвадили женщин? Совсем не идут ко мне. Зачем? Я давно не убиваю никого. Так. Давно. Вчера… сегодня утром… недавно… встретил у воды женщину… Она не хочет меня! Я говорю ей: «Зачем? Зачем ты не хочешь моей силы?» А она мне: «Царь у нас теперь другой, значит, и силе твоей полцены». Ой! Раньше так не было никогда. Давно. Я задумался. Долго думал. Я задумался. Она ушла… Я задумался. Я пошел за ней. Я пришел сюда. Дай мне сюда твоего царя. Мы побьемся, и я убью его. Или он убьет меня. Я задумался, я понял: царь должен быть один. Не один – на болоте, а другой – в городе, а вовсе один. И он владеет всем. Я понял. Где твой царь? Мы будет биться. Верно.
– А может, подстрелить тебя, как бешеную собаку? И дело с концом.
– Э! Э! Не получится. Не получится у тебя. Убегу, увернусь, найду хороших людей, веселых людей, буйных людей, все тут поразбиваю, всех изведу. Дай царя! Все решим скоро. Я понял.
Бал-Гаммаст вышел из-за спины тысячника. Он видел довольно.
– Я Царь.
– У! – отпрянул Энкиду. Мышцы у него на лице потекли бурной рекой. Вот запруда гнева, вот отмель удивления, а вот перекат досады… Люди так часто недооценивают искусство военного человека! Какой-нибудь мастер золотых дел, великий умелец, хранит семейные секреты, открытые еще прадедом. Вряд ли он когда-нибудь задумается о числе секретов, собранных старыми родами военной аристократии Царства – реддэм. А там бывает и по два десятка поколений воинов, и по три… Плохо обученный копейщик стоит двух совершенно не обученных людей. Один хорошо обученный десятник стоит четырех копейщиков. А один потомственный реддэм, которого с трех лет набивали военной наукой изо дня в день, стоит доброй дюжины Десятников. Если бы люди обычные, земледельцы или, скажем, торговцы, представляли себе действительную мощь реддэм, то сторонились бы их как опаснейших чудовищ…
Бал-Гаммаст получил науку реддэм, урезанную на две трети. Сын царя воспитывался как правитель, а не как воин. Следовательно, он был чудовищем ровно на треть… Бал-Гаммаст не обладал ни изумительной выносливостью реддэм, ни их слабой восприимчивостью к боли, не ведал копейного боя и не владел искусством скорого заживления ран. При всем том он очень хорошо знал многое: меч, нож, топор, а более всего – искусство скорого и беспощадного боя без оружия.
Перед государем старого Урука высилась гора мышц, весом превосходившая его вдвое, а ростом в полтора раза. Эта гора по имени Энкиду дралась без особых перерывов с тех пор, как мятеж распростер свою тень над краем Полдня. Она, эта самая гора, славилась бесстрашием и буйным нравом.
Говорят, под Кишем Энкиду оторвал кисть руки копейщику, который попытался захватить его в плен…
Тем не менее Бал-Гаммасту было известно совершенно точно, что для победы над этой тушей, столь устрашающей на вид и столь неловкой в движениях, достаточно будет одного или двух правильных ударов.
«Творец, спаси меня от собственной гордыни. Отведи все недобрые случайности с моей дороги». Он подошел поближе к противнику.
– Балле! Государь! – с тревогой окликнул его Пратт.
– …Я принимаю твой вызов.
Энкиду почесал грудь и шумно вздохнул. Потоптался, глядя в сторону. Почесал правый бок.
– Так не годится. Нет, так худо. Вот ты – молодой и маленький, тебя убивать нехорошо. Ты детеныш… – Пратт сдержанно хрюкнул за царской спиной.
– …Ну ты не трус, понятно. Люди твои видят: ты не трус. Да. Но я с тобой драться уже не хочу. Думал – ты могучий, я приду и порву могучего, и спляшу на его спине, и буду хохотать, и буду веселиться… Нет, ты маленький, плохо убивать детенышей.
– Я готов, Энкиду. Начинай же!
– Да зачем это! Дай бойца.
– Какого тебе бойца? Пришел, встал у моего города… Так либо сдайся мирно, либо сражайся, я не дам тебе уйти.
Энкиду посмотрел на него, как голодный волк, наверное, смотрит на лягушку. Убить нетрудно, но разве этим брюхо набьешь?
– Дай бойца вместо себя. Мне все равно, кого ты дашь. Дай большого, дай сильного, дай мохнатого, дай такого, чтоб рычал мне в лицо.
– В самый твой поганый пятачок… – вежливо подал голое Пратт.
– Вот! Дай этого! Сойдет и этот. Он сам хочет, чтоб я его пришиб. Славный зверь, крепкий зверь! Хочу его сюда.
– Таких комаров, как ты, моя бабушка не один, десяток прихлопнула на своей заднице.
Энкиду угрожающе заревел. Только что он выглядел человек человеком, а тут сильно переменилось его лицо… морда?
«Нет, я не убью его. Нет, я не хочу его убивать. Он страшен, но не зол. Отец не убил бы такого. Детенышам, видишь ли, зла не желает…» Бал-Гаммаст отчетливо понимал, что за существо встретилось ему. Такие жили в мире изначальном, диком, едва-едва на шаг отличающемся от мира зверей и трав. Первая древнейшая эпоха была их домом, кое-кто еще помнил, наверное, как Творец, разгневавшись за некую провинность, выгнал старейших из своих садов и чертогов… Потом была эпоха тьмы, измельчания. Потом из океана тьмы вынырнул остро» Царства. Теперь и Царство дряхло; а вот родятся же такие… из иного времени. Отец как-то рассказывал о них…
Медведь и Энкиду продолжали переругиваться. Пратт – с нарочитой вялостью и безразличием в голове, а лугаль мятежников – хрипя и порыкивая. Нужно было делать дело.
Бал-Гаммаст рассчитал три скорых шага вперед, удар и последующий уход низом. Он всего-навсего прикоснулся одним пальцем к носу Энкиду. Тот завыл и отскочил назад. Руки его сами собой потянулись к глазам: этот удар вызывает град слез.
Тысячник растерянно следил за ними, не смея вмешиваться.
Бал-Гаммаст сделал еще один быстрый выпад. Он бил не совсем туда, куда надо, не совсем оттуда, откуда требуется, и далеко не с той силой, которую следовало приложить. Ему требовалось разозлить Энкиду, а не увечить его. И тот наконец рассвирепел всерьез. Бросился. Еще раз. И еще. Быстрее, чем должен был, по расчетам Бал-Гаммаста, но все-таки слишком медленно.
Царь уклонялся от ударов. Один или два раза подставился. Удары пришлись по предплечьям, вскользь.
Ему хотелось, чтобы горожане и воины видели их сражение, запомнили, как один царь одолевает другого, а потом рассказали об этом всем и каждому.
Он рискнул подставиться еще раз. Плечо. Вышло хуже. Кажется, содрана кожа. Ну и, наверное, довольно. Пора заканчивать представление Бал-Гаммаст, отыскивая наилучшую позицию, потанцевал еще немного перед Энкиду, а потом ударил. После первого раза его противник застыл, не в силах пошевелить ни руками, ни ногами, но все-таки не упал, удержался. Куда Бал-Гаммаст бил во второй раз, не понял никто из наблюдавших за поединком. Разве что Пратт Медведь, да и тот больше догадывался, чем видел… Энкиду развернуло боком, пронесло не менее четырех шагов и швырнуло лицом в траву. Со стороны казалось, будто лугалю мятежников нанесен страшный, безжалостный, калечащий удар. И мэ его, должно быть, иссякла… На самом деле Бал-Гаммаст спас ему жизнь, пожертвовав двумя собственными вывихнутыми пальцами. Если бить правильно, то рука должна остаться цела, а душа противника неизбежно покинет тело. За ошибку, хоть и намеренную, всегда приходится платить…
«Плохо – убивать детенышей…» – мрачно подумал Бал-Гаммаст. Энкиду неподвижно пролежал на земле сотню вдохов, или около того. Пратт смотрел на бывшего ученика своего с изумлением.
– Вот так-то, дедушка…
Наконец лугаль мятежников очнулся. К тому времени руки его были связаны кожаным ремешком. Впрочем, Энкиду и не думал сопротивляться. Он обвел глазами вокруг себя и жалобно застонал, круглые очи наполнились слезами. Весь он сделался тяжко-покорен, словно жеребец, которого только что укротили объездчики.
– Ты… – всхлипнул Энкиду, – все у меня отобрал. Проклятый ты. Царишко проклятый. Сильный, злой. Воли меня лишил, силу мою убавил… так плохо! Убей меня лучше. Что мне делать? Убей меня лучше. Убей меня!
– Нет.
Бал-Гаммаст вытащил у лучника из-за пояса нож, подошел и разрезал ремешок на руках Энкиду.
– Нет, убивать я тебя не стану.
Пратт вполголоса помянул драгоценную бабушкину задницу. Ему и так хватило сюрпризов на сегодняшний день.
– Ты – вольный человек, можешь уйти. От любой вины, какая бы ни отыскалась, я тебя освобождаю. Будешь разбойничать, так поймаю тебя и казню без пощады, помни об этом. Ты царем никогда не был, и сейчас ты не царь, не бери себе чужое звание, иначе будешь наказан. Если захочешь остаться со мной, то станешь мне товарищем и младшим братом. Я дам тебе службу по вкусу. Выбирай сейчас же.
…Вечером того же дня, после того как Энкиду чуть не задушил его в объятиях, лекарь ловко вправил вывихнутые пальцы, страх выветрился из глаз жены, переделано было много дел, а новообретенный младший брат, вымытый дочиста и переодетый, устроился спать на тростниковой циновке, отказавшись от иного ложа, так вот, вечером царь позвал к себе Пратта и пригласил прогуляться по саду.
– Знаешь ли, отчего я помиловал Энкиду?
– Балле, все его любят. Очень он… живой. Буянил он тут, буянил, а весь город не захотел дать ему укорот. Значит, он им нравится. Такие дела. Убивать таких – нехорошо.
– Да, Медведь. Ты точно сказал. Халаша, говорят, ненавидели. Нарама боятся. А этот… не знаю, как сказать… Зверюшкин.
Тысячник гулко захохотал:
– Зверю-ушки-ин… Охо-хо-хо… скоти-и-на… на задних лапах… – А когда насмеялся вдоволь, добавил: – Я до смерти испугался за тебя, царь. Балле…
И тогда Бал-Гаммаст почувствовал, что рядом с ним стоит единственный настоящий друг, человек, которому можно доверять безраздельно. Он обнял Пратта за плечо.
– Анна подождет меня сегодня. Пусть немного подождет. Хочу выпить с тобой вина, Медведь. Пойдем, что ли?
Пошли. Чуть погодя Бал-Гаммаст добавил;
– А еще он мне понравился. Не злой, сильный.
– Скотина здоровая. Рогов с копытами ему не хватает. И хвоста на жопу…
* * *
…Он не успел спросить ее имени. А стража у входа в шатер почему-то посмела пропустить ее. Она задала вопрос:
– Ты ли тот самый Рат Дуган, по прозвищу Топор, который победил в сражении меж двух каналов, у старого Киша?
Он мог бы выбросить ее из шатра. Мог бы для начала хорошенько расспросить, кто она такая и зачем ворвалась к нему. Он многое мог бы, но вместо этого ответил:
– Победил государь, мое дело было – выстоять.
Между ними было три шага. Тонкая, тоньше воздуха, смелая, смелее пламени, быстрая, быстрее слова… девушка с браслетами плясуньи. Играет каждым шагом и каждым жестом. Глаза у нее необыкновенные… по ним было видно: сильная женская душа застыла в ожидании высокого. Да, застыла и все вокруг себя наполнила тревогой.
День иссякал в предсумеречном колодце.
– Мое имя Шадэа.
Она сделала шаг вперед и запела. Голос ее звучал прирученной медью:
Когда над миром пепла, И глины, и болезней, Когда над миром боли, Беспамятства и смерти Влаадыкой станет холод, В тот день восстанет птица И воспарит высоко, Из пыли и забвенья Тогда восстанет птица, И запоет столь нежно, Как может петь лишь дева, Чье имя – чистота. Чье имя – чистота…Шадэа сделала еще один шаг навстречу. Эбих почувствовал, как из его сердца улетучивается боль сданного Ура, великого старого Ура, оставленного алчным суммэрк… Он, Топор, не сумел удержать город и расстался с ним, как внезапно заболевшие люди расстаются с половиной жизни.
Воскликнет дева-птица, И царства встрепенутся, И слово девы-птицы Над морем пронесется, А города и горы Склонятся перед ним. Покинут обгоревшие И старые знамена Преданья утра мира, Восстав для новой службы Вокруг шатра той девы, Чье имя – чистота. Чье имя – чистота….Еще шаг – и она почти коснулась грудью его тела.
Лучшая армия Царства не первый месяц отбивается, отступает, сдерживает, а сама не может нанести губительный смертельный удар. Не будь ее – суммэрк затопили бы половину страны. Будь она сильнее, мятеж бы стих, пропал без остатка. Знает Творец, он, эбих Рат Дуган, сделал все возможное, все, что умел. Он отдавал одного своего за двух, за трех мятежников… Он бился в рядах копейщиков, когда некого было поставить в строй. Он получил рану от стрелы и еще одну – от копья. Большего не сделал бы никто.
Но как же тошно было ему отступать?!
И вот пришла худенькая незнакомая женщина, а с нею – прощение за слабость и за все неудачи.
У стягов соберутся Князья благочестивые. И светлолицых воинов Дружины величавые Последней битвы радость, И славу, и молитву, И гимны, и хвалу Для Бога Всеблагого Над лугом будут петь. Их вестью о сраженье Та дева одарила, Чье имя – чистота. Чье имя – чистота…Ее дыхание соприкасалось с его дыханием. Смертная усталость покидала его тело и душу.
Эти сражения – еще не последние. В таблице его мэ, мэ эбиха по Творцову Дару, еще не начертана последняя строка.
К ним выйдет Вестник Бога В плаще лазурно-львином, И будет плащ тот соткан Из пламени и неба, Любви и благородства, Из щедрости и чести, Из звуков рек и трав, В сады времен забытых Велит вернуться Вестник Всем тем, кто встал под стяги По слову юной девы, Чье имя – чистота. Чье имя – чистота…Он положил руку на плечо Шадэа. Он испытал восхищение ею. Он доверился ей. Она приняла его руку.
В сады из Предначалья Давно пора вернуться. Сады из Предначалья Соскучились по людям. К садам из Предначалья Через долины тени Тропой кровавой жатвы Проводит войско Вестник В плаще лазурно-львином, И перед ним склонится Воинственная дева, Чье имя – чистота. Чье имя – чистота…[1]Эбих и плясунья обнялись. Еще до полуночи они трижды выпили хмельную сикеру ложа.
* * *
Ту ночь, утомительно жаркую, неестественно жаркую, как и весь сезон зноя солнечного крута 2509-го, Бал-Гаммаст вспоминал потом до последней черты. Столь темной и смутной была она, столь много плавало в предрассветном воздухе недоброй фиолетовой дымки, столь тих был тогда ветер – почти мертв, даже пламя в светильниках ничуть не колебалось…
Он проснулся от неприятного, резко-кислого привкуса во рту. В первый миг ему показалось, будто на противоположной стене выступила кровь. Но нет – просто тень, причудливо играющая, выбрасывающая тонкие черные корни вокруг себя, как нависает тонкими воздушными корнями над болотами и заросшими каналами одно дикое растение. Просто тень…
До его слуха донеслись сдавленные стоны. Кому-то, как видно, зажимали рот, не давая кричать.
Царь встал с ложа, покинув супругу, быстро оделся и вышел, взяв с собой длинный бронзовый нож. На лестнице он столкнулся с дежурным сотником-реддэм и двумя копейщиками: не одного его всполошили эти странные звуки. Про себя Бал-Гаммаст отметил: очень хорошо! Хуже было бы увидеть полный покой стражи… Вместе они быстро отыскали источник шума.
Энкиду катался по циновке, сжав голову руками, кусал губы, шипел, стонал, жалобно всхлипывал, бранился в четверть голоса.
Кислый привкус усилился.
Бал-Гаммаст отослал солдат, поручив сотнику найти Мескана и привести его сюда. А сам сел рядом и притянул к себе за плечи Энкиду. Курчавую его голову положил себе на колени. Темень, кажется, концентрировалась вокруг тела Энкиду, клочьями стояла в его бороде, плавала в волосах… Бал-Гаммаст погладил его. Энкиду как будто стало чуть легче, он уже не калечил собственные губы.
– У-у… у-у… не отпускает, проклятая…
– Кто?
– У-у… баба проклятая… что я ей сделал? Бо-ольно…
– Сейчас придет Мескан, он поможет.
– Оох… Я… не могу просто так быть с тобой… быть… у тебя… тут.
– Почему, Энкиду? Разве плохо я с тобой обращаюсь? Разве ты не товарищ мне?
– Оох, не-ет… Ты… все хорошо делаешь… Ты… хороший… До тебя… давно… месяц назад… или солнечный круг назад… давно… я был простой человек. Потом пришла женщина… черная, страшная… именем Иннин… то ли Иштар. Она… делала… оох… со мной… что хотела. Давала силу, лишала силы, заставляла служить… как онагра… а то заставляла всех служить мне… Она меня сделала царем… ну… извини… я не хотел… я не хотел…
– Она заставила тебя?
– Ну да-а… Бо-ольно… все тело ло-омит… все мышцы кру-утит… Ох как худо мне, Балле, до чего же мне ху-удо… Она… мучила меня, а я не соглаша-ался… Она… показала мне… Во-от… говорит… твой мир. Во-от, говорит… солнце, вода, трава, люди… А во-от настоящий… мир. Это Мир Тене-ей… туда все приходят… когда упадет последняя капля мэ… На-а… говорит… смотри… какая тоненькая стеночка между ни-ими… оох… а! Я… видел: тонкая… стеночка… прозрачная… а там… за не-ей… жуть… вот… возьми… жука, возьми паука… стрекозу… волка… еще морское… не пойми что-о… и глаза… косые, огромные., лапы, жала, разные… тонкие палочки… шипы… все перемешано… так что у одного – от другого… не знаю, как рассказать… и все оно друг друга гложет… оох… я… испугался очень, я согласился. Лишь бы выжить там – когда помру-у… Она… тогда… вырвала клок тьмы оттуда и сунула… прямо в меня. Это… сейчас болит… везде.
– Она здесь, рядом?
– Я не зна-аю… Что-то рядом. Тянет из меня… жилы. Я хочу уйти. Выйду в поле…позвать к себе все лихое… дикое… сильное… живое… пусть соберется… я умру… но больно мне не будет…
– Никуда ты не пойдешь. Я не отпускаю тебя. Лежи. Как раз Мескан пришел.
Вместе с урукским первосвященником явился старик, прозорливый священствующий из столицы. Бал-Гаммаст рассказал им обо всем услышанном. Мескан кивнул старику:
– Давай, Халлан…
Тот приблизился, встал над телом Энкиду и настороженно застыл, как будто прислушивался к едва различимому голосу.
– Не могу понять… Дайте огня.
Слуги принесли два масляных светильника.
– Держите… у самого лица. У самого лица моего, да.
Слуги подняли светильники, и Халлан зашептал молитвы, прося себе помощи, а всем, кто стоял рядом с ним, – милосердия. Пламя, не трепеща, ровно устремлялось вверх, глаза Халлана застыли, Энкиду в ужасе перестал стонать. Бал-Гаммаст вполголоса велел принести воды: привкус во рту сделался нестерпимым. Халлан все молчал. Сделав два или три глотка, царь наполнился тревогой. Опасность. Кто-то или что-то желало предупредить его. Он почти услышал слова предостережения; не разобрал в точности, но одной интонации хватило. Он глянул в окно. В пору нисходящего уллулта рассвет долго набирает силу. До него, пожалуй, не менее стражи… Бал-Гаммаст вышел и распорядился, чтобы Пратт до восхода солнца поднял гарнизон, отправил его на стены, три сотни бойцов привел к самому дворцу, да все бы сделал тихо, без шума и неразберихи. Бал-Гаммасту очень не хотелось покидать комнату Энкиду, но он рассудил так: «Люди Храма пускай делают свое дело, а я займусь своим». Подумав еще немного, он вызвал второго священствующего и приказал ему выйти к городским, воротам – тем, которые со стороны Ура Затем отыскал давешнего сотника, командовавшего стражей, и велел всех, кто явится с вестями, пропускать к нему скоро, без церемоний, но только под охраной и предварительно отобрав оружие. Если потребуется его, царя, разбудить, значит, пускай будят, не стоит медлить.
Затем его кликнул Мескан.
– Отец мой и государь! Нет в помине никакой Иштар, Халлан видел ее раньше и узнал бы. Но на Полдень от города, может быть в одном дневном переходе, какая-то темная туча.
– При чем здесь Энкиду?
– Он… меченый. Мир Теней поставил на нем свое клеймо. Если Энкиду захочет, именем Творца его можно очистить от подобной скверны. Но это… как глубокий рубец – остается на всю жизнь. Очистившись, он все равно будет страдать, ему придется терпеть боль и ужас в разных обстоятельствах. Особенно если неподалеку от него окажутся некоторые магические существа.
Раздосадованный, Бал-Гаммаст церемонно задал вопрос:
– Сын мой Мескан! Ужели дневной переход, по-твоему, соответствует слову «неподалеку»?
– Государь! Это беспокоит меня больше всего. Там… нечто сильное и опасное. Оно способно дотягиваться до Энкиду, быть может не желая того…
– Я понял тебя. Ты сможешь очистить Энкиду?
– Это совсем не сложно. Жаль, я не знал раньше…
– Так сделай это сейчас! На рассвете ты мне понадобишься. Будь у меня.
Мескан склонился перед ним.
– И вот еще что… Когда закончишь, дай Энкиду вина. Немного. Чтобы утешился, но не напился.
– Я понял тебя, государь.
Бал-Гаммаст отправился досыпать. Он чувствовал: новый день потребует от него свежей головы. Надо выспаться.
А смутная ночь с 16-го на 17-е уллулта тянулась и тянулась.
…Он видел все тот же дом, великий светлый дом на острове, но сейчас Бал-Гаммаст не двигался к воротам, а удалялся от них. Дом уходил всё дальше и дальше, уплывал остров, и темное море бесилось у его берегов. Валы поднимались, кажется, к самым тучам, ветер срывал с них пенные шапки. Вода, закипая, билась на отмелях и остервенело бросалась на берег. Иной раз ей удавалось выгрызть целую скалу…
О! Вот рухнул каменный щит, и под ним обнажилась глина, испятнанная множеством дыр и пещер. Остров разрушался все быстрее и быстрее. Горы падали вниз, люди, заламывая руки, носились по остаткам своих владений, деревья кланялись под гнетом урагана. Корявые руки молний нещадно били по крыше дома.
Вот над морем высится уже не остров, а лишь колоссальный глиняный столб с домом наверху. Вода, кажется, на миг прекращает свой неистовый натиск, но затем обрушивается с новой силой, удвоенной, утроенной, удесятеренной… Даже сквозь рык урагана и гневные крики волн слышно, как столб подламывается с ужасающим треском. Водяной взрыв поднимается к небу. Тьма застилает глаза Бал-Гаммасту. Все кончено.
Все кончено?
Шторм утихает. Море больше не ярится. Вместо безвременной тьмы над ровной поверхностью пучины встает робкий сероватый день. Бал-Гаммаст слышит тонкую музыку флейт. Она становится все громче и громче. Звучит, кажется, все: море, солнце над ним, свод небес и… корабли, во все стороны расходящиеся от места гибели острова. Было б темно, не было б и самого начала дня, и солнце светило бы тусклее луны, однако от каждого из кораблей исходит свет, яркий, сильный, легко рассеивающий мглу над волнами.
Бал-Гаммаст чувствует, что сам он парит, как птица, высоко над флотилией. Под ним плещут веселые флаги. И он же – на каждом корабле. Отчего— так? Отчего не может он собрать всех воедино, направить в одну сторону? Отчего все дальше расходятся корабли на поиски новой земли? Бал-Гаммаст напрягает волю, пытаясь повернуть маленькие островки света друг к другу, но ничего не выходит. Музыка мешает ему. И в конце концов он и сам покоряетеся этой музыке, и летит с нею, и растворяется в ней… Иная рука, иная воля позаботится и о нем самом, и о кораблях, и о моряках, и о частицах светлого дома, сохраненных капитанами. Суждено ли им собраться когда-нибу…
– Ты велел будить без рассуждений, Балле! Вот и вставай! – рычит ему в ухо Пратт.
За окнами рассвет. Бал-Гаммаст проспал без малого стражу.
– Встаю, Медведь… – и, пока не забыл, – сегодня дежурил сотник…
– …Дорт из столицы.
– Присмотрись к нему. Дельный человек. Что-то я в нем вижу… А теперь выйдите отсюда все.
Анна спала, не чуя никаких угроз, и шум ее ничуть не потревожил. Бал-Гаммаст поцеловал ее в плечо.
– Я вернусь к вечеру, моя любимая. В крайнем случае – завтра.
* * *
– …Сколько их? Где они?
Ответил Пратт:
– Из всего дозорного десятка уцелели два человека. Теперь нас ждут, Балле. Всего примерно шесть сотен бойцов или, может быть, семь, но не больше. В основном суммэрк. Десяток колесниц. Один из каждой дюжины – лучник. По виду – опытные головорезы, та еще падаль ходячая. Но в целом все это мусор, Балле. Это помет. Они никогда не бились вместе. Они опасные, кусачие… бараны.
– Мы можем вывести в поле столько же бойцов, Медведь, луков у нас больше. И опыта больше тоже у нас. Еще останется достаточно сил для охраны города… Что? Что у тебя с рожей? Ну?
– Там, с ними, – кошмар. Не знаю, как назвать. Урод.
– Я знаю… – вмешался Мескан.
– Что это такое? Насколько опасно?
– Очень опасно, государь. Это тварь из Мира Теней, лишенная пола, лишенная души, лишенная жалости. Ее… его… зовут Хумава. Жгущий ужас. Последний раз это являлось при царице Гарад, и его натиску следует приписать падение города Аталата, разграбленного и разрушенного. Помнят и другое его явление – при Бал-Адэне Великом. Тогда его отогнали с легкостью, но ведь то была эпоха Цветущего Царства… Другое дело – сейчас…
Неожиданно Мескан утратил все свое хладнокровие. Он закрыл лицо руками и зарыдал. Плечи его сотрясались, сам он согнулся и никак не мог унять плача.
– Да что с тобой? Мескан!
– Моя бабушка… – начал было Медведь, но царь оборвал его:
– Не сейчас, Пратт… Мескан!
– Чем провинилась эта земля, Творец? В чем она виновата? Возьми меня, возьми нас всех, только… останови… останови все это! Земля… гибнет… Зачем, Творец! Сжалься над нами! Я люблю тебя, не мучай же ты их всех! Пожалуйста! Я не могу остановить это… Скольких еще убьют! Я не… я не могу… Останови… ты! – Он всхлипнул. – Государь, может быть… тогда… по дороге в Урук… совершена ошибка…
Бал-Гаммаст подошел к нему, взял за плечи, приподнял и как следует встряхнул пару раз.
– Нет, Мескан. Прекрати! Мне нужна твоя помощь. Плач прервался. Однако лицо первосвященника урукского оставалось мрачным.
– Все пропало, государь. Я… легко докажу, что нам не выдержать… его нападения.
– Да я и слушать тебе не стану! Помоги мне победить! Этот город не должен пасть!
– Нам осталось… только оплакивать его злосчастную судьбу…
– Так. Я, царь и сын царя, приказываю тебе: на колени!
Мескан растерянно улыбнулся
– Но… государь…
Бал-Гаммаст схватил его за шею и рывком швырнул на колени.
– А теперь – рылом в пол! Живо!
– Я не…
Бал-Гаммаст помог ему ногой. Потом поставил ступню на затылок.
– Почувствуй всю цену слез, Мескан. Почувствуй всю цену слабости. Почувствуй. Ты так хочешь жить? Так? Нам следует проявить неутомимость, бодрость и усердие. Встань.
Мескан повиновался.
– Прости меня. Я не хотел нанести оскорбление… ни тебе, ни твоему сану. Но… мы слишком много оплакиваем свои потери и свое бессилие. Мы слишком мало действуем. Сегодня будет иначе. Ты поможешь мне?
– Да.
– Ты простишь меня?
– Да.
– Чем это можно убить?
– Простым оружием… но… это очень долго и очень сложно. Требуется много живых щитов… а у нас их всего два…
– Живых щитов?
– Я расскажу… Но прежде… Прежде мне следует дать войску и тебе, государь, одну зыбкую надежду. Хумаве… Любому подобному существу не положено выходить за пределы Мира Теней. И Творец, если мы пожелаем проявить твердость, наверное, вступится за нас, чтобы изгнать Хумаву из мира человеческого обратно, в мрачные пределы…
– Да ты пойми, тощий, – перебил его Пратт, – мы будет драться, мы размажем эту падаль, хоть бы без никакой надежды. Бог всегда над нами, а мы всегда готовы кому надо расколоть черепушку!
* * *
Из ворот вышли пятьсот ратников Дворца, Бал-Гаммаст, тысячник Пратт Медведь, двое прозорливых священствующих, Энкиду и Дорт с тремя сотнями урукского ополчения.
– Смотри-ка, Пратт, они поверили мне, они дали три сотни горожан, хоть я никого не просил об этом. Пришел старый Хараг и сказал попросту. «Бери триста наших, государь». Почему, Пратт?
– Ну, ты их не мучил напрасно. Ты их уважил, взял тутошнюю женщину себе в. жены… Это людям понравилось.
– И все, Пратт? Так мало.
– Ну… ты к ним внимателен. Как к бабе или к ребенку. Ты возишься с ними. С их всякими делами.
– А как же иначе?
– Кто тут раньше сидел…все больше на столицу поглядывали… А дети, они, знаешь, любят, когда взрослые их слушают. Именно их, Балле, а не кого-нибудь еще.
* * *
…Их действительно ждали.
Суммэрк и прибившиеся к ним остатки «борцов Баб-Ану» встали в неровную линию по два-три человека в глубину. Крылья их войска не были прикрыты чем-либо. Слева, вдалеке, плескалась вода в большом канале. Справа тянулись бесконечные поля. Мятежники не чаяли обхода, не ждали противника, сильно превосходящего их в, численности, и не готовились к долгой битве. Они было «пощупали» армию Царства, напав на колесницах, дротиками забрасывая копейщиков Дорта. Но когда возничие – один за другим – стали падать, пораженные из луков, атака захлебнулась. Суммэрк спешились, без жалости бросив колесницы: сегодня они могли позволить себе подобную роскошь. Над их строем висели в воздухе, на высоте двух-трех человеческих ростов, семь странных существ. Больше всего они напоминали жуков с прямыми темными крыльями и тонкими ножками. Но каждое из них по размеру было как полтора Энкиду, а нижняя часть брюшка багрово светилась и источала жар, будто горн плавильщиков. От их морд отворачивались сами суммэрк: ужасные маски жуков, увеличенные в размерах и, словно в насмешку, обезображенные таким образом, чтобы издалека напоминать человеческие лица… Всех «жуколюдей» окружало бледное сияние, подобное лунному свету, но только ярче и заметнее; от них тянулись такие же лунные нити куда-то назад, в сторону шатров, повозок и вьючных животных. Нити вроде бы соединялись в одной точке, но где именно – за строем мятежников невозможно было разглядеть.
Над равниной плыл сумеречный час.
Войско Царства поставило правильный строй и сразу же ринулось вперед, за несколько шагов перейдя на бег. С обеих сторон – одна только пехота. И Бал-Гаммаст знал от Мескана: его пехоте следует резво бегать и споро действовать оружием, иначе вся она поляжет на этом поле. Быстро, быстро, очень быстро! Совсем не так, как обычно двигаются медлительные несокрушимые скалы, составленные из дворцовых копейщиков. Отряд ратников вместе с ополченцами Бал-Гаммаст отдал под команду сотнику Дорту. Медведю он поручил другое дело, а сам занялся третьим, всех прочих важнее…
Суммэрк едва успели сдвинуться с места. Линия Ударилась о линию. Мятежники попятились под натиском урукских ратников. Они еще не бежали и не теряли строя, но и не стояли насмерть, как того требует безжалостный копейный бой.
Однако тут на армию Царства сверху обрушились «жуколюди». Ратники предупреждены были об этой напасти, и все войско недавно купалось в канале, однако последствия были чудовищными. Туловища «жуколюдей», соприкасаясь с человеческими телами и одеждой, жгли не хуже раскаленного металла. Стрелы их не брали, от иного оружия «жуколюди» искусно уворачивались. Копейщики живыми факелами падали и умирали под ударами вражеских ножей. Немногие бросили оружие. Большинство продолжало биться, сгибая суммэрк, оттесняя их, прорезая их ряды. Дорт метался, воодушевляя своих людей. Однако потери были устрашающе велики. Кто знает, долго ли продержались бы ратники и ополченцы, если бы справа не зазвучали победные крики:
– Бал-Гаммаст! Бал-Гаммаст! Апасуд! Бей! Бей! Полусотня ветеранов, выстроенная по пять челове в глубину, обежала левое крыло мятежников и ударила сбоку. Строй суммэрк был смят в мгновение ока. Все крыло побежало, теряя людей, бросая оружие и проклиная командиров.
Семеро «жуколюдей» быстро переместились туда, пали на атакующих ратников и принялись сеять смерть. Но ветераны даже не попытались держать строй… Они легли на землю. Несколько вдохов – и вся полусотня лежит, накрывшись сверху щитами.
– Страшновато, Балле, товарищ мой, брат мой… Страшновато.
– Нападай же, образина! Нападай, брат!…Прямо перед устрашающей семеркой стоял маленький отрядик. Четверо с огромными, плетенными иp ивовых прутьев щитами; поверх ивняка прикреплены лоскутья мокрой кожи. За щитоносцами – два безоружных человека с застывшими лицами. За этой двойкой – еще одна пара: царь и его названый брат, вооруженные луками, мечами, в шлемах и доспехах с медными пластинами. Еще дальше – четверо оруженосцев с дротиками и тяжелыми копьями. Для чего нужны такие копья? Зачем? Ими бьются, когда надо ссаживать всадника в полном доспехе с коня, драться с Гутиями или охотиться на крупного зверя…
Щитоносцы отскочили в стороны. Безоружные легли на землю. Двое в шлемах выхватили у оруженосцев дротики и метнули их.
Это было слишком неожиданно. Двое «жуколюдей», вереща, упали на землю. Раскаленная жидкость вытекала из них, багровые брызги летели во все стороны… Еще два дротика. Теперь одна из намеченных жертв успела отскочить, зато вторая покатилась с пробитым крылом и лишилась жизни под скорыми ножами ветеранов.
Оставшиеся четверо «жуколюдей» бросились на маленький отрядик. Но тут встали во весь рост и раскинули руки двое безоружных. За один удар сердца раскаленные туловища «жуколюдей» стали холоднее камня поутру. Из-за спин безоружных высунулись жала рогатин. Вот они зачем… Сухо треснул защитный покров «жуколюдей», пропало сияние вокруг них. Трое погибли сразу же, хотя лапки их долго еще двигались, а крылья пытались раскрыться. Один успел взлететь, попал под дротик, забился на земле и уже в агонии перегрыз горло щитоносцу…
Теперь строй суммэрк был на грани полного разрушения и всеобщего бегства. Оставалось как следует толкнуть. Левое крыло мятежников перестало существовать. Ветеранская полусотня методично дорезала тех, кто еще пытался оказать сопротивление.
От шатров и повозок отделился конный отряд с каким-то неистовым всклокоченным стариком во главе. Всадники неслись на выручку разбитому крылу. Засвистела стрелы. Трое щитоносцев прикрыли царя и его названого брата. Атака конников могла обойтись войску очень дорого. Они врубились в истончившиеся ряды ополченцев, разбрасывая урукских бойцов направо и налево…
Пратт появился вовремя. Его конная сотня как будто нарисовала последний знак на таблице сражения. Этого удара не ожидал никто. Всадники закружились в смертельном танце, поражая друг друга. Недолго стояли мятежники. Бойцы покидали старика, обращаясь в бегство либо падая под копыта коней, чтобы умереть. Наконец и его сбили наземь, обезоружили, связали.
– …Энкиду, полдела сделано.
– Оох, брат…
– Благо Творец дал нам победить столь скоро. Кое-кто не успел опомниться…
«Кое-кто» как раз опомнился и появился на поле боя. – Оох… Хумава твоя…
Это двигалось за конным отрядом, И пока Пратт занимался вражеским» всадниками, Хумава напал на пеших копейщиков, уже ощутивших радость победы.
Сначала воины Царства увидели светящийся кокон. Как будто пространство размером с небольшой загон для скота – в длину, ширину и высоту – окружили лучистым забором, а сверху накрыли лучистой крышей. И каждая частица «изгороди» напоминала блик, оставляемый луной на водной глади. Добрая сотня «лунных дорожек», играя и переливаясь, скрывала колоссальную тушу. Сумеречный свет почти погасил цвета. Но те, кто стоял поблизости, мог различить зеленоватую влажную плоть и узор из черных ромбов на ней. Мигнули два тусклых глаза размером с добрую сковороду.
Из-за «лунных дорожек» высунулся гибкий розоватый стержень в два локтя толщиной, разбрасывая слизь, метнулся к ополченцу, прилепился к нему и вмиг утащил внутрь «кокона».
– Язык! Язык! – заорали копейщики. Это были храбрые люди, и они попытались биться с Хумавой. Кто-то выпустил стрелу, кто-то подскочил поближе и ткнул копьем. Тщетно. От лучистого панциря отскакивало любое оружие.
Язык выхватил еще одного бойца. Огромная четырехпалая лапища рванулась из-за сверкающей защитной стены к храбрецу, пытавшемуся пробить «лунные дорожки» копьем, и отшвырнула его прочь. Затем обитатель кокона совершил прыжок на два десятка шагов и придавил своей тушей нескольких ополченцев…
Люди попятились. Зазвучали крики ужаса. Медведь все еще дрался с конными мятежниками, пешие суммэрк, сбившись в кучу, еще оказывали сопротивление в центре». Сражение еще не прекратилось, и теперь начало оборачиваться к победе проигравших.
Еще прыжок – еще двое погибших. Удар языка – еще один. И еще. И еще. И еще…
Маленький отряд Бал-Гаммаста устремился к Хумаве. Щитоносцы – за ненадобностью – отстали.
Прыжок. Еще прыжок. Они никак не успевали вовремя добежать до Хумавы… Еще прыжок. Ополченцы начали разбегаться.
Наконец Бал-Гаммаст и Энкиду, задыхаясь, добрались до самого бока Хумавы, сунули прозорливым стражам по дротику в руки и, прячась за их спинами, вошли вместе с оруженосцами в проход, который открылся в магической броне Хумавы. Прозорливые стражи затем и считались «живыми щитами» от порождений Мира Теней, что умели прекратить действие любой магии вокруг себя.
– Брат! Огромная лягушка, и больше ничего…
Четыре рогатины и два дротика одновременно вошли в мягкое тело Хумавы, отыскивая сердце. Миг – и весь отряд раскидан был по полю. Чудовище, издавая свиной визг, совершало беспорядочные прыжки. Затем лучистый панцирь его стал тускнеть, а оно само – замедлять движения. Тут на него обрушился град стрел и копий, более не встречавших преграды. Хумава опрокинулся на спину, дернул раз-другой задними лапами и испустил дух.
Чуть погодя вражеские конники рассеялись, а пешцы, еще сражавшиеся в центре, сдались, не видя иного спасения. Армия суммэрк исчерпала мэ. Добрая половина легла на последнем своем поле. Две с лишним сотни оказались в плену. Остальные разбежались неведомо куда. Но Бал-Гаммаст узнает об этом намного позже. А сейчас он лежал поверх вражеского трупа, оглушенный и потерявший все свое оружие. Энкиду отыскал его, дал вина из глиняной фляги.
– Ээ, брат! Смотри, лягушка, тупая лягушка, да и все тут. А те, те, которые на серебряных ниточках к злобной лягушке крепились?
– Мескан же говорил…
– Давно. Да, давно. Не помню я. Может, месяц назад или Утром.
– Изначально они были светлячками, Энкиду, просто светлячками. Потом им добавили что-то от людей, потом «привязали» к лягушке, которая на треть свинья и на десятую часть демон, а потом мы их поубивали… Поубивали ведь, а, брат?
– Точно! Пойду, буду хохотать и плясать на ее туше! Пойду. Иди ко мне.
– Потом, Энкиду.
Бал-Гаммаст поднялся и осмотрелся. Дело сделано. Тогда он вновь опустился, рассудив, что царь победоносному войску понадобится чуть погодя. Чуть погодя…
Он был счастлив. Земля Полдня подарила ему все, о чем может мечтать мужчина. Любимую жену, верного друга, могучего брата и нечто серьезное, настоящее, сделанное им самим. А ведь удалось ему совершить настоящее дело: вражеский нож не проник к самому сердцу Царства, Урук остался цел и невредим. И не было рядом с молодым царем ни мудрого отца, ни искусных эбихов, ни победоносной черной пехоты… Сам. Сам сделал.
Край Полдня не мог дать Бал-Гаммасту только одно – Бога. Но Бог и без того был рядом с ним.
* * *
Войско осталось на ночь у самого поля битвы. Утром царь урукский узнал, что его маленькая армия потеряла семьдесят бойцов. Последним погиб один из оруженосцев, напавших вместе с ним на Хумаву. Еще Бал-Гаммасту сообщили о важном трофее: мятежники везли с собой драгоценную кедровую древесину. Хлебом, вырученным от ее продажи, можно в течение солнечного круга кормить половину Урука… Напоследок Пратт подвел к царю плененного предводителя мятежников.
– Вот попался. Страшный какой, хилый, а все туда же – в драку лезет.
Бал-Гаммаст пригляделся. Перед ним стоял худой, грязный, вонючий старик с лицом безумца. Что-то знакомое привиделось царю в искаженных злобой чертах.
– Как тебя зовут? Старик молчал.
– Балле, пленные говорят, что этот пузырь на жидком навозе именуется «князь Намманкарт».
– Нет. Нет, Медведь. Нет.
Бал-Гаммаст шагнул вперед и положил руку на плечо старика. Тот вздрогнул и закричал:
– Не я, так другой пришибет тебя, щенок!
Царь урукский отнял руку, поднес ее ко рту и укусил до крови. Пратт было сделал движение – заткнуть рот пленнику, но Бал-Гаммаст жестом запретил ему это. На удивление всем, царь заговорил спокойно и холодно:
– Я узнал тебя, Халаш, тебя, твою душу и всю твою жизнь. Как же ты постарел… Прав был отец, ты – то, чему не следует плодиться. Но мне этот уже не отобрать у тебя. Барс раздавил мокрицу, а я брезгую испачкаться о ее труп…
– Убить его! – крикнул Энкиду.
– Убить! – вторил ему Дорт.
– Да, он достоин смерти. И пусть шарт составят приговор по всем правилам: царь Бал-Гаммаст осудил Халаша из Ниппура, мятежника и душегуба, на смертную казнь.
– Балле! Ты ж его… не хотел… вроде бы…
Халаш презрительно скривился:
– Мне ли бояться смерти?! Презираю тебя и твой ядовитый род. Ты – то, чему не следует жить, щенок.
Бал-Гаммаст продолжил так же спокойно, шик и начал:
– …А после того пусть составлен будет иной приговор. Царь Бал-Гаммаст помиловал смертника Халаша из Ниппура и вернул ему половину жизни, но половину заберет себе вместе с именем его,
– Как это, брат? Это… это… что?
– Это древняя казнь. Последний раз мой прадед, государь Кан II по прозвищу Хитрец, лишил имени одного предателя и мерзавца. Почти сто солнечных кругов назад… Теперь я Медведь, вот перстень с моей левой руки, пусть его накалят на огне и приложат к середине лба… этому человеку. Там останется два знака: «Нет имени». Потом он может идти куда пожелает.
– О-ох брат… и что? И все? Он уйдет, злой, хитрый… Потом вернется.
– Львы не едят мокриц.
– Эй, ты, отродье мертвеца, чарь-червяк, убей, прикончи же ты меня! Этот твой… скот… он прав. Я вернусь, я заберу твою жизнь, я еще заберу жизни твоих детей и твоих друзей! Мне твоя милость неприятна.
– Милость, душегуб? Ну нет. Теперь ты будешь чужаком для всех на земле Алларуад и даже не сможешь явиться сюда как гость. Только как враг. Никто не приютит тебя здесь.
Халаш засмеялся. Он смеялся долго, заливисто, а вокруг него стояли в молчании воины Царства.
– Ты! Царь-червяк, царь-щенок, царь-вонючка! Знаешь ли, какой подарок сделал ты мне сегодня? Мою жизнь, а вдобавок – свою собственную.
– Не стоит бояться даже сотни тысяч таких, как ты. Если бы мне пришлось выбирать: лишиться жизни или проявить страх, стоя в одиночку против целой армии Халашей, я выбрал бы смерть.
– Когда-нибудь проверим, пачкун.
– Уведите его.
Войско строилось на дороге к Уруку. Пратт как следует поупражнялся со своими бровями, и, когда он подошел к царю, брови тысячника за все лицо говорили: речь пойдет о несущественных мелочах, тут и беспокоиться-то особенно не о чем, так, пустячишко.
– Э-э, Балле, Творец знает, я незлой человек… Но такую пакость надо бы пришибить. По-тихому. Я живо пошлю пару людей, никто ничего…
– Нет, Медведь. Я брезгую.
* * *
В старый Урук Бал-Гаммаст въехал впереди войска. Его встречал весь город. Люди улыбались, люди выкрикивали его имя. Кто-то бросал ячменные зерна под копыта царскому коню. От толпы урукцев отделился старый Хараг. Он поднял руку, и этого оказалось достаточно, чтобы шум стих. Хараг медленно поклонился в пояс и, выпрямившись, проговорил:
– Город и земля благодарят тебя, государь.
– Я… благодарю город и землю! – ответил Бал-Гаммаст.
Толпа вновь загомонила. Хараг подошел к царю и встал рядом, по правую руку. Слева встал Дорт. Из людской гущи раздалось одинокое:
– Копье Урука…
Два или три голоса подхватили:
– Копье Урука! Копье Урука!
Город, вставший у ворот, заревел:
– Бал-Гаммаст – Копье Урука!
И этот крик уже не стихал…
Сейчас Бал-Гаммасту предстояло пройти Царской дорогой по улицам старого Урука. Там, впереди, в самом конце, ожидали его открытые ворота правительской Цитадели и Анна… Он вспомнил слова отца, Апасуда и первосвященника баб-аллонского. Царская дорога… Вот последний ее смысл: государь едет по телу земли и чувствует, что он с нею – одно. Со всеми домами и травами, выросшими на ней, со всеми людьми и зверями, ее населяющими, с каналами и садами, с крепостными стенами и храмами, с водой в колодцах и пламенем в очагах – одно.
Конь Бал-Гаммаста сделал первый шаг.
С неба упала капля, вторая, третья… Дождь, которого уже не чаяли, переломил время великого зноя.
Москва, 1999–2003
Глоссарий
Цари земли Алларуад[2]
1510 год от Сотворения мира, год Исхода
1510–1550 гг. Ууту-Хеган Пастырь
1550–1554 гг. Мескан-Гашен
1554–1602 гг. Уггал-БанадI Львиная Грива
1602–1613 гг. Сан Хеган
1613–1623 гг. Кан I Коротышка
1624–1675 гг. Уггал-Банад II
1675–1684 гг. Уггал I
1684–1710 гг. Уггал II
1710–1737 гг. – время господства полночных кочевников
1710–1720 гг. Ушпиа
1720–1737 гг. Апиашаль
1737–1755 гг. Лаг
1756–1767 гг. Салэн I
1767–1787 гг. Салэн II
1787–1790 гг. Халласэн Гроза
1790–1815 гг. Бал-Маласт
1815–1860 гг. Бал-Эган Писец
1860–1873 гг. Энмеркар Суммэрк
1873–1900 гг. Салэн III Щербатый
1900–1905 гг. Уггал III Клятвопреступник
1905–1910 гг. Восстание Бледной Луны
1910–1930 гг. Маддан I Медлитель
1930–1951 гг. Маласт
1951–1991 гг. – годы безвластия, время десяти лугалей, первое нашествие Гутиев
1991–1999 гг. Дорт I Самозванец (не из династии Ууту-Хегана)
1999 г. Дорт II Самозванец
1999–2000 гг. – время безвластия, восстание малых магов
2000–2041 гг. Анаг Нос
2041–2051 гг. Алаган I Толстяк
2051–2078 гг. Алаган II
2078–2079 гг. Сан Магарт
2079–2101 гг. Далагуд-Эган
2101–2120 гг. Дорт III Разрушитель городов
2120–2152 гг. Аден Лэг Каменный
2122–2134 гг. Дорт IV, соправитель Адена Л зга Каменного
2152–2157 гг. Алаган III
2157–2180 гг.Дорт V Холодный Ветер
2180–2211 гг. Алаган IV Лучник
2212–2249 гг. Бал-Адэн Великий
2249–2250 гг. – междуцарствие, эпидемия чумы
2250–2266 гг. Уггал-Эган Корабел
2265–2266 гг. Алаган V Младенец
2266–2268 гг. – время безвластия, четвертое нашествие гутиев
2268–2279 гг. Маддан II
2279–2283 гг. Уггал IV Лысый
2283–2303 гг. царица Гарад
2303–2306 гг. Донат I Строитель
2306–2310 гг. Алаган IV Мудрец – младшая династия
2310–2312 гг. Донат I Строитель
2312–2314 гг. Хеган – младшая династия
2314–2315 гг. Уггал-Банад III – младшая династия
2315–2317 гг. царица Маммат – младшая династия
2317–2348 гг. Донат I Строитель
2348–2370 гг. Дорт-Апасуд
2370–2391 гг. Набад Сиппарский Отшельник
2391–2420 гг. Кан II Хитрец (прадед Бал-Гаммаста, имел восемь сыновей и три дочери)
2420–2421 гг, Кан III
2421–2423 гг. Кан IV Молодой
2421–2423 гг. эбих Карн, соправитель Кана IV Молодого и Уггала V
2421–2432 гг. Уггал V, соправитель Кана IV Молодого и э6иха Карна
2432–2435 гг. Первое восстание края Полдня
2435–2443 гг. Маддан-Салэн Восстановитель
2443–2444 гг. Второе восстание края Полдня
2444–2458 гг. Маддан-Салэн Восстановитель
2458–2580 гг. Донат II (дед Бал-Гаммаста)
2480–2508 гг. Донат III Барс (отец Бал-Гаммаста)
2508–2510 гг. Апасуд (брат Бал-Гаммаста)
2508–2511 (?) гг. Бал-Гаммаст Копье Урука, соправитель Апасуда.
Исторические источники не донесли до наших дней ни дату Смерти Бал-Гаммаста, ни биографические данные его потомков. Достоверно известно только одно: никто из них не отказывался от царского венца. Возможно, кто-то из них до сих пор живет среди нас. Как знать, закончилась ли 3 апреля 2998 г. до н. э. (по современному летоисчислению) судьба счастливого Царства…
Эпохи
1510–1710 гг. – Рассветное Царство
1710–1737 гг. – Эпоха династии полночных кочевников
1737–1900 гг. – Полуденное, или Зрелое, Царство
1900–1991 гг. – Эпоха Рассеяния[3]
991—2000 гг. – Время Вторжения магов
2000–2249 гг. – Цветущее Царство
2249–2268 гг. – Время Черных Щитов
2268–2420 гг. – Плодоносящее Царство
2420–2435 гг. – Мятежное время
2435–2511 гг. – Закатное Царство
Списки отдельных правителей в стране Алларуад в эпохи Мятежного времени и Закатного Царства
2432 г. – лугаль Киша суммэрк Симуг1
2432–2433 гг. – «царь Киша и всей земли Алларуад» суммэрк Тизкар
2433–2435 гг. – «царь Киша и всей земли Алларуад» суммэрк Илькум
2443–2444 гг. – царь Баб-Аллона суммэрк Ильтасадум
2507–2508 гг, – лугаль Урука Энкиду
2507–2508 гг. – лугаль Ниппура Халаш
2507–2509 гг. – лугаль Эреду Нарам
2508 г. – лугаль Киша Энмебарагеси
2508–2510 гг. – лугаль Киша Ака, или Агга, сын Энмебарагеси
2510 г. – царь и разрушитель Баб-Аллона Древнего гутии Сарлагаб Мертвец
2510–2511 (?) гг. – лугаль Шуруппака Зиусудра-Месилим, провозгласивший себя «царем Киша, Шуруппака и всей земли Алларуад».
Месяцы страны Алларуад
аярт – приблизительно апрель-май[4]
симан – приблизительно май-июнь
таммэст – приблизительно июнь-июль
аб – приблизительно июль-август
уллулт – приблизительно август-сентябрь
тасэрт – приблизительно сентябрь-октябрь
арасан – приблизительно октябрь-ноябрь
калэм – приблизительно ноябрь-декабрь
тэббад – приблизительно декабрь-январь
саббад – приблизительно январь-февраль
аддарт – приблизительно февраль-март
Меры веса, объема и длины
сикль – 0,0084 кг[5]
мина – 0,505 кг
сила (мера зерна) – 0,5 л
сат – 5 л
курт (по-шумерски «кур») – 100 л
палец – 0,02 м.
локоть – 0,4 м.
тростник – 2 м
гар – 4м
аслат (по-шумерски «ашлу») – 40 м
полет стрелы – 400 м
барат (по-шумерски «беру») – 8000 м
Словарь
Абзу (или Алсу) – искаженное «Апасуд». В шумерской мифологии один из последних царей земли Алларуад превратился в персонификацию подземного океана пресных вод, первозданной стихии, породившей младших богов илюдей. Абзу был хитростью погублен от рук младшего бога Эн-ки (Эа).
Агадирт – широкий канал от Тигра к Евфрату, соединявший две реки в среднем течении, там, где они в наибольшей степени сближаются. На современной карте это несколько южнее Багдада. В эпоху Закатного Царства канал Агадирт укреплен в служил северной границей Царства. Иногда его именовали «полночным валом».
Агулан (у шумеров – угулу) – глава городской ремесленной корпорации.
Алларуад – Южная и Средняя Месопотамия, т. е. в более позднее время – земле Шумера и Аккада. Коренные города земли Алларуад находятся на территории будущего Аккада – Баб-Аллон, Баб-Алларуад (юго-западнее современного Багдада), Киш, Сиппар, Барсиппа. Земли к югу были отчасти колонизированы, отчасти завоеваны в эпоху Цветущего Царства. Там выросли города Иссин, Ниппур, Ур, Урук (а также связанные с ним Э-Ана и Кулаба), Лагаш, Шуруппак, Умма. Город Эреду принадлежал шумерам, когда алларуадцы впервые столкнулись с ними при царе Халласэне Грозе, но впоследствии вошел в состав Царства. В южных землях Алларуад называли Иллуруду. Древние евреи называли Месопотамию землей Сеннаар. Шумеры называли страну Ки-Шумер, Ки-Нингир и Ки-Энги.
Ан (аккд. Ану) – магическое существо, порождение преисподней, Возможно, сам Денница или один из ближайших его помощников. Шумерами почитался как бог неба и в ряде случаев как верховное божество.
Ануннаки – магические существа, порождения преисподней. Шумеры почитали их как единую группу родственных между собой божеств в основном связанных с землей и подземным миром (там они – судьи). У шумеров ануннаки считались детьми Ана. Ануннаков было несколько сотен, число и состав их в различных шумерских текстах меняются.
Асаг – имя одного из эбихов эпохи Закатного Царства, который у шумеров трансформировался в фантастического злого демона, побежденного богом Нинуртой.
Баб-Аллон – Вавилон Древний. Историки считают, что Вавилонское царство было основано в XIX в. до н. э. аморейским вождем Сумуабумом примерно через тысячу сто летпосле падения Царства при Апасуде и Бал-Гаммасте. Сам город Вавилон (Баб-Или) существовал с гораздо более раннего времени. Древний Вавилон, или Баб-Аллон, был разрушен в 2510 г. от Сотворения мира (2999 г. до н. э.), а Баб-Или возник на его месте, вернее, по соседству, рядом. По некоторым сакральным соображениям царственность перешла в «чистый» Баб-Аллон из чёрного первогорода Анахта (Еноха), в конечном счете оказавшегося во власти Денницы.
Бал-Гаммаст Копье Урука – последний твердо известный из царей баб-аллонских. В шумерскую мифологию и историю вошел под искаженным именем Гильгамеш (или Биль-гамес) как великий герой и полубог.
Вару – всякого рода гадальщики, предсказатели будущего.
Бит убари – квартал иноземцев в городе. Буранун – см. Еввав-Рат.
Гештинанна – магическое существо, порождение преисподней. Шумеры считали ее сестрой Думузи, толковательницей снов и писцом подземного мира.
Гуруш – буквально «молодец», вооруженный человек, который занимается наведением порядка, а иногда участвует в особенно тяжелых или ответственных работах для Храма или Дворца. Нечто вроде современного милиционера, который одновременно является охранником, спасателем, чиновником для «особых поручений» и немного – разнорабочим.
Гутии (кутии) – «человекобыки», Старший народ, Старшая земля, народ гор, горцы. Заселяли горы Загра с глубокой древности. Исход алларуадцев с территории Гутиев в 1508 г. от Сотворения мира начал историю Царства. По языку гутии – отдаленные родственники дагестанцев. Гутии многократно вторгались в Месопотамию как в эпоху Царства, так и значительно позже. Неизменно они вызывали у населения
Двуречья ужас и ненависть. В XXII в. до н. э. им удалось захватить Месопотамию и утвердиться там на целый век. Впоследствии они были разгромлены царем Урука Утухе-галем, в котором некоторые подозревают потомка Бал-Гаммаста.
Далу (мн. число – даллим) – водочерпалка.
Дильмун – остров в Индийском океане (предположительно Бахрейн, Сокотра или Шри-Ланка), который считался у шумеров колыбелью их цивилизации.
Доля – сутки, отсчитываемые с захода луны.
Думузи – царь небольшого городка шумеров Эмеки, заключивший священный брак с Инанной-Иштар, а впоследствии отданный ею для жертвоприношения. Бежал, скитался и погиб под Уруком. У шумеров почитался как бог (то ли пастух, то ли рыбак), законный супруг Инанны-Иштар, который своей жизнью выкупил жену из плена в подземном мире. Считалось, что времена «до Думузи» – седая древность.
Еввав-Рат – река Евфрат, вместе с рекой Тигром составляла естественную границу Месопотамии. Шумеры именовали его Буранун. Ни в эпоху Закатного Царства, ни в шумерский период Евфрат не имел единого русла на всем протяжении реки от истоков до впадения в Персидский залив. В ряде мест течение образовывало несколько самостоятельных потоков. Наиболее крупными из них были Тарнинт (у шумеров – Ирнина) и Атарнаг (у шумеров – Итурунгаль). Кроме того, в Нижней Месопотамии Евфрат протекал в значительном отдалении от современного русла.
Иллуруду – см. Алларуад.
Иштар (по-шумерски Инанна или Иннин) – магическое существо, порождение преисподней, одна из главных разрушительниц Царства. У шумеров почиталась как богиня плодородия, плотской любви и распри. Была общинным божеством Урука.
Кидинну – права и привилегии некоторых старых городов, полученные ими чаще всего в эпохи Рассветного, Полуденного или Цветущего Царства. Кидинну включает освобождение города от тяжелых государственных повинностей и некоторых налогов. Кидинну жаловали как награду за заслуги горожан и общинников городской округи в колонизации Междуречья, т. е. прежде всего масштабных ирригационных работах; реже государя баб-аллонские даровали кидинну за участие в военных действиях. Знаком обладания кидинну была «кидина-та» – каменная или керамическая плита, вкопанная в землю у главных городских ворот; на ней ставилась дата пожалования и имя царя, даровавшего кидинну. Кидината у ворот считалась званом высокого ранга города, своего рода признаком почтенности У шумеров слово «кидинну» также обозначало привилегии городских жителей, а также некий предмет (штандарт или надпись), помещавшийся у ворот города как символ божественного одобрения, покровительства и защиты.
Ки-Нингир – Шумер.
Кочевники Захода и Полуночи – восточносемитические племена. На севере, т. е. в Верхней Месопотамии, – предки ассирийцев.
Кудурру – межевой камень, отделяющий один участок земли от другого.
Кур-ну-ги – у шумеров загробный мир. Алдаруадцы не разделялимрачный взгляд шумеров на загробное существование.
Лугаль – у шумеров военный вождь, независимый правитель города-государства или нескольких связанных друг, с другом городов, фактически царь крупной шумерской области. В ряде случаев – общешумерский правитель. В Царстве слово «лугаль», заимствованное позднее шумерами, обозначаю должность правителя, поставленного царем или царским советом для управления крупным городом или областью. Лугалей, как правило, назначали из среды высших реддэм или офицеров черной пехоты. Реже их ставили из числа шарт и уж совсем редко – из местных старших семей, как, например, в Лагаше или Эреду, снисходяк местным политическим традициям. Лугалю давалось право решать некоторые проблемы и разбирать определенные судебные дела, обычно входящие в прерогативу царей баб-аллонских. Этим лугали отличались от прочих правителей в городах и областях царства.
Маган – обозначение Египта и части Аравийского полуострова во времена Царства. Позднее, у шумеров, это слово означало юго-западный берег Персидского залива, а впоследствии – тот же Египет.
Машмаашу – те, кто изгоняет злых духов, в Царстве так называли также магов, некромантов; народное понимание алларуадцев этого слова из шумерского языка – «злой колдун».
Мелага – обозначение Эфиопии-Нубии, а также, вероятно, части современного Судана во времена Царства. Позднее, при шумерах, это слово (шумер. – Мелаха или Мелухха) относилось к северному берегу Персидского залива и побережью Индийского океана к востоку от Элама и до долины Инда. Впоследствии так называли все ту же Эфиопию.
Меламму – особое сияние, которое, как полагали шумеры и люди из края Полдня, исходит от божеств и царей,
Мелухха – см. Мелага.
Мир Теней – по представлениям алларуадцев, мир сверхъестественных сил, враждебных Творцу и людям.
Мэ – судьба и одновременно предназначение. В Царстве любому человеку предлагалась мэ его родителей. Если он желал другой мэ, то мог попробовать свои силы в ином ремесле, в военном деле, в искусстве, где угодно. Но, во-первых, того, кто слишком много пытается реализовать себя в разных областях – и тут и там, – скорее всего сочли бы легкомысленным, несерьезным человеком. И во-вторых, вступив на путь той или иной мэ, человек обязан безупречно следовать тому, что диктуют правила этого пути, С самого первого шага, спервого мига ученичества. Лучшая судьба, с точки зрения алларуадца, – это до конца и «чисто» (т. е. безупречно) реализованная мэ, для которой человек идеально подходит. Хороший медник был славой квартала и даже города. Плохой тысячник – позором всей сословной группы.
Налешт – Средиземное море.
Напта – нефть.
Нергал – магическое существо, порождение преисподней. Почитался шумерами как владыка подземного мира. Супруг Эрешкигаль.
Нинурта – магическое существо, порождение преисподней. У шумеров почитался как бог-герой, победитель чудовищ. Был общинным божеством Лагаша. Лагаш не пускал его в свои стены, пока не пало все Царство и шумеры не возобладали на его землях.
Нинхурсаг (Мама, Нинмах) – магическое существо, порождение яреисподней. У шумеров почиталась как матерь богов.
Нунгаль – владыка, что-то вроде «великого князя».
Раггадес – современные горы Загрос, или Загр.
Реддэм – военное сословие в Царстве. У людей реддэм военная служба – наследственное занятие. Звание отца не становится титулом и не переходит к сыну.
Сеннаар – см. Алларуад.
Син (Наина, Суэн) – вшумеро-аккадской мифологии так называли лунное божество мужского пола, В дошумерской мифологии Син-Нанна предстает в качестве странной; муже-женщины, существа, способного выбирать собственный пол. Это, впрочем, характерно и для многих других порождений преисподней. У шумеров оно почиталось как общинное божество Ура.
Стража – мера времени в Царстве. Около двух часов.
Страна моря – сильно заболоченная и заросшая мангровыми лесами область на юге Нижней Месопотамии, там, где в древности Тигр и Евфрат множеством рукавов и проток впадали в Персидский залив. Теперь эти две реки изменили течение и сливаются в реку Шатт-эль-Араб.
Суммэрк – шумеры.
Тамкар – вольный богатый купец, а также торговый агент Храма или Дворца, занимающийся торговлей с другими странами и народами за пределами земли Алларуад.
Тиххутри – река Тигр. Вместе с рекой Евфрат составляет естественную границу Месопотамии. В древности на территории Нижней Месопотамии Тигр раздваивался. Восточный рукав проходил через область непроходимых болот, тростниковых озер и мангровых зарослей, а западный сближался с рекой Атарнаг (см. «Еввав-Рат») ивпадал в нее недалеко от Персидского залива. Русло реки на значительном протяжении проходило не так, как в наши дни.
Уггал-Банад – эбих и лугаль Урука. Вошел в шумерскую историю и мифологию под именем Лугальбанда, считался легендарным древним царем этого города, героем и долгожителем.
Уршанаби – в шумерской мифологии перевозчик душ в царство мертвых, своего рода месопотамский Харон, лодочник на водах смерти.
Ту – бык.
Уцурту – что-то вроде «чертежа судьбы», ее схемы, плана.
Ууту (шумер. Угу) – царь Ууту-Хеган Пастырь, основатель Царства и первый его государь (в переносном смысле алларуадцы иногда говорили «князь Ууту» – о солнце). Шумерами почитался как солнечный бог, общинное божество Урука. Информация о его действительной человеческой жизни была искажена до неузнаваемости.
Четверть – район в крупном городе. Управлялся в эпоху Царства крупным чиновником, как правило, в чине энси.
Шарех – шестидневка.
Шарт – сословие чиновников в Царстве. У людей шарт чиновническая профессия (но не сам чин) переходит по наследству.
Шебарт – набедренная повязка.
Эбих – высший военный чин в Царстве. Шумеры превратили это слово в собственное имя чудовища, которого повергает в бою богиня Иннин-Иштар.
Эдубба – училище.
Элам – страна к востоку от Нижней Месопотамии.
Эмеки – город шумеров с гаванью на Евфрате у впадения в Персидский залив.
Энки – (аккад. Эа, Эйя) – магическое существо, порождение преисподней, один та главных разрушителей Царства. Шумерами почитался как владыка подземных вод и Мирового пресного океана, как бог-мудрец, а также в качестве общинного божества Эреду.
Энкиду – в героическом сказании о Гильгамеше, т. е. Бал-Гаммасте (сказание приобрело законченный вид при владычестве аккадцев, но уходит корнями в шумерское время), это друг и побратим Гильгамеша, человек чудовищной силы и почти звериного обличия. На самом же деле – небогатый охотник из окрестностей Урука, ненадолго ставший во время мятежа 2507–2508 годов лугалем этого города. Впоследствии действительно стал другом Бал-Гаммаста.
Энлиль (аккад. Эллиль) – магическое существо, порождение преисподней, один из главных разрушителей Царства. Шумерами почитался как верховный бог, повелитель ветра, хозяин всего, что находится на земле. Кроме того, Энлиль был общинным божеством Ниппур, где ему был посвящен храм Экуо.
Энмеркар – эбих и лугаль Урука. Вошел в шумерскую историю и мифологию как легендарный царь этого города, герой, долгожитель.
Энмешарра – магическое существо, порождение преисподней. Шумерами почитался как «господин судеб». Одно из древнейших божеств шумерского пантеона.
Эрешкигаль – магическое существо, порождение преисподней. Шумерами почиталась как владычица подземного мира. Старшая сестра Инанны-Иштар, супруга Нергала.
Примечания
1
Вольный перевод с шумерского принадлежит Д.М. Михайловичу.
(обратно)2
Полужирным шрифтом выделены государи, сыгравшие роль крупных политических деятелей своего времени. Полужирным и курсивом – государи, ставшие «народными героями» Царства. Отмечены только курсивом монархи, сыгравшие сомнительную роль в исторических судьбах земли Алларуад. В действительных царских списках, извлеченных из архива Энкаламду, все они также выделены особыми способами написания.
(обратно)3
Здесь приведены имена тех правителей, которые не принадлежат к законной династии царей баб-аллонских, основанной Ууту-Хеганом, или не были назначены царями из числа верных Царству реддэм, шарт, местных старших семей. Фактически это список правителей-узурпаторов или завоевателей. В 2432 году от Сотворения мира, во время второго восстания края Полдня, была предпринята попытка превратить Киш в столицу Царства. Поэтому к титулу правителей Киша стали добавлять «царь всей земли Алларуад». Более того, сохранился «царский список», в котором все знатные люди из местного рода суммэрк, объявленного в 2432 году царским, перечислены в качестве царей: пастух Этан (основатель рода), Балих, Энменунна, Мелам-Киши, Барсальнуна, лугаль Симуг. На самом деле никто из них царем не был. Год окончания правления Зиусудры-Месилима указан условно, поскольку в 2511 г. от Сотворения мира Царство распалось на целый ряд самостоятельных территорий и царский титул потерял всякое действительное значение.
(обратно)4
Впоследствии примерно так же (с небольшими разночтениями) именовались месяцы и в Вавилоне I тысячелетия до н. э.: нисан (абхибх), айар (ийар), симан (сиван), дуузу (таммуз), аб (аба), улул (элул), ташрит (тишрат), арахсамн (мархешван), кислим (кислев), тэбет (тэбхетх), ша-бат (шэбхат), аддар (адхар). У этих названий – семитические корни (в скобках указаны названия тех же месяцев на древнееврейском). Возможно, они сохранили звучание, в наибольшей степени близкое к единому языку древности, существовавшему еще во второй половине V тысячелетия до н. э. Во всяком случае, у шумеров месяцы назывались совершенно иначе: нинда-ган-маш, ше-гур-куд-ду, ки-суг-шу-суг-га, гир-им-ду-а, гуд-ду-би-му-а, мул-хад-саг-э-та-шуб-а, эзен-лиси и т. д. (Так, во всяком случае, их именовали в шумерском Лагаше середины III тысячелетия н. э.)
(обратно)5
Здесь даны единицы измерения, принятые в эпоху Закатного Царства, то есть между 2435 и 2511 гг. от Сотворения мира (3074–2998 гг. до н. э.). Тростник у шумеров равнялся 2,4 м, а тростник при Бал-Адэне Великом – 3 м. Достоверно известно также, что полет стрелы при Бал-Адэне был равен 280 м. Сила в раннешумерское время составляла от 0,5 до 0,8 л, а беру – 8500 м. И так далее. Впрочем, колебания такого рода вполне естественны и не представляют какого-либо исключения по сравнению с иными обществами Древнего Востока.
(обратно)
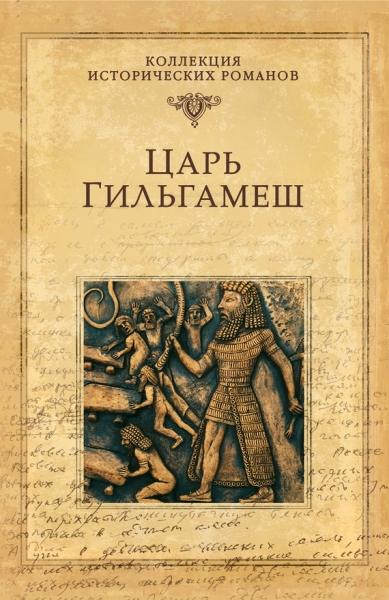


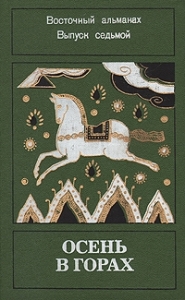

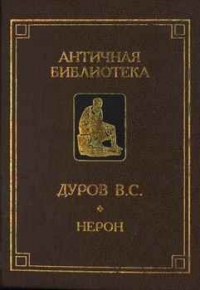

Комментарии к книге «Царь Гильгамеш», Дмитрий Михайлович Володихин
Всего 0 комментариев