Евгений Салиас ВЛАДИМИРСКИЕ МОНОМАХИ Сочинение Графа Салиаса
Портрет работы неизвестного итальянского мастера конца XVIII века, хранящийся в Выксунском краеведческом музее под названием «СУСАННА». Многое говорит за то, что это изображение Сусанны Юрьевны — главной героини романа «Владимирские Мономахи».
Автор художественной летописи Баташевского рода
Роман «Владимирские Мономахи» принадлежит перу автора давно и незаслуженно забытого (даже годы его рождения и смерти указываются по-разному) и совершенно не известного современному читателю, за исключением узкого круга книжников и специалистов. Можно согласиться с мнением, высказанным еще в начале нашего столетия, что писатель «разделил общую участь русских исторических романистов».
Одаренный интерпретатор отечественной истории появился на свет, когда кондовая помещичья Русь еще утопала в патриархальной тишине своих дворянских гнезд.
С раннего детства он привык видеть в доме своей прославленной родительницы цвет русского общества: Н. И. Надеждина, И. С. Тургенева, А. Н. Афанасьева, Т. Н. Грановского, В. П. Боткина и многих, многих других.
В отрочестве на прогулках он встречал Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского. Он пережил юношеские восторги увлечения божественной Рашелью. Ему пришлось лицезреть приход рационалиста Базарова, начавшего отрицать и раскачивать вековой уклад русской жизни. Живыми, незабываемыми образами прошли перед ним чредой могучие старцы С. Т. Аксаков, А. С. Хомяков, А. Н. Островский, актер М. С. Щепкин.
В период его писательской деятельности, подобно звездам, зажглись, блеснули на небосклоне отечественной словесности и трагически погасли ровесники романиста Н. Г. Помяловский, В. А. Слепцов и Ф. М. Решетников.
Его крестными отцами на литературном поприще стали А. И. Герцен и И. П. Огарев.
И все это о Евгении Андреевиче Салиасе де Турнемир (1840–1908 гг.), сыне блиставшей в 40—50-х годах XIX века писательницы Е. В. Салиас де Турнемир (урожденной Сухово-Кобылиной), более известной под псевдонимом Евгении Тур.
Его отец — обедневший французский граф Салиас, личность коего, по словам друга семьи Е. М. Феоктистова, представляла собой «самое жалкое ничтожество». Вскоре после рождения Евгения кичливого галла за дуэлянтскую выходку выслали на его родину, где он почти забыл о своей семье.
Графиня Салиас осталась с сыном в Москве. Чтобы выйти из стесненного материального положения, молодая женщина решила заняться литературным трудом, и уже первая ее повесть имела у читателей успех, закрепленный последующими сочинениями.
Евгений, благодаря входившей в известность матери, ее друзьям и собратьям по перу, получил незаурядное воспитание, а также склонность к литературным занятиям.
Юноша поступает в Московский университет, в котором сходится с революционным студенчеством. После известных московских студенческих беспорядков 1861 года он, в знак протеста против исключения своих товарищей, выходит из университета, за что оказывается под секретным надзором III Отделения.
На следующий год мать вызывает его за границу, знакомит сына в Лондоне с Герценом и Огаревым, бывая в их домах запросто.
На чужбине Салиас начал пробовать свое перо — написал и опубликовал под псевдонимом Вадим ряд рассказов и повестей («Ксаня чудная», «Тьма», «Еврейка»). Затем появляются «Путевые очерки Испании», которые, по словам одного из биографов писателя, «оригинальностью, яркостью красок и богатством воображения, обратили на автора внимание».
Повесть «Тьма» заметили Огарев с Герценом. В частности, первый в письме к Евгении Тур писал: «Тут чрезвычайно симпатичный талант, и я с глубокой радостью даю ему сбое благословение». Здесь же следовала приписка Герцена: «…я поздравляю обеих матерей, т. е. вас и Россию, с новым талантом».
Вернувшись на родину, Салиас одно время адвокатствовал в Тульском окружном суде, потом был чиновником по особым поручениям при Тамбовском губернаторе, исполнял должность секретаря местного статистического комитета и редактора «Тамбовских губернских ведомостей».
До 1876 года он по отцу оставался французским подданным, после же принятия российского гражданства поступает на службу в Министерство внутренних дел. Затем управляет конторой московских театров и заведует московским отделением архива Министерства императорского двора.
В основном творчество графа Салиаса посвящено старине, повести и романы о которой с завидной регулярностью появляются на журнальных страницах. Один из его современников подметил, что «с течением лет литература сделалась для него ничем, как ремеслом, и он плодил свои произведения целыми томами, занимаясь одновременно писанием трех или четырех романов для разных периодических изданий».
Писатель осознавал это, сетуя, что он «зарыл в землю свой талант» из-за того, что «не был так счастливо поставлен, как некоторые наши писатели, имеющие возможность писать «для души»».
Для первого своего романа «Пугачевцы» (опубликован в журнале «Русский Вестник» за 1874 год) Салиас тщательно собирал архивные материалы, одновременно предпринимая поездки по местам пугачевской вольницы. Говоря о «Пугачевцах» критика указывала, что граф Салиас добросовестно изучил пугачевский бунт и что произведение его представляет «несомненную фактическую верность истории», что, к сожалению, не всегда можно сказать о его других подобного рода сочинениях. Это произведение писателя имело большой успех и по существу остается лучшим его историческим романом.
За «Пугачевцами» последовала серия романов, посвященных главным образом отечественной истории XVIII столетия. Публиковались они в тогдашних журналах «Русский Вестник», «Огонек», «Нива», «Исторический вестник», «Кругозор», «Царь-колокол» и др. Писатель и сам выступал в качестве издателя-редактора, выпуская в 1881–1882 гг. ежемесячный литературно-исторический журнал «Полярная звезда».
Наряду с серьезными критическими высказываниями в адрес творчества писателя (в особенности по поводу его исторических «вольностей»), один из критиков метко заметил: «граф Салиас в высокой степени полезен, как популярный, доступный изобразитель некоторых исторических элементов русской жизни… Исторический роман, умеющий представлять ту или другую эпоху в ее настоящем свете, без современных тенденций, с полнотой и ясностью, может дать об этой эпохе такое отчетливое представление, какое не дает никакая история, не говоря уж о кратких учебниках».
Итогом многолетнего творчества писателя стал выход в 1894–1909 годах тридцатитрехтомного собрания его сочинений.
Но наступили иные времена и сочинения графа Салиаса, зачисленного зоилами в лагерь консервативных писателей, перестали удовлетворять запросы нового поколения. Его произведения все реже и реже появляются на страницах журналов. Постепенно пришло забвение. С горькой иронией один из литературоведов писал по этому поводу: «Мы русские, с необыкновенной строгостью относимся к родным писателям, нередко предпочитая им посредственные издания европейской литературы». Сказано в начале нашего века, а как своевременно это звучит сейчас!
Последние восемнадцать лет Евгений Андреевич, отгородившись от всего, безвыездно прожил в созданном им иллюзорном мирке тихого московского дома. Современник отмечал, что «в нем было мудрое спокойствие старости, делавшее для него невозможным брюзжание на новые времена и новых людей. Он не осуждал огулом нынешнее, не захваливал взасос «доброе старое время», не жаловался на свое забвение, которого не мог не видеть». Для своего существования он сумел сохранить красивую оболочку, удивительно напоминавшую уголок 40-х годов, перенесенный в двадцатый век. Вел барственно-размеренную жизнь: вставал в четыре часа пополудни, выставлял голову в форточку и дышал — это считалось его прогулкой, водился только с издателями Сувориным и Шубинским. Ничего не читал, остановившись на «Анне Карениной», считая, что «вся вообще литература не пошла дальше «Карениной». Все, что пошло потом — перепевы».
В этой «клетке» своего детства провел остаток жизни Е. А. Салиас де Турнемир.
Одним из лучших исторических произведений писателя является роман «Владимирские Мономахи». Исходя из того, что его в некотором роде можно назвать краеведческим произведением, закономерно было бы кратко представить обросшую легендами историческую канву рода основателей железноделательных и плавильных заводов Приокского горного округа.
В начале XVIII столетия на границе Владимирской и Рязанской губерний, в непроходимых муромских лесах, кишащих известными на всю Россию разбойниками, появились двое братьев — толковых, энергичных и непреклонных в задуманном горных дел мастеров — Иван и Андрей Баташевы. Они были внуками И. Т. Баташева — управляющего горными заводами знаменитого Акифия Демидова. Разбогатев, основатель баташевского рода завел и собственное железноделательное производство, одно из которых с 1716 года возникло около Тулы.
Можно считать, что И. Т. Баташев стоял у истоков выпуска знаменитых тульских самоваров.
Наследник его — Родион Иванович — пошел по стопам отца, как впрочем и внуки — Иван с Андреем. Вот они-то, прознав о железной руде в Муромских лесах и прибыли сюда, чтобы основать новое дело. Сообразительные предприниматели видели не только все выгоды места — непроходимые леса (следовательно, топливо для чугуноплавильных печей), рядом судоходная Ока, но и препятствия: для исполнения их громадных планов необходимо было заполучить в собственность эти дремучие чащобы с массой гулящих, скрывающихся от помещиков и правительства людей.
Первым их делом стало строительство дома, замышлявшегося наподобие крепости: с башнями, стенами и рвами. Все это защищалось хорошо вооруженным отрядом из проверенных и преданных телохранителей, по местному называвшихся «уланами».
В 1759 году под твердой и самовластной рукой дело заспорилось: леса постепенно перешли во владения Баташевых (в общей сложности более 100 000 десятин), задымили многочисленные плавильные печи знаменитого Гусевского завода. Не без помощи правительства Баташевы уничтожили в округе разбои, превратив лесную вольницу в своих послушных и безропотных рабов.
Благодаря недюжинному таланту предпринимателей, к концу XVIII века образуется Приокский горный округ, охватывающий территорию четырех смежных губерний — Владимирскую, Рязанскую, Тамбовскую и Нижегородскую.
Сердцем этого промышленного района стали десять Выксунских заводов (первый из которых основан в 1765 году), сырьем для них служила болотная руда, а доменные печи и иные заводские производства использовали силу приводимых в действие водой механизмов, которые стояли на многочисленных рукотворных и величественных плотинах. По заявлению специалистов, эти пруды были созданы не просто «для изящества ландшафта», а служили аккумуляторами энергии, потому-то в XVIII веке они составляли «необходимый и существенный элемент любого металлургического производства». Заводчикам приходилось нести большие расходы по их сооружению. Так, в 60-х годах прошлого столетия стоимость гидротехнического хозяйства Выксунских заводов оценивалась в громаднейшую сумму — 900 000 рублей, что составляло больше половины общей стоимости заводов.
Выксунская гидротехническая система была в своем роде уникальной. Нигде в России не было подобного — десятикратного использования вод одной и той же речки Железницы, от которой питались энергией и водой семь заводов и две мукомольные мельницы. Все это в основном было продумано и осуществлено русскими самородками. Выксунская водная система строилась с 1766 по 1803 годы главным механиком завода, бывшим крепостным Марком Терентьевичем Поповым и его сыном Василием Марковичем.
Следует отметить, что Баташевы с вниманием относились к народным умельцам. Так, один из них стал первым на Выксе строителем паровых машин. В начале XIX века там же работала целая семья самородков — Горностаевых. Основатель этой династии Максим Перфильевич с 1800 по 1809 годы состоял главным управляющим заводами, а после его смерти эту должность до 1826 года исполнял его сын Иван. Бывший крепостной постиг тайны инженерного дела, свободно владел тремя иностранными языками. По его проекту и под непосредственным руководством в 1803 году строится проволочная фабрика, которая 120 лет снабжала своей продукцией всю Россию. Из этой талантливой семьи вышел будущий академик архитектуры А. М. Горностаев (1808–1862 гг.).
Баташевы были незаурядными организаторами и талантливыми хозяйственниками. Потому вполне закономерно, что их заводы стали одними из передовых отечественных металлургических производств. Им часто приходилось выполнять ответственные правительственные заказы по отливке корабельных якорей, пушек и ядер.
Особенно благоприятными для роста железоделательных и чугуноплавильных заводов стали две турецкие военные компании, три польских раздела, война со Швецией, а также пугачевский бунт. В самом начале своей деятельности, уже к 1770 году они смогли поставить армии 154 пушки. Железницкий завод, построенный в 1775 году, всецело предназначался для «высверливания и точки отлитых на Выксунских заводах во флот пушек и военных орудиев».
Без преувеличения можно сказать, что создаваемый Черноморский флот оснащался преимущественно изделиями баташевских заводов, орудия которых обеспечили победы русской армии и флота в славном XVIII веке.
Свои изделия Баташевы, конечно же, продавали и на знаменитой Макарьевско-Нижегородской ярмарке, поставляя туда, кроме чугуна и железа, проволоку и различные металлические изделия: от прихотливых предметов художественного литья до монументальных надгробий. Дома нижегородского дворянства и административные учреждения города украшали чугунные лестницы с ажурными перилами, а местные храмы узорчатые половые плиты того же литья.
Дальновидный Андрей Родионович заводил в административных и правительственных сферах нужные знакомства и связи, в особенности с могущественными екатерининскими временщиками, двумя Григориями — Орловым и Потемкиным. Лично с ними он не был знаком, поддерживая связь перепиской, да ублажая дарами.
На основании стоустой молвы, Н. И. Мельников-Печерский в романе «На горах» писал следующее: «Нарочные то и дело скакали с Поташевских заводов то под Очаков, то в Петербург с редкими плодами заводских теплиц, с кислой капустою, либо с подновскими огурцами в тыквах». Он же рассказал, что как-то ко дню именин генерал-фельдмаршала Потемкина (25 января) с берегов Оки очередной баташевский посланник доставил плоды с запиской «Сии ананасы тамо родятся, где дров в изобилии, а у меня лесу не занимать; потому и сей дряни довольно». Размякший от возлияния и редкого подарка фаворит на весь стол завопил: «Уважил!.. Спасибо!.. Захотел бы Поташев ремни из спины у меня выкроить, я бы сейчас…». Обзаведясь такими высокопоставленными заступниками, А. Р. Баташев чувствовал и вел себя как удельный князек: в своих губерниях без особых затруднений смещал губернаторов и архиереев, а с прочей чиновной мелюзгой обращался как с лакеями. Мельников-Печерский свидетельствовал: «Слово супротивного молвить никто не смел, все преклонялись пред властным оружейником, и не было на Андрея Родионовича ни суда, ни расправы; не только в Питере, в соседней Москве не знали про его дела… Все было шито и крыто».
Заявился как-то к заводчику один из ретивых исправников с целью показать свою строгость. Андрей Родионович, не выказав неудовольствия «нахальством» уездного полицейского, любезно согласился показать ему свое производство. Когда они вошли на верх домны, то заводчик легонько подтолкнул исправника и тот «нечаянно» свалился в расплавленную массу.
Один из очевидцев рассказал, как, в бытность его на Гусевском заводе, ломали одну из стен баташевской усадьбы и обнаружили внутри ее скелет в истлевшем мундире с медными пуговицами.
Местные легенды повествуют, что верные баташевские «уланы» по первому мановению своего господина «хватали указанных жертв, тащили их в усадьбу и тех, смотря по обстоятельствам, или бросали в мрачные подземелья и башни, или предавали пыткам и казням в «страшном саду», где для этой цели имелись различные сооружения — виселицы, колеса, цепи. Всякий попавший в руки «уланов» должен был закончить счеты с жизнью».
В огромном гусевском доме-крепости были глубокие подвалы, которые своим величием производили впечатление даже в конце XIX века. Один из любознательных столичных журналистов, осмотрев разрушающиеся постройки, пораженно сообщал, что проникнув в массивный фундамент, «вы видите, что под землею выстроено почти такое же громадное здание, как и то, которое высится над землею; здесь целый лабиринт ходов, комнат, подвалов, под которыми замечаются еще ходы, еще подвалы».
В одних из них, по преданию, размещался целый монетный двор для чеканки фальшивых денег. На основании таких легенд, в 40-х годах прошлого века, какой-то владимирский жандармский полковник уверял министра финансов, что в усадьбе Баташевых замурованы 17 миллионов рублей.
Используя ходы, хозяин, по уверению местных жителей, мог «внезапно появиться из-под земли среди заводских рабочих, навести на них панический суеверный страх и узнать как работы их, так и настроение». Баташев достиг того, что приписные к заводам крестьяне считали его злым непобедимым духом, бороться с которым нет возможности.
Волевые качества Андрея Родионовича отмечал один из публицистов XIX века. Вот как он описывал его живописный портрет: «Строгие черты полного бритого лица с коротко остриженною головою так и выдвигаются с холста; как живые, смотрят эти большие круглые глаза из-под нахмуренного, с глубокою поперечною складкою, большого лба. Такое лицо может только повелевать и достигать во что бы то ни стало своих целей».
Многочисленные комиссии, подкупленные заводчиком, прекращали следствия по всем его «проказам» за отсутствием улик или по причине ненахождения Баташева (он проживал повременно то во Владимирской, то в Рязанской губерниях, смотря где в данный момент ему было выгодно находиться.)
Кроме резиденции в Гусевском заводе, внушительная усадьба была построена и в Выксе. Она представляла из себя трехэтажный дом-дворец с великолепным регулярным парком, в аллеях которого стояли статуи, фонтаны, виднелись причудливые беседки, павильоны и ажурные мостики, перекинутые через искусственные речки. Здесь же возвышался «павлиний дом» с царственными заморскими птицами и зверинец с оленями и дикими козами. В оранжереях спели диковинные экзотические плоды.
По утверждению современника, все же самой диковинной и дорогой затеей Баташева являлся домашний драматический театр, в котором выступали не только крепостные артисты, но и столичные знаменитости.
Выксунский дом сохранился, в некоторых из его комнат сейчас располагается краеведческий музей. Дожило до нашего времени и неоштукатуренное из красного кирпича здание в псевдоготическом стиле с декоративными башенками и стрельчатыми окнами. Данное строение предназначалось для знаменитых баташевских телохранителей-рунтов, главному из, которых отведена важная роль в сюжетной интриге романа «Владимирские Мономахи».
Сохранился и охотничий домик, построенный для развлечения и охоты выксунских господ, которому также отведена определенная роль в упомянутом романе.
В 1799 году И. Р. Баташев выстроил в Москве великолепный дом. В 1812 году в нем проживал маршал Франции Мюрат, а во время коронации Николая I останавливался посол Великобритании герцог Девонширский.
В 1799 году А. Р. Баташев в полном уме и памяти скончался. Говорят, что когда умирающего спросили, кого он назначает наследником, он кратко ответил — «сильнейшего».
Владелец заводов был женат трижды. От первой супруги у него остался сын Андрей, по прозвищу «черный»; от второй — трое мальчиков, Андрей «меньшой», Николай и Иван. Еще при жизни второй жены сластолюбивый заводчик сочетался законным браком с третьей, но детей от нее, кажется, не имел.
Андрей «черный» по праву первородства не признавал последующие браки отца и потому сразу же после похорон родителя прогнал из дома обеих мачех и братьев, завладев всем огромным состоянием.
Этот самовольный раздел возбудил судебную волокиту, длившуюся много лет. Впоследствии браки были все же признаны законными. Однако к тому времени Андрея «меньшого» и Николая уже не было в живых. Третий же брат, Иван, насильно был отдан в рекруты под фамилией Гусев.
Когда солдату Ивану Гусеву объявили монаршую волю, что он стал наследником громаднейшего состояния, тот потерял дар речи. Оправившись, крепко закутил и вместе с внезапно объявившимися мириадами друзей начал расточать наследство.
Предполагают, что он познакомился с известным провокатором декабристов Шервудом-Верным, который предложил свои корыстные услуги, взяв у новоиспеченного миллионера взаймы 50 000 рублей, а затем и расписку еще на 400 000 рублей. Пройдоха якобы вошел в соглашение с известным протеже всесильного Аракчеева Клейнмихелем с условием, что последний доложит государю дело о приобретении Шервудом-Верным баташевских владений, за что ходатай получит половину всего.
Однако афере, как гласит предание, случайно помешал великий князь Михаил Павлович. Над Гусевскими заводами устанавливается опека, которая окончательно разорила владения. Благодаря ловким комбинациям местного дворянства — с 1832 по 1850 годы в Баташевском имении в качестве опекунов перебывали все дворяне меленковского уезда, — благосостояние заводов было сильно подорвано.
Во многом сходная ситуация сложилась и на Выксунских заводах. В 1821 году после кончины И. Р. Баташева (после раздела в 1783 году Выксунские заводы отошли к нему), управляющим производством стал зять почившего — генерал-лейтенант, участник войны 1812 года Д. Д. Шепелев, который был женат на любимой внучке заводчика Дарьюшке. При нем производство продолжало успешно развиваться, претерпев существенную модернизацию. Он также, как и основатели заводов, отмечал талантливых мастеров. Одного из таковых — Коптева — новый владелец отправил в Англию для усовершенствования в механике. Там его способности также были оценены и в честь мастера чопорные англичане даже давали обеды, которыми Коптев гордился и в старости.
Заводы продолжали славиться не только своей военной продукцией, но и изящным художественным литьем, по которому специализировался Сноведский завод. Именно здесь отливались скульптуры для Триумфальных арок Москвы и Петербурга в честь героев 1812 г. Этот дар высокого мастерства выксунских металлургов не был потерян и впоследствии. К примеру, в конце XIX века дом заводчиков украсил камин, который на Парижской выставке был оценен в 2,5 млн. рублей.
Вместе с тем, писательница Евгения Тур в своих воспоминаниях дала уничижительную характеристику Д. Д. Шепелева, дом которого, по ее мнению, представлял собою собрание «курьезов, чудаков, сумасшедших и пьяных».
Необузданный театроман, он в 30-е годы вместо старого баташевского театра строит новое роскошное каменное здание оперного с залом на 300 человек. Не без доли преувеличения, один из очевидцев свидетельствовал, что «в наших провинциях еще не было оперных театров — кроме Одессы и Риги — и театр Шепелева по праву занимал единственное место во всей внутренней России». Для обучения крепостных артистов в Выксу приглашались артистические знаменитости, как, например, «звезда Санкт-Петербургского театра» балерина Сунгурова.
Через двадцать лет после вступления в управляющие Шепелев скончался, передав бразды правления в руки непутевого сына, который имел особенное пристрастие к крепостному театру (его прозвали «Нероном Ардатовкого уезда») в ущерб заводскому производству. Этот семейный порок передался и другим шепелевским отпрыскам. Кроме оперных представлений, в Выксе устраивались пышные балы и маскарады, ежедневно закатывались лукуловы пиры с сонмом друзей и знакомых.
Баташевское достояние разбазаривалось на разнообразные прихоти. К концу управления И. Д. Шепелева долги возросли до непомерных размеров, составив 2,4 млн. рублей.
Родственники мота постарались объявить его сумасшедшим, официально устранив от управления. В 1846 году правительство учреждает опеку одного из родственников Шепелевых (по женской линии) артиллерийского полковника В. А. Сухово-Кобылина. Внук последнего Е. А. Салиас де Турнемир и описал представляемую ныне читателю мастерски закрученную с любовно-криминальным сюжетом беллетризованную историю рода Баташевых-Шепелевых.
Не все в романе представлено исторически верным. Главным образом это касается героини повествования — Сусанны Юрьевны. По всей видимости, она не была родственницей Баташевых, а скорее всего являлась одной из примадонн выксунского театра и пользовалась особым покровительством Баташевых. В памяти местных жителей долго сохранялся образ крепостной артистки «чудной красоты», которую хозяин всячески оберегал и содержал под присмотром двух девушек. Не исключено, что под прихотливым пером писателя одна из таких артисток и превратилась в очаровательно-коварную хозяйку баташевского дома.
Безусловно, на образ героини романа повлияло живописное изображение красивой женщины, известное под названием «Сусанна», которое находилось в баташевской коллекции, а сейчас хранится в Выксунском музее. Этот портрет, по мнению специалистов, предположительно принадлежит кисти старинного итальянского художника. Любопытно, что в 20-х годах нашего столетия услужливое выксунское руководство отправило портрет в Москву, подарив его Государственному объединению машиностроительных заводов. Изображение бывшей возлюбленной основателя заводов показалось кому-то весьма подходящим для украшения одного из управленческих кабинетов. Потребовались усилия нижегородских музейщиков, чтобы вернуть полотно назад в Выксу.
Ю. Галай
кандидат исторических наук
Часть первая
I
Высокские заводы славились, были известны самой монархине.
В огромных барских палатах с двумя крылами, которые выдвинулись в сад, было мертво тихо, как бы среди ночи, а между тем на башне «коллегии», большом здании направо от палат, где было главное управление всех заводов, сел и деревень, пробило два часа пополудни.
Весь ряд апартаментов второго этажа, все гостиные и большая зала — все было пусто… Только в первой комнате, просторной, к дверям которой упиралась большая парадная чугунная лестница, был люд и шел тихий говор… Это была передняя, с ларями и скамьями по стенам, где сидела дежурная дюжина, двенадцать человек дворовых людей, сменявшихся в полдень и в полночь. Среди них был всегда один «дюжинный», или главный, считавшийся начальником и ответственный за все…
Люди, разместившись кучками, убивали время, как всегда, на три способа. Одни дремали сидя, другие, сбившись в кружок, играли в «трынку» и в «Агафью», третьи «лясы точили», беседовали вполголоса.
Когда башенные часы гулко пробили два, а эхо далеко разнесло басистый звон, «дюжинный», пожилой дворовой, произнес однозвучно, как обычную, давно всем известную команду:
— Подберись…
Но дворня уже сама при звоне башенных часов шевельнулась, будто встряхнулась и «подобралась»… Карты исчезли в ларе, болтавшие смолкли, дремавшие живо очухались, и все разместились порядливо и чинно, в ряд, по всем стенам, будто готовясь…
Дюжинный встал и подошел к дверям… Вниз шла широкая, чугунная лестница, красивая, сквозная, отлитая «у себя» на заводе; вверх шла деревянная, менее широкая лестница, выкрашенная под дуб… Верхний этаж, третий, был центром или главным важнейшим пунктом всех палат, всей усадьбы, но и равно всего околотка[1], даже уезда…
Во всем наместничестве кто-кто не знал комнат этого этажа усадебного дома Высоксы… Прошло минут восемь после боя часов, и чем далее подвигалось время, тем смирнее и порядливее сидела дежурная дюжина, тем внимательнее прислушивался к верху дюжинный…
Наконец вверху послышалась хорошо знакомая трель беглых шагов, чистых и легких… Это были даже не шаги, а, казалось, там кто-то сорвался со ступенек и кубарем катился вниз. На лестнице появился мальчуган лет тринадцати и мчался…
— Барин! — пронесся сиплый шепот, но сильный, грудной. Эхо повторило слово через все настежь отворенные двери анфилады гостиных. — А — арррр!.. — будто ответил весь этаж. Кто произнес магическое слово, — мальчуган ли с лестницы, дюжинный ли на страже, или сама дюжина дежурных, — разобрать было трудно… Казалось, всякий сам себе сказал это, и вышел единодушный, однозвучный восклик, огласивший все пустые комнаты. Мальчуган опрометью пронесся через переднюю и понесся по комнатам легкими козьими скачками… Люди поднялись и стали навытяжку, оглядывая себя и других, оправляясь и охорашиваясь. На лестнице раздались медленные шаги и гулкие удары палки костыля о ступени…
Спускался барин, опираясь на свою палку в виде костыля с золотыми украшениями, за ним следовал его камердинер[2] в сопровождении двух молодых лакеев…
Барин спустился, вошел в переднюю и, окинув зорким взглядом людей, истуканами стоявших кругом, прошел… Через минуту, когда он скрылся из последней гостиной, повернув в залу, дюжинный шепнул: — Пронесло!.. А тебе, Сенька, думал, достанется: стоишь, сопишь, что меха кузнечные…
Между тем барин шел той же медленной правильной походкой, мерным и степенным шагом, через обе залы, направляясь в правое крыло дома, где была «половина», или комнаты, его сына…
Барин, владелец местечка Высоксы, собственник железных и чугунных заводов, занимающих целый уезд на громадном пространстве лесов, полей и озер, и владелец двадцати тысяч душ крестьян, был Аникита Ильич Басман-Басанов, столбовой дворянин старинного рода и бывший офицер гвардии.
Это был старик шестидесяти трех лет, здоровый, крепкий, бодрый… Если бы не серебряная голова, гладко под гребенку остриженная, ему легко можно было дать лет под пятьдесят… Лицо сухое, почти без морщин, чисто обритое, белое и румяное, было правильное, но неприятное, неясное и неприветливое… Маленькие серые глаза, быстрые, яркие, горели недобрым светом. Взгляд их был ястребиный, хищный, а подчас будто зловещий… Даже при веселом смехе эти глаза щурились будто ехидно. Когда же легкий и нежный румянец на белых щеках — как у любой девицы — вдруг усиливался, то всякий робел и терялся. Это было признаком возникающего гнева… И чем сильнее, бурливее был гнев, тем тише начинал говорить барин, но тем страшнее сверкали маленькие серые глазки, метая искру.
Если он с тихого голоса переходил на шепот, то, стало быть, «конец», стало быть, «пропал человек».
II
Два брата, Аникита и Савва, Басман-Басановы родились и жили в царствование императриц Анны и Елизаветы, вместе со своим отцом, в полной глуши, в маленьком родовом поместье при двух стах душах, и где вся семья их нуждалась. Записанные в измайловский полк, оба брата почти одновременно отправились, однако, служить в Петербург и, как бедные дворяне, бедствовали. Отец их, Илья Михайлович, с трудом высылал им обоим около пятисот рублей в год. Он мог бы давать сыновьям более, но жизнь его сложилась так, что стоила дорого, несмотря на незатейливое существование в глуши деревни.
У Ильи Михайловича Басанова, пятидесятилетнего вдовца, была слабость — прекрасный пол. С ним вместе жили пять женок, не считая двух старых, заштатных… Но это бы еще не беда, если бы у всех этих женок не рождались постоянно дети, которых отец, конечно, призревал…
Усадьба Басановка смахивала поэтому на нечто крайне странное. Мужчин, дворовых людей, было не более полудюжины. Женщин, считая и женок и горничных, было до двух дюжин… Детей, девочек и мальчиков, от грудных младенцев и до 13 и 15-летних, было тоже до двух дюжин.
Путаница во взаимных отношениях была полная, так как те дети, которых любил барин-отец, жили на барской ноге, а нелюбимые изображали прислугу.
Соседи-помещики говорили про Басанова:
— Содом какой-то. Ничего не разберешь у него. Кто кому брат, кто кому сват.
Когда оба сына, воспользовавшись «вольностями дворянскими»[3] при восшествии на престол императора Петра Федоровича, вернулись домой, к отцу, то нашли почти ровесников себе братьев и сестриц побочных, и оба брата собрались было уезжать восвояси от «содома».
Но их остановило нечто. В их глуши Демидов вел особое дело, копал землю, а из нее делал чугун и железо, а заведенное дело, «заводы» гремели на всю Россию… Братья, не зная, что делать, чем заняться, решились поступить на эти заводы и были приняты.
Но через четыре года вдруг братья получили от дальнего родственника неожиданное наследство и, по мнению отца, поступили безрассудно. Продав имение, они выручили сорок тысяч, тотчас покинули, конечно, заводы, сманив, однако, с собой ученого немца и человек десять не из последних искусников мастеров, и пошли искать новые места, такие же, но поближе к столицам. Места эти среди дремучих Муромских лесов были ими найдены, и братья Басановы, истратив свои невеликие деньги, завели то же дело…
Не прошло шести лет, как государыне императрице Екатерине Алексеевне генерал-прокурор уже докладывал о важном казусе:
«Какие-то два брата дворянина, бывшие измайловские офицеры и сыновья заволжского помещика, явились в пределы Владимирские и, самовольно захватив большое количество земель и еще большее количество лесов, принадлежащих казне, основали чугунно-плавильные и железные заводы… А главное их самоуправство и беззаконие в том, что они приписывают к заводам всех беглых помещичьих крестьян со всей России и даже беглых солдат, да не десятками, а сотнями в год. Особенно после недавнего Пугачевского бунта они вдруг разошлися, приписав сразу к заводам до семи тысяч беглых и сразу расширив свое дело, производство и сбыт…»
Государыня приказала тщательно расследовать дело и доложить снова. По второму разу, строжайшему следствию и всеподданнейшему докладу, оказалось, что два брата Басман-Басановы начали дело просто грабительское по отношению и к казне, и к мелким помещикам. Но в непроходимой трущобе страшных Муромских лесов, где была «стена», т. е. непроницаемые дебри, и лишь «один зверь», ныне людно и оживленно, тысячи всякого сброда, сволочи со всех краев России, работают, подати и повинности в крупных размерах уплачиваются неукоснительно и вернее, чем где-либо. Наконец за последний год был сделан этим заводом казенный заказ, с которым собирались уже обратиться за границу… Заказ был исполнен «весьма рачительно, поспешно и даже изрядно», к немалому удивлению самих господ сенаторов.
Императрица приказала беглых солдат строжайше у заводов отбирать и за искоренением сего зла наблюдать…
А земли?.. Леса? Тысячи беглых приписных[4]? Все это имущество миллионное и чужое, среди бела дня грабительски присвоенное и присвояемое?
Приказано было: «Оставить и смотреть сквозь пальцы»…
И вскоре сами братья Басановы почувствовали под ногами твердую почву… Они пошли на «авось», но могли теперь сказать себе с полной уверенностью: «наша взяла!».
Прошло еще десять лет.
Заводам Высокским был сделан важнейший и крупнейший заказ от имени самого светлейшего князя Потемкина… Братья Басановы через свое доверенное лицо, петербургского видного чиновника, взялись поставить требуемое за смехотворно дешевую цену, но просили упорядочить их «бесписьменное положение…»
Разумеется, гениальный светлейший, которому доложили о деле и просьбе «поставщиков» казны, заводчиков из дворян, чугунолитейщиков из измайловцев, вникнул в дело, рассудил по-своему и доложил государыне на особый лад.
С этого дня братья Басман-Басановы стали законными собственниками огромного состояния, наполовину похищенного, наполовину созданного собственными руками.
Но владетели Высоксы зато гордо подняли голову и стали распоряжаться и повелевать в своем крае, уже окончательно ничего и никого не опасаясь. Вскоре за их крутые, громкие, но и разумные действия какой-то петербургский сенатор остроумно дал Басановым прозвище «Владимирские Мономахи»…
Прозвище дошло и до Высоксы и понравилось даже тем, кто и не знал, что оно значит, но братья-заводчики действительно стали местными решителями судеб не только поместного дворянства, но и лиц, власть предержащих… По жалобе Владимирских Мономахов был вдруг смещен и отдан под суд за самоуправство владимирский наместник[5]. Через четыре года волокиты наместник очистил себя пред судом, но уже в сенате, куда довел свое дело и где доказал, что не он, а братья Басановы — самоуправцы и ябедники.
Но братьев-заводчиков все-таки власти не тронули, да и вообще перестали трогать, а стали стараться жить с ними в ладу. Оно было спокойнее, да вдобавок и очень выгодно.
В те дни, когда по случаю новой войны с Турцией Высокса сновa работала для огромной поставки в казну, главный и истинный создатель заводов Савва Ильич вдруг скончался.
Он был холост и даже ненавистник женщин, и наследником всего остался Аникита Ильич. Старший Басанов был давно женат и даже два раза. Первая жена его, родом Бобрищева, на которой он женился, выйдя в отставку и будучи еще у отца в вотчине, была неплодна. Шесть лет ждал Аникита Ильич «наследником», и затем оба брата «Мономахи» решили, что так оставить дело нельзя… Почто же они работают? Для кого? И Раиса Сергеевна Басанова «по собственной воле» была пострижена в монахини, а через три года умерла, «сокрушаясь по своей мирской жизни».
Аникита Ильич тотчас же снова женился на красивой девице шестнадцати лет, княжне Никаевой, от которой вскоре, к великой радости, прижил сына, нареченного Саввой, потом еще сына, названного Алексеем, и затем дочь, названную Дарьей. Старший сын стал любимцем дяди, и два Саввы не расставались. Когда восьмилетний Савва, простудившись, умер в одну ночь от какой-то детской болезни, пятидесятилетний Савва, крепкий на вид, стал страшно тосковать и через год, чуть не день в день, ушел за своим любимцем, маленьким Саввушкой.
Спустя года три умерла и его мать, вторая Басанова, и Аникита Ильич остался вдовцом с двумя детьми. Он стал собираться жениться в третий раз, но не иначе, как на такой, которая, кто бы она ни была, станет беременна… И не мало минуло в доме мимолетных любимиц.
III
Высокса, получившая свое имя от маленькой, чуть видной речонки, не имела вида большой барской усадьбы со службами. Она была с виду посад или местечко, или даже уездный городок, хотя с начала ее возникновения прошло только двадцать пять лет.
Барские палаты в три этажа с двумя крылами стояли на небольшой площади если не мощеной, то с твердым кремнистым грунтом, утрамбованным отбросами руды с заводов.
Прямо перед домом, но под горой, или как бы в огромном овраге, была заводская домна с высокими каменными, вечно дымящимися трубами. Налево расстилалось большое полутораверстное озеро, окруженное лесами… Озеро уходило, заворачивало влево, скрывалось из виду за лесом и казалось еще больше и шире. Невдалеке от большого дома высилась главная церковь среди площади, а кругом нее и лицом к ней протянулись небольшие домики духовенства и главных заводских заправил, и вольных, и крепостных. Здесь были домики главного управителя заводов и трех главных смотрителей. Направо от дома через площадь торчало неуклюжее здание, казавшееся с одной стороны треугольным, с другой — пятиугольным, где была коллегия, т. е. главное управление. Над ним, посредине, высилась тяжелая четырехугольная башня с часами, гулкий бой которых был слышен далеко, в тихую погоду за версту. Имя «коллегии» было, конечно, прихотью владельца.
Затем начиналась улица, на которую выходили все службы, конюшни, сараи, кладовые… Все это было равно каменное, но разнокалиберное, будто строившееся без толку, или будто на время, или же ради прихоти.
После ряда этих зданий, больших и малых, открывалось большое пустое пространство, где еженедельно бывал базар. В глубине налево виднелось темное здание в два этажа с высокой крутой башней, или каланчой. Это была полиция, где жило тридцать человек стражников, имя которых было местное: «рунты»[6]… Полицейские эти двух сортов, старшие и младшие, были под командой обер-рунта, грозы всей Высоксы.
Здесь во дворе стояли бочки на дрогах, всегда полные воды, а в конюшнях до дюжины рунтовых лошадей, которые употреблялись только ими: или закладывались в бочки в случае пожара или оседлывались для рунтов, когда их «гоняли» с поручениями по заводам или в уездный город.
Вдоль базарной площади или поляны тянулись в ряд дома и домики, где помещались главные мастера, между которыми были и иностранцы.
Затем далее, в полуверсте, была слобода, где жили заводские крестьяне… но слобода эта была тоже целый городок, так как к одной Высоксе было приписано десять тысяч душ обоего пола.
У слободы была своя церковь, которую звали малой. Рабочий люд не имел права являться в большую церковь, которая впрочем и без них бывала в праздничные дни полнехонька «важными» людьми, начиная с семейств приживальщиков и кончая разными управителями и смотрителями с семьями.
Кругом всей Высоксы стояли вековые сосновые леса. Во все стороны на десятки верст и по трем большим дорогам сплошной массой теснился непроходимый лес. В иных местах и народное название его было: «стена». Это были места, в которых топор никогда не бывал и через которые пролезть было совершенно невозможно. Здесь, конечно, были царства не только волков и лисиц, но и медведей в большем количестве.
Впрочем, мишки особенно любопытные или легкомысленные появлялись изредка и в самой Высоксе, где, конечно, находили большею частью смерть. Барин платил вообще за каждого убитого медведя два рубля. А это были деньги немалые. До полусотни охотников на Высоксе не только жили, но богатели по милости указанного и награждаемого барином истребления этих опасных и многочисленных соседей.
Наконец, в нескольких верстах, в трех, в пяти и в десяти — были другие железные и чугунные заводь:. Самый дальний был проволочный завод.
Границ владений барина Басман-Басанова никто не знал. Да и сам он, казалось, или не знал, или не хотел знать. Старожилы помнили хорошо, что места, которые считались всего лет десять назад казенными, теперь считались бариновыми.
«Да и все-то… все… откуда взялось?!»
Впрочем, из-за отсутствия или неизвестности границ бывали и неприятности с губернскими властями.
Но все такое сходило с рук просто. Однажды казенный лесничий, вновь назначенный по соседству с Высоксой, стал воевать с барином Аникитой Ильичом и добился присылки ревизоров и землемеров. Но сам он вдруг умер и странной смертью: холодного квасу выпил у себя же дома…
А ревизия явилась, пожила в Высоксе с неделю, пировала всякий день, угощаемая барином, и уехала… Когда чиновники, и важные и мелкие, прощались с барином и говорили «до свиданья», барин отвечал, махнув рукой:
— Нет. Спасибо… Ну вас! Разве еще заведется какой буян, и мне опять придется его сплавлять, а вы приедете меня рассуживать. Но только, чур, говорю вперед. Чур!
Впрочем, все наместничество давно знало, что Басанова надо «чураться».
Громадный дом, почти дворец, выстроился не сразу. Сначала он был двухэтажный, а только после смерти Саввы Ильича брат не пожелал жить в тех комнатах, где они вместе провели много лет, живя душа в душу.
Аникита Ильич пристроил для себя мезонин в семь комнат, но через три года увеличил его и расширил во весь дом, чтобы перевести свою личную канцелярию. Теперь весь верх был занят барином, и люди, говоря о нем, говорили «верх» или «вверху». Они даже выражались: «Ныне вверху простудимшись». Или: «Погоди, верх узнает, задаст трепку!»
Во втором этаже были все парадные комнаты: три гостиных, китайская комната и итальянская, или портретная. Здесь висел на главном месте портрет Саввы Ильича, а по бокам его две императрицы: Анна и Елизавета. На противоположной стене был большой портрет царствующей государыни «благодетельницы», как звал ее барин. После гостиных были две залы: первая служила столовой, вторая, чрезвычайно больших размеров, предназначалась только для вечеров, празднеств и пиров, бывавших однако не более пяти-шести раз в году. В этой зале висел огромный портрет, целая картина, изображавшая первого императора, особенно чтимого обоими братьями Басман-Басановыми. Портрет этот кисти иностранного художника прибыл на корабле из Голландии и обошелся крайне дорого. В этом же зале большие английские часы играли целый концерт в полдень.
В стороне от гостиных, но окнами в сад, были комнаты троюродной внучки барина, однако именуемой племянницей, Сусанны Юрьевны Касаткиной. Из ее гостиной был выход на небольшую террасу с маленькой лестницей в сад, но особенной, подъемной… Устроил ее немец-механик.
В правом крыле дома, выдвигавшемся в сад и полузакрытом от дома липами, были комнаты молодого барина Алексея Аникитича, с особой террасой и с особым подъездом с улицы.
В левом крыле передняя часть принадлежала «маленькой» — как звали ее — барышне, Дарье Аникитишне, жившей со своей няней, бывшей крепостной, Матвеевной. В задней части крыла, но без сообщения с комнатами барышни, было помещение Никаевых — князя, его сына и дочери.
Все эти отдельные квартиры были вполне особняками со своими подъездами и выходами. При всех была своя отдельная прислуга и свое маленькое хозяйство… Даже свой собственный особый отпечаток замечался во всех этих помещениях.
У барина «вверху» сновал народ, кипело дело. У племянницы бывало иное оживление — гости и прием. У молодого барина царила мертвая тишина, как если бы все правое крыло дома было необитаемо. У «маленькой» барышни было тоже сравнительно тихо, тише, чем могло бы быть, так как ее юные приятельницы, шумевшие у себя, в гостях у нее притихали, будто из подражания ей.
Только в нижнем этаже дома было всегда шумно, но на особый бестолковый лад. Здесь была вечная междоусобица и война. Все сновали и шумели перебраниваясь. А всех было множество.
Нижний этаж дома был отдан приживальщикам, и в нем помещались, имея по три и даже по пяти и шести комнат, самые разношерстные дармоеды.
Целая орава этих людей разного происхождения, по мнению дворни, жила как у Христа за пазухой.
Эти люди были сыты, одеты и обуты на счет барина, а работы не имели никакой, ответственности поэтому тоже никакой. На них грозный барин не имел ни случая, ни повода сердиться. Разве кто из них «с жиру взбесится» и пойдет безобразничать.
Впрочем, их безобразничанье не бывало никогда пьянство или буйство. За подобное барин изгонял виновного немедленно из дома и с Высоксы. Единственный повод, когда нахлебник шумел, был всегда один и тот же… Или он жаловался, что его обделили месячной провизией, мукой, свечами или сахаром; или же он жаловался, что какой-нибудь холоп его оскорбил, обидел непочтением, грубостью, попреком. Впрочем, щепетильнее этих приживальщиков, казалось, и найти было бы нельзя.
Весь нижний этаж разделялся на шесть частей, разделенных двумя коридорами.
Тут жила главная нахлебническая семья, самая многочисленная, состоявшая из восьми душ и наиболее скромная и любимая дворовыми. Это была семья Василия Васильевича Ильева с женой, тремя дочерьми, двумя сыновьями и сестрой.
Они занимали главную, самую большую квартиру окнами в сад, комнат в семь.
Против них в четырех комнатах жила старуха Марья Афанасьевна Бобрищева с двумя мальчиками, в качестве дальней родственницы первой жены Аникиты Ильича. Затем, рядом с ними, помещались две старые девицы, тоже дворянки, дочери секунд-майора, Клавдия и Людмила Саввишны Тотолмины. Девицы попали к Басанову на хлеб по исключительному поводу. Они просто явились с просьбой помочь им, но случайно попали вскоре после смерти Саввы Ильича. И Басанов, горевавший о брате, оставил их навсегда у себя на хлебах только за то, что они оказались по батюшке Саввишны.
Тут же жил одинокий, страшно толстый, с огромным животом пандурский капитан Константин Константинович Константинов. И его призрел у себя Басанов неведомо как и почему, вероятно, за однозвучные имя, отчество и фамилию.
Впрочем, изредка, раза два в месяц, Басанов любил поиграть в бостон, а его неизменные партнеры были князь Никаев и капитан Константинов.
IV
Когда барин спускался сверху, в доме всегда происходил легкий переполох, дворня, дежурная дюжина и лакей в буфете, насторожившись, пропускали его. Аникита Ильич ежедневно в два часа отправлялся на краткую прогулку в сад, так как ровно в три был обед и при первом ударе на башне все садились за стол.
На этот раз, однако, он из залы не прошел на террасу, с которой обыкновенно спускался в правую липовую аллею, а, пройдя портретную, вступил в правое крыло дома, где была «половина», или комнаты, его сына…
Старик крайне редко бывал у сына, за исключением дней его рождения, именин или какого-нибудь особенного случая… Теперь уже недели с две он ежедневно заходил к сыну на несколько мгновений.
Причина была на это особая и важная.
Сын, молодой человек двадцати трех лет, лежал в постели, не болел, не страдал, а постепенно ослабевал.
Еще зимой молодой Алексей Аникитич чувствовал себя плохо, весной стал худеть и слабеть, а в мае месяце стал «прикладываться».
Старик сердился на сына, говорил, что он блажит и на себя напускает, но за один апрель месяц убедился тоже, что дело неладно…
Теперь все в доме, да и во всем наместничестве знали, что единственный наследник громадного состояния, будущей судьбе которого всегда столь многие завидовали, медленно угасает.
За последнее время больной не вставал вовсе с постели. Его поднимали и перекладывали на диван через каждые сутки, чтобы поправить постель.
Помимо доктора и фельдшера, которые служили при заводах, Аникита Ильич уже выписал доктора-немца из Москвы, который остался жить и лечить молодого человека, но почти ежедневно докладывал барину, что его присутствие излишне, что положение Ильного безнадежно… Единственное, что могло бы прежде спасти его, — это отъезд, путешествие на юг, за границу, на теплые воды, где и воздух другой… Но на это Аникита Ильич отвечал:
— Еще что поглупее выдумай!
Поездка сына в чужие края казалась старику нелепостью, и улучшение от якобы «другого» воздуха хитрой выдумкой немца.
— Воздух российский, видишь, хуже немецкого или французского! — презрительно говорил он.
Доктор Вениус вообще напрасно объяснял Басанову, что воздух, как и теплый климат, воды или купанья в море, целительнее лекарств. Впрочем, он прибавлял, что это следовало сделать еще зимой или весной, а теперь поздно…
Аникита Ильич, проходя итальянскую гостиную, остановился на мгновение перед портретом брата Саввы Ильича, как делал каждый раз.
Затем он вошел в гостиную сына, обращенную теперь в спальню. В довольно большой комнате все занавесы на окнах были наполовину спущены, а окна, несмотря на июльские жаркие дни, затворены… Все в комнате пропиталось особым спертым воздухом и удушливым запахом.
В углу, на большой кровати, под тяжелыми суконными занавесами, лежал больной…
Изможденное лицо, желтое и испитое, при закрытых глазах, казалось лицом мертвеца… Но когда молодой человек открывал свои большие, красивые черные глаза — глаза князей Никаевых, — то лицо его принимало странное выражение. Взор горел, сверкал жизнью, силой, воодушевлением. Казалось, душа, покидая тело, перешла и оставалась пока, на время, только в глазах.
От массы черных курчавых волос, лохматившихся на подушке, испитое лицо казалось маленьким, и больной смахивал на 14-летнего отрока, так как, несмотря на слабость, дворянский обычай бриться строго соблюдался. Каждые три-четыре дня цирюльник брил молодого человека. Сам больной, конечно, предпочел бы избегнуть этого, так как все подобное утомляло его и отнимало последние силы, но отец настаивал на «благоприличии».
Аникита Ильич, войдя в полутемную комнату, прищурился, как от света… Он видел постель, белую подушку и среди нее черные кудри, но лица разглядеть не мог…
— Алеша, не спишь? — выговорил он.
— Нет, — тихо отозвался молодой человек, хотя действительно при появлении отца находился, как и всегда, в полудремотном состоянии.
— Ну, что? Все то же? — спросил старик.
— То же… — еще тише ответил больной.
— Так и будет! Так и будет! Хуже будет! — заговорил Аникита Ильич, садясь в кресло у самой кровати. — Даже и помереть этак можно…
— Я и то… помираю… Чую, что… недолго…
— Эвона! Ври больше… Слушался бы меня, ничего этого давно бы не было, давно бы был на ногах. Вот немец наш на что упрям, а со мной согласен, когда я сказываю…
— Не могу, батюшка… Слабость…
— Враки! Приневолься… Я по себе сужу… Не хочется, а встань, сядь… Не хочется, а ешь и больше… Раза четыре в день… А там в сад… Пройдись. Ну, хоть до фонтана и назад. А завтра малость побольше съешь и малость побольше пройдись… Что?
Молодой человек ничего не отвечал. Он слышал эти слова и эти советы все в тех же выражениях почти ежедневно, иногда длиннее, подробнее, красноречивее, с оттенком даже гнева или досады. Старик был убежден, что во всякой хворости не надо «даваться». Он никогда сам не поддавался болезни, в постель не ложился и был на седьмом десятке лет так же бодр, как и в сорок лет. Но он не знал, конечно, того, что он сам собственно никогда не болел серьезно за всю свою жизнь. Как не верил он в то, что сын не может себя приневолить встать, поесть и пройтись, так же не хотел он верить заявлениям доктора Вениуса, что сын в безнадежном положении…
Старик почти ежедневно ожидал, что сыну полегчает. Когда приезжие гости намекали, что молодой человек очень плох, Аникита Ильич сердился. Свои домашние не смели это говорить. Льстецы говорили часто:
— Вот как только барин молодой встанет, так мы пир горой устроим!
Сидя у кровати спиной к окнам и, наконец, приглядевшись к лицу сына, Аникита Ильич вдруг выговорил…
— Скажи на милость!.. А-я-яй! Как ты себя лежанием ухаживаешь. Лицо-то все худее да худее… Сегодня почитай хуже вчерашнего… Только глаза прыгают, а то бы и совсем мертвец. Вот уж можно впрямь сказать: «краше в гроб кладут».
— Мне… мне… хуже… — заговорил больной слабым голосом. — Ночью было не хорошо… Думал — совсем… Хотел, батюшка, к вам…
— Что хотел?
— Дослать… Думал, что…
— А ты не думай. Всех вас ныне заело это… Последний дурак и тот все думает. Мы не думали никогда с братом Саввушкой. Когда в эти здешние леса пришли, то прямо за топор взялись. И давай ухать… тяп да ляп, и корап соорудили. А нонешняя молодежь да и сорокалетние во всяком деле все думают. Пороть бы их за это думанье.
И Аникита Ильич заговорил на свою любимую тему, как нынешние люди плоше прежних… А равно и на другую еще более любимую тему, как он с братом основал Высокские заводы.
Больной уже раза три слабым голосом перебивал отца словом: — Батюшка! — но старик не слыхал или не обратил внимания.
— Батюшка! Родитель! — громче, но дрябло произнес молодой человек, двинувшись в постели.
— Ну? Что?
— Я, батюшка, хочу… исповедоваться и причаститься.
Старик молчал, как бы взятый врасплох…
— Я хочу тоже и вам, батюшка, все… много сказать… Тяжко на душе… После исповеди и причастия я и вам…
— Что же? Пожалуй… греха тут нет! — угрюмо ответил наконец Аникита Ильич, с оттенком досады в голосе. — Но причащаются только умирающие… А ты зря ведь, Алеша…
— Надо! Надо! — горячо воскликнул молодой человек. — И мне вам надо… да хоть вот и сейчас. Надо все сказать… правду…
— Говори, говори, что хочешь… Только я, Алеша, тебя, право, не пойму… который раз ты так-то сказываешь… «Надо да надо! Сказать всю правду!» А там замолчишь, и нет ничего!.. Скажешь: «после, мол»…
Пока отец и сын разговаривали, за приотворенной дверью уже давно стояла и прислушивалась внимательно высокая и стройная молодая женщина… Когда барин спускался еще от себя в главный парадный этаж, тот же мальчуган, который предупредил дежурную дюжину, прямо промчался в апартаменты «барышни» и предупредил и ее, что Аникита Ильич идет либо гулять, либо к молодому барину. И барышня Сусанна Юрьевна Касаткина немедленно двинулась тоже, обождала у себя за дверью, чтобы старик прошел, а затем, видя, что он направился на половину сына, она явилась вслед за ним, приотворила дверь спальни и стала… прислушиваясь к разговору.
Когда молодой человек воскликнул: — Надо все сказать! — она быстро вошла в комнату и молча подошла к его постели. Больной при виде ее сильно двинулся, будто дернулся на постели и, тотчас отвернувшись лицом к стене, глубоко вздохнул.
— Ну, что же? Только того и будет? — спросил старик.
Сын не отвечал, а племянница вымолвила холодно:
— Что такое?
— Да все тоже… который раз… Собирается мне изъяснить важное что-то. А как ты в двери, так молчка. При тебе, что ли не хочет.
И Аникита Ильич прибавил громче:
— Алеша! При Санне не хочешь? Так она уйдет. Но полагаю, что и при ней…
— У Алеши от меня никаких тайн нет, — твердо и как-то повелительно перебила его Сусанна Юрьевна. — А такое, чтобы от меня утаить да вам, дяденька, поведать, и совсем не может быть, потому что я Алеше более близкий человек, чем вы, родной отец. Он мне что брат, сын и муж вместе…
— Слыхал… Знаю… Да вот, опять, сейчас…
— Все это пустое… Так!.. От тоски лежания всякие мысли диковинные в голову ему лезут! Так ведь, Алеша? — и она села на кровать, положила руку на грудь больного.
Тот вздохнул снова и снова промолчал.
Аникита Ильич посидел еще минут десять, рассуждая на ту же тему, что здоровый человек может «наваляться» и заболеть. Затем он поднялся со словами:
— Не могу я тут долго быть… Дохнешь… Духотища да и вонища. Точно кладовая, где смоквы сушат. Ну, прости Алексей. Ввечеру наведаюсь…
Каждый раз старик-отец уходил с этими одними и теми же словами и обещанием зайти вновь… Но вновь он заходил только на следующий день перед обедом и старался пробыть как можно меньше.
V
Из всех машин русских и заморских, которые действовали на заводах Высоксы, самая лучшая, крепкая, тщательно и притом бессменно работавшая уже более двух десятков лет, был сам владелец, шестидесятитрехлетний человек.
Аникита Ильич вставал в восемь часов зимой и в шесть часов летом…
Когда он просыпался, первые его слова, всегда говоримые вслух, были:
— Помилуй, Господи, на нонешний день, вразуми, оборони, внезапного конца избави.
Затем, перекрестившись, он восклицал:
— Масеич…
Дверь спальни отворялась тотчас, и в ней появлялся камердинер барина, двадцать семь лет ему служащий, Никифор Моисеев Шлыков, бывший донской казак, молчавший о своем прошлом, о своей молодости. И только один барин знал давно это прошлое своего любимца… Одно слово барина могло по закону угнать Масеича в Сибирь, но барин, конечно, никогда этого слова не сказал бы. Он любил Масеича, быть может, больше, чем кого-либо, но этого даже не сознавал. Когда Масеич раз в год, а то и в два, хворал и не являлся, Аникита Ильич был не в духе, раздражителен и сам себя чувствовал точно хворым. А тот горемычный, который заменял хворающего, конечно, висел на волосок он гнева раздосадованного барина.
Впрочем, за последние пять лет Масеича в случае болезни заменял его сын, двадцатидвухлетний Никишка, крестник барина и совершенно его не боявшийся, один, пожалуй, на всю Высоксу.
Масеич вставал часом ранее барина, проходил по особой лестнице и садился за дверью. Жил он с семьей в собственном доме около большой церкви, но к часу пробуждения барина был неизменно на своем месте.
Аникита Ильич, позвав и увидя Масеича, всегда спрашивал:
— Ну, что?..
Или просто отзывался из постели:
— Ну?
Масеич всегда отвечал кратко, одним словом:
— Светло… Светлехонько… Горит!.. Тянет… Нависло… Дождит. Хлещет…
Все это были давнишние, раз навсегда принятые барометрические показания.
Объяснения «тянет» Масеич не любил и избегал. За это слово ему часто доставалось. Конечно, простой попрек никогда не шел далее названия «слепой курицы». Показание «тянет» значило, что приближается с небосклона туча летом или свинцовый кругозор грозит метелью… И, разумеется, камердинер часто ошибался: дождя и метели не было.
Поднявшись с постели, Аникита Ильич тотчас переходил в маленькую комнату около спальни с каменным полом, с одним маленьким окном, куда светило ярко восходящее солнце. Зимой, еще среди темноты или полусумрака рассвета, в углу комнатки горели четыре свечи в большом канделябре.
Здесь старик сбрасывал белье и влезал в широкую ванну, сгибался в три погибели или становился на колени, а Масеич брал ведро в руки и начинал медленно поливать барина… Зимой это была вода, принесенная за час перед тем и лишь изредка разбавленная теплой водой. Летом вода приносилась с погреба и приготовлялась с вечера, то есть насыщалась льдом…
Несмотря на долголетнюю привычку к обливаньям ледяной водой, старик все-таки «ухал» и синел…
Но, выйдя из ванны и вытираясь с помощью Масеича, он быстро «отходил» и в эту минуту всегда смотрел веселее и ласковее, чем за все другие минуты дня.
— Вот простая, глупая выдумка, а нужно было ее англичанину выдумать. Русский человек не додумался! — часто говорил старик, как бы из какой-то потребности сказать это. Масеич, слышавший эти слова тысячи раз, отвечал всегда кратко:
— Д-да-с…
И только изредка он прибавлял что-либо, не вполне соглашаясь с барином.
— У нас тоже, по православному обыкновению, народ из бани зимой выбегает и в снегу валяется… — замечал он.
— Это другое совсем, глупая голова! — отвечал барин. — Со снегу-то они опять в жар да в пар лезут, а я тут сам себя должен согреть…
И, действительно, после холодного обливания, Аникита Ильич добивался того, что чувствовал себя слегка вспотевшим или вскоре же, или после минут десяти или пятнадцати.
Для этого у дверей спальни, в прихожей комнате, где всегда ожидал Масеич его пробуждения, стояли козлы, а на них лежало огромное бревно, вершков в шесть толщиной, иногда и в пол-аршина…
Аникита Ильич брал большую голландскую пилу, выписанную из Петербурга, и начинал пилить бревно, вернее, отпиливать от края бревна кружок… В деле этом старик дошел до такого искусства, что отпиливал тончайший кружочек, который можно было просверлить пальцем, как пряник.
Но в этом пилении бревна, как и во всем, что делал Басанов, была особая «повадка», была метода. Иногда он отпиливал полкружка и бросал до завтра. Иногда он отпиливал два и три кружка и пилил мерно, не спеша, минут десять, двадцать.
— Что… Аль ноне горячее водица была? — спрашивал Масеич при виде начатого второго кружка, доказывавшего, что барин больше прозяб…
После пиления старик переходил в свою рабочую комнату, или кабинет. Здесь, на столике, уже стояла хрустальная стопа и большой стакан. Он начинал ходить взад и вперед из угла в угол и, подходя к столику, отпивал большими глотками из стакана через каждую минуту. Питье было мутно-белое, по виду почти простое молоко, но в действительности — особенное снадобье, которое не только пояснять, но и показывать кому-либо Аникита Ильич не любил.
Являлось это питье каждые три дня, привозимое молодым парнем за двадцать верст от Высоксы, из хутора, где жила одна уже старая женщина, калмычка, готовившая его.
Многие, конечно, знали, что привозит парень, откуда и для кого, но болтать об этом было строго запрещено… Тайком и шепотом иные передавали, что пронюхали на хуторе, но не многие верили. Пронюхавшие уверяли, что на хуторе, где есть и кони, калмычка, по имени Ешка, доит кобыл. Что питье бариново — кобылье молоко, в которое колдунья-знахарка примешивает разные травы, а главным образом — «люб-траву».
— Оттого барин, несмотря на свои годы, все еще и зарится на женский пол! — объясняли они.
Но зная, что пить кобылье молоко — грех, и что люб-травы никто еще в глаза никогда не видал, народ плохо верил объяснению.
— Просто знахарки но снадобье для крепости и долгоденствия! — решили умнейшие…
Аникита Ильич, пивший это снадобье уже несколько лет почти ежедневно, не любил, чтобы к нему в это время кто-либо, помимо Масеича, входил. Он скрывал это тщательно. Масеич приносил бутылку, опоражнивал ее в стопу, а если что оставалось в ней, то он или сам Басанов аккуратно выливали остаток в грязное ведро или за окошко. Несмотря на эти меры предосторожности, конечно, по всей Высоксе все-таки все знали, что барину привозится всегда с хутора «калмычкино зелье». Но наверное узнать, каково оно на вкус и из чего состоит, не удавалось, ибо охотников лезть и разузнавать не было. Все помнили случай с одним молодым крестьянином.
Парень хвастался, что, пробыв на хуторе неделю, он доподлинно узнал, что именно барину готовит старая Ешка.
— Эвто татарская буза, — объяснял он. — Кто ею набузится, — тот солому ломит и дерево рвет с корнями!
И парень-болтун исчез бесследно.
Такие «пропажи» случались в Высоксе.
Через час после своего питья Аникита Ильич пил чай, иногда заморский кофе, который дворяне стали пить в подражание великой царице, любившей этот напиток.
Затем барин принимался за дела. Через коридор, против дверей его приемной комнаты, где была его личная контора, с семи часов утра появлялись и садились за работу главный конторщик Пастухов, умный и дельный человек, лет тридцати, его помощник Ильев и пятеро писцов.
Только главные дела шли через контору самого барина, а все текущие дела сосредоточивались в особом здании, недалеко от барских палат, в «коллегии», как прозвал Басанов главное управление своих заводов. В коллегии начальствовал коллежский правитель Барабанов, и при нем два помощника и полторы дюжины писарей.
Письменные сношения заводов Высоксы со столицами, с государственными учреждениями и с некоторыми важными сановниками были очень велики и обширны. Коллегия видала у себя такие бумаги, под которыми стояли имена: князя Потемкина-Таврического, князей Вяземского и Безбородки, Трощинского и иных.
Правительственные заказы были частые и важные, на крупные суммы. И Высокские заводы считались самыми аккуратными в поставке.
Доклад конторщика Пастухова, затем доклад и беседа с Барабановым брали ежедневно все время до десяти и одиннадцати часов. Ровно в одиннадцать Аникита Ильич «морил червячка».
В его маленькой столовой подавался завтрак в одно блюдо мясное и одно немецкое, то есть овощи под каким-либо соусом.
С полудня до двух часов шел прием просителей в приемной и в коридоре.
В приемной появлялись и соседние дворяне, и приезжие по делам из столиц и из далеких краев России: и чиновники, и купцы, и всякий люд — не мужик.
В коридоре всегда ждала толпа человек с полсотни, иногда и более — сплошь крестьяне, мастеровые с заводов и мужики дальних деревень. Иногда появлялись и бабы с детьми.
Всякий раб барина Аникиты Ильича имел до него доступ, мог явиться, не спрашиваясь ни у кого, прямо в палаты и «наверх», и объяснить барину свое дело, свою нужду, свою жалобу.
Избави Бог, если б кто из сторожей, сотских[7], заводских смотрителей или конторских вздумал помешать кому-либо идти прямо к барину.
Жалоба «меня допустить не хотели», раз доказанная, имела последствием такое наказание виновного, которое устрашало всякого.
Бывали поэтому случаи жалоб не только на главного управителя Барабанова, или на Масеича, или на приживальщиков, но даже два три раза явились жалобщики на молодого барина Алексея Аникитича за самоуправство и на барышню Сусанну Юрьевну за обиду.
И барин рассуживал тотчас же, призывая на расправу обвиняемого и ставя его рядом с обвинителем.
— Для меня все равны! — говорил он. — Сын родной в неправде какой — ровня предо мной с моим рабом.
Если дело было глупое и нелепое, если жалоба была неправильная, Аникита Ильич рассуживал и вразумлял, но никогда, не только не взыскивал, но даже не говорил ни единого гневного слова.
— Избави Бог серчать! — объяснял он. — Отобьет охоту ходить до меня… и ничего я не буду знать… Будет в Высоксе вместо одного Аникиты Ильича, сто Аникит Ильичев, сто баринов, — и пойдет кровопийство, Шемякин суд, утеснения и гонения, всякие мерзости и народное крестьянское отчаяние.
Разумеется, все дивились, что барин, крайне строгий и суровый, почти злой, добродушно выслушивал самого отпетого дурня-мужика, а то и дурафью-бабу… При этом с «дальними» он был мягче, чем с «близкими». Дворня в усадьбе трепетала чуть не ежедневно… Мужик-дуболом, свинопас или рыбак с озера, не робея, лезли, даже спорили с барином и, поясняя свое дело или жалобу, приговаривали:
— Э-эх, барин, ба-арин. Ничаво ты, видишь, не смыслишь.
— Толком тебе, брат, сказывают…
— Аль тебе не вдолбишь… Слышь-ка… пойми…
Один дальний крестьянин дровосек, никогда не видавший барина в лицо и явившийся однажды с жалобой совершенно бессмысленной, сказал, выслушав суд и доводы Аникиты Ильича…
— Д-да… Вон оно… Стало, все один отвод глазам. Вижу я, ты не барин наш, а тебя вон эти подставили… Ну, погоди же, ерник… Попадется мне барин на улице, я ему все выложу… Он вам за это кожу всем спустит!
Подобные случаи делали Аникиту Ильича веселым и почти добродушным на целый день.
В два часа Басанов, несколько уставший, шел гулять в сад и шагал бодро, шибко, но правильно и мерно, по большой главной аллее взад и вперед. Десять концов по этой аллее, именуемой «Московской», равнялись четырем верстам.
Когда башенные часы готовились бить три часа, казачок Фунька, сопровождавший барина боковой маленькой дорожкой на случай приказания и посылки, подбегал и докладывал:
— Сейчас бить учнут-с…
— Тебя? — изредка спрашивал барин.
Вообще Аникита Ильич любил повторять и повторяться… Иные его поступки, шутки, слова казались ему настолько умными и удачными, что их, по его мнению, следовало повторять.
Когда барин являлся из сада в малую столовую залу, то все были уже в сборе и ждали, стоя кругом накрытого стола, каждый у своего места.
Кто-нибудь из молодых приживальщиков, но чаще всех юный князь Никаев, Юлий, читали молитву… Барин садился первым, все усаживались, когда он уже сидя раскладывал на коленях салфетку.
После обеда все вставали прежде барина, но не отходили, а ждали стоя у своих мест, чтобы он поднялся.
В малой зале ежедневно садилось за стол около тридцати человек домочадцев и приживальщиков. По крайней мере дюжина из них была родней «с боку». Такова была вся семья Ильева, побочного троюродного брата Басанова.
За столом около барина, на левой стороне, всегда садилась красавица-племянница, направо почетный гость, которые не переводились… На место одного уехавшего являлось двое новых.
За столом шел всегда гул и шум. Басанов любил, чтобы все не стесняясь беседовали между собой. Через меру расходившегося и чересчур громко разговаривавшего он, однако, унимал…
— Эй… Что там?.. Ты! Громче кричи. В Питере не слышно! — говорил он, называя провинившегося по имени.
Сын и дочь садились около отца, но ниже племянницы, за ними следовали законные родственники Никаевы и Бобрищева, затем нахлебники из дворян, а затем уже побочные родственники Ильевы и наконец на краю стола — всякая мелкота.
После стола все переходили в большую «желтую» гостиную, в которой подавались всякие сласти, варенья, пряники, наливки, орехи…
У главного подъезда уже ждала барина заморская коляска четверкой великолепных лошадей с главным кучером Игнатом, выезжавшим только с барином. Но коляска появлялась, когда поездка предполагалась дальняя… Когда Аникита Ильич должен был побывать поблизости, за версту, за две, то он выезжал в одноколке[8] и правил сам своей любимой лошадью, серой, старой, начинающей уже слепнуть и спотыкаться… Когда-то очень красивой кобыле, по имени «Солдатка», было теперь уже семнадцать лет.
Объехав те заводы, те деревни или леса, те поля и места, где почему-либо присутствие его было в этот день необходимо, Аникита Ильич возвращался домой не ранее, как через часа два и три…
Сумерки проходили в безделье… Он шел в гости к любимице Санне, к дочери Дарьюшке, к Ильевым, к князю Никаеву…
В восемь или в девять часов, смотря по времени года, был снова стол, ужин.
Но за ужин садилось не более восьми или десяти человек. Все приживальщики ужинали каждый у себя с барской же кухни и получали почти то же самое, что и господа.
VI
Когда Басанов вышел от сына, молодая женщина проводила его за двери, видела, как он вышел в сад в сопровождении Фуньки, и затем вернулась в комнату больного…
Она снова села к нему на кровать, взяла его исхудалую желтую руку в свои и вздохнула, но не произнесла ни слова… Она думала о том разговоре, который прервала своим появлением и уже не в первый, а в четвертый раз… Он думал о том же, но молчал тоже и лежал, закрыв глаза. Прошло с полчаса… Изредка, однако, открыв глаза, он пристально смотрел на нее, и его взгляд принимал странное выражение. В нем была и любовь и скорбь… любовь пылкая и безумная к ней и скорбь, отчаяние, от ясного сознания своего безнадежного положения. Молодой человек и знал и чувствовал, что если душа его все еще кипит, еще способна на все земное, то тело перестает жить, уничтожается, будто тает… Уже часто он не ощущает этого своего тела, а смотрит на него, как на что-то чужое, независимое от него.
И теперь, зная, что он умирает, он продолжал все-таки любоваться этой женщиной, которая пять лет слишком была ему дорога, дороже всего на свете, была его божеством. Ей он отдал лучшие свои годы, отдал и жизнь…
Если бы не она, почем знать, может быть, он был бы теперь все тот же молодой, сильный, счастливый…
Она, нагнувшись над ним, тоже подолгу глядела ему в лицо, в глаза, уныло и грустно. Она тоже любила его много, быть может, более, чем кого-либо когда-либо…
Если он был тенью живого существа, то она, напротив, была воплощением живой, силы и красоты. Это была высокая, стройная красавица с лицом двадцатилетней девушки, а ей было уже двадцать семь. А все то, что она пережила за последние десять лет, могло бы легко сделать ее полу старухой.
Ее сильная пылкая натура не поддалась… Все, что другую подточило бы, сломило бы, для нее было потребностью, нуждой, жаждой, хлебом насущным.
Ее красивое лицо, с совершенно правильными чертами, было сурово или строго красиво. Большие глаза, черные, яркие, упорные, подчас грозные, ясно говорили, что сильная, твердая, не женская воля руководит ее помыслами и поступками.
Жизнь ее сложилась и слагалась ужасно! Если б не воля, то она давно бы или совсем погибла, или была бы несчастлива, как никто…
Вся Высокса знала, что барышня Сусанна Юрьевна — кремень нравом и неустрашима диковинно… Смеется, когда за нее вчуже страшно…
И если за ней есть грехи, есть и один великий грех, то Бог простит ей за доброту, за золотое сердце.
Но Высокса ошибалась. Именно сердца-то в красавице и не было… Был только бурный огонь в крови, владеющий ею, необоримый, которому она волей-неволей повиновалась. Властная с другими, сильная умом, лукавством и чарами своей чудной внешности, она была рабой собственной природы…
Когда больной понемногу крепко заснул, Сусанна тихо спустилась с кровати и вышла из комнаты. Вернувшись к себе, она, несколько взволнованная не села в кресло, а бросилась на ковер и легла, протянувшись. Это было ее привычкой.
Ее пожилая наперсница, Анна Фавстовна Угрюмова, тотчас заметила, что есть что-то новое, вероятно, неприятное, и, конечно, тотчас подсела к своей барышне.
— Ну, что там еще?.. — спросила она.
— Ничего.
— Вижу ведь… Говорите уж… С барином что?
— Нет, с Алешей говорила.
— И все опять о том же?
— Да. Боюсь я, не догляжу. Боюсь, пошлет он за ним тайком, а то ночью… да и бухнет все…
— Помилуй Бог! Вы бы ему так пояснили, что мол тебе все равно, если уж помираешь. А мне-то мол каково будет… Он ведь прогонит отсюда. Куда тогда идти, что делать?.. Вы бы так ему и сказали.
— Ах, Анна Фавстовна! — нетерпеливо выговорила Сусанна. — Вы все свое заладили. Сказываю вам в десятый раз, что эти разговоры у нас были… Сначала мне жалко было ему говорить прямо, что он помирает… Всякий помирающий все-таки в надежде, что он справится. Сам говорит: верно помру! А ждет, чтобы другой говорил ему противное и утешал. Так вот и Алеша. Ну, а вчера я ему сказала, что его положение не хорошее… Что же вышло? Стал просить сейчас же исповедаться и причаститься… Я, как всегда, говорю ему, успеется мол… А он говорит: «неправда, ты все только обещаешь»… И сегодня стал просить сам дяденьку Аникиту Ильича…
— Что же тот?
— Понятно, тотчас согласен. Вот, того гляди, завтра, а то и сегодня, пошлют за отцом Гавриилом…
Сусанна не договорила и махнула рукой.
— Да ведь духовник[9] не может рассказывать никому, что ему на духу сказано, — сказала Угрюмова.
— Толкуйте. Точно малое дитя… Призовет его к себе «Кита» и скажет: «ну-тка, отец Гавриил, что сынок-то больно грешен? Что он поведал? Выкладывай-ка!..» Тот все и скажет.
— А вы, моя золотая, сделайте, как я говорю. Пошлите за своим отцом Григорием. Побеседуйте допрежде того с ним… Гавриила мы спровадим в город, а Григория позовем с Причастием.
— Я уж сто разов собиралась так-то…
— Нечего собираться. Посылайте за ним тотчас и ему все и выложите. Покайтесь, будто на духу. Да и попросите крепко держать про себя. Поясните, что, если барин что узнает, вам погибель. Отец Григорий добрый. После того пускай идет исповедовать Алексея Аникитича… Знаючи все наперед, он не испужается… Пошлем-ка на проволочный завод.
Сусанна молчала.
— Что же? Ведь дело говорю… Не собирайтесь…
— Знаю. Знаю… Да вот…
— Что?
— Ах, Анна Фавстовна… Вчуже так все просто кажет! — воскликнула Сусанна.
— Совестно признаваться, что ли? Так он священник, не кто другой. Он, поди, на духу какие дела слыхал! Почище вашего… А что оно?.. Уж будто не весть какое страшное… Припрячьте, моя золотая, совесть, да и пошлем за Григорьем Проволочным.
— Какая тут совесть! — резко вымолвила Сусанна, и глаза ее сверкнули досадой, даже гневом. — Просто боюсь довериться. Я тяну, думаю, Алеша вдруг… ну, вдруг, сразу… в ночь…
— Что?
— Да помрет! А то что же еще!..
Наступило молчание. Анна Фавстовна стала размышлять и наконец сказала решительно:
— Хуже. Ей-Богу, хуже… этак тянуть. Боитеся, что барин за отцом пошлет среди ночи да бухнет. Боитеся также сами отца Григория допустить к нему, предупредивши… Как же тут? Надо порешить что-либо, и не мешкая.
И после нового молчания и раздумья женщина уже заговорила горячо и воодушевляясь.
— Вот моя правда и вышла. Сказывала я всегда, не троньте Алексея Аникитича. И грех, и беда… Ну, в грехи вы, вишь, бесстрашная, не верите. Так ради беды воздержались бы…
— Кто же мог этакое думать, — уныло говорила Сусанна, — что старая Кита переживет сына… Кто же мог ожидать, что Алеша в двадцать три года будет помирать… Конечно, и я виновата. Когда он зимой начал прихварывать, надо было нам обоим быть осторожнее… Мне его беречь следовало на все лады… Да и скоро как все потрафилось… Недель семь ли, шесть ли тому, еще, помните, верхом раз выезжал… А теперь вот совсем конец.
— Да конец ли? Враки немцевы, может…
— Конец, конец!..
— Немец говорит?
— Что мне Вениус! Я сама вижу. Всякий-то день разница… всякий-то день хуже… Уж теперь живой мертвец лежит, насилу говорить может.
И Сусанна, протянувшись ничком на ковре, скрестила перед собой руки и положила на них голову, скрывая лицо. Анна Фавстовна отошла и ушла к себе, зная, что когда ее красавица-барышня уляжется так, то лежит часами, как мертвая, не шевелится, но и не спит, а думает и думает…
«Надрывается, сокрушается о себе», — решила Угрюмова и не ошибалась. В эти часы вся жизнь Сусанны восставала и проходила в ее воображении…
VII
«Барышня», как, звали ее все, и все при этом названии знали, что дело идет о Сусанне Юрьевне, была, конечно, главным лицом в Высоксе после барина. Всем было известно, что она из барина строгого, крутого, часто жестокого, «веревочки вьет».
Сусанна приходилась Аниките Ильичу, собственно, внучкой, но почему-то называлась племянницей или просто родственницей, которую, не зная как определить, стали считать племянницей.
У Ильи Михайловича Басман-Басанова еще до рождения сыновей была в доме сирота-племянница, которую он выдал замуж за дворянина Касаткина и с того дня никогда не видал. Сыновья тоже не знавали двоюродной сестры и знали только, что от этого брака у нее родился сын, который, будучи «чудным» мальчиком, стал еще более «чуден», когда вырос… Звали его Егором.
Когда братья Басановы были в Петербурге на службе, то узнали, что их племянник — хотя на три года старше их — пропал без вести. Он покинул родительский кров, чтобы идти искать, как объяснил он, по свету царевну красоту.
И Егор пропадал около пятнадцати лет. Когда он снова наведался к родителям, то был уже почти сорокалетним мужчиной. Где он мыкался и что делал, он не объяснил, но проговаривался, что долго жил за границей, в королевстве Польском.
Прожив с отцом и матерью около полугода, Егор простился со словами загадочными:
— Ну, теперь в последний раз… Вряд ли на этом свете увидимся. Зато вместо себя «Юрьевну» пришлю.
Через два года после вторичного исчезновения сына, Касаткины получили письмо, которое привез проездом через их губернский город и дослал им в деревню с нарочным какой-то петербургский важный барин. Егор Касаткин писал, что живет в Грузии и собирается умирать «саморучно» в будущем октябре месяце, так как жить наскучило, ибо никакой от жизни пользы не видит. При этом он просил родительского благословения в путь на тот свет и, кроме того, прибавлял кратко:
«Девочку свою я на ваше попечение вышлю. Помру я, ее без отца и матери злые люди заедят».
Действительно, ровно через полгода какая-то барыня, помещица Воронежской губернии, приехала к Касаткиным и привезла к ним чрезвычайно красивую девочку пяти-шести лет. Она объяснила, что ребенка ей передала богатая казачка войска Донского, а что сама она, эта казачка, получила девочку от какого-то капитана, который ее вывез и довез ей прямо из Грузинского царства.
Барыня повторила то, что ей сказать велели деду и бабке, то есть, что их сын застрелился, а девочка осталась одинехонька и круглая сирота.
Две бумаги, свидетельства о браке и рождении, привезенные и переданные Касаткиным, доказывали, что ребенок рожден от законного брака «Юрья» Касаткина с девицей… имени разобрать было нельзя… Выходило всякое… Выходило: «Амалия-Клара»… Равно можно было прочесть: «Амилохвара».
Сельский батюшка, позванный на совет и чтение документа, прочел: «А была хворая»… После этих неразборчивых слов стояло слово крупными литерами: «Чадиэ».
В метрике было сказано, что девочка наречена Сусанной.
Была ли это фамилия матери или иное что, конечно, никто понять не мог. Касаткиных удивило тоже, почему сын Егор был назван Юрьем.
Но главное было ясно… Было неопровержимо, что маленькая Сусанна дочь их сына и, стало быть, родная внучка. Этого было достаточно, чтобы старики, одинокие и добрые, печаловавшиеся постоянно на судьбу сына, приняли девочку в распростертые объятья.
Вскоре, конечно, старики уже обожали маленькую Сусанну и были в полном рабстве у красивой, прихотливой, своевольной, умной, но недоброй девочки. Старуха плакала от нее, и старик охал и горевал, какой нрав у их внучки… Но обожание и исполнение малейших желаний девочки шло своим чередом. Даже «отчество» уступили ей. Старикам хотелось, чтобы внучку звали Сусанной Егоровной. Но девочка обижалась, из себя выходила от этого величания и осталась «Юрьевной».
Так прошло, промелькнуло десять с лишком лет… Девочка стала девицей и замечательной красавицей. Все дивились ей, ее глазам, ее волосам, и все находили, что она не русская.
Неразобранные в документе слова, замысловатые, странные «Амалия-Клара» или «Амилохвара» и наконец «Чадиэ», если и не могли ничего объяснить, то во всяком случае заставляли не считать Сусанну, по матери, русской девицей.
Много и часто толкуя об этом обстоятельстве, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, старики Касаткины вместе с друзьями и соседями решили, что мать их внучки — полька, немка, грузинка или армянка.
Сама Сусанна помнила хорошо отца, помнила даже, как он лежит мертвый на диване, а она плачет и боится…
Матери она не помнила… Помнила однако, что прежде Кавказа, грузин и их языка она видела себя в другом краю с другими людьми, не такими черными, и слышала кругом себя другой язык, не грузинский. Понемногу выяснилось, что это была Польша… Сусанна, слыша польскую речь, вспоминала и узнавала слова, которые когда-то как будто хорошо знала и сама говорила.
Но была ли мать ее полька или грузинка, она не знала. Только по характеру лица ее, по удивительной красоте, смуглоте тела все были того мнения, что Сусанна скорее грузинка или вообще «кавказка». И это определение стало ее прозвищем во всем околотке, где все знали ее.
Впрочем, вскоре красавица-кавказка прошумела…
В семье мирных стариков с бойкой внучкой случилось совершенно невероятное происшествие.
Ради развлечения, чтобы повеселить семнадцатилетнюю Сусанну, старики собрались на рождественские праздники в губернский город, но затем запоздали и прожили до масленицы.
Да и нельзя было уехать. Неблагоразумно и нерасчетливо. Все старые и новые друзья Касаткиных советовали им оставаться ради счастия их красавицы и умницы внучки.
Сусанна всех обворожила своим лицом и своим обращением. Вся молодежь была в нее влюблена, а пожилые и старые чуть не на руках носили. Ни единой маленькой вечеринки, не только общего собрания или бала, не обходилось без нее. И всюду всегда она была первая.
Сам наместник, уже пожилой, деловитый и серьезный человек, занятый исключительно своим делом, управлением, полушутя повиновался молодой девушке, бросал дело и являлся туда, куда она тоже шутя, но настойчиво, ему приказывала приехать. Было у наместника семейство, с которым он враждовал — бывшего предводителя… Сусанна побилась об заклад, что помирит две семьи, — и выиграла.
Старший сын наместника, двадцатилетний молодой человек, был сильно увлечен девицей Касаткиной, как и все другие… Всюду говорили, что дело пахнет браком, а отец, «плясавший под Сусанину дудку», ничего против такого брака иметь бы не мог, а то как раз обвинят его в том, что он, вдовец, сам на нее «глаза закидывает».
Однако случилось совсем не то, чего ожидало общество. И случилось нежданно, прогремело и ударило, как гром с небеси.
После Крещения приехал в город из Петербурга важный сановник, еще молодой, тридцатипятилетний человек, чрезвычайно красивый, имевший большое значение при дворе. Несмотря на свои года, он уже был при двух звездах и лентах, да, кроме того, имел большое состояние, получив недавно до трех тысяч душ в Литве и огромные земли во вновь созданном Новороссийском крае.
Ходил темный слух, что молодой сановник, граф Мамонин, был удален из Петербурга и вдруг потерял свое значение и влияние. Но до этого никому не было дела. Дворяне принимали петербургского гостя так, как если бы он был сам князь Потемкин или граф Орлов.
Богач, добряк, весельчак, красавец и не женатый! Чего же еще для семей с дочками-невестами? Как и все остальные дворяне, старики Касаткины тоже стали мечтать. Они имели на это больше прав. Их красавица-внучка, сведя с ума все наместничество, съехавшееся на праздники, могла заставить потерять разум и молодого вельможу.
Однако граф, начав ухаживать, или, как говорили, «махаться» за Сусанной, далее известного предела большого внимания и большой любезности не вошел. Он ухаживал, казалось, за всеми девицами и даже двумя-тремя замужними женщинами и за одной молодой и некрасивой, но умной вдовой капитан-поручика — за всеми совершенно равно и одинаково… так одинаково, что разобраться, догадаться, предвидеть какой-либо конец было трудно, даже невозможно.
Через месяц после приезда граф не подал еще повода назвать кого-либо из дам или девиц, которая получила бы пальму первенства. Самые дальновидные и лукавые всезнайки заметили и объясняли одно — удивительное…
Сановник граф, казалось, кончил тем, что «махается» наиболее за капитан-поручицей и наименее за их первой красавицей и умницей — Сусанной Касаткиной.
Молодая девушка, со своей стороны, давала повод к такому же суждению. Когда граф приехал, она видимо, не скрываясь ни от кого, «егозила» перед ним, позабыв всех своих прежних «махателей», даже наместникова сына в том же числе. Но затем, увидя, вероятно, что для избалованного своим высоким положением и столичной жизнью молодого человека все женщины равны, ровно будто ниже его внимания и увлечения, Сусанна стала обходиться с графом Мамониным вежливо, почтительно и предупредительно, совсем так, как если бы ему было семьдесят лет.
На масленице, в самый разгар веселья, весь город взволновался.
Сусанна Касаткина пропала из дому и пропала без вести…
Наступила первая неделя поста, а о девушке не было ни слуху, ни духу. Старики свалились с ног. Бабушка была в постели, дедушка сидел в кресле с поврежденным лицом.
VIII
Наместник, конечно, поднял на ноги всю полицию, какая только была в его распоряжении. Во все уезды поскакали гонцы с строжайшими указами — искать молодую дворянскую дочь Касаткину. Одновременно было приказано ловить и, арестовывая, везти в город всех цыган, какие налицо окажутся, так как все пришли к полному убеждению, что красавицу-девицу украл и силком увез табор цыган, только что проследовавший через город…
Граф Мамонин, уже с неделю собиравшийся уезжать в свое литовское имение около Минска, был тоже немало удивлен и поражен… Он обещал свою помощь и покровительство, обещал написать всем соседним наместникам и даже московскому генерал-губернатору Салтыкову о чрезвычайном происшествии с просьбой помочь розысками и строжайшими распоряжениями в пределах своих. Однако, прошло два месяца, прошла уже Святая неделя, наступила Фоминая, а об украденной красавице, быть может даже убитой, не было никаких известий. Нигде, ни в одном наместничестве не нашли ее…
До четырех сот цыган были в разных местах арестованы и, просидев в острогах, были выпущены.
Сусанна канула в воду.
Но к концу Фоминой недели, когда старики Касаткины уже были снова в своей вотчине, снова одинокие, печальные, убитые горем… вдруг в сумерки на двор шибко въехала карета, стала, затем повернула и выехала… и исчезла.
Но среди двора в полусумраке увидели кого-то, кто вылез из кареты и остался, а затем вошел на крыльцо и в дом…
Была это — Сусанна.
Старики обмерли, потом очнулись, потом плакали и смеялись…
На вопросы их, где пропадала внучка, что с ней приключилось и где и кто ее нашел, молодая девушка отвечала кратко:
— Не скажу.
Она отвечала это тихо, спокойно… Отвечала это в первое же мгновение, и в первый день и в первую неделю по появлении… Но через месяц и два тихой жизни в усадьбе деда она отвечала то же и так же…
— Ну, что же! Бог с тобой, молчи! — решили старики.
Однако, вернувшаяся внучка не была та же… Она так переменилась и лицом и нравом, что самый глупый догадался бы… Что-нибудь страшное было с ней. Сусанна похудела, хоть и была красива, даже, пожалуй, красивее прежнего… Но иначе красива.
Зато нравом она была совершенно другой человек: молчаливая, угрюмая и злая…
— Да, — вздыхали старики, ахали и люди во двору. — Злая стала она. Обозлило ее это пропадение.
Чужие люди, соседи, конечно, догадывались, но молчали…
Исчезновение молодой красавицы «кавказки» было делом простым и вместе с тем хитрым. Она просто была похищена возлюбленным.
Лукавая и шустрая молодая девушка действовала расчетливо, умело, ловко, чтобы устроить свое существование блестящим образом.
И у нее были все данные, все качества, чтобы довести смелое дело до благополучного конца. Но один недостаток или порок простительный был у нее: доверчивость юности.
Она лукавила и хитрила по отношению к деду и бабке, к знакомым, к обществу, но напала на хитрейшего, который, обманывая всех, обманул и ее.
Это был, конечно, молодой сановник… Ухаживая за ней, он объяснился в своей любви, «открыл свою пламенную страсть», но заявил, что он несчастнейший человек. Родители его никогда не согласятся на его брак с Сусанной, и огорчать их неповиновением он не считал себя способным «тотчас же»… Но понемногу, со временем, он, конечно, может их убедить дать свое согласие… Главное же препятствие не в этом…
Главное — гнев государыни…
Он не имеет права, по его словам, жениться без разрешения императрицы, а для того, чтобы получить это разрешение, надо… Надо представить дело в особом виде… В виде ошибки, дурного поступка, неблагородного и жестокого, который надо загладить. Тогда государыня сама прикажет ему венчаться… а родителям останется только повиноваться приказанию.
Сусанна всему поверила…
Граф предложил красавице бежать с ним тайно от всех в его литовское имение и сделаться его подругой на каких-нибудь полгода. За это время он брался устроить все… Ехать в Петербург, рассказать все государыне, повиниться и просить разрешения загладить свой проступок…
Сусанна, хитрившая и влюблявшая в себя молодого и именитого красавца, все-таки сама искренно и сильно увлеклась им… Верила же она ему вполне…
После двух месяцев жизни в богатой вотчине графа он уехал в Петербург, а оттуда написал ей, что государыня не позволяет ему жениться и что ей приходится оставаться его сожительницей.
Разумеется, Сусанна поняла, что все это была одна игра, столь же бессердечная, сколько искусная.
И она отказалась от всех его подарков, от его «уплаты» за любовь, попросила только одно: доставить ее домой.
И снова очутилась она в своей глуши, но уже несчастная, с разбитой жизнью, без права мечтать о замужестве. Наконец, однажды, после целого года мертвой тоски у стариков в деревне, Сусанна решилась привести в исполнение свою давнишнюю мечту.
Не раз слыхала она еще в детстве от деда и бабушки, что их двоюродный брат Аникита Басман-Басанов — страшный богач, что живет он не в простой усадьбе, как многие богатые дворяне, а в маленьком, почитай, городке, который ему принадлежит. Кроме того, он живет на широкую ногу, якобы какой сановник. Так как они, старики, уже раза три писали ему, собирались навестить, но не получили ни ответа ни привета, то всякая связь порвалась. Понятно, гордый богач знать не хочет бедных, хоть и очень близких родных. Содержит он кучу приживальщиков и блюдолизов, а им, Касаткиным, ни разу за всю жизнь не прислали, ни на грош ничего.
За последнее время, после странного приключения, Сусанна стала расспрашивать стариков о Басанове и о Высоксе.
Старики знали немного сами, но то, что было им известно о суровом родственнике, было достаточно для дальновидной молодой девушки, решительной и предприимчивой.
Она будто знала старика Аникиту Басанова, никогда его не видав, даже будто видела, его духовными очами, как живого, несмотря на то, что еще никогда в жизни к нему не приближалась.
Некоторые подробности жизни и характера этого родственника, приходившегося и ей дальним дедом, некоторые пустые мелочи, которые не имели очевидно никакого значения для двух стариков, повествовавших ей о Высоксе, для нее возымели важное и решающее значение.
Однажды она заявила старикам, что хочет их помирить или свести с суровым родственником.
— Родные должны знаться! — сказала она.
Сусанна предложила, не предупреждая даже Басанова, ехать к нему в Высоксу и представиться.
Дед и бабка не нашли в этом сначала ничего худого, а затем нашли дело совсем подходящим.
Сусанна быстро собралась.
Однако, одной являться к деду было неблагоприлично, в особенности в ее годы.
Конечно, ни дед, ни бабушка сопровождать ее не решались, ибо в таком случае ее самостоятельный шаг принимал другой вид.
Сусанна заявила, что она остановится в губернском городе, конечно, на этот раз ни с кем не видаясь, и там разыщет одну женщину, которую знает.
Женщина эта была уже ее поверенной… Она-то именно когда-то и помогала Сусанне в деле, которое повернулось худом. Но она не была в том виновата. Это была Анна Фавстовна Угрюмова, при помощи которой Сусанна тайком видалась с графом Мамониным. Если бы не эта женщина, то красавица, быть может, и не стала бы жертвой графа.
Угрюмова была тридцатитрехлетняя вдова-чиновница, одинокая и бездетная.
Женщина неглупая, приличная, мелкая дворянка и, по рождению, получившая хорошее воспитание, — она была принята во все дворянские дома губернского города, где когда-то ее муж служил в наместническом управлении и имел порядочное жалованье.
Овдовев, Угрюмова сообразила, что надо найти средства к жизни, изыскать себе занятие, чтобы не умереть с голоду или в лучшем случае не сделаться попрошайкой.
И как-то незаметно для себя она стала в городе, во всех семьях дворянских и богатых купеческих, у всяких пожилых и семейных женщин — свой человек и приятельница.
Одни принимали Анну Фавстовну радушно, потому что она была близким лицом у жены губернаторского товарища и у жены председателя соляного правления, другие принимали ее как родную, потому что «все принимают».
Понемногу Анна Фавстовна попала в советчицы и посланницы по брачным делам, самым из всех дел щекотливым, где требовались скромность, осмотрительность и особое искусство.
Когда Сусанна явилась в город, со стариками Касаткиными, то, конечно, через неделю в их квартире появилась и Угрюмова… Она не представилась, как сваха, но от нее «пахло» свахой. Поэтому старушка-бабушка тотчас же обратила на нее внимание и стала с ней ласкова, ради внучки.
Когда у Сусанны началась любовная история с графом Мамониным, первая женщина, которая будто нюхом все узнала и отгадала, была та же Угрюмова.
И она вкрадчиво, умно и тонко предложила Сусанне свои услуги в чем бы то ни было… так, в случае нужды, если что понадобится.
А понадобилось вскоре нечто крайне важное. Понадобилось именно видаться с глазу на глаз.
И тогда произошло в маленькой квартире Угрюмовой первое тайное свидание графа Мамонина и молодой Касаткиной, за что юркая и хитрая чиновница нажила большие деньги.
И теперь, когда понадобилось добыть кого-нибудь в спутницы, чтобы ехать к деду Басанову, Сусанна, конечно, вспомнила и выбрала Угрюмову. Теперь она ценила эту вдову-чиновницу на особый лад. Она понимала, что Анна Фавстовна лукавая женщина и неразборчивая на средства. Но теперь ей именно такая и была нужна. Приходилось ехать играть комедию, стало быть и брать с собой надо было лицедейку.
IX
Басанов знал, что его двоюродная сестра, лет на двадцать старше его, еще жива. Жив и ее муж. Но, что сталось с пропадавшим племянником, он не знал…
Однажды утром Аниките Ильичу доложили, что приезжая молодая барышня с мамушкой желает ему представиться…
Остановилась она на Высокском постоялом дворе, или «герберге», как, по приказанию барина, звали двор.
Высокский герберг был, конечно, маленький дом в три-четыре комнаты, которые бывали всегда заняты мелким приезжим на заводы людом. Не только столичных гостей, приезжавших к Басанову, хотя бы и по заводским делам, но даже купцов-заказчиков барин помещал в большом здании, рядом с коллегией, где были отдельные комнаты со всем необходимым, как в гостиницах. И, конечно, все содержание, стол, прислуга, отопление и освещение — все было даровое.
Герберг содержал крепостной дворовый человек, родственник Масеича. Уверяли даже, что сам любимец барина содержит его и пользуется доходами.
Молодая барышня, остановившаяся в герберге и заявлявшая о себе, удивила Басанова.
Не купчиха же она, заказчица, приехавшая трактовать о поставке ей листового железа!
Аникита Ильич приказал спросить у приезжей барышни ее имя и фамилию, и что ей, собственно, нужно от него.
Он получил ответ, что она — родственница его, Сусанна Юрьевна Касаткина, и приехала от имени бабки своей, Лукерьи Ивановны Касаткиной, так как отец ее и мать давно скончались и она круглая сирота. Дела до Аникиты Ильича она собственно никакого не имеет, а желает иметь честь исполнить свой родственный долг — представиться…
— Пущай… — ответил Аникита Ильич и подумал: «лезет сирота, на хлеб. Ну, что же? Мало ли их у меня? Один лишний рот не съест Высоксу».
Старик, однако, приказал дальней родственнице-сироте явиться только на следующий день в часы приема, когда вся первая комната его апартаментов наверху и весь коридор бывали полны народом по делам и с жалобами.
И в числе прочих посетителей, выйдя, увидел Аникита Ильич стройную девицу, которая гордо поднялась со стула к нему навстречу, гордо глянула ему в лицо, смерила его с головы до пят, сияя ликом, как в сказке царица Миликтриса Кирбитьевна. А затем она рекомендовалась:
— Сусанна Касаткина, вашего родственника дочь.
И суровый Басанов опешил: настолько был поражен видом этой родственницы, 18-летней красавицы в полном смысле слова и вдобавок бедной сироты, которая держалась и глядела, как если бы приехала из Петербурга с орденом от самой императрицы.
— Тьфу! Аминь! Рассыпься! — бесцеремонно вымолвил Аникита Ильич, лукаво улыбаясь и отчасти смущаясь от горделивой красоты и сановитой осанки этой приезжей…
Разумеется, он тотчас же провел родственницу к себе, усадил и стал расспрашивать… Расспрашивая, он приглядывался к ней и дивился… Через полчаса, спохватясь, он кликнул Масеича и приказал коротко:
— Масеич, гони всех. До завтра…
— Капитана оставить? — спросил Масеич, знавший всегда и все и знавший теперь, что в числе ожидающих барина есть капитан, моряк, приехавший из Петербурга по важному делу.
— Какого капитана? — воскликнул Басанов и, вспомнив, прибавил: — Гони и капитанов и генералов. И коли окажется в числе прочих сам король французский, то и его в три шеи.
Масеич понял… Любимый камердинер понял не то, что говорил барин. Он понял больше… Он больше самого барина понял… Он больше и дальше барина проглядел вперед, в будущее… Он увидел, отгадал и предугадал в один миг то, чего сам Аникита Ильич еще и не чуял.
Это случилось потому, что лакей, служивший барину тридцать лет, знал его лучше, чем сам он себя знал.
Действительно, Басанов был настолько поражен видом своей родственницы, внучки, которую не только никогда не видал, но о существовании которой даже не знал, что сидел перед нею на кончике стула и пожирал ее глазами…
Когда он расспросил ее снова во второй раз обо всем, узнал, что она сиротой была привезена к старикам Касаткиным с Кавказа, то он сообразил:
— А мать твоя была, стало быть, тамошняя… Не русская… Так, так! Видать… Понял теперь!
Сусанна заявила, что она сама не знает, была ли ее мать уроженка Кавказа, или полька, или немка.
— Никогда! — воскликнул Басанов. — Немки белобрысы! Польки поджары. А ты? Ты вишь какая! Царевна! Грузинская, к примеру.
И, помолчав несколько мгновений, но не отрывая взгляда от приезжей внучки, Басанов снова вымолвил:
— Тьфу! Аминь! Рассыпься!
А красавица думала, глядя на пятидесятилетнего родственника:
«Да. Так!.. Я не ошиблась… На мое счастье!..»
Разумеется, внучка не вернулась в «герберг», или в грязный постоялый двор. За ее спутницей-мамкой и за вещами был отправлен «дюжинный», чего тоже давно не случалось. Барин не любил гонять по порученьям дежурную дюжину и в особенности ее начальника, считая их как бы солдатами на карауле, несменяемыми до очереди, до полуночи.
Затем Аникита Ильич в первый же этот день, памятный затем день появления нежданой внучки, так себя вел, что если он сам ничего не заметил, то вся дворня, вся орава приживальщиков, вся «коллегия» и даже, пожалуй, приказчики и смотрители на заводах что-то заметили. Вся Высокса загудела.
Весь день до вечера и затем на другой день только и было разговоров в Высоксе о приезде молодой бариновой родственницы, красавицы, от которой барин сразу «завертелся турманом и вьется вьюном…».[10]
И это было правдой.
«Что-то будет?» — говорили или думали все.
Аникита Ильич устроил внучку в самом доме, в комнатах малолетней дочери, за обедом посадил ее около себя, вечером пришел поглядеть и увериться лично, как она устроилась. Даже с невзрачной на вид спутницей ее обошелся он ласково, хотя мысленно тотчас прозвал ее «соленым огурцом».
Ложась спать, Аникита Ильич, потягиваясь, спросил у Масеича с радостным видом:
— Ну? Что? Какова?.. Ась?!
— Кто это? — спросил Масеич угрюмо, зная отлично, про кого говорит барин.
— Ах, ты… идол! Пошел спать! — рассердился вдруг Аникита Ильич.
Оставшись в постели в темный комнате, Басанов около часу не засыпал. Этого не случалось уже давно…
Красавица внучка со своей горделивой осанкой и ярким взглядом своих чудных черных глаз, как живая, стояла перед ним в темноте и сон разгоняла…
И Аникита Ильич, уже иным голосом, будто тревожным, произнес снова то же:
— Тьфу!.. И впрямь рассыпься…
Разумеется, молодая девушка с южным типом лица, при этом умная, вдобавок хитрая и ловкая, наконец, «обученная» обстоятельствами своей жизни, сумела в первый же день показать себя и очаровать пожилого деда, но не умышленно, не старательно, а как-то будто нечаянно и помимо воли…
Она к нему не ластилась, как все, а напротив казалась царевной Недотрогой, но такой «недотрогой», которую именно тронуть-то позарез и хочется.
За пять дней пребывания в Высоксе Сусанна Юрьевна, «новая барышня», очаровала всех, от главных приживальщиков до последнего дворового лакея, служившего за столом.
— Н-н-ну, барышня! — говорили все, и всякий понимал, что этим «н-н-ну» хотели выразить.
Через неделю Аникита Ильич, очарованный внучкой более всех, проведший с ней уже целых три вечера у себя наверху в беседах с глазу на глаз, объяснил ей, что отведет ей в доме целый апартамент и положит большое жалованье, чтобы у нее были, как благоприличествует, свои деньги.
Сусанна широко раскрыла свои красивые, темные, глубокие, то огненные, то сонные глаза и переспросила:
— Про что вы, дяденька?
Она сама лукаво решила еще со дня приезда звать Басанова не дедом, а дядей. Дед промолчал и остался дядей.
— Какой апартамент? На что? — сказала она, изумляясь. И Сусанна объяснила «дяденьке», что она и в уме не имела явиться к нему на житье. Она приехала познакомиться, повидаться, погостить неделю, если дядя этого пожелает, и возвратиться домой к дедушке и бабушке, а затем… затем идти в монастырь!
— В монастырь!! — ахнул и закричал Басанов…
Это заявление красавицы повело, хотя и не сразу, к объяснению. Долго колебалась молодая девушка, раскаивалась якобы, что проговорилась про монастырь, и наконец созналась, что иного ей ничего не остается после ужасного приключения. И она решилась поведать дяде свою историю с графом Мамониным.
Узнав все, Аникита Ильич принял известие совершенно странно. Он будто обрадовался, узнав, что у внучки было такое ужасное приключение…
— Что же? — решил он, выслушав. — Такова, стало быть, твоя судьба… Ничего знать вперед нельзя…
И он странно ухмыльнулся.
Вскоре гостья-сирота начала, однако, серьезно собираться уезжать, а Басанов ее удерживал, усовещивал, а затем уже стал молить не глупствовать… Горячо объяснял он: что она потеряла у стариков Касаткиных? А монастырь — это бессмыслие! Это себя заживо похоронить! Таким ли быть монахинями?! Здесь же, у него, даже хозяйки в доме нет для приема петербургских и всяких иных гостей… Это сама судьба так распорядилась, что послала ее сюда… Наконец… она родственница ему дальняя… он же вдовец!…
И Сусанна согласилась остаться якобы на полгода, в виде пробы… и осталась совсем…
С тех пор прошло десять лет.
X
Разумеется, красавица продалась старику-богачу, мечтая стать со временем его законной женой. Но мирное сожительство и эти мечты ее продолжались только пять лет, после которых все приняло другой оборот…
Теперь, когда молодой барин Алексей Аникитич заболел и уж не покидал постели, то все население Высоксы приняло известие об его неминучей смерти без удивления, молчаливо и покорно. Всем казалось, что так и должно было непременно приключиться с общим любимцем… по многим причинам.
— Божеское наказание за грех! — сказал кто-то, и все повторили.
— Такие люди-человеки не от мира сего… Приходят на малое время и уходят к престолу Божьему! — решил главный священник, протопоп отец Гавриил.
И все тоже поверили и этим словам. Даже сама Сусанна подумала:
«Правду сказывает отец Гавриил».
Действительно, молодой Алексей был не простой человек или барин, каких много. Прежде никто ничего не приметил, а теперь, когда приходилось ежедневно ожидать его кончины, все стали вспоминать и обсуждать и все вспомнили…
«Да, этаким на свете не живется» — было заключением.
Алексей с детства был тихий, кроткий и задумчивый ребенок. Он не только никогда не буянил, не капризничал, но и не плакал, как все дети. Мамка его, конечно, обожавшая свое дитятко, которое выходила, говорила про него:
— Святой ребеночек.
Года уже с три назад эта мамка, очень умная женщина, вдруг заболев и умирая, всем говорила:
— Что же?.. Знаю, что помираю, да не боюся. Мой Алешенька вскорости за мной уйдет… Опять вместе на том свете будем.
Все теперь вспоминали это пророчество. Но было и другое, которое приходило теперь на ум. Мамка барина шибко не любила и даже прозвала ястребихой барышню Сусанну Юрьевну и перед самой смертью сказала:
— А ястребихе не своей кончиной скончаться!
Ненависть мамки к Сусанне основывалась на том, что мальчик-юноша с шестнадцати лет «отбился от ее рук» и попал под полное влияние своей троюродной сестры, собственно племянницы. Привязанность его к ней все росла и вскоре дошла до страстной любви, до обожания.
Но когда Алексею было уже лет восемнадцать, мамка догадалась, какого рода эта привязанность юноши к красавице, которая была на четыре года старше его. Началась глухая борьба между мамкой и барышней, все ожесточавшаяся… Если б женщина не умерла внезапно, то. конечно, эта борьба могла кончиться трагически. Мамка собиралась идти «открыть глаза» Аниките Ильичу.
— Все одно… Хуже не будет, — говорила она. — Все одно, она его уходит своею любовью.
Действительно, с восемнадцати лет Алексей как бы не жил для себя. Он жил для Сусанны. Он целые дни проводил с ней или у нее и находил наслаждение лежать по часам на полу у нее в ногах, изредка целуя ее башмаки или чулки, иногда даже подол ее платья. По целым дням он молча и восторженно глядел на нее. не спуская глаз…
Наедине сам с собой он горько раздумывал и рассуждал, причем мучился и страдал… Иногда случалось ему целые ночи напролет не смыкать глаз, бродить по своим комнатам или летом выходить и бродить в саду. Случалось это преимущественно тогда, когда его Санна ввечеру запаздывала у отца наверху… Часто Алексей после долгой задумчивости говорил:
— Санна, убежим отсюда вместе.
— Куда, Алеша? — улыбалась она.
— На край света.
— Такого нет, Алеша. А если б и был… с какими деньгами?
— Припишемся крестьянами к какому помещику как беглые… Женимся и заживем.
Иногда он говорил:
— Санна, давай умрем. Вместе. Ей-Богу, легче будет.
На все это Сусанна только улыбалась весело, а иногда решалась сказать…
— Обождем, Алеша. Старые прежде молодых умирают. Почем знать… Может быть, здесь же в Высоксе будут скоро супруги Басман-Басановы, да не старый с молодой…
Но Алеша мотал головой.
— Никогда этого не будет! Чую. Я отцовой смерти не желаю, но если бы такова воля Господня, то, конечно… Я бы в Иерусалим пешком пошел. Но не будет этого… Мамка сказала, что я тоже скоро помру. А я чую, что это сбудется…
Предсказание мамки и предчувствие молодого человека теперь сбывались буквально.
Тотчас же после ее смерти Алексей в двадцать лет начал вдруг хиреть, изредка, раза два-три в году, лежать в постели по две недели без болезни, а от какой-то удивительной слабости и разбитости. Временно он справлялся, оживал, но затем снова захварывал.
За последний год он уже начал видимо, как говорили люди, «таять». Он не только слабел и худел, но лицо его приняло какой-то странный, старческий отпечаток: у него была «старикова усмешка».
Теперь молодой человек тихо и безропотно близился к концу, но, однако, нечто мучило его и заставляло страдать нравственно — его грех перед родным отцом.
И никакие увещания Сусанны на него не действовали. Напрасно убеждала она его, что она одна кругом виновата.
Но у себя самой она спрашивала: виновата ли она? И отвечала: «Нет». Она не могла даже себе объяснить, не только вспомнить, как все приключилось… Как-то само собой, просто, естественно, законно… Судьба захотела и судьба приказала. Когда она приехала и стала сожительницей старика, сын его был еще ребенок. Но, лет пять спустя, мальчик Алеша как бы сразу стал восемнадцатилетним юношей, красивым, мило робким и скромным, бесконечно сердечным, а под личиною тихони страстно пылким.
И нежданно, негаданно прежнее простое существование изо дня в день сразу усложнилось, а сожительство старика с молодой родственницей стало крайне мудреное и тревожное. Даже вся жизнь в Высоксе всех обывателей будто несколько изменилась от этого… Все, изумляясь, жили в страхе и настороже, все ходили так, как если бы под домом был склад пороховой, и от одной искры, которая могла нечаянно упасть туда, зависело существование всех.
«Барин узнает, «озверится», и все виноваты будут».
Про мимолетные неверности и прихоти старого барина знали все, но понимали, что значения никакого по отношению к барышне они иметь не могут, потому что он ее боготворит. Сусанна Юрьевна всегда останется хозяйкой и первым лицом в доме. Но теперешнее поведение самой барышни, о котором все смутно догадывались, наводило на всех трепет… не за нее, а за себя.
«Бесстрашная! Озорная! И мы с ней пропадем! — думали все. — И чего она, о двух головах, хочет? Что затеяла?..»
Разумеется, тоньше, осторожнее и искуснее вести себя, чем вела себя Сусанна, было нельзя. Она была великая, даровитая лицедейка, а где не могла взять игрой и хитростью, брала дерзостью. В ней как будто была смесь лисы с волчихой. Тем не менее поведение ее было, по мнению всех, безрассудно смелое, опасное.
А между тем Сусанна действовала если смело, то не безрассудно, не зря, а наметив себе цель.
Разумеется, изумленная и недоумевающая Высокса не знала ее тайного, заветного плана.
Сусанна мечтала о браке с Алексеем, но не ранее, как ему минет лет двадцать пять и он станет смелее с отцом.
И вместе с тем она верила, что сумеет обуздать гнев и сопротивление старика-дяди угрозой… угрозой ехать жаловаться самой императрице, свалив на него вину… ту вину, в которой был, собственно, повинен граф Мамонин.
Но все это стало вдруг бесплодным мечтанием.
Ее Алеша, которого она действительно любила и, конечно, больше чем бессердечного обманщика Мамонина, стал хиреть, а затем слег совсем, чтобы не встать.
И Сусанна стала спрашивать себя:
Что же далее?.. Чего ждать? Что будет с нею? Неужели так продолжать жить? Пройдет еще десять лет, и ей будет почти сорок. Брак с Алешей стал было целью жизни. А теперь? Ждать, чтобы умер дядя? Но он проживет за семьдесят лет? Наверное! Даже до девяноста… А она? Так и будет она стариковой сожительницей, а благодаря своей природе и жгучей потребности любить, будет постоянно мучиться и изнывать душой и телом. А если взяться иначе, то когда-нибудь попадешься впросак, и сразу все рухнет. Старик выгонит на улицу без гроша. Куда тогда идти?!
А так продолжать жить — тоже нельзя!
И бурно-пылкая натура красавицы, разумеется, брала и взяла свое… Если она неумышленно, бессознательно, безвинно, будто по воле судьбы, полюбила Алешу и оправдывала себя мечтаниями выйти за него замуж, то, наоборот, в те дни, когда он заболел, она холодно, сознательно, даже грубо, будто обо-злясь на все и на всех, вдруг приблизила к себе простого писца из конторы.
Еще прежде, лет шесть и семь тому назад, прежде своего увлечения Алешей, она мысленно, но как-то смутно и нерешительно, допускала мысль о неверности своему дедушке, или «старой Ките», как прозвала она его… Она знала даже в Высоксе среди приживальщиков молодых людей, на которых мог бы пасть ее выбор… И она чуяла, что когда-нибудь вскоре решится на этот шаг… Нежданная любовь Алеши отсрочила это. Но как только он слег, чтобы не встать, она, не колеблясь, шагнула…
«Будь что будет! — как бы озлобляясь, решила она. — А так я жить не могу! Если он за пять лет про Алешу ничего не понял, то этакое и подавно не приметит…»
XI
Прошла неделя после того дня, как умирающий просил отца дозволить ему исповедь и причастие. И он изнывая ждал, кротко ежедневно просил об этом любимую женщину, но она обещала и медлила, откладывала. Ее собственное существование зависело от этого, и она, конечно, трепетала за себя…
Однажды, поздно вечером, Сусанна сидела у себя, только что вернувшись от Алексея и оставив с ним сына Масеича… Больной показался ей особенно слаб, и она волновалась… Он опять просил ее все о том же, а она опять боялась.
Едва только улеглась она на свой ковер на полу, как вошла Анна Фавстовна и вымолвила:
— У меня тут… Опять… Очень просится…
— Ну, впусти, — отозвалась Сусанна. — Не до него мне, право. Ну, ненадолго, скажи…
Женщина вышла, а вместо нее вошел в комнату молодой смуглый малый в русском кафтане и шароварах.
— Ну, здравствуй, садись, — угрюмо произнесла Сусанна. — Мне не до тебя. Алексей Никитич совсем плох.
— Слышал… Вверху тоже так сказывают, — ответил молодой малый и сел тоже на пол на край ковра. — Я было не хотел приходить, да, право, нельзя. Не смог. Одного дня без вас пробыть не могу. Мучение. Хоть поглядеть на вас, и то легче.
— Выдумки все… блажь! — отозвалась она, не глядя на него.
— Да… вам. Понятно… Я для вас что побрякушка какая ради забавы. А вы мне вот то же, что Господь на небеси. Ни единого дня или вечера не могу, говорю я…
— Ну, а когда я тебя брошу… что же ты тогда будешь делать? — спросила Сусанна, зловеще улыбаясь.
— Это не должно, нельзя… это смерть! — глухо ответил он.
— А это, Онисим, непременно будет… Может, даже и скоро… Вот что…
— Ох, полноте… что вы!.. Говорю — смерть. Вы это так, ради шутки… Правда ведь моя?
Сусанна не ответила и думала: как это случилось, что она его выбрала, а не другого? Хоть бы вот молодого князя Никаева. Этот малый умный, даже очень умный, но все-таки простой конторщик. За лицо? Да, пожалуй…
Молодой малый Онисим Гончий, которого неведомо почему вся Высокса звала коротко Анька, не походил ни капли на русского.
Про него шутили, что его мать-покойница была родом цыганка.
Действительно, в красивом темнокожем лице с правильными вполне чертами было, пожалуй, что-то цыганское или вообще южное. Одно только противоречило типу — темно-голубые глаза, которые Анька унаследовал от отца.
Отец его, Абрам Гончий, был пятидесятилетний человек, похожий на молодого старца. Он был сед и бел как лунь, с серебряной большой бородой и с серебряными длинными волосами и совершенно свежим лицом. Это был самый благообразный старик всей Высоксы, смахивавший на священника или вообще на духовное лицо. Даже его вечное спокойствие, медленность в движениях и в речи, казалось, не шли совсем к простому смотрителю на заводе, где от зари до зари считал и принимал он листовое железо.
Единственный сын, которого Абрам, конечно, обожал, был по общественному положению много выше своего отца. Владея искусством — настоящим дарованием — удивительно красиво писать, он был взят в коллегию еще 14 лет от роду для переписки бумаг, отправлявшихся в столицу и к важным лицам.
Будучи умным, но и чрезвычайно энергичным малым, Онисим Гончий, переписывая бумаги, приучал себя писать правильно и вскоре стал делать меньше ошибок, чем его начальство… Кроме того, он постепенно привык к самой процедуре дел в коллегии и в двадцать лет уже мог сам написать дельно и толково любую бумагу, рапорт, промеморию[11] и т. д.
Аникита Ильич не преминул заметить и почерк, и знание дела молодого малого. И однажды, когда Гончему было уже двадцать пять лет, он был переведен из коллегии в контору самого барина наверх. Быть «вверху» значило очень много. Служащие в конторе видали барина всякий день и были у него на виду, и он говорил про них:
— Это — мои!
И эти его личные сотрудники получали большое жалованье и частые награды деньгами и провизией. Главное же заключалось в том, что когда им случалось что-либо учинить, провиниться, то на них неохотно шли жаловаться к барину, зная, что он этих жалоб на «своих» конторщиков не любит.
Рассудит-то справедливо, да жалобщика заприметит.
Теперь Аньке было ровно столько же, что и «барышне», которая негаданно, «как снег на голову», обратила на него свое внимание.
Сусанна, конечно, уж давно лично знала конторщика Гончего, видая его у дяди наверху, и не раз разговаривала с ним. Он ей всегда нравился больше всех других молодых людей Высоксы. И она объясняла это по-своему. Он напоминал ей тех людей, которых она теперь мысленно видела в своем раннем детстве: будучи ребенком, она была окружена такими смуглыми лицами.
Как она сблизилась с конторщиком и могла спокойно видаться по ночам, было делом совершенно простым и безопасным, потому что было хитро обдумано. Все даже знали, что он часто бывает в апартаментах у барышни.
Гончий был любовником 40-летней Анны Фавстовны для всей Высоксы. Над ним подшучивали. Он не отрицал этого. Анна Фавстовна конфузилась при намеках и тоже не отрицала.
Наконец, и до самого барина достигла молва, и он пожурил Аньку и попрекнул:
— Негоже… Ты, гляди, молодец, красавец, почитай, из себя. И этакую дохлую выбрал. Ведь она — соленый огурец. И даже не свежепросольный, а такой, какие к концу зимы подают на стол. Прокислый!
Племяннице Аникита Ильич тоже сказал однажды:
— Что ты своей старой дуре блажить позволяешь! Пятый десяток лет бабе, а она с моим Анькой лобзания завела. Он у нее ведь каждый вечер торчит.
— Что ж такое? Я знаю, — резко ответила Сусанна. — Я его даже не раз после полуночи у нее заставала. Что же? Между ними тринадцать лет разницы. А между нами тридцать пять!
С этого раза Басанов, уязвленный, уже не заговаривал с ней о Гончем, хотя знал, что конторщика видают выходящим от Угрюмовой иногда-в пять и шесть часов утра.
И дерзость сделала опасное дело совершенно простым.
Беда могла придти с другой стороны… Молодой красавец Анька переродился от счастья и восторга. И это в глаза кидалось всем.
— Околдовала его, что ли, пожилая чиновница и барышни-на мамушка? — изумлялись все, глядя на Гончего.
Разумеется, — сам Анька — малый развитый умственно, порядочный на вид, помимо красоты, более приличный, чем многие из приживальщиков дворян, — все-таки никогда и во сне не мог увидеть то, что с ним нежданно приключилось и быстро, вдруг, сразу… Будто молния сверкнула с неба!.. Он очнулся, уже обнимая и целуя… И кого же? Высокскую барышню, «его» обожаемую сожительницу и вдобавок писаную красавицу.
И Анька полюбил до потери разума…
Однако, впереди ему чудилось что-то страшное, ужасное… И он думал, что это будет барин.
— Что же? Или он меня, или я его! — с дрожью в теле говорил он.
Сидя теперь на ковре около лежащей Сусанны, он думал именно об этом. Что, если когда-нибудь Аникита Ильич узнает?! Однако все кое-что сказывают про Алексея Аникитича и барышню, а он, старый, ничего за пять лет не заметил.
И Анька с присущей его натуре смелостью тотчас заговорил об этом. Сусанна не отвечала. Он настаивал и, наконец, прямо спросил:
— Ну, покайтесь: промеж вас с Алексеем Аникитичем ведь было что?
Сусанна подумала, колеблясь, и, наконец, вымолвила резко:
— Ну, было!.. Что ж из того?
— Грех это — все-таки не малый! — качнул головой Анька.
— Никакого греха. Мы дальние… что чужие.
— Все так в Высоксе сказывают. И как это вы на это пошли?!
— Дело простое… Бог знает, как вышло все. Само вышло. Сначала, приехав к дяденьке Аниките Ильичу, я порешила броситься в эту прорубь середи зимы. Да, чистая прорубь… Чтобы под лед подтянуло. Думала одолею… Видела, чуяла, что он железом шитый, что он идол каменный. Да на себя уж очень я понадеялась. Ну, и ошиблась. Он одолел, а не я… Он знай свое говорит… Будь матерью… Тогда сейчас женюсь… и будешь Басановой… «Будет сын от тебя — половина Высоксы — его. Будут сыны — вся Высокса поделится на части, и Алеше пойдет одна часть. А нет у тебя детей — не взыщи, в любовницах останешься… Сказ короткий…»
— Да. И у него одно слово, не два, — заметил Гончий.
— Что же было делать?! И наскучила мне эта старая Кита, да и мысли были, что не я виновата, что не могу матерью стать, а он, старый, виноват… Я тогда Алешку полюбила и всегда скажу, никого я так не любила никогда, да и не полюблю, как его любила года с три… Потом, правда, охладела к нему… Охладела и стала блажить. Так и пошло… И вот пятый год так идет. Теперь что же говорить… Теперь поздно… Я не понимаю, как это можно покаяться и все будто не в зачет тебе будет. Бог простит, люди не простят, а и люди простят, так я-то сама буду знать, что было у меня в жизни, что я творила. И сама я себе этого не прощу… Да и не хочу… Вот что. Так жизнь заладилась, пускай так и идет. Начни я жить сначала, может, была бы самая скромная да тихая, да добрая, какие когда-либо бывают. Вот проживи Алеша, переживи отца, как мы с ним много сотен разов поговаривали, то женился бы он на мне непременно. Я в Алешино слово вот как верю, как люди в Бога не верят… Так нет… Нет! Вступился опять дьявол. Не только не пережил он старого отца, а даже в двадцать лет на тот свет собрался…
— Не жалели! Вина, сказывают, ваша…
— Это — людская выдумка.
— Он от роду хилый был… А тут стал скоро чахнуть еще пуще. Все так-то сказывают.
Сусанна вздохнула грустно и хотела отвечать, но в это мгновение Анна Фавстовна быстро вошла в комнату.
— Что? — встрепенулась Сусанна.
— Прибежал Никишка от молодого барина. Просит он вас к себе и сейчас… Говорит — помирает…
XII
Сусанна вскочила с ковра, румяная от тревоги, но глаза ее горели недобрым огнем… Она боялась, а когда боялась, то злобилась… Теперь она испугалась того, чего ожидала, чего никогда не видала и что внушало ей непреодолимый, суеверный, подавляющий страх… Смерть! Покойник!
Однако она твердым шагом двинулась на половину Алексея и, войдя к нему, волнуясь, задыхаясь, подошла прямо к кровати и нагнулась над лежащим. Он не шевелился… Она позвала. Он не ответил… Она невольно отошла на середину комнаты и стала…
«Неужели?.. Вдруг… Так!» — думалось ей с ужасом.
— Санна, — тихо позвал он, будто простонав.
Она радостно двинулась и снова нагнулась над ним.
— Что ты, дорогой мой? — спросила она.
— Нехорошо мне очень!.. Очень… — прошептал он. — Если любишь… Санна… причаститься. Дошли до…
— Хорошо. Хорошо… Теперь ночь, Алеша. Утром…
— Всегда ты… все свое…
Санна не ответила, села на постель и глубоко вздохнула. Пережитый минутный испуг давил ей грудь.
— Ты все свое… — снова шепнул Алексей.
— Да. Я все свое. Успеется. Ты не помираешь, Алеша… — заговорила она взволнованно. — Ты хвораешь, можешь справиться. И это… это даже, вот как я скажу, — грех, Алеша, и большой.
Он хотел что-то сказать, но она перебила:
— Да. Грех. Здоровые люди говеют и причащаются. Так! А больные… больные не говеют… больные тогда приступают к исповеди и причастию, когда уже совсем умирать приходится. А ты, слава Богу… через месяц встанешь и опять молодцем будешь…
— Ах, Санна… Санна… — с усилием громче заговорил он. — Не понимаешь ты… Я помираю. Я знаю!.. Знаю!.. И я боюсь идти на суд Божий. Надо покаяться и отцу родному, и на духу. Отцу — ты не даешь, боишься… Ну, дай мне хоть на исповеди…
— Алеша, милый. Посуди ты… — страстно заговорила Сусанна. — Останешься ты жив и здоров, то после этакого признания дяденьке что будет? Он тебя проклянет, а меня прогонит… А если б даже так говорить, что ты должен помереть, то я-то… меня-то ты пожалей. За мою всю любовь как ты мне отплатишь?.. Погубленьем.
— Ну, дай только на духу сказать и причастие…
— Хорошо… Поутру.
— Ты все откладываешь… Не хочу я с этим грехом предстать… Господу.
И больной начал снова дышать гораздо тяжелее.
Сусанна опустилась на пол, стала на колени около его изголовья, взяла его изможденную руку, страшно горячую, в свои обе руки и заговорила со слезами в голосе:
— Алеша, дорогой мой. Если и есть грех, то он на мне. На мне одной! Я за него в ответе, а не ты. Я одна! Я всему виною была. Если бы не я, ты бы давно был женат на ком… И все иначе бы пошло. Я тебя смутила. Говорю тебе: я одна виновата. И Господь это видит и праведно рассудит.
— Нет. Оба… и я больше… — прошептал он горько, — мне… мне отец родной…
— Я пред Господом клянусь, — воскликнула Сусанна, — я беру на себя, на свою душу… беру… ты не повинен, мой бедный…
И она прильнула губами к его горячей руке. Ее слезы заструились по ней, но он не чувствовал не только слез, но и поцелуев. От усилий и волнения он ослабел, и сознание снова прервалось, превратясь в бессвязные и тяжкие видения, неведомые образы, чуждые места, непонятные речи…
Сусанна долго стояла на коленях и долго целовала недвижно повисшую руку, но иначе, чем когда-то, давно, прежде… Теперь она прикладывалась к ней, как к образу.
За дверью послышался шорох и будто от сна разбудил ее… Она встала и заметила, что, быстро войдя, забыла затворить дверь… Она оторопела… Их разговор можно было легко слышать среди тишины ночи…
Сусанна вышла за дверь и не нашла никого, но прислушавшись, различила вдали в портретной чьи-то удаляющиеся шаги.
Действительно, за дверью минуту назад стоял человек… Это был главный рунт, управлявший стражниками и делавший свой ночной обход по дому. Дозорный обход не нужный, лишний, а между тем страх наводивший на дворовых.
Рунт был нерусский, хотя говорил чисто и правильно, так как еще ребенком помнил себя в России. Имя его было Змглод. Он уверял, что он молдованин, родился в городе Яссы и был увезен в плен русскими войсками вместе со своей матерью.
Правда ли это было, или Змглод выдумывал, знать было нельзя. Когда его хотели посердить, то уверяли его, что он — турок. Даже барин Аникита Ильич позволял себе иногда эту шутку.
Во всяком случае Змглод был православный и клялся, что еще ребенком бывал в храме Божием, таком же, как и российские. Имя его было Дионисий, по отцу Иванович, но звался он просто Денис. Впрочем, никто никогда не называл его по имени и отчеству, а все называли по фамилии, похожей на прозвище или, как шутили его недруги, на собачью кличку.
Змглод был тридцатитрехлетний статный молодец и страшный силач. Лицо его было темно-оливкового цвета, борода и усы курчавые и черные без блеска. Зато целая шапка курчавых волос на голове, еще чернее бороды, отливала ярким блеском, хотя он никогда не маслил головы. Черты лица Змглода были неправильны, рот слишком велик, скулы широки, а виски сжаты, нос хотя и орлиный, тонкий, но будто раздавленный у ноздрей, глаза были бойкие, быстрые, но узкие и казались совсем маленькими от густых бровей и чересчур большого высокого лба.
Вместе с тем про Змглода, или «Турку», нельзя было сказать, что он дурен собой. Лицо его было чрезвычайно живое, энергичное, характерное. В некоторые минуты, однако, когда он пылил, — а вспыльчив он был без меры, — лицо его становилось совершенно иным: он был неузнаваем. Все черты лица, казалось, изменялись, рот становился пастью, с рядом белых острых собачьих зубов, ноздри раздувались, и нос казался совсем расплюснутым, глаза исчезали, прищуренные и будто прикрытые сдвинутыми вместе бровями.
Змглода боялась вся Высокса и вследствие его большой власти при полном доверии барина, а равно и по милости его способности пылить и терять на мгновение разум. А в припадке гнева он мог убить и быть прощенным.
Змглод стоял за дверью, когда Сусанна горячо и громко клялась, что берет ответ перед богом на себя. Обер-рунт все слышал и все понял, но нового ничего не узнал… По своей должности и по своей натуре сыщика, шпиона и соглядатая Змглод знал и ведал все, что делалось и говорилось в Высоксе, в доме, во дворе, на заводах и на слободе. И он все докладывал барину — все, что хотел доложить… остальное пребывало при нем в запасе, на всякий случай…
Между тем, после ухода Сусанны Анька Гончий заболтался с Угрюмовой и когда наконец вышел из комнат барышни, то прямо тут же столкнулся с Змглодом. Обер-рунт шел угрюмый, опустив голову, но не со смирным видом, а уподобляясь быку, который собирается броситься и забодать.
— А… стрекулист!.. что здесь поделываешь? — спросил он останавливаясь.
Анька тотчас же заметил, что Змглод, вероятно, только что вспылил на кого и теперь разгуливает свой гнев, придираясь ко всем.
— Я от Анны Фавстовны. Ходил спросить насчет письма… Переписать приказывали.
— Я не любопытствую… не спрашиваю, от кого… от Анны Фавстовны или от другого кого!.. — вымолвил Змглод, ухмыляясь.
Анька опешил, и сердце стукнуло в нем.
— Не мое это дело знать. Прикажет Аникита Ильич разнюхать, — ну… давно разнюханное доложим ему на его опрос… А пока нет приказа и опроса, не наше дело.
Анька хотел отвечать, но язык не повиновался ему: настолько он был поражен словами или намеком Змглода.
Обер-рунт прошел мимо, также по-бычьи опустив голову, а Анька, испуганно проводив его глазами до конца коридора, стоял истуканом.
— Почудилось мне, что ли? — прошептал он. — Нет! Какое тебе! Не почудилось! Говорит: от другого кого. Говорит: молчим про разнюханное. Прикажет — доложим.
И, глубоко вздохнув от смущения, Анька двинулся, но затем круто повернул назад и снова вошел в те же двери, из которых вышел.
Пройдя прихожую, он вошел во вторую комнату и, найдя в ней Угрюмову, передал ей свою встречу и разговор с главным рунтом.
Анна Фавстовна тоже слегка смутилась.
— Что же это? — выговорила она.
— И ума не приложу, — отозвался Анька.
— Так сразу хватил? Мимо идучи?
— Да. Меня даже в жар бросило. Правда, злобен, но ведь не в том дело. Дело то… что он пронюхал.
Анна Фавстовна отчаянно махнула рукой.
— Что ты? Помилуй Бог!
Анька развел руками и опять вздохнул глубоко от сильного волнения.
— Я сейчас, как барышня вернется от Алексея Аникитича, доложу ей. Помилуй Бог!
— Беспременно, Анна Фавстовна. Барышня пускай рассудит тотчас, как тут быть.,
XIII
На следующее утро Сусанна сдержала слово и послала за своим личным духовником. Необходимые меры были ею уже приняты. Главный священник, отец Гавриил, духовник обоих Басановых, был ею отпущен в город к родным. Отец Григорий был священником на дальнем проволочном заводе, но около полудня Угрюмова уже докладывала об его прибытии, и Сусанна, несколько волнуясь, тотчас приняла его.
— А, отец Григорий, — радушно встретила она его. — Здравствуй. Садись!..
— По вашему приказанию, барышня, — заговорил старик-священник, — поспешил явиться. Что угодно будет мне приказать?..
— Ничего, батюшка… как есть ничего… А я давно уже собиралась за тобой послать, да все забывала. А то бывало вспомнишь когда, да совсем не вовремя… Садись…
Священник сел перед барышней прямо, порядливо и с таким видом, как если б он чувствовал и был благодарен за особое внимание. Барин, вызывая своих священников и дьяконов наверх, никогда не сажал их, а, коротко объяснив дело или сделав выговор, отпускал так же кивком головы, как и всех своих управителей и приказчиков.
Только в торжественные дни праздников, именин и рождений Басанова, его сына, дочери или Сусанны духовенство после краткого молебна в большом зале оставалось с гостями и имело право садиться.
Сусанна объяснила отцу Григорию, что давно уже думала об его стесненном положении, просила дядю ему прибавить или пять рублей деньгами или мукой, но Аникита Ильич отказал и даже на нее рассердился, что она не в свое дело мешается и нос свой сует.
— Покорно вас благодарим, барышня, — с чувством сказал священник. — Почто вы себя из-за меня недостойного, гневу ихнему подвергаете?..
— Это что же? Гнева я Аникиты Ильича не боюсь… И в самом чем важном, важнеющем не побоюсь, — резко и холодно ответила Санна, — а в этаком пустом деле и подавно… Я ради вас…
— Чувствительнейше благодарим.
— Ради вас… твоего убожества. Как же можно, имея целую большую семью, детей и внучат, всего душ с дюжину, жить на то, что тебе полагалось, когда еще ты только поступил, да только одного ребенка имел, который теперь сам отец и семейный… Аникита Ильич этого понять не хочет… три рта или двенадцать ртов…
— Они мне лет тому четырнадцать надбавили, и я им…
— Знаю. Два рубля… Что же это? Нет, отец Григорий, я вот что порешила… из жалости к вашему убожеству… Ты знаешь, у меня свое иждивение есть, которое я дяденьке передала и получаю годовой доход — небольшой, да все-таки свои деньги… Ну, вот я и порешила теперь, что я тебе, как моему духовному отцу, положу три рубля из своих, и каждое первое число заходите к Анне Фавстовне и получайте…
— Ах, барышня… ах, Сусанна Юрьевна… — взволновался священник и даже переменился в лице. Он вскочил со стула и, казалось, не знал, что ему сделать. — Господь воздаст вам сторицею, — заговорил он, бормоча от смущения. — Детки мои, внучатки мои… все… все мы будем за вас Бога…
— Садись, батюшка… успокойся… Я рада… я давно хотела…
— Сан мой духовный не дозволяет, а то бы я… — воскликнул отец Григорий… — Дозволь, барышня, хоть примерно отблагодарствовать. На, вот тебе… земной священнослужительский поклон…
Священник низко поклонился в пояс и двумя пальцами тронул пол.
— Не за что… рада чем могу. Но вот что, отец Григорий: избави Бог, если дяденька про это узнает. Он меня загрызет. Всякий день начнет попрекать… Пожалуйста, чтобы это осталось под спудом.
— Как же можно!..
— Чтобы и твои никто не знали: откуда жалованье и кто жалует… Побожись мне.
— Вот Господь… — воскликнул крестясь отец Григорий, и, казалось, глаза его стали влажны от чувства признательности. Нежданный подарок барышни совершенно изменял его положение. Теперь вся его семья не только сыта, но и в довольстве будет.
Поговорив со священником о разных мелочах, об его внучках, которых он обожал, о новом заводе, что собирался строить Баса нов, Сусанна вдруг выговорила другим суровым голосом:
— Все бы хорошо… а вот Алеша…
И она смолкла.
— Да. Господня воля! — вздохнул священник. — Нам Его не прозреть, не уразуметь… все Его…
— На сих днях, отец Григорий… — прервала Сусанна и запнулась, — на сих днях и хочет он… Алеша… да и я его прошу… исповедаться и причаститься…
— Что же? Хорошее, благоугодное желание и действие… Захочет Господь, и силы его сим укрепит и на…
— Если он решится совсем, то я за тобой дошлю… нарочного гонца, и тогда поспешай.
— А как же… — смутился священник. — Я же… Их духовный отец обидится на меня. Наш протопоп…
— Нет, отец Гавриил уехал в отпуск, — ответила Санна.
— То другое дело. А Алексей Аникитич, может быть, пожелают иного кого…
— Нет, нет. Мы уже толковали. Алеша именно тебя желает. Он говорит…
Сусанна слегка потупилась, понизила голос и произнесла нетвердо:
— Он говорит… грех у него один… тяжкий… говорит, я мол лучше отцу Григорию на духу повинюсь, покаюсь… Он мол, отец Григорий человек старый, жалостливый!.. Он скорее рассудит, что на этой земле все грешны… Кто как, на свой лад. Все грешны… Есть воры и убивицы — скрывающиеся… Одни же духовные отцы знают про их… их злодейства… И прощают, до причастия допускают.
— Мне, помилуй Бог, такового не доводилось, — ответил священник, — а бывает… бывает… Всякое бывает на свете! — вздохнул он.
— Покаяние ведь очищает?.. — странно произнесла она, упорно глянув в лицо старика.
Он не ответил, не понимая, что это вопрос, а не замечание. И она повторила.
— Душевное, горькое покаяние ведь очищает тело и душу?.. Так ведь, отец Григорий?
— Вестимо, вестимо…
— И разбойнику Господь Иисус Христос сказал, что он ныне же будет с ним в раю.
— Истинно так, барышня. Золотые ваши слова. Видно, что вы хотя и молоды, а…
Но она снова перебила.
— А грех Алешин — тяжкий грех…
— Где ему, бедному молодому барину, тяжкий грех иметь!.. — закачал головой священник.
— Верно… Я знаю сама.
— Сдается так-то…
— Нет. На наше горе… Оно…
Сусанна смолкла и смущаясь, тревожась, продолжала:
— Отец Григорий, отвечай мне правду, что я спрошу.
— Готов, барышня. Я завсегда так. Душой никогда не кривил.
— Знаю. И все это знают. Все тебя за это почитают и любят. Один дяденька не умеет тебя ценить. Тебя следовало бы давно перевести сюда, в сбор наш, как мы сказываем.
— Ну, что… Я и на Проволочном Господу услужу…
— Скажи, отец Григорий, если я на духу тебе покаюсь… что я убила кого… допустишь ты меня до очищения?
— Если покаяние истинное… Да, ведь, что же про это?.. Так примерное словопрение.
— Если Алеша покается тебе в великом грехе, то ты его, умирающего… без ножа зарежешь или нет…
— Что вы, Бог с вами!.. — воскликнул старик.
И Сусанна, совершенно успокоенная словами, даже видом священника, решила вместе с ним, что богоугодное дело не след откладывать. Уж если зашла об этом речь, есть желание больного, то чем скорее приступить, тем лучше…
В сумерки отец Григорий со Св. Дарами был уже в спальне Алексея… Больной оживился, ожил.
XIV
Вечером, после ужина, Аникита Ильич, угрюмый, под тяжелым впечатлением приобщения сына, сказал племяннице, чтобы она пришла к нему наверх.
Сусанна зорко и вопросительно глянула старику в глаза.
— Побеседовать о важном, а не то что… — объяснил он досадливо.
Когда через полчаса Сусанна поднялась и вошла к нему в кабинет, он встретил ее словами:
— Ну, Санна, давай беседовать… Ум — хорошо, а два — лучше. Вестимо, когда второй ум такой, как твой, а не такой, как Дарьюшкин или вот у Ильева… Плохо, плохо дело, Санна! Не ждал я такого… Верить не хотел…
— Какое дело? — удивилась Санна и немного испугалась. Ей пришла на ум угроза Змглода Гончему.
— Господь с тобой! Знаешь, о чем сказываю… Ничего другого худого нет: Только одно. Алеша…
— Что Алеша? Это… это не новость. Не спешное… Давно уж…
— Да, истинно. Вы все давно напророчили… Говорил я, не каркайте, как вороны. Вот и накаркали…
Санна усмехнулась досадливо и мотнула головой.
— Что головой трясешь! Понятное дело… Он все валялся и вот довалялся, а вы все каркали, и вот…
— Докаркали. Да… Ах, Аникита Ильич. Послушать вас со стороны чужому человеку, он прямо подумает, что вы малого ума. Ей-Богу! Этак всякий хворый, смертельно хворающий и умирающий, по-вашему, должен вскочить перед самой хоть смертью и начать бегать… И смерть испугается, что ли?.. И как пришла, так и уйдет? Оставит человека в живых? Вся сила, стало быть, не поддаваться — и никогда не помрешь, двести лет проживешь…
— Смерть, когда нужно, придет и сразу возьмет. Не оборачивай мои слова наизнанку, — сказал старик вразумительно. — Но ей след брать человека, когда ему восемьдесят лет, а то и под все сто… Я вот, гляди, за девяносто проживу. Если случай какой несчастный, лошадь убила, с моста гнилого в реку ухнул, на заводе под шестерню угодил, — это другое дело. Можно и самого себя прикончить в двадцать лет ножом или из ружья. Я сказываю про жизнь правильную и кончину правильную. Будь я на месте бедняги моего Алеши, я бы до этакого положения не довилялся… Ну, да что же об этом толковать! Теперь поздно… Вижу я, по-вашему все вышло. Скажи-ка мне вот…
— Что именно? Что вы желаете?.. Еще другого доктора?..
— С Высоксой что делать! — перебил Аникита Ильич.
— О-о!! Кто вас поймет… Дайте уж Алеше помереть. Это всегда успеется… Выдать Дарьюшку замуж недолго.
— Одно другому не мешает. Ты, я знаю, любишь завтракать. Да я не люблю. У меня все важное — нынче. Если бы я по-твоему управлял заводами, то давно бы разорился. Немцы поговорку сложили такую: «Завтра да завтра — лентяева повадка!» Ну, вот ты мне свое и скажи, посоветуй, Санна.
— В таком деле я советовать не стану. Мое дело сторона, — как-то резко и холодно проговорила Санна.
— А?.. Да! Вот что, — ухмыльнулся Басанов лукаво, — Понимаю, на что ты гнешь!..
— Ни на что я не гну! — вспыхнула она. — Просто сказываю: не мое это дело. Ваша дочь — вам и выбирать ей мужа. А уж никак не мне.
— Знаю, знаю… Сто раз тебе говорил, Санна, и теперь опять скажу… и еще разов тысячу в жизни нашей ты то же от меня услышишь… не моя вина. Давай класть — и не твоя! Ладно. Ну, не наша вина, Божье произволенье!
— Слышала тысячу разов и тысячу разов отвечала, что я этого и не желаю…
— И лукавишь…
— Нет.
— Лукавишь. Не спорь. Ты бы желала, как и всякая иная, быть барыней… госпожой Басановой.
— Пока мне и так хорошо. Я здесь все одно что барыня. После вас я всегда была как первая, потому что Алеша тоже этого хотел, ни во что не входя… А вот теперь, конечно… Когда будет здесь муж у Дарьюшки, наследник всего, хозяин… он и вас к рукам приберет.
— Ой ли?
— Не сейчас… А будете вы постарше, да послабее, то молодые хозяева исподволь все подберут под себя. Меня постараются выжить. Что я? Я чужая, почитай. Приживалка. Какая я племянница или внучка! Десятая вода на киселе. Да, впрочем, до тех нор я и сама отсюда уйду и всех освобожу…
— Ну, проехала!.. — рассердился старик. — Я хотел о деле говорить, а она свою канитель потянула.
— Я и говорю… толком говорю. Молодой хозяин…
— Да что же мне по-твоему, — перебил он, — Дарьюшку в старых девицах держать? Прежде я полагался на Алешу, говорил: женю, мол, его… Будет он наследник, а у него на моих глазах тоже пойдут наследники. Он, неведомо почему, все артачился, не хотел жениться. Ты в нем эти мысли тоже разводила.
— Неправда! — вскрикнула Сусанна.
— Правда. Я это знаю. И верно знаю. Ты боялась, что его жена тебя тут затмит… Ну, да бросим это. Теперь он не токмо не жених, а одна нога в гробу. И теперь надо совсем нечаянное дело налаживать. Дочь выдавать замуж — от ее брака толк ждать для Высокских заводов. Что же? Я тут, говорю, ни при чем. Произволенье Божеское. Сказываю в тысячный раз тебе… Будь ты завтра, с зачатием или, вернее сказать, роди ты мне мальчугана… Я бы не стал ждать, чтобы ему двадцать лет было. Сейчас б ты стала госпожа Басман-Басанова. Мой расчет был бы такой, что если один ребенок родился, то и другие будут. Стало быть, и сын будет, хоть один-то…
— Ах, Боже, Господи! Как вам не надоест десять-то лет сподряд…
— Все то же сказывать?.. — перебил старик. — Будем сказывать! Ты вот не довольна. Хотел я женить Алешу — ты мешала всячески…
— Неправда это! Я вам сказываю, что это вы измыслили. Алеша не таков уродился, чтобы желать жениться! Слыхали вы, видали вы, чтоб он за всю свою жизнь кого здесь облюбил?.. Ни разу. Все это знают.
— Что правда, то правда. Но все-таки женить его можно было, если б ты помогла, а не… Ну, ладно, не гневись… Однако теперь, когда надо мне поневоле думать, как найти хорошего мужа для Дарьюшки и умного владетеля Высоксы… ты тоже противничаешь. Говоришь, что нас в руки заберут молодые хозяева. Говоришь: я и сама уеду… Ну, вот я на все это тебе и отвечаю все одно. Будь у тебя ребенок… Ну, а нет ничего такого вот уже сколько лет, то и ждать такого нельзя… Стало быть… если не велит Бог Алеше наследовать и его сынам, то надо Дарьюшкиных сынов готовить. Дело это, Санна, простое.
Аникита Ильич смолк и задумался. Сусанна тоже задумалась… Теперь ей ясно вдруг представилось, какая огромная перемена будет в доме и в семье, когда явится молодой барин-помещик, муж наследницы всего состояния. Пойдут дети, и старик-дед начнет, пожалуй, обожать внучат… А начав стариться, и к ней отнесется, конечно, иначе…
Да, не раз в жизни, а сотни разов приходила она в отчаяние, что не может сделаться матерью.
— А как ты полагаешь? — вдруг воскликнул Аникита Ильич, — весело мне будет, приятно будет… что в Высоксе владельцы будут не Басман-Басановы, а Кротковы, Завадские или там хоть бы даже князья Никаевы, что ли?.. Приятно это по-твоему?!. Фамилия много значит…
— Какие такие Кротковы да Завадские? — угрюмо спросила Сусанна.
— Товарищи у меня такие были в молодости, офицеры. У них, поди, теперь семьи есть и дети. Вот я им писать и собрался. Пускай сынов на смотр ко мне посылают… А не годятся, то тогда Дарьюшку за Давыдку отдам: будет княгиней Никаевой.
И старик вдруг задумался глубоко.
XV
Анна Фавстовна между тем нетерпеливо ожидала свою Сусанну Юрьевну. Она тревожилась, что Басанов позвал племянницу вечером к себе, предупредив, что есть дело… Угрюмова все боялась доноса Змглода после его слов Аньке. И хотя ее бесстрашная барышня отнеслась к случаю с презрением, тем не менее Анна Фавстовна сильно смутилась. Она совсем опешила, когда Сусанна злая вернулась к себе и хлопнула дверью за собой.
— Что такое? Что? — воскликнула Угрюмова при виде ее.
— А то вот, что новая беда! Я по глупости или беспечности об этом никогда не думала, — воскликнула Сусанна волнуясь. — А дело самое простое… Впрочем, что ж я говорю… Пока был здоров Алеша, это было и не страшно, а теперь это всю Высоксу повернет вверх дном.
— Да что такое? Не Змглод же?..
— Он собрался Дарьюшке жениха искать. Поняли?
— Дарье Аникитишне? Жениха?.. Сейчас?
— Ну-да… Хочет писать прежним своим приятелям по полку, которые женаты и сыновей имеют…
— Сейчас?..
— Да что вы, как дура какая, заладили! — рассердилась Сусанна… — Сейчас да сейчас… Говорят вам — да. Ну, завтра или послезавтра первого гонца отправит.
— Да, как же, моя золотая… — отозвалась Угрюмова, разводя руками. — Я в толк взять не могу. Чего же это приспичило? Хотя бы дал сыну-то помереть, да справил бы поминки сороковые… Ну, тогда бы и начал хлопотать… А то вдруг…
Сусанна начала, волнуясь, ходить по комнате и не ответила.
— Вы знаете, каков он… — заговорила она через мгновение. — Вдруг прозрел или упрямиться бросил, спохватился, что Алеша помирает, и схватился за новую затею…
— Загорелось.
— Именно загорелось. Да это все равно. Теперь ли, после ли… А подумайте, как все трафится. Просто ни глазам, ни ушам не верится. А я-то… я-то? Мне-то! Все хуже, все мудренее… Именно наваждение дьявольское вокруг меня… Вот-вот со всех сторон нечистая сила одолевает. И что я ни подумай, ни сделай — все от нее прахом идет! Сатана все по-своему вершит!
— Опять вы за свое, Сусанна Юрьевна.
— Да. Сатана! И ничего не поделаешь! Его не обворожишь… В полюбовники не возьмешь, чтобы помыкать…
— Не люблю я, когда вы так его понимаете… да такие речи об нем ведете, — боязливо отозвалась Угрюмова. — Да еще пальцем кажете, будто он впрямь, прости Господи, тут поблизости стоит. И приметила я, золотая, что не к добру вы его всегда поминаете да кличете…
— Должно быть, — злобно усмехнулась Сусанна.
— Верно вам сказываю. Я приметила, как начнете вы гневаться да врага человечьего кликать, так он будто и шасть… к нам, то-ись… И всякое-то, все хуже, да хуже оборачивается для нас, а не лучше… Вот что-с…
— Потому что он, дьявол, против меня… А будь он за меня… будь он на красавиц падок… задала бы я ему трезвону… уходила бы его… вот как, сказывают, Алешу.
— Ах, Сусанна Юрьевна. Ей-Богу же… Тьфу! Прости Господи! И расскажи кому про этакие слова, никто не поверит.
Угрюмова перекрестилась и чуть заметно плюнула три раза.
— Да. Креститесь, не креститесь, — раздражительно рассмеялась Сусанна. — В этом нет силы. Я не только от него крестом да молитвою никогда не оборонялась, а сто раз прямо звала: поди мол сюда, людьми клятый, да помоги… Душу, как в сказке сказывается, в заклад бери! И, понятно, никогда ничего не добилась. Бывало не раз даже бранилась да насмехалась, издевалась… Ах, мол, ты, Сатана Сатанинович, олух измышленный. Будь ты и впрямь на свете, да хозяйничай, как люди выдумали да врут, то давно бы на мой зов откликнулся, окаянный…
— Ах, Сусанна Юрьевна… Не могу я!.. — воскликнула Угрюмова отчаянно и, взяв себя руками за голову, она поднялась со стула, чтобы уйти.
— Ну, сидите, сидите. Я ведь зову… не вы… Мне беда, а не вам.
— Да мне вас жаль, золотая моя… Сколько раз я вам твердила: помолитеся Богу… Просите прощенья. Чаще в церковь ходите, чаще говейте… Господь простит и все наладится. А вы — нет! Вместо Бога все его кличете… И как, говорю, начнете шибче кликать, то только хуже выходит все…
Наступило молчание. Сусанна села, понурилась и задумалась, а потом медленно заговорила будто себе самой, будто вспоминая и рассказывая и будто защищая себя перед кем-то…
— Да, была бы я, как все. Зачем меня судьба обидела? Не по охоте так начала я помышлять, а люди заставили. Я тоже, как все была и добрая и доверчивая… Девочкой Богу молилась, может, побольше, чем какая иная в эти годы. С тринадцати лет, помню, стала Бога просить послать мне мужа, хорошего, доброго, чтобы я его всю жизнь любила, его одного… Вот и послал!.. Да не Господь послал, а Сатана послал. Злыдня и обманщик!.. А люди потом начали из-за него попрекать да клясть. И не его, дьяволова посланца, а меня… А за что же меня? Чем я была виновата? Тем разве, что не знала, какие злыдни на свете урождаются и какие злые дела на свете творятся… Ну, вот и возмутили во мне душу на всю жизнь… Была я что овца, а стала волком… Чья вина?! Они здесь меня «ястребихой» прозвали за смелость мою и за повадку… Нет. Меня бы лучше им «волчихой» звать. Да… Меня раз обидели кровно, больно, безжалостно. Ну, а я стала отплачивать сторицею. Да, это еще все цветочки… Чую, что все цветочки. Ягодки будут еще впереди… Сатана оробеет и, может, со страха откликнется мне.
— Ах, Сусанна Юрьевна! — воскликнула слушавшая Анна Фавстовна и всплеснула руками.
Сусанна будто очнулась… Она себе говорила и почти забыла, что около нее сидит ее наперсница.
Это выражение Сусанны об ягодах впереди было ответом на новую мысль, смутно явившуюся ей вдруг в голову. Владелец Высоксы заменится скоро другим владельцем. Почему не попробовать покорить себе также этого нового хозяина в доме и распорядителя всего состояния! Да, тогда уже пойдут — ягодки!
Аникита Ильич относится к ней, племяннице и сожительнице, уже года с три не так, как бывало… Прежде, бывало, от ее слов: «отпустите меня!» он так пугался, что страстно, на коленях молил не покидать его. А теперь он на эти же слова только рукой машет. Первые годы действительно он был — насколько позволял ему его шестой десяток лет — страстно, чуть не юношески, влюблен в нее, в нее, девушку, которая, по выражению русскому, «всем взяла»: и красива, и умна, и бойка, и всех без исключения очаровывает приветливостью, и, наконец, главное… любит его, несмотря на страшную разницу лет. А разница была в тридцать пять лет. Ей не было полных восемнадцати, когда ему было пятьдесят три года.
В любви пылкой и настоящей женской, женщины к мужчине — а не в дружеской привязанности — она сумела его хитро уверить. И этим был он счастлив. И за это спускал все своей Санне, позволял капризничать, своевольничать и даже помыкать собою.
Теперь, когда ему 63 года, а ей уже под тридцать, расстояние лет между ними как бы уменьшилось. Она все-таки красивая женщина, в которую легко еще влюбиться всякому, но однако она понимает, что прежней восемнадцатилетней весенней прелести в ней, конечно, нет и помину. А он, «старая Кита», вероятно, благодаря обливаниям, пилению кружков и питью зелья калмычки Ешки оставался будто все тот же, что был десять лет назад. Только седина в волосах, только дымка тусклая в глазах, только несколько морщинок около висков прибавилось. Да, разница лет уменьшилась! Теперь, когда наугад ей иные дают все тридцать лет, ему все дают пятьдесят пять… Да не в этом дело. А первые пять лет, она вполне властвовала над ним и знала, видела, что кроме брака с ней, может все, что хочет, заставить делать… Теперь же он стал независимее и незаметно вышел из-под ее полного влияния.
Прежде причину этого она напрасно старалась отгадать… Она думала, что старик, надеясь, что у них будет ребенок, и собираясь на ней жениться, смотрел на нее, как на будущую жену, а, отчаявшись, переменился. Теперь она понимала, что он просто охладел, так как по своей натуре не способен постоянно любить одинаково одну и ту же женщину. Уже через три года сожительства дядя стал снова «поглядывать» на других женщин. А затем вскоре у него начались опять, как было еще при жизни обеих жен, временные увлечения — и простые недельные прихоти и полугодовые привязанности.
Спасибо еще, что он продолжал все-таки быть и в нее влюбленным. Все-таки она была красивее всех этих баб-молодух, горничных и приживалок. А, с другой стороны, она даже выиграла. Он меньше надоедал ей своими ласками, не мешал любить Алешу.
— Да… так, так… — заговорила, наконец, снова Сусанна, будто яснее обсудив свое положение и решаясь…
— Что такое? — спросила Угрюмова.
— Себе говорю… Надо так дело свое повести, чтобы из-за разных затей «Киты» выходило для меня все к лучшему, а не к худшему… Вот он заведет нового хозяина в Высоксе, станет с внучками возиться… Ну, а я стану возиться с его зятьком.
— Как, то-ись? — не поняла Угрюмова.
— А просто… Дарьюшкина мужа приберу к рукам пуще, чем Алешу… Вот тогда и пойдут ягодки…
— Ну, Сусанна Юрьевна… Это… это уж тогда и совсем конец нам будет. Улетим отсюда… Верно.
— Почему же это? Напротив. Новый хозяин за меня станет.
— Да ведь у него жена будет! — перебила Анна Фавстовна. — Аникита Ильич был вдов. Алексей Аникитич был холост… Вы еще не пробовали, не знаете, что такое ревнивая жена… От ревнивицы, сказывается, трус на земле приключиться может.
— Дарьюшка — дурочка, да и малый ребенок… Ну, да вот увидите, Анна Фавстовна. Увидите! — недобрым смехом рассмеялась Сусанна. — Такие ягодки в Высоксе увидят все и даже сам «Кита», что Сатана прибежит тоже глазеть и ахать. А я буду насмехаться и говорить ему: что, брат, чья взяла?
— Аниките-то Ильичу? Да он вас…
— Не Аниките, сударыня… Мне на него будет тогда уже наплевать… А Сатане Сатаниновичу буду в морду смеяться: чья, мол, взяла?!
Анна Фавстовна взялась за голову, затыкая уши…
XVI
Рано утром, еще при восходе солнца, в дверь спальни Басанова постучали… Это было совершенно необычным и редким явлением. Все двери между спальней и коридором, где была канцелярия, в кабинете, в гостиной, в приемной — все всегда бывали заперты на ключ, так как в кабинете были на столе важные бумаги, а главное, в углу стоял большой окованный железом сундук, где менее ста тысяч никогда не лежало…
Со стороны ванной комнатки, коридорчика и прихожей, где стояли козлы с бревном для пиления, наоборот, все оставалось отперто от самой улицы и маленькой лестницы «винтушки» и до спальни. Однако, просто проникнуть и явиться с этой стороны к барину никто не мог, кроме Масеича и Змглода.
Аникита Ильич проснулся от стука в дверь и тотчас догадался, что случилось что-нибудь особенное.
— Войди! — крикнул он и на появление Змглода в дверях прибавил. — Ну, что?
— Пожар на Проволочном, Аникита Ильич, — сказал обер-рунт.
— Велик? Что горит?
Змглод объяснил, что беды большой нет, но он счел долгом доложить. Басанов приказал тотчас скакать туда всем пожарным, а сам обещал приехать днем. Змглод передал барину еще несколько новостей, сделал свой обычный доклад и вышел. Басанов снова заснул и проснулся только, когда в тех же дверях появился Масеич. Было уже семь часов, час вставания.
Аникита Ильич, придя совсем в себя, вспомнило появлении Змглода, о пожаре на заводе, но стал вспоминать, что еще сказал обер-рунт… Что-то еще более неприятное, чем пожар! Не спешное, но неприятное… Он никак не мог вспомнить и стал чувствовать себя не в духе. Тотчас же, по обыкновению, он спросил: что погода?
Масеич, по обычаю, отвечал кратко:
— Тянет.
Старик поднялся с постели совсем не в духе. Ехать на завод по дождю было скучно… Пройдя обливаться и глянув в окошечко ванной комнаты, он увидел на горизонте сизую тучу, но, судя по движению облаков, она шла стороной. Он рассердился и обозвал камердинера «слепой курицей».
— Я, Аникита Ильич, грешный раб Божий Никифор Моисеев, — также сердито отозвался тот, — а не святой угодник, чтобы Господни промыслы знать…
— Да, слепая ты курица. По ветру видать, что мимо пройдет, а что на вас лезет.
— Ладно, вдругорядь совру… Потянет. А я скажу — светлехонько…
— А я тебя побью! — отозвался Басанов раздражительно.
— И бейте. Мне лучше битье, чем попреки! — проворчал Масеич.
— Знаешь, что никогда тебя пальцем не тронул, ну, и буянишь!..
— Потому что несправедливы!.. Что я — в небеса-то бегаю что ли наперед, чтобы справляться да вам правильно докладывать?..
Аникита Ильич ухмыльнулся остроте лакея. Вообще единственный человек из холопов, разговаривавший с Басановым вольно, иногда даже грубо, был Масеич… Он уступал в резкости и прямоте своего обращения с Аникитой Ильичом только одной «барышне».
Все знали в Высоксе и говорили:
— Только барышня да Масеич могут его горошить.
Действительно, если камердинер изредка, то Сусанна зачастую так отвечала старику, что иногда можно было и «огорошить» всякого.
Однажды Масеич, сильно рассердясь за что-то, сказал Басанову:
— Помирать вам пора, вот что!
— Ошалел ты что ли? — изумился барин с неприятным чувством на душе и за спиной.
— Стареть вы стали. Бредить начали!
— А ты молодеешь, что ли?
— Я не барин, а хам, — объяснил Масеич глубокомысленно. — Нам годов не полагается и никаких не бывает. Что двадцать, что шестьдесят — все равно скачи и швыряйся по барскому указу.
Однажды Сусанна тоже хватила, сказав дядюшке со смехом:
— А ведь мучительство — это иметь любовное дело со старым человеком. Всякий старик псой пахнуть начинает.
— Спасибо, моя прелесть. Нижайший тебе за такую ласковость поклон! — ответил только Басанов.
Но, разумеется, Сусанна тотчас ловко прибавила объяснение:
— Я не про себя… и не про вас… Может, я именно и люблю песий-то запах? Вы что знаете?.. Да потом, я особая такая уродилась. Мне молодые противны… Редко, редко какой приглянется. Да и опять, молодой может постареть, подурнеть… А уж такой то, как вы, без перемены… Вы и в гробу страшнее не будете.
И Аникита Ильич, когда любимец-камердинер или любимица-сожительница так его «горошили», иногда весело смеялся, иногда и кисло…
Басанов, говоря Масеичу, что он никогда его пальцем не тронул, говорил правду. Хотя он «собственноручное никогда никого не наказывал, считая это для себя унизительным, но лакея он даже никогда не наказал простым сидением в «холодной» при полиции, не только розгами. Напротив, он щедро одаривал любимца, у которою был свой собственный домик, каменный с мезонином и садом, подаренный барином.
Камердинер был «Масеичем» и простым, хотя и вольным, дворовым только для Аникиты Ильича; но для всех остальных он был Никифор Масеевич, важная особа, гораздо важнее коллежского правителя Барабанова, не говоря уже о других вроде главного конторщика Пастухова. Многие, им подобные, сменялись и «улетали» по одному слову разгневанного барина. А Никифор Шлыков был уже 30 лет главным «камердином» и любимцем.
Но главное заключалось в том, что когда нужно было замолвить словечко за кого-нибудь, когда нужно было положить гнев на милость или чем пожаловать, или простить, или дело обернуть и в настоящем виде барину представить, то все, кто мог, шли к Никифору Масеичу.
Он — говорили все — знает на барина «такое слово». И, понятно, не колдовством берет, а повадкой… И барин его слушает и слушается.
Разумеется, часто шли в Высоксе и к той особе, которая значила в сто раз больше, чем Масеич, — к «барышне».
Но до барышни было дальше, и ей нельзя было обещать «магарыч». А Масеич не гнушался и за оказанную услугу брал, что по карману давали ему.
У Масеича была целая семья. Жена его, уже пожилая, не сходила с постели и болела, хотя неведомо чем, один день жалуясь на ноги, другой день на руки, на спину или на живот. Старший сын Никита служил не только молодому барину, но и старому, в случае болезни заменяя отца. Дочь его не считалась даже дворовой, а была полубарышней и бывала часто, как ровня, в гостях у барышни Дарьи Аникитишны. Кроме того, было еще человек пять детей всех возрастов, которые ничего не делали и были все очень избалованы отцом.
Масеич был, конечно, привязан к барину, но вместе с тем он был человек странный, непроницаемый… Недаром Басанов знал что-то особое про прежнего донского казака. Однако и все обитатели Высоксы чуяли в нем человека темного происхождения, лукавого, двуличного, очень корыстолюбивого, даже жадного. Приятелей у него совсем не было. Кого Масеич сам любит или не любит, было совершенно неизвестно.
Была, однако, в Высоксе одна личность, которую Масеич ненавидел, готов бы был если не собственными руками придушить, то выдать с головой всякому головорезу. А между тем и этого никто не знал, даже и предполагать не мог. И сама эта личность не знала этого и очень бы удивилась, если бы узнала.
Личность эта была — Сусанна Юрьевна.
Облившись холодной водой, отпилив один кружок, Аникита Ильич вошел в кабинет и, принявшись за обычное свое питье, вспомнил сразу о ночном докладе Змглода.
Обер-рунт доложил нечто про парня Сеньку Лопоухого, что было, по его убеждению, для барина, пожалуй, важнее пожара. Во дворе оказался опять один болтун конюх, болтавший снова «разное неродное» про питье Аникиты Ильича. Опять появились «неподобные» разговоры, что калмычкино снадобье — турецкая «буза», а кто ею набузуется, тому «подавай не одну, а сто жен».
Аникита Ильич тотчас передал все Масеичу и приказал ему распорядиться насчет суда болтуна и расправы. Приготовить графин с молоком, самому снести записку доктору Вениусу, а что тот даст — всыпать в молоко.
Затем, уже в добром расположении духа, Басанов, напившись чаю, велел гнать всех просителей, а конторщикам обождать с докладами. У него было дело важнее.
Аникита Ильич решил идти объясниться с дочерью.
Когда Басанов, пройдя весь дом, явился в комнатах девушки-подростка, Дарьюшка, сильно смутившись, подошла, поцеловала у отца руку, а затем робко подставила голову… Отец нагнулся и поцеловал дочь в лоб, а затем в тысячный или в миллионный раз в жизни проговорил:
— Ох, мала ты… И не растешь. И в кого это?.. Мать покойница была особа с ростом. Я не маленький. А ты вот макарьевского пригона. В князя-деда, что ли?
Затем старик сел и задумался. Он приходил к дочери очень редко и когда являлся, то всегда по поводу чего-либо особенного.
Дарьюшка видала отца поутру, проходя наверх во время его завтрака на минуту, чтобы только поздороваться. Затем она видала его за обедом и иногда, ввечеру, когда Аникита Ильич приказывал осветить все гостиные и всем быть в сборе… Это называлось старым словом «ассамблея».
Но эти вечера, или «ассамблеи», бывали редко, а за последнее время совсем прекратились, потому что главный их устроитель, Алексей, был в постели.
Посидев молча около десяти минут, Аникита Ильич достал свою табакерку с портретом покойной второй жены и, нюхнув, потом потрепав себя пальцем по носу, заговорил:
— Дарьюшка… Ты неразумное дитя, ничего не смыслишь… А все-таки надо мне с тобой толковать о важном деле. Слушай меня в оба… Поняла?
— Поняла-с, — робко ответила девушка.
— Слушай… Был у меня сын и была у меня дочь. Сын, стало быть, почитался моим наследником и продолжателем фамилии Басман-Басановых. О нем у меня и все заботы были. Ты была мне хотя и дочь родная, но все-таки так… сбоку припека… ни то ни се… Девка — товар… ехал мимо купец, сторговались, купил и с собой увез товар. Поняла?
— Поняла-с…
— Врешь. Не поняла. Ну, повтори…
— Я, батюшка… — начала Дарьюшка, краснея и смущаясь. — Я, батюшка, поняла, но сказать не могу.
— Говори, что я сказал…
— Изволили сказать, что Алеша хворает, и потому…
— Что? Что?!
— Виновата, батюшка.
— Когда я говорил про Алешу, что он хворает?
— Простите, виновата.
— Ах, ты, глупая, глупая… — улыбнулся Аникита Ильич снисходительно. — Ну, слушай… Теперь поймешь… небось, это сейчас поймешь. Слушай и ответствуй. Хочешь ты замуж? Ну?!
— Как прикажете. Я вашей воле противиться не смею.
— Это тебя Матвевна обучила этим словам. Ну, что же, слова хорошие. Говори. Хочешь, я тебя замуж выдам?
— Ваша воля…
— А ты-то хочешь?
— Ваша воля…
— Тьфу! Не серди меня. Слыхал… Отвечай на то, что спрашивают.
— Хочу… — нерешительно произнесла Дарьюшка.
— Ну, вот я тебя замуж и выдам. И за это дело возьмусь тотчас. Пойми, Дарьюшка, был у меня здоров Алеша, вся моя надежда была на него, на его брак и деток… Но Господь вот не судил… Алеша плох… Начинаю я думать, что он и впрямь скоро помрет, потому что не хочет меня, отца родного, слушать… Валяется в постели и хиреет… Будь я на его месте, я бы сейчас… Ну, да что об этом… Ну, вот, стало быть, пройдет месяц, два, и мы бедного Алешу похороним. Что ж тогда? Кто тогда наследует всему, что у меня есть? Кто Высоксу соблюдет и все дела поведет? А?.. Как по-твоему? Да ну, говори!
— Не могу знать, батюшка.
— Ты же не можешь управлением заводов заниматься. Ты унаследуешь все, оставшись у меня одна… Но ты не парень… не мужеска пола человек… Ну, стало быть, и надо мне найти доброго молодца, который все вести при мне обучится, привыкнет и после моей смерти будет в порядке держать. Поняла?
— Поняла-с.
— Повтори…
— Я, батюшка, поняла… — смелее сказала Дарьюшка. — Надо, чтобы был у меня муж, чтобы добрый был, а тоже дела все умел… для Высоксы…
— Вот!.. вот, умница! Ну, вот я и пришел тебе это объяснить теперь. Мы с Санной это дело обсудим степенно, не спеша, но откладывать далеко я тоже не хочу… Через полгода, думаю, ты у меня уже будешь замужем… Вот женихов-то мало… Совсем нету. Для Дарьи Басман-Басановой надо из Петербурга выписывать… Ведь ты, скажи… ты за… ну, вот хоть бы за Змглода не пойдешь?..
Дарьюшка широко раскрыла глаза и рот и оцепенела…
— То-то! Испужалась! Ну, ну, шучу я!.. — рассмеялся весело Аникита Ильич и поднялся, чтобы идти к себе. Снова целуя Дарьюшку, он объяснил, что, не откладывая, идет тотчас приказать готовить в канцелярии два письма к двум своим товарищам по полку. Он самодовольно думал:
— Вот удивятся, когда узнают, что я спрашиваю про сыновей и этакую невесту предлагаю… с Высоксой в кармане.
Дарьюшка, оставшись одна, бросилась к няне в комнату и расплакалась…
— Полно разливаться! — утешала ее няня. — Может тоже быть, что родитель-то нашего князя Давыда в предмете имеет.
Единственная дочь, а ввиду неминуемой смерти молодого Басанова и единственная наследница всего огромного состояния жила странною жизнью. Казалось, что она — воспитанница, дальняя родственница, даже приживалка в доме.
Дарьюшка со своей няней Матвеевной, помещаясь на самом краю дома, в конце левого крыла, выходившего в сад, жила далеко от всех, как бы в стороне от жизни Высоксы. У нее было четыре комнаты, обставленные хорошо московскою мебелью, был балкон, а под ним, главное, обнесенный забором ее собственный садик, среди огромного сада…
Этот «островок» устроил ей брат, с разрешения, конечно, отца. В садике молоденькой девушки была куча цветов, а в глубине даже несколько гряд, где было все «свое» — свой горох, своя репка и морковь, своя земляника. И весь летний день Дарьюшка проводила или за пяльцами на балконе или в рытье в грядах, так как она обожала копаться в земле, сажать, сеять, поливать и тут же есть свои овощи, которые ей казались слаще «чужих», Высокских.
Девушка или, вернее, девочка, которой еще не исполнилось пятнадцати лет, была и нравственно, и с виду, совершенным ребенком. Она была маленького роста, белокурая, беленькая, с красивыми серыми глазами, добрыми и наивными. Если бы не известная округлость бюста и вообще полнота тела, то она могла бы пройти за двенадцатилетнюю девочку.
Дарьюшка сидела почти безвыходно у себя, изредка у брата, когда еще он был здоров. Но ей позволялось принимать гостей у себя, подруг-ровесниц, дочерей приживальщиков и главных дворовых людей. Главная ее приятельница была старшая дочь Ильева — Алла. Она давно отлично знала, что эта Аллинька «по-Божьему» ее родственница. Другие две приятельницы были молоденькая княжна Никаева, очень дурная собой, и дочь главного управителя Марья Барабанова. Наконец, часто бывала у барышни и умная шустрая Пашка, как ее все звали, или Павла, дочь Масеича. Но Пашку молодые девушки-приятельницы не любили за наушничество. Она все передавала, иногда и присочиняя, своему отцу, а Масеич иногда передавал и барину.
И бывали грозы и громы «сверху» в левое крыло дома, где однако жизнь Дарьюшки с Матвеевной была самая тихая и мирная, так как няня была женщина скромная и глупая, а ее питомица, тоже недалекая, была еще к тому «чудная», смирная не по летам. Она казалась как бы загнанной и забитой вследствие того, что была особенно робка и чересчур конфузлива. Отца она, конечно, страшно боялась, а к Сусанне Юрьевне относилась даже с суеверным страхом. Но был один человек, которому она бессознательно принадлежала всей душой. Это — молодой князь Давыд Никаев.
XVII
Прослушав главные доклады Пастухова, Басанов тотчас выехал на проволочный завод за несколько верст. Пожар в слободе, где жили заводские крестьяне, оказался не очень важен, и все было уже потушено. Рунты, исправлявшие и должность пожарных, вели себя всегда во всем молодцами.
Впрочем, все население Высокских заводов было, точно на подбор, народ умный, дельный, деятельный и порядливый. Все всюду шло по заведенному раз порядку о работало так же, как и машины, однообразно, отчетливо.
Недаром сам барин-владелец был живая машина. Действительно, если Басанов жил как машина, потому что день его был рассчитан по часам, и приходил так же аккуратно, как шли большие стрелки на башенных часах коллегии, то он равно и думал, как машина, потому что за все пятнадцать-двадцать лет не изменил своих мыслей, убеждений, понятий, мнений… Что было белое или черное, хорошо или дурно, когда ему было 40 и 45 лет, оставалось по-прежнему неизменно. Он был твердо верен себе… Правда, иногда желая оставаться верным раз принятому и усвоенному, он впадал и в упрямство…
За пять верст от Высоксы было место, где следовало бы по богатству руды и по близости двух сильных источников построить завод отдельный и самостоятельный, а одновременно выкопать пруд.
Басанов решил, сгоряча, что не надо…
— Место годное, да не совсем! — сказал он брату, Савве Ильичу, тому семнадцать лет назад.
И теперь, при боязливых намеках коллежского правителя Барабанова, что никогда не поздно сделать то, что было упущено когда-то… барин всегда отвечал:
— Место годное, да не совсем.
Наконец, сама речь Аникиты Ильича была речь машины. Он говорил мерно, не понижая и не повышая голоса, и редко-редко восклицал… При этом в гневе он говорил медленно и тише. Его шепота, чуть не робкого, люди боялись.
— Ну, дать ему двести розог, — шептал барин совсем ласково и приветливо. — Коли не одолеют, надбавлять полсотни, сотню… сколько понадобится…
«Понадобится», чтобы запороть насмерть…
Разумеется, по рассуждению людей, Аникита Ильич был не злой человек, а просто строгий барин, любивший порядок, послушание и прилежание.
Население Высокских заводов пользовалось известной славой, потому что лентяи и рохли все выводились незаметно барином и наконец вывелись. Пьющих не было совсем. В воскресные дни, и в особенности в большие праздники, двунадесятые[12], бывали сотни, если не все две тысячи, пьяных по всем улицам и даже около дома барского, под окнами грозного и сурового «батюшки Аникиты Ильича». Но грозный барин, поглядывая на подгулявших или на лежавших замертво, ухмылялся. Пьяный, набуянивший не в меру, получал выговор, но никогда не был наказан розгами. Но зато едва заметно подгулявший, выпивший хоть рюмку в будни, опохмелившийся в понедельник или недотерпевший в субботу наказывался розгами. Наказание повторялось до трех раз, и если виновный выдерживал третье наказание, «сугубое», то за четвертое ослушание не пить в будни сдавался в солдаты или ссылался на поселение в Сибирь. Пьяных в праздничные дни Аникита Ильич даже, казалось, любил. Во всяком случае его самая большая и любимая забава состояла в том, чтобы, прогуливаясь в одноколке по заводам среди бушующего по-праздничному люда, непременно окликать, заговаривать, а то и разговаривать с пьяными. Его забавлял пьяный вид… Но было нечто, что ему нравилось особенно, иногда заставляло смеяться до слез и возвращаться домой в каком-то даже радостном настроении… Это нечто все знали, хотя объяснить никто не мог…
Аникита Ильич положительно любил, чтобы пьяный ему нагрубил, его изругал, попрекнул в чем-нибудь или просто насмеялся над ним.
Разумеется, находились ловкие молодцы, актеры, которые пользовались этим. Но это было очень опасно. Старик был сметлив и чуток, пьяного человека будто изучил, и фальшь, обман, комедию с собою тотчас угадывал. Актеру, конечно, приходилось очень худо, почти хуже, чем подвыпившему в будни. Сознательное оскорбление наказывалось солдатством, а один раз было наказано высшей мерой. Человек пропал без вести…
Рабы глухо, опасливо, тайком говорили друг дружке, объясняли незнающим, что это за притча, что человек «был и сплыл»… Сданного в солдаты если не видали потом, то слыхали о нем от других, видевших, где и что он… Засеченного насмерть хоронили, и могилка была на виду… А был человек и сплыл, ни виду его, ни слуху, ни духу, — было дело особое и особо страшное.
— Помилуй Бог! Этакое, даже если до царицы дойдет, то барин Аникита Ильич, как ни велик и важен, как ни именит, и богат, как ни грозен и смел с начальством, а сам в ответ пойдет…
— Уж лучше во сто крат помереть под розгами, нежели этакое!.. — говорили робко бывшие беглые и приписные рабы, боязливо крестясь.
Зато все заводские от мала до велика опасались одного человека, как самого врага человечьего, дьявола, и косились на него или брали в сторону, чтобы лучше и на глаза ему не лезть.
— Когда пропадет человек, то это его рук дело! — говорил народ.
А чьих рук было темное дело — был Змглод.
Осмотрев пожарище, распорядившись о новой быстрой постройке домов для погорельцев, Аникита Ильич тотчас двинулся домой, чтобы успеть все-таки погулять в саду перед обедом. А ему приходилось еще перед этим побывать у сына да заняться парнем-болтуном.
Вернувшись в Высоксу и войдя в дом бодрый и веселый, Аникита Ильич, проходя мимо передней, где дежурила «дюжина», вдруг остановился и спросил с порога:
— Слыхали вы, братцы, что ваш барин Аникита Ильич Басман-Басанов бузу какую-то пьет?
Дежурная дюжина, взятая врасплох огульно, призналась и повалилась в ноги, чуя беду.
— Слышали, батюшка Аникита Ильич. Виноваты…
— За то, что слышали, я вас не трону, — сказал барин. — А говорил ли кто из вас сам этакое?..
— Не говорили… Никто… Ни один… Накажи Господь!
— А кто же в Высоксе это говорил?
Дюжина называла тотчас, конечно, того же парня Сеньку Лопоухого.
Поднявшись к себе, через полчаса Аникита Ильич снова вышел из своих комнат в большой коридор. Здесь было уже собрано человек с полсотни дворовых, а впереди всех стоял молодой парень бледный, как смерть.
Барин, выйдя, стал перед ним усмехаясь.
— Ты Сенька Лопоухий? — спросил он чересчур тихим голосом.
Парень бросился в ноги и только завыл благим матом, не имея сил произнести ни единого слова.
— Вставай… Ну… эй, вы! Поднимите!
Парня силком подняли и держали, потому что от страха он валился, как мертво-пьяный…
— Ты говорил, что я бузу пью…
Сенька все-таки отвечать не мог. Язык не повиновался.
— Масеич, подай…
Масеич, стоявший тут же, подал на подносе заготовленные графин и стакан.
Барин налил в стакан чего-то мутно-белого вроде молока и объяснил…
— Буза — питие мерзостное и его, кроме турки, никто не пьет, потому что, кроме турчинова живота, ничей живот питья этого не одолевает. Стало, и я пить бузу не могу… А чтобы вы знали и видели, что буза творит с человеком, я вот, приказал ее состряпать и на самом выдумщике вам показать. Пей! — прибавил Басанов, протягивая парню стакан.
Но Сенька Лопоухий не двигался и, казалось, ничего не понимал. Несколько услужливых холопов взялись за него. Десять рук протянулись… Одни держали голову, другие шею, третьи пальцами раскрывали парню рот…
И все, что было в стакане, очутилось у Сеньки в глотке и в животе…
Через полчаса малый, внизу, в передней, окруженный дежурной дюжиной, катался по полу и орал, корчась в судорогах. Никто его не трогал. Уже выйдя от сына, Аникита Ильич приказал свести парня к доктору Вениусу с просьбой, нельзя ли помочь ему и излечить от бузы.
Разумеется, доктор-немец, не смевший из боязни за себя перечить Басанову, дал утром небольшую дозу чего-то ядовитого, но приготовил и противоядие. Барин предупредил его в утренней записке, что когда опоенный «достаточно накричит», то он его пришлет для излечения, так как смерти его не желает.
Аникита Ильич отнесся к болтуну мягче, потому что не Сенька этот бузу выдумал, а кто выдумал, тот давно был достойно наказан.
За обедом, однако, Басанов стал задумчив и молчалив по особенному поводу, случавшемуся раза два в неделю. За столом, как всегда, среди кучи приживальщиков, сидела одна молоденькая девушка, на которую Аникита Ильич за последние месяцы не мог равнодушно и хладнокровно взирать. Иногда же она просто раздражала его и делала суровым.
«Просто, что ни день, то краше! — думал он теперь, косясь в ее сторону. — А сегодня совсем королевна какая!»
И угрюмое расположение духа явилось тотчас. Причина же была та, что на эту сильно нравившуюся ему приживальщицу у него не хватало духу посягнуть. А эта борьба с самим собой продолжалась уже месяца четыре. И что останавливало его, он сам не знал. Людское осуждение? Ему было это всегда трын-трава. Нет. Что-то иное… Какая-то боязнь…
Однако, встав из-за стола и перейдя в китайскую комнату, в сопровождении всех обедавших, Аникита Ильич не сел на диван, как всегда, а, подойдя к отворенному окну, подозвал к себе старую девицу Улиту Васильевну Ильеву и сказал ей тихо:
— Приходи ко мне нынче часу в десятом наверх. Дело есть до тебя. Поняла?
— Слушаю-с, — отозвалась она, удивляясь и робея.
— Не через винтушку, а через большой ход… — объяснил Басанов. — Ты не красотка какая, чтобы таиться и тайными ходами ходить… Братцу ничего не сказывай. Поняла?
— Слушаю-с, — так же боязливо ответила Улита Васильевна.
И в этот же вечер после ужина Аникита Ильич, собираясь уже ложиться спать, принял у себя в кабинете старую девицу, сильно смущенную, и объяснил ей свое дело, объяснил откровенно, вдобавок кротко и как-то жалобно…
Ильева узнала, что ее племянница так околдовала Аникиту Ильича, и уже давно, что он бился, бился и решился наконец заговорить.
— Я ее, не то что других разных, озолочу… — сказал Басанов с чувством. — А если она да зачнет, то прямо, вот перед Богом божуся, женюсь…
Улита Васильевна, страшно взволнованная совершенно неожиданным объяснением и важным открытием, даже не знала, что и отвечать.
— Это не к спеху… — стал объяснять Басанов. — А ты начни… Потолкуй с ней… Что она скажет, мне передай. Насильно счастливить я не хочу. А ты постарайся для меня, говори с ней, приготавливай… Нешто плохо богатой стать, в доме Моем быть не хуже, чем вот Сусанна Юрьевна… А прямо так и будет! А то и пуще! Госпожой Басман-Басановой станет. Шутка!..
Почти целый час обучал Аникита Ильич старую девицу, как ей ему помочь и как взяться за дело.
Уходя от барина-родственника, Ильева была уже гораздо спокойнее и говорила, что этакой радости и чести племянница и не заслужила.
— Уладим, батюшка Аникита Ильич. Вестимо, это ее счастие! — объяснила она.
XVIII
Вся Высокса знала, что такое Ильевы для Басанова, хотя вся семья называла Аникиту Ильича — так же как все — барином.
Нахлебник, Василий Васильевич Ильев, был сыном Василия Ильича, родного, но побочного сына Ильи Михайловича Басман-Басанова. Василий Ильич был любимцем отца и поэтому из множества побочных детей только один получил фамилию Ильева. Если б у Ильи Михайловича Басанова было порядочное состояние, то, конечно, он оставил бы что-нибудь своему любимцу. Но когда он умер, то все имение пошло на уплату долгов. Богачи-сыновья не захотели уплатить долги и сохранить за собой трущобное имение, где им жилось когда-то очень трудно, именно от множества женок и побочных чад их отца. Конечно, вся эта орава пошла по миру, разбрелась, и многие из них стали крепостными холопами, добровольно пойдя «в приписку».
Василий Ильич Ильев, воспитанный отцом более тщательно, обученный грамоте, был при обходе разных законов пристроен отцом — конечно, только на бумаге — в дворяне. Помог ему в этом какой-то генерал питерский с большим значением и его давнишний приятель.
Поступив еще при жизни отца в какое-то правление в соседнем городке, Ильев стал даже чиновником и сенатским секретарем, но женился на бедной девушке-сироте, прижил много детей и стал страшно бедствовать. Вскоре после смерти Ильи Михайловича Басман-Басанова, этот побочный сын его последовал за ним.
Но зная, что двое его братьев, двое законных сыновей его отца, стали страшные богачи, он написал им письмо перед смертью, прося не оставить его детей, а их боковую родню, племянников и племянниц…
Аникита и Савва Ильичи относились настолько неприязненно к памяти отца и особенно к ораве его побочных детей, что ничего не отвечали вдове Ильевой. И так прошло лет пять, за которые не только вдова, но и трое детей отправились на тот свет. Оставались в живых только старший сын Василий и младшая дочь Улита.
И однажды на Высоксе появился тихий и скромный человек, уже женатый, с тремя детьми и с девицей сестрой…
Он приехал просить Аникиту Ильича дать ему место писаря в коллегии, так как не только был грамотен, но и мараковал кое-что в счетоводстве и в науках, знал арифметику и даже морской регламент, а не один часослов, как многие дворяне.
Но ни единым словом не обмолвился о том, кто он такой. Уже после согласия барина принять на жалованье к себе писаря-дворянина, он на вопрос об имени и фамилии ответил коротко.
— Василий Ильев.
— Ильев?.. Сын Василья, внук батюшки Ильи Михайловича? — ахнул Аникита Ильич.
— Точно так-с.
Гордый владелец Высоксы задумался…
«Брать ли Ильевых в дом? Что из этого может приключиться? Какие отношения с ними заводить? И родня — и не родня. Сраму нет, а неудобств многое множество».
Однако, кончилось тем, что Аникита Ильич всю семью поселил у себя в доме, не заставив даже Василия Васильевича служить писарем. Он положил ему особое жалованье деньгами и провизией, большее, чем всем другим приживальщикам. Не скрывая ни от кого, что Ильев, собственно, его побочный племянник, Аникита Ильич приказал однако «честь знать».
— Смотри, не зазнавайся. А то прогоню. Коли по урождению я тебе и дядя, то по закону российскому — чужой человек. А по всем прочим следствиям и причинам мы и совсем чужие. Я — первый дворянин на целых два наместничества, пожалуй, даже таких, каких и в России мало сыщется, а ты — нищий. Смотри же! Зазнаешься — в час времени улетишь отсюда.
Ильев отвечал благодарностью и обещанием век помнить и чувствовать благодеяние, превратившее его с семьей сразу из цыган-шатунов в «добрых людей» под кровом и с хлебом.
Впрочем, не столько слова, сколько вид Ильева были порукой. Аникита Ильич сразу увидел и оценил, что за человек этот побочный племянник. Человек тихий, боязливый, добрый, какой-то печальный и если не хворый, то по виду дурак, совсем пришибленный. Последнее определение оказалось ошибочным. Ильев был далеко не глупый человек, но его природная скромность и долгое существование впроголодь с целой семьей придали ему вид малоумия.
Ильевы явились к Высоксу уже лет тому с двенадцать… Маленький мальчик Миша был уже теперь двадцатилетним Михаилом и страстным охотником на медведей, а Аникита Ильич очень любил молодого человека по причине, которой никому никогда не сказал и держал про себя, как великую тайну… Он любил Мишу Ильева потому, что тот по воле судьбы, по игре случая — а может и по всесильному, могучему, но людьми еще неизведанному закону, был вылитый покойник Савва Ильич. Басанов, глубоко любивший брата и хорошо помнивший, каким «Саввушка» был еще в полку, бывал часто поражен, даже смущен сходством.
«Будь не Ильев, а Басман-Басанов, — думал старик иногда, — и я бы, пожалуй, за тебя Дарьюшку отдал».
Старшая дочь Ильева, явившаяся в Высоксе пятилетней девочкой, была теперь семнадцатилетняя, чрезвычайно оригинально красивая девушка, но совершенно не похожая ни на отца, ни на брата. Она уродилась в мать, и, как говорили Ильевы, в бабку со стороны матери… Она-то и смущала теперь Басанова.
Девушка, по имени Алла, была, во-первых, рыжая, с волосами чуть не красными, но, однако, такого чудного золотого отлива, каким блестят только червонцы. Ее лохматая и курчавая головка была именно из червонного золота и блестела еще сильнее, сверкала еще ярче от того, что лицо было молочно-белое, той матовой белизны, которая кажется чуть не белее снега. Большие, добрые и кроткие, темно-серые глаза — глаза отца ее — довершали прелесть и незаурядность фигуры молоденькой девушки.
Наконец, не в подтверждение, а в опровержение принятого убеждения, что все рыжие злы, Алла или Аллинька, как звали ее в семье, была, напротив, чрезвычайно добра, ласкова и даже нежна со всеми и как-то само собой, непринужденно… Казалось, она в действительности всех любит и всех равно. Разумеется, Алла Васильевна была в доме всеобщей любимицей.
— Ильеву барышню, — говорилось в Высоксе, — не только люди, а и все скоты любят.
Это было правдой и последствием того, что к ней, всегда кормившей и ласкавшей чужих собак и кошек, животные ластились больше, чем к своим владельцам.
Но у девушки прелестной и свежей, как только что распустившийся и благоухающий цветок, был один недостаток… Она была не только не прыткая разумом, не только простовата, но совсем почти дурочка, почти «блаженная». Еще «чуднее» Дарьюшки.
Разумеется, в обыденной простой обстановке жизни в Высоксе малоумие молоденькой красавицы проявлялось менее резко, было менее заметно. Многое объяснялось в ее пользу то молодостью и неопытностью, то благодушием…
И этот недостаток, эта простоватость многим и многим сильно нравилась, была по сердцу, даже более… Два человека в Высоксе, видая эту златоволосую, молочно-белую, цветущую молодостью и здоровьем глупенькую Аллу, прельстились ее сугубо… Обоим она внушила одинаковое чувство… Но один глянул на нее хищнически, пожелал овладеть ею ради прихоти, ради того только, что она не похожа на всех других…
Другой же, сам ничего не понимая, что с ним приключилось и когда приключилось, знал и чувствовал только одно, что за эту девушку он пойдет на все!.. Скажи она ему любовное слово и пошли на убийство, — он и на это пойдет!
Первый из них был ей человек не чужой.
Чем была Сусанна Касаткина, тем же была и Алла Ильева для старика Аникиты Ильича. Обе были прямыми внучками, одна по двоюродной его сестре, а другая по побочному брату.
Второй был человек, которого маленькая Аллинька, еще крошкой, а потом уже десятилетней девочкой, боялась как огня… Она кричала и навзрыд плакала от перепуга, когда случайно в доме попадалась ему навстречу с глазу на глаз. А от его приветливого слова или ласки трепетала и обмирала, как если б он был волком или сказочным чудовищем. Зато с четырнадцати лет она стала его любить и все более и сильнее…
Теперь, не понимая сама, как именно она любит это свое страшилище, она любила его более всех и всего… Будь она не «чудная», будь поразумнее, то поняла бы ясно, что страстно любит этого человека, как только может женщина любить мужчину… Равно бы поняла она и ясно увидела, что и он не только страстно любит ее уже года два не как девочку, не как ребенка, но привязался к ней особенно, даже опасно… и по-человечески и по-звериному!.. Это была не привязанность, а бурная и бушевавшая страсть, исход которой — обладание или смерть.
Этот второй человек был молдаванин, обер-рунт Змглод.
А двух людей, менее подходящих друг к другу, трудно бы было найти. Насколько нежна, кротка и простовата была Аллинька Ильева, настолько же был черен, как жук, злобен, как волк, но и умен — Змглод.
Видя их иногда вместе беседующими, все в Высоксе кивали на них и смеялись, подшучивая:
— Черт с младенцем!.. Турка с херувимом!
Оба влюбленные в юную красавицу будто выжидали чего-то, не сказываясь, ни разу не изменив себе и не выдав себя, так что во всей Высоксе не было ни единого человека, который поверил бы, если 6 ему пришли объявить, что суровый барин или злыдень-рунт прельстились Аллой Васильевной.
Сама глупенькая девушка оказывалась, однако, чрезвычайно умна по отношению к своему чувству. Бессознательно и тем не менее очень тонко и хитро скрывала свою любовь от родных… или же совсем не скрывала, сама того будто не зная…
Она звала Змглода «туркой», но желала чаще его видеть, любила с ним болтать часами или за ним следовать, когда он дозором обходил в сумерки весь сад… Началось это уже давно, года с три, и потому все к этому привыкли… Предположить взаимную любовь было немыслимо. Со стороны глядя на «черта с младенцем», разве только какому совсем уж безумному могло бы «такое» на ум придти!..
XIX
Дня через три после объяснения барина со старой девицей Ильевой, уж поздно вечером, когда все в доме спало или укладывалось, Аникита Ильич у себя наверху не ложился, а волнуясь ходил по спальне, изредка выходя в коридорчик и прислушиваясь… Он ожидал отсюда нечто давным-давно желанное!
В правой стороне огромного дома, в полусумраке, даже среди дня, в углублении под большой террасой, прилегавшей к дому, была небольшая дверь, всегда затворенная, а за ней было нечто, что знала вся Высокса, знало, пожалуй, по рассказам и слухам, все наместничество и весь край.
Здесь была «бариновa винтушка», как говорилось с каким-то особенным оттенком в голосе, как если бы дело шло о чем-нибудь важном и таинственном.
Баринова «винтушка» была узкая, чугунная, винтообразная лестница, которая поднималась спиралью от двери со двора и упиралась прямо в маленькую комнатку около спальни Аникиты Ильича.
Лестница эта, проходившая насквозь весь дом, через два этажа в верхний, в четырех глухих стенах была не только без дверей, но и без окон. Поэтому она была всегда темна, и по ней можно было подниматься только ощупью или машинально, правильным круговращением. Внизу, у небольшой двери и день и ночь дежурил рунт, сменявшийся каждые шесть часов. Зимой в сильные морозы смена бывала чаще, а ночью дежурство отменялось снаружи и рунт имел право сидеть внутри на первых ступеньках.
Быть на часах у бариновой винтушки считалось особой честью, да было и выгодно. Избранные для этого Змглодом считались «верными слугами», а жалованье получали полуторное.
Подняться в дом по винтушке запросто мог только Масеич, делавший это два и три раза в день, приходя из своего дома на службу. Здесь путь был много короче, чем по большой парадной лестнице и коридором.
Кроме Масеича имел здесь доступ один Змглод.
Все остальные допускались, предварительно передав тихонько часовому рунту «проходное слово».
«Слово» это, или пароль, было, смотря по времени года и месяца, название города или имя, то женское, то мужское.
Впрочем, лиц, которым Аникита Ильич оказывал такое доверие, что давал «проходное слово», было крайне мало… Для всех всегда был доступ по большой лестнице.
Винтушка была собственно нужна только ночью и ради одного того, что было соблазном людским. У двери под террасой видали только женские фигуры…
Часов в одиннадцать Басанов услыхал шаги на винтушке, особые, странные, и глухие и звонкие. Чугунная, но сквозная легкая и тонкая лесенка, отлитая голландцем-мастером на заводах Высоксы, звучала как-то особенно под шагами, будто жалобно пела… Металлический звук замкнутой в четырех каменных стенах без отверстий, как в колодце, винтушки несся наверх… И первые шаги внизу уже были ясно слышны в том углу, где стояли козлы с бревном для пиления…
Через несколько мгновений в коридорчике появилась женская фигура с головой, укутанной в платок… Аникита Ильич молча взял ее за руку и, проведя через спальню в кабинет, усадил на диван и сел около нее.
— Ну, раскутывайся… — мягко и улыбаясь, сказал он.
Вошедшая молча развязала и сняла платок.
Это была златоволосая Алла, но если бы не ее червонная головка, то и узнать бы ее было трудно… Она не была матовобела, как всегда, а мертво и синевато-бледна с глазами, дико устремленными на старика-барина, со ртом, испуганным и некрасиво разинутым, а руки, державшие платок, слегка подергивало…
— Полно, полно… Что ты это? Бог с тобой! — заговорил Аникита Ильич усмехаясь…
И он начал объяснять смертельно перепуганной гостье, что худого ничего не будет, что ее ждет только хорошее, а может, и великое счастье сделаться барыней Басановой в Высоксе. Долго и красноречиво говорил старик, успокаивая девушку, но простоватая Аллинька сидела по-прежнему истуканом или как пришибленная. Она силилась, но окончательно не могла произнести ни слова…
— Ответь мне хоть одно словечко, — несколько раз сказал Аникита Ильич.
Наконец, он потянулся, взял ее за обе руки и хотел приподнять с дивана, привлечь к себе на колени… В то же мгновение ему послышалось что-то в спальне… Кроме Масеича и обер-рунта, никто, конечно, не мог явиться. Он быстро встал и досадливо крикнул:
— Что там? Кто?..
— Я-с! — раздался голос Змглода.
Аллинька порывом схватила себя за голову и начала тихо плакать… Она будто проснулась вдруг от голоса любимого человека.
— Чего ты? — крикнул Аникита Ильич с гневом. — Какого черта там еще случилось?
Он вышел в спальню и собрался разругать обер-рунта за его появление…
— Мог до утра, леший, обождать! — начал он. — Потоп что ли начинается?
— Алексей Аникитич скончался! — ответил Змглод.
Басанов оторопел, потом перекрестился и проговорил:
— Вот оно как! Царство небесное…
И в эту минуту — как часто бывает в жизни людской — Басанов не знал, что он сам на волосок от смерти.
Переступи только Змглод порог кабинета!.. А глупенькая Алла это будто чуяла…
Отпустив Змглода, Аникита Ильич обратился к молодой девушке и выговорил с оттенком досады:
— Делать нечего, моя радость, ступай домой. Не до этого… Вишь как потрафилось… Давно помирал мой Алексей, а вот нашел же время… Совсем неожиданно… Теперь раньше трех ден не свидимся.
— Он там?.. Увидит! — шепотом отозвалась Алла, и это были ее первые слова.
— Кто?
— Змглод. На винтушке увидит.
— Никогда. Он ушел… Ну, собирайся…
Через несколько мгновений Алла, тщательно укутанная платком, радостная и счастливая, спускалась по винтовой лестнице, а минут через пять, обежав угол дома, была уже у себя… Аникита Ильич сам отпер двери в гостиную, приемную и коридор. Найдя здесь дежурного рунта, он приказал позвать «дюжинного».
— Поднять всех! — приказал он ему. — Алексей Аникитич скончался. Послать за священниками… Чтобы все, кто есть в доме, во двору, коллежские[13] все и мои канцелярские… всем быть в сборе.
И через полчаса всё, только что уснувшее, снова поднялось на ноги, палаты ожили, всюду засветились огни.
Через час большой зал был переполнен ожидающими…
Басанов, а за ним Сусанна и Дарьюшка, явились из комнат правого флигеля…
Аникита Ильич, отойдя немного от дверей, остановился и выговорил громко:
— Волею Божией болярин Алексей Басанов, сын мой, преставился… Пойдем, помолимся… Ближние, входите в опочивальню, остальные, по старшинству, оставайтесь в прихожей и в портретной.
Басанов вышел в те же двери, сопровождаемый дочерью и племянницей. За ними прежде всех двинулось духовенство, затем приживальщики, а затем густая толпа главных заводских лиц и вся дворня… Когда первые стали невдалеке от кровати покойника, а за ними Никаевы, Ильевы и другие, сплошная толпа наполнила три комнаты вплоть до зала, где народ все прибывал.
Началась панихида…
И почти все, молясь и крестясь, вглядывались в молодое и красивое лицо покойника, а также в лицо старою барина и мысленно говорили:
«Роду господ Басман-Басановых — конец! А кто будет супругом барышни? Чьи мы будем?..» И многие будто невольно косились на юного князя Давыда Никаева.
Часть вторая
I
Прошел месяц после смерти и похорон, пышных и торжественных, «последнего» Басман-Басанова.
В барском доме стало несколько тише обыкновенного. Исчезновение молодого барина не могло быть заметно, так как все население заводов уже давно не видало больного, лежавшего в постели. Оплакивать горько и печалиться было, собственно, некому, так как Аникита Ильич слишком жалел Высоксу без наследника, чтобы жалеть самого покойника. Сусанна ежедневно поминала своего Алешу в разговорах с Угрюмовой, но все-таки чувствовала известного рода облегчение, что молодой человек унес с собой тайну, разоблачение которой могло повлиять на все ее существование.
Если в доме казалось тише, то причина этому была не смерть молодого Басанова, а нечто совершенно иное… Причиной было недовольство и пасмурное настроение духа нескольких лиц, главных или видных, сообщавшееся и другим второстепенным сожителям.
Аникита Ильич был недоволен, угрюм, раздражителен и беспощаднее, чем когда-либо, в наказаниях провинившихся… Он даже два раза поступил явно несправедливо, по мнению своих подданных, чего прежде не бывало.
Самовластный старик на седьмом десятке лет, после привычки всей своей жизни видеть и считать волю свою законом для всех, вдруг дожил до того, что юное существо, тихое, безвольное, девушка — полуребенок и годами, и разумом, — упорно противилась ему… И средств побороть это сопротивление не было… Ни лаской, ни угрозой нельзя было одолеть глубокого горя и постоянных слез молоденькой Аллы Ильевой.
Разумеется, вскоре после похорон девушка была снова приведена по винтушке своей теткой в апартаменты барина и, несмотря на ее горькие мольбы пощадить, не была пощажена…
Аникита Ильич, судя по долголетнему опыту, убеждал Аллу, что «стерпится — слюбится».
Однако он ошибся. Прошел месяц, и молодая девушка стала предметом всех разговоров, соболезнований и удивления. Никто ничего наверное не знал. Некоторые едва решались подозревать… Большинству же и на ум не приходила правда… Поэтому в разговорах не стеснялись… Заставить всех сразу замолчать простым объявлением о своей прихоти старик, конечно, не хотел… Он гневался, раздражался, не мог одолеть виновной упрямицы, считавшей себя несчастною, и бросился на безвинных…
А говорить постоянно в доме и во двору, охать и ахать об Алле Васильевне было не мудрено. Девушка, прежде постоянно резвившаяся как дитя, прыгавшая и хохотавшая больше всех, заразительно действуя своим детским весельем и на других, теперь ходила как потерянная, и на ней лица не было.
Аллинька плакала и плакала… Слезы рекой текли… Лицо ее одновременно и похудело, и опухло. Если ее бело-розовые щеки осунулись, то глаза, веки и нос некрасиво вздулись… И хорошенькая девушка с таким лицом бросалась в глаза и поражала всякого.
Мать ее на все вопросы отвечала, что у девушки странные головные и зубные боли. Алла утверждала то же самое. Отец ее Василий Васильевич тотчас после похорон стал собираться на богомолье в Киев.
Уже три раза вызывал барин к себе наверх по винтушке тетку, а затем и мать молодой упрямицы, приказывая им ее унять… Женщины винились, просили за нее прощения, но заявляли что с «дурочкой» ничего поделать не могут.
— Будь она умная, да понятливая, — говорила Ильева, — то сама бы рада была. А с этакой взятки гладки. Прикажите ее в монастырь свезти, да хоть в послушницы отдать… Может, и обойдется, смирится.
Но этого, разумеется, сам Басанов не желал…
Благодаря этой хворости, головным и зубным болям Аллы, нашелся на Высоксе человек из видных, который тоже ходил сам не свой и на котором тоже лица не было.
Это было высокское пугало — обер-рунт.
Сначала при виде Змглода с искаженным от неведомой причины лицом все обыватели еще пуще стали избегать его, но затем вскоре убедились, что «Турка» не злобен, не остервенился, а напротив осоловел и «размяк»…
Только удивительное лицо его стало будто звериным, а на деле он чудно подобрел, ко всем ласкается, как злой, но отощавший пес, с голоду хвост поджавший…
Действительно, умный, самоуверенный и беспощадно строгий начальник полиции вдруг преобразился. Он бродил унылый, задумчивый, а дело свое — соглядатайство и доносы барину — бросил почти совсем. Все, что попадало ему на глаза и под руку, за что прежде была бы крутая расправа, его личная или по приказу барина, теперь всем сходило с рук. Когда виновный кидался в ноги обер-рунту и молил:
— Денис Иваныч, не погуби!
Змглод глядел тупо, уныло, не злобно и отвечал глухо:
— Бог с тобой… Только смотри, «самому» не попадись опять…
Разумеется, Ильевы и сама Алла объясняли Змглоду то же самое: хворость. И умный человек, один из умнейших в Высоксе, наивно верил. А страдания обожаемой девушки его смягчили, сделали добрее, потому что озабочивали, даже мучили. Василий Васильевич, чистая душа, но скромнейший человек и в полной зависимости от жены, ушел в Киев грустный и только сказал Змглоду:
— Полагательно, Денис Иваныч, скоро свету преставление…
Глупая старуха Ильева была счастлива, однако поверить кому-либо важное происшествие в их семье, благосклонность барина к ее красавице Алленьке, она считала преждевременным. Сама молодая девушка, умная сердцем, почуяла, что откровенно признаться и объяснить «такое» своему первому другу Змглоду невозможно. Первые дни девушка хотела руки на себя наложить, затем хотела просить Змглода вместе убежать с Высоксы, куда глаза глядят, но, конечно, у нее не хватило духу ни на то, ни на другое.
А это предложение — вместе спастись бегством, которое казалось девушке столь же мудреным, как и самоубийство — было бы радостно принято Змглодом тотчас же. Но глупенькая Алла не знала, чем она давно стала для этого ее «милого Турки».
Если повелитель всей Высоксы с заводами и чуть не полный хозяин всего наместничества был озлобленно придирчив и всех заставил притихнуть настороже и жить «ушки на макушке», то главная личность после него была точно так же угрюма, раздражена и тоже срывала свой гнев на ком могла, за исключением виновного…
Сусанна тоже чуть не в первый раз в жизни была сильно озадачена, но и смущена. Если старик, неограниченно властный, не мог справиться с девушкой-ребенком, то энергичная и смелая «барышня» Высоксы, бесстрашная и, как звали ее, «озорная», не могла справиться с простым крепостным человеком своего дяди, с простым писарем его конторы.
Анька Гончий тоже удивлял всех своим видом, не меньше Аллы, не меньше обер-рунта. Молодой конторщик ходил темнее ночи и проговаривался, что погубит душу свою…
— Если не с собой покончу, то с другим кем!.. — говорил он. — Не себя, так поросенка прикончу. Захрюкает у меня поросенок по-соловьину или зальется соловей по-поросячьи…
Разумеется, слов этих никто не понимал, кроме Санны. Она тревожилась, сердилась, иногда выходила из себя от гнева, грозилась… но добиться не могла ничего.
Молодой конторщик, взятый в любовники зря, очертя голову, в минуту праздной скуки, озорно и необдуманно, начинал ей уже давно надоедать, тяготить своей безумной страстью, порывами дикой ревности и даже угрозами погубить и себя и ее вместе, в случае ее «прихотничества».
Так называл Анька сначала намеки, а затем и заявления Санны, что она легко может охладеть к нему и выбрать себе кого другого.
Умный и энергичный малый всегда был смел до крайности, предприимчив во всем и, подобно ей, тоже «озорной», а любовь «барышни», казалось, перевоспитала его, усилив стократ его качества и недостатки… Будучи смелым всегда, теперь он был готов идти на все без исключения ради или из-за Сусанны… хотя бы на жестокую казнь и смерть. Будучи ревнивым от природы, теперь он изнывал и болел от ревности. Она грызла и душила его!..
Единственный человек, которому Анька из любви всегда слепо повиновался, его отец, Абрам, напрасно старался успокоить и образумить сына, единственного и обожаемого им.
Анька подозревал теперь измену любимой женщины и, забывая, кто она и какая общественная разница между ним и ею, знал, понимал и видел только одно: потребность расправиться, прекратить свои мученья и душевную пытку как бы то ни было… убийством — так убийством!
Горе Аньки свалилось на него сразу… Как неожиданно толкнула его судьба в объятия красавицы-барышни, так же сразу, смаху, судьба отняла у него эту женщину, которую он, человек пылкий и самолюбивый, боготворил, страстно и гордо упиваясь своим чувством, но и своей победой.
И вдруг все рухнуло. Он опять стал для нее конторщиком и крепостным… Угрюмова передала ему приказ барышни ее не беспокоить… Сусанна Юрьевна приказала:
— Сидеть смирно, пока за ним не пошлют, коли вздумается повидать!..
Пока Анька думал, что это простое временное охлаждение, он терпеливо ждал. Но вдруг он убедился, что он замещен, и прихотливо, грубо… Другой на его месте пользуется расположением, а может быть, уже и ласками «барышни», для которой он сам сразу как бы перестал существовать.
Скрываясь теперь от Гончего больше, чем от кого-либо другого, Сусанна и Угрюмова сумели так устроиться, что ему не было никакой возможности узнать, кто был этот счастливый соперник… Два раза Анька среди темноты, вечером, дерзко влезал по столбу на балкон барышни и тщетно глядел через завешенные окна и напрасно прислушивался. Он слышал мужской голос в комнате, где сам бывал недавно запросто, но узнать, кто его заместитель, он не мог. Когда и как появлялся, когда и где выходил этот незнакомец, Анька проведать не мог. Стоять в коридоре настороже у дверей комнат барышни целый вечер или ночь до рассвета он, конечно, не смел. Наконец, однажды Анька узнал, кто его соперник, и пытка от ревности стала еще нестерпимее. Он терял рассудок от бури на душе и, конечно не способный смирно и покорно переносить свое положение отвергнутого, начал чаще и дерзче являться к Угрюмовой, прося, а затем даже и требуя повидать барышню. Но Сусанна не хотела видеть его. Сначала она не принимала его, потому что желала избежать глупого объяснения, а затем при упорстве Аньки она рассердилась и стала отказывать еще упорнее. Наконец, при первой же угрозе молодого малого, переданной Сусанне, она ответила через ту же Угрюмову тоже угрозой — приказать кое-что насчет дерзкого конторщика обер-рунту…
— Коли так, — объявил Гончий наперснице, — то передайте барышне, что я один погибать не хочу… вместе любились, вместе и пропадем пропадом.
Разумеется, эти слова смущали Сусанну, знавшую крутой, непреклонный нрав и предприимчивость своего бывшего любимца.
Вместе с тем однако, хотя она и упорствовала, не раскаивалась в своей жестокости к Аньке… Если бы Гончий взялся иначе и мягче, он снова был бы в милости, так как новый избранник был только забавой и успел ей наскучить, прежде чем она успела окончательно решить вопрос, приблизить ли его к себе… Этот любимец был не высокский житель и не крепостной Басанова, а вновь явившийся вольный человек, выписанный служить по найму.
По воле судьбы Сусанна впервые увидела его и была поражена его красотой на отпевании тела ее Алеши… в то самое мгновение, когда гроб собирались поднять и нести из храма в склеп, певчие спустились с клироса, где были укрыты иконостасом и прошли стать впереди духовенства… В этой веренице человек в двадцать, среди давно знакомых лиц, Санна вдруг увидела незнакомую ей личность. Это был высокий, стройный, светловолосый малый, лет двадцати на вид, с поразительно красивыми задумчивыми глазами… Удивительная тонкость и правильность черт лица, особенное, томное выражение глубоких, темно-синих глаз выделяли молодого малого из кучки певчих и из всей толпы.
После предания тела земле «барышня» тотчас подошла к хору певчих, похвалила их пение за обедней и спросила регента, чей голос свежий, звонкий, сильный покрывал все голоса в «Иже Херувимской»…
Конечно, она это уже знала, сама догадавшись теперь, чей голос слышала.
Регент указал на стройного красавца, сказав, что он — малоросс, ученый певчий, выписанный недавно из Москвы, по имени Тарас Файко…
Барышня похвалила нового певчего, меряя ею хищным взором с головы до пят, но юный хохол глядел на нее или особенно равнодушно и холодно, или же… чересчур простовато…
Не прошло, однако, дней пяти, как он был позван в комнаты «барышни» спеть что-нибудь «божественное» в присутствии барина и молодой барышни Дарьи Аникитишны.
Великолепный тенор, сильный и порядочно обработанный, удивил всех, даже старых девиц Тотолминых, тоже приглашенных слушать.
Сама «барышня» настолько прельстилась голосом Тараса, что вскоре снова раза два приказала позвать его и заставила вечером петь у себя, но уже без гостей… Затем он уже больше вызываем барышней не был и у нее не пел… Однако, его видали мельком в доме и в коридоре, и уже ходил слух, что «старая баловница Анна Фавстовна променяла Аньку на Файку».
Но это было верно наполовину. Сусанна собиралась, колебалась и не решалась… Чем больше и ближе узнавала она Тараса, тем менее был он ей привлекателен, так как отличался невозмутимым спокойствием духа, почти сонливостью.
II
Приближался сороковой день поминок по скончавшемся молодом барине, и вся Высокса снова ожидала прекращения занятий и работ на заводах. Повсюду от барских палат до слободы все население собиралось если не в самый храм, то к храму, к его ограде, постоять во время литургии и помолиться.
Накануне утром, как раз за двадцать четыре часа до начала заупокойной службы, по Высоксе распространилась такая весть, которая всех поразила… Долго потом вспоминали этот день все обыватели…
Рано утром, еще когда Аникита Ильич не кончил пилить и не начинал еще пить калмычкино снадобье, по винтушке явился Змглод и угрюмый, каким он был теперь всегда, доложил барину если не важную, то удивительную весть…
В герберге на рассвете остановился приезжий из губернского города, прибывший на почтовых лошадях… барин, еще молодой, и офицер. Он лег отдохнуть и еще, должно быть, не просыпался… Денщик же его на вопрос Змглода заявил, что барин, офицер гвардии, приехал представиться барину Аниките Ильичу и предполагает проснувшись тотчас идти в дом.
— Чего же ты с этим лезешь по винтушке!.. — рассердился Аникита Ильич… — Докладываешь, когда я еще, видишь, пилю… Что ты — ума решился?
— Потому я порешил поспешить… — начал Змглод, но барин, сердито замахиваясь «голландкой», которую вытащил из бревна, крикнул:
— Когда же это было, чтобы ты бегал докладывать о приезжих, не дав мне одеться и лба перекрестить! Хочешь, пошлю тебя на скотный на неделю коров доить…
— Аникита Ильич, — медленно и сурово заговорил обер-рунт, — коров доить я пойду, коли глуп, а вы дайте досказать. Я еще в разуме своем и знаю, что творю… Дело если не важное, то совсем особое…
— Ну?.. — спокойнее отозвался старик вопросительно.
— Я спросил, по долгу своему, звание и имя приезжего, чтобы доложить вам в обыкновенный час, но солдат ответил, что ему барином строжайше запрещено сказываться… Хоть, говорит, убей, не скажу, кто мы такие… А вот когда мой барин встанет да побывает у вашего барина, то вы все здесь ахнете и зачешетесь, как угорелые… Ну, как я ни бился, ничего не добился… Вот и пришел доложить, что ждет вас внезапу диковина какая-то… а не просто приезжий…
— Умница! Молодец! И был и остался молодцом! — воскликнул Аникита Ильич.
И, бросив пиление, он тотчас прошел в кабинет, весело усмехаясь… Через минуту, не выдержав, он кликнул Масеича и, отпивая свое мутно-белое снадобье, выговорил:
— Масеич… слыхал? А знаешь, кто этот офицер? Зачем приехал?..
— Знаю, — ответил камердинер холодно.
— Ан, врешь! He знаешь!.. И не можешь знать.
— Ан, знаю…
— Врешь, говорю тебе! — вскрикнул Аникита Ильич.
— Не вру, сказываю я вам! — вскрикнул и Масеич.
— Ах, идол упрямый… Так говори, а я молчать буду. Говори. Кто?
— Сынок чей-либо… Из тех, кому вы в Питер писали из-за барышни… Что? — подсмеиваясь ответил Масеич.
Аникита Ильич молчал и улыбался.
— Мудрено, вишь, догадаться… Вы думаете, вы одни на догадку прытки…
— Правда, Масеич… И знаешь, по-моему, кто… который из сынков?.. Завадский… либо князь Устюжский… Ну, что ж, слава Богу. Только давай Бог, чтобы ко двору пришелся… А зря за первого попавшегося гвардейца я Высоксу не выдам замуж, тьфу! то бишь Дарьюшку не выдам…
И Аникита Ильич, несколько волнуясь, не допил свое питье и приказав растворить. все двери, чтобы доступ к нему был тотчас свободен, начал свои занятия делами…
Не прошло получаса, как тот же Змглод явился со стороны коридора и приемной с новым докладом.
— Барин-офицер уже собирается выходить из герберга в полной амуниции… А она такая диковинная, какой я никогда еще, да и никто не видал в Высоксе.
И по описанию обер-рунта Аникита Ильич понял, что офицер — гусар. Это удивило и пуще взволновало бывшего измайловца.
В ту же минуту в приемной, в коридоре и в канцелярии все будто шевельнулось… Весть, добежавшая снизу, всполошила весь верх.
— Диковинный офицер из столицы к барину…
Но нежданный гость и его невиданный еще в Высоксе мундир оказались пустяками сравнительно с тем, что случилось затем и вихрем разнеслось повсюду, заставив ахнуть от удивления всех, начиная от пораженного известием барина и кончая последним рабочим.
Заведующий канцелярией Пастухов ввиду важности гостя добровольно взял доклад на себя. И едва появился в приемной молодой и статный гусарский офицер, как он спросил его и вошел к барину со словами:
— Желает представиться и засвидетельствовать вам свое почтение поручик Дмитрий Андреевич Басман-Басанов…
Когда Пастухов простодушно передал эти слова барину, то Аникита Ильич остолбенел, затем переменился в лице и будто задохнулся… Затем он поднял обе руки и едва слышно проговорил не своим голосом:
— Если переврал… в солдаты… лоб забрею, если напутал!..
Пастухов побледнел от страха… Ему казалось, что он передал верно… Но ведь на грех мастера нет. Вдруг, окажется, маху дал.
Увидя, что управляющий канцелярией собирается бежать из комнаты, вероятно, для переспроса, Аникита Ильич крикнул:
— Стой!.. Идол…
И старик, страшно взволнованный, прошел два раза по комнате, потом сел. Через полминуты он уже спокойнее спросил:
— Он сказал Дмитрий Андреевич Басман-Басанов… или сказал просто… Басанов?..
— Сдается… — залепетал Пастухов… — сдается мне, что изволил сказать Басман…
— Ну, вот… вот и лоб! — странным боязливым голосом произнес Аникита Ильич. — Да! За этакое… за этакое замуровать живьем надо…
Пастухов стоял уже бледный, как полотно и хотел что-то вымолвить, но посинелые губы только дрожали. Голос и вид барина испугали его больше, чем угроза.
Действительно, ничего подобного теперешнему своему состоянию давно не испытывал старик. Смерть сына Алексея его не поразила, ибо он ее ждал… Только смерть брата Саввы Ильича так же когда-то взволновала его и заставила кровь стучать в висках.
Все, что сотни раз мерещилось ему со дня смерти сына и во сне и наяву, о чем он мечтал, как юноша или как малый ребенок, зная, что желание это есть несбыточная мечта… теперь внезапно стало делом, действительностью…
Высокса после его смерти будет по-прежнему принадлежать Басман-Басановым и так… на сто лет… и больше…
«Но Басман ли он?!» — мысленно восклицал он теперь, боялся, трепетал… Вдруг сейчас окажется, что конторщик, осел, врал… Басановых много в России. Черта ли в них! Есть и мещане Басановы… Но Басман-Басановых нет больше. Он один, последний… Поэтому как он мог сам так малодушно сразу поверить дураку-конторщику и допустить себя до того, что все нутро у него будто перевернулось! Зря, без причины, из-за идола, который переврал. Ему, животному, что Басанов, что Басман-Басанов — все одно… Им всем, что им Высокса: что с ней будет, чья она будет?!
— Да… да… — едва слышно зашептал Аникита Ильич. — Если переврал… если меня зря хватил ножом в самое сердце… за это… не знаю сам, что с тобой сотворю…
Пастухов опустился на колени, всхлипывая…
— Цыц, проклятый… Услышат… что подумают! — прошептал старик. — Проходи… в спальню иди…
Управитель канцелярии, совершенно пришибленный приключившейся бедой, поднялся и на носках прошел в спальню…
— Ах, какая обида… — зашептал Аникита Ильич, оставшись один. — Ах, обида! Вот не ждал… Поверил на мгновение ока, и всего перетряхнуло… Понятно, что просто Басанов и лезет ко мне… Думает, идол, что его мещанское прозвище — то же, что и мое… Ну, ладно… погоди. Я вот тебя сейчас приласкаю. Будешь, Басанов, помнить Аникиту Басман-Басанова.
Старик поднялся, оправился, вздохнул глубоко, потом подошел к окну и заглянул в него… Он поглядел на громадную домну с дымящимися трубами, где пережигалась руда, день и ночь, уже четверть века, на расстилавшееся за нею огромное озеро, сиявшее, как зеркало, и на длинную высокую плотину, которую они с братом Саввою чуть не собственноручно соорудили, дежуря по очереди в начале работ… Разные ученые «рябчики» из столиц говорили, что плотина не выдержит первого же весеннего половодья или больших ливней, и озеро рванется и затопит заводы на пять верст… А вот она третий десяток лет хочет стоять… Затем глянул старик на здание, выстроенное по его рисунку ради забавы, — на пятиугольную коллегию с башней и часами. Наконец, повернув голову, он посмотрел на каменный храм с высокой колокольней… Здесь под алтарем покоятся и спят вечным сном брат Савва Ильич, создатель всего этого, его две жены, малолетний Саввушка и наконец Алексей, на которого была последняя надежда и который тоже лишил Высоксу истинного наследования… Будет она принадлежать каким-нибудь Завадским… Уж лучше князьям Никаевым.
— Да, жаль мне тебя… дорогая моя… — с чувством произнес старик… — Отдам я тебя лучше князьку Давыдке, свойственнику, чем совсем чужому человеку… Ну, а теперь этого смутителя моего духа надо принять и отвадить…
Аникита Ильич, печально настроенный, переживший вдруг из-за пустого случая несколько глубоко прочувствованных мгновений, кликнул не сурово, а каким-то слабым голосом, как никогда не звал холопов:
— Эй! Кто там?..
В прихожей и коридоре уже набралось довольно много народу… Все без исключения удивленно и почтительно оглядывали сидевшего на кресле офицера и недоумевали, отчего барин заставляет ждать такого гостя…
«Хочет ему себя показать и малость поучить!.. — думали некоторые. — Меня, мол, амуницией не удивишь. Я сам в гвардии был…»
При оклике барина из приемной явился Змглод.
— А! Ну, вот… — выговорил старик. — Ты умный! Слышал ты, как о себе велел доложить офицер?
— Слышал, — угрюмо ответил обер-рунт.
— Говори!..
Змглод пригляделся к барину и молчал, соображая. Барин вскрикнул: «Говори!» А это с ним редко когда случалось. И недаром «Турка» высокский был умнее всех других: он тотчас понял и ответил:
— Приказали они сказать, что желают иметь честь вам представиться и засвидетельствовать…
— Имя… имя свое, как он назвал? Фамилию свою?..
— Не слыхал… — глухо ответил догадливый обер-рунт.
— Не слыхал… не слы-хал?! — протянул Аникита Ильич и тоже догадался, что Змглод лукавит…
«Почему?» — подумалось ему… И затем, отчаянно махнув рукой, будто желая отогнать от себя грустные мысли и прекратить свое волнение, он выговорил резко:
— Проси сюда…
Аникита Ильич стал среди кабинета, глядя в дверь… На пороге появился красивый, стройный офицер с приветливым открытым лицом, с добрыми светлыми глазами…
— Имею честь представиться в качестве вашего родственника… — начал он наклоняясь.
— A-а?… Родственника!! — шепнул старик, но тем своим шепотом, которого все боялись и который теперь и офицера несколько озадачил.
— Точно так-с… Дальний, но все же…
— Как ваша фамилия?.. — уже грозно произнес старик, и маленькие глаза его вспыхнули, метнули искру.
— Дмитрий Басман-Басанов.
— Что-о?! — протянул старик, как бы грозясь.
Офицер слегка смутился.
— Басман-Басанов… Дмитрий… по отцу Андреевич, — тише вымолвил он. — Принадлежу к той же фамилии, как и вы…
— Басанов!.. Басанов!.. Не Басман-Басанов…
— Басман-Басанов…
— Не Басман! — вдруг, наступая на офицера, вскрикнул Аникита Ильич таким голосом, что в приемной комнате, в коридоре и в канцелярии все встрепенулось и двинулось, не зная, что лучше — бежать к барину или бежать от барина, от похмелья в чужом пиру!
— Виноват-с, но вы ошибаетесь… — смелее произнес молодой человек, добродушно улыбаясь. — Я Басман-Басанов, отец моего родителя, а мой, стало быть, дед, Иван Дмитриевич, приходился двоюродным вашему покойному родителю Илье Михайловичу. Стало не только я Басман… но прихожусь вам, как внучатный…
Но офицер не договорил. Старик двинулся, обхватил его, но не обнял, а повис на нем… Ноги его подкосились.
— Помоги… Посади… — прошептал он сдавленным голосом.
Молодой человек, изумляясь, довел старика под руку к креслу.
Аникита Ильич опустился на него, как пришибленный…
Если б старик от природы своей умел плакать, то теперь разрыдался бы на весь дом.
Он поглядел на офицера, протянул к нему руки, хотел сказать: «поцелуемся», и вдруг, нечаянно для самого себя, прошептал:
— Высокса…
III
Бывали роковые минуты в жизни Аникиты Ильича, но такой, казалось, еще никогда не было. Голос его, крикнувший «не Басман» и всполошивший всех, всем доказал, что с барином произошло что-то изрядное, имеющее огромное значение…
Весь дом, просители, канцеляристы, дежурная дюжина нахлебники, даже немец-доктор Вениус, случившийся в квартире князя Никаева — все узнали и повторяли крик барина: «Басанов! Не Басман!» Но разумеется, никто не знал, чем все кончилось. Все в кабинете барина стало вдруг тихо на целые полчаса, и весь дом продолжал ждать, чем все разрешится… Одно обстоятельство было удивительно: Пастухов, доложивший об офицере, исчез, якобы пропал без вести… Нельзя же было предположить, что канцелярист присутствует при беседе барина с гостем-родственником. Никто, конечно, не подозревал, что Пастухов, бледный и трепетный сидел в комнате около козел с бревном и пилой и бредил наяву о солдатстве, Сибири…
Между тем Аникита Ильич, быстро оправившись и вполне овладев собой, снова облобызался с нежданным дорогим гостем, заставил его себе рассказать подробнейшим образом все, что только тот знал о своем деде, чтобы убедится, что нет ошибки… Но ничего подобного быть не могло… Молодой Дмитрий передал со слов своего покойного отца, что его дядя имел двоюродного брата, бедного помещика где-то в трущобе, которого звали Ильей, по отцу Михайловым… но что его сыновья, их дальняя родня, ныне богачи, владельцы огромных железных заводов. Отец только из гордости ни разу за всю жизнь не захотел явиться в Высоксу.
Наконец, после беседы с Аникитою Ильичом, совершенно сраженный, молодой человек, немало удивленный его видом, предъявил ему свой полковой отпуск, где значился так, как заявлял. Понемногу старик совсем пришел в себя и сиял. Прежде всего, спохватившись, он приказал, чтобы немедленно вещи родственника перенесены были в дом, а две гостиные внизу отделены и в них устроено помещение для неоценимого гостя-родственника. Затем он послал за барышней.
Сусанна, конечно, давно уже знала невероятную весть от Угрюмовой и не поверила, отнеслась так же, как и старик, говоря:
— Басанов — просто… не Басман же…
Но вскоре явился человек от барина со словами «пожаловать наверх спознакомиться с братцем».
— Барин приказал ту ж минуту, — прибавил он.
Сусанна догадалась и взволновалась. Она быстро оправилась перед зеркалом и двинулась к дяде… Разумеется, она была встревожена немного меньше старика… Она сразу поняла, что судьба Высоксы вдруг выяснилась и определилась, вполне зависела от новоявленного, как снег на голову, близкого родственника. А стало быть, и вся ее будущая жизнь зависела теперь от этого неведомого молодого человека…
Когда Сусанна вошла, увидела офицера и познакомилась с ним поклоном, то Аникита Ильич воскликнул радостно:
— Что вы… что вы… этак-то? Родные, да этак! Поцелуйтесь… Санна обними его, поцелуй… И вы… и ты… ты, Дмитрий… целуйтесь…
Санна вспыхнула, молодой человек смутился настолько, насколько в его годы и будучи офицером смущаться, казалось было бы даже не мыслимо… Краснея, они обнялись и расцеловались.
— Смотри, пожалуй, — сказал старик. — Красная девушка заалелась. Вон ты какого нрава-то. Ну, что же?.. Тем лучше… не озорник, а степенный.
В несколько мгновений, после нескольких слов, которыми обменялись Дмитрий и красавица, она уже знала, что за человек пред ней.
В определении нрава, характера мужчины у Сусанны был верный глаз, поразительная сметка или просто опыт… Через четверть часа она чувствовала себя внезапно обрадованной, даже счастливой. Ее судьба была решена!.. И она знала, как решена! Она знала и видела этого молодого человека так, как если бы знавала давно или уже прожила с ним год. Когда Аникита Ильич отпустил племянницу или вернее приказал уходить и оставить его наедине с «племянником», Санна вернулась к себе, радостно сияющая и бросилась к Угрюмовой.
— Анна Фавстовна! — воскликнула она. — Вот уж не слыхано, не видано… И слов у меня нету. После… Соберусь с мыслями… Вот уж этакого не ждала я… этакого! Да что же это?
Чудо, что ли, какое… Или опять наваждение дьявольское? И вон сейчас все рассыпется…
Но на вопросы Угрюмовой Сусанна ничего не ответила, задумалась и долго сидела не двигаясь с радостным, почти восторженным выражением на лице.
Анна Фавстовна глядела на нее, разиня рот, и думала:
«Неужто оттого, что красавец… новый ей отыскался?..»
Но наперсница ошибалась… Не от лица и статности гостя — родственника взволновалась красавица а оттого, «что» и «кого» провидела и угадала она в этом молодом человеке.
Между тем Аникита Ильич настолько потерял от радостного события рассудок, что и гостя-племянника ввел в недоразумение.
Дмитрий Басанов объяснил ему, что его дочь красавица, но он полагал ее много моложе.
— Дочь? — удивился старик.
Оказалось, что молодой человек принял Сусанну за Дарьюшку, слышав приказание позвать барышню.
— Гей! — крикнул Аникита Ильич и приказал появившемуся лакею звать немедленно наверх «маленькую» барышню…
Когда, действительно, маленькая, всегда робкая, а теперь совершенно перепуганная Дарьюшка явилась в кабинет, то последовало почти то же…
— Поцелуйтесь! — приказал Аникита Ильич… — Дарьюшка, он нам родня. Он мне племянник. Поняла? Нет?
Молодой человек, нагибаясь, расцеловался с родственницей, но нисколько при этом не смутился… Эта маленькая девочка, с глупо испуганным лицом, если и смутила его, то совершенно на иной лад. Она поразила его прежде всего своим удивительно невзрачным видом, малым ростом, глупым лицом.
«Ну, уж невеста?!» — подумал он.
Затем весь день Аникиты Ильича спутался. Он не расставался с племянником. Прием просителей был отменен, доклад коллежского правителя и заведующего канцелярией ограничился двумя-тремя важнейшими делами, пока отпущенный Дмитрий Басанов переодевался… Гулять по саду старик тоже не пошел…
К обеду старый барин явился под руку с молодым и представил ему всех присутствующих — и свойственников, и нахлебников. День и приезд офицеру напомнил всем другой день и другой приезд… Все было буквальным повторением того, что видели давние высокские обыватели лет десять тому назад. Тогда явилась красавица и всех сразу очаровала и все почуяли, что она сделается важной личностью в доме. Теперь явился красавец, и все также ясно поняли, что ему суждено стать важной личностью в ближайшем будущем и еще важнейшей в далеком будущем…
Как был радостно настроен тогда барин, так же был весел и счастлив он и теперь, пожалуй, даже еще счастливее… Причины были разные… Тогда он радовался за себя лично, а теперь за свое детище… Все думали, что детище — Дарьюшка, и ошибались. Если бы маленькая барышня вдруг умерла, то барин был бы огорчен наполовину… Она, Высокса, все-таки стала бы по закону Басман-Басановскою.
За обедом все заметили, что Сусанна Юрьевна как-то особенно красива. С прической ли своей она что вдруг сделала, или же удивительно изменчивое лицо ее преобразилось от оживления и радости.
Даже Аникита Ильич заметил эту перемену и подумал:
«Не такая она себялюбивая, как я полагал. Вот радуется за меня и за Высоксу!»
Тайная мысль Аникиты Ильича, что судьба сама привела к нему наследника, мужа для дочери, и что этот брак — дело решенное, разумеется сообщилась тотчас же всем. Все приветливо глядели через стол на гостя-офицера, носящего фамилию барина, и всем будто казалось, что он не сегодня утром явился, а уже давно живет в Высоксе.
Сусанна глядела на Дмитрия так, как если бы тоже его давно знала и любила. Он сидел рядом с ней, но на ее обычном месте, около Аникиты Ильича. Гостей на это ее место никогда не сажали. Убеждение, что этот молодой человек будет объявлен женихом Дарьюшки не позднее, как через несколько дней, а затем сделается владельцем всего состояния, главным лицом после старика дяди, то есть заменит ее самое, — не печалило Сусанну, а радовало.
— Молодые-то господа нас затрут! — сказала ей Угрюмова.
— У меня на это свои мысли! — загадочно ответила на это Сусанна, смеясь и тщательно прихорашиваясь к обеду.
Дарьюшка, сидевшая около отца и против молодого человека, была как потерянная… Все, глядя на нее, недоумевали… Разумеется, девушка-подросток тоже поняла, что это жених, ее будущий муж… Никто, от барина до последнего мальчугана-буфетчика, этого не сказал. А между тем все это знали, как если бы барин сам объявил это с порога зала, как когда-то объявил о смерти Алексея Аникитича.
Громкий и веселый говор за обедом не прекращался. Дмитрий Басанов говорил с Аникитой Ильичом о Петербурге и о службе в гвардии. Старик вспоминал свое время. Разница оказывалась огромная.
То были последние годы царствования «дщери Петровой» и шестимесячная «неразбериха» Петра Федоровича. Теперь кончался уже третий десяток лет славного и громкого «во всем свете» царствования «Великой» монархини. За эти тридцать лет было так много пережитого россиянами, что молодой Басман-Басанов при иных воспоминаниях, иных вопросах старого Басман-Басанова раскрывал широко глаза и говорил:
— Возможно ли… Вот удивительно… Не вы мне это скажи — не поверил бы.
Аникита Ильич смеялся:
— У нас в казармах своя скотина была: коровы, овцы, свиньи… Жены-солдатки доили, а ребятишки свиньями и поросятами занимались… А пойдем летом в лагерь, а то в поход, скотину гоним: каждая рота свою.
— Да, ведь это же не полк, а цыганский табор! — заметил Дмитрий.
— Истинно так, — отозвался Аникита Ильич, смеясь. — Так вот поди… привычка. Никому на ум не приходило, пока Петр Федорович не ахнул на нас и не завел немецких порядков…
Среди обеда, говора и общего оживления со стариком вдруг приключилось что-то. Он слегка изменился в лице, оглянул весь стол страшными глазами и остановил их на госте. Молодой человек, не привыкший к дисциплине Высоксы, спросил наивно:
— Вам нездоровится, дядюшка?
Но он не получил ответа. Все смолкло и замерло за столом. Даже Сусанна тревожно глянула на дядю, изумляясь необычному явлению. А Аникиту Ильича будто ножом в сердце ударила нежданно явившаяся мысль.
«Что же это я? — думалось ему. — Ума решился?!»
Да, случилось нечто, что доказывало, что он совсем потерял голову. Переменившись в лице — настолько смутила его мысль, вдруг явившаяся в голову, — старик вдруг зашептал против воли, как бы теряя самообладание. Удар был слишком силен.
— Как же это я?.. — шептал он. — Невероятно… поверить нельзя… никто не поверит!
Он поглядел на Дмитрия и будто вдруг собрался что-то сказать, но колебался.
«Нельзя! Нельзя! — проговорил он мысленно. — Сейчас? За столом? При всех? Нельзя!»
Однако, продолжать сидеть за столом, ждать еще полчаса было невозможно. Аникита Ильич чувствовал, что за эти полчаса он измучится, истерзается.
«У чертей на сковороде легче!» — подумал он и вдруг обратился ко всем…
— У меня до моего дорогого племянника важнеющее дело… Сидите… а мы с ним выйдем в китайскую, перемолвимся и вернемся… Пойдем, Дмитрий Андреевич.
И оба встали и двинулись в гостиную, где после обеда всегда подавался десерт и сладкие напитки. Сусанна изумленно проводила обоих широко открытыми глазами. Она ломала себе голову и ничего понять не могла.
Между тем Аникита Ильич взял Дмитрия Басанова под руку, вышел с ним, столь же взволнованный и тревожный, каким был при известии, что перед ним стоит «Басман», а не просто Басанов.
Очутившись за дверями, старик выговорил:
— Я не скрываюсь… я начистоту… А там что Бог даст. И как вы… или ты посудишь… но я еще не спросил и не знаю… Будто разум у меня сегодня отшибло… Поверишь, мудрено… Скажи… мне не терпится знать… Женат ты?..
— Холост, дядюшка, — рассмеялся Дмитрий.
Аникита Ильич порывисто обхватил молодого человека рукой, поцеловался с ним и быстрым шагом вернулся к столу, таща его за собой. Лицо старика сияло вновь, но казалось уже восторженным.
— На всякого мудреца много на свете простоты, — заявил он садясь. — Всякий может обмахнуться, а я, Аникита Басман-Басанов, сегодня с Дмитрием Басман-Басановым удивительного маху дал… И вот сейчас спохватился… Гей… Подавайте венгерского нам… Выпьем за здоровье дорогого гостя.
И весь этот день в доме, по выражению коллежского правителя Барабанова, любившего острить, прошел чистым «турманом».
Барин сам свертелся и других всех завертел.
IV
Дмитрий Басман-Басанов, двадцатипятилетний человек, был бесспорно красивый и статный молодец и вдобавок с явными признаками родовитости. Мундир, и притом еще блестящий, конечно, красил его, но и в простом одеянии, хотя бы в рубахе и кафтане крестьянина, он бы все-таки сохранил в своей фигуре нечто особенное, не приобретаемое ни воспитаньем, ни средой, а родовитое, наследственное, породистое. Его голос и выговор, кисти его рук и ступни ног чуть не маленькие по росту помешали бы ему, если бы ради шутки он захотел прослыть за мужицкого парня. Ряженье не укрыло бы расового изящества.
Нравом это был крайне беспечный, мягкий и добродушный человек. Не очень далекий, пожалуй, строго судя, даже простоватый, но воспитание и лоск среды, в которой он жил и вращался с юношества, скрали недостаток ума. Благовоспитанность заменила собой многое, чего в нем не было.
Вместе с тем Дмитрий был крайне чувствительный и сердечный малый, ласковый и приветливый с низшими, не намеренно, а невольно, по кротости души.
В его характере была одна яркая особенность, даже главная основная черта, которую прозорливая Сусанна увидела или угадала тотчас. Это было безволие, полное, безграничное, более чем ребяческая податливость; необходимость, даже потребность быть под властью, быть руководимым. В этой господствующей черте характера молодого человека был отчасти виноват его покойный отец, крутой деспот, с первых его ребяческих лет сломивший ту волю, которая могла быть в сыне. Андрей Иванович Басанов носил даже прозвище «грозный».
Когда отец умер, то молодой человек почувствовал себя совершенно потерянным среди людей, будто оробевшим. Он был уже офицером, а действовал как малый ребенок, ибо некому было приказывать ему. Маленькое состояние оставшееся после отца и при котором он мог бы существовать в столице и в гвардии, быстро растаяло и исчезло… И Дмитрий сам не знал, как это случилось. В то же время он встретился с пожилой женщиной, дворянкой, вдовой, богатой, молодящейся… Она влюбилась в него и предложила средства к жизни. Дмитрий, по примеру некоторых товарищей если не по полку, то по гвардии, согласился на то, что было в правах и низостью для молодого офицера вовсе не считалось.
Разумеется, сорокалетняя вдова заменила отца и вполне овладела бесхарактерным добряком. Попав под влияние этой женщины, которая как бы закабалила его, Дмитрий этого не заметил. После крутого отца всякая зависимость показалась бы свободой. Женщина была только ревнива, но не деспотична. Отец всячески держал его в «ежовых рукавицах», и молодой малый, которому было уже, наконец, двадцать два года, не смел шагу ступить без объяснения, куда он отправляется, зачем, к кому и когда вернется. Вместе с тем мечта отца постоянная и неотступная была одна — женить сына на богатой девушке-приданнице. И он старался всячески отдалять сына от женщин, чтобы тот не увлекся.
Часто заходил между отцом и сыном разговор о том, что у них есть дальние родственники, страшные богачи, но ехать знакомиться с ними Андрей Иванович не хотел. Он знал отлично все, касающееся до Высоксы, знал, что его троюродный брат Савва Ильич холост, затем он узнал, что этот родственник умер и его часть досталась его родному брату Аниките Ильичу. Он знал также, что у этого родственника только двое детей, сын и дочь. Эта дочь лет на десять моложе Дмитрия и могла бы со временем стать его женой. Но отправляться с поклоном к богачу-родственнику он пересилить себя не мог. Состояние — вотчина в Тульской губернии — было маленькое, и оба Басман-Басановы, и отец, имевший место при генерал-прокуроре, и сын-гусар, перебивались, сводя концы с концами. Дмитрий сам не собирался жениться, был доволен и счастлив под крылышком отца, как когда-то был доволен, сидя «под юбками» своей няньки. Матери он не помнил, так как потерял ее четырех лет от роду.
Неожиданная и внезапная смерть Андрея Ивановича, конечно, подействовала на молодого человека потрясающим образом. Он готов был руки на себя наложить. Он не мог даже представить себе как будет он жить один-одинехонек, без кого-либо, над ним власть имеющего.
Но, на счастье, не прошло и полугода со смерти отца как умная и независимая женщина утешила его, спасла. Видя, с кем она имеет дело, она не стала ждать, чтобы он решился на что-либо. Она сама стала упорно ухаживать за ним и быстро, без особого труда, добилась своей цели.
Дмитрий вообразил себе, что он увлечен, что он полюбил эту женщину, пожилую, не красивую, но зато действительно очень умную и очень энергичную.
Она не помыкала им, как отец, но зато также отдаляла его всячески от женского общества. И там, где могла оказаться соперница, он шагу не смел ступить без нее. И он был опять доволен, не чувствовал себя потерянным среди чужих людей.
Если бы не катастрофа и неожиданная смерть этой женщины, то нет сомнения, что она и кончила бы тем, что женила бы его на себе.
Оставшись снова один на свете, но и снова без средств, Дмитрий пришел в мрачное отчаяние. Он был убит и настолько, насколько мог быть убит по беспечности и добродушию своего нрава. Он стал собираться в монахи, к великому удивлению товарищей и знакомых. Однако, нежданно чужой человек, старик умный, добрый, вмешался в его судьбу.
Статский советник Завадский, которого Дмитрий никогда в глаза не видал, вызвал его к себе и расспросил… Узнав все до него касающееся, он спросил молодого человека, знает ли он своего однофамильца Басман-Басанова, богача-заводчика. Дмитрий ответил, что это его родственник, но дальний, и что он его не знает, так как его отец и даже дед не знавались с ним, из чувства известной гордости.
Завадский передал Дмитрию последнюю новость про своего бывшего товарища по полку, то есть, что узнал из письма к нему самого Аникиты Ильича… смерть единственного сына и наследника и желание скорее выдать дочь, наследницу своего состояния, замуж за порядочного молодого человека… пожалуй, за сына своего товарища.
Завадский, рассказав про это, объяснил, что детей у него нет, а что когда он прослышал про гусара Басман-Басанова, то ему пришло на ум… почему старик-заводчик не хочет в зятья однофамильца и даже, быть может, родственника? Быть может, он даже не знает о существовании гусара.
Разумеется, Завадский убедил Дмитрия тотчас собраться к родственнику.
— Попытка не пытка, — сказал он, — спрос не беда! Почем знать, чего не знаешь?
Так как молодого человека было не мудрено убедить в чем бы то ни было, то, разумеется, через неделю Дмитрий уже выехал из Петербурга к троюродному дяде на поклон, точно так же, как когда-то собралась и Сусанна Касаткина.
И случилось желанное… Как красавица-девушка, внучка, так и красавец-гусар, племянник, были радостно, почти восторженно приняты стариком Басановым, хотя и по двум совершенно различным причинам. И если Сусанна когда-то не была удивлена своим успехом, то Дмитрий сам себе не верил, видя, какой переполох произвело его появление.
Разумеется, собираясь к старому дяде, у которого после смерти сына была богатейшая наследница-дочь, он очень мало надеялся на успех. Если бы не убеждения нежданного благоприятеля Завацкого, то, конечно, он не собрался бы вовсе. Вместе с тем, если бы дядя этот принял его холодно и негостеприимно, то он быстро утешился бы по легкомыслию. Но прием, оказанный ему, превзошел ожидания, и Дмитрий был даже озадачен.
Первый день, проведенный им в Высоксе, показался ему без конца, так много впечатлений пришлось испытать.
Три главные личности поразили его. Сам хозяин, старик, показался ему добрым и глупым… совсем иным человеком, чем говаривал, судя по слухам, его отец. Дмитрий, конечно, не знал, что нежданная радость обрести жениха для дочери, однофамильца, сделала вдруг Аникиту Ильича добрым, и эта радость, внезапно свалившаяся на голову, так смутила его, так огорошила, что, пожалуй, действительно сделала его на один день будто глупым. Недаром же несколько часов сподряд мысленно ликовал он, что отдаст Высоксу Басман-Басанову, и, расспрашивая, толкуя о всяких пустяках, не подумал спросить, женат или холост новоявленный родственник.
Сусанна особенно и необъяснимо поразила Дмитрия. Целых полчаса предполагал он, по недоразумению, что она дочь и наследница всего. И эта ошибка, продолжавшаяся хотя и недолго, однако оставила свой след. Теперь он жалел, что ошибся, что эта красавица только племянница Аникиты Ильича. За обедом, сидя около нее и разговаривая с ней, он каждый раз опускал глаза, когда взоры их встречались… Каждый раз, что эта женщина взглядывала ему в лицо, он смущался, как юноша.
«Ух, какая она…», — думалось ему. И почему он, офицер, гусар, столичный житель и щеголь, видавший женщин и красавиц… все-таки такую будто еще никогда не видал? Видно, в глуши и трущобах водится такое, чего нет в столицах.
Дмитрий не брал, конечно, в расчет, что по милости отца и ревнивицы он при своих двадцати пяти годах видал женщин только издали, а близко сошелся лишь с двумя: при жизни отца — с немочкой, глупой и рыжеватой, продававшей сливочное масло и простоквашу в Большой Морской, а по смерти отца — со своей сорокалетней ревнивицей, которая приказала любить себя. Как все наивные и неопытные люди, он вдобавок не замечал или не понял, что эта красавица-родственница с первой же минуты поставила себе целью увлечь его.
И Дмитрий дивился про себя, как быстро и сильно, все сильнее с каждым часом нравится ему эта родственница. Помимо ее прекрасного лица, каких-то лучей в лице этом, будто освещаемом огнем чудных глаз, было в ней еще что-то, для него обаятельное, чарующее… Это была ее власть над ним, сразу возникшая, сразу сказавшаяся. С первого же мгновения покорила она и взяла его, а он остался… невидимо, непонятно, необъяснимо, но ощутительно для них обоих.
Разумеется, бесхарактерный и увлекающийся молодой человек был бы способен даже бросить помыслы о богатой невесте и увезти отсюда жену… не Дарьюшку, а Сусанну. Но она, Сусанна, решила иное… Она сразу увидела, что может сделать с ним все, что захочет… И она решила теперь, что он будет мужем Дарьюшки, а ей заменит покойного Алешу… А там… после?.. Авось они переживут «старую Киту»! А когда переживут, и он, Дмитрий, станет хозяином Высоксы… тогда… тогда видно будет!..
V
На следующий день, сороковой день поминовения усопшего молодого барина, вся Высокса рано поднялась на ноги.
Все заводы были закрыты. В домне потушили громадные печи, где пережигалась руда и выливался, плавился чугун.
В девять часов около дюжины экипажей появилось у подъезда — для барина «с барином», для двух барышень, для родни барина и для всех нахлебников из дворян. И целый поезд двинулся в храм, хотя до него было всего сажень триста расстояния.
Вокруг храма была с раннего утра густая толпа крестьян и заводских. Аникита Ильич в открытой коляске, выписанной из-за границы, сидя рядом с племянником, который был в полной парадной форме, доехал от дома до церкви шагом, среди моря голов, обнаженных и кланяющихся при его проезде.
Служба длилась долго. Но все, что было в церкви, от барина Аникиты Ильича и до последнего мальчишки-рабочего с завода, смотрело не печально.
Что-то случилось.
Случилось то, что все думали и были заняты мыслями не об усопшем молодом барине, а о новом молодом барине. Все чуяли, что один заменил другого.
Заупокойная служба и вся обстановка в храме все было так же торжественно, как когда-то при похоронах.
Но к торжественности этого сорокового дня примешалось нечто особенное, что все ощущали. Не было печали, горевания. Все и всё смотрело если не весело, то бодро, оживленнее, чем подобало. Довольный вид старого барина, должно быть, подействовал на всех. А фигура красавца в сияющем мундире, «племянника» барина, подействовала на толпу, как могло бы подействовать какое-либо нежданное чудо, «воочию» приключившееся.
Это первое появление Дмитрия при народе в последний день поминок по усопшем, замена одного молодого Басман-Басанова другим Басман-Басановым именно в этот день, именно в храме — было замечено и суеверно истолковано всеми, от господ до крестьян.
Дмитрий стоял около дяди. Господское место было за правым клиросом, на одну большую ступень выше пола, а возвышение было обнесено белой с позолотою балюстрадой, обитой светло-зеленым сукном. На полу был разостлан темный персидский ковер. Старый барин стоял всегда один сзади своих и еще одной маленькой ступенькой выше их, на особом коврике, и был поэтому видим всеми чуть не по пояс.
На этот раз впереди места стали, как всегда, две барышни, одна высокая и стройная красавица, другая маленькая и невзрачная толстушка. С ними всегда бывало становился покойник Алексей. Теперь же не с ними, а рядом с дядей и ступенькой выше их, стоял новоявленный Басанов.
Что хотел этим сказать Аникита Ильич, его рабы поняли тотчас. Только наместника в его приезды ставил он около себя, да и то шутил потом:
— Приказать старосте господское место в храме уксусом с мятой окурить, чтобы подьячим не отдавало!
Налево против этого места было такое же возвышение, большее, обитое темным сукном и огороженное темной балюстрадой, где становились только свойственники барина. За этим вторым возвышением в глубине церкви было третье, самое просторное, для нахлебников-дворян и для семьи Ильева. Таким образом, Бобрищева и князь Никаев с детьми бывали и в храме отличены от простых приживальщиков, хотя и дворян.
Но в этот сороковой день получилось нечто особое. Если направо всех удивлял новый молодой барин, около старого барина, то налево была другая диковина. Вся семья Ильева, за исключением его самого, ушедшего на богомолье, его жена и сестра, его два сына, Егор и Михайло, и две дочери, Алла и Лукерья… впервые стали на этом месте с его свойственниками. Барин накануне приказал… Признал ли, наконец, Аникита Ильич своих «боковых» за настоящую родню?.. Или иное что приключилось?.. Одна Сусанна, изумленная, догадалась и мысленно пошутила: «Неужели Алла Васильевна на это место со всей семьей пришла… по винтушке!»
Наконец, уже перед полуднем все вернулись из храма, но не разошлись по своим комнатам. Один лишь барин прошел к себе наверх подписать две спешные бумаги, одну в Петербург, другую в Нижний Новгород богачу-купцу. Он начинал с ним «большое дело»: поставку чугуна и листового железа в целый край, приобретенный и созданный великой царицей, — в Новороссию.
Все понемногу собирались в большой зал, где уже был накрыт длинный стол «покоем»[14] человек на сто. Это была поминальная сороковая трапеза по усопшем. Ради этого особого случая не только все приживальщики из мещан, никогда не допускавшиеся за барский стол, но далее некоторые личности, не смевшие садиться при барине, его крепостные люди, были сегодня позваны к столу помянуть раба Божия Алексея.
Поэтому Барабанов с двумя своими главными «коллежскими товарищами» и заведующий канцелярией Пастухов, а с ним и обер-рунт Денис Иванович Змглод и многие другие, никогда не бывавшие за столом барина, как Анна Фавстовна, няня Дарьюшки — Матвеевна и, наконец, дьячки и пономари обеих высокских церквей, даже просвирня, даже случайно, в очередь, дежуривший в этот день «дюжинный», простой дворовый — все попали за барский стол.
— День изрядный в семье моей, — сказал накануне Ани-кита Ильич. — И на сей день все мы якобы станем равны пред лицом людей, как, по священному писанию, мы все равны пред лицом Господа!..
Разумеется, все, никогда не бывавшие за столом барина должны были разместиться на двух концах «покоя» и, конечно, не дерзать разговаривать промеж себя. Ровно в полдень зал уже был полон, и явившиеся ожидали появления господ, держась отдельными кучками.
Семья князя Никаева или майор Константинов, или старые девицы Тотолмины, как дворянки, и даже Ильевы, как побочные родственники, не могли здесь мешаться с семьей крепостного Барабанова, а тем паче с некоторыми другими приглашенными и допущенными. Только одна Угрюмова в качестве чиновницы и любимицы барышни стояла около Бобрищевой, самой гордой из всех приживалок. Она гордилась и своим древним родом, и тем, что ее сестра, хотя и была «отвергнута» мужем и пострижена, а все-таки была когда-то барыней-хозяйкой в Высоксе.
Густая толпа собралась на площади между домом, коллегией и домной; здесь предполагалось подносить стакан вина и кусок пирога.
Около половины первого мальчуган Фунька пронесся стрелой сверху во второй этаж, чуть не сбивая с ног сновавших гостей и служителей. Забежав в комнаты барышни, где сидели в ожидании и Дмитрий и Дарьюшка, он шепнул с порога:
— Барин!
Но этот обычный Фунькин шепот можно было, казалось, расслышать за версту. А в зале одно его молниевидное появление уже сказало: «барин», и заставило всех оправиться… даже духовенство.
Новый высокский гость и обе барышни вышли в зал. Сусанна подошла говорить с Бобрищевой, а Дмитрий удивил всех, подойдя под благословление не только отца Гавриила, но равно и «проволочного батьки» отца Григория.
Минут через пять появился сам барин. Все сели за стол. Поминальный обед начался тихо. Никто почти не разговаривал или обменивался двумя-тремя словами вполголоса и даже шепотом. Слышался только легкий лязг приборов о посуду да мягкие спешные шаги служивших лакеев.
В половине обеда люди разлили всем венгерское и донское, смотря кому… По знаку Ани киты Ильича все духовенство, священники, дьяконы, дьячки и пономари, сидевшие вместе, но по старшинству на левой половине «покоя», все сразу поднялись с места. В ту же минуту из дверей показались шеренгой по два в ряд певчие. Они прошли и выстроились за духовенством.
По второму знаку барина, все без исключения, но кроме Дмитрия и двух барышень, тоже поднялись и стали у стола. Оглянув стоящих со своего места и как бы удостоверяясь, что все в порядке, Аникита Ильич взял в руки бокал с венгерским, и все последовали его примеру. Снова окинув стол, суровым взором старик глянул на Дмитрия, Сусанну и дочь… Когда они встали, он не спеша последовал их примеру. В зале воцарилась мертвая тишина. Все были на ногах, кругом стола с бокалами в руках. Служившие люди тоже стали смирно там и так, как были застигнуты, кто с блюдом, кто с бутылкой или прибором. Аникита Ильич произнес торжественно:
— Упокой, Господи, душу раба твоего, болярина Алексея.
Дарьюшка заплакала и тотчас разрыдалась, но никто этого не заметил, ибо не слыхал, так как сразу звучно и громогласно грянул хор певчих, которому вторило и духовенство, а равно и все присутствующие, кроме женщин. Аникита Ильич пел сурово и фальшиво, но зато громко, пересиливая иногда самого Тараса, заливавшегося соловьем.
«Со святыми упокой» огласило весь дом, а через отворенные окна долетело и до улицы, где толпа стоящего народа поснимала шапки и начала креститься. Здесь по крайней мере все искренно в эту минуту поминали мысленно молодого барина, которого любили. В доме одна «маленькая» барышня плакала по брату. Сам барин был только хмур. Зато барышня очевидно думала о другом. Пока гремел хор, она два раза посмотрела и перевела глаза с одного лица на другое… С певчего, стоявшего впереди других, около регента[15] на молодого гусара, стоявшего около нее… и с него, Дмитрия, снова на Тараса.
Затем она едва заметно улыбнулась и подумала:
«Спасибо, не поспешила… А запоздай он… Было бы теперь… беда не беда, а глупство!»
Хор смолк, и все отпили из бокалов. И среди снова наступившей тишины снова раздался суровый голос барина.
— И сотвори ему вечную память! — протянул Аникита Ильич.
— «Вечная память, ве-чная па-а-мять»… — подхватил и повторял хор певчих уже без вторы присутствующих и тянул концертом, на все лады с переливами, то едва слышно, то гремя на весь дом.
Затем все снова сели за стол, и под влиянием ли крепкого, быть может, столетнего напитка «из запаса Саввы Ильича», или по примеру самого барина, стол оживился, беседа завязалась всюду, кроме концов «покоя», где заранее было указано «знать честь».
Однако и на конце правого крыла обеденного стола был нарушен приказ барина. Обер-рунт, уже давно глядевший через стол на Аллу Ильеву, вдруг сказал что-то… Аникита Ильич услыхал его голос и, обернувшись в его сторону, грозно поглядел на него, а потом по направлению его взгляда.
Змглод глядел на Аллиньку… И странными глазами глядел он!.. Никогда Аникита Ильич не замечал у своего полицеймейстера такого выражения и лица и взора… И что-то будто кольнуло старика… Он и удивился и озлобился.
— Краше в гроб кладут, — вдруг достигли до его слуха повторенные Змглодом слова.
— Молчать! — грозно раздалось на всю залу. Все встрепенулись и двинулись. Протопоп, отец Гавриил, несший в рот кусок судака вздрогнул и выронил вилку на тарелку. Беседовавшие, приняв в первое мгновение это восклицание барина всякий на себя и убедясь, что оно относится к «Турке», оправились и вздохнули свободнее.
Но все смолкнувшее все-таки притихло совсем, так как лицо барина стало другое, чем за минуту назад, когда он подпевал певчим и духовенству.
Лицо же Дениса Ивановича, на которое все невольно глянули, не стало смущеннее или смиреннее. Напротив, Змглод озлобленно исподлобья глядел на всех.
Между тем Аникита Ильич старался овладеть собой, тем волнением, которое сказалось в нем, и от странного взгляда Змглода на Аллу и глупых слов его. И без того для старика заплаканное лицо глупой девочки было занозой в сердце. А этот «Турка» нашел время сказать свои дурацкие слова? И как глядел он на нее… В старике будто против воли проснулось чутье и закопошилось какое-то чувство, ему почти незнакомое… Ревность?! К своему рабу? К хаму… хотя и вольному, не русскому даже подданному, но все-таки его рабу… которого, если он захочет, то может тотчас стереть с лица земли…
И только под конец обеда вполне успокоился старик и снова милостиво оглядывая стол и гостей, приветливо разговаривал с Дмитрием. Наконец все поднялись и откланялись барину. Близкие прошли за ним в китайскую гостиную. Здесь говор и оживление усилились.
Конечно, в эту китайскую были допущены только родня и нахлебники-дворяне.
Дмитрий хотел было тотчас же сесть около Сусанны, но она тихо шепнула ему:
— Дмитрий Андреевич, обойдитесь ласково с нашими старухами, да, пожалуй, со всеми проживающими. Они вас все превознесут за ласку, а молодому человеку оно в пользу.
Разумеется, Дмитрий тотчас исполнил совет, как приказание, и отправился любезничать со всеми, переходя по очереди от одного к другому. Бобрищева и доктор Вениус были тотчас очарованы им. Две старые девицы, Клавдия и Людмила Саввишны Тотолмины, были совершенно околдованы. Только Ильевы и Никаевы не растаяли от любезностей офицера. Алла глядела на него равнодушно и, как бывало всегда за последнее время, уныло. Что касается до молодого князя Давыда Никаева, то он отнесся к новоявленному Басман-Басанову вполне неприязненно.
Молодой человек, красивый брюнет с пробивающимся черным пушком на губе и подбородке, не начавший еще бриться по дворянскому обычаю, был странный малый, простоватый на вид, а в действительности очень умный, отчасти лукавый и скрытный и далеко не робкий. Он не стесняясь показывал теперь Дарьюшке, сидевшей около Сусанны на диване, что ему этот новый любимец ее отца — не указ.
Однако, молодой человек был сильно смущен за эти два дня. Уж давно глухо, боязливо, намеками, а все-таки бегала молва в Высоксе, что Аникита Ильич не прочь бы женить Давыда на Своей дочери, попросив на это, конечно, разрешение святейшего синода. При жизни Алексея это было неважным событием, но когда Дарьюшка вдруг стала единственной наследницей всего состояния, ее замужество за князя Никаева стало вопросом первой важности.
«Стало быть, мы и все будет в руках у Давыдки», — думалось всем в Высоксе.
И со дня смерти Алексея молодой человек стал сдержаннее, горделивее, стал мечтать… что вот не нынче-завтра Аникита Ильич призовет его наверх… И вдруг, как снег на голову, или, вернее, как бы гром грянул с небес на голову Давыда. Явился офицер, родственник, красавец, и очаровал и Аникиту Ильича, и Сусанну Юрьевну, и всех… А эти все стали на него, Давыда, поглядывать совсем иначе, даже, казалось, ухмыляются насмешливо.
Дмитрий заметил в юном князе какую-то сухость в обращении, удивился, а потом догадался. «Эх, голубчик, — подумал он. — Не стал бы я право, отбивать у тебя твою карлицу, если бы вот «она» одно словечко сказала…»
«Она» была, конечно, Сусанна.
И Дмитрий сам был озадачен собственными помыслами и ощущениями. Не минуло еще двух суток, что он был в Высоксе, только три раза беседовал он с Сусанной и уже очутился в полной ее власти.
«Что за притча?! — тревожно спрашивал он сам себя. — Уж больно скоро она меня окрутила!»
И трудно было бы решить, что именно было причиной…
Басанов, Андрей Иванович, и затем пожилая ревнивица-сожительница, несколько лет отстранявшие молодого человека от всех женщин, были что ль виновны? Не только красавиц писаных, но и просто молодых женщин видал он только издали и о чарах кокетства понятия не имел.
Или же Сусанна Юрьевна была и впрямь, как выразился про нее доктор Вениус, «жемчужина в навозе»? Недаром же петербургский баловень судьбы граф Мамонин влюбился в нее когда-то и, если бы она не сдалась опрометчиво, то может быть, и женился бы на ней. А здесь, в Высоксе, кто мог сказать ей: «Что она? Какая ей цена?» Побывай она в столицах и в высшем обществе, то, быть может, сама бы узнала правду и ахнула… Ахнула бы так же, как «Царевна Красота» в сказке, когда увидела в ручье диво дивное а затем узнала, что диво это — она же!
Разумеется, иногда подобные мысли приходили в голову Сусанны. Изредка гости в Высоксе укрепляли в ней убеждение, что она жемчужина, зарытая в землю, затерянная, видимая и оцениваемая людьми… одной Высоксы.
Один гостивший у них моряк, приезжавший с каменным заказом, человек еще молодой, но путешествовавший кругом света, уверял ее, что на его взгляд, она самая красивая женщина из всех, каких он видел… И он говорил это просто, спокойно, холодно… Он же сказал, что она «подобна лицом и повадкою баядеркам». А что такое «баядерка», он разъяснил туманно…
Дмитрий теперь находил тоже, что в Сусанне есть что-то особенное, неуловимое и невыразимое, помимо красоты. Он находил и в лице ее, и во всем теле ту диковинную особенность, что она кажется всегда не то сонной, не то усталой, не то обленившейся… пока не глянешь ей в глаза!.. В чудных глазах горит такой огонь, пышет такое пламя, что эта лень всего тела только пуще дивит, но колдует, чарует, манит…
И это было верно…
Высокая, стройная, но немного узкая в плечах, Санна двигалась и ходила медленно, плавно, но слегка раскачиваясь, будто от лени или устали. Она никогда не садилась, как все, а бессильно опускалась, опираясь полулежа на стол или мебель, или опрокидывалась на спинке сиденья как расслабленная. Но взор при этом горел, вспыхивал, сверкал… А если на мгновение взор потухал, когда она глубоко задумывалась, то еще ярче и пламеннее зажигаясь, опять жег и человека, говоря ему… говоря то, чего словами не передать!.. И теперь каждый раз, что Сусанна, полулежа в кресле или на диване, взглядывала так ка Дмитрия, он начинал волноваться и мысленно повторял:
«Что это? Мурашки по спине бегают от нее!»
Иногда же он будто читал в ее глазах так ясно, как если б она сама говорила:
«Как знаешь… За тобой дело…»
VI
Коллежский правитель выразился про первый день пребывания Дмитрия Басанова в Высоксе, что день прошел «турманом», но он оказался прав и по отношению к последующим дням. Однако это было правдой в ином смысле…
Первый день прошел просто весело и радостно. Все были оживлены появлением молодого родственника и однофамильца барина, все почуяли, что он привез с собой нечто хорошее и важное, долженствующее осуществиться вскоре. Но прошло более недели, и «турман» или волнение в доме и семье барской было иное… Барин, по замечанию всех, был чем-то озабочен. Барышня стала тоже тревожна или не в добром расположении духа.
Диковиннее всех была маленькая барышня; она последовала примеру своей приятельницы: лицо ее изменилось слегка, и глаза были заплаканы. На удивленье и вопросы она ответила то же, что и Аллинька:
— Зубы болят…
Аникита Ильич чуть не ахнул и рассердился.
— Ну, и ты и Алла… Обеим скажу: чтобы живо это проходило… зубы-то… а то я разгневаюсь…
Но если старик отлично знал, отчего молодая Ильева ходит с опухшим от слез лицом, то слезы или печаль дочери, нежданная, как раз к приезду жениха, были ему совершенно непонятны и необъяснимы.
Он не знал, конечно, того, чего и никто в Высоксе: ни единая душа, кроме Матвеевны, не знала. А именно то простое обстоятельство, что соседи по жительству и друзья с детства Дарьюшка и Давыд Никаев были теперь уже не друзья, а нечто иное… Они побожились и жить, и умереть вместе… Теперь молодой князь, скрытный, но пылкий, ввиду приезда Дмитрия и слухов в доме, очевидно верных и правдивых, уже начал звать Дарьюшку идти топиться в озеро. Но девушке это казалось очень мудреным. Она предпочитала плакать по ночам в постели: но однако только до рассвета… Затем она крепко и сладко спала, а днем только вздыхала…
Глядя на красивого гусара, в особенности за столом, когда он разговаривал с отцом или Сусанной, она всячески старалась найти, что он похож на Кощея Бессмертного или на Юру-Горбача, или на Соловья-Разбойника. И никак не могла! Как ни старалась девушка себя убедить, что нежданно явившийся суженый — урод, злюка и идол, глаза ее видели иное, а тайный невольный помысел докладывал ей:
«Всем взял!.. Не будь бедный Давыдушка, то…».
Да, не будь князь Давыд двоюродный брат по матери, с которым она давным-давно ежедневно целуется, да не так, как было в детстве, а на иной лад, то, конечно, этот гусар показался бы ей много красивее всех мужчин, каких она когда-либо видала.
Аникита Ильич возился с новой неотступной мыслью… Что именно такое заметил он в своем обер-рунте, когда тот глядел через стол на его новую юную наложницу? Старик видел, явно видел, что черный «турка» пожирал глазами златоволосую Аллу. Когда на другой день он ввечеру заговорил с Аллой у себя наверху о Змглоде, девушка смутилась, а затем призналась, что она давно любит Змглода больше всех в Высоксе, что они уже пять лет первые друзья.
«Пять лет» и «первые друзья» несколько успокоили Аникиту Ильича, притом разум его окончательно отказывался допустить, чтобы девушка, какою была Алла, могла прельститься, во-первых, хамом, во-вторых, иноземцем вроде «Турка», в-третьих, черномазым уродом.
— Ведь он дурен, как черт! — сказал Аникита Ильич.
— Да. Правда… Куда дурен! Страсть! — согласилась Алла с искренностью в голосе… И хотя она тотчас же прибавила: «А мне милее всех прочих!», но прибавила это про себя, а, конечно, не Аниките Ильичу.
Однако, когда он потребовал, чтобы девушка не «болталась» со Змглодом, так как она продолжала гулять с ним ежедневно по саду в сумерки, то Алла опечалилась.
— Ведь мы этак уж давно… — сказала она. — Я еще совсем маленькой за ним бегала, когда он дозором обходил…
— Да не хочу я этого… и конец! — рассердился Аникита Ильич.
— Слушаю-с, — отозвалась Алла покорно.
Но в следующий раз, явившись по винтушке наверх, Алла показалась старику еще печальнее. И Аникита Ильич стал пуще неспокоен духом.
«Чем черт не шутит, — думалось ему. — Она — совсем юродивая, попросту сказать — дура петая. Такой дуре и Турка чумазый может приглянуться». И старик решил пытать самого Змглода и из него «выцарапать» правду сущую, хотя он сознавал, что обер-рунт настолько умен и лукав сам, что одолеть его хитростью мудрено. Однако, собираясь заговорить со Змглодом об Алле и их дружбе, Аникита Ильич все откладывал. Он будто чуял, что узнает что-нибудь такое, из-за чего придется действовать решительно и круто… И еще хуже будет!
— Чисто блоха, — ворчал он, думая об Алле, — почивать тебе не дает, а найти и словить не можешь…
Действительно, с кем и с чем ни справлялся Аникита Ильич, а с молоденькой девушкой сладу не было.
Сусанну более чем когда-либо беспокоил Анька Гончий. К себе она его не пускала, но при случайных встречах он дерзко смотрел ей в лицо или первый заговаривал… Иногда же он казался ей горюющим, будто пришибленным и жалким.
Ей приходило на ум призвать его, усовестить…
Однажды, вечером, когда Сусанна была у себя и по обыкновению лежала на ковре, явилась Угрюмова и, объяснив, что Гончий у нее, стала просить барышню принять его хоть на минуту, хоть из жалости, так как он «на себя не похож».
Сусанна колебалась несколько мгновений и согласилась.
Анька, впущенный Угрюмовой, появился на пороге и молча стал. Он только украдкой взглянул на Сусанну и, опустив глаза, стал мять свою шапку, которую держал обеими опущенными руками.
— Ну? Что тебе? — вымолвила она холодно.
— Я, барышня… к вам… Я… — начал Анька глухим, сиповатым голосом, и вдруг смолк.
— Ну, говори.
— Я к вам… — повторил он, косясь на Угрюмову.
— Ну? Вижу!.. — резко сказала Сусанна. — Говори, что тебе от меня нужно? Анна Фавстовна, выйдите, — прибавила она.
Когда Угрюмова затворила за собой дверь, Гончий заговорил тихо:
— Сусанна Юрьевна… так нельзя… Вот Христос Бог — так нельзя. Помилосердуйте.
— Чего ты хочешь? — мягче произнесла Сусанна.
— Я хочу… Я вот с той самой поры не сплю, не ем, не работаю… с той поры…
— С какой поры?
— А вот, сами знаете… За что вы так?.. Зачем вы меня загубливаете!.. — проговорил он рвущимся голосом. — Жил я ничего, ни хорошо, ни плохо… Вы меня неведомо за что облюбили. Я ума решился от благополучия… И вот опять, ни за что, ни про что, вы отступились… не позволяете даже придти поглядеть на вас. Что же мне делать теперь? Удавиться! Утопиться!.. Не хочу. Не могу. Не таков я уродился. Что же мне делать? Скажите. Рассудите сами!
Он смолк. Сусанна молчала тоже.
— Что же? Сказывайте! — вымолвил он, наконец, полушепотом.
— Изволь. Я тебе скажу, — заговорила Сусанна с горделивым оттенком в голосе. — Будь счастлив тем, что приключилось, и удовольствуйся… и больше не прискучивай мне. Не хочу я — и конец. Прошло у меня, ну, и…
— Прошло?
— Да.
— Совсем, стало быть? Прежнему промеж нас не бывать? — глухо проговорил Анька.
— Нет.
— Николи, то-ись, в жизни?!
— Нет, говорю. Конец и полно… не хочу.
— Теперь Файка эта… хохол? — злобно прошептал он.
— Это не твоя забота! — вспыхнула Сусанна.
— Как не моя?
— Так. Не твоего ума дело! Да к тому же я тебе не жена. Да, наконец того, я — барышня, дворянка, племянница Ани-киты Ильича, а ты — что?
— Прежде бы так-то было сказывать, — резко выговорил Анька. — А теперь нельзя! Теперь для меня барышни нету… Есть, аль была, моя полюбовница… А теперь бросила и за хохла Тараса принялась… Ну, вот я и помешаю… я не допущу. Я помешаю.
— Как это ты помешаешь?.. — вдруг едко рассмеялась самолюбивая красавица, презрительно глядя на Гончего.
— Как… Грех будет! Я не могу. Что же? Я не могу… помешаю… — бормотал он.
— Как, тебя спрашивают?
— Ножом.
— Что? Что!!
— Ножом, говорю.
— Да что ты, взбесился, что ли? — воскликнула она, невольно подымаясь и садясь на ковре. — Право, ты разума решился… совсем…
— Да. Что ж? Решишься… — прошептал он будто себе.
— Да ведь мне одно слово Змглоду сказать, и знаешь ли ты что с тобой будет?
— Знаю, но не дамся. Я не таковский. Я себя не пожалею. А потому и всем плохо станет. И Денису Ивановичу, и Файке этому, и вам самим…
— Как ты смеешь! — рассердилась наконец Сусанна.
— Я к Аниките Ильичу пойду! В ноги брошусь… Так и так, мол, а все — сущая правда… Вот как… перед Богом.
— A-а?.. Вот что… да-а… — протяжно проговорила она. — Ножом?.. В ноги к Аниките Ильичу?.. Хорошо… Ну, что же… действуй. Ступай.
Наступило молчание.
— Ступай, тебе говорят! — уже гневно произнесла Сусанна.
— Барышня… ради Господа Бога…
— Ступай. Уходи. Слышишь? Иди вон!..
— Барышня!! — отчаянно воскликнул Анька и, казалось, он готов был зарыдать.
— Анна Фавстовна! — кликнула Сусанна…
И, поднявшись с ковра, она двинулась к двери и через голову Гончего крикнула громче:
— Анна Фавстовна…
Угрюмова появилась за спиной молодого малого.
— Выведите его…
— Барышня! — вскрикнул Анька. — Помилуй Бог, что будет!
— Пошел вон!! Анна Фавстовна! Оглохли вы! — закричала Сусанна вне себя. — Вон!! Гоните нахала…
Анька сорвался с места и бросился вон к двери, как если бы вдруг испугался чего… Сам себя испугался он!
VII
Санна не была особенно встревожена угрозами бывшего любимца, отчасти потому, что Аникиту Ильича слишком вообще все боялись, чтобы кто-либо, хотя бы и смелый Гончий, решился идти к нему с объяснением… Чего? Невероятного дела!
Некоторые обыватели Высоксы искренно и не шутя говорили, что идти к барину по иному делу страшнее, чем идти на смерть… Это была привычка бояться его бессознательная, огульная, внушенная в плоть и кровь с малолетства.
Отчасти же смелая лицедейка надеялась на свое искусство и на свою власть над старым дядей. Несмотря на все свои мимолетные прихоти и измены своей любимице, он все-таки был по-прежнему под влиянием ее красоты. Малейшая нежность и ласка с ее стороны вновь воспламеняли как бы охладевающего к ней старика. От доноса и заявления Аньки она собиралась защитить себя перед дядей целой хитро задуманной комбинацией лжи и клеветы.
Впрочем, в эти дни ей было и не до дерзкого конторщика. Увлекая Дмитрия, она тоже увлеклась… И как пылкая, своевольная и разнузданная женщина, она то избегала развязки и объяснения с ним, то вдруг нетерпеливо и прихотливо сама толкала его на решительный шаг. Если бы Дмитрий был смелее и опытнее, то уже овладел бы ею, улучшив минуту, когда она не владела собой. Но он был второй Алеша… Боготворя и поклоняясь, нельзя бороться и одолевать…
Пользуясь почти юношеской робостью и наивностью его, Сусанна иногда шалила, дразнила и забавлялась его страстью на все лады.
Так прошло еще более недели, и Дмитрий был у нее в гостях после обеда, и они остались одни; она легла на свой ковер, а он сел около нее тоже на полу… Понемногу, все ленивее болтая и отвечая, она притворилась, что вдруг крепко заснула…
Дмитрий долго смотрел на нее… затем позвал раза три, чтобы разбудить и прекратить волнение, которое овладело им… И видя, наконец, что она страшно крепко спит, он потерял самообладание, нагнулся и стал тихо целовать руки ее… Через несколько мгновений, уже почти не помня себя, он страстно прильнул губами к ее лицу…
И долго, крепко спала Санна, только дыхание ее, нервное и порывистое, доказывало, что ей будто снится что-то волнующее ее. И она проснулась только тогда, когда поняла, что он совсем теряет рассудок. Она открыла свои чудные глаза, поглядела кругом себя, потом на него и удивилась…
— Да я спала? — изумленно вымолвила она.
После этого дня Дмитрий сильно изменился, стал пасмурен, задумчив, иногда просто печален.
— Бедный мой! — нежно говорила Санна, оставаясь одна. — Погоди… скоро помогу тебе стать отважным…
За эти же дни, однако, ее снова стало сильнее озабочивать поведение конторщика. Она думала, придумывала и не знала, что сделать, что предпринять, ежедневно ломала себе голову и не находила ничего.
Между тем Анька Гончий, будто совершенно одичав или обезумев от нравственных пыток, не давал Сусанне проходу, подходил и при посторонних, не стесняясь, или не понимая, что он творит, или ничего и никого не замечая, и привязывался к ней, то молил, то грозился. Всякий день могло произойти что-нибудь пагубное для Сусанны.
И, наконец, однажды, она решилась окончательно обратиться к Змглоду. Послав за ним, вдруг она стала нетерпеливо ждать его будто боясь, что раздумает. Наконец Угрюмова доложила ей, что обер-рунт явился, а затем, выйдя в коридор, она позвала и пропустила его к барышне. Змглод вошел и, став у дверей, поклонился. Сусанна подошла к нему и произнесла ласково:
— Здравствуй, Денис Иваныч… Я за тобой послала. Мне надо дело одно порешить. У меня до тебя большая просьба…
— Что прикажете… — отозвался обер-рунт.
— Скажи мне… Это не к делу… А так… Давно я хотела тебя спросить. Что ты такой стал вдруг хмурый, не то хворый? Уж вот которое время. Что с тобой приключилось?
— Ничего, барышня… Так, неможется.
— Да что именно?..
— Не знаю… Неможется… Пройдет! Что указать изволите?..
— Скажи… Не могу я тебе помочь в твоей заботе? — настаивала Сусанна.
Змглод глянул быстро ей в глаза, потом потупился и засопел, будто переводя дыхание.
Сусанна заметила все и, понизив голос, ласково и вкрадчиво произнесла:
— Скажи мне. Есть у тебя что-то на душе. Может быть, я могу тебе чем помочь…
Змглод, не глядя на нее, молча замотал головой, а затем угрюмо выговорил:
— Ничего нету… А если бы что и было… то не могу я сказать, потому что сам не знаю.
— Что? Как? — удивилась она. — Сам не знаешь.
— Да, барышня. Сам не знаю… Мерещится мне чертовщина… Да все, знать, выдумки мои. А коли не выдумки, а правда, то конец мой пришел.
— Да что? Скажи.
— Нет, барышня… Сказывают люди про дело какое, а про выдумки что же сказывать. Станет мне представляться, что вот наша колокольня либо башня коллежская качается… Так что же? И сказывать? Нет, лучше помолчать, а то люди осмеют. Легче не будет… А вот… вы что прикажете? Зачем приказали придти?
— Мне нужно, Денис Иваныч, одно важное дело порешить… — заговорила Сусанна смущаясь. — Избавь меня от дерзостного холопа. Я не хочу беспокоить дядюшку и гневать его пустяковиной. Поэтому я за тобой послала… Надо примерно наказать бы… Да не такой малый. Надо сразу его… Чтобы не было его!
— Кого, барышня?
— Аньку.
— Гончего? — удивленно глядя, переспросил Змглод.
— Да, — отозвалась Сусанна тихо и опустила глаза, под упорным и изумленным взглядом обер-рунта.
— Аньку Гончего? — опять переспросил тот.
— Да, Аньку. Он дерзостно ведет себя. Будто разума решился. И его надо…
— Унять?
— Нет. Его не уймешь, как другого кого. Его надо просто похерить…
Змглод молчал и сильнее сопел, будто уткнувшись носом. Он хорошо, конечно, понимал, что барышня хотела сказать словом «похерить». Это было слово самого барина Аникиты Ильича. Сдать человека в солдаты или сослать на поселение в Сибирь, представив в Нижний земский суд в городе, — не значило похерить…
Похерить обозначало иное, что Змглод, слывший за злыдня и изверга, не любил однако брать на свою душу. Но никто этого не знал и даже не подозревал, воображая что «Турка» рад-радехонек изуверствовать.
Наконец, с тех пор, что Змглод был обер-рунтом, барин только четыре раза приказывал ему четырех человек похерить.
Теперь впервые барышня указывала то же… Но он даже сомневался, имеет ли он право повиноваться ей в таком важном деле…
На краю сада было небольшое здание в два этажа с башней в виде небольшого бастиона, где внизу жили павлины, павы, цесарки, аисты и разные другие заморские птицы, в верхнем же этаже были отдельные комнаты, в которых, однако, никто никогда не жил. Здание называлось Павлиний павильон. Под этим зданием был большой и глубокий подвал, почти подземелье.
Уж четыре раза Змглоду пришлось приводить сюда, с двумя рунтами, «живого человека с заткнутой глоткой» и, растворив поочередно трое железных дверей подвала, вводить его и оставлять…
Человек пропадал без вести… Барин называл это наказание, самое тяжкое и даже преступное, словом: «похерить». В Высоксе об этом догадывались, конечно, вследствие нескромности рунтов, но говорить об этом не смели. Даже приближаться к павильону суеверно боялись, говоря, что около него «нечисто».
Теперь не сам барин, а барышня приказывала это тягчайшее наказание. Змглод смущался, колебался и наконец выговорил:
— Простите, Сусанна Юрьевна… Я без указа барина не посмею… Вдруг спросит барин: где Анька? Пропал без вести без его указа! Как можно! А что просто пропал, убег, — не поверит.
— Как знаешь, Змглод… — холодно, даже надменно, отозвалась Санна. — Долг платежом красен.
— Что вы это, барышня? — как бы оробев, воскликнул обер-рунт.
— Да так говорю… Долг платежом красен. Я у тебя тоже в долгу не останусь… Вот скоро будет Аникита Ильич одно такое дело решать… Постригать собрался кое-кого в монастырь ради того, что ему глупое хныканье прискучило… Я его все отговаривала не грешить… Ну, теперь попрошу не откладывать…
Змглод переменился в лице.
— В монастырь? — глухо проговорил он и глядел, будто думая, что он ослышался.
— Да. И постригут… — смело лгала Сусанна. — А если в Высоксе никому невдомек… то я-то хорошо знаю, что от этого Денис мой Иваныч ума решится… Я одна знаю. Да мало ли чего другие не знают и не видят, а я вижу и знаю, да молчу до поры до времени… Ну, прощай. Ступай.
Змглод стоял, не двигаясь, и глядел в лицо Сусанны как бы обезумевшими от ужаса глазами.
— А если я, барышня, ваше приказание, — глухо заговорил он, — без ведома Аникиты Ильича… в точности исполню…
— Тогда я обещаюсь тебе, вот, как перед Богом: никогда ее постриженью не бывать. Я знаю такое слово на Аникиту Ильича… И пригожуся…
— Слушаю, барышня. Будет по вашему… — резко вымолвил Змглод. — А в случае беспокойств барина, куда пропал Анька, что нам делать? Скажите теперь.
— Правду скажем. Я скажу: я приказала… А за что — сумею сказать. И я заступлюсь за тебя… Полно, Денис Иваныч, мало ты меня знаешь, а то бы не боялся по моему указанию всякое творить… От меня и благополучие и беду не долго нажить.
— Знаю, барышня… И если бы вы когда… — воскликнул Змглод и смолк, махнув рукой.
— Что? Говори. Что?.. Если б я когда за твое дело взялась… Так что ли?.. Молчишь… Ну, обожди… Может, я за него и возьмусь… Сказала я: долг платежом красен. Одолжи меня, и я отплачу.
— Ладно! Помните, Сусанна Юрьевна… Анька будет у меня в Павлиньем павильоне послезавтра… А вы помните…
— В долгу не останусь, — глухо произнесла Сусанна, вдруг взволновавшись.
И, когда обер-рунт вышел из комнаты, она осталась на том же месте, тяжело переводя дыхание и задумавшись…
— Жаль мне тебя, глупого… — тихо произнесла наконец она. — Не полагала я даже, что меня хватит на этакое. Да что же делать? Себя дать загубить?.. Никогда! Такой молодец, который меня изведет, еще не народился. Сам себя, Анька, вини. Я тут ни при чем. Я себя упасаю. Оставь тебя — то сама по миру, нищая, иди, прогнанная отсюда. Нет…
VIII
Время шло и шло, а нечто особенное длилось в доме… Если дворня и все крепостные рабы радовались за свою будущую судьбу, узнавая ближе Дмитрия Андреевича, то сами господа — все от Аникиты Ильича до маленькой барышни — продолжали пребывать в странном расположении духа. Даже нового молодого барина захватило что-то… Не таков он был, когда приехал.
В доме была важная новость, но ею будто никто не интересовался… Будто всем было не до того. Барин вдруг приказал заново отделать правое крыло или флигель дома, где жил покойник… Это всем показалось знаменательно…
Прежде всего из всех комнат вынесли мебель и перенесли в заводские мастерские. Затем в комнатах появилось человек с дюжину рабочих, и началась спешная чистка и окраска… Разумеется, это прежнее помещение Алексея Аникитича предназначалось для Дмитрия Андреевича.
Наконец, в этом крыле была указана работа, которая очень красноречиво сказала о том, чего барин никому не говорил…
Делались такие перемены, что по догадке дворовых людей из холостой квартиры выходил, по их выражению, «семейник».
Стало быть, если все готовится для перехода в правое крыло молодого родственника, то вместе с тем он поселится тут не один и не сейчас, а после важного события.
Однако, ни сам барин, ни барин-гость, ни обе барышни совсем не занимались работами и переделками в крыле.
Всем им было прямо не до того.
Аникита Ильич был вдруг сражен просьбой Аллы идти в монастырь… Девушка не притворялась и не лукавила, решившись просить подобное. Это было единственное средство для нее избавить себя от невыносимой пытки принадлежать старику, который ей был ненавистен и противен до умопомрачения. Алла перестала плакать, но стала дико задумываться и заговариваться, бредить, и нести околесную наяву, среди бела дня.
Вдобавок — и что особенно разгневало Аникиту Ильича — вернувшийся с богомолья отец Аллы похвалил дочь за ее решение и просил барина о том же… Самовластный старик догадывался…
По всей вероятности, богобоязный, честный и всячески добропорядочный Василий Васильевич Ильев, сам убедил дочь выйти из срамного положения и сделаться инокиней.
Действительно, если жена Ильева и старая девица-сестра надеялись, что Алла станет впоследствии барыней в Высоксе, законной супругой барина, то Ильев верно знал, что никогда этого не будет. Не мало таковых метило, и напрасно.
Что касается Сусанны, то она, искусно добивавшаяся влюбить в себя Дмитрия, разумеется, добилась этого скорее, чем думала. Молодой человек был от нее без ума и мысленно твердо решил не жениться на Дарьюшке.
Он мечтал уже о том, что когда он обвенчается с Санной, то дядя оставит их жить в Высоксе или, отпустив в Петербург, положит им пенсию… Ведь он добрый и обоих их любит.
Разумеется, только Дмитрий Басанов, по своей наивности, мог мечтать о подобном. Сусанна же на подобные намеки троюродного «братца», как она звала его, отвечала смехом.
«Да, душевно, сердечно, помыслами своими ты будешь моим мужем, — думала она. — Но по закону ты будешь мужем Дарьюшки и хозяином Высоксы. И отлично мы заживем… Особливо, когда «Кита» уберется на тот свет. Будет он долго откладывать, — можно и помочь в сборах!» — усмехнулась она странной усмешкой.
Даже Анна Фавстовна, однажды заметила, эту улыбку, спросила невольно вдруг:
— И какие это мысли можете вы держать себе на уме, чтобы этак нехорошо ухмыляться?
Однако, завлекая Дмитрия и видя, что она вполне достигла цели (не ныне-завтра он способен прямо объясниться в любви и предложить ей руку), Санна была сильно и даже постоянно озабочена и встревожена.
Змглод после их разговора явился дня через три и объяснил несколько смущенный, что случился казус, небывалый в Высоксе. Намеченная жертва ускользнула из рук.
Анька, очевидно, узнав или пронюхав, что ему грозит, исчез, бежал… Аникита Ильич, озадаченный исчезновением своего лучшего писаря конторы, приказал взяться за поиски… Но, разумеется, это ни к чему не поведет.
— Я полагаю, — сказал обер-рунт, — что молодец со страху хватил за Волгу, а то в Украйну.
Сусанна не согласилась мысленно с обер-рунтом. Страшно встревоженная, она приготовила целый план кампании.
Единственное, чего она никак не могла решить, был вопрос: действовать ли тотчас, не ожидая появления Гончего, или обождать, молчать и явиться защищать себя, когда враг нападет. И день Сусанны проходил в том, что она любезничала и крутила голову «братцу», а затем волновалась от мысли, что вдруг появится Анька и заявит Аниките Ильичу, что он был ее любовником. А лучшим доказательством этого служит то самое, что она со Змглодом задумала учинить над ним без приказу и без ведома барина…
Дмитрий Басанов тоже по замечанию всех, несколько переменился, был пасмурен и задумчив, не так простодушно болтлив и смешлив, как в первое время по приезде. Разумеется, причины никто не знал, кроме его самого и красавицы, его околдовавшей.
Наконец, Дарьюшка, догадавшаяся в первый же день приезда гусара, что он по воле отца — её суженый, все-таки будто надеялась, что судьба смилостивится над ней. Теперь же, как всегда бывает с простоватыми людьми, громовым ударом подействовал на нее пустяк. Приказ отделывать апартаменты ее покойного брата и расположение комнат, новое и особое, делавшее из крыла «семейник», поразили Дарьюшку. Девушке казалось, что решение отца, о котором он молчит и которое только все подозревают, не важно… Важно приготовление будущего помещения для нее с мужем.
Так как правое крыло дома было как раз перед левым крылом, где она жила, и только наполовину укрытое липами, то Дарьюшка с утра видела все, что там делалось, следила за работами и ужасалась, как все идет спешно и быстро… Чувство, которое вызывали в ней эти работы, было таково, как если б на глазах ее рабочие готовили для нее склеп и гроб. И как только все поспеет, так и будут ее похороны, жива ли она, нет ли.
Однако, несмотря на свою простоту или благодаря женскому чутью, Дарьюшка заметила что-то между этим ее не объявленным еще женихом и тетушкой-сестрицей Сусанной Юрьевной. Если она не сама додумалась, то ее няня Матвеевна помогла ей додуматься до помысла:
— Вот бы ему на ней жениться!..
IX
Наконец, однажды, давно ожидаемое Сусанной от влюбленного Дмитрия и лишь отчасти избегаемое ею случилось, и вдруг, когда она наименее ждала.
Санна позвала к себе вечером в гости Аникиту Ильича, Дмитрия, Дарьюшку и кое-кого из главных приживальщиков.
Для всех был приготовлен сюрприз… А именно целый концерт. В гостиной Сусанны появились четыре главных музыканта из высокского оркестра, две скрипки, виолончель и флейта. Но вместе с ними явился и новый певчий, хохол, которого все уже стали баловать за чудный голос.
По приказанию и под наблюдением Сусанны, лучшие и, действительно, даровитые музыканты, а равно и Тарас Файка, разучили несколько пьес, выписанных из Москвы несколько русских песен и несколько кусков из заморских театральных представлений.
И крепостные виртуозы, и молодой хохол-тенор превзошли себя… Или они особенно постарались, или новая диковинная музыка, которой никто, даже Аникита Ильич и сама Сусанна никогда еще не слыхали, но впечатление на всех было потрясающее, не только неожиданное, но даже им самим непонятное и загадочное.
Аникита Ильич после двух-трех пьес, спетых под аккомпанемент квартета его наемных певчих, слегка взволновался. В церкви Файка пел хорошо, его голос звучал сильнее и звонче всего хора… Но ничего особенного, поразительного не было. Только раз он удивил и тронул многих чуть не до слез, когда впервые спел за преждеосвященной обедней «Да исправится молитва моя»… Но теперь это оказался какой-то другой человек, другой Тарас, другой голос…
Или же вся сила была в том, что музыка была другая, какая-то душу захватывающая. Или же главный виновник был первая скрипка и дирижер высокского оркестра, Неручев, человек тихий, молчаливый, тщедушный, с худым лицом, покрытым сплошь веснушками, но с удивительными серыми глазами, которые, когда он играл, менялись и становились будто безумными.
Или же Файка, в первый раз в жизни разучивший не церковное пение, а заморское, итальянское, со страстью отдался тому, что его чуткая художественная природа вдруг нашла в этих чужих звуках. Голос Тараса звучал иначе и сильнее, и заунывнее, и грознее, и печальнее… Это был не Тарас Файка…
В саду, под отворенными окнами, в тени деревьев, собрались все нахлебники, многие из коллежских и конторских, много из заводских заправил… И все, что слушало и ахало, не верило, что это «Тараска» из их хора певчих…
Кончилось однако тем, что если после одной арии Василий Васильевич Ильев прослезился, а Бобрищева последовала его примеру, то глупая Дарьюшка расплакалась, а потом и совсем разрыдалась, как в сороковой день поминок по брату. И девушку пришлось отпустить к себе.
Около часов десяти концерт кончился. Вслед за Аникитой Ильичом все разошлись… А Сусанна, оставшись одна, вышла на свой балкон, села и уныло задумалась.
Музыка эта и ее растревожила… И Бог весть почему она заставила ее думать о таком, что хотя и приходило на ум, но изредка.
Мысли тяжелые, черные были о себе, своем житье-бытье, своей судьбе, своем нерадостном будущем… темном, неведомом… быть может, неисходно тяжком…
А с ней, именно с ней, все и всяческое могло приключиться, самое невероятное. И виновата она сама в этом. Не будь она бесстрашная, озорная «кавказка», то, конечно, и будущее не грозило бы ничем особенно роковым… А так, как она живет и действует, и впрямь жди всяческих бед бедовых и даже гнева Господня!
Задумчивость и мысли Санны было прерваны вдруг каким-то шорохом, который ей почудился под балконом. Благодаря облачному небу, ночь была настолько темна, что нельзя было видеть даже высоких деревьев, укрывавших два крыла дома, не только разглядеть кого-либо у балкона.
Санна снова было задумалась, но снова тот же шорох, яснее и определеннее послышался ей у самых столбов ее балкона.
— Кто это? — окликнула она тихо. Но никто не ответил. И ей вдруг представилось, почудилось, что это наверное он, Дмитрий… Он не лег спать, вышел бродить по саду… А увидать ее среди ночи было легко, так как она была освещена через окно двумя горевшими в спальне свечами.
— Кто там? Отвечай… — снова сказала Санна, перевешиваясь через перила.
— Я влезу по столбу… — послышался знакомый шепот.
— Нет… Не надо, — отозвалась она, невольно смеясь. Но, поняв по шороху на столбе, что ее приказание не исполняется, она двинулась в комнаты и окликнула Анну Фавстовну.
Угрюмова уже спала и не ответила. Санна прошла в спальню, потушила свечи и, осторожно ступая на носки, снова вернулась на совершенно уже темный балкон.
Подойдя к перилам и увидя фигуру, которая с усилием поднимается, она выговорила:
— Зачем?.. И что хорошего?.. Я лучше лесенку спустила бы, если б знала…
Но влезавший уже ухватился за перила, приподнялся и запыхавшись сел на них.
— Сестрица… Простите… Я вас увидел, — заговорил Дмитрий смущенно.
— Ну, что ж делать… Влезли… Что вам? — отозвалась Санна и от избытка волнения, не страха, а наплыва радостного чувства, голос ее изменился и слегка дрожал.
Дмитрий молча слез с перил и зашептал:
— Сестрица… Я увидел из сада… Захотелось поговорить с вами. Сказать вам все, что у меня на душе…
— Тише, — произнесла Санна. — Окна в доме у многих открыты… Узнают, Бог весть, что подумают… Идите…
Она вошла в гостиную… Дмитрий тотчас же наткнулся на мебель и зашумел.
— Тише, — рассмеялась Санна и, подойдя к нему, взяла его за руку. — Идите за мной…
Доведя его до дивана и посадив около себя движением руки, она, сильно волнуясь и смущаясь, колебалась… зажигать ли свечи, затворив окна и опустив занавеси, или оставаться в темноте.
— Сидите… Я зажгу свечи… — сказала она поднимаясь.
— Зачем? Нет… не надо, — тихо отозвался он.
Она снова села и молчала.
— Сестрица… — заговорил Дмитрий робко. — Я хочу вам сказать… Позволите вы мне все сказать… всю душу раскрыть пред вами?.. Дядюшка, я знаю, имеет скрытное намерение меня женить на Дарье Аникитичне, но я вам уже не раз обиняком сказывал, что я не могу… Сердце мое, все мысли мои… Вы не видите, не знаете…
— Я все знаю, Дмитрий Андреевич… — ответила Санна твердо. — Все знаю… вы женитесь на Дарьюшке и непременно. Это мой вам приказ. Слышите! Мой, а не дядюшкин приказ. И если вы меня послушаетесь…
— Сестрица… Сусанна… я не могу! — воскликнул он, и среди темноты стал искать ее руки. Найдя их, он стиснул обе в своих руках. — Вы, Сусанна, сделайте меня счастливым, согласясь принадлежать мне на всю жизнь.
— Да… я и согласна, — шепнула она. — Но только тогда, когда вы женитесь на Дарьюшке, или по крайней мере, когда обещаетесь, поклянетесь мне, что женитесь на ней. Нам обвенчаться, Дмитрий, было бы сумасшествием… Если вы любите меня, то исполните мой совет.
— Но, Сусанна… как же мне венчаться с ней, когда я жить не могу без вас?
— Мы и будем… и останемся жить вместе… — нежно заговорила она, ближе наклоняясь к нему. — Но мы не будем нищие супруги… Будем здесь, в Высоксе. Пока жив Аникита Ильич, будем скрываться всячески… А умрет он… Мало ли что может случиться и устроиться к благополучию нашему… Ну, обещайте мне… Обещай… Дмитрий. Сейчас поклянись, что женишься на Дарьюшке…
Санна передвинулась еще ближе, и он почувствовал на своем лице среди темноты ее дыхание, горячее, неровное, говорившее об ее волнении.
— Клянись мне сейчас!.. — вскрикнула она резким шепотом, — и сейчас же я отплачу за повиновение… и на всю жизнь буду твоя…
— Если так… — упавшим голосом вымолвил он, — будь ваша воля…
— Клянитесь.
— Клянусь Богом! Женюсь и все буду творить, как вы… как ты… Сусанна, указывать будешь…
— Ну, вот… — шепнула она, обвила его голову руками и прильнула горячим лицом к его лицу, губами к губам его.
X
Дней пять-шесть подряд Сусанна спускала вечером свою маленькую подъемную лесенку, и, благодаря темным ночам, Дмитрий являлся никем не видимый и удалялся задолго до рассвета. Но затем появилась луна, и свидания через балкон стали невозможны и прекратились.
Одновременно Сусанна, узнав ближе и вполне изучив нрав своего возлюбленного, поняла, что надо спешить действовать… пройдет еще неделя, две, и Дмитрий, без ума обожающий ее, все сильнее и сильнее привязывающийся глубоко и страстно, пожалуй, уже не найдет в себе воли согласиться на предложение дяди и наотрез откажется стать мужем его дочери… Он возмутится, как все бесхарактерные люди, порывисто, шумно и неукротимо.
Сусанна решилась идти объясниться с дядей и спросить или выспросить, какие его намерения. Аникита Ильич, посмеиваясь, заговорил с ней и, к ее удивлению, стал доказывать, что спешить с таким делом нельзя.
— Дело это, Сусанна, решенное, — сказал он, ухмыляясь своими ехидными губами, — решенное совсем, если не пере-решится…
— Что? — обомлела Санна.
— Все под Богом ходим и Его Святую волю творим, мудрствуя и воображая, что по своему поступаем… Гадаешь, не знаешь, что поутру будет с тобой. А коли знаешь, то не божися, прежде Богу помолися…
— Я вас, дядюшка, совсем не уразумею… — сказала Санна. — Вы что-то на уме имеете, что не хотите прямо сказать.
— Верно, угадала, моя умница… — засмеялся снова Аникита Ильич. — Я вот собираюсь дочь замуж выдавать, а вместе с нею в один день… может, я и сам венчаться хочу…
— Я желала с вами толково побеседовать о счастии Дарьюшки, — ответила она холодно. — А если вы шутки шутить хотите, то бросим беседу… И дело-то оно не мое, а ваше…
— Я, Санна, не шучу и не балагурю, — серьезнее сказал старик. — Отчего же бы мне в третий раз не жениться? Законы дозволяют три брака и до семидесяти лет.
— На ком же это вы женитесь? — уже усмехаясь, заговорила она.
— Да на той, которая от меня зачнет и нового наследника мне на место Алеши даст.
— A-а?.. Ну, это другое дело!.. — вспыхнула Санна. — Стало быть, вы уже в ожидании рождения такого наследника!
— А хоть бы и в ожидании! — усмехнулся Аникита Ильич таким голосом, как если бы поддразнивал племянницу.
— Ну, что же! Давай Бог… — раздражительно и сухо рассмеялась она.
— Обидно, что не ты?..
— Кабы была похитрее да поозорнее, так давно бы вам… подставила младенца, — презрительно выговорила Санна: — своего, да не вашего! Вот что, дядюшка! Ну, а теперь, стало быть, нашлась таковая смелая!
— Знать, чего не знаешь, нельзя, а судить да рядить о незнаемом совсем малоумно, — сурово ответил Аникита Ильич. — Не так я уже прост, чтобы меня можно было провести, особенно бабе или девке. Купец какой, заказчик, бывает, нагреет, а чтобы баба меня надула… за всю мою жизнь…
— Николи этого не бывало?.. — продолжала Санна, будто подсмеиваясь.
— Полагаю, что не бывало и быть не может…
Санна усмехнулась, тряхнула головой и подумала: «Ах, старая Кита!»
Но затем она тотчас же вспомнила, что пришла за важным делом и ничего не добилась.
— Стало быть, неведомо, дядюшка, — сказала она, меняя голос на серьезный и деловитый тон, — неведомо, когда вы с Дмитрием Андреевичем толковать будете.
— А тебе-то что же? — вдруг произнес старик отчасти с нетерпением.
— Мне? — ответила она, не зная, что сказать.
— Да, тебе. Подумаешь, тебе замужество Дарьюшки к спеху… понадобилось…
— Стало быть, вы мне дозволите? — вдруг вырвалось у Сусанны. — Дозволяете сказать Дмитрию Андреевичу, что он может отложить попечение и собираться.
— Куда?!
— Куда! В столицу… в полк… Его отпуску скоро конец. Он с вами смущается говорить, а со мной изъясняется откровенно.
Он у меня спрашивал, может ли он надеяться, что приобрел ваше расположение, и будете ли вы согласны, если он… ну, если посватается…
— Это не его дело!.. Я этих новых порядков не жалую… — вдруг сердито заговорил Аникита Ильич. — Выдумали! Скоро девки сами за себя заговорят: «Иду, мол, я за тебя замуж»… Будь жив и будь здесь его отец, иное дело, а коли он один, то должен молчать, пока я не заговорю…
— А если ему к сроку надо… в полк… — возразила Санна. — Что же он будет здесь сидеть? Он приехал вам представиться. Вы так его приняли, что вся Высокса считает его нареченным Дарьюшки… Наконец Алешины комнаты приказали устраивать… Всякому понятно, дядюшка. Не мудрено, если и ему, Дмитрию Андреевичу, пришло в голову то, чего он и в уме не имел, едучи сюда.
— Ну, имел, не имел… Этого мы не знаем. Приехал после смерти Алеши… когда Дарьюшка объявилась единственной наследницей.
Санна поднялась с места и вымолвила сухо и назидательно:
— Ну, дядюшка… не пеняйте на меня… если что выйдет вам не по сердцу. Я сегодня скажу Дмитрию Андреевичу, что вы это дело считаете еще гадательным, как еще бог на душу вам положит. Он тотчас же соберется в столицу… а там у него невеста ждет его…
— Как невеста? Какая невеста? — воскликнул старик.
— Да так… Невеста как невеста. Дочь генерала московского… — солгала Сусанна и думала: «Что я путаю, потом забудешь еще да переврешь»…
Аникита Ильич молчал насупившись. Он привык верить своей племяннице и никогда ни на единый миг не усомнился в ней за все десять лет их сожительства. Она сумела заставить его верить себе.
— Пустое! — вдруг выговорил он. — Пускай Дмитрий… Скажи ему… Нет, не говори ничего… Слушай, Санна… Я тебя буду просить… Поняла? Прошу я тебя… Ты умница. Протяни… ну, неделю протяни… Так нужно. Через неделю я его вызову, и все… Ну, прямо обручение будет. Неделя не велико дело… А тебе легче ему этакое сказать, а мне торговаться не приличествует. Уж если ты в свахи пошла, то одолжи…
— Из-воль-те, — протянула Санна, озадаченная. И, не прибавив ни слова, она вышла от дяди в раздумье и в волнении.
«Что у него на уме? Что такое новое приключилось? Неужто же и впрямь новая его зазнобушка — Алла? И обещает ему наследника? Она не такая, чтобы обмануть. Что же это? Помилуй Бог!!»
И, вернувшись к себе, Сусанна долго волновалась, недоумевая.
В тот же день вечером она по уговору ждала у себя Дмитрия. Ей хотелось, скорее объясниться с ним и научить его, как действовать на дядю, «ковать железо, пока горячо», потому что разговор с Аникитой Ильичом все больше смущал ее. Чем более думала она о загадочных словах дяди, тем более убеждалась, что судьба будто снова смеется над ней.
— Опять сатана замешался! Что же это? Конца нету! — злобно сказала она Анне Фавстовне, придя после ужина к себе. Ее окончательно сразило то, что за ужином Аникита Ильич говорил с Дмитрием суровее или во всяком случае сдержаннее, чем прежде. Вероятно, это было последствием разговора с ней. Выйдя из-за стола, Сусанна шепнула Дмитрию быть у нее тотчас же.
— Луна! — заметил он кратко.
— Из коридора! — отозвалась она и отошла.
Уже один раз он был у нее в комнатах вечером, войдя просто в двери, но так как он не мог, как Анька, прослыть за любезного самой Анны Фавстовны, то это было крайне опасно: если бы кто-нибудь из людей или из дежурной дюжины заметил его в ее дверях входящим или выходящим, то, конечно, это произвело бы переполох.
Сусанна рассчитывала только на одно. Комнаты, отведенные Дмитрию, граничили с китайской и с большим залом, из которого был выход в маленькую прихожую и на террасу с лестницей в сад, мимо правого крыла. В конце ее коридора была такая же терраса с выходом тоже в сад, мимо другого крыла, где жили князь Никаев с семьей и Дарьюшка. Дмитрий мог придти через обе террасы и сад и тем же путем вернуться к себе. Дежурная дюжина не отлучалась из передней, дюжинный шагал и бродил от передней до большой гостиной или зачастую дремал так же, как и вся дюжина.
Единственный человек, на которого Дмитрий мог нечаянно наткнуться, был Змглод. Но этот странный человек настолько изменился теперь, что на него все перестали обращать внимание, и Сусанна при мысли о нем подумала:
«Ему не до того!..»
XI
Около одиннадцати часов, когда все в доме потухло и затихло, Дмитрий в туфлях смело вышел из своих комнат в большой зал, а затем на террасу и в сад.
Полумесяц то ярко светил, то исчезал, ныряя в быстро идущие клубами желтоватые плотные облака. Иногда он исчезал, надолго за большим облаком, и становилось почти совершенно темно.
Дмитрий обождал в липовой алее и, когда полумесяц снова исчез, он быстро двинулся, прошел по лестнице и по террасе мимо двух отворенных окон в квартире князя Никаева и, несколько смущаясь, вошел в коридор.
Двери комнаты Сусанны были уже приотворены нарочно, и около них дежурила Анна Фавстовна. Когда он вошел, она юркнула и спряталась.
Пройдя в гостиную Сусанны, он нашел ее среди гостиной, выходящей на балкон, в легкой белой кофте.
— Беда это, Сусанна… — выговорил он.
— Что?.. Светло?.. Да, пожалуй, и беда…
— Этак приходить — прямо под венец с тобой угодим! — улыбнулся он. — И слава Богу!
И, обняв ее, он стал страстно целовать ее в лицо, в голову, в шею…
— Ну ладно… Довольно!.. — угрюмо вымолвила она. — Не до того, право. На душе кошки скребут…
— Отчего?
— И сама не знаю… Думаю, от беседы с дядюшкою. Садись и слушай…
Она передала ему весь свой разговор с Аникитой Ильичом. Дмитрий слушал, и лицо его становилось все светлее.
— И слава Богу! Слава Богу! — сказал он наконец. — Не захочет он за меня свою Дарьюшку отдать, я не виноват. Тогда ты за меня поневоле пойдешь…
— Ах, глупый… глупый! — сердито отозвалась Сусанна. — Нищенствовать! Надолго хватит твоей любви, когда черствый хлеб жевать придется обоим?
Дмитрий начал было, как всегда, горячо уверять, что за всю свою жизнь не изменит ей, будет вечно обожать и боготворить… Санна, наконец, положила ему руку на губы и вымолвила:
— Буде… буде… слышала… Верю, что ты будешь меня любить всю жизнь, если будешь мужем Дарьюшки и владельцем Высоксы… А если иначе как, то пролюбишь без году неделю. Слушай лучше, что я тебе говорить буду, и исполни старательно. Иначе — ты здесь, у меня, в последний раз!
И она стала обучать его, как малого ребенка, толково, подробно, заставляя иногда повторять свои слова и спрашивать, понимает ли он.
Все сводилось к тому, что он должен стать гораздо внимательнее с Дарьюшкой, а вместе с тем делать вид, что собирается уезжать.
Дмитрий слушал рассеянно и вдруг спросил: останется ли он у нее часа на два, или должен уходить тотчас…
— Конечно, уходить!.. — строго выговорила она. — В эту пору если кто и увидит тебя, то подумает, что ты еще не ложился и гуляешь в саду. Гляди, как светло… беда…
И Сусанна, показав на окно, вдруг поднялась. Ей что-то померещилось.
Она подошла к открытым дверям балкона и оторопела… Затем она шагнула на балкон и быстро затворила их за собой.
На перилах балкона сидела верхом мужская фигура. Санна, несколько оробев, выговорила вполголоса:
— Кто это?
Ответа не было.
— Как ты посмел влезть сюда! — тверже произнесла она.
— Что ж… посмеешь!.. — глухо отозвался голос, от которого Санна вздрогнула и отступила два шага назад, пораженная… Но затем она в один миг оправилась и выговорила надменно:
— Это что же?.. Ты обезумел? Совсем…
Влезший на балкон был Анька Гончий… Если бы Сусанна могла видеть его лицо, то, конечно, испугалась бы гораздо больше. Но и хрипливый, странный голос его, произнесший слова: «Что ж, посмеешь», уже смущал ее больше, чем самое появление Аньки.
— Барышня… в последний раз прошу… — заговорил Анька, слезая с перил и подходя.
Сусанна отступила вновь, отстраняясь от его протянутых рук.
— Уходи. Сейчас…
— Барышня, Богом прошу… Не то грех… меня лукавый одолевает… я не в себе… Вы приказали Змглоду меня похерить. Правда ли это? Вы ли?
Сусанна молчала и не знала, что ей делать. Одно мгновение ей пришла на ум смелая мысль и коварный поступок…
И как легко было это исполнить!..
Впустить его к себе, удалив прежде Дмитрия, и послать за обер-рунтом. Она знала по рассказам, почему жертвы Змглода, схваченные им по приказу барина всегда ночью, всегда молчат… И всегда все проходит тихо, неслышно, для всех неведомо. И здесь, у нее, тоже все сойдет тихо… Но Сусанна чувствовала, что если она способна заманить Аньку в западню, то не способна, не сумеет притвориться и лицедействовать, пока будут Змглода разыскивать… Анька все увидит, поймет, догадается тотчас и не дастся в обман.
Между тем конторщик что-то говорил дрожащим от волнения голосом и будто молил…
— Ступай! Уходи!.. — выговорила Сусанна решительнее и даже грозно. — Ничего я тебе не позволю… Если хочешь вести себя смирно, шуму не затевать, я тебя не трону… Если будешь грозиться идти с доносом… Ну, тогда знай… я дядюшке все сама скажу и представлю в ином виде. И он мне поверит, а не тебе… и сам прикажет Змглоду тебя похерить… Вон… убирайся…
Анька молча протянул к ней руки, но она ударила его по рукам и опять отступила…
Он подвинулся и быстро обхватил ее стан. Она рванулась от него и выскользнула из объятий… Он схватил ее за руки и стал снова привлекать к себе… Она изо всех сил противилась. Завязалась безгласная борьба. Сусанна ослабевала, но на помощь не звала. Анька на это и рассчитывал. Но он ошибался. Не будь Дмитрия в комнатах ее, она бы давно крикнула.
Между тем Дмитрий все ясно видел, но не смел двинуться, чтобы не выдать себя.
Он ничего не понимал. Что за человек ночью мог влезть и явиться на балкон точь в точь так же, как когда-то и сам он.
Смущение, недоумение, ревность, боязнь, что происходит что-то невероятное, страх за Сусанну, страх быть найденным у нее — все помутило рассудок молодого человека, нерешительного, почти робкого от природы.
Услыхав, наконец, легкий крик Сусанны и увидя, что незнакомец будто ломает ей руки и она, уже выбиваясь из сил, нагибается, будто сломленная, готовая упасть около него на колени, он не выдержал и, отворив дверь балкона, быстро вышел.
— A-а! И Тараска тут! Вот что! — раздался бешеный крик. — Так на вот тебе! На!..
И пронесся вдруг второй дикий крик, огласивший сад и весь дом… Закричала пронзительно и отчаянно Сусанна, опрокидываясь навзничь на руки Дмитрия.
Анька шарахнулся, перемахнул через перила и исчез в темноте…
— Убил… Дмитрий… помогите… — кричала Сусанна, цепляясь за него руками.
Обхватив ее кругом стана и удерживая от падения, Дмитрий с трепетом заметил, что на белой кофте ее выступают большие темные пятна.
Сусанна обливалась кровью, которая шибко струилась из груди и шеи.
«Зарезана!» — мысленно вскрикнул Дмитрий, цепенея от ужаса и отчаяния.
XII
Через несколько минут дом был весь на ногах. Дежурная дюжина первая наполнила комнаты барышни, найдя ее на полу гостиной между Анной Фавстовной и молодым барином. Раненую перенесли и положили на диван. Через четверть часа, сам барин, полураздетый, был тоже около племянницы, а затем явилась уже сплошная толпа, перепуганная, дико и глупо глазеющая спросонья на лежащую.
Дмитрий объяснил все… Он первый прибежал, так как гулял в липовой аллее и увидел на балконе борьбу Сусанны с неведомым человеком.
Вызванный тотчас же доктор Вениус взялся за свое дело и стал хлопотать около раненой с двумя фельдшерами.
— Умру? Умру? — повторяла Сусанна, глядя на доктора страшными обезумевшими глазами.
— Нет, нет! — отзывался Вениус. — Совсем ничего… Один недель и ничего.
— Кровь… все больше… — шептала она.
— Кровь ничего. Сейчас он ни будет! — уверенно отвечал немец.
Перевязка двух ран, нанесенных ножом, была наконец сделана, и Сусанне помогли перейти в постель.
Вениус оказался мастером своего дела. Вместе с тем, пока он обмывал две раны и налагал повязки, он все время разговаривал с Сусанной, полушутя, и его вид, его уверенность, что опасности нет никакой, быстро успокоили ее.
Сусанна была сильно бледна и от страшного перепуга, и от жгучей боли, а равно и от потери крови, но боязнь за себя, тревога и растерянность прошли. Явилось ясное и спокойное сознание происшедшего и происходящего кругом нее, то есть всеобщей сумятицы.
Уже лежа в постели, она стала вспоминать, как все приключилось. Она вспомнила, что было одно мгновение, когда она вдруг будто почувствовала, что смерть Около нее.
«Конец» — будто крикнул ей кто-то, или громко сказалось в ней самой.
И кто знает? Если б Дмитрий запоздал на мгновение схватить злодея за руку или, ударив его наотмашь в голову, обмахнулся бы и не оттолкнул… кто знает, что было бы теперь с ней, «что» была бы она — умирающая или уже мертвая!
Она ясно помнила, что Анька в третий раз замахнулся отчаяннее, азартнее… рука с ножом, взмахнутая еще выше над ее головой, грозила нанести гораздо сильнейший и, конечно, смертельный удар… Нож, прорезав, как бритвой, рукав венгерки Дмитрия, завяз в шнурках и позументах по самую рукоять и, застряв, остался. Злодей выпустил его из руки и, обезоруженный, бросился к перилам и исчез с балкона.
Да, этот третий удар, остановленный Дмитрием, был бы ее смертью. Первая рана, нанесенная около шеи, была самая легкая… Анька наносил ее дрожащей, неверной рукой, не ударил, а будто ткнул… Вторая рана в грудь была нанесена с размаха, была глубока и только случайно не была смертельна.
Вениус подробно объяснил Сусанне, почему рана, на вид большая, не опасна, а иная, даже менее глубокая, была бы очень опасна. Она поняла хорошо, хотя в первый раз в жизни узнала, что у нее, как и у всех людей, есть жилы, вены, артерии и т. д. Однако она боялась за сердце и спрашивала, задето ли сердце или совсем прорезано. Немец даже рассмеялся и, объяснив, что рана далеко от сердца, прибавил:
— Серсэ и от махоньки булавочек wurde капут sein. Биль бы — стой! Серсэ — кароший часи… Немношечки хлоп — и стоп!
И он, сравнив сердце с часами, с трудом кое-как объяснил Сусанне, что порча малейшей пружинки останавливает ход часов, а простая иголка, воткнутая в сердечную сумку, причинила бы мгновенную смерть.
— Но это не ваше дело. Ви знай только, что ваш серсэ совсем карош. Alles ganz gut!
Между тем, пока Вениус с фельдшером, с Анной Фавстовной и горничной хлопотал около раненой, Аникита Ильич сидел в маленькой гостиной племянницы вместе с Дмитрием, которого несколько раз подробно заставлял рассказать себе «как было дело».
Молодой Басанов правильно, не путаясь, повторял то же самое. Единственное, что удивляло старика, как могла так долго продолжаться борьба злодея с Сусанной, «их барахтанье», чтобы дать возможность молодому человеку прибежать из сада в комнаты Сусанны и вовремя поспеть на балкон.
Разумеется, Аникита Ильич тотчас приказал позвать Змглода и строго объяснил ему, что надо найти злодея.
— Коли не словишь мне этого Каина, то, не взыщи, надо будет мне выискать для Высоксы более искусного обер-рунта. Мне и барышню жаль, вестимо, но она поправится, Бог даст, скоро… а мне не меньше важен срам на все наместничество… Сусанна-то Юрьевна справится, а срамота останется… Хворание ее, как сказывается, до свадьбы заживет, забудется, а эта срамота на веки вечные запомнится, если мы злодея не поймаем и не накажем примерно…
Змглод промолчал. Поймать злодея было для него невозможно именно потому, что он знал не только, кто он, но знал даже, где он.
Разумеется, при первом же известии о происшедшем в доме Змглод оделся и прибежал в дом. Но, еще не явившись в комнаты Сусанны, он уже понял или догадался, кто преступник.
Слушая барина, он думал:
«Прикажет барышня разыскать его, — сейчас же приведу, а если не прикажет, то Анька только для меня с нею будет пойман и наказан, а для тебя останется и неведом, и в бегах».
Обер-рунт твердо теперь решил уничтожить молодца, хотя бы просто умертвить тайно от всех, застрелить с глазу на глаз и скрыть тело. Он понимал теперь, как важна была бы эта заслуга в глазах барышни… Следовательно, надо всячески стараться, чтобы Анька не попался в руки рунтов, а «ушел бы на тот свет без шуму»… Равно понимал теперь умный Змглод, как прозорлива была барышня, желавшая избавиться скорее от Аньки, и какого маху дал он, Змглод, не сумев вовремя похерить этакого молодца.
Аникита Ильич, убежденный Вениусом, что опасности никакой нет, ушел к себе не озабоченный, а будто оскорбленный событием.
«Никогда таковое в Высоксе не приключалось и не чаялось. Стыдно холопам в лицо смотреть!» — думалось ему.
Не менее старика, хотя совершенно иначе, был озадачен и молодой Басанов. Окончательно придя в себя после стычки с преступником и затем всей кутерьмы и объяснения с дядей, он тоже, как и Сусанна, стал вспоминать все виденное и слышанное за несколько мгновений ее борьбы с неизвестным человеком. Теперь он спрашивал себя, почему он в рассказе своем дяде умолчал о некоторых подробностях происшествия, умолчал бессознательно, понимая, что рассказать нельзя.
А почему?.. Потому что он понимал, что этот злодей был не простой вор и душегуб… Если Сусанна не слыхала или, вернее, забыла, что кричал тот, то Дмитрий отлично понимал… Ночной негодяй обзывал Сусанну странными бранными кличками, он очевидно явился отомстить ей лично, убить ее, а не воровать в комнатах… Наконец сама Сусанна назвала его по имени, как-то странно, Анной или Анюткой… Стало быть, она знала, с кем имеет дело. А когда ее раненую обступили, спрашивали, она в полубезумии от испытанного страха все-таки твердила: «Не знаю! Неведомый человек. Грабитель!»
И Басанов сам решил, что всего рассказывать дяде нельзя. Слова и злобные прозвища, которые выкрикивал ночной пришелец, повторять не следует.
И, разумеется, Дмитрий понял или заподозрил, что у этой женщины, в которую он безумно влюблен, была какая-нибудь загадочная история, как будто были даже такие же отношения, какие у них теперь…
«Быть может это — какой-нибудь из нахлебников дворян, — думалось ему, — который теперь тут же в доме и не сказывается, зная, что и Сусанна сама его тоже не выдаст».
И у молодого человека явилась ревность. Он решил, что при первой же возможности он объяснится с Сусанной, потребует от нее, чтобы она призналась во всем. Он готов был примириться с фактом, но хотел знать все.
Наиболее поражала Дмитрия маленькая подробность. Пока он стоял в комнате за дверями балкона, ночной пришелец легко боролся с Сусанной и будто хотел только войти… Иногда казалось, он хочет обнять ее силой… Когда же Басанов появился к ней на помощь, он выкрикнул: «И тот здесь!» Или нечто подобное… И только тогда выхватил он нож и ударил. Не появись Дмитрий, быть может, и покушения не было бы… И это соображение все больше укреплялось в нем и все больше мучило его.
XIII
Конечно, вся Высокса диву далась.
Покушение на барышню Сусанну Юрьевну было совершенно невероятным событием и, стало быть, совершенно загадочным.
От барина Аникиты Ильича и до последнего молодца-парня на заводах все одинаково, после первого чувства ужаса, вскоре исчезнувшего, когда узналось, что Сусанна ранена неопасно, пришли в недоумение и разводили руками.
Допустить мысль, что это был вор, который лез красть в барском доме, невозможно было уже и потому, что обе двери на обе террасы и лестницы, спускавшиеся в сад, не бывали никогда заперты… И всему населению это было известно. А если не вор решился на убийство, то кто же и почему? Неужели добрая, ласковая со всеми и щедрая барышня Сусанна Юрьевна могла нажить в Высоксе такого врага и ненавистника? И когда, чем и каким поступком?
Люди поумнее и посмелее говорили потихоньку промеж своих близких и верных приятелей, что уж если народился бы такой отчаянный ненавистник в Высоксе, который бы решился на оплату за месть, так он не на барышню неповинную пошел бы, а на…
Сказать даже страшно… на кого!
Более всех продолжал волноваться, конечно, сам Аникита Ильич…
— Кабы луна с неба на землю свалилась, — говорил он сурово, — то меня меньше бы удивила.
Умный старик, конечно, тайно, про себя, допускал ту же мысль, что и его рабы. Он допускал возможность мести какого-нибудь отчаянного по отношению к себе… За какое-либо жестокое наказание, ссылку, солдатство, наконец, за кого-либо «похеренного» Змглодом в Павлиньем павильоне… Но покушение на его племянницу Санну, чтобы косвенно отомстить ему, старому барину, было уж чересчур хитроумно… Стало быть, изверг мстил прямо и непосредственно самой Санне.
За что?
Долго размышлял и соображал Аникита Ильич и, как умный человек, не находя простого объяснения, стал искать объяснения непростого. Нет ли чего иного ему неведомого?.. Загадка для него и для всех — быть может, не загадка для самой Сусанны? Но она не хочет объясниться? Не хочет потому, что не может, боится… И чем более размышлял Басанов, тем более приходил к убеждению, что загадочное происшествие есть последствие чего-нибудь, чего он никогда не знал.
Между тем Сусанна будучи уверена, что она не в опасном положении, что смерть «шмыгнула» близко как выразился Аникита Ильич, но однако пощадила ее, теперь думала уже не о себе и не о ране, а о последствиях деяния проклятого Аньки.
«Что делать?» — думала и говорила она Анне Фавстовне.
И как она сама, так и ее наперсница, терялись в соображениях и выдумках. Ничего измыслить было нельзя. Назвать злодея по имени, значит, выдать себя, потому что пойманный Анька все расскажет, а его деяние будет служить как бы доказательством истинной правды. С чего пошел бы он на такое преступление, если бы ничего между ним и «барышней» не было? Молчать и не называть злодея было тоже опасно… Не преследуемый и не взятый, он мог скрываться до поры до времени, а затем явиться вновь и повторить покушение… Следовательно, вся сила была в том, где Анька и что намерен делать. Бежать с Высоксы куда-либо и сделаться навек бегуном, исчезнуть?.. Или решил он оставаться ради мести.
Угрюмова была того мнения, что Гончий бежал за тридевять земель, не зная даже, ранил или убил он барышню.
Сусанна напротив, зная нрав Аньки хорошо, судила иначе. Пылкий, упрямый, предприимчивый, смелый до безумия и вдобавок страстно влюбленный и ревнивый, молодой малый, по мнению Сусанны, не мог поступить так, как всякий иной поступил бы на его месте.
— Другой бы, — говорила она Угрюмо вой, — разумеется, теперь бежал бы. Отомстил и спасся, чтобы не отвечать… А этот не таков. Он теперь понимает, в каком я положении, и ждет… назову я его дядюшке или промолчу… Если назову, он или совсем скроется, зная, что именно его ищут, или дастся в руки, чтобы зарезать меня без ножа… Если он увидит, что я его не называю, он будет до времени скрываться поблизости и через месяц, хоть бы даже через полгода, нагрянет как снег на голову… И уж тогда наверное убьет.
И Санна в отчаянии восклицала иногда:
— Господи! Где у меня был разум, когда я этакого выбрала! Всякий другой смирился бы, если б не утешился просто… а этот Каин — сатанинской гордости и смелости!
И чем больше думала Сусанна, тем менее знала, на что она должна решиться.
— Как же однако порешите вы? — ежедневно повторяла Угрюмова, тревожась из любви к своей барышне и понимая, что если признание во всем барину опасно, то молчание или лучше, или стократ хуже. — Сусанна Юрьевна, — рассуждала она, — надумайте что… решите. Ин бывает отложить хорошо, ин бывает долгий ящик погибелью человеческою.
Но Сусанна окончательно не знала, на что решиться тотчас, не знала, на что и завтра или через неделю она решится.
И это колебание было нравственною пыткою, а оно в свою очередь действовало на ее физическое состояние, казалось, даже мешало выздоровлению.
Немец-доктор, посещавший Сусанну по два и по три раза в день, был слишком умен, чтобы не заметить нравственного состояния своей пациентки. Она была задумчива и тревожна, а между тем она не могла, по мнению Вениуса, бояться за себя, так как видела, что ее главная рана быстро заживает, а первая, нанесенная злодеем, уже на пути полного заживания.
«Что же ее смущает?» — думал доктор.
И он отвечал себе на это слухами.
А слухи в Высоксе уже стали ходить, конечно, «по шепоту и опасливо».
Исчезновение Аньки внезапное и беспричинное… Злодеяние в барском доме невероятное, небывалое и почти бессмысленное… дружба Гончего и Анны Фавстовны… Эти три обстоятельства сопоставлялись.
— Уж не ошибся ли Анька? И, желая хватить Угрюмову, хватил барышню… — говорили простодушные люди.
— Уж не у барышни ли бывал Анька? — говорили более дальновидные.
Но главный вопрос был:
— Зачем он пропал с Высоксы еще прежде злодеяния?.. Чтобы на него не подумали? Да что же ему до этого, раз он в бегуны себя произвел?
Как ни мудрствовали обитатели Высоксы, но не могли уразуметь и объяснить неслыханное и невиданное происшествие… Однако, исчезновение молодца и любимого канцеляриста барина с загадочным покушением на барышню упорно напрашивалось само собой на сопоставление и вело к догадкам, которые были правдой, но правдою отгаданною и недоказанною.
Разумеется, случилось нечто простое… Смутный слух достиг и коснулся смущенного и подозревающего Аникиты Ильича, который в некотором смысле хватался даже за соломинку, чтобы объяснить себе загадочное происшествие в его Высоксе.
— Да. В моей Высоксе?! — повторял старик то, что его наиболее поразило.
Случись такое преступление у кого-либо из помещиков самых важных и богатых на Руси, Аникита Ильич не удивлялся бы. Он помнил Пугачевщину и видел ее близко… Давно ли она была, лет двадцать пять тому назад! А сколько было за это время «откликов» Пугачевщины или маленьких вторичных вспышек в плохо затушенных местах главного пожарища!.. Наконец, даже повсюду на Руси могло случиться такое происшествие… но не у Басман-Басанова, не в Высоксе!
— У меня и во дни властвования Емельяна Иваныча, — говорил старик Дмитрию, — было все смирно так, что смирнее, чем в самой Москве. А почему? Потому что с самого начала бунта, когда мне доложили, что ночью в кабаке около плотины прохожий человек объясняет моим заводским, что явился великий государь Петр Федорович, то я наутро уже распорядился… Народ мой, проснувшись, нашел на двух деревах, по бокам кабака, двух затянувшихся на бечеве — прохожего вещуна и самого Антипа-кабатчика. Они оба якобы сами в петлю полезли и з страха моего наказания. Но, понятное дело, мои-то все поняли. И затем, когда пол-России было объято пламенем, у меня было тихо и смирно… И вот вдруг в Высоксе моей — да этакое… Что же я? Даром всю жизнь устроял свои поместья, зря гордился и похвалялся сим устроением, зря в своей гордости ослеплен был?..
И Аникита Ильич повторял:
— Да. Обида! В моей Высоксе?! Обида!
Всякое утро старик говорил Змглоду, являвшемуся с докладом:
— Что же, Турка ты прямая… Обер-щенок слепой, а не обер-рунт! Так мы при этом и останемся. Что же нам к гадалке какой или к колдуну идти для расследования?
Змглод угрюмо отмалчивался и ждал повидать самое барышню, узнать от нее, как она прикажет поступить.
Всякое же утро Аникита Ильич говорил и Масеичу:
— Ну, что же?.. На кофейной гуще в чашечке нам злодея разыскать…
Масеич или ухмылялся, или по привычке сопел. Наконец, однажды он не выдержал и, подавая барину пилу «голландку» для утренней работы, выговорил:
— Диковинно, Аникита Ильич, что приключилось оно за раз… и Гончий сбежал, и злодей проявился.
Басман-Басанов превратился в истукана! Это соображение ни разу не явилось в его голову. И теперь слова Масеича поразили его, как громом.
Но через несколько мгновений он рассудил так же, как и многие в Высоксе.
Зачем же Анька сначала бежал или пропал?.. Неужто затем, чтобы на него не подумали… Что если и Анька, то все же… За что? Почему?
— А зачем, скажи, — обратился он к камердинеру, — зачем Гончему Сусанну Юрьевну умерщвлять?
— А кто их знает, — ответил Масеич.
— Их? Кого — их? Дурак…
— Я это так сказываю…
— Так?
— Да-с… Так это…
— Дурацкое слово российское, за кое бы вешать следовало, — рассердился Аникита Ильич. — Так?.. Спросят человека, почему он не весел… Так, мол. Отчего иной помер вдруг?.. Так? За что другой убил?.. Да так!.. Тьфу!
И Аникита Ильич сердито плюнул, а затем принялся пилить кружки.
XIV
Едва только Сусанна видимо поправилась, казалась даже вполне здоровой, как три человека пожелали с ней объясниться тайно «по одному делу».
Разумеется, «дело» это было прошлое происшествие, оставшееся и остававшееся загадкой.
Первый, страстно ждавший объяснения, был молодой Басанов; второй, угрюмо спрашивавший всякий день у Анны Фавстовны, когда его примет барышня, — был Змглод; третий, уже заявивший, что явится «беседовать о важной материи», был сам Аникита Ильич.
Сусанна знала заранее, о чем все трое будут спрашивать.
— Но что скажет дядя? Что может он думать? — говорила Сусанна своей наперснице. — Он не может додуматься до правды, не может собственным умом дойти до подозрения, что на ее жизнь покусился любовник.
Принять у себя днем молодого Басанова, лежа в постели, было, конечно, невозможно: все обитатели дома пришли бы в негодование от такого соблазна. Встать, одеться и выйти в свою гостиную для приема Сусанна боялась, чувствуя себя еще слишком слабой. Хотя Вениус и дозволил ей это, отвечая, что у нее достаточно сил, чтобы стать на ноги, и что опасности в ее положении нет и малейшей, тем не менее она предпочитала лежать до тех пор, пока не почувствует себя совершенно бодрой.
Оставалось решиться принять Дмитрия тайно, ночью, что было бы уже не в первый раз, а при теперешнем ее положении, в качестве больной, еще менее опасно. Кто бы мог подумать, даже подстерегши его, что он идет или был на свидании у раненой барышни!.. В случае такой беды объяснение было уже приготовленно заранее. Дмитрий должен был сказать, что он из своих окон увидел снова какую-то фигуру на балконе и тотчас бросился в комнаты Сусанны, на всякий случай.
Однажды молодой Басанов около полуночи снова, как прежде, вышел в сад по одной террасе, поднялся по другой и, пройдя быстро пустой коридор, где однако слышались голоса дежурной дюжины, проскользнул в отворенные двери. Разумеется, Анна Фавстовна была на часах, прислушиваясь и оглядываясь на обе стороны.
Войдя к Сусанне и пылко расцеловав ее несколько раз, он молча, сосредоточенно, точно будто тревожно, сел около ее постели. Не она, а он был смущен и взволнован предстоящим объяснением.
— Санна, — начал он тихо и робко, — я хочу тебя спросить… Вот который день я мучаюсь… Все это приключение очень чудно и диковинно… Я хочу у тебя спросить…
— Ну, спрашивай, — невольно улыбнулась она.
— Да. И ты мне отвечай правду. Скажи, ты ответишь правду, не станешь хитрить и обманывать и скрывать?
— В чем? Что? Говори… Я не знаю, про что ты говоришь, чего хочешь, — солгала Сусанна.
— Скажи, что это за приключение? Кто был этот злодей? За что он тебя хотел убить?..
— И непременно убил бы, если б тебя не случилось! — прибавила она с чувством.
— Да. Я тоже так полагаю… Был один миг…
— Смерть была на носу!.. — добавила она.
— Да. Если б не мой рукав, то ножик прямо бы вонзился тебе в шею… Вот куда…
Дмитрий поднялся, показал ей место под левым ухом и снова поцеловал ее.
— Я видел… Я хорошо помню… Моя рука была вот так… А за нею твоя голова и запрокинутая… Хвати он вершком дальше через мою руку, то прямо бы в горло… А бил он шибко… Шутка ли: толстое сукно два слоя и все шнуры — все пробито и прорвано насквозь… Да…
— Знаю. Знаю… А ты говори… Спрашивай? Что ты хочешь знать?
— Я хочу знать, Санна что все это значит. Это не вор был и не грабитель…
— Понятное дело.
— Он тебя прилез убивать… Он тебя назвал очень чудно…
— Назвал? Чудно?
— Да. И не раз…
— Как назвал?.. Я не помню, не слыхала.
— Бранными словами назвал. Скверными. Я и повторять не стану… Но скажи мне, кто он?
— Кто? — странно спросила она.
— Да. Скажи, кто он. Ты знаешь.
— Да. Знаю.
— Ну, и скажи.
— Гончий.
— Что? — не понял он.
— Анька Гончий. Онисим, а прозвищем Гончий.
Наступило молчание.
— Я не про это… — начал Дмитрий как-то робко. — Имя мне ничего не объяснило. Скажи мне, кто он такой.
— Канцелярист дядюшкин. Сын заводского смотрителя…
— Опять я не про это спрашиваю. Что он такое для тебя…
— Для меня? — усмехнулась Сусанна.
— Да. За что он тебя хотел зарезать? Из гнева, ревности, отмщения?.. За что! Он кричал ведь… Он, Санна, кричал: «Теперь другой приглянулся». Потом, увидя меня и доставая нож, он крикнул: «И этот здесь». Что все это значит?
Наступило снова мгновенное молчание, а затем Сусанна вздохнула и вымолвила серьезным голосом:
— Значит это вот что… Слушай…
И она подробно рассказала Дмитрию, что в канцелярии дяди был молодой малый, который дерзнул из самомнения влюбиться в нее. И он стал или от чрезмерной дерзости, или от безумия страсти говорить ей о своей любви. Она была поражена. Стоило ей сказать одно слово Аниките Ильичу, и, конечно, малый был бы стерт с лица земли. Но ей было жаль его. Она надеялась, что это безумие пройдет… Однако поведение молодого малого становилось все смелее, все отчаяннее… Тогда, не говоря ничего дяде, она приказала обер-рунту избавить ее от безумца… Что хотел с ним сделать Змглод, она не знает, но дело в том, что канцелярист скрылся, исчез… Его считали в бегах. И вдруг он явился… тогда… ночью… и отомстил. За что? За отвергнутую любовь. Чью? Любовь крепостного холопа, хама… к ней, дворянке!
Дмитрий просиял и бросился пылко целовать Сусанну. Ему казалось, что он даже не узнал от нее ничего нового. Он именно все это смутно угадывал и предполагал. Так и должно все было быть.
Через полчаса молодой человек довольный, счастливый, снова пробирался к себе через террасы и сад. Он был так же восторженно настроен, как когда-то в тот вечер, что впервые тайно явился к Сусанне тем же путем, что и злодей Анька. Причины быть в восторге были те же. Тогда он знал, уходя от нее, что она любит его. Теперь он снова во второй раз, будто обрел ее, потерянную… Ревность душила его, истерзала, и сегодня оказалось, что он, безумец, вообразил себе Бог весть какую нелепицу. Дело оказалось совершенно простое, и все было так, как он сам предугадал.
Наутро, около полудня, Сусанна сказала своей наперснице твердо и самоуверенно:
— Теперь я не боюсь объяснения с «Китой». Его будет помудренее уверить, но все-таки можно. А расскажу я ему тоже самое… И будет это правдой… А что я не всю правду скажу… так поди-ка, это докажи! Сам Анька, приди говорить, что он пользовался моей благосклонностью, так никто не поверит. А я буду полправды сказывать… А знаете ли вы, что такое полправды?.. Это великая сила! Полправдой можно и самого мудрого мудреца обойти и болваном поставить.
Так как Угрюмова не поняла, что ее барышня хочет сказать, то Сусанна объяснила ей, что решилась во всем признаться дяде.
— Во всем? — воскликнула Анна Фавстовна.
— Во всем, только не во всем всем… — шутила Сусанна, уже весело смеясь. — Я скажу дядюшке всю полуправду… что Анька был мною прельщен до помрачения ума, что я его жалела… Принимала у себя и все его разговаривала да утешала, стараясь образумить. А там, видя, что он решился ума и его мне надо бояться как бешеного волка, я приказала Змглоду его похерить… а Змглод сплоховал. Анька, все пронюхав, пришел мне отомстить… Дело простое. А что этот Анька был моим любезным, знают только вы да вот эти четыре стены.
И Сусанна рассуждала про себя:
«Желающему верить можно доказать легко, что луна на небе треугольная. А не желающему верить ты не докажешь, что луна круглая. Он и сам это видел, да если ему другой будет это говорить, то он станет сомневаться. Так ли он подлинно видел? Верно, мол, ошибся! А коли теперь подозрительный мне человек подтверждает, что я сам видел, то, стало быть, я и впрямь ошибался… Луна-то была всегда и есть треугольная».
Однако, в ожидании объяснения с дядей, Сусанна предпочла испробовать иное… Испробовать, нельзя ли избавиться от Аньки, и тогда, конечно, не только ни в чем не признаваться Аниките Ильичу, но даже и не называть злодея по имени.
Узнав, что Змглод снова являлся, желая видеть ее, она приказала послать за ним тотчас. Обер-рунт явился и, войдя в спальню, найдя барышню в постели, стал у порога, опустя глаза. Он только раз глянул на нее, увидел ее красивую голову на подушке с разбитыми по ней волосами и тотчас отвел глаза в сторону, будто смутясь или не желая своим взглядом смущать лежащую барышню.
— Здравствуй, Змглод… — бодро, почти весело встретила его Санна. — Ну, вот видишь, как все потрафилось… Ты ведь умный… Ты, стало быть, знаешь, кто сюда лазил на балкон и меня ножом хватил. Ведь ты знаешь, Змглод?
— Знаю, барышня, — тихо отозвался обер-рунт.
— Ну вот… Не даром я тебя просила тогда…
— Виноват, Сусанна Юрьевна! — с чувством воскликнул Змглод. — Виноват кругом!.. Знай я… ведай я… было бы не то… Я по глупости думал, вы так, зря хотите избавить себя от парня… Я все знал, барышня… знал, что только вы знаете да Анна Фавстовна…
— Как? Что? — воскликнула Сусанна.
— Все, барышня, я знал… Да это не мое дело. И я думал, что парень смирится и будет горевать да молчать… что вы напрасно опасаетесь его и хотите его похерить… А вот правда-то ваша была, а не моя… Я взялся за дело лениво, нехотя… Анька пронюхал и бежал… А, обозляся, вот на что пошел… Да, я, барышня, виноват пред вами… Приказывайте теперь, что изволите… Изволишь приказать мне самому утопиться, — то, право, ей-Богу, готов…
— Нет, Змглод, то не нужно! — рассмеялась Сусанна. — А надо нам подумать, как нам быть… Если бы можно было теперь его достать, то хорошо бы. Если он здесь и укрывается… и не собирается даже бежать… Если же бежал или собирается, то Бог с ним…
— Нет, барышня, не таков он.
— Что? Как не таков?
— Он не убежит… что ему в бегунах делать, когда вся душа его здесь… Вся злоба его здесь останется… Нет, не таков на наше горе. Он останется и будет выискивать случая опять проявиться, опять на вас руку поднять… с ножом. Либо пойдет прямо к барину и повинится и все скажет ему…
— Стало быть, или ножом или без ножа меня зарежет, — выговорила Сусанна сурово.
— Да. Воистину так сказываете вы. А я полагаю, что скорее — без ножа.
— Пойдет к дядюшке?
— Да. Это злобнее. Убил человека и шабаш. Только на душе твой грех совесть заест. А этак, почитай, тоже убил, ногами затоптал и на всю жизнь несчастным сделал живого человека… Он это понимает… Он знает, какая беда вам будет, если Аникита Ильич ему во всем поверит… И какой срам опять…
— А поверит ли дядюшка? Как по-твоему, Змглод?
«Турка» молчал мгновение, едва заметно улыбнулся угрюмой улыбкой и выговорил:
— Не знаю, барышня…
— А если дядюшка ему не поверит, а поверит мне, тому, что я ему выкладу?.. Всякие турусы на колесах? Тогда что?
— Тогда он наш… Но лучше, барышня…
— Вот… Вот… К этому-то я и веду, Змглод, — воскликнула Сусанна. — Нечего ждать, что он явится с россказнями обо мне, и затем поверит или не поверит Аникита Ильич… Надо нам не дожидаясь орудовать…
— Что же? Я вашего разрешенья ждал. А если такое ваше желание, я возьмусь… Завтра к вечеру, парень будет на том свете…
— Так ты знаешь, где он…
— Полагаю, что знаю… а утверждать не могу. Но если и не знаю теперь, то узнаю завтра… А к вечеру…
— Избавишь меня?..
— Точно так-с.
— А как собственно… не в Павлиний павильон?
— Как можно, барышня! Он не таковский. Не дастся.
— То-то… Знаю. Мудрено. Как же тогда?
— Просто, стало быть… Ну, из ружья.
— А тело?.. А свидетели окажутся ненароком? С докладом к дядюшке сунется кто?
— Это все, барышня, уж не ваша забота. Предоставьте. Не опасайтесь. Я не маленький и не дурак… Такое ли с рук сходило… Лишь бы убить, а следы замести и из воды суху выйти — пустое…
И Змглод, уклоняясь от подробного объяснения, как возьмется он за дело, все-таки убедил Сусанну вполне положиться на него. Последние слова его были:
— Уж будьте благонадежны. Лишь бы, говорю, он себя убить дал, а все остальное само собой наладится.
XV
Прошло три недели после события, смутившего и удивившего всю Высоксу, и вдруг та же Высокса еще более ахнула…
Сразу, на расстоянии двух суток, случилось три диковинных небывалых происшествия.
Обер-рунт, много наобещавший барышне Сусанне Юрьевне, в продолжение четырех дней ничего не сделал, тщетно проискав, где скрывается Гончий. Сведения его оказались ошибочными, или молодой малый, почуяв намерение Турки, переменил место укрывательства… Быть может, искусный сыщик по природе и успел бы в своем немудренном для него предприятии, но вдруг с ним самим приключилось нечто совсем непонятное…
Однажды около полуночи, близ дома раздались крики, стоны, скорее даже какое-то звериное рычание… Прохожие, а затем и половина дежурной дюжины — все побежали на эти дикие вопли.
За углом дома в нескольких шагах от двери, ведущей на баринову винтушку, лежал на земле Змглод, и не в беспамятстве, а бился как бы в судорогах, ревел как зверь, рвал на себе волосы и даже платье, стукался головой об землю и бешено кричал что-то непонятное на своем туркином языке.
На вопросы всех сбежавшихся Змглод не только не отвечал, но продолжал биться и реветь, даже не замечая окруживших его.
Рунт, стоявший около него истуканом, от удивления не мог, собственно, ничего объяснить… По его словам, не случилось ничего особенного… Они оба стояли и разговаривали о чем-то… Кто-то такой женского пола с закутанной в платок головой прошел к двери мимо них… Обер-рунт пошел, проводил за дверь эту фигуру, а затем, выйдя обратно, упал и забился на земле. Вот, все, что рунт видел.
Пролежав с полчаса, стихнув, Змглод не пошел, а поплелся, как пришибленный, домой, в главное здание полиции.
Наутро барину доложили все приключившееся и прибавили, что обер-рунт в постели лежит как бы в помертвелом состоянии.
Разумеется, Аникита Ильич тотчас же приказал Вениусу навестить больного и доложить, в чем дело… Он предупредил доктора, что не удивится, если окажется, что его верного слугу кто-либо опоил ради мести.
— После такого происхождения, какое было с Санной, этакое со Змглодом уж и не удивительно, — сказал Аникита Ильич.
Вениус навестил больного и опросил. Сначала Змглод упорно молчал и не хотел отвечать доктору, но, узнав из его слов, что он должен немедля доложить о его болезни барину, он вдруг как бы очнулся.
Дикими глазами поглядел он на Вениуса… а затем на все его вопросы отвечал согласием, объяснил, что у него горит нутро, болит голова, ломит тело, крючит и ломает руки и ноги. Он столько насказал Вениусу, или, вернее, отвечая утвердительно на все вопросы, столько принял на себя хворостей, что немец понял болезнь и сказал про себя себе самому:
«Gar nichts… Совсем не болен телом… Но страшно заболел душой».
Змглод выразил согласие лечиться и глотать и делать все, что прикажет доктор Вениус, понявший, что согласие этого лукавого человека доказывает прямо, что он хочет скрыть истинную причину и притвориться хворым.
Вениус ушел к себе, прислал мнимо-хворому простой настой на миндалях, вроде оршада, с приказанием пить сколько угодно… Впрочем, вместе с тем он приказал фельдшеру два-три раза дать обер-рунту какие-то капли, уничтожающие возбужденное состояние.
Аниките Ильичу Вениус доложил, что у обер-рунта сильная лихорадка, выражающаяся у него необычно и диковинно благодаря его восточному происхождению или его полузвериной натуре. Немец, конечно, лгал умышленно и принимал сторону Змглода по доброте сердечной.
«Хочет человек скрыть свое нравственное потрясение… Ну, и Бог с ним! Зачем я буду выдавать его людям!» — рассуждал добрый немец.
Это первое происшествие удивило всех, так как болезнь обер-рунта началась необычайно, сразу. Стоял человек, свалился и заревел, как зверь.
Зато это хворание главного блюстителя порядка привело ко второму происшествию, более крупному…
Однажды, в темную ночь, раздались крики о помощи в саду около балкона барышни Сусанны Юрьевны… Дюжинный, бывший случайно в зале, бросился по правой террасе и побежал на крик. При его появлении какая-то фигура промчалась по аллее и исчезла в темноте и чаще. Одновременно дюжинный столкнулся с кем-то и в темноте схватил неведомого человека. Но пойманный не боролся, стоял смирно и только задыхался, как если б пробежал версту…
Переведя дух, он вымолвил:
— Пусти… Я это… я…
Дюжинный ахнул, узнав уже по голосу молодого барина Дмитрия Андреевича.
Крик его, а затем и крики дюжинного подняли почти весь дом на ноги, хотя и не так, как было в памятную ночь покушения на барышню. Если все нахлебники не повскакали с постели и не прибежали, то во всяком случае Дарьюшка и Матвеевна появились в своих окнах, князья Никаевы (отец и сын) прибежали полуодетые в сад, и даже выздоравливающая барышня вскочила с постели и пришла на свой балкон, пугливо окликая и спрашивая.
Наутро, рано, вся Высокса взволновалась от объяснения происшедшего ночью с молодым барином.
Оказалось, что Дмитрий Андреевич, страдая бессонницей — так объяснил он, — вздумал пойти прогуляться в сад среди ночи. Гулял он, по его словам, недалеко, больше все между обеими террасами.
И вдруг среди тьмы ночи он услыхал шорох в кустах. А затем через минуту он почуял за собой кого-то и насторожился. И сразу, как зверь, какой-то человек бросился на него с чем-то в руке… положительно с ножом… Но Дмитрий шибко ударил его в грудь, сбил с ног на землю и насел, держа за обе руки… Если б дюжинный подоспел раньше, то злодей был бы взят. Но в ожидании, устав от борьбы, он не смог справиться один и выпустил его.
Кто это мог быть?
По убеждению Дмитрия, он узнал по всем признакам того же самого молодца, от которого спас барышню.
Конечно, всех страшно поразило объяснение Басанова, но более всех Сусанну.
Она поняла теперь, что далее ждать и откладывать дела нельзя. Надо тотчас же сказать дяде, то есть «полправды», и принять меры предосторожности против Гончего. Очевидно, что болезнь главного рунта сделала его смелее. Но, кроме того, нападение именно на Дмитрия было знаменательно. Оно ясно доказывало, что Анька, скрывающийся Бог весть где, знает, видать и понял теперь больше, чем живущие в доме. Узнав, кто спас от него Сусанну, он понял, почему Басанов был в комнатах ее среди ночи. И он наверное постоянно является по ночам к дому со стороны сада и подглядывает за ними.
После совещания между собой, взвесив все, Сусанна и Дмитрий решили вопрос одинаково: «Нужно немедленно сообщить все Аниките Ильичу, чтобы принять меры предосторожности».
Но вскоре после второго приключения Высокса взволновалась еще пуще, как давным-давно не бывало.
Общий переполох вызвало оповещение от имени барина по всем заводам, всем его верным подданным.
Аникита Ильич, узнав от племянницы, какой сугубый урод и отчаянный негодяй оказался в Высоксе, да еще в его собственной канцелярии, так разгневался, пришел в такое странное состояние духа, что даже Сусанна, знавшая дядю близко, удивилась… После ее признания и объяснения «полправды» пришлось старика отпаивать водой… Аникита Ильич не мог перевести дыхания и только ахал и сжимал кулаки.
И на другое же утро все заводы, все от мала до велика, узнали следующее:
«Проявился в Высоксе изверг рода человеческого, Каин и изувер, именем Онисим Гончий, который по некоим причинам скрылся, после чего покушался умертвить барышню, а затем покусился и на молодого барина… Остается ждать, что он попробует умертвить и самого барина… Так дело обстоять не должно… Надо изверга, сатанинова сына, выловить и примерно наказать. Поэтому всем своим рабам Аникита Ильич объявляет, что кто оного Онисима словит и представит, тот получит отпускную на волю и тысячу рублей ассигнациями в награду».
— Вольную! Тысячу рублей!..
Вот что загудело, будто стоном стояло по всем заводам. Всякий последний рудокоп, проводивший день свой в «дудке», то есть в глубокой яме, из которой таскал руду на свет Божий, опускаемый и поднимаемый в ящике на веревке, — и тот мог в одни сутки стать вольным и богатым человеком.
— Только этого Онисима излови!
Но всякий разумный человек понимал, что если даже не жалеть себя и тоже «отведать Онисимова ножа», то все-таки его не поймаешь в одиночку.
И через двое суток к барину явилась целая гурьба молодцов заводских с челобитьем. Всех было около сотни человек. Выборный от них доложил барину, что они просят на неделю, а то и более, избавить их от работы и дозволить идти на поиски злодея. А между собою они порешили так: кто первый выищет злодея или укажет им, где он прячется, тому выдать пять сотен рублей, остальные пять разделить промеж себя… А вольная достанется кому-либо из них или по жеребью, или по приговору барина… тому, кто по его рассуждению, больше всех отличился и делу помог.
Аникита Ильич ответил согласием, но прибавил, что его милостям предела не полагается.
— Видно будет, — сказал он. — Захочу, то на вашу самодельную артель сыщиков три отпускных напишу и к каждой отпускной по пяти сотен рублей приложу.
И с этого дня вся Высокса жила толками о том, как сатана залез в душу молодого парня-холопа, чтобы заставить его «глаза обратить» на красавицу-барышню…
— Бывает же этакое затмение! Этакая гордыня!
И вместе с тем все жили ожиданием: поймают сатанинова сына или упустят?
А старик-барин продолжал волноваться от глубоко оскорбленного самолюбия при соображении, до каких дней на Высоксе он дожил. На его красавицу-племянницу и сожительницу «хамы глаза закидывают». В его доме и в его саду, его же родных, домочадцев «режут, как кур». Чего же еще ждать? Только и остается, что самого его, барина, избить или совсем ухлопать, как бывало в Пугачевщину.
— У меня и при Емельяне все было тише воды и ниже травы! — восклицал старик, вздыхая глубоко и сжимая кулаки от прилива гнева.
И он стал постоянно справляться у Вениуса о ходе болезни обер-рунта.
— Мой Турка всегда был молодцом. Будь он теперь здоров и возьмись за поиски, знаю, что разыскал бы Каина.
XVI
И Аникита Ильич судил справедливо. Если бы был здоров обер-рунт, то, конечно, Анька Гончий не ушел бы от его рук, не скрылся бы не только в Высоксе, но даже и во всем наместничестве. Ему оставалось бы только залезть в непроходимые лесные трущобы и там, конечно, быть растерзанным медведем или умереть с голоду.
Но Змглод не мог в такое важное время для барина быть полезным. Доктор докладывал Басанову всякий день одно и то же.
— Хворь. Силы потерял. Лежит бревном и даже говорить не может.
— Помрет, пожалуй? — спрашивал Басанов.
— О, нет! — решительно уверял Вениус, уверял потому, что от болезни Змглода, по мнению его, можно было повеситься, в монахи пойти и ума решиться, но умереть просто было нельзя.
И немец верно понял болезнь человека, которого считали в Высоксе полутурецкого происхождения, считали способным на всякие изуверства по приказу барина и считали неспособным ни на какое человеческое чувство.
И все ошибались.
Когда года два назад стали говорить, что Змглод большой друг и очень любит Василия Васильевича Ильева, то все смеялись.
— Нетто наш Турка может кого полюбить, с кем-либо в дружбу войти? Он — идол деревянный и только злобствовать да злодействовать может.
А между тем этот «идол деревянный», круто действовавший по указу барина и по своему званию сыщика и палача вместе, был способен на такое чувство, на такую привязанность, которые и во сне не снились нахлебникам и приживальщикам из дворян, не только холопам Высоксы.
Странная хворость Змглода, угаданная доктором, была доказательством пылкости и нежности его натуры.
Змглода свалило с ног то, что он вдруг узнал. Увидел своими глазами! Если б кто-нибудь сказал ему то, что он видел воочию, то он только бы посмеялся до слез и никогда бы не поверил.
Что же он видел?
Он видел Аллу, укутанную с головой и проходящую на винтушку старого барина после полуночи… Он бросился за ней, не веря глазам, догнал, снял или почти сорвал с нее платок… Узнав ее, он прохрипел только:
— Ты?.. К нему?!
Алла вместо ответа горько заплакала и заговорила, но Змглод бросился обратно в двери на улицу, упал на землю… и заревел зверем на удивление сбежавшимся. Теперь он лежал без сил, разбитый, будто раненый, и думал: себя ли похерить тотчас, или идти задушить старого изверга, которому он столько лет служил верой и правдой и который отнял у него единственное дорогое ему на свете.
Теперь только понял он, почему его милая, ненаглядная Алла ходила уже давно вся в слезах, несчастная, убитая горем.
Но чем больше он обдумывал свое положение, тем более чувствовал, что сил нет, разума нет и будто земля из-под ног уходит… Или он зарыт под землей заживо?.. Или давно утонул и лежит на дне озера? Или заперт и умирает с голоду в темном подвале Павлиньего павильона?..
И сколько раз, и днем и ночью, поднимался он, бродил по своей комнате и решался…
«Вот сейчас… И конец!»
Но решение окончательное не являлось. Решиться на себя руки наложить ему казалось совершенно пустым и легким делом. Но злоба останавливала перед самоубийством, злоба на него, на старого сластолюбца, ненасытного, не знающего удержу в прихотях. Змглод не хотел жить ради себя самого, а хотел оставаться в живых, чтобы надумать…
Что надумать? Он сам не знал…
Отомстить старому прихотнику[16] за Аллу и за себя? Это казалось ему немудреным. Если за это и поплатится, так что же? Все равно жизнь в тягость. А, может быть, наладится так, что он и отомстит, и Аллу спасет от прихотника… спасет и себе возьмет, потому что любит ее по-прежнему, если еще не больше. Она, бедная, ни в чем не повинна. Недаром она так скрывалась от него за все время и никогда не захотела объяснить причины своих слез, своего горевания. Недаром она так страшно разрыдалась, когда он ее накрыл на винтушке.
Теперь он вспомнил ее слова, сказанные тогда с рыданьем:
— Милый ты мой!.. Я ни при чем… Денис Иваныч… Я молила его, убивалась… Просила… Я ни при чем…
Исстрадавшись, похудев, изменившись лицом и даже изменившись будто и нравом, Змглод наконец стал спокойнее, и более ясное сознание всего происшедшего заменило какой-то горячечный бред…
Через неделю после роковой встречи Аллы на винтушке и дикого припадка горя и злобы Змглод вышел из дому и тихо, походкой действительно больного человека, направился в барский дом. Здесь он присел на тумбу около главного крыльца, не отвечая проходившим и спрашивавшим его о здоровье…
Посидев, передохнув, он двинулся прямо в квартиру Ильевых в нижнем этаже дома.
«Боковой» родственник Басановых, добрейший и честнейший человек, забитый если не людьми, то судьбой, жил отчасти замкнутой жизнью, мало «водился» с другими приживальщиками и проводил время за чтением Священного Писания, Четьи-Минеи[17] и вообще книг духовного содержания. Единственный человек, которого он принимал радушно и, пожалуй, любил, был обер-рунт.
Случилось это, вероятно, потому, что Василий Васильевич «отплачивал» Турке любовью за его удивительную, как бы собачью, привязанность к дочери Алле. Наконец Змглод просто как-то «навязался» Ильеву и будто заставил себя полюбить.
За последний год, заметя и обсудив странную дружбу между дочерью и Туркой, Василий Васильевич стал задумываться на их счет. Если б не «басурманство» Змглода, то чем бы он не жених для дочери нахлебника, побочного дворянина… Однако, басурманством Змглода было только его происхождение, так как веры он был православной, назывался Денисом и еще исправнее ходил в храм и говел, чем многие из настоящих православных.
Но этот Денис Иваныч никогда ни единым словом не обмолвился насчет своих мыслей или намерений по отношению к молодой девушке.
Недавнее происшествие в семье, судьба Аллы из-за нежданной прихоти старика, у которого он жил на хлебах, глубоко поразили Ильева и горько отозвались… Он был слишком порядочный и нравственно-чистый человек, богобоязненный и совестливый, чтобы не понять, в какое горькое и зазорное положение попала подросток-дочь, став любовницей старого родственника.
Но противодействовать, бороться или, наконец, бежать с Высоксы и начать нищенствовать силы, конечно, не хватило. И когда гнусное и греховное дело должно было окончательно решиться, Василий Васильевич только и смог, что уйти… пойти на богомолье ко святым местам, замаливать свой грех слабоволия и «его» грех сластолюбия…
Вернувшись недавно из Оптиной пустыни, Ильев снова принялся за свои «святыя» книги и еще более чуждался всех обитателей дома и двора. К прежней нелюдимости теперь еще прибавился стыд людей. Ильеву казалось, что все давно знают «срам и грех» его дочери и корят его или издеваются над ним.
Узнав о болезни удивительной и внезапной приятеля Дениса Иваныча, он собрался навестить его, но рунты его не пустили к больному, объяснив, что Змглод строго заказал никого к себе не допускать.
Приняв нежданно явившегося Змглода, Ильев ахнул при виде приятеля: настолько изменился тот.
— Что это ты? Зачем поднялся? — воскликнул он. — Надо долежать во всякой хворости.
— Ничего, — угрюмо ответил Змглод. — Моя хворость такая, что хоть всю жизнь лежи, не долежишься до облегченья.
— Да что у тебя? Сказывали — лихорадка… Я был у тебя — не пустили.
— Тебя-то, Василий Васильевич, я бы рад был повидать, да думал, ты не соберешься ко мне, а всех прочих я рунтам действительно наказал не пускать: лезли из любопытствия одного, поглазеть, как Турка издыхает — по-русскому или по-своему, по-басурманскому…
Змглод хотел улыбнуться, но не смог.
— Ну, вот и напрасно… Лежал бы, — сказал Ильев.
— Я опять лягу. Я встал, чтобы только тебя повидать…
— Спасибо… Я бы и сам пришел. Позвал бы… а то отложил бы.
— Нельзя откладывать, — вдруг быстро и резко вымолвил обер-рунт и странными глазами глянул на Ильева. Старик вопросительно смолчал, глядя на него.
— Нельзя откладывать, — повторил тот.
— Что ж так? Не пойму.
— Дело у меня до тебя, Василий Васильевич, страшнеющее дело.
— Что ты? Бог с тобой.
— Страшнеющее, — глубоко повторил Змглод… — Вот ты меня сейчас выслушай, а там без ножа и зарежь… Нет, я уж зарезан. Ты меня только дорежешь…
— Да Бог же с тобой… — уже отчасти робко произнес Ильев, будто смутно чуя, о чем сейчас дело зайдет.
И он не ошибся. Обер-рунт помолчал мгновение и, опустя глаза в пол, выговорил будто через силу:
— Василий Васильевич… Кабы я проявился вдруг женихом… ты бы меня… Женихом, знаешь, я чаю, чьим… Ты бы мне арбуз поднес или бы сыном назвал?..
Ильев настолько смутился неожиданным и крутым оборотом беседы, что сидел румяный, с раскрытым ртом и молча двигал руками, разводя ими, как бы взамен слов, которых не находил.
— Я человек не богатый, но не холоп… я вольный… — заговорил Змглод. — И по закону наших мест, я не крестьянин и не мещанин, а больше… вроде дворянина, что в Польском королевстве шляхтой прозывается… Уйди я отсюда в столицу, я всегда достану себе место по полиции с жалованьем… И я бы давно ушел отсюда. Меня давно в Питер земляки мои зовут и таковое место обещают… Меня здесь только одно держало, уходить не дозволяло… одна твоя Алла Васильевна… Ну, вот… я все выложил…
Василий Васильевич, уже не смущенный, а растроганный, понурился и молчал.
— Ах, Денис Иванович! — наконец воскликнул он и горько заплакал. — Что же ты раньше-то?.. Раньше бы…
— А теперь что же? Поздно разве? — странным голосом спросил Змглод. — Ну, что же? Сказывай…
И на смущенное и печальное молчание Ильева он прибавил:
— Ну, так я скажу, почему поздно…
— Знаешь, стало быть, — пролепетал старик.
— Знаю… Оттого я и хворал… хвораю… Вот что, Василий Васильевич: чужая душа — потемки, а в моей душе была и есть хозяйка, твоя Алла… Вот что…
— Да теперь-то… Теперь как же? Что мы можем с ним?.. Я хоть и отец, а что могу? Ты и того меньше… Оба мы ничего не можем.
— Все можем! — глухо ответил Змглод, нахмурясь снова.
— Он не отдаст, не позволит… Потом разве, когда прискучит… Да тогда и сам-то пожелаешь ли, Денис Иваныч?
— Нет. Ждать мне невмоготу. Лучше руки на себя наложить, чем знать куда она ввечеру идет… Нет, ждать нечего… Послушай вот, Василий Васильевич, что я порешил на случай, если не согласится этот идол.
— Кто? — ахнул Ильев трусливо.
— Он! — воскликнул вдруг озлобляясь Змглод. — Он! Истый идол! Старый живодер. Ирод он, младенцев побивающий… Алла — тот же младенец для его годов.
И Змглод холодно сурово передал Ильеву все то, что он надумал, весь свой план воздействия на барина, чтобы добиться его немедленного согласия на брак… Если же Басанов заупрямится, то он будет просить согласия Ильева на тайный увоз Аллы с Высоксы.
— Он и нас всех тогда прогонит… — заявил старик.
— С нами жить пойдете. Ко мне… В столицу. Пойми, — твердо произнес Змглод.
Совершенно смущенный и оробевший Ильев кончил просьбой дать ему сроку «в мыслях разобраться».
XVII
Не только вся полиция всех заводов, все рунты, но и сотни две заводских молодцов бросили работу и принялись за розыски бывшего канцеляриста.
Один лишь главный рунт не принимал никакой участи в этом деле, хотя изредка выходил из дому и сказывался здоровым. Доктор Вениус тоже заявил Аниките Ильичу, что его больной оправился, хотя и не вполне.
Змглоду было не до поисков. Все мысли его были устремлены на одно или слились в один смысл — избавить Аллу от старого барина.
Змглод сам не знал, как «простил» любимую девушку, как примирился с мыслью, что его жена будет не кто иная, как прежняя наложница Басанова.
Страстная любовь превозмогла все. Вдобавок, бедная девушка сама была так страшно несчастна, что это уже вполне очищало ее в его глазах.
На другой день после объяснения с Васильем Васильевичем Змглод пошел бродить по саду в обыкновенный, давно им положенный час… Алла знала этот час его обхода и знала, что он побывал уже у ее отца. И она тоже наудачу вышла в сад с умыслом его встретить и объясниться.
С той ночи, что Змглод поймал ее в дверях проклятой винтушки, девушка мучилась, не спала ночей, а днем сидела у себя и не показывалась никуда, даже не навещала молодую барышню-приятельницу.
Горе ее стало еще горше с той минуты, что любимый ею человек знал ее невольный срам и, страдая так же, как и она, вдобавок мог обвинить ее. Алла наивно думала, что Змглод подозревает ее в том, что она добровольно пошла на такое дело, которое для нее было много ужаснее всякого истязания… Она готова была согласиться, чтобы ее наказывали розгами и плетьми, но избавили от ночных посещений старика.
«А он меня обвиняет, — говорила она себе. — Он не чает, какое это мое мучительство».
Разумеется, и обер-рунт и молодая девушка завидев друг друга в саду, тотчас сошлись. Алле хотелось даже броситься бегом навстречу, но она боялась, как и что скажет он, как глянет на нее, «пропащую».
Они сошлись молча… Змглод повернул с большой дорожки в чащу, она последовала за ним, как виновная, но счастливая уже тем, что он не отогнал ее, хочет повидаться и переговорить. Когда они очутились в глухой части сада, куда почти никто не заглядывал никогда, Змглод взял Аллу за руку, повел к скамейке, посадил и, сев около нее, продолжал упорно молчать, низко опустив голову и глядя в землю.
Алла молчала, не смея заговорить. Но вдруг она увидела, что плечи ее «милого Турки» как-то встряхиваются, а он будто хрипит и все ниже и ниже клонится туловищем и головой к земле.
Змглод сдерживался… но не смог удержать порыва страстного горя… Он начал рыдать…
Алла вскрикнула и в одно мгновение повисла у него на шее, крепко прижимаясь, плача тоже и целуя его в лицо и в голову.
Он тихо обнял ее. И еще несколько мгновений не вымолвили они ни слова, а плакали как малые дети.
— Денис Иваныч, прости меня, — зашептала наконец Алла. — Вот тебе Бог, я, несчастная, тут ни при чем…
— Знаю… знаю… дорогая моя… — отозвался он. — Я виноват во всем. Да, я виноват. Не надо было мне молчать да выжидать. Надо было тебя отсюда взять скорее, подальше от глаз старого дьявола… Скажи, ведь ты бы согласилась… пошла бы ты за мной?..
Алла глядела, широко раскрыв свои чудные глаза, и не понимала…
— Хочешь ты и теперь быть моей женой? — вдруг воскликнул Змглод.
— Денис Иваныч… — едва слышно ответила девушка и еще крепче прижалась к нему.
— Слушай же меня… Вот мое решение.
И Змглод передал ей то же, что объяснил накануне ее отцу. Разумеется, девушка отнеслась к этому не так, как Ильев. Она была согласна и готова на все. Избавиться от барина и стать женой «милой Турки» было для нее то же, что попасть из ада прямо в рай. И Алла первая предложила не соображаться даже с тем, что решит ее отец, и действовать отважно.
— Хорошо батюшке опасаться да рассуждать, — сказала она. — А мне каково?.. Мне смерть… хуже смерти. Я лучше помру, чем так жить… Мне смерть, право, краше кажет, чем Аникита Ильич со своей лаской… Будь ты на моем месте, Денис Иваныч, ты бы убил его… Вот как… да.
— На твоем месте?! — воскликнул Змглод. — Я, и на своем месте будучи, чую, что сейчас бы ухлопал его, как ни на есть! Собственными руками задавил бы…
И, судорожно сжав кулаки, Змглод высоко взмахнул руками.
Расставшись с Аллой, он отправился прямо к себе и снова прилег на постель… Снова какая-то внезапная и удивительная для него слабость сказалась во всем теле. Ничего подобного за всю жизнь не бывало с ним. Пролежав до вечера, обер-рунт уже не бредил, не злобствовал бесцельно, как было в первые дни… Он обдумывал, как будет объясняться с барином, что ему скажет, какие доводы приведет… Он старался угадать, как отнесется Аникита Ильич к его просьбе. Что ему Алла? Забава… Он, может быть, даже будет рад пристроить краткосрочную любовницу и живо найдет другую… Мало ли таковых перебывало у старого изувера!
На следующий день обер-рунт явился поутру с обычным докладом к барину по винтушке, вскоре после Масеича. Он как бы вновь вступил в отправление своей обязанности.
Заявив барину, что он выздоровел, Змглод добавил, что у него дело, важная просьба… Аникита Ильич, уже отпиливший три кружочка от бревна, еще не пил свое калмычкино зелье…
— Ну, доложишь свое дело сегодня после канцелярии, — сказал он и вспомнил вдруг о Гончем.
— Что же? Никто мне Каина не найдет? — сурово спросил он. — И ты тоже не возьмешься? Не такие дела ты мне вершил… Почище этого поросенка побывали у тебя в руках — умные, лихие, озорные…
— Этот Гончий, право слово, Аникита Ильич, не хуже многих прочих, — ответил обер-рунт. — Я его полагаю даже много озорнее, отважнее и смышленее, чем иной муромский Соловей-Разбойник… Его нам вряд словить. Лишь бы сам ушел и вас не беспокоил. А в руки он не дастся. Не таковский…
— Не смей ты мне этакое говорить! — вспылил Аникита Ильич. — Я хочу, чтобы негодяй был мне доставлен; не живого, так хоть мертвого мне подай! Ну, ступай… А со своей пустяковиной приходи после докладов и приема… Небось, будешь денег просить… Набаловал я вас всех, и стали вы мне служить — хуже нельзя…
Часов через пять, среди дня, Змглод дожидался в приемной не в качестве начальника полиции, а в качестве просителя…
Объяснение «Турки» и барина было короткое, но оба равно были поражены, как громом: Басанов — невероятной затеей Змглода, а Змглод — ответом и обещанием Басанова.
Когда безродный проходимец, наемный рунт, быть может, настоящий турок, бывший магометанин, заявил, что он просит дозволения жениться на Алле Васильевне Ильевой, потому что любит ее, — «Владимирский Мономах», казалось, окаменел на месте, лишившись способности мыслить и двигаться…
Он, основатель и владелец Высоксы, и этот чумазый проходимец — соперники… полюбили одну и ту же?!
Но он, старик, видит и чует, что молоденькая девушка относится к нему неприязненно, гадливо, со страхом и ненавистью, а этот Турка заявляет, что она его давно любит… И это правда! Правда потому, что сам он, Басанов, раза два заметил что-то особенное в их отношениях… Оно в глаза бросилось ему, ничего еще тогда не подозревавшему.
Не сразу пришел в себя Аникита Ильич… Ревность чересчур всколыхнула в нем его старческую пылкость… Кровь в его старом теле еще была молода, горяча, еще бушевала порой шибче, чем в ином двадцатилетием молодце. Змглод ждал, опустив глаза, но из почтения, а не от смущения. Он был напротив настолько же спокоен, насколько старый барин вспыхнул и взволновался.
«Я вольный, — думал Змглод. — . И она — не холопка твоя, а даже дворянка. Наше дело в наших руках, лишь бы отвага была. А хватишь через край — закон есть, наместники есть… Закупишь — царица есть милостивая… До нее доберусь… Царицу сребренники обойдут и против меня поставят — Бессарабия есть, Дунай-река: за ним ни меня, ни Аллы не достанешь».
— Ты ведаешь аль нет… — раздался над ним шепот барина, всегда шептавшего от избытка гнева.
Змглод поднял глаза и увидел А Никиту Ильича с зажмуренными глазами, белесоватым лицом и дрожащими губами.
— Ты ведаешь, что она теперь моя зазноба? Ну, забава, что ли…
— Никак нет-с, — солгал Змглод, заранее решив, что так нужно.
— Так знай… турецкая побегушка… султанский бегун в наши православные края… Да, Алла мне, Аниките Басман-Басанову, высокскому барину… приглянулась… И пока она мне не прискучила своим воем и будет состоять в моих прелестницах, до того часу я всякого, кто на нее глаза закинет, в прах обращу… А наскучит когда она мне и захочу я когда тебе ее пожаловать, мое будет дело. А пока она моя… не смей даже мыслить об ней, не смей отныне подходить к ней, не токмо беседовать… А если вы вместе выкинете какое колено, то помни, у меня руки долги. Тебя, туркину побегушку, я, невзирая на твоего царя Салтана, просто запорю до смерти вот тут пред коллегией на улице. А не то без хлопот прикажу на воротах полицейского дома повесить… а ее в келью!
— Виноват, — глухо отозвался Змглод и мысленно прибавил себе: «стало, обождя малость — бежать!»
— Ну, вот… Так и знай… У меня двух слов нет… А для пущей верности… пущего уговора… На вот… гляди… Видишь — икона Спасителева.
И Аникита Ильич, двинувшись, показал в угол комнаты, где висел образ.
— Ну, так вот пред сею честною иконою Господа Спаса нашего, я, раб Божий Аникита, болярин Басман-Басанов, даю мою верную непреложную клятву: в случае какого дерзостного подвоха или ухищрения твоего и Аллинова, я даю божбу с крестным знамением: тебя повесить, а ее в монастырь упрятать… предварительно наказав плетьми обоих на улице… Ну… пошел вон… Ты малый смышленый… заруби это себе на носу.
Змглод вышел от барина, прошел приемную, коридор, где толпились канцеляристы и писцы, медленно спустился по лестнице, вошел в дежурную переднюю, где вся дюжина поднялась на ноги при его появлении, затем он прошел все комнаты дома и через террасу вышел в сад… Но он ничего по пути не видел и не заметил.
«Что же теперь? — мысленно повторял он. — Думай! Думай, брат! Все обсуди, чтобы его в дураки вырядить, а не себя…»
Войдя в липовую аллею, он, вдруг опустился на скамью от нового припадка слабости и вскрикнул хрипливо:
— Убил бы… Да и убью, если…
Змглод знал Басанова давно и хорошо… Поэтому он знал, что если его побег и увоз Аллы не удастся, то Аникита Ильич сдержит свою клятву пред иконой… И он и она будут нещадно и срамно наказаны плетьми на улице, на потеху всей Высоксы…
И, просидев задумчиво около часу, он вымолвил:
— Ну, что же? Из-за Аллы давай биться насмерть… кто кого одолеет. Лучше я помру истерзанный, а все же ее тебе не оставлю.
В те же мгновения Аникита Ильич, стоя у окна еще взволнованный и разгневанный, сказал сам себе:
«А все бы лучше загодя его упрятать… или в Павлиний павильон, или на дно озера. Этак вернее бы…»
XVIII
Немало было, казалось, раскатов грома и молний над Высоксой, где долгие годы всем жилось безмятежно и беззаботно… а между тем настоящая страшная гроза, долженствовавшая все разгромить, еще только начиналась.
Все население дома, усадьбы и заводов жило одним помышлением и одним ожиданием, чем кончатся поиски. Имя Аньки Гончего было у всех на языке, но сам он, виденный два раза в самой Высоксе, в руки не давался, как клад.
«С нечистым спознался! Враг человеческий ему в помощь и заступление!» — решили многие умные головы.
А между тем не раз видели в Высоксе Аньку верные люди… Видела его сама молоденькая барышня из своего окна на заре. Она среди бессонницы встала подышать утренним воздухом и, отворив свое окно, увидела под балконом Сусанны Юрьевны какого-то человека. Она подумала, что это рунт, но, узнав Гончего, ахнула и захлопнула окно… Когда она разбудила Матвеевну, а та подняла на ноги дежурную дюжину, то, разумеется, молодца и след простыл.
Другой, видевший Аньку, был певчий Тарас Файка… Но молодой малый видел скрывающегося молодца совсем иначе.
Гончий среди ночи явился в домик, где Тарас жил вместе с двумя другими певчими… Он разбудил спящего, приказал молчать и идти за собою тихонько, чтобы не разбудить других… Выведя его на улицу, он достал нож и, держа Файку за ворот, стал допрашивать, грозя за утайку и лганье убить.
Файка отвечал на все и божился по его требованию: Богом и Матерью Божией клялся… И Гончий его отпустил без вреда.
Но о чем допрашивал один и в чем клялся другой, осталось никому не известным. Одному барину Аниките Ильичу, с глазу на глаз, поведал все красавец-певчий, сам изумляясь тому, что рассказывал, и опять божась перед барином, что он ни при чем, а Анька, должно быть, свихнулся.
И Аникита Ильич, допросив Тараса, приказал ему строжайше никому не говорить все то, в чем его Анька пытал.
Отпустив певчего, старик задал однако себе загадку, спрашивал себя:
«Но почему же шалый и распродерзкий малый приревновал Санну к красавцу-певчему?.. И с ножом пытал его узнать правду? Стало быть, он, ревнивец, заприметил что? А ревнивцы куда зрячи!» Пример — он сам.
Басанов, которому Сусанна рассказала подробно свою историю с Гончим, то есть «всю полуправду», не мог ни минуты допустить мысли, что красавица-племянница, дворянка, воспитанная женщина, могла увлечься хотя и красивым, умным малым, но все-таки простым холопом, все-таки простым человеком, существом низшим… Однако история Гончего с Файкой смущала его… Ему самому однажды, когда певчий пел итальянские песни у племянницы в комнатах, тоже что-то чудилось. Тогда он думал, что это от голоса и песен у племянницы так чудно глаза разгорелись на красавца-певчего… Теперь он не знал, как решить и как объяснить то, что заметил…
Но ведь и Тарас, хотя и писаный красавец, но тоже холоп, хам, мужик.
И вдруг простое, естественное, но вместе с тем неожиданное и удивительное соображение пришло в голову Аниките Ильичу и поразило его…
«А ты сам, гордый болярин, дворянин, благовоспитанный?.. Ты гнушаешься красавицами-холопками и молодухами мужицкого состояния?.. Для тебя, красавец-холоп — одно, а красавица-холопка — другое…».
И старик, будто вдруг сам себя нечаянно словив и устыдив, только развел руками.
— Вот тебе, Аникита Ильич, и загвоздка! — прошептал он несколько насмешливо.
Однако судьба, давно и постоянно благоприятствовавшая Сусанне во всем, вдруг повернулась против нее.
Человек, повлиявший на новый оборот обстоятельств, был некто, едва заметный теперь среди обитателей дома. Это был молодой князь Давыд Никаев, прежний претендент на руку дочери важного барина, которому он приходился свойственником.
Молодой человек, тихий на вид, скрытный, но смелый, не мог примириться с мыслью, что все его мечты разрушены с появлением петербургского офицера. Помимо самолюбивого желания стать в будущем богачом и владельцем Высоксы, Давыд действительно любил Дарьюшку, с которой вместе вырос. Чувство его смешанное — и любовь, и дружба — было однако глубоко и искренно. Сама молоденькая девушка-подросток обожала Давыда и даже вследствие намеков отца и всех обитателей дома привыкла видеть в Никаеве будущего мужа.
Давыд, молчаливо страдавший от признавания всеми Дмитрия женихом Дарьюшки и уже собиравшийся уезжать с Высоксы, чтобы поступить в военную службу, вдруг сразу ожил и глядел не только бодрее, но казался совершенно счастлив.
Нечто, внезапно приключившееся с князем, преобразило его, подав надежду, что все снова в его судьбе изменится на прежний лад.
Случилось это просто.
Однажды, после полуночи, бродя с тоски в саду и приблизясь к дому, он подстерег нечто такое важное и невероятное, что он боялся поверить собственным ушам и глазам. Он видел Дмитрия Басанова, который прошел от себя, поднялся по отпускной лесенке на балкон Сусанны Юрьевны и исчез в ее комнатах.
И только часа через два карауливший Давыд увидел снова офицера слезающим по лесенке с балкона барышни и возвращающимся к себе…
На следующую ночь князь был заранее, как на часах, среди чащи сирени и дождался… И он увидел то же самое. На этот раз он дерзко отважился влезть по столбу на балкон… Все, что он видел через плохо задернутые занавески окон, и все, что он слышал через приотворенную дверь балкона, убедило его, что Басанов не будет мужем Дарьюшки…
Доложить Аниките Ильичу — и тогда он, Давыд, снова станет нареченным Дарьюшки.
«Но как доказать?» — смущенно, но все-таки радостно повторял Давыд, собираясь отважно с докладом.
И, будто не переставая сомневаться в верности своего поразительного открытия, он в течение трех ночей продолжал подглядывать.
Дмитрий Андреевич не появился ни разу, и зато на третью ночь с князем случилось нечто совсем нежданное. Притаившись среди чащи сиреневых кустов против правой террасы, он просидел более часу… И вдруг он ясно расслышал, что кто-то осторожно крадется в тех же кустах за его спиной… Шелест ветвей слышался все ближе… Давыд сильно оробел, предположив, что это какой-нибудь ночной зверь или сам нечистый…
Кравшийся ползком наткнулся прямо на него и схватил его за горло…
— Что ты за человек? — прохрипел он злобным шепотом.
Давыд совершенно растерялся, но сразу ответил:
— Давыд Никаев…
— Князь Давыд?
— Да. Да…
И молодой человек, несмотря на темноту, разглядел и узнал ночного пришельца.
Это был Гончий.
— Что же ты тут делаешь? Меня стережешь?! — снова злобно прошептал Анька.
— Бог с тобой! У меня… свое дело… Своя беда у меня.
— Говори всю правду истинную. Зачем ты здесь среди ночи, если не меня ловить засел?
Князь отчасти из боязни и нечаянности встречи, отчасти по причине, ему самому непонятной, сразу рассказал все откровенно.
— Стережешь Дмитрия Андреевича? — рассмеялся Анька странным смехом. — Ну, что же? Доброе дело. Только не пойму, какая тебе охота. Я вот иное дело… Небось, и ты вот, хоть и князь, а желал бы если не отпускную на волю, то деньги заработать на мне…
— Избави Бог, — ответил Давыд. — Бог с тобой. Больше скажу. Ты вот уже швырялся на Дмитрия Андреевича да не совладал. Случись я тут в те поры — я его тебе придержал бы охотно.
Наступило молчанье. Гончий соображал все услышанное, вспоминал и то, что прежде доходило до него насчет молодого князя… Толки, что он может стать будущим владельцем заводов, прекратились только с приездом Басанова.
Но Гончий, занятый, даже поглощенный своей страстью, никогда ни разу не обратил внимания на все эти соображения и ожидания. Теперь он сразу иными глазами глянул на все…
— Слушай-ка, князь Давыд Анатольевич… Хочешь по душе поговорить со мной, пропащим человеком? — выговорил он вдруг решительно.
— Вестимо, да… Ты для меня не то, что для иных прочих. Ты хотел Дмитрия Андреевича ножом хватить. И на горе… Да. Прямо скажу тебе… на мое горе обмахнулся ты… Будь я отважнее, я бы на то же пошел, хоть сейчас…
— Ладно. Так идем… подале отсюда… Перетолкуем обо всем. Одна голова — иногда только беда, а две головы — или две беды или счастье… Может, мы с тобой вместе такое дело повершим, что оба счастливы станем. Идем.
И оба, осторожно прокравшись кустами, вышли в аллею, а затем ринулись в самый дальний и глухой край сада…
Здесь, на той же скамье, где недавно объяснялись и плакали вместе Змглод и Алла, они уселись и стали говорить… Гончий рассказал всю правду про себя и Сусанну… Князь рассказал всю правду про себя и Дарьюшку.
Враг у обоих был один…
Только перед рассветом расстались они, порешив: смелым Бог владеет! Либо пропадать обоим, либо все в Высоксе перевернуть на свой лад.
— Помни же, князь, — сказал Анька с чувством в голосе. — Не робеть… Я пропаду — мне все одно… рано ли, поздно ли… да мне и жисть в тягость, а ты оробеешь — все счастье твое ухнет.
XIX
На другой день, во время приема у Аникиты Ильича, когда коридор был полон народу, а в приемной сидело человек десять, вдруг произошел страшный переполох… Все ахнули, кто оробел, а кто и не испугавшись растерялся от изумления.
В приемной явился Анька Гончий.
Он глядел на всех спокойно и даже как будто гордо…
Бледное лицо его и сверкавшие глаза поразили всех каким-то особенным выражением решимости, удали, отваги…
Только изумленный пуще всех начальник канцелярии Пастухов решился спросить его…
— Что ты? Сам?
— Да. Сам. Голову принес… Либо инако все будет! Как Богу угодно. Доложи барину. Пусть… допустит. Не допустит до себя, я здесь же в приемной горло себе перережу, а на мучительство не дамся. Доложи: я не прощения просить пришел, а глаза ему открыть… А за мной еще четверо…
Пастухов доложил дословно. Аникита Ильич вытаращил глаза.
— Здесь? — выговорил он. — Пришел?
— Да-с.
— Сам, сказываешь? Не поймали, да привели?..
Пастухов повторил слова Гончего.
Старик подумал мгновение и затем, поднявшись с кресла порывом, вымолвил едва слышно:
— Впусти.
Пастухов вышел и думал:
«Ну, как бы из своих рук его не убил чем попало…».
Но, впустя Гончего в кабинет, Пастухов вошел за ним, думая совсем иное:
«А если Анька отчаянный и пропащий хватит барина ножом?..»
Между тем барин мерил молодца с головы до пят и заметил его странное лицо, дикий взгляд и решимость отчаяния во всей фигуре.
— Теперь меня резать пришел? — выговорил он почти шепотом и пытливо глядя Аньке в лицо.
Молодой малый опустил сверкающие глаза и отозвался глухо, но с искренним чувством:
— Избави Бог и помилуй!.. Я, кроме добра, ничего от тебя никогда не видал, Аникита Ильич… Да если б ты меня и наказал когда, на то твоя барская воля… Вот, видишь, с собой взял… Но не на тебя, а на себя…
И Анька достал большой нож из-за пазухи… Пастухов, перепуганный, шагнул к канцеляристу, собираясь его схватить за руку…
— Ты чего тут? — вскрикнул на него Аникита Ильич. — Пошел вон!
Пастухов окаменел на месте, разинув рот.
— Вон, тебе говорят…
Начальник канцелярии поспешно, вышел из кабинета и, затворяя за собой дверь, думал:
«И впрямь я ошалел! Нешто это возможно?..»
В приемной, конечно, шел толк о появлении бегуна и злодея, а в коридоре был даже шум… Все говорили зараз, дивясь и ахая, соображая и гадая…
В кабинете барина стало тихо… Только раз все расслышали Громкое и гневное слово Аникиты Ильича, повторенное два раза вопросом:
— Четверо? Четверо?
Прошло около получасу с тех пор, что Гончий вошел в кабинет, когда барин вдруг появился на пороге и приказал:
— Позвать Абрама!
Абрам, отец Аньки, за которым собирались бежать на домну, нежданно оказался внизу на крыльце и через несколько минут был уже в кабинете около сына.
Через несколько мгновений Аникита Ильич снова появился в дверях, и снова приказал к себе позвать князя Давыда и Угрюмову.
Молодой князь оказался не у себя, а в канцелярии, куда почти никогда не заходил. Очевидно, он ждал, что барин пожелает его тоже видеть и потребует.
Когда Давыд вошел к Аниките Ильичу, Анна Фавстовна бледно-зеленая поднималась по лестнице в сопровождении Пастухова.
Угрюмова и Сусанна уже знали, конечно, что Гончий явился сам к Аниките Ильичу. Постоянно боявшаяся этого за последнее время Сусанна была поражена как громом и сидела молча и опустив голову на руки. Угрюмова стояла перед ней и успокаивала ее глупыми словами.
Появление Пастухова, потребовавшего ее наверх, было новым, но еще сильнейшим ударом для обеих… Дело принимало тот оборот, о котором Сусанна боялась и думать.
— Что ж? Идите… — вымолвила она глухо. — Вы знаете, что отвечать…
И Угрюмова пошла… Она знала действительно, что должна отвечать. «Ничего знать не знаю и ведать не ведаю!» Но когда женщина вошла в комнату барина, где бывала случайно не более раза в год, она от страха совершенно лишились сознания и едва держалась на ногах… Как сквозь туман, разглядела она Аникиту Ильича, поодаль от него у стены молодого князя Никаева, а за ним седого Абрама и его сына.
— Ну, подлая тварь, отвечай мне… Был ли Онисим полюбовником барышни Сусанны Юрьевны? — выговорил Аникита Ильич отчетливо, но голос его был другой, будто с хрипом и будто рвался. — Отвечай правду и скорее… Солжешь, то к вечеру из-под плетей в гроб положат. Ну…
Угрюмова не могла вымолвить ни слова. Язык не повиновался ей.
— Что же? Под плети желаешь, старая собака? — произнес Аникита Ильич тише. — Ну?..
Угрюмова что-то пробормотала… Можно было разобрать только: «вед… не вед…»
— Прикажи двух рунтов с плетьми позвать сюда по винтушке! — расслышала она и повалилась в ноги барину.
— Последний раз спрашиваю тебя, пса… был ли Гончий не твоим, а барышниным полюбовником?
В комнате наступила тишина. Слышалось только тяжелое дыхание и сопение барина. Затем старик подошел ближе к ней и вымолвил совсем дрожащим голосом:
— А Дмитрий Андреевич?.. Теперь…
Угрюмова, всхлипывая и закрывая лицо руками, замотала головой…
— Онисим… Давыд… Берите ее… Швыряй в окно… Этак проще… — вскрикнул старик.
Князь и Гончий, оба изумленные, двинулись к женщине несколько нерешительно… Но Анна Фавстовна закричала, завыла и шарахнулась от них.
— Батюшка Аникита Ильич! Я не виновата…
— Говори… Отвечай… Нареченный якобы Дарьюшкин теперь в ее полюбовниках состоит? Правда ль это?
— Правда… правда… — вдруг отчаянно завопила Угрюмова, как бы обезумев.
И снова наступила мертвая тишина, но на этот раз длилась дольше. Наконец Аникита Ильич, будто придя в себя, вызвал Пастухова и распорядился. Он казался совершенно спокоен. Все вызванные им вышли из кабинета и все глядели бодро, кроме Угрюмовой, которая едва шагала.
Однако один Давыд отправился к себе. Седой Абрам с сыном под конвоем двух рунтов отправились в полицейский дом, где были помещены в светлой горнице, но под стражей. Анна Фавстовна перешла только коридор и очутилась в канцелярии и затем в маленькой горнице, где был склад бумаг и дел, вроде архива. Когда она была введена, то за ней затворили дверь, и звякнул замок. Она опустилась на стул и почти лишилась сознания, ожидая, что именно здесь ее сейчас же начнут наказывать плетьми…
Одновременно верховой рунт поскакал на Проволочный завод требовать к барину священника, отца Григория.
Это был четвертый свидетель, на которого сослался Гончий. Когда-то священник, большой друг Абрама, после свидания с барышней, смутился и кой-что поведал ему, прося его совета. Теперь и Анька и сам Абрам сослались на отца Григория, который тоже может открыть глаза барину по иному важному обстоятельству.
XX
Между тем, пока Давыд, радостный, сияющий сидел у Дарьюшки и, ничего не объясняя, уверял ее, что Господь смилостивился над ним и над нею; пока Абрам и Гончий ждали, чем разрешится их участь, но однако не ждали беды; пока Анна Фавстовна сидела запертая и от страха полуживая… сам барин Аникита Ильич долго, тихо шагал по своим комнатам, а затем опустился в любимое большое кресло в спальне около киота с образами.
Он чувствовал себя нехорошо… В голове было как-то все спутано, мысли о совершенно разных обстоятельствах и предметах переплелись и перепутались, сбившись как бы в какой клубок. Он то бормотал, то шептал, то ясно и громко произносил слова вслух… И все о разном, не имеющем ничего общего между собой…
Ему казалось чудное! Он будто плавает или летает по воздуху… Через час у него был уже Вениус, вызванный им впервые как врач.
— Ну, вот и до меня черед дошел, — встретил его старик, иронически усмехаясь. — Полагал, что никогда ты для меня самого не понадобишься… а вот, потрафилось… Ну, пользуй… нехорошо мне…
На вопросы доктора он однако ответил, что у него ничего не болит, кроме души, которую «близкие люди наизнанку вывернули!»
Вениус и сам видел, что старик только сильно потрясен нравственно и что у него, пожалуй, та же хворость, что недавно была у Змглода. Но это потрясение у старика повлекло за собой такой упадок сил, который был в его годы, конечно, опаснее, чем для кого другого. Вениус тотчас добыл кой-что из своего запаса медикаментов, сам состряпал, и после первого же приема старику стало гораздо лучше. Он глядел бодрее, и в голове прояснилось…
— Ну, молодец ты, хоть и немец, — сказал Аникита Ильич и прибавил: — а теперь справь мне другое дело, не знахарское, а семейное… Одолжишь…
И он дал Вениусу поручение.
Сусанна, узнав, что Угрюмова осталась запертая наверху, после страшного волнения решилась не поддаваться, а действовать и бороться до последней крайности.
Она послала просить позволения явиться к дядюшке. Аникита Ильич ответил, что ему не время, и они свидятся за обедом.
Теперь он попросил Вениуса пойти к племяннице и передать ей… первое, что ему слегка «не можется» и обедать он будет один у себя. Второе, объяснить ей, что Абрам и Гончий будут наутро высланы в город для сдачи в земской суд ради поселения в Сибирь… В-третьих, успокоить ее насчет Угрюмовой и не гневаться за то, что он ее за сплетничество решил наказать самым пустым образом: продержать неделю запертою на хлеб и на воду.
И все это Вениус передал Сусанне от имени ее дяди, но на все ее расспросы, к несчастью, не мог ничего ответить, сам ничего не зная… Он знал только, что Аникита Ильич был сильно взволнован, потрясен, но упадок духа и слабость тела уже прошли… и он, опять молодцем…
Сусанна не знала, что подумать… Неужели у старой «Киты» так сильна уверенность в ней, что он даже дерзкому доносу Гончего не поверил? Но зачем он вызвал Абрама и молодого князя… в особенности этого «хитрого Давыдку»? За что собственно наказывает он вдруг «почетным чуланом» ее Анну Фавстовну?..
Сусанна совершенно терялась в догадках.
«Хитрит старый? Зачем?.. Нет! Он не таков. Если б что случилось, то буря и гроза разразилась бы сразу. Очевидно, он не поверил Аньке!.. Но Давыд зачем? Наконец, в чем же виновата оказалась Угрюмова?..»
И в голове Санны шел тот же круговорот, что был и в голове старика Басанова. Все ее мысли, догадки и предположения тоже будто сбились и сплелись в клубок…
Между тем Вениус, исполнив свое поручение, вернулся к барину… Когда он поднимался по большой лестнице, то встретил «проволочного батьку». Отец Григорий не шел, а катился вниз по ступеням, бледный, с безумно открытыми глазами и, как показалось доктору, с мокрым от слез лицом.
Но войдя в кабинет, Вениус вскрикнул и всполошил весь верх и весь дом, подняв на ноги всех пишущих канцеляристов и всю дежурную дюжину.
Он нашел Аникиту Ильича мертво-бледным в кресле, но в полулежачем положении… с повиснувшей на плечо головой.
На его крикливые вопросы от перепуга старик хотел отвечать и не мог, так как язык не повиновался ему.
— Кровь пустить! — воскликнул Вениус. — Надо! Дозвольте!.. Это мой долг врача!..
Но пока канцелярист сбегал к доктору на дом за ящичком с инструментами, пока дежурный сбегал за фельдшером и все было готово, Аникита Ильич уже заговорил и произнес:
— Пустое… Прошло…
— Дозвольте… все лучше, — говорил Вениус.
— За всю жизнь свою этакое баловство я над собой не дозволял, — уже несколько сурово вымолвил Басанов, совершенно оправившийся.
Немец-доктор невольно рот разинул.
«Ну, натура! — подумал он по-своему. — Железный человек. Моложе молодого».
Через полчаса еще Аникита Ильич чувствовал себя совсем хорошо и всех от себя прогнал.
Припадок, приключившийся с ним, был последствием беседы со священником. То, что по его строгому приказу поведал ему отец Григорий, поминая имя его покойного сына, всякого иного человека свалило бы с ног, а иного и убило бы!.. Но шестидесятилетний старик, на душе и сердце которого была броня себялюбия, был, видно, неуязвим.
Аникита Ильич не сошел к столу вниз и отобедал один, а затем, вызвал к себе наверх по парадной лестнице Василия Васильевича и нахлебника Константинова, для партии в бостон. Карты доказывали, что барину совсем хорошо.
XXI
Сусанна после разговора с немцем-доктором, принесшим ей от имени дяди успокоительные вести, все-таки волновалась. Анька с отцом были арестованы при полиции, что доказывало, как именно отнесся Басанов к доносу отчаянного молодца. Но одновременно наказание Угрюмовой было ей непонятно и поэтому сильно смущало.
Разумеется, еще до обеда Сусанна переговорила с Дмитрием и удивила его своей тревогой. Он, знавший с ее слов «полуправду» о Гончем, не понимал, почему она так поражена его появлением к Аниките Ильичу… Что ж мог молодец старику сказать? Он мог только покаяться в своем безумстве и просить пощады…
Однако Сусанна убедила и упросила молодого человека повидать Давыда Никаева и постараться что-нибудь выведать у него, так как он должен был все знать.
Дмитрий после обеда завел разговор с молодым князем и позвал его к себе. Добродушный человек решил хитрить и, как все нехитрые люди, воображал, что он искусно проведет за нос юного Давыда. Князь же, наоборот, малый хитрый, притворился тем, чем никогда не бывал, то есть наивным и добродушным.
Едва только Дмитрий начал наводить беседу на утреннее происшествие, с целью узнать, что именно делалось и говорилось в кабинете дяди, как князь Давыд сам прямо и просто передал ему все подробно.
По его словам, Анька Гончий дерзновенно заявил, что барышня Сусанна Юрьевна якобы была его полюбовницей, а потом вдруг бросила. Из-за этого он и пошел на злодеяние… Так как он ссылался на своего отца, на Анну Фавстовну и даже на него, князя, якобы видавшего его по ночам в комнатах барышни, то барин вызвал и их всех на очную ставку… Он, Давыд, конечно, показал отрицательно и обозвал Аньку вралем. Анна Фавстовна объяснила барину, что она знать ничего не знает, но считает свою барышню все-таки способной приласкать простого канцеляриста… Это барина рассердило… «Не тебе бы, собаке, так о своей барышне-благодетельнице рассуждать!» — крикнул он на Угрюмову. За это он ее приказал на неделю запереть и на хлебе и на воде держать. Гончих, обоих, приказал везти в город для сдачи: Аньку в солдаты, а Абрама в Сибирь на поселение…
Все это князь Давыд передал Дмитрию так живо, подробно и естественно, что тот поверил всему рассказу безусловно. Через час Сусанна тоже знала через него все и несколько успокоилась.
Затем, при известии, что дядя, откушав у себя вызвал партнеров и сел за карты, Сусанна еще более приободрилась. Аникита Ильич карт не любил и играл крайне редко, но почти всегда, когда бывал вследствие чего-либо случившегося особенно в добром расположении духа.
В сумерки к барышне явился Масеич и принес ей два ящика из бересты с вяземскими пряниками. Барин только что получил целый пуд в подарок от московского купца-заводчика и приказал тотчас снести гостинец к барышне.
— Ну, что дядюшка? Как себя чувствует? — спросила Сусанна.
— Слава Богу-с… Это все ваш немец напутал да всех напугал, — ответил Масеич. — Разгневался он шибко, как я полагал… ну, и приключилась одышка на минуту… а немец заметался сдуру.
— Разгневался на Гончего?
— Да-с, на обоих… да и на вашу Анну Фавстовну.
— Да за что, Масеич… на Фавстовну?..
— Я, барышня, не присутствовал и ничего не знаю, — уклонился Масеич. — Так я от Пастухова слышал… Наврали они все… ну, барин и осерчал… А о чем была речь, ничего не знаю…
Разумеется, Сусанна поняла, что камердинер не хочет говорить. Однако присылка гостинца из ящика, который только что прибыл и был откупорен, окончательно повлияла на Сусанну. Очевидно, что дядя хочет доказать ей, как он отнесся к нахалу и его доносу… Вероятно, наутро объяснится все… Объяснится равно, почему старик не пожелал видеться с ней тотчас же…
Однако мгновениями волнение вновь овладевало ею, сомнение вновь возникало…
Она нетерпеливо ждала полуночи, чтобы отвести душу в разговоре и обсуждении нежданно случившегося… Дмитрий, по уговору, должен был придти к ней через лесенку и балкон.
Наконец пришел вечер… наступила полночь… Около часу ночи около дверей винтушки появился Давыд… Рунт стоял у самых дверей.
— Астрахань, — сказал князь.
Рунт, узнавший его по голосу, поклонился и сам растворил ему дверь.
Давыд в первый раз в жизни очутившийся в полной тьме винтовой лестницы, стал подниматься ощупью и наугад, что было и нетрудно…
Упершись наконец в дверь, он отворил ее и очутился в маленькой комнате, освещенной ночником.
— Давыд, ты? — раздался голос барина за следующей дверью.
— Я-с, — отозвался он.
— Входи…
Князь вошел и очутился в спальне барина, где тоже никогда не бывал. Перед ним налево был киот с образами, освещенными висячей лампой, а прямо у стены большая кровать и на ней Аникита Ильич… Но старик был не под одеялом и лежал на постели вполне одетым, как днем.
— Ну, что, Давыд!.. Я правду сказывал, а ты врал, — произнес Аникита Ильич, будто шутя, но голос его выдавал волнение. — Вот тебе и не завтра, а нынче же…
— Виноват-с… Вы правду сказывали…
— Ну, что ж? Чем скорее, тем лучше! — вымолвил старик, вставая с постели.
Через несколько минут уже две мужские фигуры спустились по винтушке, вышли на улицу и, обойдя угол дома, вошли в сад через калитку. Затем, еще через минут пять, они очутились под балконом Сусанны… Один остался внизу, а другой тихо и осторожно поднялся…
Медленно, шаг за шагом, подошел Аникита Ильич к окнам, прислушался и стал глядеть внутрь… он тяжело дышал…
— Тварь! Тварь поганая… — прошептал он наконец. И вдруг, двинувшись к балконной двери, он сразу отворил ее, вошел в гостиную и быстро прошел в спальню племянницы.
Страшный крик раздался на весь дом среди тишины ночи и замер… И наступила снова полная мертвая тишина…
Дюжинный и вся дежурная дюжина долго прислушивались и решили, что им почудилось то, что сейчас долетело до слуха…
«Совсем будто вот крикнул кто-то? Должно, филин в саду!»
Сусанна и Дмитрий, помертвелые от ужаса, увидя перед собой стоящего «дядюшку», будто потеряли сознание действительности.
Говорить, объяснять, оправдываться было нечего… и даже на ум не шло…
Дмитрий не имел вида гостя, хотя бы и ночью… Дядюшка нашел не собеседников, не друзей, а полюбовников!.. Улики были налицо.
XXII
Следующий день и еще два дня прошли в Высоксе мирно, без всяких приключений и новостей.
Только и было одно необычное. Старый барин продолжал обедать один у себя наверху… Кроме того, барышня Сусанна Юрьевна чувствовала себя снова хуже, и ее чаще навещал доктор… Вдобавок и молодой барин Дмитрий Андреевич глядел будто хворым… Все заметили, что он бледен и что будто его «лихоманка ломает».
Анна Фавстовна, прощенная через сутки, была выпущена, но не ухаживала за своей барышней, а лежала в постели, будто сраженная чем.
Зато был человек, который ликовал и ходил с таким лицом, что всех дивил и озадачивал. Это был молодой князь Никаев.
Однако, если в доме было наружное спокойствие, то в действительности случился страшный переворот, про который знали только Басановы, старый и молодой, и Сусанна Юрьевна.
Аникита Ильич приказал им обоим молчать, чтобы все обошлось тихо, мирно, исподволь, во избежание соблазна на всю Высоксу, или, вернее, на все наместничество…
Решение же его было простое.
Через неделю времени Дмитрию Андреевичу уезжать и никогда более ноги не ставить к нему… Через недели две Сусанне уезжать ради своей болезни, чтобы посоветоваться якобы с московскими докторами, но… затем в Высоксу не возвращаться…
Дарьюшке Аникита Ильич приказал:
— Готовься… Я тебя замуж выдаю… Но не дивись, если в один день с твоим венчаньем будет и другое венчанье… Всяк за себя, а Бог за всех. А пока молчка! Никому ни слова.
Дарьюшка, конечно, приуныла и начала плакать. Давыд убеждал любимую девушку, что она должна радоваться, а не печалиться, но объяснить ей правду побоялся… Простоватая Дарьюшка могла внезапной безумной радостью все дело испортить…
На четвертый день, в сумерки, в полицейский дом прибежала красавица Алла, спрашивая Змглода… Когда она вбежала в его комнату, то с рыданьями повисла у него на шее… Весть, ею принесенная, совсем сразила энергичного Змглода…
Старый барин объяснил поутру Ильеву, что делает ему великую честь… желает повенчаться законным браком с его дочерью.
— Ну, стало быть, бежать!.. — решил Змглод, — и завтра же…
Но на следующее утро, явившись в дом, «Турка» узнал от Ильева, гордого, счастливого и сияющего, что Аникита Ильич приказал ему Аллу не выпускать три дня ни на шаг из ее комнаты и держать все втайне.
Вместе с тем Змглод узнал, что отцу Гавриилу и старосте церковному было приказано готовить все в храме к великому торжеству бракосочетания… И, конечно, вся Высокса догадалась, кто будет венчаться: понятно, что молодой барин Дмитрий Андреевич и молодая барышня Дарья Аникитична.
Дивились только все тому, что барин содержит это втайне… Дивились и тому, что Дмитрий Андреевич ходит темнее ночи и совсем на жениха не похож…
XXIII
Около полуночи в спальне Сусанны появился вдруг необычный в такую пору гость…
Она сидела в углу комнаты, бледная, страшно изменившаяся и похудевшая за последние роковые дни… Она казалась раздавленной той бедой, которая свалилась ей на голову… Дмитрий, конечно, предложил тотчас же венчаться, но она отвечала отказом и клятвой, что никогда этого не будет. Ее желание, и неизменное, было оставаться всю жизнь в девицах и быть свободной от брачных уз.
Несмотря на свое нравственное состояние, какое-то онемение, бесчувственность и притупление разума, Сусанна ахнула, увидя перед собой нежданного ночного пришельца.
Это был Змглод.
Обер-рунт был просто страшен лицом… Можно было даже принять его за привидение…
— Что ты? Что тебе? — глухо, почти разбитым голосом спросила Сусанна.
— Я к вам, барышня, — тоже странным, хриплым сдавленным голосом ответил Змглод. — Давайте, барышня, нашу судьбу решать…
— Не пойму я тебя…
— Говорите, правда ли, Аникита Ильич застал у вас Дмитрия Андреевича?
Сусанна, потупясь, ответила едва слышно:
— Да.
— Правда ли, что вам и ему приказано уезжать с Высоксы и что всему конец… женитьбе Дмитрия Андреевича не бывать?..
— Правда! Правда! — воскликнула Сусанна. — Я нищенствовать по миру пойду, Денис Иваныч… Уж лучше бы теперь убитой быть Гончим…
— Барышня… Все на перемену будет… Всего этого не будет… Останетесь вы здесь хозяйкой, как были… Дарья Аникитична будет женой Дмитрия Андреевича, а вы настоящей хозяйкой… И до конца ваших дней… Желаете вы так-то?.. Говорите скорее… не молчите! Желали бы вы этакое?
— Я не помру? Что ты, ума, решился?..
— Дозвольте мне все это так наладить… так, как я сказывал вам… прикажите мне…
— Да что?.. Что?!
— Прикажите вас самих, Дмитрия Андреевича да еще одного человека избавить от Ирода, мучителя… Прикажите мне его похерить…
— Кого?! — произнесла Сусанна пораженная.
— Понятно кого… — глухо ответил Змглод с искаженным от злобы лицом.
Наступило молчание и длилось без конца.
— Прикажите… — едва слышно снова сказал наконец Змглод.
Сусанна закрыла лицо руками и замотала головой.
— Ведь всем — и вам, и мне погибель… а то бы всем спасение… Барышня, подумайте… Вам ведь только одно слово сказать… одно слово: ступай! Приказываю, мол… тебе!
Сусанна молчала и начала вздрагивать всем телом, не отнимая от лица крепко прижатых ладоней.
— Зачем тебе приказание? — прошептала она через силу, так как голос ее рвался. — Зачем? Мое?..
— Для моей совести… Я век буду утешаться, что мне было указано… А вам что же? Вы только согласье дали.
— Погибельное дело. Пропадем все… — прошептала Сусанна.
— Самое простое легкое дело. Положитесь на меня. Я не махонький и не скорохват. Знаю, что надумал и как сделаю…
И снова воцарилось молчание.
— Сусанна Юрьевна! — громче и уже отчаянно выговорил Змглод. — Ну, хоть промолчите… Время не терпит… Слышите? Я иду сейчас к нему… по винтушке… Через час будет всему конец«. и вашей беде конец, и моим мученьям. Я иду… вы это знаете… мне не возбраняете?.. Так ведь?.. Ну?.. Я иду…
Змглод смолк, в комнате стало тихо.
Прошло несколько мгновений.
Сусанна отняла руки от лица и хотела что-то сказать, но, оглянувшись порывисто, вскочила с места. Змглода, не было.
Она тихо вскрикнула, схватила себя за голову и упала в кресло, как сраженная.
XXIV
Среди темноты ночи близ дома у самых дверей винтушки, прохаживался часовой рунт.
Из-за угла вдруг появилась шибко шагающая фигура, будто спешащая. Это был обер-рунт. Приблизясь к часовому, Змглод стал, тяжело переводя дыхание, и с трудом вымолвил:
— Ну, Захар… Вот… иду… Помни божбу. Не погуби…
— Денис Иваныч… Сколько же раз тебе сказывать! Я за тебя душу прозакладаю… Ты мой благодетель, — отозвался рунт с чувством.
— Ты один, почитай, свидетель… одного меня видел… Не погубишь?
— Ах, Денис Иваныч… Ну, желаешь, с тобой пойду!.. Помогать тебе буду…
— Нет! Я и один…
Змглод двинулся и исчез в дверях.
Минуту спустя, в спальне старого барина послышался шорох. Аникита Ильич, плохо спавший от волнения по милости невероятных происшествий в Высоксе и в семье, очнулся, открыл глаза и в полусвете от лампадки увидел фигуру у дверей.
— Кто там? Что еще? — неспокойно окликнул, он, будто чуя, что опять узнает про какую новую беду.
— Я… — глухим шепотом отозвалась фигура.
— Змглод?! — страшным голосом произнес старик.
И вдруг, Бог весть почему, грозный барин высокский, «Владимирский Мономах», будто смутился. Быстрым движением поднялся он с подушек и сел в постели.
— Что тебе?.. — как бы уже не своим голосом произнес Аникита Ильич.
Ему не верилось в то, что чуяло сердце… А оно чуяло… оно оробело… быть может, впервые в жизни!..
— Я… за Аллу… я…
И Змглод тихо приблизился от дверей к постели. Но он не просто шел… Нагнувшись, сгорбившись, будто съежившись, он как бы крался, подбирался…
И вдруг, сразу, скачком, бросился он на барина и, обхватив, сжал, сдавил как в тисках. Старик, цепенея от ужаса, собрал все-таки все свои силы, чтобы вырваться, бежать от злодея, звать, но почувствовал вдруг, как спина его будто хрястнула.
Не человек, а дикий зверь облапил его, ломая тело… Легко опрокинув его навзничь, он завалил его голову подушками и налег на них всем туловищем.
Отчаянно забилась жертва. Но еще отчаяннее, с яростью дикого сильного зверя, давил, налегая, остервенившийся мститель.
XXV
Рано утром, еще чуть брезжил свет, Масеич явился, как всегда в дом по винтушке и стал в ванной комнате тихо готовить все к вставанию барина… Он налил воду в ванну, разложил белье, приготовил для подачи халат и туфли, оглядел даже пилу-голландку — не подточить ли. Затем перелил из бутыли в стопу калмычкино зелье.
Наконец, приготовив все, он стал ждать положенного часа будить, если сам барин не кликнет.
В дверях с винтушки появился Змглод.
— Здорово, Никифор Масеевич. Барин еще не вставал?
— Нету… А что? Приключилось что? К спеху тебе…
— Особого ничего… Кой-что доложить…
— Чтой-то ты, Денис Иваныч! — ахнул вдруг Масеич, приглядевшись к странно искаженному лицу обер-рунта.
— Еле на ногах держусь. Опять расхворался еще пуще! — тихо ответил Змглод, опуская блестящие глаза. — Иди уж… Буди Аникиту Ильича… Мне бы скорее домой. Прилечь…
Масеич пошел в спальню будить барина. Змглод стоял, слегка вздрагивая, как от холода, и дергался на месте…
— Вот… Вот… — прошептал он. — И оно-то… самое мудреное. Да полно! Не выдавайся. Полно! Помни про Аллу…
Старик Масеич страшным голосом кричал в спальне и звал… Змглод шагнул, хотел двинуться на зов… и не мог.
Масеич выбежал из спальни и кричал, как одичалый:
— Вениуса… Барышне… Денис Иваныч, скорее… Почитай, мертвый… Барышне… Господи, сохрани и помилуй!..
Змглод бросился, будто швырнулся, к дверям винтушки.
Через полчаса весь дом был на ногах и все, от барышни до последнего нахлебника, толпились наверху, в отпертых комнатах барина, в коридоре, в канцелярии и даже на лестнице.
Через час вся Высокса встрепенулась в ужасе и онемела, ошеломленная невероятной вестью.
— Аникита Ильич скончался!
Доктор Вениус освидетельствовал тело, признал смерть, приключившуюся за ночь, вероятно, от удара. «Полнокровен был старик, а кровь пустить не дозволял никогда. И этого надо было ждать!»
Однако немец-доктор был сильно взволнован. Он тотчас же заявил Сусанне Юрьевне, что имеет сказать ей нечто важное наедине…
— Выбрал время?! Успеется и после! — отозвалась она.
Барышня Сусанна Юрьевна была не печальна… Она была сурова и даже столь грозна, какой никогда еще не видели ее. Будто покойник вдруг передал ей или завещал свой грозный вид и свою «Мономахову» повадку с людьми и рабами.
К вечеру в большом зале, в углу у образов, на столе лежало тело, служилась панихида. Одновременно снаряжались и пускались гонцы во все стороны, в Муром, во Владимир, к губернским властям, в наместническое правление…
А весь дом, вся Высокса, все заводы и заводская слобода — все ходуном ходило.
Но не одна кончина старого барина смущала всех…
Равно смутила всех и новоявленная грозная барышня, принявшая все в свои руки… Не прошел еще день со смерти барина, а трое ослушников указаний Сусанны Юрьевны уже поплатились, были наказаны строго и, пожалуй, сверх вины.
Но пример этот подействовал на всех. Все сразу оробели и недоумевая притихли. Важное лицо, коллежский правитель Барабанов, был в сумерки смещен и уволен от должности за какое-то дерзностное осуждение по поводу рапорта на имя наместника… Старший сын Ильева временно вступил в должность.
Масеичу было приказано сидеть безвыходно дома, а к нему запрещено пускать кого-либо. Старому слуге дозволено было выйти и явиться только на похороны своего барина. Старик провинился тем, что доложил барышне, что покойник перед кончиной, видно, бился и метался. Судя по постели и белью, Масеич выводил заключение совсем несообразное. Пуще всего разгневалась за что-то барышня на Дениса Иваныча, сразу лишила его звания обер-рунта и приказала содержать под арестом. Впрочем, Змглод снова захворал шибко и лежал в постели.
Но истинно-диковинное было еще впереди. Готовилось такое, о чем высокцы и помыслить бы вперед не могли. Панихиды и молебны, похороны и свадьбы, поминальные трапезы и свадебные пиры — вперемежку…
XXVI
После торжественных и пышных похорон старого барина состоялся поминальный обед. Помимо своих всех были приглашены к столу, конечно, все приезжие гости, дворяне и чиновники губернские. Даже сам губернаторский товарищ[18], запоздавший к отпеванию, был в числе гостей.
После обеда было им объявлено во всеуслышание: «С разрешения наместника, дворянка девица Касаткина облечена властью управлять всем впредь до вскрытия завещания покойного, если таковое в опекунском совете в Москве окажется».
После этого объявления Сусанна Юрьевна сурово объявила всем от себя второе, еще более важное и нежданное: «Во исполнение воли покойного, много раз высказанной всеми и каждому, следует не медля узаконить его заветное желание… После поминок в девятый день, не отлагая нимало вопреки обычаю, на десятый же день быть бракосочетанию наследницы Дарьи Аникитичны с ее давно нареченным, Дмитрием Андреевичем», дабы тотчас же Высокса снова принадлежала Басман-Басановым.
Прошли эти девять дней, и действительно на следующий, десятый, вся Высокса была в храме и вокруг храма, молясь за брачащихся, а затем явилась в дом на свадебный пир.
Новобрачный был радостен и особенно ласков со всеми, как бы обещая менее суровые порядки в будущем. Все вздохнули свободнее, видя нового Басман-Басанова — молодого, веселого, приветливого…
Новобрачная была — краше в гроб кладут! Убита ли она была горем по отцу? Или иное что?.. Одна Сусанна Юрьевна знала правду.
Два раза пыталась Дарьюшка воспротивиться под наущеньем любимого человека… Но он, князь Давыд, вдруг пропал, сгинул… его услали или увезли во Владимир… А Дарьюшка, полуживая, безропотно надела подвенечное платье и только обливалась слезами и в храме, и за свадебным пиром…
В день свадьбы, уж вечером, к барышне явился по ее вызову якобы опальный и хворающий Змглод.
Сусанна Юрьевна, оставшись наедине с ним, обняла его и заплакала:
— Ну, Денис Иваныч, проси, чего хочешь.
— Мне только Аллу!.. — отозвался Змглод. — А успокоение совести… не в вашей воле. Да чаю я — и это придет!
Часть третья
I
Много воды утекло с того дня, что пораженная и взволнованная Высокса молилась в церкви почти одновременно на свадьбе молодой барышни и на похоронах старого барина.
Если в действительности прошло только несколько годов, то, наоборот, по всему судя, казалось, что прошло десятка два-три лет.
Было часов шесть… После душного июльского дня, когда жара уже начала спадать, в большом доме-дворце, на улице кругом дома и главного подъезда — всюду была шумливая и веселая суетня, хлопоты и сборы…
Только сам молодой барин Дмитрий Андреевич Басман-Басанов сидел спокойно в своей спальне, отдельно от жены и детей, с прозвищем «холостая». Сидя в кресле у отворенного окна, он равнодушно, как-то лениво и сонно глядел на улицу, где кишел и гудел народ, но не серый люд, а ярко-пестрый, нарядный…
На площадке, отделявшей дом от коллегии, был целый людской муравейник. Направо теснилась целая куча экипажей: коляски, берлины[19], брички, тележки, фуры и даже с полдюжины простых беговых дрожек. Все упряжные лошади были на подбор статные, ценные и всевозможных мастей. Налево стояла «охота» в красивых разноцветных кафтанах с позументами: дюжины две верховых с борзыми на сворах и дюжина пеших с гончими…
По двум сторонам подъезда выстроилась двумя рядами полусотня диковинных, блестящих золотом и серебром, всадников. Это был конвой барина, при его выездах, в гусарских красных венгерках, в причудливых киверах и с волчьими шкурами за плечами на золотых шнурах и золотистой подкладке. Наряд был, конечно, подражанием обмундировке лейб-гусарского эскадрона гвардии.
В большом зале, где по-прежнему висел огромный портрет императора Петра, тоже было шумно, гульливо… Гости из губернии и даже из обеих столиц, жившие в Высоксе, приживальщики-дворяне и равно главные охотники из крепостных — ожидали выхода барина.
Дмитрий Андреевич собирался на охоту верст за десять от Высоксы, где были самые лучшие места по изобилию всякой дичи, где можно было охотиться на зайцев и лисиц, но где равно начинались необозримые болота.
Когда солнце было уже на закате и пунцовым шаром опускалось за озером и лесными берегами, утопая в густой пелене, казавшейся не то пылью, не то дымом, вокруг дома, где кишел народ, все оживилось еще сильнее. Барин с гостями показался на крыльце.
Дмитрий Андреевич сел первым в поданный экипаж, новую берлину, выписанную из Петербурга, и посадил с собой, как бывало зачастую, своего любимца и наперсника, грека Михалиса. После него разместились гости по разным экипажам, а затем охотники, свои крепостные и чужие, по всем тележкам, бричкам и дрожкам. И огромный длинный поезд, предшествуемый и сопровождаемый гусарами, двинулся от подъезда. В то же время молодая барыня Дарья Аникитична была на балконе, вновь выстроенном над подъездом, и стояла с двумя маленькими мальчиками и со своей нянюшкой Матвеевной. Она проводила мужа, кивая головой, но лицо ее было не оживленное, не веселое, а какое-то безжизненное, не выражающее ничего: ни печали, ни радости.
Сусанна Юрьевна тоже провожала охотников из окна своих комнат в верхнем этаже… Один из гостей, на днях приехавший из Москвы, садясь в экипаж и отъезжая, не спускал глаз с красивой по-прежнему «барышни».
Не прошло получаса после отъезда барина, как огромный дом принял тот вид, который напоминал прежние годы. Всюду стало тихо… А этого теперь никогда уже не бывало. Только в прихожей у лестницы слышались голоса дежурной дюжины, которая болтала смело и бойко… не так, как бывало при покойном барине… Вид у дюжины был другой, так как она, на время дежурства, одевалась гайдуками в кафтаны, выписанные из Варшавы.
Проводив мужа и гостей, Дарья Аникитична вернулась в свои апартаменты в центральной части дома, где когда-то были гостиная и за ними комнаты Сусанны Юрьевны… И если всюду водворилась тишина, то здесь долго раздавался детский капризный вой… Старший сын, Олимпий, не хотел ложиться спать и, поужинав, требовал от матери тоже ехать сейчас верхом на «лосадке» вслед за отцом. Это был любимец матери и поэтому сильно избалованный и упрямый ребенок. Младший сын, Аркадий, тихий и кроткий мальчик пяти лет, плакал только тогда, когда старший, семилетний, принимался драться с ним и бил его. А это случалось часто… Уложив обоих сыновей спать, Дарья Аникитична вышла в свою гостиную, где ее ожидали гости, часто проводившие у нее вечера.
Тут была старуха Бобрищева, молоденькая Лукерья Ильева, майор Константинов, не изменившийся нисколько, и князь Давыд Никаев с сестрой Екатериной, красивой брюнеткой… Князю, сильно возмужавшему, казалось теперь за тридцать лет. Тотчас же все уселись за карты, и началась игра на орехи: в мельники, в поддавки и в «зевашки», любимую игру молодой барышни, заставлявшую ее много смеяться, так как старые Бобрищева и Константинов постоянно «прозевывали» свои взятки.
Около девяти часов гости уже поднялись и простились с барышней.
— Небось сейчас же крепко уснете? — сказал ей князь Давыд, прощаясь.
— Нет… Я еще обожду ложиться, — как-то странно отозвалась Дарья Аникитична, потупляясь и как бы смущаясь. Даже голос звучал как-то виновато.
Когда гости вышли от хозяйки и разошлись по дому, каждый в свою сторону, князь Давыд отпустил сестру одну на их половину в правое крыло дома, а сам вызвался проводить хорошенькую Лушу Ильеву в ее квартиру в нижнем этаже дома.
Давыд сильно ухаживал за девушкой с тех пор, что снова вернулся в Высоксу после долгого отсутствия, и все обыватели ждали новой свадьбы. Одна Луша не ждала ничего и совершенно не могла понять поведения с ней князя… При всех князь не отходил от нее и любезничал, вел сладкие речи, а наедине был сдержан, говорил, что никого никогда не полюбит и, конечно, никогда не женится…
Когда Давыд довел девушку до дверей ее квартиры и простился, Луша молвила ему вслед:
— Смотрите, Давыд Анатольевич… Одни теперь пойдете через залу… Ведь все пусто… На охоте все…
— Так что же? — спросил князь, притворяясь удивленным, так как понимал намек девушки.
— Не боитесь?.. Знаете ведь, что там ночью приключается зачастую.
— Все это враки, Лукерья Васильевна. Выдумки людские… и даже грешные выдумки, — сурово ответил Давыд.
— Все так-то сказывают, — извинилась девушка. — И много кто видел.
— Мертвые ходить не могут. А если ходят, — вдруг усмехнулся князь, — тем лучше для нас.
— Как так?!
— Стало быть, и мы тоже, померев, будем гулять на свете… Чем мы с вами хуже других, померших?..
И князь Никаев, ухмыляясь, двинулся снова…
В то же время, когда весь дом погружался в тьму, на верхнем этаже, в комнате, где когда-то происходил прием просителей стариком Басановым, был еще яркий свет. Здесь теперь была большая богато отделанная спальня. Сусанна Юрьевна по своей давнишней и неизменной привычке лежала на полу на мягком персидском ковре, а около нее сидел тоже на полу молодой и красивый малый лет двадцати с небольшим. Это был Бобрищев, новый обыватель Высоксы, родственник старухи, давнишней приживальщицы в доме.
Молодая женщина была в легком, желтом шлафроке[20] из тонкой шелковистой и золотистой материи, эффектно оттенявшей ее матовый цвет лица, большие черные глаза и густые косы, рассыпанные по плечам и по красивой шелковой подушке. Она лежала на спине, закинув руки под голову и задумавшись.
Бобрищев уже несколько раз заговаривал, но Сусанна не слыхала и не отвечала.
— Что же?! Скажите прямо! — вдруг резко и громко выговорил молодой человек. — Скажите, что надоел вам… и конец!
— Ах, отстань, пожалуйста… — едва слышно и равнодушно отозвалась Сусанна.
И снова наступило молчание.
В это же время Дарья Аникитична сидела у себя одна и понурясь думала свою думу, тяжелую, давнишнюю, все ту же… Она вспоминала прошлое, невозвратное и один свой роковой шаг, повлиявший на все ее существование…
Зачем когда-то не стала она противиться? Когда отец был в гробу она оказалась полной и единственной владелицей всего состояния и могла устроить свою судьбу по-своему… выбрать в мужья того же князя Давыда, а она по одному слову Сусанны Юрьевны, собственно, дальней родственницы, поехала покорно в церковь и обвенчалась с Басановым.
Теперь она уяснила себе очень многое и поняла, что была игрушкой.
Около полуночи весь дом был темен и спал глубоким сном. Только два края дома были по заведенному обычаю освещены: прихожая, где дежурила дюжина, и большой зал с портретом великого императора… Среди тишины и тьмы кто-то тихо двигался из правого крыла дома и, появясь в дверях залы, остановился, осторожно озираясь и прислушиваясь.
Это был старик, гладко остриженный под гребенку с сильной сединой. Он был в длинном черном кафтане, в мягких бархатных сапожках, беззвучно скользивших по паркету, и с большим костылем в правой руке.
Не узнать было бы трудно! Ночной посетитель был сам въяве, именно он — Аникита Ильич — суровый и грозный старик, страшно погибший от руки убийцы…
II
Прошло около восьми лет со смерти Аникиты Ильича… И не только теперь, но и за самое первое время, когда старого барина заменил молодой, Высокса сразу изменилась настолько, что ничего узнать было нельзя. Казалось, в ней стало люднее, потому что было вольнее и веселее, всем дышалось легче. Хотя старого барина и любили, считая его добрым и справедливым, но теперь будто поняли, что у Аникиты Ильича рука была воистину тяжелая.
Разумеется, Дмитрия Андреевича обожали, зато нисколько не боялись и даже не слушались. Единственная личность, которая внушала еще некоторый страх и которой все повиновались, была Сусанна Юрьевна. С того самого дня, что молодые господа, повенчавшись в церкви, пока старый барин был еще на столе, приехали в дом, а Сусанна Юрьевна хозяйкой приняла их и вместе с тем принимала поздравления всех, а затем тотчас же занялась похоронами дяди, — с этого дня все почуяли, что не молодой барин Дмитрий Андреевич, а она, барышня Сусанна Юрьевна, будет властным лицом в Высоксе.
И теперь, через восемь лет, предположения оправдались… Если Высокса, перейдя от грозного Аникиты Ильича в руки добродушного Дмитрия Андреевича, не расшаталась совсем, то, конечно, благодаря «барышне». Всякое утро молодой Баса-нов принимал всех — и докладчиков, и просителей, как, бывало, старик, но конечно все это по мере возможности старался сократить. И занятия делами по заводам никогда не продолжались более часу. Объездов всех заводов молодой Басанов, конечно, совсем не делал. И все в Высоксе — от главных заправил до последнего заводского крестьянина — знали, что от молодого барина зависят пустяки, мелочи, во всяком же важном деле он идет за советом к барышне.
Равно все знали, что когда приедет кто в Высоксу по важному делу с большим казенным заказом, даже если приедет купец из Нижнего, то для виду все толкуют с барином. Но ответа Дмитрий Андреевич никогда тотчас не даст, просит обождать. Только наутро даст он ответ, который идет, конечно, от барышни.
И действительно, Сусанна в первый же год поняла, что оставлять молодого Басанова управлять всем, поведет к беде. И лень его, и добродушие, и легкомыслие — если ему дать волю — приведут все в полный беспорядок. Наконец, кроме того, Дмитрий Андреевич начинал все более тратить деньги. Году не прошло, что он женился, как уже начал швырять червонцами, как копейками. И чем далее, то более…
После смерти Аникиты Ильича оказались капиталы. Теперь их не было! Разные затеи молодого барина и две поездки в Петербург, о которых даже в невской столице заговорили, стоили громадных сумм. Сусанна видела теперь, к чему идет дело.
Дым коромыслом! Охота, вино, карты, всякие затеи, масса гостей, чередовавшихся в доме и не только живших на счет Басанова, но и занимавших у него деньги, — все это, ежегодно усиливающееся, могло наконец привести путаницу в делах, а заводы в упадок.
Сусанна всячески сдерживала Дмитрия Андреевича, насколько могла, и сначала он слушался ее, даже как будто побаивался, но за последнее время, по выражению Анны Фавстовны, начал «отбиваться от рук». Разговоры, советы и убеждения уже не вели ни к чему.
Сусанна часто смущалась, но теперь кончила рассуждением, что какое же ее, собственно, дело, если все начнет разваливаться? Впрочем, после тяжелой, скучной жизни под гнетом старика-дяди, она сама рада была вздохнуть свободнее, перестать стесняться в своих прихотях. Ей тоже были сначала по сердцу гости, пиры и всякие затеи. Но она знала предел новому образу жизни в Высоксе, тогда как Дмитрий Андреевич этого предела даже не чуял: он не понимал или не хотел понять, что если дела заводов запутаются, явятся долги, то эту страшно сложную машину, которая расшатается, мудрено будет справить, и, конечно, не ему под силу!
Машина эта могла удивительно действовать в руках Аникиты Ильича, встававшего с рассветом и до рассвета и входившего во всякую мелочь. Теперь же только что-либо очень важное доходило до Сусанны Юрьевны и вершилось по ее совету. Масса мелочей не доходила даже до Дмитрия Андреевича и решалась разными заправилами.
Разумеется, такие личности, как Барабанов, Пастухов и другие, вновь по-прежнему занимавшие свои должности, были уже не те, что при старом барине. Они и жили иначе. Все веселились так же, как барин, всякий на свой лад, и, конечно гораздо менее занимались делами. В коллегии бывали постоянно серьезные, важные недосмотры и оплошности, а от них путаница, отзывавшаяся даже иногда на производстве и сбыте. Года с два назад крупный казенный заказ в Москву запоздал и, не будучи поставлен в срок, заставил заводское управление заплатить казне около ста тысяч неустойки. Сусанна ахнула. Дмитрий Андреевич отнеся к делу ребячески. На требование ее тотчас сменить Барабанова он согласился. Коллежский правитель вследствие своей беспечности был главным виновником и кругом виноват. Была прямая связь между уплатой неустойки казне и его двухнедельным пированием по поводу свадьбы дочери. Но затем вследствие слезных молений всей семьи Барабановых он оставил виновного по-прежнему коллежским правителем. И все пошло по-старому.
Но главное, что смущало Сусанну, были две вновь приобретенные Басановым привычки: вино и карты. Он пил все больше. Ужины уже не бывали, как прежде, общие со всеми приживальщиками в большой зале. В доме бывало два ужина: один по-прежнему, на котором председательствовала Дарья Аникитична, а с ней и «барышня», другой же в отдельных апартаментах барина, который длился ежедневно до полуночи и был, собственно, кутежом и попойкой.
Когда-то за полночь большой дом-дворец бывал темен, все в нем давно спало, а кто и не спал, тот вел себя тихо, зная, что грозный барин уже давно почивает. Теперь же случалось, что в час и в два ночи в доме еще был гул. После ужина и вина гудели дикие голоса, начинались карты. Разумеется, в числе гостей, губернских и столичных, бывали личности сомнительные. Не было в России ни одного знаменитого картежника или шулера, который бы не заглянул в Высоксу пользоваться от щедрот богача и добряка Басман-Басанова.
Несколько раз Дмитрию Андреевичу случалось проиграть очень крупные куши, и в этом отношении Сусанна добилась только одного: Басанов дал ей слово и держал его пока: за один вечер дальше десяти тысяч рублей не ходить и отыгрываться только на другой день.
Этот образ жизни уже несколько действовал на молодого Басанова. За восемь лет он сильно пополнел и обрюзг. Ему можно было дать под сорок лет. Казалось, что попойки, где выливалось большое количество венгерского вина, действовали на него сильнее, чем на кого-либо. Изредка, раза три в году, он начинал хворать, валялся в постели по неделе, и два домашних доктора, заменивших прежнего Вениуса, прямо объясняли его хворание невоздержанной жизнью, и в особенности вином.
Если все изменилось в Высоксе, и все обитатели тоже изменились, то было одно существо, которое оставалось по-прежнему то же: тихое, кроткое, будто забытое, вернее, не замечаемое никем. Это была молодая барыня Дарья Аникитична, истинная владелица всего. Но Высокса как-то забыла об этом. Всем казалось, что заводы как будто всегда принадлежали барину Дмитрию Андреевичу.
И только главные заправилы знали, помнили и иногда объясняли другим, что по закону Дарья Аникитична — настоящая владелица и что в важных случаях без ее подписи даже ничего поделать нельзя. Будь она другая женщина и завтра пожелай все забрать в руки, и, конечно, все по ее дудке плясать будут.
В жизни прежней Дарьюшки была, однако, огромная перемена. При ней было двое детей — два сына. Мать была постоянно с ними, от зари до зари возилась с мальчиками, балуя их страшно.
Отношения ее к мужу были странные. Первое время после брака она много плакала, но затем если не примирилась со своей долей, то просто привыкла.
И только года с полтора тому в ее душе снова возник разлад…
Человек, которого она когда-то тихо и кротко, но по-своему пылко, любила, после долгого отсутствия снова появился в Высоксе — князь Давыд Никаев…
III
Если «барышня» в глазах обитателей Высоксы заменила в некотором смысле старого барина, то на это с самого начала повлияла и маленькая подробность. Спустя месяца два после смерти Аникиты Ильича, молодые супруги пожелали переселится из правого крыла дома в центральную часть его, следовательно, занять и комнаты Сусанны.
Дмитрий Андреевич предложил ей в свою очередь занять комнаты старика-дяди. Сначала Сусанна отказалась наотрез. Она не могла себе представить, как решится она поместиться в этих комнатах, где погиб старик по ее милости… ведь она дала согласие: от нее Змглод потребовал одного слова или хотя бы только молчания.
И поэтому, конечно, суеверный страх, если не угрызения совести, останавливали ее. Однако, недаром умная женщина была, по выражению Анны Фавстовны, «отчаянная». Она подумала и согласилась.
Разумеется, в этом верху все отделали заново, а главное совершенно переделали две комнаты — спальню и уборную. Одна стена была выломана и именно так выломана, что многие не понимали, что за странная прихоть у барышни. А прихоть была простая: Сусанне хотелось, чтобы то место у стены, где стояла кровать дяди, на которой погиб он от руки Змглода, очутилась бы среди большой комнаты. Одним словом, чтобы ничто не напоминало прежней спальни старика, чтобы она исчезла.
Наконец, Сусанна переменила расположение комнат настолько, что спальня ее приходилась в той самой комнате, где был прием просителей и где много лет тому назад она сама сидела в ожидании… как примет ее дядя, страшный богач, и останется ли она в Высоксе властвовать. И именно на том самом месте, где когда-то сидела она, двадцатилетняя замечательная красавица и ждала решения своей участи, теперь поставила она свою постель. Выход в коридор был уничтожен, стена замурована, а в другом месте пробита для новой двери прямо в кабинет.
Когда Дмитрий Андреевич затеял перенести от апартаментов старика-дяди на противоположный угол дома пресловутую «винтушку», то Сусанна, однако воспротивилась. Она заявила, что лестница, как свой отдельный выход на улицу, ей будет удобна. Дмитрий Андреевич молча и пытливо глянул ей в лицо. Сусанна встретила его взгляд упорным, но лукавым взглядом, и он первый опустил глаза.
— Ведь ты женат, — сказала она. — Стало быть, теперь я все едино, что вдова!
И чугунная лестница осталась на своем месте.
Разумеется, первое время в этом помещении, где все-таки кое-что напоминало грозного основателя и повелителя Высокая, женщине было, конечно, жутко. «Владимирский Мономах» был такая своеобразная и крупная личность, что не мог не отпечатлеться надолго в умах всех его знавших.
Странная внезапная смерть сурового старика прибавила тоже что-то особенное к его облику. Вследствие этого вскоре же после его смерти в большом доме создалось поверье. Старый барин ходил по дому, и многие его видели! По крайней мере раза два-три в год видели Аникиту Ильича или идущего по анфиладе парадных гостиных, или сидящего где-либо, или спускающегося по лестнице, как бывало, на прогулку.
Каждый раз, что появлялись эти россказни, Сусанна требовала от Дмитрия Андреевича строжайшего наказания болтунов. Она конечно, не верила в возможность подобного, но тем не менее помещаться именно в тех комнатах, где он жил, ей стало еще неприятнее.
Все эти россказни были не вполне выдумкой. Известным образом настроенное воображение всех обитателей заставляло их видеть старого барина и верить в свое видение.
Не одна лишь прислуга, но кое-кто из приживальщиков тоже видел покойного барина. Константинов, самый степенный из всех нахлебников, божился, что однажды ввечеру, когда он, напившись чаю, собирался ложиться спать, к нему в маленькую комнатку, освещенную лишь одной лампадкой у киота, вдруг вошел Аникита Ильич.
— Может, и так, зря показалось, — объяснял Константинов, — но только, Богом божусь, не лгу. От страха я чуть не хлопнулся замертво.
Затем явилось одно обстоятельство, которое заметили не сразу, но когда все убедились в нем, то оно прибавило загадочности, возбудило и некоторое смущение. Умный человек, пожалуй, самый умный в Высоксе, и уж, конечно, не трус, Денис Иванович Змглод, перестал бывать в доме с той минуты, что зажигались огни.
И если жизнь в Высоксе шла веселее и с каждым годом все шумнее и шире, то все-таки поверье о старом барине, ходящем по ночам по своему большому дому, несколько отравляло существование всех. От самого Дмитрия Андреевича и до последнего мальчишки в дворне никто не любил в ночное время проходить бесконечную вереницу апартаментов и комнат.
Только два существа относились к поверью отрицательно. Первая была Дарья Аникитична.
— Грех так сказывать про батюшку-родителя, — говорила она всем укоризненно и даже обижаясь, — он был добрый, справедливый, только строгий. Греха на нем почти не было и душенька его могла в рай пойти…
И действительно, Дарьюшка не боялась проходить одна, хотя бы и в полночь, по всему дому и не верила совершенно, чтобы душа ее отца «мытарствовала».
Другая была Сусанна, которая просто не верила в возможность приведений. Иногда, чувствуя необъяснимый трепет, в особенности когда она оставалась ночью одна в этих его собственных комнатах, она вдруг возмущалась сама на себя, и страх мгновенно переходил в гнев.
— Ну, увижу!.. — восклицала «отчаянная» вслух, гневно озираясь кругом себя. — Что ж?! Я виноват лишь тем, что промолчала…
И она уверяла себя, что была поставлена в безвыходное положение. Могла ли она отдать старику всю свою молодость, тоскливо, даже тяжко прожив столько лет под его указкой, вдруг примириться с изгнанием, идти на все четыре стороны нищей, по миру, с сумой?..
«Конечно. Только промолчала! — утешалась Сусанна. — А Змглод пошел на это для себя же самого… ради Аллы…».
Однако, перейдя в комнаты Аникиты Ильича, она в ответ на вздохи и нытье Угрюмовой объяснила ей кратко и строго:
— Если когда здесь в комнатах привидится вам дядюшка, то знайте, Анна Фавстовна… На другой же день вы выедете с Высоксы! В этом божусь вам перед Богом!..
Сусанна знала, что делала. Анна Фавстовна не могла уразуметь, каким образом можно наказать человека за то, что он мертвеца с того света увидал. Но вместе с тем женщина, поселившись в этих страшных комнатах, боялась теперь увидать Аникиту Ильича не потому, что он — мертвец, а потому, что ее прогонят с Высоксы. И она решила:
«Лучше помру от страха. Рот кулаком заткну, а кричать не стану!»…
И однажды, через полгода после перехода наверх, Сусанна нашла Анну Фавстовну вечером в гостиной на кресле в странном виде. На тревожный вопрос ее: что случилось? Угрюмова, полумертвая от страха, отвечала, что ей нездоровится.
В действительности женщина видела… «Да ведь как? Воочию!» Видела, как отворилась дверь и вошел Аникита Ильич… Она задохнулась, крепко зажмурила глаза и заткнула себе рот пальцами, чтобы не закричать.
Сусанна догадалась и насупилась.
«Надо что-нибудь придумать», — решила она.
Через неделю, в сумерки, страшный переполох в квартире девиц Тотолминых поднял весь дом на ноги. Старые девицы были приятельницы Угрюмовой и проводили целые дни вместе. И обе они, ежедневно беседуя с Анной Фавстовной о «наваждении», с ней приключившемся, разумеется вскоре же и сами увидели покойника. Случай этот окончательно смутил всю Высоксу и тем паче, что старые девицы обе, да еще одновременно, зараз, увидали Аникиту Ильича как живого у себя в комнате, а не в зале.
И тогда Сусанна Юрьевна круто взялась за дело. Переговорив с Басановым, призвав на совет Змглода и еще двух-трех лиц, она уговорила добродушного Дмитрия Андреевича дать всем на Высоксе «острастку». Две старые девицы получили четыре тысячи и были тотчас изгнаны из дома и из вотчины. Тотолмины, обливаясь слезами, несмотря на подарок, выехали… и с горя сознавались, что им этакое, может, и почудилось зря…
Затем Сусанна Юрьевна настояла на том, чтобы был объявлен из канцелярии строжайший указ всем обитателям дома. Он был следующего содержания:
«Дабы праздные языки и блазни[21] не смущали людей и не оскорбляли вечной и блаженной памяти старого барина, то первый, кто не ложно, искренне, но из глупого страха, увидит что-либо памяти Аникиты Ильича обидное, или тем паче будет таковое измышлять ради грешного и кощунственного соблазна и потешничества, то он, если приживальщик, будет немедленно удален с Высоксы, а если он свой человек — дворовый или крестьянин, то будет нещадно наказан розгами или сдан в солдаты».
Сусанна знала, что делала, но все-таки созналась сама себе, что у нее полной уверенности в успехе нет, а что это только проба. Прошло с приказа только два месяца… Все подняли голову и глядели веселее…
Угроза подействовала… а через год или два и самое поверье было забыто. И так прошло семь лет.
Но вдруг, с год тому назад, Бог весть почему, нежданно, непонятно… Аникита Ильич стал снова «ходить». И уже не так, как прежде. Теперь видали его очень часто, но почти всегда на одном и том же месте, в большом зале, около портрета великого императора. Видали его дежурные и рунты и всегда около полуночи. Повторялось это раза два в месяц. При этом самые степенные люди, самые умные, тоже видали. Наказание следовало за наказанием. Каждый раз кто-нибудь изгонялся из дому, изгонялся совсем с Высоксы, наказывался розгами, сдавался в солдаты, ссылался на поселение… Сусанна упорно боролась, и тщетно.
Старый барин все-таки «ходил»!..
Наконец, всеми уважаемый дворовый, прежний буфетчик, Спиридоныч, семидесятилетний богобоязненный и богомольный старик, тоже однажды переходя большую залу около полуночи, хлопнулся на паркет без чувств. Когда кто-то из дежурной дюжины нашел его и привел в чувство, старик, плача и крестясь и не боясь кары, заявил, что он видел барина Аникиту Ильича в нескольких шагах от себя и сам будет просить господ удалить его из дому и дозволить после такого страшного дела поступить в монастырь.
И все обитатели, не только дворня, не только рунты, не только нахлебники, но и сами господа, еще недавно изредка подшучивавшие над прежним хождением Аникиты Ильича, теперь вдруг были, очевидно, тоже сильно смущены. Шутить никто не отваживался. Сусанна же задумывалась и тайно обдумывала предлог, чтобы переселиться из своих «его» комнат в другую часть дома.
Однако умная женщина все-таки дивилась несказанно и недоумевала: почему же теперь часто видят? Почему всегда в зале, внизу? Там он проходил только во времена оны к его сыну Алексею, когда тот умирал, или проходил на свою ежедневную прогулку. Почему же здесь, где он провел всю свою жизнь, в этих самых комнатах, его никогда никто не видел? Анна Фавстовна была не пример. Когда она, тому уже более семи лет, обмерла и закричала, то ее горничная, уже год спустя, созналась Сусанне Юрьевне, что подобное случилось из-за ее шалости. Она Угрюмову целый вечер «науськивала», все повторяла ей:
«Увидите, да увидите», а затем надев кафтан и «сделав рожу», явилась к ней в комнату и стала мычать… В чем именно нашла Угрюмова сходство между нею и старым барином, было неизвестно. И мало ли тогда, семь лет тому назад, могло быть подобных шалунов, пугавших народ.
Теперь было не то… Теперь происходило что-то действительно загадочное, когда даже строжайшее наказание не действовало на самых степенных людей.
«Что же это?» — часто думала и говорила себе Сусанна. Дмитрий Андреевич относился к делу особенно, тоже как-то беспечно. Иногда он подшучивал:
— Нам что же бояться? Ведь дядюшку видают больше холопы. Нам он не является. Стало быть, он сам нас боится.
IV
На другой день после отъезда Басанова на охоту, Сусанна Юрьевна рано утром приняла по делам заводским несколько человек. Так бывало всегда, когда Дмитрий Андреевич находился в отсутствии. Затем она собралась на прогулку в сад, но Анна Фавстовна доложила ей о Змглоде. Сусанна несколько удивилась, так как Змглод, бывая у нее изредка, всегда приходил перед обедом, причем всегда приглашался ею к столу, чего никогда не бывало при старике Басанове.
Змглод вошел и был на вид угрюм. Видно было, что он пришел не запросто…
— Здравствуй, Денис Иванович! — встретила его Сусанна. — Что так рано?
— Дело, барышня…
— Дело?.. — удивилась она. — Что пожелаешь? Тебе, знаешь, отказа не бывает и быть не может.
— Дело не мое, а ваше, барышня. Я не просить пришел, а предупредить.
— Вот как!.. — еще более удивилась Сусанна и, посадив Змглода, села против него, с удивлением глядя на его суровое и угрюмое лицо.
— Дело важное… важнеющее, Сусанна Юрьевна! И прежде всего скажу: не робейте.
— Я не из робких! — усмехнулась она.
— Знаю! Ну, а все-таки можете оробеть.
— Беда, что ли, какая случилась?
— И беда, и не беда! Все дело в том, чтобы дело взять в руки. Некий человек, Сусанна Юрьевна, явлен опять в Высоксе…
— Кто?! Как?!
— Да, проявился! Видели его уже два раза и, по старой привычке, пришли прямо ко мне с докладом. Хоть я уже больше порядками и не заправляю, но ваш новый обер-рунт плоховат, больше кутит да пьянствует. Когда что важное, то ко мне идут люди. Вот и теперь пришли. Мне вчера донесли, а я к вам! Вы гулять собрались в сад, да еще, пожалуй, в самые дальние края сада. Ну, вот и хорошо, что вовремя я подоспел… Гулять-то этак, одни, теперь отложите!
— Что вы, Денис Иванович? — изумилась Сусанна.
— Так, барышня! Неужто вы до сих пор не смекнули, кто таков проявился в Высоксе?
— И ума не приложу, про кого сказываешь.
— А кого вам на сем свете след опасаться? Слава Богу, таких только один.
Сусанна молча глядела в лицо Змглода и вдруг, широко раскрыв глаза, вымолвила чуть слышно:
— Неужто он?..
— Он самый, барышня!
Наступило молчание.
— Анька?.. — вымолвила она наконец.
— Да-с! Кого же другого опасаться? Спасибо, кроме него, никто злобы на вас не имеет.
— Зачем он явился, Денис Иванович? Зачем?
— Не на доброе дело!
— Что же делать? Научи. Подумай.
— Думал я об этом, барышня, всю ночь, и ничего не надумал… Ведь закон-то теперь против нас.
— Как так?
— Да ведь он вольный! Его тогда Аникита Ильич не только на волю отпустил, а еще дал денег, чтобы он в купцы приписался. Теперь только властям можно взять и судить его за что-либо учиненное, а мы за старое дело взять сами его не можем: он купец.
— Ну, это пустое Денис Иванович. Так ли, сяк ли, а наместник да и весь верхний и нижний суд[22] у нас в руках.
— Верно-то, верно, Сусанна Юрьевна. Сам знаю. Но все же таки дело это мудреное. Мало ли что мы могли завсегда и теперь можем с наместническим правлением творить. Все, конечно, можно в обход закону или против закона. Да не в этом дело, а в том, что прежде Гончий наш холоп был. Сами могли с ним сделать, что угодно. А теперь проси начальство его ловить. А оно упустит.
— Как же быть, Денис Иванович? Нельзя же так оставлять. Научи. Возьмись сам. Вся надежда на тебя.
— И я не отказываюсь, барышня. Уж коли против закона решитесь действовать, так разыскать и схватить его самим нам.
— Ну-да. Конечно! Но ты возьмись! На Ильева плоха надежда!
— Возьмусь, говорю; Но вот что скажете: ну, словим мы его, а словивши, что будем мы с ним делать?
Сусанна молчала и вопросительно глядела на Змглода.
— Мы сами с ним распорядиться не можем. Да и как распорядиться? Кто теперь захочет грешные дела на душу брать, какие я брал при Аниките Ильиче?
— Сдадим в город! — ответила Сусанна. — А я напишу наместнику, расскажу, объясню все его прежнее злодейство, буду просить, чтобы отправили в Сибирь.
— Да-с. Но вот тут-то вся и загвоздка! — вымолвил Змглод решительно.
— Как?! Да разве он не злодей! Если я осталась жива, так ведь совсем нежданно. Он тот же убийца!
— Так-то так, барышня, но, извольте видеть, Анька Гончий — не тот человек, как другие! Будут его судить и засудят, и сошлют неведомо в какие сибирские пределы. А через год он опять появится в Высоксе. И будет еще хуже. За то время, что я правил полицейскими делами, несмотря на все наши строгости, сколько людей, сосланных Аникитой Ильичом, все-таки снова из Сибири у нас проявлялось. А теперь не те времена! Теперь ни Дмитрия Андреевича, ни вас никто не боится. Тут все распустилось. Вот насчет Гончего я и говорю: будет хуже! Теперь он проявился и шатается здесь неведомо зачем, так как против вас злоба у него должна быть меньшая: он отплатил, — вы чуть не померли. А как мы его схватим, велим засудить, да в Сибирь угнать, он вернется оттуда второй раз с вами квитаться.
— Да что же это, Денис Иванович, так я всю жизнь и буду жить под страхом от этого зверя?
Змглод развел руками.
— Неужели нет никакого способа? Ты умный человек, и быть не может, чтобы не мог надумать!
— Есть барышня! — глухо выговорил Змглод.
— Какой же?
— Сами можете догадаться…
— Похерить его? На это Дмитрий Андреевич не пойдет, а я сама по себе не могу.
— Да вы меня не поняли! Вы думаете, я про павлиний павильон говорю? Так его подвалы, вам ведомо, завалены, а те кто там помер, как бы погребены теперь, а сажать туда — так прежде надо все подвалы очистить. А рабочий народ ахнет! Заваливать землей в темноте было легко, а разрывать подвалы да находить человечьи кости, какой шум поднимется! Нет, херить человека так, как бывало при Аниките Ильиче, теперь нельзя!..
— Так что же ты хочешь сказать, Денис Иванович?
— А то, что надо Гончего похерить инако! Дайте денег, а я подыщу человека, который его просто пристрелит. Тогда конец! А суд да Сибирь — это все сызнова начинать. Эта Сибирь может вам дорого обойтись, когда он из нее опять сюда нагрянет: второй раз он не промахнется!
— А где такой человек?
— Найду.
— Болтуна, который потом станет рассказывать, что я его наняла человека убить.
— Не опасайтесь. Это уже я на себя беру…
— Ты? Сам?! — вскрикнула Сусанна.
— Что вы, барышня! Бог с вами! — сурово и глухо отозвался Змглод. — Нет! С меня довольно и прошлого всего…
После долгого молчания, Сусанна, лицо которой стало так же темно и грозно, как бывало у старика Басанова, вымолвила холодно и решительно:
— Дай мне, Денис Иваныч, подумать… У меня что-то на сердце чудное творится… Я будто чую силу в себе самой этого изувера своими руками покончить. Дай подумать, что нам с ним учинить… Судьям отдавать нельзя. Правда твоя, ушлют в Сибирь, а он через год вернется и зарежет меня. Нет, я что-нибудь иное надумаю. С Дмитрием Андреевичем перетолкую…
Змглод едва заметно усмехнулся при упоминании о молодом барине и молча вышел.
V
Прошло дня два. Сусанна Юрьевна не выходила из дому, хотя любила всякий день одна гулять в саду, и даже на самых глухих дорожках… Она была задумчива и почти ни с кем не говорила.
Гончий не выходил у нее из головы. Восемь лет не видала она его, а он, как живой, стоял перед ней. Она даже будто чувствовала на себе его блестящий, яркий и упорный взгляд, слышала ясно его голос…
Много прошло с тех пор, что она приблизила к себе этого простого писаря и полюбила его… И любила до появления гусара Дмитрия Басанова… да, этого самого Дмитрия Андреевича, теперь брюзглого, всячески опустившегося… Тогда он был красив, изящен… Но стоил ли он Гончего? С тех пор, после Басанова, был ее любимцем тот же певчий Тарас, но недолго… Она вскоре же удалила его с Высоксы на родину. Затем появился из Москвы моряк, мичман Корсаков, и два года безвыездно гостил в Высоксе, а она даже собиралась за него замуж… Ему на смену явился чиновник наместничества. Одновременно были еще две прихоти… Наконец, явился два года тому назад Бобрищев. И только теперь охладела она и к нему… Но все они, эти любимцы, стоили ли они Аньки Гончего?
Этого Бобрищева, однако, она горячо любила, но как-то странно. Это была любимая, дорогая игрушка. Он был чрезвычайно красив, но неизмеримо ниже ее и умом и воспитанием. А между тем она не знала, что сама служит игрушкой в руках юного честолюбца. Бобрищев, хитрый и лукавый, гораздо более пролез, нежели другие нахлебники, явился в Высоксу к своей родственнице так же, как и многие другие, как мухи летят на мед, и с тем, чтобы выйти в люди.
Поселившись с названной теткой в качестве нового приживальщика в доме Басанова, Павел Бобрищев быстро освоился, быстро сообразил, как действовать, чтобы укрепиться в Высоксе и даже сделался влиятельным лицом. В первое время он поступил в коллегию, мечтая сделаться помощником Барабанова, а со временем как-нибудь вытеснить его и занять его место. За это время бывали в коллегии разные недосмотры и беспорядки, в которых, однако, Барабанов видел чей-то умысел, а не случайность.
Но затем, вскоре, он бросил занятия в коллегии, и нечто совершенно неожиданно переменило его планы. У красавицы барышни, если не владелицы, то полной хозяйки в Высоксе, был любимец уже года за два до приезда Бобрищева, а именно моряк Корсаков. Говорили, что связь эта кончится браком, но вдруг, нежданно, к удивлению всех, барышня отвернулась от него и заменила другим.
Приехал в Высоксу молодой человек, присланный наместническим управлением за какой-то справкой по поводу казенного заказа. Пробыв несколько времени, он съездил во Владимир и тотчас же вернулся обратно уже в отставке и на житье.
Хитрый Бобрищев был озадачен. Если барышня так легко и быстро переменила «жениха» Корсакова, красивого и умного, на невзрачного чиновника, то почему же и ему, Бобрищеву, не попробовать счастья?! Это будет почище места в коллегии… Стоит только понравиться барышне. А между тем Бобрищеву было это нетрудно. Он приехал совсем юношей, но теперь возмужал и уже обращал на себя внимание мужчин и женщин, причем мужчины находили его очень красивым, а женщины — или писанным красавцем, или совсем противным. Он казался красивой блондинкой, одетой в мужской костюм: совершенно светлые волосы цвета льна, небольшие темно-голубые глаза, но глядящие весело, Лукаво исподлобья, малый рот, нежное сложение и поразительно маленькие ножки и маленькие ручки, как у барышни, наконец мягкий девичий голос и такие же, совсем немужские движения, потому что в них было слишком много изящества. Одним словом, Бобрищев смахивал на прелестную куколку, и в него сразу еще при его появлении безумно влюбилась четырнадцатилетняя княжна Екатерина Никаева.
Разумеется, Сусанна Юрьевна могла тоже равно прельститься этой куколкой, но, наоборот, лишь потому, что начинала стареть.
Стареть не внешностью, а годами.
Высокская «барышня», о которой молва уже давно достигла до обеих столиц, была по-прежнему бесспорно, на взгляд всех, красавица. И не мало удивляло всех в Высоксе, что она с годами почти не менялась ни капли. Те, кто давно знал Сусанну Юрьевну, находил, что она только пополнела немного… Те же правильные черты и тот же чистый цвет лица, та же стройность и пышность стана и, наконец, та же вечная усталость или вечная лень, которая так очаровывала всех, очаровала когда-то и Дмитрия Басанова.
После покушения Гончего и раны, от которой она хотя болела и недолго, но которая повлияла на нее нравственно, она сильно похудела… После внезапной смерти старика-дяди, которая страшно поразила ее, хотя настоящая причина этого была никому неведома, она заметно изменилась и, пожалуй, даже постарела года на два.
Но началась в Высоксе новая жизнь. Гнета старика-дяди не было. Условия его смерти были позабыты, и Сусанна быстро оправилась снова и снова расцвела.
Сначала Сусанна не обратила на Бобрищева никакого внимания. Он был слишком юн, казался мальчиком. Но когда она заметила вдруг странное отношение к себе этого возмужавшего красавца, то, разумеется, тотчас же увлеклась им. Но если со стороны Сусанны вскоре явилось искреннее увлечение и чувство, то со стороны молодого человека было одно лукавство, один расчет честолюбца. Это был первый любимец красавицы, который нисколько не был увлечен ею, а лишь притворялся. Но теперь, спустя два года, отношения были уже не те. Судьба наказывала Бобрищева, так как красавица начинала иногда чувствовать к нему даже отвращение.
Между тем за все эти восемь лет Сусанна, вспоминая свое прошлое, давнишнее и недавнее, мысленно признавалась себе, что как оно ни странно, а между тем из всех ее любимцев, за исключением одного блестящего графа Мамонина, она все-таки, Бог весть почему, всего сильнее любила Аньку. Связь эта была сравнительно краткая, но бурная и оставила глубокие следы.
Злоба, явившаяся на смену любви после его злодейского покушения, будто не уничтожила в сердце следов какого-то необъяснимого чувства.
Сусанне самой казалось странным, что она всех своих любимцев до Аньки и после него сравнивала с ним, простым писарем из холопов. И в ее представлении Анька стоял головой выше всех. Отчего это произошло, она сама не знала. Потому ли, что этот простой писарь был умнее всех других, энергичнее, или потому, что не все любили ее, а этот боготворил?.. Когда Сусанне теперь случалось вспоминать ночную сцену на балконе, как Анька бросился на нее и в исступлении наносил удары ножом, — это воспоминание не возбуждало в ней злобы или ненависти… в ответ на эти мысли и ощущения она отвечала одним словом:
«Колдовство!..»
Чаще же всего, вспоминая об Аньке, она говорила себе:
«Вот этот любил! А эти все и не умеют любить, какие-то кисляи… Он мною владел, будто барин холопкой! А эти все — мелкота, собачонки… ни ума, ни воли, ни силы!»
И иногда у Сусанны являлось желание повидать этого злодея, который лишь случайно не убил ее на месте. Но вместе с тем, конечно, страх и боязнь этого человека оставались по-прежнему. Убежденная твердо в том, что такой человек, как Гончий, должен непременно продолжать ее любить, она всегда опасалась, что он явится в Высоксу снова. А если явится, то конечно, снова со злым умыслом из ревности и с отчаяния.
Поэтому весть, принесенная Змглодом, страшно поразила ее. Но чувство, связывавшее ее с этим прежним любимцем, было именно «колдовство», ибо Сусанна, долго размышляя, теперь решила не просто отделаться от этого пугала ее жизни, а отомстить за его два злобных деяния. И отомстить примерно: потешиться!..
Целых две ночи при совершенной бессоннице Сусанна думала об Аньке, что он в Высоксе, что, может быть, он среди ночи бродит по ближайшим к дому аллеям или у самого дома, может быть, даже около дверей винтушки. И не будь там рунта на часах, то она бы, конечно, могла бояться того же, что случилось с Аникитой Ильичом: долго ли подняться по лестнице, взломать дверь в спальне и зарезать ее точно так же, как Змглод задушил старика.
Иногда ей ясно представлялось, что Анька среди ночи одним ударом зарежет рунта, поднимется по лестнице и явится перед нею. Но она обезоружит его лаской, в объятиях, горячими поцелуями!.. И это будет не притворство. Да, не притворство, не обман… Что же это? Разве это не колдовство?! И вместе с тем, обдумывая, каким образом, поймав Аньку, отомстить ему, Сусанна обдумывала свою месть с каким-то наслаждением изуверки. Она мечтала о казни Аньки, как мечтают о свидании с любовником. Она мечтала и придумывала, как велит истерзать его, извести. И при этом млела, как если бы мечтала о том, как будет обнимать и целовать его.
И кончилось тем, что она надумала своему бывшему любимцу такую казнь, какую не придумал бы никогда сам строгий и грозный Аникита Ильич.
Впрочем, он всегда говорил:
— Людей наказывать должно — это учение. А терзать людей — грех!..
Сусанне же теперь именно страстно хотелось не наказать, не чувство мести утолить, как жажду, а утолить какое-то другое чувство, безымянное и ей непонятное. А утолить его можно только одним терзанием этого человека, и если возможно, то на глазах.
На третий день, когда Сусанна объяснила Анне Фавстовне, что она надумала, то женщина изумленно поглядела на барышню, разинув рот.
— Что же это будет? — сказала она. — Ведь это, пожалуй, дойдет не только до наместника, но и до столицы. И как бы вам неприятностей не нажить. Помните, была помещица Салтычиха. Ее по приказу государыни в подвал под колокольню Ивана Великого заперли и, как зверя, народу показывали. А ведь она этакое, что вы надумали, вряд ли делала когда. Уж лучше, право, прикажите тайно застрелить, как Денис Иванович сказывает.
— Нет! Я хочу, чтобы он жив был! — резко ответила Сусанна.
— Зачем? Чтобы мучить?
— Да. Именно, чтобы мучить. Знать вот, сидя тут, что он терзаем.
— Не знала я за вами такого, — удивилась Угрюмова наивно. — Я думала, вы добрая…
— И я не злая, Анна Фавстовна. Ни с кем я никакого мучительства творить не стала бы. Хоть бы даже собаку простую, и ту не стала бы терзать. А он, Гончий, другое дело. Я желала бы на своих глазах, даже своими руками его… его… не знаю, как и сказать… век бы желала терзать и была бы счастлива…
— Грех это. Только грех.
— Нет! Не грех, а колдовство! — вдруг вырвалось у Сусанны.
— Колдовство? — изумилась Угрюмова.
— Да… Вы не поймете… нечего вам и объяснять… Да я и сама хорошо не понимаю… но чувствую, да и как еще чувствую! Две ночи не спала я, почти глаз не смыкала… И о чем думала, что мне хотелось, что мерещилось?.. Если б вам сказать, вы бы меня за умалишенную сочли… Да. Это безумствование… Что ж? Может быть, я когда-нибудь и впрямь с ума сойду. Оно у нас в роду: прабабка моя да дядя троюродный умерли сумасшедшими. Но только одно знаю: Гончего истерзала бы я по ниточке!
— Ну, уж застряла у вас к нему злоба, — качнула головой Угрюмова.
— Застряла. Верно. Да только злоба ли?
— Неистовство прозывается это…
Сусанна удивилась слову, задумалась, а потом шепнула будто себе самой:
— Да, неистовство!
VI
Когда на четвертый день Дмитрий Андреевич вернулся с охоты и Сусанна передала ему весть, принесенную Змглодом, он по-своему отнесся к ней.
— Пустяки. Просто захотелось Высоксу повидать, а может, и нас. А чтобы он через восемь лет все отчаивался от любви, да злобствовал, да стал смертоубийствовать, — это уж Змглод сдуру надумал.
— Судите вы по себе, — отозвалась Сусанна презрительно.
— Как по себе? — удивился Басанов.
Но Сусанна не ответила, а через мгновение заговорила сурово и глухо:
— Я хочу его непременно словить и примерно наказать. Даже потешиться над ним.
— Как знаете. Мне все равно… ваше дело.
Сусанна вызвала к себе Змглода и дала ему от имени барина поручение выследить и схватить Аньку.
— Не убивать? Живьем доставить? — спросил Змглод угрюмо.
— Да, живьем. Сначала надо запереть в доме рунтов, а потом я увижу, надумаю, что с ним творить.
— Слушаю-с, — отозвался Змглод.
И с этого дня бывший обер-рунт взялся за дело. Для него оно было и не мудрено. Давно бросив все касавшееся до полиции, он тем не менее все-таки продолжал знаться и сноситься с людьми, которые когда-то тайно служили ему сыщиками.
Теперь он уже знал, где именно искать и накрыть Гончего. По всем сведениям, Змглод знал, что тот скрывается на проволочном заводе. Будь это прежде, он бы сейчас сам и один пошел бы арестовать смелого молодца. Но теперь бывший гроза Высоксы был уже совершенно другой человек: смерть старого барина будто надломила его и быстро состарила. Первое время после этой смерти он был совершенно спокоен, по временам даже крайне весел и счастлив. Радостная мысль, что Алла принадлежит ему и избавлена от старика, должна была заглушить всякое иное чувство.
Змглод однако долго откладывал свою свадьбу. Ему казалось, что Высокса сопоставит вместе два факта: кончину старого барина и его брак, а выводя отсюда заключение, придет к подозрению. Многие и многие знали, что между Денисом Ивановичем и Аллой Васильевной что-то есть, называй как хочешь, хоть дружбой. Равно многие знали, что Аникита Ильич обратил вдруг свое внимание на хорошенькую дочь Ильевых. И вдруг барин внезапно кончается, не болевши, а затем тотчас же Денис Иванович женится на той же Алле. Если прибавить к этому темные слухи и соображения, то явится как будто улика…
Однако, вследствие суеверного повода, Змглод прождал только сорок дней, но после поминок барина Высокса узнала о предстоящей свадьбе. А вместе с тем узнала и личное желание уйти на покой.
Должность обер-рунта была временно сдана другому, а Змглод, получив в награду большие деньги за свою службу при старом барине, выстроил себе домик около церкви. Награда, полученная им, смутила многих. Обитатели Высоксы никак не могли понять, за что Денис Иванович получил такие «страшнющие» деньги — десять тысяч рублей.
Сусанна убедила Дмитрия Андреевича дать эти деньги, чтобы обязать Змглода, сделать из него верного человека. Зачем это понадобилось, она Басанову не объяснила, но обещала в случае необходимости многое рассказать и объяснить.
Змглод, женившись и зажив хозяином в отдельном доме, устроенном на барскую ногу, как если бы он был не приживальщик, разумеется, был вполне счастлив. Алла, переставшая плакать от зари до зари, вскоре же за каких-нибудь два месяца, поправилась и стала вдвое красивее, чем когда-либо была. Все в Высоксе ахали, глядя на нее, и повторяли:
— Вот вам и Алла Васильевна! Какова стала? Писанная красавица! Это все, видно, любовь творит! Должно быть, она завсегда любила нашего Турку… Шутили вот все: черт с младенцем связался! А они вон что!
И действительно, Змглод и Змглодиха, как стали звать Аллу, были счастливы и благоденствовали. Но когда все чувства, волновавшие бурную натуру Змглода, были удовлетворены и улеглись, поверх всего всплыло новое чувство, до сих пор незнакомое… Месть была удовлетворена, ярый гнев остыл, звериная злоба, схватившая его за горло при мысли, что Алла мучится со стариком, стихла. Все это должно было исчезнуть с исчезновением виновника. В огненной, страстной, но мягкой и доброй натуре явилось другое, быстро усиливающееся, и наконец, уже преобладающее чувство. Заговорила совесть, угрызения ее и, наконец, нечто похожее на горькое раскаяние в содеянном.
Когда-то, только что отомстив, он чуть не с наслаждением вспоминал те минуты, когда под его сильными руками дергался в судорогах старик, стараясь сорваться с кровати… Теперь же это было страшным воспоминанием… И чем дальше, тем ярче вспоминалось все, будто судьба так хотела или Божий гнев послал это терзание. Возник вдруг вопрос на глубине совести: не ждать ли кары за содеянное? А вслед за этим и новое чувство, которого не бывало прежде, — боязнь за свое счастье.
Когда-то счастья не было, — Змглод не боялся никого и ничего, не боялся и смерти, теперь же, обладая сокровищем, Аллой, он боялся, что карающий Господь отнимет ее у него.
Разумеется, понемногу все более и более размышляющий и задумывающийся Змглод стал снова так же угрюм и суров, как был в последнее время жизни старого барина. И все в Высоксе дивились, что за чудной человек Турка? То прыгает радостно, то темнее ночи ходит, то опять радостный, то опять зверем смотрит, и неведомо почему!
Спустя около полугода со смерти старого барина и брака Змглода, он вдруг сразу стал еще угрюмее, сидел дома почти безвыходно, ни с кем не говорил и даже, наконец, стал смущать и веселую Аллу. Она стала приставать к мужу, что с ним творится: следовало бы им радоваться, так как они должны ждать ребенка, а он будто несчастлив.
Причина внезапной перемены к худшему была простая, но, конечно, в Высоксе никто не мог догадаться, какая она была. Случилось это в те дни, когда кто-то в барском доме впервые заорал, бросился бежать по апартаментам и заявил, что видел старого барина. Не прошло нескольких дней, как, разумеется, под влиянием страха и толков другой какой-то дворовый тоже видел Аникиту Ильича.
Прошел месяц, и вся Высокса была уже убеждена, что старый барин ходит. Если подобное открытие поразило всех, то было, конечно, громовым ударом для умного, но суеверного человека восточного происхождения.
Если «он» ходит, то кому же больше всех надо его бояться?
С этих же дней Дениса Ивановича уже никогда не видали в доме при свечах. Едва только наступали сумерки, как он, будучи у барышни Сусанны Юрьевны или у Дмитрия Андреевича, спешил уйти из дому. Сначала этого не замечали, но затем все заметили и дивились.
Понятно, что если бы Змглоду предложили теперь провести ночь в доме, то он, много раз в жизни доказавший свою смелость и отвагу в каком ином деле, ни за что бы на это не согласился. Если бы ему даже предложили в большом доме целое барское помещение, то он из своего домика не переселился бы ни за какие сокровища.
Единственное его утешение именно и заключалось в том, Что если «он» ходит, то по своим местам и по старым следам, и что «он» не может придти в домик, выстроенный уже после его смерти.
Если суеверие нелепо и бессмысленно, то средства, действительные против него, тоже нелепы и тоже бессмысленны. В своем домике Денис Иванович среди ночи бывал спокоен. «Барин здесь при жизни не бывал! — думалось ему. — Все эти стены, полы, двери, бревна и доски были при его жизни деревами в лесу… Будь я в каком старом доме и в избе, куда он за свою жизнь, может, быть, когда, и заглянул, то, пожалуй бы, теперь по старым следам и пришел. А сюда не может…».
Впрочем, к концу года со дня смерти старого барина, Денис Иванович стал снова спокойнее, бодрее, а иногда и весел. На это повлияло то обстоятельство, что в домике его раздавался крик ребенка, сына, которого отец, конечно, обожал. Ребенок был совсем турка, он был и чернее отца с большущими черными глазами, курчавый, с волосами черными, как смоль, и с какой-то тенью на верхней губе.
— Усы! Усы! — закричала однажды Алла. — Ей-Богу, усы!
Действительно, у младенца на верхней губе при известном освещении ложилась какая-то тень, а обитатели Высоксы, конечно, не преминули шутить, что у Турки родился младенец с усами и бородой.
Но еще до появления детского крика в домике, который будто преобразил весь домик, на Змглода ободряюще подействовало нечто иное.
Сразу прекратилось в Высоксе то, что смущало его, отравляло жизнь.
Когда в доме хождения старого барина зачастили и когда то и дело кто-нибудь из людей и из нахлебников видал его и когда, наконец, однажды случился страшный переполох в квартире барышень Тотолминых, немедленно изгнанных с Высоксы, — был объявлен строгий приказ из канцелярии.
И угроза барина сразу подействовала! Старый барин начал реже являться. Затем наказание, обещанное заранее и неуклонно приводимое в исполнение каждый раз, окончательно возымело отрезвляющее действие: никто никогда и нигде больше не видал покойного барина. И если Высокса избавилась от гнета суеверного страха, лежавшего на всех, и если все вздохнули свободнее, то Змглод, конечно, стал вполне счастлив.
У «Турки» было уже пятеро детей и в том числе девочка, такая же светловолосая и светлоглазая, как ее мать, и совсем уже не похожая на своего братца, которого прозвали «арапчонком». Когда доброму Змглоду случилось задумываться о своем деянии и когда его сильнее схватил за сердце приступ раскаяния, то он тотчас же начинал уверять себя, что все вот эти дети нечто собою свидетельствуют.
Их существование доказывает, что им Богом самим суждено было явиться на свет… А они не могли бы явиться, если б жив был старик, им умерщвленный.
Теперь, когда через семь-восемь лет снова явился Аникита Ильич, Змглод отнесся к делу совершенно иначе… Оно казалось ему не страшным, а только крайне загадочным. Если тогда все вдруг прекратилось из-за строгих кар, то и теперь все можно прекратить, только нужно еще круче взяться за дело. Очевидно просто шалит кто-то в доме. Но кто и зачем?
Однако, этот же умный и энергичный, но суеверный человек был смел и здраво рассуждал, только сидя у себя в домике. Если бы барышня предложила ему заняться этим делом лично, проводить ночи в доме и хитро выследить, что собственно такое творится, то у него не хватило бы духу…
— Все-таки Бог ведает, что это? А ну, вдруг? — думал и говорил жене Змглод.
Иное дело было теперешнее поручение барышни выследить, схватить и доставить живьем Гончего. Смелый головорез, который, конечно, дешево в руки не дастся, страшил Змглода менее, нежели та странная, да еще и сомнительная тень, которая гуляла и теперь снова гуляет в барском доме по ночам.
Денис Иванович охотно, даже весело, взялся за поиски бродящего в Высоксе Гончего. Живя давно на покое, он был будто рад тряхнуть стариной, показать обер-рунту Егору Ильеву, как надо действовать…
VII
Басанов, вернувшись с охоты со своей свитой только на четвертый день, заявил, что он хочет «праздновать».
Празднование чего бы то ни было, дней рождений и именин членов семьи и самых больших праздников, происходило всегда на один лад. Бывал большой обед, длившийся очень долго, после которого следовала иллюминация дома и коллегии, а затем дорогой фейерверк, пускаемый над озером с плотов и лодок, нарочно для этого придуманных еще самим Аникитою Ильичом, который особенно любил всякие потешные огни.
На этот раз нового было только то, что Басанов пожелал иллюминовать фонариками, шкаликами и большими смоляными бочками большую часть огромного сада. Вместе с тем он приказал приостановить работу на сутки во всех заводах, а вместе с тем сделать угощение всем рабочим на площадке перед домом.
Это распоряжение рассердило Сусанну Юрьевну, хорошо знавшую, к чему вели и приостановка и угощение. Это всегда приводило к застою и беспорядкам в делах. После такого пирования пропадала целая неделя, так как все напивались пьяно и продолжали опохмеляться без конца!.. Если при Ани ките Ильиче никогда не бывало пьяных на улице, то теперь после этих празднеств повсюду целыми днями валялись мертво-пьяные, причем бывали буйство, драки, целые битвы «стенка на стенку» заводских рабочих и, разумеется, смертоубийства.
Узнав о распоряжении Дмитрия Андреевича, Сусанна стала уговаривать его не мешать заводскому производству всякими прихотями, так как и без того дела идут неважно.
— Кончите вы тем, что разорите заводы и пустите по миру двух сыновей! — сказала она гневно.
— Михалис меня очень просит, — смеясь отозвался Басанов. — Он собрался жениться… Ну… хочет праздновать. На празднике объявит, кого выбрал…
— Этот безродный проходимец должен был бы счастливым себя почитать, что живет здесь на хлебах, — резко отозвалась Сусанна. — А не то, чтобы еще прихотничать. Будет Высокса праздновать еще его затеи?! Потеха! Что бы сказал дядюшка, если б жив был!..
— Кабы дядюшка был жив, — холодно, но резко вдруг отозвался Басанов, — то мы, и вы и я, теперь с сумой ходили бы и были бы много похуже и пониже Михалиса. Вы зазнались…
— Я?! Я зазналась? — воскликнула Сусанна.
— Не гневайтесь! Вы все корите, что Михалис — проходимец. Ну, вот я и сказываю, что мы тоже с вами чуть не попали тому восемь лет в такие же проходимцы.
— Зато теперь царей за пояс заткнуть желаем, — выговорила Сусанна.
— Надоели мне эти попреки! — проворчал Басанов.
Сусанна не ответила и вышла из комнаты.
Действительно, Басанов, явившийся в Высоксу бедным гвардейским офицером, быстро, даже слишком скоро, привык к своему новому положению. Все замашки важных вельмож его времен тотчас явились и у него.
При какой-нибудь прихоти или затее, которая должна была стоить сумасшедших денег, Сусанна всегда решалась противоречить ему, напоминать те времена, когда он рассчитывал каждый рубль. В крайнем случае она напоминала, что состояние принадлежит собственно его жене. Конечно, Басанову эти напоминания не нравились, он морщился, но, по добродушию, соглашался бросить иногда чересчур дорогую затею.
Главное, однако, что было всегда между ними яблоком раздора — это происходившие по милости гостей в Высоксе пиршества, вернее, попойки и азартные игры.
В особенности же часто спорили и ссорились они из-за двух любимцев Дмитрия Андреевича, которых Сусанна почему-то сильно недолюбливала.
Один из них был прежний обитатель Высоксы, другой — вновь явившийся. Первый был князь Давыд Никаев, теперь характерный брюнет с ярким грузинским типом, но возмужавший за эти восемь лет настолько, что ему, казалось, можно было дать за тридцать лет. Другой, случайно попавший в Высоксу года три тому назад, был такой же чернобровый, как и князь, но черномазый, при этом некрасивый, крючконосый и лет на десять старше. Это был грек Михалис.
С его-то именно появлением и явились в Высоксу карты. Если за это время азартные игры были как бы поветрием, переходившим часто кое-где в повальную болезнь, то именно благодаря появлению в России таких личностей, как Михалис.
Приехав в Россию еще двадцатилетним, безродный грек при покровительстве какого-то важного вельможи ухитрился поступить в гвардию, но достиг только чина сержанта и вышел в отставку. Уже на третий год своей службы в Петербурге он избрал своей специальностью карточную игру. И вскоре у него завелись средства. Играл ли он честно или был шулером, было неизвестно в Петербурге, а равно было неизвестно и теперь в Высоксе.
Он постоянно выигрывал, обыгрывая и самого хозяина, обыгрывая и всех его гостей, но, несмотря на то, что в числе этих картежников-гостей были тоже своего рода специалисты, Михалиса ни разу не только никто не поймал в шулерстве, но даже и не заподозрил. Иногда греку случалось проигрывать большие суммы, но замечательно то, что он всегда отыгрывал их назад. И это все знали. Когда он приходил в отчаяние, то все утешали его, что в следующий же раз он все вернет и еще выиграет вновь куш.
Приехав однажды в Высоксу на несколько дней якобы с каким-то поручением к Басман-Басанову от его товарища по полку, Михалис остался, прожил месяц, два и так сумел понравиться Дмитрию Андреевичу, что он попросил грека вернуться и прожить все лето.
Разумеется, Михалис явился, прожил лето, но осенью и не помышлял уезжать, имея уже квартиру в три комнаты и ежемесячное жалование якобы за то, что заведовал пирами, обедами и ужинами. Умный, хитрый, алчный и завистливый Михалис сумел поладить со всеми, но добился только того, что его терпели, ибо никто в Высоксе не был с ним дружен. Как будто чутье говорило всякому, что грек — человек злой и искусный притворщик. Но главное, чего Михалис никогда достигнуть не мог, как ни выбивался из сил, было расположение к нему самой «барышни». Несмотря на все его усилия войти в доверие к ней и сделаться равно и ее наперсником, Сусанна с трудом выносила его. Разумеется, главное, в чем она его упрекала, было появление картежной игры.
Точно так же не любила Сусанна Юрьевна и князя Никаева, хотя не могла вполне отдать себе отчет, что руководило ею в этой неприязни. Вероятно, чутье подсказывало Сусанне, что князь Давыд не может быть тем, чем притворялся. Будучи когда-то, хотя и недолго, соперником, он не мог, по соображению Сусанны, сделаться теперь первым другом того, кто отнял у него и любимую девушку и огромное состояние.
Сусанна лучше других знала, как все приключилось… Если бы не внезапная смерть Аникиты Ильича то, конечно, теперь Высокса и все заводы принадлежали бы княгине Никаевой. Ту роль, которую играет Дмитрий Андреевич, играл бы теперь князь Давыд Анатольевич. Если она сама помнит это живо и все в Высоксе помнят, то неужели же сам князь Давыд забыл это?.. Сусанне казалось, что если Михалис лукав и хитер, то его все-таки может за пояс заткнуть Никаев. Она часто спрашивала себя: любит ли Давыд по-прежнему Дарьюшку? Иногда она даже приглядывалась, подсылала других подглядывать, но никогда ничего подозрительного не оказывалось.
«По всей вероятности, — решила она мысленно, — Давыд был сильно влюблен не в Дарьюшку, а в ее огромное состояние. И если он теперь злобствует тайно и ревнует Басанова, то конечно, не к Дарьюшке, а к Высоксе…».
Во всяком случае тесная дружба его с Басановым казалась Сусанне неестественною.
Князь Никаев, долго отлучавшийся в Москву, вернулся вновь в Высоксу только года с полтора тому назад, но тотчас сравнялся с Михалисом и даже стал ближе к Басанову. И если Михалиса все терпели, то князя Давыда все равно любили: и нахлебники, и гости, и дворня. Одна Сусанна Юрьевна равно ненавидела обоих и если бы ее воля, то конечно она тотчас же изгнала бы обоих с Высоксы.
И часто она гневно толковала об этих двух людях с тремя своими приближенными: с Угрюмовой, Змглодом и новым любимцем Бобрищевым. Все трое равно не любили ни князя, ни грека. Умный Змглод тоже считал Никаева не в пример ехиднее Михалиса.
Празднество, против которого восстала Сусанна Юрьевна, все-таки состоялось.
Большой обед на семьдесят человек, шумный, гулкий, «непорядливый», по мнению и барыши и даже кроткой барыни, длился с пяти часов до сумерек. Вина было много больше, чем блюд. Двух московских гостей взяли под руки лакеи и увели из-за стола… Денис Иваныч, тоже приглашенный вместе с женой, полусурово, полунасмешливо переглядывался с Сусанной Юрьевной и изредка качал головой, осуждая все, что творится и о чем и не грезилось при старом барине. После обеда гости сильно навеселе разбрелись по саду. Когда стемнело, все снова собрались в доме смотреть потешные огни на озере.
Ракеты, колеса, стрелы, бураки и пыжи следовали без конца… Внизу, под окнами барского дома, на площадке чернела и ревела сильно, через край, угощенная толпа заводских крестьян.
Всюду в этом веселье чувствовался разброд, отсутствие правящей руки.
— Доживем мы скоро до беды, — сказал Змглод, встретив Сусанну Юрьевну в зале, среди толпы гостей, совершенно бесцеремонно толкавшейся вокруг нее и вокруг барыни Дарьи Аникитичны.
— До какой? — сурово спросила Сусанна. — До разоренья или до чего другого?
— Разориться мудрено, — ответил Змглод. — Два года степенства покроют десять лет баловничества. Доходы велики — страсть! А я боюсь иной беды.
— Какой?
— Сам не знаю, Сусанна Юрьевна. Уж очень все распустилось… И Аникита Ильич опять ходить начал!
— Поймай его, — как-то злобно отозвалась она.
— Нет. Не мое это дело. Я своими был занят и поважнее, тоже ловил… Зато и словил! — самодовольно вымолвил он.
— Что ты говоришь, Денис Иваныч?
— Говорю: ловил… ну, и словил!
— Кого?
— Сами знаете. Что же спрашивать?
— Аньку?
— Его самого.
— Когда?
— Сейчас… да-с. Сейчас в толпе накрыли мои двое молодцов.
— Правда ли, Денис Иваныч? — выговорила Сусанна взволнованно.
— Уже сидит, барышня. Сидит, заперт в полицейском доме. Взят, как вы приказали, — живьем!
Сусанна провела рукой по лицу и тяжело вздохнула…
VIII
Онисим Гончий действительно был во время празднества выслежен и схвачен около дома в толпе.
Восемь лет нелегко прошли для Аньки, и теперь, будучи немногим больше тридцати лет, он имел с виду все сорок. Существование его было душевною пыткой. Анька, прислушиваясь к русским песням, где говорится, как «девица-краса погубила молодца», понимал, что это не зря поется. Он был живым примером сам. Он сознавал и чувствовал, что загублен Сусанной Юрьевной и что, по-настоящему, ему остается только одно — наложить на себя руки.
Когда-то в порыве злобной ревности он решился ее зарезать и долго жалел, что это не удалось от пустой случайности. Затем после безумной вспышки явилось глубокое и более тихое чувство к «злодейке», как называл он Сусанну. И он был рад, что его покушение не удалось, что она жива и выздоравливает. Но если он мысленно соглашался, чтобы она оставалась в живых, то в нем явилось все-таки желание лишить ее всего, чем она пользуется, а вместе с тем отомстить и сопернику.
Твердо решив это, Анька бесстрашно пошел к Аниките Ильичу… И все вышло так, как он. хотел и предполагал. Но только… на несколько дней! Награжденный за донос деньгами и получив вместе с отцом отпускную, Анька замедлил свой отъезд, чтобы насладиться видом барышни и офицера, изгоняемых барином с Высоксы. Но однажды утром в домик старика Абрама прибежал кто-то и объявил весть:
— Старый барин за ночь скончался…
И Анька в первое же мгновение чутьем догадался и вскрикнул:
— Они его уходили!..
Разумеется, узнав затем, что всем теперь заправлявшая Сусанна Юрьевна уже повенчала своего любовника с молоденькой барышней, он понял, что его могут тотчас же схватить вместе с отцом, отнять вольный лист и сделать снова крепостными. И оба, отец и сын, тотчас же тайно уехали в Муром, а оттуда в Нижний Новгород.
Деньги, которые получил Анька, тысяча рублей, были большими деньгами для человека в его положении. Он вместе с отцом тотчас же занялся торговлей: открыл железную лавку, а при энергии и сметке сразу дела его пошли настолько хорошо, что через три года он уже записался в купцы. Абрам был бы совершенно счастлив, если бы не мешал этому единственный и обожаемый им сын… А Анька был в таком положении, что даже посторонние замечали и говорили, что у этого человека есть что-то особливо худое в жизни. А было неизлечимое чувство к злодейке.
Анька был под страшным ярмом своей любви. Ему казалось, что эта любовь — целая гора, навалившаяся на плечи, которая давит его и, конечно, рано ли, поздно ли раздавит. Старик Абрам сначала старался убедить сына жениться, зажить целой семьей, но затем вскоре не решался даже и упоминать о такого рода мечтах.
Старик решил, что такие люди, как его сын Анька, видно, и живут не так, как другие, и чувствуют иначе. Да и трудно было простому писарю из крепостных холопов позабыть, как любила его и страстно ласкала красавица-женщина, притом барышня-дворянка и племянница грозного высокского барина. Как же после нее да полюбить дочь соседа-сапожника, или сестру кабатчика, или дочь просвирни — этих миловидных и глуповатых девушек, которых старик прочил и сватал сыну.
Разумеется, на предложения отца Анька грустно тряс головой и отвечал:
— Пока я жив, батюшка, до тех пор у меня и в голове и в сердце только и будет, что Сусанна Юрьевна. А что такое у меня на душе к ней, я и сам не знаю! Может, ученые люди-дворяне такое дело распутать могут, а мне не под силу. Знаю я вот хорошо, что без нее жить не могу, а подвернись она мне под руку теперь, я бы тотчас зарезал ее, а за ней и себя самого! Сдается мне, надо нам жить вместе или обоим вместе на тот свет уходить.
Абраму оставалось одно только утешение — ждать, что со временем понемногу сын излечится от своего чувства. Анька надеялся на это тоже, а между тем жил только вестями с Высоксы и раза три решился тайком наведаться, чтобы хотя б издали увидеть Сусанну. Разумеется, каждый раз он возвращался еще несчастнее. Вид Сусанны только подливал масла в огонь. При этом через друзей Анька хорошо знал, что у барышни, которая теперь стала совсем независима и не имеет нужды стесняться, чередуются любимцы. И во второй раз, когда он наведался в Высоксу, едва вновь не приключилось страшное дело — новое покушение или же убийство…
У барышни завелся новый обычай — ездить в лес за грибами. Анька знал через приятелей, в какой день и где будет барышня с гостями, приживальщиками, горничными и сенными девушками по грибы. И с ночи был он уже на назначенном месте. Ему на этот раз хотелось видеть Сусанну еще ближе, быть может, даже подойти к ней, перепугать ее насмерть, но обнять, расцеловать и убежать… не только в Нижний, но хоть и на край света.
Перед полуднем действительно куча всяких экипажей приехала на место и все приезжие рассыпались по лесу. Анька искусно держался в чаще, избегая тех, кто знал его в лицо и надеясь, что можно будет на один миг подойти или, вернее, подбежать к Сусанне… И он действительно, среди чащи вдруг увидел ее. Но около нее шагал какой-то очень молодой барин… И Гончий увидел, понял, что это «теперешний». Он шел, обняв Сусанну и изредка целуя… Анька вскрикнул, схватил себя за волосы, а затем стал себя обшаривать… Но на нем ничего не было… Будь хоть небольшой ножик, он сумел бы в лесу похерить их обоих! И он бросился бежать прочь… Конечно, вернулся он домой в Нижний еще более несчастный.
Теперь Гончий снова, в четвертый раз, явился в Высоксу, но сам не зная зачем…
«Только глянуть на нее!» — думал и повторял он.
Иногда же он спокойно рассуждал:
«Или уж похерить ее? Будет на том свете, мне станет легче жить на свете. А нет, тогда и себя тотчас ухожу, а этак жить нельзя… в аду кромешном легче…»
Давно все рассуждения, все мучения из года в год сводились к одному чувству и определению: «Этак жить нельзя!..»
Первые разы, когда Анька наведывался в Высоксу и укрывался каждый раз также на Проволочном заводе, присутствие его не было известно. Но порядки были уже не те. С тех пор, когда Змглод ушел на покой, а полицией заведывал брат Аллы, Егор Васильевич Ильев, Анька мог бы появиться даже в самой Высоксе и все-таки не был бы замечен. Однако на этот раз он вел себя особенно неосторожно и почти не укрывался. Почему-то больше, чем прежде, надеялся он на то, что его тронуть нельзя. Он — нижегородский купец, а не крепостной холоп Басман-Басанова. А прежнее дело его рук было прощено покойным барином. Неужели же его можно теперь опять схватить и судить?
Гончий рассуждал так же, как и Змглод, с той разницей, что он не знал о возможности быть судимым и теперь за когда-то совершенное преступление. Вместе с тем он не мог знать, как именно относится к нему теперь Сусанна. В нем было то же глубокое чувство, переходившее от мимолетной злобы к обожанию, а она, может быть, давно простила его, ибо давно и думать забыла о нем.
Он знал когда-то, как сильно возненавидела она его за то, что едва не умерла от его руки, а затем эта ненависть, сказывали ему, еще более усилилась, когда из-за него же она чуть не пошла по миру, позорно прогнанная. Теперь он был убежден, что она за эти восемь лет вряд ли вспомнила о нем хоть раз, гадая, где и что он, и небось думает, что он давно забыл ее. Сусанне же почему-то представлялось именно то, что было в действительности. Что-то подсказывало ей, что Анька по-прежнему любит ее, несмотря на то, что решился было зарезать, а любя по-прежнему, он легко решится погубить ее и теперь на тот же лад.
И уверенный, что о нем и думать забыли, Анька, явясь в Высоксу, почти не скрывался. Узнав о празднестве и потешных огнях, он смело явился вечером к самому дому… Не огни его привлекали, не веселье… Он надеялся увидеть вблизи ее, злодейку свою. Говорили, что барин с барыней и с барышней выйдут к народу… И Анька ждал в толпе увидеть Сусанну в двух шагах… но вместо этого вдруг нежданно на него бросились четыре рунта, связали его по рукам и увели в полицию.
Гончий был более озадачен, нежели озлоблен. Он знал, что, как вольноотпущенный, да еще вдобавок «торговый человек», он не может зависеть от произвола помещиков Высоксы: его могут лишь сдать в город властям.
Но возникал другой вопрос, вопрос, который часто и давно задавал себе Гончий, но решить никогда не мог… Подьячие и приказные[23], к которым ему случалось обращаться в Нижнем Новгороде, решали дело на разные противоречивые лады. Гончий хотел знать: достаточно ли прощения его злодейского поступка со стороны его бывшего барина, или он по-прежнему может еще отвечать за покушение на убийство. Сначала он опасался несколько и рассчитывал только на то, что в Высоксе не знают его местопребывания. Но затем шли год за годом… Два-три приятеля его, знавшие, где он живет, с его же разрешения рассказали в Высоксе, что он, Онисим Гончий, купец и торгует в Нижнем… Но это не повело ни к чему… его не тронули. Стало быть, о нем и думать забыли.
Между тем Анька не знал того простого обстоятельства, что сведения о нем дошли только до Дмитрия Андреевича, а он по лени и беспечности ни слова не сказал об этом Сусанне.
«Узнает она, — думалось Басанову, — захочет, пожалуй, мстить, ловить, судить… А стоит ли того? Дело давнишнее!..»
Так прошли годы… На пятый год Анька впервые побывал в Высоксе, чтобы видеть Сусанну…
Теперь минули и все восемь лет, и он смело, не опасаясь ничего, явился снова в Высоксу и, живя на проволочном заводе, явился и на празднество. И вдруг он схвачен и заперт в доме рунтов… Очевидно, за старое злодейское деяние, которое простил ему покойный Аникита Ильич, но за которое можно его еще судить в наместничестве… Но можно ли? Одни приказные уверяли, что можно, другие — что нельзя.
Во всяком случае сам барин Дмитрий Андреевич, как бы ни желал, не имеет власти над ним. Впрочем, он заведомо добрый, известный теперь на всю округу, как добрейший барин из всех добрых. Конечно, не он затейник этого ареста. Затеяла она, Сусанна Юрьевна… стало быть, она не забыла ничего!
IX
Нежданная поимка Гончего не просто удивила, а озадачила всю Высоксу.
— Зачем? Ведь восемь лет! Шутка ли? Да и вольный он. Что же с ним делать? — удивлялись и толковали все.
Через сутки после того, как Анька был схвачен, толки усилились, и всех охватило какое-то волнение. Денис Иванович и Анна Фавстовна подлили масла в огонь…
Змглод заявил, что Аньку властям не выдадут, а распорядятся с ним сами господа, вернее, барышня сама.
Угрюмова, охая и вздыхая, поведала кой-кому, что барышня уже надумала, как примерно наказать Аньку… А надумала она такое, что все ахнут. Даже наместничество ахнет. И как бы беды не было… Что с барышней приключилось, чтобы этакое надумать, — даже и уразуметь нельзя! Барышня умная и не ехидная!.. А теперь такое измыслила, что на всю округу набат будет. Одна надежда, что Дмитрий Андреевич не поддастся и своего согласия не даст. И давай-то Бог! А то беда бедовая…
Осуждение барышни самой Угрюмовой, не хотевшей однако разъяснить своих загадочных слов, конечно, подействовало сильно на всех. Вдобавок барин, узнавший о поимке Гончего от обер-рунта Ильева, только удивлялся… Все сделано было без его ведома… А Ильев доложил, что он ни при чем. Денис Иваныч все дело вел, и по его приказу рунты выследили и накрыли Гончего во время иллюминации.
— Что прикажете? — спросил обер-рунт.
— Да ничего… — нерешительно отозвался Басанов. — Переговори с Сусанной Юрьевной. Ведь она это… она…
И Басанов прибавил:
— Чудит! Да уж воистину чудит.
Когда среди дня Дмитрий Андреевич перед самым обедом спросил у Сусанны, она ли приказала схватить Гончего и что намерена предпринять, то получил в ответ:
— Понятно, я указала… А что с ним делать, я всем завтра скажу. Сегодня нельзя.
— Отчего же завтра? — удивился Басанов. — Будто и невесть что… тайна какая будто…
— Не тайна, но я еще за ночь поразмыслю, прежде чем делить: семь раз отмерь и один отрежь.
Наутро Сусанна явилась к Басанову говорить о деле… Подобные посещения бывали крайне редко, и лишь при особо важных обстоятельствах и случаях.
Когда она вошла к Басанову, он тотчас заметил, что она взволнована, а вместе с тем заметил и нечто, чего не любил в ней, даже отчасти как бы побаивался.
Сумрачный взгляд и сильно сдвинутые брови Сусанны предвещали всегда одно: неприятную стычку, вернее, нападение с ее стороны, так как Дмитрий Андреевич никогда от добродушной лени не нападал, а только уступал.
Сусанна Юрьевна объяснила, что пришла переговорить об Онисиме Гончем.
— Ну-с. Что же? — спросил он.
— Я ему надумала достойное по вине его наказание, но так как все от вас зависит, то я и пришла вас… вам объяснить…
И Сусанна объяснила прежде всего все, что слышала от Змглода, т. е. невозможность сдать Гончего властям, которые присудят его в Сибирь, а он вернется оттуда снова, чтобы отомстить сугубо и ей и ему, Басанову.
— Верно… Конечно, так, — отозвался Басанов. — И поэтому самое лучшее дело было бы ничего не затевать… оставить, бросить.
— Бросить! — рассмеялась Сусанна раздражительно. — Видно, не вас он хватил ножом, а то бы вы иначе рассуждали.
— Послушай, Сан на! — заговорил Басанов по-старому на «ты», что бывало теперь в редких случаях с глазу на глаз, и только когда он бывал взволнован. — Ты умница. Рассуди сама холодно, не кипятись. Что лучше: бросить дело, забыть, что было чуть не десять лет тому, или сызнова начинать и опять ему под нож попасть… через год, два… когда он из Сибири бежит? Что разумнее и толковее, осторожнее?.. Неужели же не можешь простить ему?.. Сама же ты сказывала мне не раз, что это он из-за большой любви к тебе на злодейство пошел. Прости и брось.
— Нет! Нет, не могу! — замотала головой Сусанна. — Хоть убейте, не могу.
— Что же вы хотите делать с ним? — холодно спросил Басанов.
— Я ему надумала простое наказание — самое легкое, но для него худшее, чем смерть: при его гордости, оно хуже наказания плетьми или каторгой.
— Что же такое? — тревожно спросил он.
Сусанна Юрьевна объяснила, что надумала сделать нечто, о чем слышала в молодости, будучи еще девочкой. Сосед ее дяди таковое надумал и зачастую так наказывал.
— Поставить столб и конурку… Вот здесь в саду хоть перед окнами… И посадить его на цепь, как собаку! — твердо и решительно выговорила Сусанна.
Басанов понял наполовину и переспросил.
— Приковать к цепи за ногу или за руку к столбу… И пусть ходит кругом столба, как собака… А народ будет глазеть на него. А это ему нож острый — хуже плетей и Сибири.
— Надолго ли? — коротко вымолвив Дмитрий Андреевич…
— Не знаю. Там видно будет.
— И зима подойдет, — он все сидеть на цепи будет?
— Увидим. Зимой перевести можно в горницу в тот же рунтовой дом.
Дмитрий Андреевич закачал головой.
— Совсем по-бабьи затеяно, — выговорил он. — Да, по-бабьи. А вместе с тем таково ехидно, что если он с цепи сорвется, скажем, как собака… то уже будет бешеный пес… и вас первую отправит на тот свет.
— И пускай…
— Бабье, злое, но не разумное рассуждение, а то просто младенческое рассуждение. Сказывают дитяти: ушибешься! А он отвечает озорно: «И пускай!». Вот мой балованный Олимпий так-то матери отвечает.
— Все это к делу не идет!.. Я пришла вам объяснить, что я хочу… и просить ваше согласие.
— Не могу… не могу я на этакое… — заволновался Басанов. — И не из сердоболия… а из-за срама. Стыдно… да… бабьи затеи исполнять. Стыдно людей. Сажать человека на цепь, как собаку, и потешаться! Все осудят. Вся Высокса ахнет и осудит. Да наконец и противу закона! Наместник вступится и прикажет прекратить изуверскую, глупую и недостойную дворянина потеху.
— Так вы этого разрешения мне не дадите? — выговорила Сусанна Юрьевна запальчиво и как бы грозясь.
— Санна! Дорогая… Ну, рассуди…
— Нечего мне рассуждать. Я давно рассудила. И последний раз спрашиваю: дадите разрешение все по-моему приказать сделать или нет?.. Если нет, то я… я оповещу всю Высоксу, как вы стали ее владельцем…
— Я не знаю, как я им стал… — глухо заговорил Басанов, меняясь в лице. — Я ничего худого не сделал. Вы мне после содеянного все пояснили. Я не виноват ни в чем… Кто затеял и кто совершил — не мое дело… но оглашать таковое — все-таки… отчаянное безумие!
— Так дайте ваше согласие казнить Аньку, как я надумала.
Басанов молчал.
— Ну-с. Что же? Хотите пораздумать, с Михалисом посовещаться. Что ж, я подожду хоть до завтра, — усмехнулась Сусанна насмешливо.
— Как знаете! — махнул рукой Басанов. — Срамите и себя, и меня. Всю Высоксу срамите. Впрочем, как в губернии узнают, сейчас отрядят сюда приказных…
— Откупимся. А Анька все-таки на цепи останется!..
Сусанна поднялась и спросила как бы официально:
— Извольте разрешить, Дмитрий Андреевич, ставить столб в саду, на кругу, где качели?
— Как знаете. Говорю: срамите… Я всем буду сказывать, что это не я, не моя затея…
— Я все на себя беру.
И Сусанна Юрьевна, довольная, чуть не радостная, пришла к себе наверх. Вызвав Пастухова и обер-рунта Ильева, она приказала им тотчас же распорядиться.
И вся Высокса действительно ахнула, а равно вся без исключения осудила барышню-затейницу и барина-«потакателя».
Через сутки вблизи от дома, на кругу, был врыт большой столб. На нем был железный обруч с цепью довольно длинной, но не тяжелой, на конце которой был наручник…
X
На следующий день перед полуднем куча народа толпилась в саду, в ожидании привода виновного к месту позорища. Тут были и нахлебники, и дворня, и заводские… Все глядели сурово или смущенно… Происходящее было очевидно им не по душе.
И в самый полдень все вдруг зашумело, загудело, задвигалось.
Двое рунтов вели через сад Гончего, связанного бечевой по рукам, держа два конца бечевы. Еще две пары рунтов шли впереди и сзади. Гончему еще поутру было объявлено, какое его ждет наказание за содеянное им когда-то преступление, оставшееся без возмездия.
— К цепному псу приравняли, — отозвался он глухо, но спокойно.
И затем через несколько минут он прибавил, уже усмехаясь:
— Доложите-ка вы барину вашему, чтобы указал меня заморить на цепи. А коли спустят, или я сам сорвусь, то многих перекусаю, начав с него, с первого.
Теперь, идя с рунтами на место позорища, Анька был бледен и шел, опустив глаза. Вся толпа при его появлении смолкла… Уж будучи около столба, Анька удивился царящему молчанию и быстро окинул глазами всех толпящихся… Никто не ухмылялся, враждебных взглядов тоже не было. Все смотрели на него странно — и если не прямо сочувственно, то сурово негодуя.
— Вон что ваш молодой барин творит, — презрительно произнес Гончий, обращаясь ко всем.
— Это не он! Барышня! — крикнул робкий голос из задних рядов.
— Люби кататься, люби и саночки возить, — раздался другой голос громкий, веселый, довольный.
Это был князь Давыд, подходивший к столбу.
— Пришел я тебе да и всем сказать, Онисим, — продолжал князь, — что эта затея измышлена Сусанной Юрьевной. Ей спасибо скажи. А Дмитрий Андреевич такового не оправдывает. И ты на него не злобствуй.
Рунты взяли Гончего за правую руку и надели ему железный наручник около кисти руки и замкнули…
Между тем в верхнем этаже, в маленькой комнате у окна, выходившего в сад, стояла Сусанна, несколько отступя, чтобы не быть видимой извне. Это была спальня Угрюмовой и единственная комната, выходящая к стороне сада. Сусанна смотрела сурово… Народ, толпившийся вокруг столба в сотне сажен от нее, даже издали казался сильно взволнованным. Не было гула и гуденья от бойкого или веселого говора. Когда она увидела идущего Гончего — в первый раз после восьми лет — сердце дрогнуло в ней, она вся обратилась в зрение…
Анька казался не старее, а будто моложе… только черная бородка клином и курчавые усы казались гуще и чернее… Выступая с руками, скрученными за спиной, он шел, выпятив грудь, будто важно шагал твердым и мерным шагом. И даже теперь, здесь, среди всех других он был, как сказывается, «отметным соболем».
Сусанна провела рукой по лбу, по лицу, что она делала уже второй день постоянно, будто отгоняла тяжелую и все ту же думу. Теперь, в эту минуту, с ней творилось что-то совсем уже непонятное ей…
Какое чувство всплыло в ней вдруг, и совершенно ясно, к этому человеку, которого когда-то она любила и который ее безумно обожал, — она не знала, потому что упрямо не хотела его назвать по имени… А между тем что-то непонятное заставляет ее, приказывает ей, вопреки сердцу, даже разуму, поступать враждебно к этому человеку, злобно, дико… и бессмысленно. Да, бессмысленно! Ведь ей не хотелось бы делать ему никакого зла… Напротив, ей хотелось бы иное. Что же это в ней? Колдовство?! Да!
Долго стояла у окна она. Толпа, заслонявшая столб и Аньку, поредела, растаяла… Народ разошелся… Но все-таки пока одни уходили, другие приходили поглазеть… И только раз увидела она Гончего у самого столба, сидящего на траве, опустя голову. Цепь висела между ним и столбом…
«Приказать сейчас? — думала Сусанна, спрашивая самое себя. — Приказать? Позвать Ильева и приказать! Сказать: довольно. Для примера было, мол… Власть свою явить. А злобы нет на старое. Уходи, Бог с тобой, но помни… Видели тебя все, как пса сторожевого на цепи».
И, спрашивая себя в сотый раз, она не двигалась от окна и все смотрела, все ждала мгновенья, что кучка народа расступится и она опять увидит его.
Голос Анны Фавстовны заставил Сусанну вздрогнуть, настолько забылась она.
— Барышня! — уже третий раз звала ее Угрюмова.
— Ну, что вам? — резко и гневно отозвалась она.
— Барышня. К вам Ильев… Доложить хочет чтой-то…
— Ильев? — почти обрадовалась она. — Где он…
— Ждет тут в коридоре.
— Зови. Скорее!
Сусанна Юрьевна вышла в свою гостиную и волнуясь ждала, что скажет обер-рунт, за которым она сама собиралась послать.
— Ну, что, Егор Васильевич? — произнесла она быстро, когда молодой человек показался на пороге.
Ильев был видимо смущен и заговорил робко:
— Простите, барышня… не гневайтесь… Уж очень он просит… я на себя и взял. Не гневайтесь.
— Кто? Что? Говорите толком! — вскрикнула Сусанна.
— Я не виноват… как вы изволите… Просить…
— Говорите! Кто?!
— Гончий.
— Что просит? — снова вскрикнула Сусанна.
— Просит разрешить приковать его за левую руку, а не за правую, — вымолвил Ильев, смущаясь и объясняя крик барышни гневом. — Говорит: перекрестить лба нельзя… А оно собственно все одно. Можно и за ногу приковать. Дозволите?
— Так ступайте сейчас к нему, Егор Васильевич, и скажите от меня… — заговорила Сусанна крайне взволнованным голосом, слегка упавшим от внезапного смятения. — Скажите ему, что хотела пример на нем показать… хотела только, чтобы он знал, вспомнил…
И она вдруг смолкла и снова приложила руку к горячему лбу, снова провела рукой по голове и по лицу…
Ильев ждал… Барышня стояла истуканом, глядя в пол, задумавшись и будто даже забыв, что он перед ней…
Прошло несколько мгновений. Она очнулась и вымолвила совершенно другим голосом, спокойным и холодно-строгим:
— Прикажите переменить… Пускай за левую. Все равно…
Ильев вышел, несколько недоумевая, спустился в нижний этаж, вышел в сад и уже приближался к столбу, а Сусанна все еще стояла на том же месте среди своей гостиной и не двигалась, как окаменевшая.
Ее приковал к месту вопрос, который она хотела непременно решить сейчас, не сходя с места.
А решить она не могла.
Наступили сумерки. Сусанна не спустилась к столу, осталась у себя в спальне и сидела теперь без всякого дела, приказав, однако, себя не беспокоить, а если кто спросит, сказать, что она прилегла, чувствуя головную боль.
Заметив вдруг, что уже стемнело, она кликнула Угрюмову и приказала ей тотчас же справиться: когда давали есть Гончему и что ему приносили? Кто? Откуда?
Анна Фавстовна вышла и явилась тотчас же обратно с ответом, что Гончему дали после полудня краюху хлеба и поставили кувшин с водой.
— Прикажите сейчас снести ему людской обед. А если нет, не осталось ничего… прикажите сейчас взять всего, что можно из людского ужина, и сварить, и снести. Не ждать их ужина. Поняли? Сейчас состряпать, что можно, и снести ему… Наблюдите сами…
И, отправив удивленную Угрюмову, Сусанна начала шагать по своим комнатам взад и вперед, как бы не находя себе места.
Когда Угрюмова вернулась и доложила, что Гончему понесли в посуде похлебки, кусок пирога и захватили даже бутылку квасу, вдруг вымолвила резко, сумрачно:
— Анна Фавстовна, хотите мне услужить?
— Господь с вами! — удивилась женщина не словам, а чудному голосу своей барышни. — Приказывайте, что ни на есть, — все исполню: хоть в Киев пешком пойду.
— Подите к нему, поглядите и придите мне сказать.
— Куда?.. — не поняла Угрюмова.
— Подите к столбу…
— К Гончему?
— Да. Поглядите и скажите мне, что он…
— Извольте… — изумляясь, ответила Угрюмова.
— Поглядите: злобен он… как смотрит, говорит… или не злобен… только обижен, пристыжен?.. Или весел, наконец? Я его знаю! С него всего станется… он не Дмитрий Андреевич или эти… все… балабаны[24]!
И последние слова она выговорила с насмешливым презрением. «Балабаны» всегда говорил покойник Аникита Ильич, и она знала только, что это почему-то насмешливое прозвище, презрительное.
Через полчаса Угрюмова была уже снова в комнатах, побывав у столба. Она принесла весть, что Гончий «ничего». Она на него долго глядела, но он ее не видел, потому что сидел на земле, опустя голову и глаза.
— Упорствует! — объяснила она… — Все, кто был глядеть, сказывают, ни на кого не глянул ни разу. Может, от злобы, а то и от совести.
Сусанна, сидя в кресле, понурилась.
— Переменился он, Сусанна Юрьевна — выговорила вдруг Угрюмова как-то веселее.
— Что? Как? Как переменился? — встрепенулась она.
— Восемь лет. Шутка ли! А только, простите мое глупое рассуждение… Он и прежде все-таки был из себя казист, а теперь будто и того казистее… Ей-Богу! Такой молодец, каких мало. Вот ей-Богу же!
И только благодаря полутьме в комнате Угрюмова не заметила, каким ярким румянцем вспыхнуло и запылало лицо ее барышни.
Водворилось молчание. Анна Фавстовна боялась продолжать речь на тот же лад, опасаясь гнева барышни. Сусанна Юрьевна молчала, так как новая нежданная мысль поглотила ее…
— Да или нет? — спрашивала она себя. И она решила вслух: — Непременно!
— Что вы это? — спросила Угрюмова.
— Поужинал он, Анна Фавстовна?..
— Виновата… забыла доложить… Нет-с. Отказался наотрез. Засмеялся… сказал: псов де цепных не приличествует кормить ужином. С меня довольно и хлеба с водой.
Сусанна не ответила, подавила в себе вздох и произнесла мысленно:
«Непременно!»
XI
Наступила ночь, было уже часов десять… Погода хмурилась еще с сумерек, и к ночи густые облака нависли кругом из края в край. На небосклоне вспыхивал отблеск дальней грозы. Изредка доносился едва слышный глухой гул дальних раскатов грома.
Сусанна Юрьевна страшно волновалась, бродя в своих комнатах, ходила из угла в угол, вдруг садилась и тотчас же поднималась и снова шагала или сновала, переходя из одной комнаты в другую. Она часто подходила к отворенным окнам, глядела на небо, глядела на дальние вспышки молнии и каждый раз тяжело вздыхала, как если бы вокруг нее совершалось что-нибудь особой важности.
В десять часов она позвала молоденькую горничную, недавно взятую в услужение, но которую она уже полюбила и отличала от других за смышленость и особенную скромность во всем…
Сусанна Юрьевна позвала девушку Агашу в свою спальню и, не велев никому входить, довольно долго проговорила с ней с глазу на глаз. Затем, надев темное платье, накинув на голову большой черный платок, подвязанный узлом на спине, она вышла и спустилась по винтушке. Агаша, одетая совершенно так же, как и барышня, последовала за ней. Большие черные платки, скрещенные на лице, обратили их в монахинь. Только глаза блестели между складок…
Через минут десять, две женские фигуры вошли в сад и приблизились к столбу, близ которого сидел на траве Гончий. Завидя двух женщин, он сначала не обратил на них никакого внимания, но затем вдруг будто встрепенулся, будто что-то кольнуло его, разбудило от грустного оцепенения, в котором он был.
— Что, Онисим Абрамыч, — заговорила нетвердым голосом маленькая женская фигура, — злобствуешь?.. Кабы мог сейчас бы за нож схватиться и пошел резать…
Гончий молча присмотрелся, внимательно, упорно будто насилуя себя угадать что-то… Но он глядел не на маленькую женщину, с ним заговорившую, а на другую высокую… Затем он вздохнул глубоко и отвернулся… Чуткое сердце подсказало верно, а разум нечуткий, слепой обманул его…
«Разве пойдет она так сюда? И зачем?!» — решил разум.
И сердце смолкло, покорилось и заныло.
Но маленькая женщина снова заговорила уже крикливо, будто подбадривая себя:
— Небось для тебя барышня ныне хуже ведьмы… а сказывают люди, ты ее страсть как боготворил прежде…
Гончий не выдержал… Эти слова какой-то дворовой женщины, болтавшей зря, среди тьмы ночи, всколыхнули на душе целую бурю.
— Знай я, что Сусанне Юрьевне утешно, что я, как собака, на цепи сижу, — заговорил он со страстью, — то я бы век тут сидел, не жалясь. Только бы приходила она сюда, только бы видать мне ее. А там прикажи она меня хоть на сто частей накромсать, всю кровь выпить, все жилки вытянуть… И я не крикну. Зарезать вот ее — я хоть сейчас. Но за другое… А все же таки… Господь Бог на небеси, да она, барышня, для меня только это и есть на свете… Да, Сусанна Юрьевна! Знала бы ты… знала бы ты!..
Гончий взял себя руками за голову… Цепь громыхнула. Женщина, молчавшая все время, отступила, будто со страху попятилась, быстро двинулась от столба. Говорившая последовала за ней. Обе молча и быстро вернулись к дому и поднялись по винтушке.
— Жалко его, барышня! — робко выговорила Агаша, подымаясь по винтушке. Та не ответила ни слова.
Через час Сусанна Юрьевна уже лежа в постели, горела как в огне. Лицо ее пылало, в висках стучало, дыхание было неровное, тяжелое, лихорадочное.
Она позвала свою наперсницу и, смерив женщину с головы до пят, произнесла:
— Можно на вас, Анна Фавстовна, положиться в важном деле или нельзя? Брось — нельзя. Но все равно. Слушайте! Завтра в шесть часов утра вы прикажете позвать Ильева и прикажете ему, не медля ни минуты, отковать Гончего и сказать ему: «Барышня приказала! Иди на все четыре стороны… куда ветер дует…» Поняли вы? Поняли, что я сказываю?
Голос барышни был настолько суров и строг, что Угрюмова ответила робко:
— Поняла-с.
И всю ночь Сусанна не смыкала глаз, ожидая рассвета и утра, когда ей скажут, что «он» на свободе!..
Заслыша поутру за дверями спальни своей странный говор, восклицания и что-то особенное, она позвала… Угрюмова вкатилась, а не вошла, и почти завыла:
— Сусанна Юрьевна! Ушел! Ушел!
— Кто? Гончий?
— Ушел! Ушел! Сам ушел! Отрубил себе руку… И ушел…
Сусанна, задыхаясь, вскочила с постели… Затем она побледнела, зашаталась, упала на кровать навзничь и тихо простонала. Она сразу поняла все, чего не знали другие. Два слова скосили ее.
«Отрубил руку!»
Действительно, Гончий за ночь, отрезав себе кисть руки, исчез… Как, когда все приключилось, — никто не знал.
Хоть и крепка была духом и телом Сусанна Юрьевна, а не выдержала удара…
Угрюмова в первый раз увидела свою «отчаянную» барышню горько плачущей.
Но если наверху все ближние к барышне были смущены, то внизу и во всем доме были простые толки об Аньке Гончем. Кто дивился удали, называл молодцом человека, ушедшего таким способом от позорища, кто глупо подшучивал, а кто сурово замечал:
— Погоди! Ладно! Даст он себя теперь знать!
— Разумеется, дворня а за ней и кой-кто из нахлебников тотчас начали ходить в сад к столбу, глядеть и ахать…
Глядеть было бы нечего однако, кроме испачканного кровью столба и наручника, если б не было в траве кой-чего, на что все именно и зарились… мужчины — сурово или подшучивая… женщины — с криками, ахами и охами… Среди сильно окровавленной и примятой травы лежало что-то для всех и простое, и диковинное вместе. Рука!
Отрезанная кисть руки, с пятью пальцами, которые крючковато завернулись к ладони, была бела как снег и производила почти на всех такое же впечатление, как если б тут лежало целое мертвое тело. Многих мороз пробирал по коже. Никто, конечно, руки не тронул.
Около девяти часов явился обер-рунт Ильев и приказал взять руку в лукошко, столб вырыть и увезти, а землю взрыть, чтобы не было крови.
Когда доложили барину о происшествии, Дмитрий Андреевич сильно взволновался.
— Жаль беднягу, — сказал он. — Все же молодцом поступил.
— Молодчина! — повторяли многие в Высоксе.
— Да, молодчина… Только жди, братцы… жди!
Однако Денис Иваныч Змглод всех успокоил, объяснив, что вряд ли Гончий останется жив.
То же говорили и оба доктора высокские — русский из хохлов Максименко и немец Шварц.
Денис Иваныч отправился наверх, чтобы скорее успокоить барышню, сказать ей, что не след бояться Аньки. Сусанна Юрьевна бледная лежала в постели и поэтому никого не допускала к себе.
Угрюмова передала барышне доклад Змглода, чтобы барышня не опасалась ничего.
— Докладает Денис Иваныч, что наши дохтуры оба сказывают: кровью, мол, он истечет и беспременно помрет…
Сусанна Юрьевна отвернулась и уткнулась лицом в подушку… Через мгновение она глухо рыдала.
XII
Прошло более недели.
В доме были опять сборы на охоту.
Басанов снова собирался на три-четыре дня и почти не по своей воле. Гости и нахлебники предпочитали Высоксе «охотный дом». Там было то же разливанное море, но больше свободы, потому что не на глазах барыни и барышни, косящихся на их игры.
Большой дом между непроходимыми лесами с одной стороны и озером с болотами на три версты с другой — был той же богатой усадьбой, снабженной всем на свете.
Усадьба эта, называвшаяся «охотным домом», была выстроена лет пять тому назад по особому плану московским архитектором: Верхний этаж дома был разделен пополам длинным коридором, и обе половины поделены на небольшие комнаты-спальни. Только одна из них в конце коридора была много просторнее и роскошнее отделана, чем все остальные. Конечно, это была спальня самого хозяина. В нижнем этаже было только три комнаты: небольшая передняя, довольно большая гостиная и очень большая столовая, где можно было за столом «покоем» уместиться хотя бы и сотне человек гостей.
Вокруг главного дома было два флигеля и несколько домиков и изб. В одном из флигелей помещались исключительно охотники из дворовых людей, а в другом гусары. В остальных строениях размещались псари с собаками, прислуга и разный случайный народ.
Разумеется, при главном доме были две большие кухни, для господ и для холопов, были кладовые и подвал с винами. Дом, кроме того, был, как усадьба, снабжен всем, имел свое постельное и столовое белье, свою посуду и даже свое особое серебро…
Обыкновенно все стояло загадочно пустое в полном затишьи глуши. Жили тут постоянно только двое надсмотрщиков — старик и молодой малый — и женщина-ключница, а при них два дюжих мужика-сторожа.
Но когда появлялся здесь барин с гостями, выслав, конечно, накануне поваров и прислугу, то, разумеется, охотный дом превращался в гулкий муравейник, где всем, от самого важного столичного гостя до последнего мальчугана-поваренка, бывало веселее, чем в Высоксе. Здесь всякий творил, что хотел… И что здесь ни случись, все прощалось. Только степенным людям бывало здесь не по себе, и они, озираясь, покачивали головами.
Только изредка, раза два в год, приезжали сюда и барыня с барышней, но как бы в гости…
Для них устраивались «садки». Выпускали на луг саженых волков, зайцев и лисиц и травили их. Но ни Сусанна, ни Дарьюшка не любили этой забавы.
Впрочем, и Басанов сам не был, собственно, охотником в душе. Если бы не приятели и пребывание в охотном доме с кутежами, картами и попойками, то он бы, конечно, и ружья в руки не брал. Охота была, собственно, предлогом. Но было, однако, одно, что молодой Басанов действительно любил, так как оно было связано с некоторого рода волнением и, пожалуй, даже опасностью: он любил охоту на медведя.
Медведей, конечно, в окружающих лесах было много, но странствовать в страшной дремучине и чаще леса, которая около Высоксы называлась даже особым именем «стеной», как бы в подтверждение или определение страшной чащи, — было мудрено и скучно.
Углубляться в лес, «стену», делая часа в четыре времени не более версты, чтобы увидеть медведя, мелькнувшего и исчезнувшего, могли только заправские охотники. А таковых было много. Они сделали из охоты промысел, довольно выгодный, так как, помимо губернии, сам молодой барин платил по три рубля за всякую медвежью шкуру. Подобного рода обыкновенная охота для веселой компании прихлебателей молодого богача, конечно, была не по душе. Поэтому барину подготовляли охоту, выслеживали медведя не только зимой в берлогах, но и летом. Дмитрий Андреевич отправлялся всегда наверняка зная вперед, что приедет с полем.
Однажды заведующий охотой доложил барину, что как раз невдалеке от охотного дома, верстах в двух, выследили огромную медведицу с тремя медвежатами. Басанов был очень рад, так как прошло уже месяца три, что он не ходил на медведя.
Тотчас же начались сборы, а через два дня веселая компания была в охотном доме.
Отчаянный картежник, грек Михалис, из боязни никогда, на эти охоты не ездил, так как стрелял плохо о ухитрялся промахнуться даже в сидячего зайца. Басанов, как бывало и прежде, начал уговаривать наперсника тоже взять карабин и присоединиться к другим. Михалис, всегда упорно отказывавшийся, на этот раз согласился, но с тем условием, чтобы при нем, в помощь ему и охрану, был безотлучно один из лучших охотников.
Вследствие согласия Михалиса участвовать в охоте на этот раз в охотном доме было особенно весело. Все шутили на его счет, заранее описывая, как именно на него выйдет медведица, которая всегда бывает вдесятеро злее медведя. Как Михалис промахнется! Охотник, к нему приставленный, тоже промахнется! А медведица подберет грека под себя и наделает из него лыка.
Приехали в охотный дом в сумерки, все общество, конечно, думало больше о вечерней попойке, нежели об охоте. В числе прочих гостей был владимирский помощник, бывший товарищ Басанова по полку, Сухомлинов, два брата, гусары Хвостовы, накануне приехавшие из Петербурга, молодой Бобрищев и наконец князь Давыд…
В противоположность греку, Никаев не ездил на простые охоты за лесной дичью или болотной, но зато никогда не пропускал ни одной медвежьей охоты. Стрелял он отлично, был особенно смел и всегда делал то, чему обучил его опытный стрелок Михаил Ильев. Князь издали стрелял по медведю из пистолетов, стараясь куда ни на есть ранить его, хотя бы и легко, а затем кидался к нему ближе, кричал, гикал… Когда же испуганный, а тем паче раненый зверь поднимался на задние лапы и шел на него, князь подпускал елико возможно ближе, иногда даже шага на три расстояния, и клал на месте верным выстрелом в глаз. Не раз случалось, что тяжелая махина-зверь падал прямо к нему в ноги.
Несмотря на то, что вечером был ужин, длившийся до десяти часов, на другой день на заре все уже поднялось на ноги. Через час охотники, человек десять, двинулись в лес, но вместе с ними шла гурьба, числом до ста крестьян, приведенных с ближайшего завода. Несмотря на то, что это была целая толпа, тишина была полная.
Наконец, все были на местах, и все шло обычным порядком. Охотники были расставлены в разных местах чащи, при каждом было человека два с рогатинами и ножами, чтобы в случае промаха расправиться со зверем на простой дедовский лад. Всех крестьян в полном молчании растянули в линию с противоположной стороны. Это длилось довольно долго, так как приходилось это делать тихо, тщательно и осторожно.
Наконец, раздался сигнал, пронзительный свисток. Все охотники насторожились. В то же мгновение в лесу раздался дикий гул. Расставленные мужики двинулись, крича, свистя, хлопая дубинами по деревьям… Лес огласился какой-то дьявольской музыкой, которая могла навести страх не только на медведицу, но и на всякого, кто не знал бы, в чем дело.
Дмитрий Андреевич, поставленный знатоком-охотником, разумеется, на хорошее, если не на лучшее место, имел при себе двух самых хороших опытных молодцов с рогатинами. Цепь хлопальщиков и крикунов все приближалась, была уже, вероятно, на расстоянии не более ста сажен от Басанова, а о медведице с медвежатами не было и помину. Но вдруг один из рогатников, вскрикнул:
— Дмитрий Андреевич, гляди!.. Вона! Вона!
И он указал барину в чащу направо, где мелькнуло что-то едва заметное, как будто катился по хворосту серый шар. Это был медвежонок.
Басанов выстрелил. В то же мгновение, налево от него, невдалеке, очевидно Михалис выстрелил тоже. Далее раздался еще выстрел. Очевидно медведица растеряла своих медвежат, спасаясь из ада, в который превратился лес. Грянуло еще два выстрела, гораздо ближе… один направо, несколько впереди, другой сзади.
Вскрикнув, зашатавшись, Басанов, как сноп, повалился на землю. Два молодца с рогатинами обомлели, превратились в истуканов, и, ничего не понимая, не двигались.
— Что!.. Что это?! — вскрикнул Дмитрий Андреевич, стараясь приподняться с земли. Вместе с тем он схватился за грудь, и рука его оказалась вся в крови.
Понявшие, наконец, в чем дело, рогатники подняли страшный вопль, зовя на помощь… Но их крики, конечно, заглушались неистовым завываньем приближающейся цепи хлопальщиков.
Долго не являлась помощь. Только через полчаса все охотники собрались вокруг лежащего… Пораженные, потерявшие разум от испуга и ужаса, все только кричали, метались и закидывали друг друга пустыми вопросами:
— Как?.. Что?.. Кто?.. Когда?
И не сразу собрались все дело делать. Наконец, Басанова подняли четверо человек и, с величайшим трудом пробираясь сквозь чащу, понесли осторожно и тихо в охотный дом, чуть не за целую версту.
Гости и нахлебники шли молча сзади в каком-то оцепенении… Только князь Давыд повторял раза три вне себя от гнева и волнения:
— Это неспроста! Это не нечаянность!!
XIII
— Гончий!
— Дождались!
— И след было такого ожидать!
— Вот и сажай людей, как псов, на цепь.
— За что же так — барина, а не барышню?!
— Чтой-то будет?! Чтой-то будет?!
Так толковала на первых порах с ног смотавшаяся от волнения, пораженная и как бы нравственно пришибленная, Высокса.
Только один человек судил дело по-своему и не подозревал Гончего. Это был умный Змглод. Он был глубоко убежден и повторял всем: что Гончий, по всей вероятности, сам теперь уже на том свете.
И понемногу дело представилось еще мудренее, еще темней.
Кто же покусился на жизнь доброго, всеми любимого барина? Зачем? Почему? Кому понадобилась его смерть? — задалась Высокса вопросом. И если барин помрет, то барыня, еще молодая, поплакав недолго, не соберется ли опять замуж? И тогда, «чтой-то будет?» Кто будет владельцем всего и всех? Вдруг после доброго и ласкового Дмитрия Андреевича наживет Высокса второго Аникиту Ильича, такого же грозного, да к тому же не такого же справедливого. И привольная спокойная жизнь обратится в мытарство, пожалуй, даже в каторжное существование. Ведь всяк человек — от девяностолетнего деда до младенца зависит от воли, от прихоти своего барина-душевладельца.
За восемь лет никто в Высоксе зря не пострадал, в солдаты не сдан, в Сибирь не угнан. За восемь лет только грозился барин. Буяны и негодяи — и те уцелели, только высланы с заводов в дальнюю и степную вотчину.
И вот теперь, помри барин Дмитрий Андреевич, надо будет Бога молить, чтобы Дарья Аникитична оставалась вдовой… а через тринадцать лет будет уже Олимпий Дмитриевич совершеннолетним и может вступить в управление заводами.
Так толковала и рассуждала Высокса.
Басанов лежал в охотном доме… Помимо двух своих докторов, был еще третий, вызванный из Владимира, человек пожилой, заслуженный, с орденом на шее, по происхождению немец, по фамилии Франкфуртер. Лицом он был неприятен — черный, крючконосый, с огромным ртом… Зато он, как доктор, весьма внушал доверие в своих познаниях.
Свои доктора тотчас же присудили барина к смерти и дали ему несколько дней жизни. Губернский доктор, явившись на третий день утром и осмотрев раненого, первый заявил, что терять надежды не след.
В Высоксе в большом доме было мертво-тихо и пусто, как никогда не бывало. Все, от барыни с сыновьями и барышни до главных приживальщиков, переехали в охотный дом среди леса. Разумеется, псари, охотники, гусары — все были в Высоксе, а комнаты верхнего этажа охотного дома, равно оба флигеля и все домики и избы заняты господами и ближними людьми, никогда еще здесь не бывавшими. Таким образом вся жизнь высокского дома перешла в охотный дом. Среди глуши леса появилась сразу настоящая усадьба… На дороге между лесом и Высоксой было чуть не гулянье от зари до зари… Ехали взад и вперед всякие экипажи и всадники… Скакали гонцы… Шли пешеходы кучками, так как заводское население постоянно ходило справляться: «Что барин?».
Прошла неделя…
Дмитрий Андреевич был слаб, болен, но страдал сравнительно мало. Главная беда заключалась не в характере раны… он был ранен навылет: пуля пробила лопатку и вышла под ключицей, но серьезного смертельного повреждения не причинила. Беда была в том, что Басанов, которого долго несли лесом на руках, едва продираясь сквозь чащу, потерял довольно много крови и ослабел.
Однако, когда пошла вторая неделя, доктор Франкфуртер всем к нему обращавшимся отвечал неизменно:
— Если я Дмитрия Андреевича через месяц не поставлю на ноги, то возьмите меня и утопите вот в этом озере.
И все в Высоксе приободрилось…
Уже перестали толковать о том, кто будет новым барином, новым — помилуй Бог — душевладельцем… Все снова толковали теперь исключительно о том, как, дело приключилось… Кто стрелял? Кто подстрелил? Нечаянно или умышленно?
И кончила тем Высокса, что решила:
— Вестимое дело — ненароком!
Один любимец барина, князь Никаев, продолжал упорно стоять на своем, что дело это темное, что так оставлять его нельзя. Надо расследовать, кто был в линии охотников, когда подняли медведицу, и кто не был в линии, а впереди и позади…
— Ничего, князь Давыд Анатольевич, расследовать и узнать нельзя! — повторял Змглод. — Нечего разузнавать, кто был и кто не был в линии. Надо уразуметь, нет ли человека в Высоксе, который бы таил в себе злобу на Дмитрия Андреевича.
— Верно! — отвечал князь Давыд. — И надо добраться, кто он таковой, а не сказывать, что все случилось ненароком, и руки покладать. Напротив, не покладать рук, пока не окажется злодей. А злодей этот — из приятелей Гончего.
Змглод был не согласен с этим мнением. Он рассуждал, что если б Анька ушел цел и невредим, то его самого можно было бы еще заподозрить. А он на том свете без всякого сомнения… А если и жив, то уж, конечно, в тот день, когда на барина покушение было произведено, сам валялся при смерти. Отец Аньки, старик Абрам, на такое деяние никогда не пойдет: не таков! У него трех сыновей убей, и он разве в монастырь соберется с горя, а не кровь проливать. Приятелей таких у Гончих, чтобы они пошли за него мстить, не может быть. Дружба дружбой, а всякому своя шкура дорога… Стало быть, не Гончий тут виноват, а некто другой… А вернее все объясняется простой случайностью.
Сусанна Юрьевна, хворавшая после исчезновения Аньки, была уже несколько спокойнее, когда разразился громовой удар над Высоксой.
Барышня, при известии о невероятном происшествии на охоте, тотчас отправила гонца в город за губернским доктором, а сама, приказав запрячь таратайку, первая из всех примчалась в охотный дом.
Ее появление оживило и приободрило всех. Даже сам раненый стал глядеть иначе.
— Пустое! — резко, твердо объявила Сусанна, как бы врач. — Если рана в грудь, насквозь… и льет кровь, а дышать вы можете и живы, то, стало быть, и будете живы… От таких ран, завсегда я слыхала, либо люди помирают тотчас на месте, либо живут.
Сама Сусанна не верила своим словам и надежды почти не имела до тех пор, пока Франкфуртер не заявил, что отвечает за жизнь раненого.
Но когда Дмитрию Андреевичу было лучше и все уже надеялись на его выздоровление, Сусанна стала снова темнее ночи, была страшно угрюма, задумчива и молчалива.
Она часто оставалась подолгу одна в маленькой комнатке, недалеко от комнаты больного, и, схватив себя обеими руками за голову, сидела не двигаясь, не замечала входивших к ней и не слыхала, если кто заговаривал.
Сусанне, казалось, что она уже пережила смерть Гончего, смерть человека, который ей был близок… ближе и дороже всех, и дороже всех именно в то мгновение, когда не только все думали, но и сам он был убежден, что она его ненавидит и презирает.
Все это случившееся было очевидно колдовством. Все это — наваждение. Опять на нее «сатана полез», как когда-то часто говорила она Угрюмовой, или он, Анька, любя ее и страдая, обратился к какому-либо колдуну и получил «приворот любовный» и приворотил ее снова к себе. И в ней началась борьба… а затем она уступ ила колдованию Гончего… Но он этого не знал. Все кончилось бы, вероятно, полным примирением. А он покончил с собой!
Сусанна вполне убедилась в смерти Аньки особенно с той минуты, когда увидела Басанова в постели.
Оба были в одинаковом положении. Обоим грозило одно и то же, как последствие обильной потери крови. Из раны Басанова, конечно, вытекло меньше крови, нежели из отрезанной руки Аньки. К тому же все было к услугам Дмитрия Андреевича — и врачи, и лекарства, и всякий уход… А он? Анька?.. Он ушел ночью валяться как собака где-нибудь а избе, не только не обращаясь за помощью, а скрываясь… Понятно, что он истек кровью и тихо ушел на тот свет, сам того не зная, что уходит.
Внезапное страшное известие заставило ее встрепенуться, забыв на время о бедном Аньке и о своем горе, но теперь, поселясь в охотном доме и уже зная, что больной поправляется и будет жив, Сусанна снова впала в свое прежнее оцепенение… Когда до нее доходили толки и предположения, что покушение на Басанова дело Гончего или его приятелей, она молча трясла головой. «Он на том свете, — думалось ей, — а приятелей-друзей у него разве я одна!..»
Но, помимо Сусанны Юрьевны, была еще другая личность, на которую все дивились: барышня Дарья Аникитична.
Молодая женщина была неузнаваема, настолько поразило ее, казалось, происшествие с мужем… Вначале оно было совершенно естественно, но теперь, когда Дмитрий Андреевич начинал поправляться, она продолжала смотреть, как пришибленная, будто не радовалась, а оставалась под гнетом… и чего?.. первого перепуга, от которого не могла еще очнуться… или чего иного?
Всем сдавалось невольно, что не самая болезнь мужа гнетет молодую барыню, а будто что-то иное, затаенное…
XIV
Прошло более месяца со дня роковой охоты и ужасного случая. Все снова были в большом доме уже недели с две.
Дмитрия Андреевича перевезли в Высоксу осторожно, шагом, на перинах, пристроенных в большом рыдване[25]. Благодаря доктору Франкфуртеру и дельному искусному пользованию и уходу, Басанов быстро поправлялся и теперь уже мог подолгу сидеть в постели, мог беседовать и даже шутить. Было лишь одно обстоятельство, мешавшее немного быстрому выздоровлению. Басанова не покидала мысль: «Кто злодей?».
Жизнь в Высоксе вошла в обычную колею, но лучшую, прежнюю колею первых двух-трех годов после женитьбы Басанова, когда еще не было в доме разных сомнительных прихлебателей и гостей-картежников.
Болезнь Дмитрия Андреевича заставила поневоле отменить ужины с попойками и пьянством… Картежная игра была разрешена в правом флигеле в комнатах Михалиса, но без главного игрока, барина, дело не ладилось… У грека было тесно и скучно, и, попробовав поиграть три раза, все главные картежники решили ждать, когда барин совсем поправится.
Дарья Аникитична была менее печальна, хотя задумчива и почти не отходила от мужа, ухаживая за ним и на время отдав двух сыновей на полное попечение своей старой няни Лукерьи Матвеевны. Но каждый раз — а это случалось часто — что Басанов заговаривал с женой о своих подозрениях насчет неведомого злодея, Дарья Аникитична становилась сумрачно печальна.
А мысль о неведомом враге не покидала Дмитрия Андреевича, угнетала, почти терзала. Ежедневно думал он об этом и говорил со всеми, чаще со Змглодом, Сусанной Юрьевной и еще чаще с вновь назначенным обер-рунтом. Нахлебники из прислуживанья и лести, чтобы угодить и понравиться, сами постоянно заводили речь о неведомом злодее. Франкфуртер тщетно запрещал эти беседы и тщетно сердился…
Басанов, видимо, хотя медленно, но несомненно шел к полному выздоровлению. Вскоре он уже стал подниматься два раза в день с постели и сидеть по три и четыре часа в кресле. Если бы согласие доктора, то он бы проводил и целый день в кресле. А вместе с тем настроение духа пациента оставалось по-прежнему озабоченно-сумрачное. Басанов был просто преследуем мыслью: кто мог пожелать убить его? И за что? С тех пор, что он стал владельцем Высоксы, он не мог вспомнить, чтобы сделал кому-либо что худое. Кроме добра, от него никто ничего не видел. Его даже упрекали в том, что он набаловал и распустил все по заводам.
И вдруг в то самое время, когда он был убежден, что его в Высоксе все любят, некоторые даже обожают, явился враг, злодей. Если он остался жив, то совершенно случайно.
— Возьми пуля немного в сторону, ниже и правее, — говорил Франкфуртер, — то прошла бы через сердце!
Сначала, когда все думали на Аньку, Басанов был спокойнее. Но затем было решено, что злодей находился в числе охотников. Но кто же? Кто-либо из гостей или кто-либо из псарей-охотников? Перечислив всех, обдумав личность каждого, пришлось совсем бросить эти подозрения. Тогда злодей — посторонний, случайно очутившийся в лесу или пришедший нарочно? В таком случае догадаться уже было окончательно невозможно.
И помимо заботы о том, кто мог это быть и как разыскать убийцу, Басанов тревожился и о другом: ведь он теперь очутился в положении Сусанны! Он должен тоже постоянно бояться вторичной мести, вторичного покушения. Но она, по крайней мере, хоть знает, кто ее враг, и, если он жив, она может легче уберечься. Он же может видеть, и пожалуй даже часто, своего врага и не знать, не ведать этого.
Новый обер-рунт Высоксы напрасно клялся барину, что добьется своего, откроет, кто злодей. За этим он и взялся заменить ленивого и глупого Егора Ильева.
Но Басанов не верил. Он согласился на замену Ильева без всякой надежды на успех, да еще вдобавок вопреки желанию Сусанны Юрьевны.
А назначение этого нового начальника всей полиции и сыщиков, против которого ратовала барышня, немало удивило всю Высоксу. Назначенный вновь сам того пожелал, упрашивал долго и упорно барина и, наконец, настоял на своем. Это был князь Давыд.
Никаев заявил, что он хочет во что бы то ни стало добиться: «кто злодей?» А это всего легче и вернее, сделавшись самому заправилой полиции. И так как он твердо и самоуверенно обещал Басанову раскрыть темное дело, то и был назначен обер-рунтом.
Однако, дельный Денис Иваныч, приглядевшись к действиям князя, только покачивал головой и шутил:
— В метель по грибы пошел наш князь Давыд.
Вместе с тем все обитатели Высоксы дивились немало на барышню Сусанну Юрьевну.
Красавица-барышня, несмотря на то, что все было «слава Богу», что барин выздоравливал, ходила по-прежнему сумрачная и печальная. Она сильно похудела в лице и почти подурнела… Постоянно отказывалась она спускаться вниз к обеду и ужину и кушала у себя в комнатах под предлогом нездоровья. Вместе с тем — а это всех озадачило — она окончательно отдалила от себя молодого Бобрищева и при переезде из охотного дома в Высоксу вдруг совсем перестала разговаривать с ним и принимать его у себя. Говорили, что она просила даже Дмитрия Андреевича приказать Бобрищеву совсем уехать из Высоксы. Когда же Басанов отказал зря изгнать молодого человека, то она со злобы сказала:
— Может быть, он и палил в вас!
Разумеется, никто не знал и не мог бы никогда догадаться, какая причина печали и чуть не хворости Сусанны Юрьевны. Угрюмова и та не знала. Ни с кем не обмолвилась тоскующая от зари до зари женщина.
А тосковала она, даже страдала все по той же причине.
«Лишилась единственного человека, — думалось ей, — которого любила, потом возненавидела, потом опять полюбила через колдовство его и потеряла навсегда, сама загубив зверским образом!»
Да, Гончий не выходил у нее из головы. Она верила теперь вполне, что ее новое чувство к нему есть колдовство, но не боролась с собой и с этим чувством, а отдавалась ему с какой-то горькой радостью. Лучше это думанье о нем и горемыканье, нежели какая утеха, какая новая прихоть. Бобрищев ей стал ненавистен, а другой кто и на ум не шел.
Думая иногда по целым вечерам о том дне, когда она видела Гончего у столба, и о той страшной ночи, когда он, изуродовав себя, ушел, Сусанна чувствовала, что теперь согласилась бы на все на свете, чтобы он, Анька, был жив и был с нею. Он один любил ее так, как следует любить. Да и она, собственно, его одного любила. Остальные все — пустая забава была. Теперь это совсем ясно. Теперь?! Когда его уже нет в живых! Когда она убила его!
А в том, что Гончий умер, Сусанна не сомневалась. Раза два подробно переговорив обо всем с доктором Франкфуртером, она поневоле вполне убеждалась в этом. Доктор объяснил ей, что Гончий, конечно, не мог вовремя принять все меры, необходимые против страшной потери крови, по незнанию, что нужно делать. Однако он рассказал два случая, им виденные: про одного солдата и про дровосека, которых вылечили простые знахари.
Вся Высокса тоже решила, что Гончий умер, потому что, спасаясь далеко, истек кровью.
Общее и единодушное мнение о судьбе «отважного» молодца и какое-то новое странное почти теплое отношение всех обитателей к «бедняге» действовали также на Сусанну. «Глас народа, глас Божий! — решила она. — И если всем его жаль, все забыли его злодейское покушение, все будто простили прошлое… то она-то сама… ей каково?..»
Просиживая целые дни и вечера одна у себя наверху, Сусанна Юрьевна неизменно всякий день, около полудня, гуляла в саду, заходя всегда в самую глухую часть его, где не было никогда ни души из гостей или нахлебников. Здесь она тихо бродила, задумавшись все о том же… или садилась на скамью и сидела по часу неподвижно, как окаменелая, иногда даже не думая ни о чем, а просто томясь…
Однажды, в ясный осенний день, Сусанна Юрьевна по обыкновению вышла на свою прогулку и пошла прямо в излюбленную глухую сторону сада…
Она двигалась тихо, но на этот раз не шла, задумавшись и глядя себе под ноги, как всегда, а уныло озираясь кругом. Дойдя до скамьи, на которой она всегда садилась, она уже собиралась сесть, но остановилась из-за непрошенного свидетеля своего одиночества.
Присматриваясь, как всегда, кругом, к чаще, она заметила среди кустов в сотне шагов какую-то темную фигуру, стоявшую неподвижно. Она пригляделась пристальнее и, вдруг тихо ахнув, начала бледнеть…
— Что я? Ума лишаюсь, что ли? — вымолвила она, озлобляясь на себя самое.
Но глаза ее не отрывались от этой фигуры. И она побледнела, как снег… Не одни глаза, а что-то иное, в ней самой… Сердце что ли… ей подсказывало, что это он, Гончий… он, умерший… Стало быть, привидение…
Но фигура двинулась… и в ее сторону… и стала виднее, явственнее.
Сусанна отчаянно вскрикнула всплеснула руками и бросилась бежать, что нашлось в ней силы.
Но он, Гончий, тоже побежал лугом, наперерез, чтобы загородить ей дорогу к дому…
И она будто поняла сразу все, поняла, что это пробуждение от долгого сна в виде любви и печали… Это? Теперь? Действительность? Теперь лютый враг, — около нее, жив, невредим и явился, конечно, поквитаться…
Все мутилось в голове ее, бег перешел в шаг… Ноги немели, а в глазах темнело.
И в первый раз в жизни Сусанна Юрьевна лишилась сознания… Она упала среди дорожки без чувств, зная, чуя, что ее последний час настал.
«Зарежет… А если б знал…» — была ее последняя смутная мысль.
Когда она очнулась и пришла окончательно в себя, то увидела над собой грустное, бледное лицо. И она опять вскрикнула робко, замирая…
— Не опасайтесь. Я вас не трону…
Это говорил он, Анька… Говорил едва слышно, но горькое чувство ясно прозвучало в словах. Он стоял на коленях около нее, и в его ярко горящих глазах блестели слезы.
— Анька! Аня! Аня! — дико вдруг закричала Сусанна и, безумным порывом обхватив его шею, она прижалась к нему и вся дрожащая, трепетная, целовала его в лицо.
— Что это? — услыхала она. — Помилуй Бог! Что же это?
— Ты жив? Ты жив! — шептала она, как бы не сознавая, что случилось, кто с ней и что с ней самой.
— Сусанна Юрьевна! Да что же это?.. — дико закричал он. — Или боитесь? Лукавите?! Ради Господа Бога! Говорю, не трону вас… Не лукавьте!..
— Аня. Люблю я тебя… Измучилась! Истерзалась! Думала — умер… а ты…
И страшное рыданье вдруг огласило сад. Оно больше слов и поцелуев сказали всю правду.
Гончий поднял ее с земли, обнял, довел до скамьи и, усадив, сел рядом.
— Господи! Да что же это! Помереть можно… — глухо проговорил он.
XV
В тот же день, поздно вечером, среди полной темноты от безлунного неба и нависших облаков, случилось не только нежданное, но совершенно невероятное. Если бы Высокса, вся от мала до велика, знала это, то оно показалось бы ей еще невероятнее, чем загадочный выстрел в молодого барина. Даже сами виновники невероятного приключения сами себе не верили. Им самим казалось мгновениями, что действительность есть, собственно, сновидение, если не колдовство.
Около десяти часов Гончий приблизился к дому, завернул за угол и на опрос дежурного рунта ответил: «Кострома!». Затем он отворил дверь и стал ощупью подниматься по железной лестнице. Он настолько был взволнован, что раза два остановился и глубоко вздохнул.
Винтушка, по которой он шел первый раз в жизни, но о которой, конечно, не раз слыхал еще при старом барине, показалась ему бесконечно длинной. Наконец, наверху из-под двери мелькнул свет… Он остановился перед дверью и простоял несколько мгновений. То же соображение или подозрение, что мучило его весь день, снова явилось в нем. Неужели же это западня? Неужели она прикажет его сейчас злобно и предательски умертвить у себя в комнатах и среди ночи скрыть где-нибудь мертвое тело?
«Время есть еще, — думалось ему, — стоит только, не отворяя этой двери, снова спуститься обратно и бежать от лиходейки лукавой и злой».
И снова началась в нем все та же нравственная борьба. Он снова начал уверять себя, что Сусанна Юрьевна не лукавит, что просто в ее душе случился какой-то для него непостижимый переворот. Не может быть, чтобы жажда мести была в ней настолько сильна, что она после всего того, чему уже подвергла его, хотела бы теперь окончательно стереть с лица земли.
И невольно приходило на ум, что хотя подозрение это ни на чем не основанно, однако подобное в таком непреклонном человеке, как Сусанна Юрьевна: дело возможное.
Но вдруг он вспомнил свое существование за восемь лет, вспомнил, как тянуло его сюда, в Высоксу и к ней, чтобы только хотя поглядеть на нее…
И он вдруг, будто озлобившись, решил, что подобного существования и жалеть нечего.
«Ну, погибать! — чуть не вымолвил он вслух. — И пускай! Один конец!» Он двинулся, отворил дверь и вошел в небольшую комнату. В соседней тотчас же раздались легкие шаги и шуршание женского платья. Сусанна появилась на пороге, молча подошла к нему вплотную, взяла его за руку и провела в свою гостиную. Усадив его, она тотчас глянула на его руку и выговорила с чувством:
— Бедняга! Весь день я думала об этом. Если бы можно было вернуть, похерить это содеянное? Чего бы я ни дала теперь! Какие диковинные дела творятся на белом свете! Вот там от Угрюмовой из окошка смотрела я на тебя. Было время одуматься, не злодействовать!.. И опять скажу, как уже говорила, что тогда уже, глядя на тебя у столба во мне что-то такое творилось непонятное… надвигалось то, что теперь… Но если все мне и теперь совсем непонятно, то тогда я еще пуще дивилась. Да, если бы можно было вернуть!
Гончий, теперь только поверивший окончательно, что она не лукавит, восторженно глядел на нее.
Нет, не надо, Сусанна Юрьевна!.. — воскликнул он. — Если сто раз еще такое должно бы приключиться, я и сто раз пойду на это. И скажу: давай Бог, тем лучше!..
Она удивилась и вымолвила:
— Что ты, Бог с тобой!
— Верно. Тем лучше.
— Почему же?
— Если бы всего этого не приключилось, то я бы здесь тоже теперь не сидел. Без всего, через что вы заставили меня пройти, в вас бы этой перемены не приключилось. Нет, слава Тебе, Господи! Был я когда-то счастлив на свете, потом изнывал и помирал от горя и тоски. А теперь не знаю сам, что я такое и что такое кругом меня. Сдается иной раз, что я ума решился. А то кажется, что все это сном обернется.
— Ну, вот, вот! — воскликнула Сусанна, улыбаясь. — И мне все кажется, что это сон! А в Высоксе, когда узнается, прямо скажут, что это наваждение! Скажут, что ты колдун.
— Что же, по правде сказать, коли не я сам колдун, — задумчиво отозвался Гончий, — то все-таки в этом деле какое-то колдовство есть. Таковое, как вот теперь между нами, вряд ли когда на свете бывало! Никогда я о таковом не слыхал! Любовь — так любовь, а злоба — так ненавистничество и заклятая вражда. А мы с вами вон что!.. И уразуметь не под силу!
И Гончий развел руками. При этом движении Сусанна снова поглядела на его обвязанную руку и помолчав несколько мгновений, выговорила:
— Вон мое наказание будет! Всегда буду я глядеть на эту твою руку, и всегда будет мне сердце щемить. Будет всегда наказанием!
Гончий вдруг как-то встрепенулся и вымолвил с чувством:
— Всегда ли, Сусанна Юрьевна?..
— Что ты хочешь сказать?
— Всегда ли? Надолго ли? Ведь это старое наше по-новому опять недолговечно… Пройдет полгода, ну скажем, год, и опять вы меня оттолкнете. Но я на это так и иду. И во второй раз я не буду безумствовать! Я сочту уже великим счастьем, что мне можно будет оставаться в Высоксе и хотя бы всякий день видеть вас, глядеть на вас…
И взгляд ярких и красивых глаз Аньки говорили еще больше, нежели чувство, которым звучало каждое слово. Сусанна смотрела ему в глаза и сравнивала… Никто никогда так не смотрел на нее, как он, Анька.
«Да, правда, — мысленно проговорила она, — он один настоящий человек. Все остальные около него кажутся какими-то куклами».
Она начала расспрашивать Гончего, как прожил он эти восемь лет, входя в малейшие подробности. Потом она снова, хотя узнала все утром в саду, расспросила его, как лечился он у знахарки Ешки и как баба-колдунья выходила его, поставила на ноги не хуже ученого доктора.
И узнав, снова спрашивала то же… И на все лады по два, по три раза рассказывал он все, что делал за восемь лет, за что он брался, как мучился, бросая одно дело за другим, и как он жил только одним — надеждой побывать в Высоксе и видеть ее мельком, издали, хотя бы на одно мгновение.
Пока он говорил, Сусанна внимательнее приглядывалась к нему. Он, действительно, сильно изменился… Тогда он казался моложе своих лет, теперь, казался старше. Ему можно было дать, пожалуй и под сорок лет. Он похудел и побледнел от болезни. Глаза казались тоже другими: казались больше, а взгляд еще тверже, еще упорнее, в котором было еще более силы и отваги, нежели прежде. Теперь уже всякий с первого взгляда определил бы, что за человек этот Гончий. Уж, конечно, не заурядный или дюжинный. Не будь он полуграмотный писарь, а богатый дворянин, то, ничего в нем не изменяя, можно было бы смело предсказать ему не простую судьбу на земле. Такие всегда в «люди» выходят.
И Сусанне Юрьевне вдруг теперь пришло на ум силою воображения нарядить Аньку в тот мундир, в котором явился в Высоксу Дмитрий Андреевич. Она это сделала, насколько могла, и почти ахнула… Это же худое бледное лицо со сверкающими глазами, выделяясь над золотистым мундиром, в который мысленно нарядила она его, стало вдруг чем-то диковинным.
«Как же могла я тогда, — подумалось ей, — предпочесть ему Дмитрия Андреевича, глуповатого, какого-то совсем простого. Он, Анька, — не простой. Теперь я это вижу и чувствую больше, чем когда-либо. И люблю его еще пуще после того, как изуродовала».
Между тем рассказывающий Анька смолк и смотрел на нее. Наступило молчание. Сусанна пришла в себя, поглядела на него долгим, грустно-задумчивым взглядом и вздохнула.
— Да, Аня, наваждение! — выговорила она.
— И такое еще наваждение, — произнес он улыбаясь, — что я до последней минуты не верил ни вам, ни себе… Ведь я вот уже на винтушке у вашей двери простоял долго, спрашивая: отворять ли дверь? Не лучше ли бежать обратно?
— Почему? — удивилась она.
— Как почему? А если западня?.. Если вы приказали придти сюда затем, чтобы здесь два-три холопа, по вашему приказу, меня умертвили. А тело среди ночи с камнем на шее — в озеро.
— Неужели ты это думал?
— До самой последней минуты, пока вы не взяли меня за руку и не привели сюда.
— Стало быть, ты не поверил всему, что я говорила тебе в саду? Не верил в перемену…
— И верил, и не верил!
— Если ты словам моим не верил, то ведь по лицу моему ты мог видеть, что я не лукавила, что я не из страха смерти говорила…
— Правда ваша, было что-то. Не слова ваши, а вот глаза ваши, либо голос, дали мне уверенность идти сюда. А слова что же?.. Понятное дело, что всякий, боясь быть зарезанным, обещает все на свете! Ведь вы же не верили, когда я вам говорил, что я вас не трону?
— Нет, Аня, я верила и не боялась! И ты тоже глазами и голосом меня успокоил, а не словами. Я сразу почуяла что ты меня не убьешь, а отпустишь. Я, может быть, тут только первый раз совсем поняла, как много ты меня любишь! Много больше, много умнее, чем другой кто — все они, все эти… Ну, да что их поминать! И молодые — да на стариков смахивают! Право, тот же Дмитрий Андреевич больше по-стариковски и себя и все чувствует, чем Аникита Ильич…
— А Алексей Никитич? — произнес вдруг Анька.
— И он, бедный, был то же, что иная красная девица…
— Стало быть, выходит, я один из всех?
— Да, ты один.
— Сусанна Юрьевна, — воскликнул Гончий, — ведь от таких слов ваших можно совсем ума решиться! После всего, через что я прошел, да услыхать теперь такие слова, — прямо надо разум потерять от счастья! Знаете, я, пожалуй, под утро руки на себя наложу…
— Что ты!.. И впрямь с ума сошел! — ахнула Сусанна.
— Нет, право, так! Так следует! Это меня один очень умный человек в Нижнем надоумил. Он сказывал: «Ты тогда, Онисим, после того, что хотел барышню убить, должен был себя похерить. Коли не можешь ты без нее жить, а счастию твоему пришел конец, то и жизни своей конец сам учини». Так я теперь и скажу: вот именно ныне мне след покончить с собой! Лучшего ничего в жизни не будет, а худшее, много худшее непременно будет. Сказываю вам, через полгода, либо год, вы меня опять бросите, и я опять буду видеть, как другой кто — на моем месте, а вы его ласкаете… И опять закрутится у меня невесть что на душе, опять я осатанею.
— Никогда этого ничего не будет! — воскликнула Сусанна. — Не понимаешь ты… ничего не понимаешь. Я другая стала… Колдовство это твое! Или все это страшное сделало, что промеж нас двух было… Сама я не знаю… Но один, знаю, человек на свете, которого я могу любить и должна любить… один — ты, Аня…
И, крепко обняв его, она страстно прижалась к нему.
Только перед зарей спустился Гончий по винтушке на улицу и скрылся никем не замеченный.
XVI
Три дня подряд каждый вечер, чуть стемнеет, являлся Гончий к дверям винтушки и подымался в комнаты барышни.
И многое было переговорено, многое удивительное решено бесповоротно. Сусанна Юрьевна, ожив, будто воскреснув к новой жизни, снова похорошела сразу, но зато и нравом, духом стала, казалось, еще тверже.
На четвертый день она после полудня отправилась к Басанову, странно улыбаясь, и, найдя его бодрее, чем когда-либо, она заявила ему, что у нее есть дело и что она хочет переговорить с ним наедине. Бывшие в спальне Михалис, Бобрищев, и еще двое гостей тотчас же поднялись и вышли. Дарья Аникитична продолжала сидеть на стуле около мужа и не двигалась.
— Дарьюшка, — вымолвила Сусанна Юрьевна, — я попрошу и тебя уйти! Это такое дело, про которое я могу сказать только одному Дмитрию Андреевичу.
Дарья Аникитична удивилась, но, по свойству своего характера, тотчас же покорно вскочила со стула и быстро вымолвила:
— Я сейчас… Виновата! Я думала — мне можно…
И она собралась уходить, но остановилась и спросила у мужа:
— Перед обедом позволишь детей привести?
— Приведи ненадолго, — отозвался Басанов. — Но завоет который из двух или подерутся, сейчас выгоню, — прибавил он.
Оставшись наедине с Дмитрием Андреевичем, Сусанна начала с вопроса:
— Выслушайте, что со мной дня три тому назад приключилось… Совсем поразительное и диковинное…
И она рассказала встречу свою с Гончим. Басанов встрепенулся и широко открыл глаза.
— Ну, ну!.. — выговорил он нетерпеливо.
— Ну, вот… Встретились… Сидели на скамье рядом с полчаса и беседовали друзьями.
— Что ты?! — воскликнул Басанов но тотчас же схватился за грудь.
— Что это?.. — встревожилась Сусанна. — Можно ли этак вскрикивать! Больно что ли?..
— Не, ничего… Уж очень удивился! Говори скорей!.. Как же так… Сидели, беседовали?..
— Да!..
— Да как же так?.. И не грозился убить другой-то рукой, здоровой?..
— Нет! — улыбнулась Сусанна.
— Чудеса!..
— Да, Дмитрий Андреевич, истинные чудеса!.. Но это еще не все… дальше будет еще чудеснее…
— Что же?..
— Вчера в вечеру, перед полуночью он был у меня…
— Что та-ко-е?! — проговорил Басанов, растягивая слова от крайнего изумления.
— Да, был! По винтушке поднялся с моего разрешения.
— Зачем?.. Что ты?
И заметив, что он говорит «ты», Басанов прибавил:
— Вон как поразили, что я даже по-старому называть вас стал… Так вы ему разрешили быть наверху? Стало быть, это… Что же этакое значит?
— Да. Конечно, с моего разрешения! И просидели мы долго… А теперь я пришла к вам посоветоваться, или лучше сказать, только предупредить вас, так как сама я это дело совсем порешила. Я хочу перед всей Высоксой вызвать его и простить. Он будет прощенья просить, а я его прощу, а затем опять мы его по-старому определим сначала к Пастухову, а потом в коллегию. Он — малый дельный, умный, он нам на большую пользу будет.
Сусанна смолкла и вопросительно глядела на Басанова. Он сразу стал сумрачнее, молчал, опустя глаза, и долго не отвечал на слова.
— Что же вы? Вам это не по сердцу, сдается?..
— Не знаю Сусанна. Не знаю!.. Чудно очень… Послушай ты меня… To-бишь, вы! Послушайте… Кто мой злодей? Кто меня убить хотел? Скажите?
— Это же неведомо, Дмитрий Андреевич.
— То-то вот… неведомо… А пока еще неведомо, на кого мы должны думать, — теперь я уже совсем верю, что это Анька-то и есть.
— Какой вздор, Дмитрий Андреевич! — воскликнула она, смеясь.
— Нет, не вздор! Другому быть некому!
— Он в те дни сам еле жив лежал у знахарки Ешки. Да и за что же станет он мстить вам? Мне — понятное дело. А вам-то за что? Тысячи разов объясняла я вам это…
— Как за что? Кто барин, кто распоряжается, кто его казнить велел жестоким и срамным образом? Он, конечно, думал, что это все я. А теперь, понятно, не сознается.
— Нет, Дмитрий Андреевич! Всем в Высоксе всегда было известно, что в случаях важных вы без моего совета не поступите и делаете все, как я прошу. Да, наконец, он мне сам вчера сказал, что он знает отлично, кто такую ему казнь надумал. Он даже думает, что если бы не его отважный поступок, то он, по моей милости, мучительной смертью умер бы… Он мне не верит, что когда он был у столба, то я уже…
И Сусанна Юрьевна запнулась, а затем начала действительно чуть не в сотый раз красноречиво доказывать Басанову, что, без сомнения, не Анька покушался на его жизнь. Тогда, восемь лет тому назад, он мог убить или зарезать Басанова из ревности. Но затем, когда он стал мужем Дарьюшки, а ее, Сусанны, любимец был у всех на виду, то уж скорей бы ему этого любимца убивать. Теперь он сам легко может доказать Басанову ясно, что это подозрение на него не имеет не только основания, но не имеет даже никакого смысла.
Сусанна смолкла. Басанов тоже молчал угрюмо.
— Ну, что же, — спросила она, — разрешаете вы мне то, что я надумала?..
— Как знаете, ваше дело… — промычал он.
— Да вы же не считаете его больше покусителем на себя? Доказала я вам? Убедила вас… или нет…
— Да! Теперь уж я опять совсем не знаю, на кого думать! — ответил Басанов.
— Стало быть, я могу его простить? Вы определите его опять в канцелярию или в коллегию?
— Да… — снова нерешительно проговорил Басанов.
— Отчего же вы так отвечаете, точно все еще сомневаетесь? — воскликнула она с досадой.
— Да уж очень это все будет всем удивительно.
— Правда… — вдруг усмехнулась она. Лицо ее оживилось, глаза блеснули. Она будто вдруг обрадовалась чему-то…
— Вот что, — сразу будто решаясь, выговорил он. — Отвечайте по совести! Уж очень мне оно любопытно! Отвечайте правду на то, что я спрошу.
Сусанна поглядела Басанову в лицо и весело рассмеялась.
— Я знаю вперед, о чем вы спросите… Ну-да, правда, да!..
— Да что, что я спросить хотел?
— Да знаю, догадалась… Любопытствуете узнать, снова ли я к Гончему по-прежнему… Ну, понятно, кажется?
— Ну, и что же?.. Опять все к старому вернется?
— Да, Дмитрий Андреевич!
— Уди-ви-тель-но!.. — протянул Басанов.
— Нет, не удивительно… В другой раз я вам загадку всю объясню, и вы поймете… диковинное станет совсем простым… Но теперь я хочу поскорей Гончего определить на службу и иметь его поближе к себе, потому что дела наши плохи.
— Дела коллегии? Дела управления?..
— Нет, я не про то! Я про вас, про вашего злодея! Нам нужен умный человек, а у нас все глупые и ленивые. Когда-то был один заправитель, умница Змглод, да и тот теперь совсем стал мокрой курицей. И вот нам нужен такой же, как и он: умный, преданный, искусный во всяком деле.
— И преданный?.. — спросил Басанов.
— Понятное дело! Как же вы не можете понять, что человек, столько настрадавшийся, которого я снова приближаю к себе, будет меня боготворить пуще прежнего, а потому должен любить и вас! Врагов у него теперь не будет, врагами станут только те, кто против меня и против вас! И он же займется розыском того злодея, что стрелял в вас. Мы много говорили об этом. Он с такой уверенностью толковал, что злодея найти можно, что я даже удивилась. Он говорил: «будь я в доме от зари до зари, я бы сейчас пронюхал, кому выгода от смерти Дмитрия Андреевича». И он мне толково все объяснил. Действительно, надо к этому делу иначе приступить. Обиженных вами в Высоксе нет ни единой души. Стало быть, человек этот не мстил за обиду. Этому человеку нужна ваша смерть по какой-либо совсем иной причине. Вот, что толково объясняет Анька или Онисим… Я больше не стану его звать прежней собачьей кличкой. И вот Онисим говорит, что дело это возможное, хотя время упущено. Надо было искать по свежим следам. Но он и теперь берется.
— Давай Бог! — проговорил Басанов, оживляясь. — Давай Бог! Уж очень оно меня смущает… За что? Кто такой? И как же так жить: живешь, никого не трогаешь, напротив, всех перемиловал, и вдруг этакое! За что?..
— Стало быть, Дмитрий Андреевич, с вашего разрешения я объявлю Гончему, чтобы он завтра же являлся вас якобы упрашивать, просить прощения и просить, чтобы вы его взяли обратно к себе на службу. Он даже хочет опять считаться вашим крепостным и изорвать свою отпускную.
— Этого по закону нельзя! — улыбнулся Басанов.
— Как? Он хочет приписаться в ваши заводские крестьяне…
— Закон воспрещает, Сусанна! Да это пустое. Пускай числится купцом или как хочет!
— Так завтра вы его примете?
— Пускай приходит.
И, помолчав мгновение, Басанов развел руками и прибавил:
— Да. И вправду диковинное вы мне нынче объявили! Сусанна Юрьевна поднялась довольная и быстро двинулась к себе наверх. Когда она проходила через большую залу, где стоял князь Никаев, он проводил ее ненавистным взглядом и проворчал:
— Вот бы кого прежде других похерить! Прежде Дмитрия Андреевича! Вот она змея подколодная! Кто все повершил? Кто старика похерил? Кто венчание приказал? Попадись ты мне под руку! Да, может, и попадешься!
XVII
Князь Давыд тотчас же вошел в спальню Басанова и сел около него. Дмитрий Андреевич, обещавший Сусанне Юрьевне никому ничего до завтра не сказывать, решил, однако, что любимцу Давыду можно все тотчас же сказать. И он передал ему новость и весь свой разговор с ней.
Тот, взволнованно выслушал, не говоря ни слова.
— Ты еще пуще меня удивился! — сказал Басанов.
Князь молчал, как пораженный громом.
— Чего же ты? Будто даже тревожишься?
Давыд покачал головой и выговорил:
— Простите, только бабы на этакое способны! Что же это такое? Ведь это, стало быть, если мы разыщем, кто в вас стрелял, так мы его сейчас управляющим коллегии сделаем, а то вот при вас он будет состоять: Михалис, я да он!.. Первым приятелем Вашим будет!.. Ведь так выходит!
— Да, правда твоя! Но, видишь ли, она иначе сказывает…
И Басанов передал Давыду все доводы, приведенные Сусанной Юрьевной.
Давыд встал со стула, начал ходить по спальне около сидящего Басанова, сильно волнуясь. Затем вдруг у него как бы вырвалось против воли:
— Никогда, никогда я бы этого не разрешил!..
Голос его, подавленный тревогой, подействовал на Басанова. Он тоже вдруг сильно смутился.
— Да скажи — почему?
— Как — почему! Хотел он когда-то зарезать вас, зная, что вы у Сусанны Юрьевны сидите. Вместо вас вышла на балкон она. Тогда он хватил ее, с тем, когда ухлопает, уложит и вас. Дело не выгорело, потому что в доме все поднялись от крика. Ему и тронуть вас не удалось. Но вот он взялся инако: пошел к Аниките Ильичу, погубил вас еще того хуже… Тут по воле Божией все перевернулось. Аникита Ильич скончался, а вы стали барином Высоксы. Но злоба его на то, что Сусанна Юрьевна из-за вас отдалила его, осталась старая. И вот он опять пробовал убить вас в лесу.
— Он ли? — воскликнул Басанов.
— А кто же другой? Я не хотел говорить прежде наверное. А теперь скажу. Он. Все мои розыски, что я вел и веду, прямо ему улики.
— Он в те дни сам еле жив лежал у Ешки-знахарки.
— Лжет, бестия. Лжет. Его накануне ввечеру видели близ охотного дома. И я знаю, кто видел, и вам…
Никаев запутался, боясь запутаться во лжи, неподготовленной и измышленной внезапно… Но хитрый план вдруг созрел в его голове.
— Да ведь и вы и все думали прежде на Гончего!
— Да, я думал, правда, но Сусанна Юрьевна меня разговорила!
— Ну, а меня она не разговорит! — злобно вскрикнул Давыд. — Я как прежде думал, что это он, так и остался при своем. Да еще и улики теперь имею…
— Так как же быть тогда? — развел руками Басанов. — Как же его в дом-то брать теперь?
— А вот об этом и подумайте!
Наступило молчание. Басанов глубоко задумался и затем произнес тихо:
— Озадачил ты меня! Что же теперь делать? Я ей разрешение дал. Назад слова брать не хочу. Да с ней и нельзя. Ты знаешь: она что хочет, то и творит. У нее есть на меня такое слово, что…
И Басанов махнул отчаянно рукой.
— Да. И творить через край даже! Все сказывают, что вы якобы младенец, на помочах у нее. Не вы — барин — владелец Высоксы, а она — барышня — настоящая владелица. Хоть раз-то бы вы уперлись.
И, помолчав мгновение, князь снова заговорил:
— В доме будучи, ведь он может ночью прокрасться вот сюда и хватить вас ножом среди сна. Он же в этом деле не новичок, — усмехнулся Давыд озлобленно. — Он знает, как орудовать, чтобы человечью кровь проливать. Только удивляться можно Сусанне Юрьевне! Диво дивное! Чем больше думаешь, то больше мысли путаются! И впрямь скажу опять — только бабу на этакое взять! Как же это?.. Вчера меня человек чуть не зарезал, а сегодня я с ним спать лягу. Да что же это? Разве кто, только совсем ума лишась, на этакое пойдет!
Басанов, уже совершенно смущенный, хотел что-то отвечать, но в эту минуту дверь отворилась, и Дарья Аникитична, ведя с собой за руки двух маленьких мальчиков и в сопровождении старухи Матвеевны, вошла в спальню.
Старший мальчик, Олимпий, сурово и косо оглянул всю комнату и уперся глазами в отца, твердо и упрямо. Младший, Аркадий, напротив, добродушно усмехался и губами, и большими светлыми материнскими глазами.
Дмитрий Андреевич оглядел обоих сыновей и в сотый, если не в тысячный, раз выговорил, кладя руку на старшего мальчугана и закидывая ему голову назад:
— Живой Аникита Ильич! Гляди, Давыд! Ну, разве не правда? Гляди! И глаза, и нос, и рот. А пуще всего глаза! Ишь как смотрит! Маленький Аникита Ильич! Вырастет, будет владельцем Высоксы, и тогда…
— Тогда, — перебил Давыд резко, — порядки будут иные, чем теперь! Тогда у него никто тут чудить не будет. И пойдет все по-старому, как было при Аниките Ильиче!
И, нагнувшись к мальчику, он прибавил шутя, хотя голос его продолжал быть суров:
— Так, что ли, Олимпий Дмитриевич? Ты не дашь в Высоксе разным бабам чудить?
Олимпий удивленно, упорным взглядом, поглядел в глаза князя Давыда, ничего, конечно, не понимая, но что-то думал свое и, как всегда, тайное. Никакими допросами нельзя было заставить мальчугана сказать, о чем он думает.
Дарья Аникитична, понявшая по голосу Давыда, что есть что-то новое, тотчас вообразила, что эта новость есть, конечно, последствие разговора наедине между мужем и Сусанной Юрьевной.
— Кабы знали вы, Дарья Аникитична, — обернулся к ней Давыд, — какие в Высоксе чудеса в решете окажутся не ныне-завтра! На ночь запирайтесь. Все двери запирайте, и свою тоже и детскую тоже.
Дарья Аникитична превратилась совершенно в прежнюю наивную Дарьюшку. Она широко раскрыла рот, а в больших да еще вытаращенных глазах появилась тревога… неведомо о чем — от бессмысленного перепуга, или от чего иного, ей ведомого. А князь не удивился этой тревоге.
Дмитрий Андреевич переводил глаза с жены на Никаева, с его лица снова на лицо жены. И в их взглядах, которыми они обменялись, показалось ему внезапно что-то особенное, чего он прежде никогда не замечал. Она будто уже знает, о чем дело идет. Он будто своими глазами ей сказал все… Они будто друг дружку понимают, ничего не произнеся и не объяснив.
«Что же это такое? — подумал он. — Ведь он же ничего не знал, я же ему сейчас про Сусанну и ее затею поведал, а он Дарьюшке еще ничего не рассказал. А они смотрят, и в глазах у них будто видно, что они знали дело. Или будто читают друг у дружки мысли… Удивительно!..»
— Чего ты перепугалась? — спросил он жену.
Дарья Аникитична смутилась сильнее от вопроса и снова глянула на князя Давыда с мольбой во взгляде.
— Чего же на него глядеть? Ответствуй сама мне, — сказал Басанов. — Он про двери заговорил, чтобы запирать на ночь, а ты насмерть перепугалась.
— Про двери, — залепетала она, но запнулась. Князь выручил ее, заговорив и объясняя, что он шутит.
— Теперь осень, свежо… Надо двери от стужи запирать, — добавил он.
Но Дарья Аникитична продолжала глядеть тревожно. Глаза ее сказали князю, что она знает, что он лжет, а Басанов тоже подметил этот взгляд и тоже понял его смысл.
«Должно быть, — подумал он, — она всегда так смотрит, что всякий может у нее по глазам все мысли читать… Да, вот за восемь лет не видал я и не знавал за нею такого…».
Басанов посадил к себе на колени обоих мальчиков и стал их расспрашивать про их «лошадок», только что привезенных из Москвы из лучшего игрушечного магазина».
Аркадий заговорил громко, весело, крикливо, совсем детским голоском… Олимпий отвечал лишь на вопросы отца, кратко, глухо и странным голосом, будто сурово недовольным. Иногда он отмалчивался, и старуха Матвеевна, стоявшая около барина и детей, понукала его.
— Отвечай же папаше… Что же молчишь…
В те же минуты князь Давыд отошел к окну и упорно, пристально глядел на Дарью Аникитичну. Когда она случайно глянула на него, он едва заметно кивнул головой, как бы подзывая. Она тихо и, видимо, робея, двинулась к нему.
— Глядите-ка, Дарья Аникитична, — сказал он громко, — какой чудной дым повалил из доменной печи…
Они стали глядеть в окно, стоя спиной к Басанову. Князь Давыд заговорил тихо:
— Онисим Гончий завтра прощен будет…
— Жив?! — изумилась она.
— Завтра прощен будет им… и в канцелярию определен по-старому… Жди я беды какой новой… Ну, эта горше всех жданных…
— Отчего?..
— Проныра, каких нет.
— Что же с того?
— Хитрее Змглода… Этого не испугаешь ничем. Этот и Аникиты Ильича гуляющего не струсит!.. — прошептал Никаев и прибавил громко: —Вона! Вона! Дым-то еще чуднее повалил…
Он хотел снова заговорить, но в это же мгновение один из мальчиков взвыл. Олимпий, сидя у отца на одном колене, все-таки ухитрился подраться с братом, сидящим напротив.
— Ну, опять за драку! — воскликнул Басанов и, спустив с колен обоих мальчиков, он позвал жену. Она приблизилась.
— Не знаю, что из него будет. Не видал я этакого драчуна, — сердито сказал он. — Хоть бы ты что придумала против его задора.
— Что же я могу?! — беспомощно отозвалась Дарья Аникитична.
— Уж очень балуешь.
— Я ничего не могу. Только одну Матвеевну он больше еще других слушается. Таков нрав.
— Аникита Ильич. Второй! — пошутил князь. — Охотник драться. Гусаром будет, как и вы. Тогда держи все ухо востро. Да, тогда посмотрите, чего натворит.
XVIII
Между тем Сусанна Юрьевна вернулась к себе радостная, сияющая и тотчас отдала такой приказ, что через полчаса весь дом, казалось, заколыхался на основании.
Все лица дворни и нахлебников были не то крайне изумлены, не то почти перепуганы.
Первая, оторопевшая настолько, что едва не упала на пол, была Угрюмова, так как ей отдала приказ барышня, чтобы передать кому-либо из дежурной дюжины.
И Сусанна Юрьевна по-детски восторженно радовалась впечатлению, ею произведенному.
— Анна Фавстовна, — сказала она, — прикажите сейчас дойти к церкви в дом пономаря и позвать ко мне тотчас сюда…
И она умышленно запнулась…
— Пономаря? — спросила Угрюмова.
— Онисима Гончего!
Разумеется, как ошалела Анна Фавстовна при этом приказе и имени, так же ошалели и все в доме, где весть разнеслась с быстротою молнии.
Все считали человека мертвым давно, а его барышня требует наверх к себе. Кто-то заподозрил, что барышня помешалась в мыслях.
Однако, через час после приказа все увидели сами Гончего с рукой, обвязанной полотном, похудевшего, бледного, но красивого. Он явился с главного подъезда и по большой лестнице поднялся наверх… Он был однако смущен, шел, опустя глаза, и лишь изредка поднимал их, кивал головой знакомым…
Сусанна Юрьевна встретила его сияющая…
— Что вы это надумали? — вымолвил Гончий. — Я верить не хотел. Ведь было вчера сказано, что только через неделю я пойду прямо к Дмитрию Андреевичу.
Сусанна, восторженно счастливая, усадила его около пялец, заперла дверь на ключ и стала объяснять, что она уже рассказала все Басанову, и он знает, что Гончий жив и невредим и в Высоксе…
— Ну, стало быть, успокойся, все в порядке, — кончила она.
— Я не хотел идти. Так удивился.
— Я бы опять послала.
— Зачем же идти, теперь, днем? Сюда, прямо к вам?
— Теперь не те времена, что при Аниките Ильиче были, — рассмеялась она. — Мне не от кого и не из-за чего таиться. Что хочу, то и делаю!.. Помни…
Гончий задумался, но повеселел. Он плохо верил в успех… А теперь все уже наладилось. Барин обещал простить… И от радостного смущения, не зная, что сказать, он вымолвил:
— Ну, что цветочек-то вчерашний? Добились? Вывели?
— Да, вот он! — весело отозвалась Сусанна.
И, оторвав приметанное тонкое полотно на вышитой части подушки, она показала маленький цветочек, изображавший незабудку.
— Да, это вот цветочек, — прибавила она смеясь. — А вот будут скоро ягодки!
Гончий удивленно поглядел на нее.
— Что вы сказываете? — спросил он серьезно, зная, что подобного рода загадочные выражения в устах Сусанны бывали неспроста. — Что-нибудь особое? — прибавил он.
— Да. И вовсе, и совсем особое, Онисим! Новое для тебя, будет новое и для всех, а само по себе… ух, какое особое! Помнишь, когда ты первый раз шел ко мне по винтушке около полуночи в эту комнату… Помнишь, ты опасался, что я прикажу тебя умертвить? Ну, вот это твое тогдашнее опасение мне новые мысли дало. Продумала я много об этом и сказала себе. Да, и вправду нужен мне человек, который бы слушался меня так, чтобы по моему указу мог и убивать… а главное, такой человек, при котором сама я…
Сусанна запнулась и смолкла.
— С тех пор, что меня ты ножом хватил, — начала она снова, и видя, что Гончий собрался отвечать, она протянула руку над пяльцами, остановила его жестом и прибавила совершенно другим голосом, прочувствованным:
— Обожди говорить. Слушай, что я тебе скажу! С той поры всякий раз, что до меня доходил слух о каком-либо новом и худом приключении в Высоксе, меня страх брал. Чуялось мне, что хотя я здесь делаю, что хочу, все равно, что настоящая барыня всех заводов, я все-таки в одиночестве. Как перст одна или как круглая сирота! И я всякий раз шибко смущалась. Теперь, с тех пор, что ты здесь около меня, я, Аня, ничего не боюсь: я знаю, что около меня умный человек и не только что преданный, а которому я дороже всего на свете. И я знаю верно, что со мной ничего худого приключиться не может, что он меня как бы загородит от всякой беды, даже от многих бед. Так ведь?..
В голосе Сусанны было так много чувства и нежности, что звук ее подействовал на Гончего. Выражение лица его изменилось, стало серьезнее, зато глаза блеснули ярче… Он долгим взглядом, в котором ясно сказывалось страстное обожание, пригляделся к ее лицу, затем опустил глаза и поник головой.
— Что же ты молчишь?! — удивилась она.
— Что же мне на это сказать?.. — отозвался Гончий шепотом. — Что на это скажешь?! Вы сами сказали!..
И, вздохнув, он снова нежно поглядел на нее и вымолвил отчасти грустно:
— Да, мудрено такое придумать, такое худое, что бы могло стрястись на вас, пока я жив, пока я здесь в доме около вас. Слыхал я, как-то люди говорят: не то, что смерти не испугаюсь, а пускай, мол, сто смертей придут — и тех не испугаюсь! Вот уж сколько лет, что вы одна у меня в голове и на сердце — и чего-чего я ни перевидел за это время! И любили вы меня, и ненавидели, и казнили, и опять полюбили… А во мне моя любовь к вам за все время только пуще разгоралась! И теперь, вместо того, чтобы все было потише на душе, — все пуще огнем горит! Сам я, Сусанна Юрьевна, когда обо всем этом размышлял и теперь вот размышляю, то вот вам, как перед Богом, ничего уразуметь не могу. Что это такое? Это же самое, что во мне огнем горит, заставило меня тогда желать вас зарезать… А когда я без руки ушел — зачем я ушел? Пытки, что ли, испугался, смерти? Того, что меня замучат до смерти? Богом божусь, что нет. Совсем не то!.. Вы же меня злобно казнили, и я уже ушел, упас себя, чтобы жить на свете. А зачем? Нешто моя жизнь была красна, легкая, веселая? Нет! Ушел я только за тем, чтобы потом опять тайком, хоть раз в месяц, бывать и укрываться около Высоксы и видеть вас. Хоть один-то раз в месяц глянуть на вас. И всякий иной человек на моем месте почел бы вас заклятым врагом и злодеем своим, а я ушел без руки, еще пуще по вас безумствуя!.. А вот вы теперь сказываете, что не боитесь ничего и никого, потому что я около вас и вас могу охранить… Да, пока я жив и здесь, вас не то что один человек, — приведите сюда полсотни народа и прикажите мне их всех перерезать одним ножом, и я их всех перережу. Что мне, что на том свете Господь накажет! У меня на этом свете, уж не знаю как это словами сказать… на этом вот свете у меня Господь есть… вот он, сидит за пяльцами!.. — тихо и странным голосом выговорил Гончий.
Наступило молчание и длилось довольно долго. Лицо Сусанны оживилось, а затем она вдруг рассмеялась.
— Чему же вы?.. — почти сумрачно произнес Гончий.
— Глупый ты, никак обиделся?.. Я тебе скажу, чему смеюсь… Смеюсь над собой, смеюсь над обстоятельствами, что за эти годы были со мной. Я смеюсь, сравнивая других разных с тобою, и дивлюсь, что я всех этих разных кисляев могла тебе предпочесть! Зато теперь, Аня, я знаю цену людям!
И после минутного молчания Сусанна Юрьевна, вдруг оживясь, вымолвила:
— А главное-то, я и не сказала еще тебе про ягодку.
— Что же такое? Какая ягодка?
— А то, что завтра ты должен идти к барину, чтобы просить прощения.
— Завтра же? — будто смутился Гончий.
— Чего же ты глупый!
— Да верно ли, что Дмитрий Андреевич простит?
Сусанна Юрьевна рассмеялась звонко и прибавила неясно:
— Вот уж глупый. Совсем глупый.
— Я верю… Да уж очень все это диковинно.
— Что он простит — недиковинно. А вот после прощения что будет, то диковинка.
— А что?..
— А вот сам додумайся.
— Совсем не могу, Сусанна Юрьевна.
— Будешь ты опять в канцелярии…
Гончий широко раскрыл глаза…
— Да. Но это еще не все, Аня… Дальше пойдут другие ягодки, еще побольше да послаще…
— Что же такое?
— Нет. Этого я теперь тебе не скажу… Теперь ты уходи к себе обратно, а вечером приходи опять по винтушке. Вечером я тебе скажу, что ты должен обещать Дмитрию Андреевичу, чтобы его совсем и сразу околдовать, чтобы он души в тебе не чаял. А теперь уходи.
«Что на свете только творится!» — думал Гончий, выходя из комнат барышни.
Когда он спустился по большой лестнице и поровнялся с прихожей, где была дежурная дюжина, двое рунтов остановили его…
— Тебя приказано взять… — сказал один из них.
Гончий слегка переменился в лице и остановился истуканом, более озадаченный, нежели смущенный.
— Кто приказал? — вымолвил он несколько глухо.
— Обер-рунт… Князь… Обожди… За ним побежали. Сам скажет…
— Барин указал ему?.. — спросил Гончий. — Или сам он?
— Нам ничего неведомо. Сейчас придет…
В ту же минуту из анфилады парадных комнат показался князь Давыд и быстро шел…
— Взять его… Запереть в рунтовом доме! — приказал он громко еще издали.
— Барин указал? — спросил Гончий, сильнее меняясь в лице.
— Нет. Моя обязанность такая… — ответил князь. — Я сейчас доложу Дмитрию Андреевичу, что ты проявился… да еще в доме…
— Меня вызвала Сусанна Юрьевна! — совершенно другим голосом выговорил Гончий, смелее и почти вызывающе.
— Все это ты сказываешь… — ответил князь, не глядя ему в лицо и сильно волнуясь. Волнение его многое сразу объяснило Гончему.
«Мудрит! — подумалось ему. — Но что будет?.. Барин слабодушен… Семь пятниц у него на неделе…» Однако он обернулся к дежурной дюжине и выговорил:
— Братцы, кто из вас желает одолжить меня? Добеги наверх сказать Сусанне Юрьевне, что меня Давыд Анатольевич под стражу взял без всякого приказа барина.
Но никто из дворовых не двинулся… Все робко потупились, как-то переминаясь с ноги на ногу.
— Веди! — крикнул князь.
Гончий в сопровождении обоих рунтов двинулся на подъезд, а затем по улице. Прохожие останавливались и глазели, дивясь и недоумевая… Знавшие уже, что Гончий, проявившись, был даже принят барышней, дивились больше тех, которые узнали теперь вдруг, что он жив.
Между тем князь был уже в спальне Дмитрия Андреевича и объяснялся:
— Я свою должность рунтовую справляю. Вы мне по дружбе вашей и доверию сказали про Гончего и про затеи Сусанны Юрьевны. Но я, как ваш любимец, а не как обер-рунт, знаю, что барышня затевает… И вот я, узнал, что он проявился и даже в дом пролез, счел моею прямою должностью его взять… А теперь что прикажете, то и будет…
Басанов смущенный, озадаченный больше, чем, быть может, сам Гончий при внезапном аресте, сидел, широко раскрыв глаза на князя и молчал.
— Время еще есть, Дмитрий Андреевич. Одумайтесь. Она вас погубит… Ей он — бывший приятель, коего она опять по прихоти пожелала… опять, завести у себя… А вам-то что же он? Тот же злодей, что хотел вас убить! Одумайтесь… Дело сделано. Он взят, и сейчас его запрут… Прикажите хоть просто выпустить, но прогнать с Высоксы и не дозволять больше являться под страхом, что мы его сдадим в наместничество. Говорю вам: только прогнать дозвольте. И того довольно будет… Сказываю я вам, что у меня улики… У меня свидетели есть, что видели его близ охотного дома в ночь перед умыслом на вас… Одумайтесь!
Князь наконец замолчал и ждал в крайнем волнении. Басанов молчал.
— Что же, Дмитрий Андреевич? Вы — владелец Высоксы. Ваше одно слово — что закон.
— Тысячи разов говорил я тебе, — глухо произнес Басанов, — тысячи разов…
И он смолк.
— Что? — нетерпеливо вскрикнул Никаев.
— У нее на меня слово… Мое слово, сказываешь, закон. Да… но у нее есть слово на меня, и я ничего против нее не могу…
— Я знаю, какое это слово… и говорю, что оно пустое… Стращает она вас. Зря… И если вы хоть бы раз один…
Князь не договорил. Дверь с шумом распахнулась, и в спальню вошла тихо, мерным шагом Сусанна Юрьевна. Она подошла к Басанову и, не взглянув на князя, вымолвила спокойно:
— Прикажите обер-рунту Никаеву сейчас освободить Гончего.
Басманов хотел что-то вымолвить, но слова застряли, казалось, у него в горле.
— Ну… в таком случае прикажите пока обер-рунту выйти отсюда вон, чтобы нам переговорить…
— Сусанна Юрьевна! — воскликнул князь. — Я ради моей преданности…
— Дмитрий Андреевич! — вдруг вне себя, громко и даже грозно произнесла Сусанна. — Прикажите сейчас выйти ему вон… Я только этого прошу.
— Ступай! — едва слышно произнес Басанов, искоса глянув на Никаева.
— Так уж прикажите прямо выпустить! — дерзко смеясь, выговорил князь.
— Поди вон! — вдруг вспыхнул Басанов и, когда князь двинулся, он крикнул ему вслед: — Набаловал я вас всех!
XIX
Казалось, что всем обитателям Высоксы давно пора уже было привыкнуть ко всяким удивительным событиям, а между тем то, что случалось, было каждый раз действительно диковиной, и молва о случившемся в один день обегала все заводы.
В доме появился и был принят самим барином, а потом барышней, и принят особенно милостиво, тот самый человек, который, когда-то едва не убил барина, а затем донес на нее и на молодого барина невесть что старому барину… затем он же недавно подвергся срамной казни… затем он же был подозреваем в покушении на охоте… И вдруг теперь, с подвязанной еще рукой, он явился, строго поглядывая на всех, как если бы, кроме благих дел, ничего никогда на Высоксе и не творил! Как ни старались все объяснить, почему барышня и барин простили своего злодея, никто, конечно, не мог найти ключа к такой загадке.
А в день приема Гончего барином, вечером, распространился еще более удивительный слух. Злодей, убийца, беглый, позорно казненный, не только совсем прощен барином, но якобы снова будет определен в канцелярию.
И действительно, на третий день Дмитрий Андреевич объявил Пастухову, что Гончий, как способный и знающий человек, должен быть зачислен снова к нему под начальство.
И Гончий появился в той же канцелярии, где не бывал уже восемь лет, и сразу стал «совать нос» во все. Прошла только неделя, и канцелярия ахнула. Беседуя с Пастуховым, Гончий при всех служащих и писарях объяснил своему начальнику, что, по-видимому, у него полный беспорядок в делах. И, конечно, так идти не может… Нужен совершенно иной порядок! Он, Гончий, именно об этом завтра же доложит барину.
Это заявление обежало Высоксу еще быстрее, чем весть о появлении «безрукого» в доме. В поведении Гончего сразу все почуяли что-то… и не ошиблись… Простой канцелярист с того же дня стал бывать у барина со своим собственным отдельным докладом. Иногда он был вызываем для совета как к барину, так и к барышне. Еще через неделю Пастухов был внезапно уволен, а Гончий из простых писарей во времена Аникиты Ильича стал сразу начальником канцелярии.
Дмитрий Андреевич, немало смущенный сначала просьбой Сусанны насчет прощения Гончего, смущенный еще более мнением о нем князя Никаева, теперь сразу и круто пришел к искреннему и совершено противоположному убеждению.
Он относился к Гончему не только милостиво, но дружелюбно, а вместе с тем сам стал заметно бодрее и веселее. О причине этой перемены духа он, однако, никому не проронил ни единого слова. Даже Никаеву и Михалису на их настойчивые расспросы отказался что-либо объяснять.
— Лучше себя чувствую. Вот и все… — загадочно усмехаясь, говорил он.
Причина, однако, была простая. Гончий, которого князь Никаев якобы продолжал подозревать в покушении на жизнь Дмитрия Андреевича в лесу, доказал барину, при помощи вызванной знахарки и старика-крестьянина, что он в день покушения лежал у Ешки в избе почти без движения от слабости. Но вместе с тем Гончий взялся открыть злодея непременно, во что бы то ни стало, если у него будет власть. И он был назначен заведующим канцелярией уже при новых условиях, при которых его значение и власть были уже не те, что при Пастухове. Канцелярия была прямо подчинена полиции. Возмущенный князь Никаев немедленно отказался от своей должности, и снова назначенный обер-рунт Ильев стал под полную команду Гончего.
— Дела всякие пока по боку! — заявил он всем. — Первое и главное дело теперь — разыскать, кто покуситель…
Вся Высокса, недоумевая, разводила руками. Понемножку выяснилось, что вследствие разных перемен главною личностью в Высоксе стал вдруг тот самый человек, который еще недавно сидел у столба.
— Безрукий — барин теперь у нас! — говорили все.
Новое прозвище всем нравилось из зависти.
Прошло недели три. Гончий, бывавший, конечно, всякий день с докладом у барина, явился однажды, как всегда, поутру, прежде других лиц, но затем попросил разрешения у Дмитрия Андреевича явиться вновь вторично по особо важному делу после того, как барин примет разных просителей.
Басанов поправился настолько, что уже одевался, выходил в соседнюю со спальней комнату и там принимал самых важных посетителей Высоксы. Приняв поспешно нескольких просителей и гостей по делам заводским, он сам послал тотчас за Гончим.
Тот, явившись вторично, поглядывал как-то особенно весело, будто радовался чему-то.
— Ну, какое дело? — спросил Дмитрий Андреевич, чуя что-то особенное.
— Дело самое важное… Я если еще не разыскал вашего злодея, то проследил… Напал на след.
— Что ты?! — воскликнул Басанов и чуть не привскочил в своем кресле.
— Совсем, говорю, не разыскал, представить его вам сейчас не могу, но полагаю, что если он не у меня в руках, то на сих же днях я его накрою.
— Кто же такой?..
— Нет, Дмитрий Андреевич, увольте! Не скажу! — решительно ответил Гончий.
— Как не скажешь?..
— Не могу…
— Это отчего?
— Это значит — все дело испортить.
— Пустое! Говори…
— Не скажу ни за что, хоть вот сейчас меня опять к столбу приковывайте! — объявил Гончий резко. — Пока я его не накрою совсем, до тех пор не назову! Да и зачем называть? Если будет ошибка какая, я только себя погублю. Нет. Дозвольте тогда его назвать, когда я его уж якобы в руках держать буду, буду иметь все доказательства. Я решил только доложить вам затем, чтобы вы были совершенно спокойны, что он найден. Но первым делом, Дмитрий Андреевич, нужно, чтобы вы совсем справились, были совсем здоровы и благополучны… А до тех пор я ничего вам вновь не доложу и злодея не назову и не приведу.
— Это почему?
— Нужно, чтобы вы прежде совсем справились, выздоровели, окрепли.
— Не пойму я этого!.. — изумился Басанов. — На что вишь нужно тут мое здоровье, чтобы злодея словить?..
— Словить его я могу и без вас. Но чтобы объяснить вам, кто он такой, нужно, чтобы вы были совсем здоровы.
— Ничего я не пойму! — вымолвил Басанов.
— И трудно, Дмитрий Андреевич, понять, не зная. Если угодно, я скажу: все это дело такое страшнеющее, что вам нужно совсем справиться, прежде чем услыхать от меня то, что я узнал и что я вам доложу. Скажи я теперь, вас это страшнеющее дело опять уложит в постель.
— Да никак ты ума решился?! — воскликнул Басанов. — Нешто может быть такое дело, услыхавши о котором я заболеть даже могу? Посуди, коли умный ты малый, что твой язык болтает!
— Нет, Дмитрий Андреевич, — холодно произнес Гончий, — что я сказал, то и опять повторю: пока вы не будете совсем справившись, до тех пор я ничего не прибавлю! Поправляйтесь, и тогда я приду с моим докладом…
Побывавши у барина с загадочным объяснением, Гончий отправился прямо наверх. Здесь он вошел к барышне без всякого доклада.
Сусанна Юрьевна сидела, как всегда, за пяльцами, но теперь она вышивала гладью, шелками и золотом что-то новое с замысловатым узором. Это была подушка, которая предназначалась ею тому же Гончему. Подушка должна была иметь особенное значение. Предполагалось, что когда она будет, то появится в квартире Гончего на самом видном месте, и всякому к нему входящему будет известно, что это — работа самой барышни.
Сама Сусанна это надумала.
Гончий сел, как всегда, около пялец и выговорил, вздохнув:
— Устал я…
Сусанна Юрьевна удивленно глянула на него.
— Вы думаете, я пешком далече ходил. Нет, устал инако. Дела много себе забрал. Во все нос совать стал, как в Высоксе сказывают теперь. А это, Сусанна Юрьевна, помудренее, чем ходить отсюда в Москву и обратно.
— Сказывают тоже, — улыбнулась Сусанна, — что ты и дурачества всякие забываешь… Зачем-то на прошлой неделе с двумя рунтами и с дюжиной крестьян куда-то пропадал сутки… Да еще строжайше им приказал никому не сказывать, где вы все были и что делали.
— На турку ходили! — рассмеялся Гончий. — И у него пушки и знамена отбили. Слушайте-ка… Пушек я не отбил… А вот это у неприятеля-врага отбил… Глядите-ка. Что это такое, по-вашему?
Гончий вынул что-то из кармана маленькое в бумажке и, развернув, показал… Это была пуля, несколько сплюснутая… Сусанна Юрьевна глядела недоумевая.
— Это, дорогая моя барышня, пуля… Нашел я ее в лесу, в стволе дерева… А теперь буду искать ружье, из коего она вылетела… И это будет много легче. Найти ружье, карабин зовется, легче будет, чем найти в лесу пулю. Карабинов в Высоксе только три, и все три бариновы… Только бывает часто, что он их ссужает своим друзьям-приятелям… Вот и вся сказка.
— Ничего я, Аня, не поняла. Что ты? Ты будто…
— Свихнулся? Так, что ли?.. Ну, вот, увидите скоро, что на Высоксе стрясется! — решительно произнес Гончий, снова кладя пулю в карман.
— Поясни. Я совсем-таки ничего разобрать не могу.
— Пока нечего и разбирать… Придет на это свое время. А пока я вам свежую новость скажу. Хотите?
— Какую новость? Говори.
— Эта новость — золотая весточка!.. Я напал на след злодея. Да-с.
— Какого злодея? — удивилась Сусанна.
— Как можно этакое спрашивать, Сусанна Юрьевна! Один у нас теперь злодей. Прежде было два! — усмехнулся Гончий. — Я да еще один, неведомый… а теперь он один остался.
— Что ты?! — вдруг поняв, встрепенулась Сусанна Юрьевна. — Говори! Кто же? Чужой кто?.. Или из наших?
— Это как понимать: кто чужой, а кто наш?..
— Здешний? Высокский?!
— Высокский.
— Дворовый?
— Нет.
— Мужик? Заводский рабочий?
— Нет, Сусанна Юрьевна, — ухмыляясь ответил Гончий.
— Кто же такой? Говори скорее.
— Нет. Сказать не могу.
— Как не можешь?
— Нельзя… пока не буду его держать в руках! Как я докладывал барину, так и вам доложу. Пока я не накрыл совсем, до тех пор не назову. А накрою я его скоро.
— И он здесь в доме? — тревожно спросила Сусанна.
— У нас в доме.
— Дворянин, стало быть? Из приживальщиков или из гостей?
— Больше ничего я вам, Сусанна Юрьевна, не скажу. Хоть убейте! Ни единого словечка.
— Да что же ты меня за дуру какую считаешь, что я пойду да разболтаю? — рассердилась вдруг Сусанна.
— Не гневайтесь. Я знаю, что вы во сто крат и умнее меня, и осторожнее. Но не могу я! Я дошел размышлением до того, что сам себе назвал по имени этого злодея, а другому кому его назвать было бы совсем малоумно. Дайте прежде мне самому себе не в мечтаниях, а въяве доказать, что я не ошибся, и тогда, конечно, вам первой приду я сказать. И если ошибки нет, то мы подождем до тех пор, пока Дмитрий Андреевич не справится совсем и не начнет выезжать. Тогда мы ему и скажем.
— Зачем же ему справляться? — задала Сусанна почти тот же вопрос, что и сам Басанов.
— А затем справляться, что его мой доклад как обухом хватит по голове, как из пушки выпалит по нем. Если ему сейчас пойти это доложить, так его опять в постель свернет. А вот что, Сусанна Юрьевна, — вдруг рассмеялся Гончий весело, но загадочно. — Скажите мне, думалось ли вам когда о том, какие перемены могут в Высоксе быть, если бы барин Дмитрий Андреевич Басанов вдруг очутился на столе да на том свете? Что тогда может приключиться в Высоксе? Размышляли ли вы об этом?
— Нет!.. — протянула Сусанна, нерешительно и вопросительно глядя в умное, энергическое лицо Гончего. — И чудно даже, Аня! Никогда я не думала. Сейчас первый раз на ум пришло от твоих слов.
— Вот то-то же! Умная вы, уж какая умная, а простых делов не можете решать! Простое вот дело вам на ум не пришло! Вы все тут порешили, что якобы кто-то по злобе или из мести покушался на Дмитрия Андреевича. На меня указывали! А вот я-то именно инако дело рассудил и инако розыски повел, да и на след напал… Ну-с, довольно об этом на нынешний день. Хоть убейте, больше ни слова не скажу.
— Погоди! — вдруг воскликнула Сусанна. — Ах, я дура петая! Вот дура… А ты еще говоришь — умная. Глупее меня не выискать. Ведь я только теперь разобралась в мыслях. Пуля-то эта, пуля! Ведь это — та самая, которой Дмитрий Андреевич ранен был… Ты в лес ездил, шарил… Так ведь?..
Гончий молчал и улыбался.
— И теперь выходит, что… пуля карабинная, большущая… а карабин мог быть в руках только разве у Михалиса… или у какого гостя столичного…
— Сусанна Юрьевна! Любите вы меня? Ну, так докажите! — воскликнул Гончий. — Замолчим про все это!.. Скажу все я вам, сам скажу, а теперь, если вы хоть словечко прибавите, я уйду.
Сусанна замолчала и, склонясь над пяльцами, глубоко и тревожно задумалась.
XX
Прошло около недели…
В доме разнеслась весть самая простая, а между тем всех взволновала. Прежде, бывало, при этой вести, все той же, повторявшейся чуть не раз в неделю, все становились веселее, начиналась радостная суетня в доме и во многих соседних зданиях.
Теперь та же простая весть была принята всеми угрюмо, чуть не тревожно.
«Барин на охоту едет!» — прошло по дому и побежало по Высоксе и по всем заводам.
И всякому невольно вспоминалась последняя охота. Всякий, конечно, понимал, что не каждый же раз, что выедет барин в охотный дом, непременно должно быть покушение на его жизнь. Надо надеяться, что подобного никогда больше не приключится… Однако, злодей остался не разыскан. И далеко ли до греха? Помилуй Бог!
Впрочем, вскоре все успокоились, узнав, что охота будет на болотную дичь… Все, да и барин, будут на виду, на открытом месте, а то и в челноках на озере, охотиться на одних уток…
Тем не менее все единодушно отговаривали Дмитрия Андреевича ехать охотиться. Он был достаточно здоров и бодр, чтобы двигаться по саду, выезжать на прогулку по заводам, но никак не оправившись настолько, чтобы «трепаться» в охотный дом, а затем по болотам… Даже и отдыхая в челноке на озерках и запрудах, он мог утомиться или простудиться.
Сусанна Юрьевна, конечно, более всех отговаривала Басанова» и вместе сердилась на Гончего, который уверял всех, что такая поездка и прогулка принесет только пользу…
— Если почувствует, что устал, — говорил Гончий, — то и не пойдет в болото, останется в охотном доме… А проездка такая ему все-таки дело хорошее.
Князь Давыд, несмотря на крайне враждебные отношения с Гончим, был на этот раз того же мнения. Дарья Аникитична по обыкновению молчала…
После многих споров, пререкательств между разными гостями и нахлебниками, ввиду упорства Басанова было решено ехать, хотя бы только на один день. Выехать в сумерки в охотный дом ночевать, а поутру, отдохнув, покататься барину в челноке и пострелять на пролетную дичь, которую своей стрельбой подымут в болотах другие охотники…
Когда в сумерки снова в зале и у подъезда все и всё было в сборе, кроме псарей и собак, Басанов перед тем, как выходить и ехать, обернулся к Сусанне Юрьевне, пришедшей его провожать, и заговорил с ней тихо, чтобы Дарья Аникитична не слыхала:
— Колдун ваш Онисим.
— Что такое? — удивилась она.
— Ничего у него не разберешь. Не верь я в его преданность, ни за что бы слушаться его не стал… очень уж загадки любит загадывать да колдовать… Но я верю, что он, вас крепко любя, и меня тоже любит… Ну, вот и слушаюсь его, как бы своего наставника питомец какой… Вот теперь и еду в охотный.
— Не пойму я вас, — отозвалась Сусанна Юрьевна недоумевая.
— Говорю вам… привязался Онисим: поезжай, да поезжай. Вот и еду.
— Как?.. — изумилась она. — Аня?.. Онисим? Он вас надоумил?
— С ножом к горлу пристал, — рассмеялся Басанов. — А почему еще сказываю я, что он колдует, — потому что про этакий простой совет всячески просил никому да и вам вот не сказывать.
— Что не сказывать-то?
— Да что он именно науськивает, что не сам я пожелал. Нешто не загадка это?..
Басанов, усмехаясь, двинулся в зал.
Сусанна последовала за ним вместе с Дарьей Аникитичной и говорила про себя:
«Да. Конечно, загадки загадывает мой Аня».
Едва только поезд барина с гостями и прихлебателями отъехал шибкой рысью от подъезда, как в доме, будто по волшебству, воцарилась полная тишина.
Оно было и не мудрено… Дарья Аникитична прошла к себе… Сусанна Юрьевна поднялась наверх… Во всем доме не было никого. Во всех комнатах двух крыльев дома было тоже пусто. Только в нижних этажах оставались старики-нахлебники и дети, так как молодежь тоже всегда уезжала, если не пострелять, то широко покутить в охотном доме. Только дежурная дюжина в передней весело болтала и, достав из ларя карты, принялась играть в «носки», выставив караульного на случай, если явится нежданно обер-рунт с обходом.
Когда стемнело совсем, весь дом, не освещаемый в отсутствие барина, погрузился во тьму. Только передняя, да большой зал были, как всегда, освещены, а равно в апартаментах самой барыни, смежных с залом, виднелся огонь.
В правом крыле дома тоже засветились два окна… Князь Давыд Никаев, ездивший только на медвежьи охоты, и один столичный гость, Хвостов, захворавший накануне, были у себя и сойдясь принялись от тоски за игру в бирюльки по рублю за партию.
Гончий был уже наверху у Сусанны Юрьевны. Она сидела за пяльцами и, гневно встретив любимца, стала его попрекать за его «чудачества» с Басановым.
Он молчал, не оправдывался, но украдкой усмехался.
— Ну, хоть признайся, — приставала она к нему, — хоть. признайся, что ты науськал Дмитрия Андреевича ехать. Я же это верно знаю.
— Он вам это сам сказал? — спросил Гончий.
— Ну, хоть бы и сам.
— Не мог воздержаться! — рассмеялся он. — Есть же такие люди на свете: хоть зарежь их, не могут сдержать языка за зубами! А еще хотят, чтобы им важные дела поверяли, рассказывали все, что надо втайне уметь держать.
— Это же не важное… И если ты не хочешь сознаться сам, то, стало быть, оно…
— Важное, — перебил Гончий…
— Как?
— Так. Если я сказываюсь, что надоумил Дмитрия Андреевича ехать на охоту, даже привязался к нему, упрашивал его… и просил тоже никому про меня не сказывать, то, стало быть, пустое дело — важное дело.
— Просто загадки загадываешь, — сердито произнесла Сусанна Юрьевна.
— Да…
— Балуешься…
— Нет… Загадки не всегда баловство, ради одной потехи.
— Так поясни…
— Придет время, поясню.
Наступило молчание. Сусанна сидела угрюмая, так как чуяла, что Гончий что-то затевает или затеял… И это затеянное им должно теперь совершиться там в охотном доме за эту ночь или завтра днем. Помимо женского любопытства ее мучило «темное» затейничество ее любимца.
Не прошло получаса, как Гончий пришел к ней наверх, он вдруг поднялся уходить.
— Что ты? — окончательно изумилась она.
— Мне надо к себе, Сусанна Юрьевна.
— Зачем?
— Дел много… Вон на домне завтра начнут лить по-новому чугун, я и хотел…
— Полно лгать! — перебила его Сусанна. — Я по голосу твоему… да по всему наконец вижу, что ты что-то строишь… Поужинай со мною, благо я сегодня здесь буду ужинать… Поужинай и уходи.
— Не могу, золотая моя. Ей-Богу! Не могу. Не гневайтесь: дело такое важное, каких в Высоксе и не бывало никогда…
— И все о злодее, что якобы разыскал…
— Понятное дело.
— И ты сейчас махнешь ночью, тайком, в охотный дом?..
Гончий удивленно глянул в лицо Сусанны.
— Догадалась? А!.. Не дура?
Он молчал.
— Что же, ступай… — уже сердито прибавила она. — Я здесь не проболтаюсь за ночь. Да и не с кем… Разве с Анной Фавстовной одной. Ступай. Скачи.
Гончий стоял не двигаясь, будто колебался… Он не мог выносить гнева обожаемой им женщины. Каждый раз, когда Сусанна сердилась на него, в нем как будто сердце ныло.
— Сусанна Юрьевна… — выговорил он наконец. — Я после полуночи… а то и пред рассветом по винтушке опять приду.
— Слетав в охотный дом! — раздражительно произнесла она.
— Ну, хоть бы и так… Дозвольте придти. Может быть, я… ну… может статься, я в эту ночь вам кой-что доложу… правду страшную скажу… Позвольте придти… хоть пред зарей.
После минутного молчания Сусанна выговорила мягче:
— Приходи.
XXI
Был уже одиннадцатый час…
В доме стало совсем тихо… Дежурные, бросив карты, подремывали в передней… Некоторые храпели, крепко заснув: опасаться было нечего, так как обер-рунт редко приходил ночью в дом… И, конечно, ни барыня, ни барышня в такой поздний час не могли пройти через переднюю, давно собравшись спать или уже заснув…
Среди темноты высокая мужская фигура поднялась из сада на террасу правого крыла дома и осторожно вошла в дом и в тускло освещенный зал.
Это был Гончий.
Он был сильно взволнован, озирался такими глазами, как если б явился с преступным умыслом; шептал что-то себе самому, даже бормотал вслух.
Осмотревшись, прислушавшись к комнатам правого крыла и к храпу дежурных, который довольно явственно доносился в зал через анфиладу гостиных, Гончий быстро приблизился к портрету императора Петра Алексеевича.
Портрет великого императора огромный, чуть не упиравшийся в потолок, достигал, однако, уровня подоконников… Картина в широкой золотой раме так висела между двух окон, что заслоняла собой тоже целое окно, стекла которого были заделаны простым деревянным щитом… Сзади, на пыльном подоконнике, стояли испорченные и давно заброшенные голландские часы.
Гончий прошел в буфет, взял простой стул и вернулся. Подставив около портрета стул, он влез на него, а затем, с трудом протискавшись между стеной и рамой, пролез на подоконник… Затем он прибрал к себе и стул, высоко подняв над головой и пропустив там, где уклон картины от стены оставлял более свободного пространства.
— Всякая хитрая бестия, — проворчал он, — сейчас увидит: стоит стул там, где их никогда не видывано было…
Поставив стул около себя, Гончий уселся на корточках. Из-за картины зал был не видим ему, но он мог видеть хорошо входные двери из правого крыла и равно с другой стороны другие двери в апартаменты барыни…
Прошло около получаса полной тишины в доме, помимо дальнего храпа дежурных. Гончий волновался… Изредка он закрывал лицо руками и говорил мысленно:
«Неужто же и впрямь обманулся ты, Онисим?.. Возмечтал о себе?.. Ум за разум у тебя зашел?.. Сновиденья свои за дела людские стал принимать, как все умалишенные делают… Готов был поклясться, хоть руку другую отдать, а то и голову отдать… А вот, смотри, ничего не будет… как есть ничего…».
Но вдруг сердце Гончего екнуло и застучало шибко… Даже в висках застучала вдруг хлынувшая в голову кровь…
Он через силу спер в себе тревожное дыхание, а рука сама двинулась… Он перекрестился, сам того не заметив от крайнего волнения. Было одно мгновение трепетного страха от сомнения в своем разуме. Но разум ясный и сильный взял верх над суеверным испугом… Что же смутило его?
Из дверей правого крыла дома показалась фигура седого старика в длинном кафтане, бархатных сапожках и с костылем в руке… Старик тихо и беззвучно двинулся через зал и, заслоненный на время с глаз Гончего картиной, снова стал видим перед дверями комнат барыни, в которых и скрылся. Сомневаться хотя бы мгновение в том, что это сам Аникита Ильич, — было немыслимо…
Гончий перевел тяжело дыхание… Он задыхался, как если бы кто схватил и держал его за горло. Кровь продолжала стучать в виски…
Понемногу он успокоился и тихо, осторожно, с крайней медленностью в движениях, выставил стул на прежнее место, а затем снова с трудом протискался на него с подоконника.
Быстро перенес он стул за дверку буфета, вернулся в зал и стал…
Он будто не знал, что делать теперь, будто колебался в своем решении… Затем он двинулся, подошел к дверям комнат барыни и крайне медленно, тихонько повернул ручку замка. Дверь отворилась… Он на цыпочках перешел комнату, слегка освещенную из зала через дверь, и, приблизясь к следующей двери, прислушался. Все было тихо… Чудились ему голоса, говорившие шепотом, но он решил, что это его воображение…
Он так же тихо двинулся назад, но вдруг ахнул и остановился, как вкопанный… Луч света падал на большой диван и на что-то лежавшее на краю дивана… Он приблизился и разглядел лежавшее кучей: кафтан, сапожки, костыль и седой парик…
«Ну, не хитер ты!.. — мысленно воскликнул Гончий, — или смелости у тебя хоть отбавляй… Двери чуть не настежь… Случися что в доме?.. Сумятица… бросятся люди к барыне: все отперто, и маскарад на диване…»
И, постояв мгновение, он подумал, внутренне смеясь:
«Ох, унес бы я все это… Да. Кабы глуп был, то унес бы… попужать. Но я не дурак… Я пугну не этак: так пугну, что все наместничество испугается…»
Он тихонько двинулся из комнаты, осторожно притворил снова дверь и, очутясь в зале, зашагал уже смелым шагом, как правый.
XXII
На другой день, около обеда, барин и гости уже вернулись назад, поохотясь только одно утро от зари до полудня. В Высоксе удивились. Оказалось, что Дмитрий Андреевич с вечера запретил карты, а попойки тоже не было за ужином, и время прошло необычайно тихо, пожалуй, даже скучно.
Басанов хотя и приехал бодрым, но к вечеру стал задумчив, а когда его спрашивали о здоровье, он отвечал, что чувствует себя изрядно, но что ему, якобы из столицы, загадали загадку, и он нет-нет да принимается ее разгадывать.
Тотчас же по приезде он позвал Гончего и встретил его словами:
— Ну, что? Рад ты, доволен, что спровадил меня в охотный дом?
— Вестимо доволен, Дмитрий Андреевич, — отозвался тот.
— Ну, а толк какой был из-за того?..
— Был-с… не Бог весть что… а все-таки польза малая есть… Через денька два-три я вас попрошу опять поехать.
— Опять?! — воскликнул Басанов. — Это что же?!
— Дозвольте, барин, ничего не сказывать. А завтра я вам весь мой доклад сделаю…
Басанов хотел что-то сказать, но при виде жены, входящей с детьми, смолчал…
Гончий вышел.
В тот же вечер, явясь по винтушке к Сусанне Юрьевне, Гончий был в странном состоянии духа: то будто радовался, смеялся, то, вдруг насупившись, глядел тревожно…
На этот раз Сусанна Юрьевна особенно рассердилась за упорный отказ его объяснить свое настроение духа.
— Ведь я знаю, что это все творится с тобой из-за этого злодея, что разыскал ты… Так скажи хоть слово…
— Извольте! — выговорил вдруг Гончий. — Называть я никого не стану… Слушайте и сами добирайтесь до правды-истины. Злодей — не мститель. Пожелал убить барина Дмитрия Андреевича такой человек, которому от этого была бы выгода, — уж, конечно, не мужик заводский, да и не дворовый и не приживальщик. А вы вот скажите мне теперь: умри барин Басман-Басанов, что тогда может быть?
— Ну, говори, — вымолвила Сусанна.
— Совсем вам и на ум не приходит?
— Совсем не приходит!.. Что же может быть?
— Что в таком случае пожелает себе вдова Басман-Басанова, Дарья Аникитична, вдова еще молодая?..
Сусанна, пристально смотревшая в лицо Гончего, вдруг тихо ахнула.
— Ты думаешь, она овдовев, сейчас замуж соберется?..
— Соберется, Сусанна Юрьевна!..
— Откуда ты это взял?!
— Верно сами сказываете: сейчас же соберется.
— За кого?! — вскрикнула Сусанна, отодвигая от себя пяльцы.
— За того, кто… — начал Гончий и запнулся, — за того, который под видом…
И он вдруг встряхнул головой.
— Вот и я, как малый ребенок, провраться хотел.
Сусанна тихо закрыла себе лицо руками.
— Нечего тебе провираться, Аня… — вдруг выговорила она шепотом и будто оробев. — Я знаю сама. Все поняла… Я прежде, давно сама так судила… Потом бросила… и думать забыла, а теперь все вспомнила и сразу все поняла… Желаешь, я тебе даже назову убийцу по имени.
— Нет, Сусанна Юрьевна, не надо: мне придется тогда отвечать, правда ли или ошиблись вы, а я отвечать не хочу.
— Но что же теперь надумал? Что ты хочешь делать?
— Или мы с ним сами распорядимся, ни слова не говоря Дмитрию Андреевичу, или, если дозволите вы мне по-моему поступить, то я через барина все дело поведу. Но так особо поведу, что вот стоял свет и будет стоять и на нем умные люди много дел умно вершали… а этак, как я надумал… этак, Сусанна Юрьевна, мало какие дела вершались! Недаром я все это время плохо сплю, все думаю да думаю… даже, бывает, среди ночи и вскакиваю, бывает, вздыхаю, а бывает, смеюсь, точно ума решившийся! А пока одно только: Богом прошу вас, не сказывайте ничего Дмитрию Андреевичу о том, что мы с вами толкуем.
— Хо-ро-шо!.. — протянула Сусанна.
Она глубоко задумалась и после паузы заговорила снова полушепотом:
— Ну, удивил ты меня, Онисим! Сказал мне совсем страшнеющее… а чем больше я думаю, тем больше вижу… вижу, что ты — умница, вижу, что ты додумался до истинной правды. И какое же ослепление на меня нашло! Как же я-то не догадалась? Да, правда твоя, тот, кто стрелял, тому нужно было… как бы это сказать?..
— Нужно было, — рассмеялся Гончий, — Дарью Аникитичну вдовой сделать.
— Да, истинно так!
— И не думайте, что вы опять, как в тот раз, выдали бы ее замуж за кого пожелаете. Хоть и мало она изменилась с тех пор, все та же тихая… ну, а все-таки… второй раз она бы не далась.
— Знаю, знаю… Тогда она все-таки исполняла не мое приказание, а якобы желание своего покойного родителя, а теперь…
— Да-с, теперь было бы не так! Вновь явленный нареченный живо забрал бы ее в руки и заставил бы действовать так, как ему угодно. Поверьте слову, что месяца через два после убийства Дмитрия Андреевича на Высоксе уже были бы другие порядки. Доклады бы делались барышне Дарье Аникитичне, а за ее спиной другой бы всем распоряжал и приказывал. И так думаю, что он приказал бы прежде всего барышне Сусанне Юрьевне собирать свои пожитки и уезжать с Высоксы.
— Да… — глухо произнесла Сусанна. — Верно!..
Снова наступило молчание. Сусанна была поражена открытием. Наконец, она вымолвила шепотом как бы себе самой:
— Да, Онисим, умница ты! Уж подлинно умница! До чего дорылся!..
Гончий рассмеялся…
— Чему ты?
— До того ли я еще дорылся, дорогая моя… Это все, как вы сказываете, цветочки… а ягодки, даже, скажу к примеру, целые арбузы большущие — впереди… Такое будет в Высоксе, что, ин бывает, мне самому страшно становится… Бросился, видите, я переплывать речку, доплыл вот до середки, и страх берет: доберуся ли до того берега… Лучше бы назад!.. А глядь — назад тоже не меньше, а то и больше… И вот, волей-неволей и надо лезть вперед на тот берег… а с того берега уж назад возврата не будет: нельзя.
И, походив в волнении по комнате, Гончий сел и произнес:
— Ну, а теперь вот что вы мне поясните, моя золотая… Вспомните, вы мне как-то рассказывали, что барин не таков, как я его сужу… Вы сказывали мне, что он, хоть и овечкой глядит, а иногда бывает с ним, что может он зверем стать… И вы такое раз видели? Правда?
— И не раз, Онисим. За эти восемь лет раза три-четыре… и даже истинно, как ты приравнял сейчас… именно зверем я видела его… Загорелся гневом, как никогда дядюшка Аникита Ильич не загорался и не пылил.
— И от гнева не помнил, что творил…
— Сказывала я тебе, что одного важного гостя московского чуть не хватил за столом графином по голове. Изувечить мог. Я ухватилась за его руки, а то бы он…
— Знаю. Помню… За какое-то слово этого гостя.
— Да…
— Про вас или про Дарью Аникитичну…
— Да. Тот спьяну бухнул ради шутки… Но что за слово, никто не слыхал, кроме Дмитрия Андреевича. И оно так и осталось…
— И он с Высоксы прогнал его тотчас? — перебил Гончий.
— Из-за стола же и выгнал… а через полчаса того уже в Высоксе не было… А мы отпаивали водой Дмитрия Андреевича. Хорошо это помню… Было это года три-четыре назад, а я помню, как если бы то вчерась приключилось… Помню, сидит на диване, трясется, лицом зеленый, еле дышит… Помню, грек наш, да и многие потом все дивились, как может такой добряк да тихоня, ласковый и сердечный, а этак остервенеть…
— Редко да метко! — весело произнес Гончий.
— Уж именно так!.. — ответила Сусанна. — Да этак-то часто гневаться и нельзя, Аня. Это бы и здоровье унесло… После каждого раза у меня лихоманка была дня два…
И после паузы Сусанна, видя, что Гончий вдруг задумался, спросила:
— А зачем ты заговорил об этом?.. Опасаешься такого гнева?..
— Опасаюсь, — произнес он тихо и вдруг рассмеялся..
— Чудишь ты! — удивилась она. — Все загадки загадываешь: то охаешь, да вздыхаешь, да тревожишься, то вдруг козлом прыгаешь, хохочешь, как дурашный…
— Не гневайтесь… Скоро всему конец будет. Всем загадкам конец.
— Надо его с Высоксы сбыть. Вот и конец. Его? Того, что называть не хочешь…
— Да. Мы его сбудем!.. Далече сбудем! — вдруг снова начал смеяться Гончий.
Сусанна Юрьевна опять рассердилась странному и беспричинному смеху своего любимца…
— Я знаю, вижу… ты затеваешь что-то, а сказать ничего не хочешь. Совета моею не желаешь. Помни Онисим, одна голова хороша, а две того лучше. Если ты затеял раскрыть Дмитрию Андреевичу, кто в него палил, то прежде улики собери… Мало твоей пули… твоя пуля в дереве найдена, а не в его теле. Ты думаешь, я этого не сообразила теперь.
Гончий ничего не ответил. Сусанна Юрьевна задала ему еще два-три вопроса… Он задумчиво и угрюмо молчал.
— Ты не хочешь, стало быть, доброго совета? — сердито произнесла она. — Все сам на свой рассудок хочешь свертеть?.. Ну, смотри, Онисим. На свою голову не сверти всего… Дмитрий Андреевич твоей пуле не поверит… И желанию того человека сделать Дарьюшку вдовой совсем не поверит… Тебя же с Высоксы и прогонят. Недаром сам опасаешься внезапного гнева остервенелого человека… Помни мое слово. Не начуди так, что и мне будет невмоготу тебя защищать…
И Сусанна Юрьевна смолкла, не добившись никакого ответа. Долго спустя, Гончий вымолвил:
— Я хочу это все повершить по-дьявольски!
XXIII
Басанов, добряк и «кисляй», как давно прозвала его Сусанна, был человек беспечный и малодушный, но крайне впечатлительный. Кроме того, в нем была особая гордость, особая строгость в суждениях об известных вещах…
— Дворянская честь! — изредка говорил он по поводу чего-либо и, говоря это, становился суров.
За последнее время, после покушения на его жизнь, он стал угрюм и озабочен, не имея никакой возможности догадаться и уразуметь, какой враг завелся у него. За что?
Заявление Гончего, что он найдет злодея, затем уверение, что он уже нашел его, совершенно смутили Басанова, и он жил как бы под гнетом ожидания.
После своей поездки на охоту из-за слов Гончего, что дело розыска и раскрытие всего близится к концу, он стал еще более удручен и стал раздражителен и гневно требовать от нового любимца, чтобы тот долее не тянул.
Дня через три Гончий явился к барину вечером, пробыл часа два, беседуя с глазу на глаз, и когда вышел от него, то Басанов был не только сумрачен но раздражен более, чем когда-либо, но в крайнем возбуждении… Он изменился в лице, руки слегка подергивало… Мгновениями его будто невидимая рука хватала за горло.
А главная причина была все-таки странная. Он все-таки ничего не знал… Гончий только загадку загадал: но уже страшную.
Между барином и новым наперсником состоялся тайный договор всего на сутки… Басанов обещался в точности исполнить со своей стороны все, что потребовал Гончий.
— Желаете раскрыть злодея, — сказал он, — узнать, кто и зачем хотел вас убить… то делайте, что я прошу. Оно же и не мудрено.
Наутро после этой беседы Басанов, рано проснувшись, вдруг заявил, что едет опять на охоту ради хандры, и приказал живо всем собираться.
— На этот раз, — угрюмо заявил он, — мы дня три веселиться будем пo-старому: тоска тут в Высоксе, только в охотном доме и вздохнешь…
Разумеется, гости, прихлебатели и охотники из дворовых от Михалиса до последнего юноши возликовали.
Одна Сусанна Юрьевна насупилась. Только один Денис Иванович Змглод ворчал:
— Опять за старое… и опять, гляди, темное что приключится. Стрелок-то на воле — не разыскан ни князем, ни Гончим. Только хвалились. Ну, вот и может опять пальнуть…
Перед сумерками все собрались, и поезд двинулся.
И снова опустел дом. Снова все стихло кругом… даже в передней было тихо: обер-рунт Ильев ввиду кануна праздника и по прихоти барина распустил дежурную дюжину по домам, оставив двух человек.
— Чего они без меня пустое место стерегут! — сказал Басанов. — Теперь будет инако: как я на охоту, дюжина по домам. И одного бы дежурного довольно на ночь.
И около полуночи в большом доме, а ради кануна праздника и повсюду кругом дома, в коллегии и на заводах, где остановили работу, все притихло, крепко уснуло, собираясь с рассветом к заутрени…
Почти в самую полночь, среди темноты, таратайка в одну лошадь въехала в улицы Высоксы и шибко катилась к дому… В ней сидело двое — кучер, молодой парень, и охотник с ружьем за плечами. Но на базарной площади таратайка остановилась, и охотник вышел из нее.
Тотчас же из-под навеса какого-то сарайчика базарного появилась высокая фигура и подошла…
— Ну вот, — тихо вымолвил охотник. — Ты чудишь, а я слушаюсь… Но смотри, берегися. Если все это — баловство и ни к чему не приведет, — я не прощу: так не балуются. Мыканье свое не прощу: думанье, заботы и тревоги… Говори, что теперь делать?
— Теперь идти тихонько в дом.
— И только-то?
— Только.
— И я увижу злодея своего?
— Увидите.
— И узнаю, что он палил по мне…
— Узнаете. Больше того узнаете… несказанное узнаете… Пожалуйте… Господи благослови… на удачу всяческую…
Говорившие тихо посреди базарной площади были Басанов и Гончий.
Оба молча двинулись к дому и, приблизясь, тихо поднялись на ступени подъезда, затем еще тише по большой лестнице.
Двое дежурных в передней из-за своего одиночества или из-за новой льготы спали крепчайшим сном, растянувшись на нарах.
Еще много тише и осторожнее прошли оба парадные гостиные и вошли в зал…
— Обождите минуту… — выговорил Гончий взволнованно. — Мне надо вам сказать… все-таки надо предупредить… Вы идите одни теперь… Идите теперь в опочивальню барыни, и там вы найдете… его найдете…
Басанов побледнел и пошатнулся…
— Наберитесь силы, барин… не малодушествуйте…
— В опочивальне?.. Теперь?! С женой? — проговорил Басанов едва внятно, коснеющим языком.
— Да. Он барынин полюб… Ну, да идите!..
Басанов вдруг выпрямился и так шагнул, как бы сорвался с места. Гончий двинулся за ним, но когда тот прошел первые двери, он остался около них…
Он схватился за сердце…
— Неужто же не выгорит?.. Смалодушествует кисляй…
Послышался дикий женский вопль и сразу замер, как бы оборвался…
Грянул гулко выстрел… Весь дом, дрогнул среди тьмы и тишины ночи.
— Проклятый! Проклят будь! — хрипя простонал мужской голос.
И через несколько мгновений в дверях зала снова показался Басанов, бессознательно волоча за собой по полу ружье и пошатываясь. Бледный, задыхающийся… он едва двигался.
Гончий бросился к нему, подхватил его под руки и довел до сиденья… Взгляд Аньки ярко сиял, будто искрился…
Дмитрий Андреевич опустился грузно, почти упал на диванчик. Затем он вдруг закрыл лицо руками и громко зарыдал на весь большой зал…
— Не жалейте. Нечего жалеть! — воскликнул Гончий. — Он вас чуть не убил, и если вы убили, то поквитались только…
В спальне в эту минуту, валяясь на полу около кровати, хрипел и дергался в предсмертных судорогах в луже крови князь Давыд… В постели лежала Дарья Аникитична, но без сознания… За дверью из спальни слышался детский плач, а Матвеевна стучалась в эту закрытую дверь и звала барыню отчаянным голосом.
XXIV
От гулкого выстрела все живое поднялось на ноги. Сумятица началась и не прекращалась…
Обратив ночь в день, весь дом, а затем и вся Высокса были на ногах. На рассвете все, что находилось в охотном доме, тоже прискакало и сновало в доме.
Дмитрий Андреевич, давно уйдя в свою холостую спальню, заперся в ней и никого не пускал. Да никто и не смел наведаться к нему. Только Сусанна Юрьевна один раз подходила, окликнула его долго стучала, но он ей крикнул глухо:
— Оставьте… После…
Дарья Аникитична, придя в чувство, была как пришибленная и как помешанная и, сидя в детской, глядела на сыновей почти безумными глазами, будто не узнавая их или не понимая, что это ее два сына.
Тело убитого давно перенесли в его комнаты… Три женщины мыли пол в пустой опочивальне барыни и выносили в шайках окровавленную воду… а нахлебники и дворня, чередуясь в дверях, глазели на мытье молча и тупо…
Вообще в доме все сновало из угла в угол, не разговаривая, а странно поглядывая…
Изредка слышались только вопросы:
— Да когда?.. Ведь он же был в охотном…
Никто еще не знал, что Гончий привел барина и толкнул на искушение… на преступление.
Одна Сусанна Юрьевна знала это и негодовала. Но Гончий не устыдился и смотрел радостно. Для него будто был праздник.
— Обождите, — спокойно сказал он ей. — Когда все разъяснится, то поймете дело и вы, как следует.
— Что теперь будет, деревянная голова! — воскликнула она вне себя от негодования. — Одни беды!
— И чем больше бед, тем вам лучше!.. — ответил он.
Между тем против Дарьи Аникитичны не поднялся ни один голос. Князь Давыд, полураздетый, застреленный в спальне барыни, был ясною уликой, но приживальщики будто не хотели верить очевидности.
— Дарья Аникитична? И этакое?.. Свету преставление! — говорили все недоумевая.
— Он, стало быть, колдун! — объясняли некоторые.
Длиннополый кафтан, бархатные сапожки, костыль и седой парик, найденные на диване, остались загадкой…
Когда совсем рассвело и пробежала во все края страшная весть, на заводах и в слободах началась та же сумятица, что и в доме.
Разумеется, если бы с неба вдруг среди Высоксы пошел огненный дождь, то все население менее бы затрепетало и оробело. Все от мала до велика без исключения и в силу одного и того же соображения или опасения были поражены ужасом.
Каждый глядел так, как если бы сам был главным виновником приключившегося.
Все разговоры, толки и пересуды робко, будто о тайне, можно было выразить двумя словами, вопросом: «барин да убийца?».
Это событие, казалось, никак не укладывалось в головы обитателей Высоксы. Давно привыкшие к подспудным преступлениям и к убийствам, все обыватели были взяты врасплох явным убийством. И никто не мог будто сообразить: как это дело рассудить?
Все соглашались, что барин Дмитрий Андреевич вполне прав: не то, что он, а и простой дворовый человек в его положении сделал бы то же самое в порыве гнева, а то и холодно, просто в отместку за поругание своей чести.
Но главное, смутившее всех, было нечто иное…
Признавая барина правым, все чуяли нечто страшнеющее, что теперь должно явиться, надвинуться на Высоксу, как грозная туча с бурей.
Это нечто — страшный зверь, веками существующий на Руси, зверь, которого равно все боялись не только пуще начальства, самого строгого и крутого, но много пуще царя. Царь все может, но царь — человек, царь всегда добр и справедлив, потому что он должен во всем Богу ответ давать. Если когда он и поступит несправедливо, то не виноват: советники обманули его, и они ответственны в этой жизни перед людьми, а перед Богом — после, за гробом.
Это же чудище много веков на Руси пожирает невинных, поступает с людьми хуже, чем Ирод с младенцами, которых избил при Рождестве Христове. Этого чудища все равно всегда на Руси боялись, и никто с ним никогда совладеть не мог. Сами цари и царицы никогда справиться с ним не могли, хотя и знали, что оно пьет неповинную русскую кровь.
И вот это чудище теперь надвигается на Высоксу.
Суд, волокита, подьячие и приказные… И, разумеется, все от мала до велика трепетали теперь в Высоксе не из-за того, что есть убитый в доме, убитый барином явно и даже по праву, а трепетали перед волокитой, которая завтра нагрянет. Явится горсть людей по виду таких же, как и все человеки, но они — судьи. Они приедут, будут допрос чинить, пытать всех и каждого и будут бумаги писать. И будут так опрашивать и писать без конца!.. И это писание станет паутиной огромной, плотной, тяжелой, которая ляжет на всю Высоксу. И в этой дьявольской сети запутается туча народу. Убил один барин, а виноваты будут все… каждый, которого наметит судья…
И всякий из обитателей знал, что как бы он ни был далеко от совершенного преступления, как бы ни был он прав, вполне и безусловно непричастен к преступлению, тем не менее он не может ручаться, что выйдет чист из-под розыска.
Дело это простое: призовет судья, учинит опрос, напишет приказный бумагу — и конец… Что в ней прописано, до того тебе дела нет! Сказано в ней — виноват, приказано засадить в острог, а там будет приказано гнать на канате в Сибирь[26]. И все дело будет чисто, гладко и по закону.
И Высокса притихла и притихала все более, настолько, что становилось жутко. Если бы появилась чума и ежедневно выхватывала по десяткам обывателей и укладывала в гроб, то все население было бы менее перепугано.
Впрочем, всякому простому человеку, добродушному и простоватому, конечно, и Бог велел бояться за себя, когда умный, во сто крат всех умнее, Денис Иванович Змглод, и тот был угрюм. Пожалуй, угрюмее, чем когда-либо. На все вопросы людей, бросавшихся к нему за разрешением своих сомнений: чего ждать, что будет? — Змглод вздыхал и отвечал:
— Плохо дело! И барин виноват будет, да и другие виноватые найдутся, не потому, что они виноваты, а потому что волоките нужны таковые. Она безвинными жива. Одними виноватыми ей сытой не быть… А пуще всего великая беда, что барин Басанов богат. Будь он беден, так бы сошло…
Кто-то спросил:
— Денис Иваныч, и ты за себя, небось, опасаешься?
— Глупые твои речи! — сердито отозвался Змглод. — Как же не опасаться? Царя не побоюсь я, если прав, врага человеческого не побоюсь, если я безгрешный. На царя — правда! На сатану — крест и молитва. А на судейский крючок, на ябеду — ничего нет. На все суд есть, Божий ли, царев ли, человечий ли… Как же это: судей — да судить. Этак бы десяток карасей, собравшись, щуку бы съели… Бывает этакое на свете, но бунтом зовется… а за бунт опять к тем же судьям на крюк…
Вместе с тем все равно беспокоились о том, что барин заперся и сидит один.
— Как бы руки на себя не наложил! — решил Михалис. — От боязни волокиты можно на свою жизнь покуситься.
И все стали повторять эти слова грека.
Между тем Басанов мучился только от стыда, от чувства, что его дворянская честь замарана… Не убийством мерзавца, не грозящим судом… Она замарана неверностью законной супруги, оглашенной им же самим… на всю Высоксу, на все наместничество, на всю Россию.
Вот что гнетом придавило Басанова…
А кто во всем виноват?
И Басанов с глубокой ненавистью думал об этом виновнике его позора. Узнай он о преступлении Давыда и о том, что Давыд — «любезный» Дарьи, как-нибудь иначе, не с маху… Он и поступил бы иначе. Не только бы не было никакой огласки и страшного срама, но все осталось бы шито и крыто… Давыда он приказал бы хитро похерить, как делывалось при Аниките Ильиче… Дарью он мог бы просто отдалить от себя и держать в черном теле ради наказанья за неверность. Одной угрозой огласить он бы измучил ее. А теперь все дело простое… стало делом страшнеющим. Дворянская и супружеская честь поругана, да и суд нагрянет…
А все он натворил… этот проклятый, окаянный, беснующийся! Он, о себе возмечтавший и всех в беду втянувший своим поступленьем… И все им было подведено будто нарочно, не по глупости, а будто предательски…
— Да будь ты, Гончий, проклят! — отчаянно восклицал Басанов каждую минуту.
Заснув поутру, он проснулся после полудня, приказал подать себе обедать, но никого не пускал по-прежнему. Когда лакей доложил о Гончем, Дмитрий Андреевич изменился в лице от гнева…
— Скажи, поди, что его я к себе на глаза не пущу ни ныне, ни вовеки веков: он мой погубитель.
Затем в комнату барина явилась обманом и почти силком старуха Матвеевна и повалилась барину в ноги.
— Дозволь все пояснить! — завопила она. — Я все знаю… Он, злодей, барыню страстями взял… батюшкой, ее родителем, приходил… Платье — улика…
Но старухе не дали договорить… Двое людей силой вывели ее вон по одному молчаливому движению барина.
В сумерки сама барыня Дарья Аникитична, какая-то страшная, будто умалишенная, пришла к дверям комнаты мужа, но, найдя их запертыми, не стала стучаться и так же тихо пошла наверх к Сусанне Юрьевне… Войдя, она стала среди комнаты, тупо глядя, и проговорила просто, как бы говоря о пустяках.
— Скажите Дмитрию Андреевичу: я в монастырь хочу…
Сусанна не ответила ни слова и, взяв ее за плечи, тихо вывела от себя и, проводив, довела ее до ее комнат, как малого ребенка.
В этот же вечер в маленькой квартире князя Никаева было светлее, чем в остальных комнатах большого дома. Тело его лежало уже на столе, церковные шандалы стояли кругом, а священник с причтом служил первую панихиду. Это было приказание самого барина. Но никто из обитателей дома и Высоксы не пришел помолиться за упокой души убиенного, ни один человек даже ни разу не наведался за весь день в эту квартиру — не из прислуживанья к барину: погибший был теперь все-таки для всех злодеем. Он в беду бедовую, невылазную втянул барина, как бы заставил себя убить своим злодейским поведением и подвел под суд всю Высоксу.
Басанов до ночи по-прежнему оставался в своей холостой спальне, запершись, и сидел с одним любимцем Михалисом, но молчал. Он позвал грека только потому, что боялся оставаться один в комнате.
Около полуночи Дмитрий Андреевич будто очнулся от оцепенения, в котором был. Он приказал тотчас же, несмотря на полуночь, позвать обер-рунта. Ильев явился тотчас и получил приказ: отправиться лично, разбудить и позвать на совет к барину Змглода.
Басанов, перестав волноваться мыслью о совершенном убийстве, стал думать о последствиях его.
Он захотел решить окончательно и скорей: оставить ли слух о событии в Высоксе добежать до губернии и наместничества, или же тотчас же послать от себя нарочного гонца к самому наместнику с личным заявлением о всем приключившемся.
Явившись тотчас, Змглод, конечно, объяснил барину, а затем и настоял, что нужно немедленно написать наместнику заявление и просить рассудить все дело. Затем тотчас же Змглод написал донесение, а Басанов переписал его и подписался. Но, уже собираясь передать бумагу Ильеву для посылки самого надежного рунта в город, Дмитрий Андреевич вдруг ахнул и сам не понимал, как мог он так странно поступить. Вероятно, страшное смущение, овладевшее им после убийства, заставили его лишиться памяти и соображения. Теперь в самом важном деле всей его жизни он, советовавшийся всегда в малейших мелочах с Сусанной Юрьевной, в эту минуту забыл о ней. Он даже как бы испугался своей опрометчивости.
— Что же это мы! — вдруг воскликнул он. — Денис Иванович, и ты хорош!.. Ведь Сусанна Юрьевна ничего не знает.
— Я полагал, вы уже с барышней перетолковали! — ответил Змглод.
— И не видал. А без Сусанны Юрьевны я ничего не предприму! Как она посудит и порешит.
— Вестимое дело. Так оставим до утра, — решил Змглод.
XXV
На другой день, рано утром, Сусанна Юрьевна, которую от имени барина Ильев попросил вниз, нашла у Басанова Змглода, Михалиса и даже коллежского правителя Барабанова. Она выслушала дело, что было накануне порешено. Выслушав все внимательно, она задумалась, и наступило молчание. Но затем она сурово подняла глаза на Басанова и выговорила твердо и холодно:
— Дмитрий Андреевич, я ничего не могу сказать. Я такого важного дела совсем порешить не могу и не хочу. Я на себя ничего такого не возьму. По-моему, ничего не давать знать в наместничество — нехорошо, а писать такое письмо о себе тоже…
Она запнулась и прибавила:
— Не знаю… как-то… тоже кажется мне неподходящим, младенческим поступком.
— Как младенческим? — сказал Басанов.
— Зачем спешишь говорить: я де убил! Приезжайте меня судить.
— Что же делать тогда?.. — воскликнул он смущенным голосом. — Что делать? Совсем уже тогда неведомо, что нам делать!
— Вот и я тоже сказываю! — радостно заговорил Михалис. — Не надо писать! Пускай они сами узнают и приезжают расследовать. Зачем зверю в пасть лезть? Может, по слухам пришлют только какого приказного. Ему Дмитрий Андреевич отвалит тысячу, другую… и конец… А тут он в письме хочет расписывать, как его сатана попутал и как грех вышел. А что написано да подписано, то уж, известно, топором не вырубишь.
— Ну, а ты Денис Иваныч?.. — обернулась Сусанна к Змглоду, сумрачно молчавшему.
— Я это письмо еще вчера сам же и писал, Сусанна Юрьевна! По-моему, сидеть и молчать — беда. Виноватые молчат или прячутся. А правые говорят и сами первые въявь действуют.
Снова наступило молчание.
— Не знаю… Совсем не знаю!.. — выговорила наконец Сусанна. — Хоть до завтра что и обождать, порассудить, хотя бы что другое надумать.
— Что?.. — спросил Басанов.
— Другое! Иначе как поступить. Не молчать и не отписываться.
— Как же так?.. — воскликнули разом и Басанов, и Змглод, и Михалис.
— Не знаю, а так мне сдается… Не молчать, отписаться, известить, да только не так… не расписывать: я, мол, то и то сделал и по таким-то причинам. Зачем это?..
И вдруг Сусанна прибавила резче:
— Дмитрий Андреевич, в такую бедовую пору, как у нас теперь… Знаете. Вот кто, топясь, на дно идет, всегда за соломинку хватаются. В такую пору… поступите, как я вам скажу! Согласитесь на одно, что я вам предложу?
— Что такое? С охотой! — отозвался Басанов волнуясь.
— Позовите сию минуту сюда Гончего…
Басанов сразу сурово насупился и быстро оглянул всех. Все они одинаково насупились, все будто оскорбились. У всякого на лице было написано: «Гончий? Анька? Безрукий? Придет советовать? Довольно начудил уже!»
И среди наступившей тишины и безмолвия Басанов выговорил странным голосом:
— Сусанна Юрьевна, что же нам Гончий скажет? Он не дурак. Но бывает он хуже глупого.
— Воистину так, — подтвердил Змглод.
— Я не прочь звать, кого хотите, — продолжил Басанов. — Тайны же тут никакой нет. Но зачем? Что он нам скажет? Уж если мы сами ничего не придумали, пять человек и не глупых, то что же Анька придумает?
— Как знаете!.. — глухо, но гордо отозвалась Сусанна, как если бы услыхала что-либо для себя обидное.
— Сусанна Юрьевна! Я же, право, ничего против того не имею! — быстро заговорил Басанов. — Если вам угодно, я его сейчас же велю позвать. Что же! — обернулся он ко всем. — Он поступил малоумно, подведя меня на гнев. Но умысла худого у него не было… Он умный! Может, и вправду он надумает что-либо, кое нам на ум не идет. Барабанов, прикажи скорей послать к нему, чтобы был у меня тотчас!
Коллежский правитель двинулся, но Сусанна Юрьевна остановила его.
— Дойди сам. Посылать незачем. Он у меня наверху ждет.
И Сусанна произнесла это с вызывающим оттенком в голосе.
Через несколько минут в комнате появился Гончий и, войдя, тихо, степенно, почти гордо, поклонился одному барину, как бы не видя остальных.
Басанов опустил глаза, будто смущаясь.
— Что прикажете? — холодно произнес Гончий.
Тот в нескольких словах объяснил, в чем дело, и прибавил:
— Скажи ты нам свое слово, как тут быть? По тому, как Михалис сказывает, или по тому, как Денис Иванович сказывает? А Сусанна Юрьевна сама прямо на тебя все свалила, что ты скажешь, то по-её и будет настоящее.
В эту минуту Сусанна взволновалась почти настолько же, сколько в ночь, когда услыхала в доме беготню и отчаянные крики после совершившегося события… Снова теперь всей душой, всем сердцем и помышлением смутилась она… Из-за чего? Из-за пустого: что скажет Анька? Надумает ли он что-нибудь? Удивит ли он сейчас всех своим решением дела? Докажет ли он сейчас им всем, что он первый человек в Высоксе разумом своим, умнее барина и умнее умного Змглода? Докажет ли он, что недаром она его после позорища снова простила, снова приблизила, а теперь души от него не чает, да и не скрывается в этом?
После объясненья Басанова, Гончий стоял неподвижно, сдвинув брови, и глядел куда-то на стену. Но он глядел своим ястребиным взором, упорным, непреклонным, неспособным, казалось, оробеть ни перед чем. И, присмотревшись к лицу Гончего, Сусанна вдруг встрепенулась внутренне, даже сердце слегка колыхнулось в ней радостно… Она поняла, почуяла, что «мой Анька» сейчас скажет свое слово веское, которое сразу все дело порешит.
— Вот что, Дмитрий Андреевич, — заговорил Гончий, — уж коли вы изволили меня позвать и изволили приказывать мне свое решение обстоятельств придумать, то я по совести своей и по разуму своему доложу вам, что писать сейчас куда-либо не надо. Обождем еще сутки! Завтра, хотя бы раненько, можно будет послать гонца к наместнику. А сегодня весь день-деньской ввечеру, да и за ночь, да и завтра утром займемся делом. Надо важное дело делать и спешить. Время не терпит.
— Какое дело?.. Что? — откликнулись все сразу, и в каждом голосе отдельно звучало полное изумление.
— Какое дело?.. — выговорил Анька. — Готовить ответ суду! Суд будет здесь в скорости. Будете ли вы суд звать или совсем не станете, все одно — суд нагрянет. Целая шайка злодейская, именуемая крючкотворами, нагрянет сюда и начнет допрос. Начнет с вас, барина, а там и всех допросит. Не только что нас: барышню, барыню, Дениса Ивановича, их вот, меня, всех приживателей. Суд потянет к допросу всех дворовых, чуть не всех заводских. И вот, все мы — скажу так: вся Высокса, все заводы господина барина Басман-Басанова — все должны этому суду ответ приготовить. Согласный ответ. Ответ в пояснение, как дело было. Все мы, от вас, нашего барина, до последней девчонки, все должны ответствовать суду одно… один ответ должен быть у всех.
Гончий замолчал, украдкой глянул в лицо Сусанны и едва заметно улыбнулся горделиво и самодовольно.
— Что?.. Какой ответ?.. — вымолвил Дмитрий Андреевич едва слышно от внутреннего волнения, так как вдруг ему почему-то показалось, что Гончий вывернул все дело, всех тревожившее, наизнанку. Все событие будто осветилось вдруг иначе, а поэтому как-то иначе представляется разуму.
— Говори же, Онисим! Ответ-то надумал ты или так, зря…
— Нет, — резко перебил Гончий, — я не зря болтаю! Ответ готов понятный… Ответ наш должен быть: знать не знаю и ведать не ведаю!
И Гончий, оглянув удивленные лица всех, прибавил, как если бы ему кто противоречил:
— Да, так: знать не знаю и ведать не ведаю! Все мы любим барина, все ему преданы, все должны за него горой стоять. А уж коли в таком деле не постоим, так когда же в нас нужда будет? На святках, чтобы рядиться да отплясывать, на Пасхе красные яички катать? Нет, теперь-то в нас и нужда, и теперь-то мы все должны, как один человек, не страшась судейской волокиты, так отвечать: князь Никаев, действительно, убит, застрелен, в гробу лежит. Но где был убит, как убит, кто его убил, когда и почему? Знать не знаю и ведать не ведаю!
И в комнате наступило, действительно, гробовое молчание. Слышно было только частое дыхание Сусанны, которая едва владела собой от восторженной радости. Ей казалось, что она должна сдерживать себя, чтобы тотчас же при всех не броситься на шею этого человека, которого сама судьба заставляла ее всякий день любить все больше и больше, всякий день изумляться ему.
— Как же так? — тихо и смущенно произнес Басанов.
— Так-с! — резко отозвался Гончий.
— Это не худо… — робко заметил Барабанов.
— Верно, — раздался вдруг угрюмый голос Змглода. — Верно! Правда твоя! Онисим Абрамыч! Умница ты! Тебе и книги в руки! А сказываю я это по совести. Не думай, что я лукавить стану. Нет! Умница ты, дело сказал! А я около тебя, как младенец, хотел все дело наладить. И хорошо сделала Сусанна Юрьевна, что пожелала за тобой послать! Все, что ты сказал, я сразу понял. Так я понял, что тебе же разъяснить и пояснять все стану. Да, истинно так! — обернулся Змглод к Басанову. — Вся Высокса должна сказывать, что Никаев убит, а кем и когда убит — неведомо! И поди же ты сам, суд судейский, разворачивай распутывай и кашу расхлебывай. Сам ищи виноватого!
— А если предатель найдется, да тайком на допросе покажет, что я убил Никаева? — волнуясь сказал Басанов.
— А мы все заорем, — воскликнул Змглод, — лжет предатель! Видано ли это, слыхано ли это?.. Барин на охоту уехал, на это свидетели есть. А когда он вернулся, то мы… Ну, вот мы же, здесь стоящие, уже видели Никаева в крови на полу. Приехал барин, мы ему и доложили: вот дело какое за ваше отсутствие приключилось в Высоксе, а чьих рук — неведомо.
— Ну, вот! — добродушно выговорил Анька. — Вон как! Я надумал, а ты, Денис Иванович, разукрасил. Ум хорошо, а два — лучше! И коли я не глупо надумал, то ты сейчас того умнее повернул. Именно так: барин на охоте был, а мы тут сбежались и видели убитого Никаева.
— Ну, я приехал, а вы доложили, — заметил Басанов. — Кто же однако убил?
— А сам вот суд и разреши! — ответил Змглод. — Ищи виноватого! Правда, много из-за этого будет безвинных заподозрено и притянуто. Да что же делать!
И по совету Гончего целые сутки ушло на подготовление всех обывателей к ответу. Все от мала до велика, дворяне, дворовые и крестьяне обещали один ответ держать: «знать не знаю, и ведать не ведаю!»
Заявление помещика Басман-Басанова о совершенном в его доме неведомо кем убийстве нахлебника князя было с вечера тоже составлено… По настоянию Гончего оно было краткое, в несколько строк и без единой подробности.
— Не надо себе руки связывать… Не надо тоже языки высокцам связывать… Пускай всякий болтает, что хочет, коли его учнут пытать, — стал объяснять Гончий.
Затем, по его же совету, барин кончил заявление убедительной просьбой не медлить присылкой в Высоксу чиновника для «сыска» по свежим следам, дабы вернее накрыть убийцу.
Подписывая вечером бумагу, Басанов качал головой и на вопрос Сусанны объяснить это ответил:
— Дивлюся Онисиму, — отозвался он. — Сказывается: медный лоб… Вот у него воистину этакий…
— Нетто худо это… — улыбнулась Сусанна. — Для вас же…
— Знаю… Да все-таки дивлюсь. Я же, да прошу поскорее сыск зачинать, чтобы вернее злодея накрыть… Увидим… Что-то еще выйдет?
Утром рано гонец к наместнику, и не простой, а сам обер-рунт Ильев, был уже в пути. Ему было указано ничего от себя не добавлять, если его захватят для опросов, а буде возможно, то, передав пакет, тотчас выезжать обратно…
XXVI
Через сутки по отъезде гонца тело убитого было похоронено с соблюдением всех обрядов церковных, приличествующих его званию дворянина и князя.
Но, кроме сестры и маленького братишки, никого, ни единого человека на отпевании и похоронах не присутствовало… Все в Высоксе открещивались от «осрамителя» барыни и барина…
Одновременно Дарья Аникитична снова пришла наверх к Сусанне Юрьевне с той же просьбой, переговорить с ее мужем о том, чтобы он тотчас отпустил ее, хотя бы просто на жительство в монастырь, если не для полного пострижения. Сусанна сидела за пяльцами. Дарья стала среди комнаты и, опустив голову, говорила глухо.
— Тяжко мне тут… — кончила она глухим шепотом. — Тяжко, Сусанна Юрьевна… Тяжко…
— Скажи мне, Дарьюшка, — решилась та заговорить. — Как все это могло приключиться?.. Как тебя страх и стыд не взяли? Стало, ты по-прежнему любила князя пуще мужа?..
— Нет… — затрясла головой Дарья.
— Как нет?..
— Он мне сначала, что брат был… А потом, подбившись, стал противен… Боялась я, что всего лишит он. Вот и лишил… детей лишил.
Она закрыла лицо руками, но стояла неподвижно и спокойно.
— Зачем же ты пошла на этакое?..
— Пошла, не знаючи того… Он меня перепугом и силою взял.
— Как силою? Не лги, Дарья. Когда мы, бабы, так сказываем, то это только, чтобы себя огородить.
— Вот Господь! — несколько громче произнесла Дарья Аникитична, приняв руки от лица и указывая правой рукой на образ, висевший в углу комнаты.
— Да как? Не верю я! Как силою? — допрашивала Сусанна, глядя на эту маленькую и простоватую женщину с глупо кротким лицом, она верила ей и сама отвечала себе мысленно: «Ленивый этакую не возьмет!»
Помолчав мгновение, Дарья вымолвила:
— Он батюшкой-родителем вырядился и средь ночи пришел и разбудил… Я испугалась, чувства все потеряла… Замертво хлопнулась на подушки… А когда очнулась, он был… Со мной был и молил, ласкал… Молил не сказывать Дмитрию Андреевичу… Говорил, что мало ль какое бывает… что, может, я овдовею в скорости и его женой стану… а пока, говорил, никто не узнает… Я всех из залы испугаю моим ряженьем. Никто не будет отваживаться ходить там по ночам… а кто и придет да увидит, то не меня…
— И ты знала, что он стрелял в Дмитрия Андреевича?
— Нет. И думается мне, не он это…
— Он тебе не сознавался?..
— Нет. Сказывал тоже: надо бы разыскать злодея. И я, мол, разыщу…
— Он и тебя обманывал, не сознавался…
— Думается, не он был…
Наступило молчание…
Сусанна по-прежнему сидела перед пяльцами и задумавшись глядела в окно… Дарья по-прежнему стояла среди комнаты в двух шагах от пяльцев, как бы подсудимая на допросе, понурившись, опустив голову и глядя в пол…
— Не мне осуждать! — вдруг вслух проговорила Сусанна Юрьевна будто невольно и спохватившись прибавила. — Не мое это дело!
«Не мне осуждать! — продолжала она мысленно. — Будь я замужем, и со мной тоже таковое могло приключиться… Так же мой муж распорядился бы… Она один раз виновата оказалась, да и то не по своей воле. А я что делала всю жизнь?»
И вдруг мысли ее приняли совершенно другой оборот. Все происшедшее не есть ли наказание Дмитрия Андреевича за то, как он женился на богатой приданнице после насильственной смерти ее отца… Но ведь не он зачинщик?.. Змглод зачинщик и главный преступник… а за ним — она сама… а ни Змглод, ни она не наказаны Богом! Стало, это не Божья воля. Или же и ей и Змглоду тоже надо ждать возмездия… И более страшного еще… Что Дмитрию Андреевичу?! Один лишь срам… Жену он никогда не любил. От суда, конечно, отбоярится… ее в монастырь отпустит, а сам будет по-старому жить-поживать с вином да картами… А вот, если судьба захочет ее покарать, то казнит много тяжелее… Ведь не промолчи она тогда, то и Денис Иваныч не пошел бы на этакое… То дело было пострашнее да погрешнее, чем убийство Давыда. Тут месть супружеская… А там было простое злодеяние, убийство невинного, да еще старика-благодетеля… Змглод тоже мстил, но не за жену, а за любимую девушку… А я за что? Ждать, стало, мне — сугубой кары Господней?..
Сусанна Юрьевна была как бы разбужена от своей тяжкой думы голосом Дарьи, которая уж третий раз окликала ее тихо, кротко, упавшим и хриплым голосом.
— Сусанна Юрьевна, помогите…
— Да что? Что? — отозвалась она.
— Попросите Дмитрия Андреевича.
— В монастырь отпустить?
— Да.
— Подумай, Дарья… Ты сама не знаешь еще, на что идешь.
— Знаю, знаю…
— Обожди. Пускай он сам заведет речь…
— Тяжко мне здесь… от стыда тяжко.
— А сыновья? Как же без них?..
— Раз в недельку… Ну раз в месяц Матвеевна будет их привозить ко мне.
— Бог с тобой… — удивилась Сусанна. — Это тебе так все зря кажет… Где же этакое вытерпеть?..
— Не вытерплю — помру…
— И помрешь беспременно… измучившись…
— И того лучше…
И после новой паузы Сусанна Юрьевна поднялась и обещала тотчас же иди и объясниться с Басановым.
— Не отпустит… я руки на себя наложу, — заявила Дарья. — Так ему и скажите.
— Ладно. Ладно… Ступай к себе. Успокойся… Я к тебе приду… Не нынче, то в другой раз перетолкую с Дмитрием Андреевичем.
Сусанна Юрьевна спустилась вниз и, дойдя до дверей комнат Басанова, нашла перед ними рунта. Она хотела войти.
— Простите, барышня, — остановил ее рунт. — Приказано как есть никого не пропускать.
— С ума ты спятил! — воскликнула она.
— Барышня, не гневайтесь… Сейчас Онисим Абрамыч опять сказывал: «Никого, говорит, не пускай».
— Онисим Абрамыч?.. Ушел он или тут?
— У барина.
— Вызови его…
Рунт колебался.
— Войди. Скажи, я зову…
Рунт вошел в двери. Сусанна осталась перед ними и невольно улыбнулась при мысли, что Гончий у Басанова, а ее не пускает простой рунт по его приказу.
Через мгновение вышел Гончий и тоже улыбался, глядя ей в лицо.
— Вот как у нас повелося, — сказала она, уже смеясь.
— То и будет, — ответил он тихо и тоже смеясь. — Обождите мало… Будет Дмитрий Андреевич к вам проситься, а вы не допустите. И он меня будет молить, чтобы вас уломать и его допустить к себе.
— Это почему же? Когда же этакое будет? — невольно выговорила Сусанна удивленная.
— А вот… сказать верно когда — не могу. Через полгода, что ли.
— Что ты? Спросонья болтаешь?
— Нет, дорогая моя! — вдруг сурово вымолвил Гончий. — Мне не до сна… Говорю, речку переплываю, а до того берега еще далече… а назад и совсем уже нельзя: убитый Давыд не пускает…
— Ничего я не разберу…
— Обождите… Разберетесь и начнете смеяться не ныне-завтра… Что вам-то теперь нужно от него? Зачем вы?
— Дарья Аникитична все молит… Опять просила сейчас перетолковать, чтобы скорее он ее отпустил отсюда.
— В монастырь? Успеется… Бросьте. Да ему и не до нее… Мы беседуем о деле важнеющем, чем Дарья Аникитична. Что она ему? Тут важнее.
— Что же важнее-то?
— Как от волокиты отвертеться ему. Надо на первых же порах путать начать, чтоб суд с толку сбить.
— Не выгорит это, Онисим. Чует мое сердце, что не выгорит! — вдруг решительно произнесла Сусанна.
— Тем лучше… — шепнул Гончий, улыбаясь.
Она с удивлением взглянула ему в лицо, но, ничего не сказав, пошла обратно наверх, не зайдя к Дарье.
XXVII
На другой день, в сумерки, один из дежурных людей пробежав все гостиные и зал, вбежал в комнаты Дмитрия Андреевича и, забыв всякий страх барина, почти крикнул, докладывая испуганно:
— Приехали…
Басанов слегка смутился, встал с места, подвигался по комнате, будто собираясь выйти, и опять сел…
Лакей стоял, глядя на барина…
— Ступай. Чего торчишь…
Лакей опомнился и быстро вышел…
Наверху Анна Фавстовна также вбежала к своей барышне со словами:
— Видели? Куча! С дюжину… Видели?
— Видела, — ответила Сусанна Юрьевна суровым голосом.
В то и мгновение Гончий вошел в комнату, собираясь что-то сказать, но, глянув на нее, только улыбнулся лукаво.
— Чему? — холодно и сердито спросила Сусанна.
— А тому, что и вы испугались, — ответил он. — Все в доме мечутся, как угорелые. И вы тоже не хуже прочих робеете. А вам бы радоваться, а не пугаться.
— Радоваться? — изумилась она и пристально поглядела ему в лицо, чтобы убедиться, что он не шутит. — Радоваться? — повторила она.
— Прыгать да плясать, как ребята малые делают от радости! — выговорил Гончий серьезно. — А вы-то тоже оробели. Будто, подумаешь, вы из своих рук застрелили Давыдку. Ей-Боту! Будто вы, а не он…
— Что ты чудишь, Онисим… — вымолвила она вне себя от какого-то необъяснимого чувства удивления и усталости вместе. — С тобой, ей-Богу, с ума сойдешь…
Гончий не ответил и, стоя среди комнаты, улыбался самодовольно, но не добродушно, будто замышляя что худое… Сусанна заметила и поняла верно его усмешку.
— Ты скоро и меня тоже… подведешь… — вымолвила она.
— Бог с вами!.. Что вы говорите! Грех вам так сказывать! — укоризненно, но и нежно воскликнул он. — Да. Верно. Я вас и теперь подвожу… Но на хорошее, а не на худое… Добра вам желая, из кожи лезу, а вы этакое говорите. Бог с вами!
Он махнул рукой и быстро вышел.
Между тем в доме была сумятица.
— Приехали! Страсть! Орава! Господи! Чтой-то будет! Сам наместник! Ври больше!.. В тележке, сказывают, мешки с клещами… Пытать ими будут… Два воза плетей идет, к вечеру прибудут. Кто? Плети! Ох, народ! Чего не измыслит! Только накаркает!
И этот говор расходился по дому, а из дому шел по Высоксе.
Между тем в гостиных уже были важные степенные, но какие-то диковинные гости. На вид они были дрянь сущая… Какие-то худолицые, поджарые, будто корчащие из себя важных людей, но знающие сами, что они дрянь. Все кругом в доме сознавали, да и они тоже сознавали, что они важны не сами по себе, а важны только тем, что в этом доме совершено смертоубийство.
По приказанию «главного» с крестом на шее было доложено вновь уже официально барину Дмитрию Андреевичу:
— Отделение верхнего земского суда. Статский советник и кавалер Колокольцев с двумя заседателями.
Басанов, уже успокоившийся и готовый к приему следственной комиссии из наместничества, слегка смутился, услыхав фамилию: «Колокольцев». Он старался что-то вспомнить и не мог… Но эта фамилия ему сказала что-то особенное.
Приезжее отделение суда как-то само собой распалось на три части. Трое чиновников вошли, прошли в гостиную и сели… Главный с крестом на шее достал табакерку, нюхнул и стал странными глазами оглядывать мебель, английские часы на мраморной тумбе, картины, бронзу… Его глаза будто говорили:
«Ничего! Вещи хорошие… Пригодятся…»
Он будто сюда приехал все это купить, но зато дешево…
Двое его спутников были важны, но к нему относились подобострастно вежливо.
В соседней комнате, полуприхожей, остались, сами себя в ней задержав, пять человек, в длиннополых кафтанах с ястребиными лицами…
Наконец, в передней уселись и мирно беседовали с дежурными еще с полдюжины не то приказных и подьячих[27], не то простых писцов, по имени: «земские ярыги»[28].
XXVIII
Со следующего дня в Высоксе был уже будто новый хозяин.
Жизнь пошла на новый лад.
Гостиная барыни больше всею понравилась «отделению верхнего суда». И светлее, и покойнее, и ближе от всего…
В этой комнате все и устроили. Мебель вынесли вон, поставили три стола, один большой и два поменьше и прибавили большое кресло для статского советника Колокольцева, два кресла поменьше для его двух помощников, простые стулья для подьячих и писарей.
Отделение сказало, что оно кушать привыкло не позднее полудня, любит черный квас и сбитень[29], в конце обеда, пожалуй, и вино заморское «ромарей», и венгерское. Ужин не позднее восьми часов.
Ввечеру отделение выходило погулять в сад… Спрашивало, работают ли на заводах девки слободские, а если работают, то гуляют ли ввечеру в саду… Им бы следовало таковое дозволить ради отдыха от работы.
Высокса притихла… Всякий ходил, как пришибленный… «Нынче ты ничего, а завтра злодей, а послезавтра и острожный»[30].
На допросе, у стола, где сидел статский советник Ельпидифор Алексеевич Колокольцев, перебывало с девяти часов утра много народу. Первым пришел барин сам и сказал, как дело было…
— Приехал с охоты, и мне доложили…
Все, кто шли потом, говорили:
— Знать не знаю и ведать не ведаю. Убили. В ночь. Князя Никаева! Не то ножом, не то поленом. Может, и из ружья. Кто? Бог его знает. Мы не видали. Приехал барин, мы доложили.
Дарья Аникитична молчала и глядела, глядела и молчала…
— Скажите, сударыня, хоть что-нибудь! — строго заявил Колокольцев.
Но Дарья Аникитична только потрясла молча головой.
Сусанна Юрьевна сама первая заговорила:
— Нечего меня спрашивать! На то вы и судьи, чтобы учинить розыск, все разобрать и виновного найти… А меня прошу не тревожить. Я сама никого не убивала. Кто убил, никому не ведомо. Как же это мне знать? Но если бы я и знала, то не сказала бы.
И она произнесла все это сурово и важно.
Вместе с тем она позвала Ельпидифора Алексеевича любезно и кокетливо к себе вечерком на чашку чаю с калужским тестом, кстати тоже отведать изделия всякого из стряпни собственного крепостного кондитера.
Колокольцев, ухмыляясь, поблагодарил за честь и обещал непременно быть, понимая, что «суть» дела можно обделать только с красавицей.
Онисим Гончий на допросе заявил холодно:
— Смекаю я, кто в смертоубийстве виновен, но сказать не могу. Ввечеру у Сусанны Юрьевны, беседуя, кой-что могу вам пояснить… не для записи… а так по дружеству…
Колокольцев тоже согласился, улыбаясь…
И ввечеру они втроем действительно всю суть дела выяснили и порешили.
Уже поздно, вернувшись сверху к себе, начальник «отделения» был в восхищении от красавицы барышни, а равно и от ума Онисима Абрамовича.
— А он из простых писарей, как и я… — заявил он своему первому помощнику.
На следующий день первым к допросу был вызван снова сам барин.
Судья передал ему свои подозрения «как дело было», убеждая сознаться во всем и положиться на монаршую милость.
Басанов упорно отрицал «возведенный врагами поклеп».
В следующие дни началось что-то такое непонятное, мудреное, темное, диковинное, что Высокса ахнула… И длилось это более недели…
С проволочного завода привезли знахарку, колдунью Ешку, маленькую калмычку, уже старушенцию, но лукавую и умную…
Она оказалась главным свидетелем, осветившим все дело, и направила «розыск», куда следует. Двое заводских крестьян и один дворовый были взяты под стражу с тем, чтобы быть отправленными под конвоем в наместничество…
Отделение собиралось уезжать…
Накануне отъезда, вечером, Колокольцев, наедине, заперев свою дверь на ключ, считал толстые пачки ассигнаций… Всего было двадцать пять тысяч… Главный судья сиял…
— Ай, голова! Ай, какая голова! — шептал он. — Не видывал таковых. Вот бы его из этой канцелярии заводской, да в нашу бы взять. Про нас сказывают люди: крючки де судейские! Нет, голубчики, у вас вот тут молодец — истый крючок. Всю империю зацепить, прицепить и поволочь сможет… Недаром и прозывается особо… Кличка по шерсти: истинно гончая собака, след зверя носом находящая…
Наутро все вздохнули свободно и радовались. «Отделение» выехало восвояси, захватя и главных преступников…
— Умница ты, Гончий! Умница! — восторженно повторял Басанов.
Гончий благодарил и радостно ухмылялся… но как-то загадочно… Однако этого, кроме Сусанны Юрьевны, никто не замечал. Сама же она была несколько озабочена и не умела скрыть какой-то тревоги… «Ох, перехитрит, пересолит», — думалось ей.
Прошло три недели… Высокса вся от мала до велика снова встрепенулась, а затем будто тотчас замерла от перепуга.
Новое «отделение» явилось из наместничества распутать напутаное первым.
— Ну вот она… началась! — воскликнул Денис Иваныч.
— Кто — она?.. — спросила его жена.
— Волокита!..
Вторые судьи, пробыв неделю с опросом, все распутали по-своему, и уже никто не мог ничего понять…
Прошел слух, что судьи раскрыли истинного убийцу князя Никаева и, не зная как им поступить в особо важном обстоятельстве, послали донесение наместнику и ждут его разрешения арестовать… кого-то в доме… Кого?
Те, что говорили со слов других, сами робели от изумления и страха.
— Виновата в смертоубийстве и будет осуждена сама барыня Дарья Аникитична!.. А барину тоже не избежать беды… Он помогал супруге…
Однако второе «отделение» кончило в одну неделю свой сыск и уехало, не арестовав ни барина, ни барыни. Оно определило оставить их в Высоксе под подозрением и указало родственнице их наблюсти за ними, чтобы они «безотсутственно» пребывали в вотчине.
Начальник второго земского отделения, уезжая, был тоже очень доволен и очень вежлив с красавицей-барышней и очень радушен с новым «заведующим коллежским правлением». Дела были временно поручены Гончему по просьбе и совету барышни, но неведомо кем. Сам же барин с женою были временно устранены от всех дел управления заводами под предлогом, что угрозами и деньгами не допускают своих холопов чистосердечно показывать правду по делу об убийстве.
XXIX
Прошло полгода со дня совершенного преступления, и дело стало принимать иной оборот.
Басанов, уже увезенный из вотчины, жил безвыездно под надзором в губернском городе… В суде шло дело о нем, как о главном заподозренном в смертоубийстве. Предполагаемая пособница его, Дарья Аникитична, была по распоряжению наместника впредь до окончания сыска и суда оставлена на жительстве в Высоксе при детях, но не при делах управления.
Предписание правительственное между прочим гласило:
«Перепоручив оной дворянке, Дарье, Аникитовой дочери Басман-Басановой, яко родной матери, печися и старатися об чадах, двух сынах ее, Олимпии и Аркадии, изъять из ведения ее и присутствия всякие заводские, и вотчинные, и прочие дела, а управление и распоряжение оными возложить на девицу из дворянок Сусанну Юрьевну (Егорову тож) дочь Касаткину, с строжайшим препоручением ей опекать и блюсти все, до Высокских Басман-Басановских заводов и вотчин и степных деревень и иного прочего имущества касаемое, сущее и присное. Опричь сего, нижегородскому бывшему купцу, а ныне высокским коллежским правителем назначенну, Онисиму Абрамову сыну Гончему, яко ответственну, не токмо пред опекуншей дворянкой Касаткиной, всего управления блюстительницей, но такожде и сугубо ответственну пред самым наместническим правлением, — иметь все в полном его, Гончего, распоряжении и под наивящшим его наблюдением всех дел происхождения. И отнюдь не ссылатися ему, Гончему, на помешательства и помешателей, а на свой страх и совесть приемля пред законом все оное, до заводских и вотчинных дел касаемое и следующее, строжайше и неукоснительно ведать и в наместническое правление доносить… И такс всему оному вышеписанному впредь до присного наместнического указу быти».
Часть четвертая
I
У главного управителя, помощника опекунши Высокских заводов, «господина» Онисима Абрамовича, кончился доклад управителей и канцеляристов и начался прием.
Был четверг, единственный день в неделе, в который всякому, хотя бы первому встречному, дозволялось придти по своему делу, или с просьбой, и лично доложить все главному вершителю судеб Высоксы, власти которого предела не было.
Приемная и прихожая, а затем и коридор, были полны народом разного рода или вернее трех сортов. Самые важные лица ждали в приемной, сидя на диване и на креслах. Люди помельче ждали своей очереди в прихожей, кто сидя на ларях вдоль стен, а кто стоя… В коридоре было мужичье и даже несколько баб. Одна из них, очень старая, сидела на полу и тихо говорила с маленькой девочкой лет десяти, которая была ее поводырем. Старуха лет семидесяти была слепа и была, по уверению всех, колдунья.
Господин Гончий, официальный, правительством признанный, правитель заводов, не только полновластный в Высоксе, но имеющий значение и во всей губернии, занимал апартамент наверху и принимал всех в той же самой комнате, где прежде был кабинет Басман-Басанова, основателя заводов.
В этот день и еще накануне у всех во всей Высоксе были «ушки на макушке». Все обыватели, нахлебники, дворня, заводские рабочие и крепостные, старались делать свое дело порядливо, чтобы нельзя было придраться. Это случалось раза два в месяц. Случалось это потому, что проходил слух, что «он» ныне в стихе[31].
На Гончего нападал стих, Бог весть почему. Он становился вдруг особенно строг и взыскателен. Малейшая провинность вызывала строжайшее наказание. Причина была неизвестна.
Только сам Гончий знал причину этого «стиха», но никогда никому ни словом не обмолвился, а в особенности не хотел объяснить это Сусанне Юрьевне. Раздражение, являвшееся в нем порою и длившееся дня два, происходило от острой боли в обрубленной руке. И нестерпимо болели именно пальцы несуществующей кисти руки. Гончий считал это явление чуть не колдовством.
И без того все равно боялись его гнева. А когда находил стих, то робели и смелые: так как разгневавшийся Онисим Абрамович Гончий, хотя и не опекун, а управитель всех заводов, мог сослать и в Сибирь.
Все знали и помнили, что он, властвующий над всеми, был когда-то простой писарь, которого звали «Анька». Но это было давно…
Много с той поры воды утекло!
Многие еще помнили Онисима Абрамовича, когда он был «Анькой», и говорили и рассказывали это… Но молодежь едва верила, как бы не могла себе и представить, каким образом всемогущий Онисим Абрамович мог зваться просто «Анькой» в молодости.
Зато сам Гончий знал и помнил, чем он был, вспоминал с гордостью, и ему казалось, что когда он был «Анькой», то уже чувствовал, чем он может быть и чем будет. Любовь к нему самой барышни, красавицы, ему когда-то ответила, что он не обманывается на свой счет… Недаром она его выбрала и приблизила… Но когда Сусанна Юрьевна его оттолкнула и увлеклась молодым гусаром Басановым, он снова упал духом. Он усомнился в себе. Все хорошее, что случилось в жизни, случилось будто зря. И опять стал он тот же писарь Анька. Но, не примирившись с судьбой, отомстил, томился затем долго в изгнании, изнывал духом, хворая телом и был несчастнее самых несчастных… И что же? Она вернулась к нему, снова полюбила, заверяя, что его одного любить можно, ибо он один — человек. Все остальные — куклы.
И он опять возвысился.
Разумеется, с того дня, что Сусанна Юрьевна снова приблизила Гончего и полюбила его одного без измены, без прихотей, он стал боготворить ее, жил мыслью о ней и знал, давно решил, что если судьба заставит его пережить эту женщину, смысл его жизни уничтожится, и он немедленно уйдет за ней на тот свет. Смелости хватит. Даже и не нужна будет эта смелость… Оно само собой совершится.
В это утро стих спадал, ибо боли в руке ослабели.
Кончив прием, Гончий велел позвать старуху, считавшуюся колдуньей, и заставил ее себе погадать. Он был крайне суеверен и верил в гаданье, а теперь в его жизни наступил перелом…
Когда старуха через час времени вышла от «господина» Онисима Абрамовича, то он сел к окну и задумался… Много худого наболтала ему старая ведунья. Даже только одно худое. Прежде всего сказала, что скоро-скоро умрет старый человек, ему близкий… Очевидно, что этот старик — его отец Абрам Мартынович, которому теперь уже под девяносто лет.
Колдунью-гадалку повели между тем к барышне вниз. Но когда Сусанне Юрьевне доложили о гадалке, она взволновалась, подумала несколько мгновений и приказала накормить слепую старуху, дать ей ситцу на платье и отправить. Сама потребовав старуху, Сусанна Юрьевна вдруг побоялась гадать… Она сидела за пяльцами, продолжая, как и двадцать пять лет тому назад, проводить день за единственной работой, которую знала и в которой давно стала мастерицей. Арфа была давно совершенно заброшена. Только изредка играла она и не иначе, как по неотступной просьбе Гончего… Он любил, собственно, не музыку, а любил слышать те песни, которые сразу восстановляли в его воображении давно минувшие времена… те дни счастья, дни гроз и бурь… дни блаженства и дни страшного отчаяния. Да, много было прожито им… И все это пережитое восставало вновь, будто оживало и становилось действительностью, настоящим, а не прошедшим.
Когда гадалку накормили и одарили, в комнату к барышне вошла, едва двигая ногами, сгорбленная старуха. Она осторожно и усиленно опиралась на толстую клюку, так как слабые ноги совсем отказывались служить.
— Ну, старую вралиху отправила, — сказала она, шамкая беззубым ртом, и затем тяжело опустилась в кресло.
Это была Анна Фавстовна, сильно изменившаяся и постаревшая.
— Пора вам одеваться к столу, — сказала она.
— Я этак пойду… — ответила Сусанна Юрьевна.
— Как этак! А энтот московский гость за столом будет.
— Правда, забыла… Ну, да Бог с ним…
— Нехорошо… Гость. Когда же этакое бывало! Наденьте хоть голубое платье.
— Сойдет и так, Анна Фавстовна. Не те времена. Вы забываете, что я тоже, как и вы, старею. Пора перестать щеголять.
Угрюмова покачала головой и выговорила укоризненно:
— Как этакое глупое сказывать! Вы та же красавица писаная. Краше всех. Как были, так и остались.
Сусанна рассмеялась.
— На ваши глаза. А вот даже Онисим Абрамович и тот говорит, что я постарела.
— Стыдно ему такое сказывать. Видел он кого здесь краше вас? — сердито воскликнула Угрюмова.
— Вестимо. И многих… Вы этого не видите из любви ко мне и забываете, что мне скоро полвека. Разве в пятьдесят лет бывают красавицы?
— Бывают… Но вам и нет еще пятидесяти… Тот раз вот говорил мне Денис Иваныч, что на его взгляд вам тридцать лет дать можно.
— Мне? Тридцать! А морщины? А лицо сизое? А волосы седые? — смеялась Сусанна Юрьевна.
— Не сердите меня. Опять закашляюсь! — стукнула Угрюмова клюкой своей по полу. — Выдумщица. Право, вы мне назло перечите. Знаете ведь и видите сами… Зеркала-то есть в доме…
— Есть. И я к ним теперь подходить, как прежде, не охотница. Причешусь, да за целый день на себя ни разу не взгляну.
— Почему же это?
— Обидно: что бывало прежде они мне сказывали и что теперь сказывают!
— Что же они теперь могут сказывать?
— Говорят: старая ты, старая старушенция. Куда твои глаза девались? Куда улыбка девалась? А зубы… Двух уже нет внизу, да одного наверху. Даже брови и те повылезли.
— Не смейте вы мне это говорить!.. Слышите! — вскрикнула Угрюмова. — Если вы когда…
Но старуха от своего крика выдохнулась и начала кашлять.
Сусанна Юрьевна махнула рукой, однако лицо ее несколько оживилось. Она будто любила слышать о том, что она еще не так стара, что ей нельзя дать пятьдесят лет, к которым она приближалась.
И это было отчасти справедливо.
Разумеется, в обыкновенном, ежедневном костюме Сусанне казалось лишь сорок лет. Но когда в праздники или в дни приема важных гостей, приезжавших в Высоксу по делам, она выходила разрядившись, то, конечно, прежняя красота снова сказывалась. И если гости более не говорили про нее, что она красавица, то всегда говорили:
— Как, должно быть, она хороша была в свое время! И теперь видно.
На взгляд Угрюмовой, барышня ее была все та же. Старуха не видела никакой перемены, а иногда искренне думала, что Сусанна Юрьевна если и переменилась, то разве еще к лучшему.
Впрочем и на взгляд Гончего было то же. Он замечал только, что взгляд любимой женщины стал другой. Но он решил, что Сусанна Юрьевна смотрит будто печальнее и скучнее. Оттого и нет в глазах прежнего огня и блеска. А седина в волосах даже красит ее. Известная полнота, прибавившаяся в лице и в теле, тоже скорее к лучшему… Вообще в Высоксе Гончий действительно не видал никого, кто бы мог, по его искреннему убеждению, сравниться красотой с кумиром всей его жизни. Сусанна знала это и теперь более, чем когда-либо, ценила неизменно-глубокое, беспредельное чувство своего «Ани». Вдобавок, пока она постарела, он оставался будто все тот же тридцатилетний молодец и казался лишь мужественнее, а не старше.
II
С того рокового года, когда второй Владимирский Мономах сделался убийцей, прошло около пятнадцати лет. Волокита над Дмитрием Андреевичем тянулась года четыре с лишком, причем его заставили жить безвыездно в губернском городе. Если бы подсудимый был не Басман-Басанов, то, конечно, дело прекратилось бы вскоре: он был бы или осужден и сослан, или оправдан. Но так как подсудимый был страшно богат, то надо было судить его искусным образом, с уменьем.
И Басанова судили необычайно умело, с мастерством. Он два раза в году бывал на волосок от осуждения, после чего вдруг дело поворачивалось, и ему обещали на следующий же месяц полное оправдание. Каждый раз, когда осуждение надвигалось на него, как грозная туча, разные стряпчие по делам являлись предлагать ему свои услуги, чтобы повернуть дело в его пользу, причем назначалась сумма и немедленно выплачивалась. Оправдание откладывалось, а через несколько месяцев снова надвигалась та же беда.
В течение времени от четырех до пяти лет Басман-Басановым было уплачено в разные руки, неведомо кому, всегда через подставных лиц, более трехсот тысяч. Деньги эти, конечно, высылались из доходов Высоксы, но, наконец, пришлось немного и занять.
Однажды, уже на пятый год, Онисим Абрамович на требование вновь пятнадцати тысяч ответил прямо, что денег этих нет и выдать он их не может. И случился казус, любопытный, единственный в своем роде. Помещик, желавший уплатить за себя из жениных средств крупную сумму, не мог этого сделать, так как был под судом и под опекой, а жена его, настоящая владелица, Дарья Аникитична, была наполовину тоже лишена своих прав, будучи под подозрением, дети же их, как малолетние, конечно, голоса никакого не имели. И бывший крепостной человек Басман-Басанова, распоряжавшийся за спиной опекунши всем состоянием, отказывая бывшему барину в его собственных деньгах, действовал законно.
Едва только кому-то — невидимке — стало известно, что больше по делу Басман-Басанова ничего высосать нельзя, как его дело приняло худой оборот. Живший все-таки весело, проводя день в картах и попойках, уже сильно опустившийся и хворавший, Басанов, однажды получил известие из Петербурга, что скоро его делу конец. Его вскоре оставят под подозрением, подвергнут церковному покаянию и заставят жить по-прежнему в городе, а не в Высоксе.
Дмитрий Андреевич этим известием был почти обрадован. Оставленье под подозрением было, собственно, не наказанием, а церковное покаяние было нелепейшая формальность, обязывавшая только говеть раза три в году и сносить частые посещения какого-либо священника, им же самим избранного. Что касается до жизни во Владимире, то Басанов настолько привык к ней и отвык от Высоксы, что если бы его и не обязали жить в городе, то он бы сам остался.
Через неделю, после усиленных пиршествований по поводу этого известия в кругу многочисленных друзей, Басанов однажды утром получил из Петербурга по почте большой пакет. В его спальню рано утром явился его неизменный друг Михалис, растолкал его и, подав пакет, выговорил:
— Вот оно… Слава Богу — конец!.. Выберем батюшку покладистого в духовные отцы и закутим еще больше на радостях.
Басанов разорвал конверт, вынул большую бумагу и начал читать, но едва прочел он несколько строк, как побагровел… Через минуту он уже лежал в постели, со странным черноватым лицом. Бумага и конверт валялись на полу, а Михалис бегал по дому, крича, чтобы посылали скорее за докторами.
Басанов узнал из полученного послания, что он лишен прав состояния с ссылкой в Сибирь на поселение. С ним тотчас же сделался удар. Конечно, это подготовила предыдущая жизнь. Даже меньшее нравственное потрясение произвело бы то же.
Через две недели Басанов был уже на том свете, а еще через неделю в Высоксе все были на ногах — на богатых торжественных похоронах молодого барина. И все обитатели невольно толковали о том, что менее чем за десять лет времени они хоронят уже третьего барина Басман-Басанова. В утешение оставалось только, что живы и здравствуют два Басман-Басановы, тринадцати и одиннадцати лет мальчуганы.
И вскоре после похорон Высокса узнала, что бывший крепостной человек, а затем простой писарь, который был и беглым, был и ошельмованным, был и сам почти убийца, теперь будто чудом каким преобразился в нечто почти непостижимое. Этот прежний «Анька» теперь стал все тот же Аникита Ильич, полный хозяин над всеми высокскими заводами, чинил суд и расправу над всем и над всеми, и судьба нескольких тысяч душ была в его руках.
Все ожидали самых неожиданных последствий от нового полновластного хозяина, однако ничего особенного не произошло. Онисим Абрамыч не только не тронул никого из приживальщиков, но даже дозволил вернуться обратно на даровые хлеба в Высоксу двум старым девицам Тотолминым, когда-то изгнанным за то, что им привиделся покойник, старый барин.
В управлении заводами наступила снова та же строгость, что была при Аниките Ильиче, но вместе с тем и та же справедливость. Сначала многие пробовали или попадать в милость, или противодействовать относительно Гончего через Сусанну Юрьевну, но вскоре все убедились, что она сама в полном подчинении у Онисима Абрамовича. Видно, время ее прихотей навсегда миновало, и теперь она уже не променяет этого давнишнего любимца, к которому вторично после измены вернулась, ни на кого другого.
Со дня смерти Басман-Басанова и немедленного удаления в монастырь Дарьи Аникитичны жизнь в Высоксе пошла своим прежним чередом во всем, что касалось заводских дел. В самом же доме, по крайней мере в верхних этажах, жизнь пошла так, как шла при Аниките Ильиче, а не при Дмитрии Андреевиче. Была только та разница, что пожилые сильно постарели, маленькие повыросли, а юные возмужали. Опекунша и юные господа жили по-старому. Пирований не было никаких, охота исчезла, и охотный двор давным-давно стоял пустой, даже гнил. Гусарский конвой тоже не существовал, а гостей из других губерний и из столиц почти не бывало. Господа жили не только тихо, а совсем по-монастырски.
Такая жизнь завелась по воле Гончего. Но как же случилось все это непостижимое?
Каким образом бывший простой «вольноотпущенный» мог сделаться почти опекуном над громадным состоянием и над внуками своего же бывшего барина? И просто, и не просто! Общий голос был, что это было дело искусное, но не чистое.
Когда барин Дмитрий Андреевич жил еще в губернском городе, Гончий временно заведывал всем по поручению временной опекунши Сусанны Касаткиной, как бы частным образом. Когда Басанов умер, пришло известие, что из Петербурга приедет заведовать и управлять заводами какой-то важный генерал по назначению от правительства.
Касаткина тотчас выехала в Петербург и отсутствовала более полугода. Вернулась она в качестве законной, окончательно утвержденной опекунши, с правом выбора себе помощника и главного управителя.
Разумеется, помимо Сусанны Юрьевны, всякий в Высоксе мысленно и как бы поневоле назвал Гончего, который уже около пяти лет заправлял всем. Конечно, вскоре же всем стало ясно, что барышня совсем ни во что не входит, а только подписывает главные бумаги, идущие в губернию и в столицы. Но диковинно было это преображение простого холопа и писаря в какого-то почти опекуна… Ошельмованный у столба и убежавший без руки — вдруг главный распорядитель судеб Высокских заводов.
И многие продолжали думать и надеяться, что правление Гончего не долговечно. Во-первых, сама прихотливая барышня может опять завести себе нового любимца и снова отдалит от себя Гончего, а он этого не стерпит. Во-вторых, он сам, может сплоховать в правлении, а в обеих столицах не мало найдется охотников придраться, чтобы занять его место.
Однако прошло три года со смерти Басанова, опекунства Касаткиной и управления Гончего, и все шло по-старому мирно и толково. Барышня, казалось, была более, чем когда-либо, привязана к своему давнишнему другу. А на четвертый год вдруг произошло нечто неожиданное, почти невероятное и, переполошив всю Высоксу, прогремело на все наместничество.
Опекунское управление получило извещение из Петербурга, что по поводу поставки последнего казенного заказа, не только исправного, но изрядного и примерного, «министр внутренних дел приказал благодарить управление в лице дворянки Касаткиной и ее помощника купца Гончего». Но это было не главное. Страшный шум наделало иное… В официальной бумаге сообщалось, что ввиду поставки важного заказа ранее срока и дешевле условленной цены, государь император по донесении о сем его величеству «изволил выразить свое удовольствие». И вся Высокса, даже все наместничество взглянули на управителя, как на настоящего опекуна. Все даже стали звать его опекуном. И Гончий стал главным и почти единственным важным лицом на заводах. Сусанна Юрьевна, сильно изменившаяся нравственно, только числилась опекуншей. Настоящие господа и будущие владельцы, Олимпий и Аркадий Дмитриевичи, окруженные кучей нянюшек, надзирательниц, а впоследствии учителей, были равно будто незаметны. На них как-то никто не обращал внимания.
Только однажды о молодых господах заговорили больше вследствие одного распоряжения барышни Сусанны Юрьевны. Двух братьев, из которых одному было пятнадцать лет, а другому — тринадцать, разделили и поместили в двух разных концах дома, и каждый имел свой особый штат.
Распорядилась так якобы сама Сусанна Юрьевна потому, что братья, чуть не с рождения дравшиеся между собой и не ладившие постоянно ни в чем, теперь уже отроки, ладили еще меньше. Впрочем, всем было известно, что виною во всем старший — Олимпий Дмитриевич. И уже давно ходившее прозвище для обоих братьев теперь стало еще более известным.
Кто-то метко окрестил их, а молва о прозвище пробежала даже за пределами наместничества: юных Басман-Басановых, наследников огромного состояния, звали «Каин и Авель». И прозвище это действительно подходило. Очевидно, в деле воспитания двух братьев была крупная ошибка или коварный умысел. Сусанна Юрьевна, руководившая воспитанием двух мальчиков, была не виновата. Если бы ее воля, то она, конечно, укротила бы постепенно старшего, но ей постоянно мешал Онисим Абрамыч. Он не допускал никаких строгих мер и никаких взысканий. Казалось, он умышленно хотел, чтобы вырос взбалмошный, вспыльчивый и жестокий Олимпий, а чтобы младший, постоянно преследуемый и обижаемый братом, стал при полной беззащитности еще трусливее и слабовольнее.
По мнению всех, Олимпий Дмитриевич был любимцем главного управителя, и ему все этим строгим человеком спускалось. Иногда казалось, что он даже потворствует дурному, нежели запрещает. Наоборот, к младшему, Аркадию Дмитриевичу, который и без того был тише воды, ниже травы, Онисим Абрамович относился строго и в случае малой провинности допускал строгое наказание.
Если не вся Высокса, не крестьяне, то во всяком случае вся родня и, конечно, все нахлебники всегда дивились, были озадачены родом воспитания, которое давалось будущим владельцам. Все положительно относились сдержаннее к старшему и сердечнее к младшему, а это выходило как бы прямым противодействием главному вершителю судеб Высоксы.
Теперь, когда Олимпий Дмитриевич был уже совершеннолетним и ожидалось совершеннолетие Аркадия Дмитриевича, чтобы оба вышли из-под опеки и сделались сами хозяевами своего состояния, Онисим Абрамыч, будто схватился за ум. Впрочем, ходила молва, что Гончий потому переменился к старшему молодому барину, что тот не сдержал своего обещания.
Когда-то, будучи юношами, оба брата постоянно обещали Онисиму Абрамычу, что когда они сделаются совершеннолетними и вступят в свои права, то не будут заниматься делами, трудными и мудреными, а будут себе жить в свое удовольствие, но заводские тяжести все останутся по-прежнему на плечах Гончего уже в качестве их вполне доверенного лица.
Это было совершенно естественно и правдоподобно. Гончий за пятнадцать лет управления, несмотря на крупные суммы, уплаченные когда-то волоките, по-видимому, привел заводы в блестящее положение. Лучше управлять никто бы не смог. Двое же молодых господ и по молодости, и по незнакомству с делами, и наконец вследствие постоянной вражды между собой, конечно, не могли бы управиться с трудной и сложной машиной.
И вдруг, за несколько месяцев до совершеннолетия Аркадия, прошел слух, что будто бы в тот день, когда младшему минет двадцать один год, братья попросят Онисима Абрамыча сдать все дела и вступят в управление сами.
Гончий был смущен, услыхав это из уст самой Сусанны.
III
В самую жару майского полдня по главной широкой аллее огромного сада, с которой виден был весь дом-дворец, шел тихо и задумавшись молодой человек… Лицо его, умное, энергическое, было сурово не по летам, так как ему шел лишь двадцать третий год.
Высокий лоб, схваченный в висках, острый нос, тонкие сжатые губы, быстрый ястребиный и хищный взгляд маленьких серых глаз, даже недобрая усмешка, даже шепот в минуту гнева — все в нем поразительно напоминало всякому старожилу Высоксы старого барина, основателя заводов.
Да, это был второй Аникита Ильич. Пока молод, он точный портрет старика Басанова, а когда состарится сам, то будет двойником его.
Это был барин Олимпий Дмитриевич Басман-Басанов, которого отец и мать еще ребенком величали в шутку «махонький Аникита Ильич». Помимо лица, взгляда, усмешки и крутого нрава, Олимпий был положительно во всем подражание или повторение деда.
Молодой человек двигался тихо, размышляя и задумавшись все об одном и том же, что поглощало теперь все его мысли за последнее время.
И прежде, давно, эти мысли приходили на ум, но лишь изредка, а теперь осаждают.
Делиться или не делиться? Если не делиться, то надо мириться и жить в дружбе. А это мудрено. И зачем судьба не захотела так устроить, чтобы он был один и полный обладатель Высокских заводов? Ведь он вот не бывал ни разу болен, а «тот» два-три раза сильно хворал. Два-то раза совсем при смерти был… Один раз, сказывают, как в огне горел весь и без сознания четверо суток лежал. На волосок, сказывают, был от смерти. Но не помер… А как бы это теперь хорошо было! Один бы он властвовал в Высоксе… И уже теперь бы властвовал. Уж скоро два года, как он совершеннолетний… Уж если нужно было судьбе послать двух детей его матери, так послала бы девочку. Сестре выдали бы при замужестве четырнадцатую часть и спровадили бы с Высоксы за мужем вслед: хоть в Питер, а то и к черту на рога! Да, обидно… А теперь — или делиться, или мириться. А в мире жить с этой мякиной, с этой плаксой и ротозеем нельзя.
Кто-то идущий навстречу вывел Олимпия из задумчивости. Он поднял склоненную голову и увидел перед собой такого же молодого человека, своего ровесника, и пошел тише, как бы желая не просто встретиться, а заставить того подойти к себе.
Встречный прибавил шагу и, подойдя к барину, поклонился, почтительно снимая шапку.
— Что скажешь, Змглод? — спросил тот.
— К вам, Олимпий Дмитрич.
— От братца?
— Точно так-с…
— Что еще?
— Аркадий Дмитрич очень просят вас разобрать кучера Клима и вашего «фолетора». Опять очень шибко подрались. У Клима все лицо в кровь разбито.
— Что же? Так и быть должно. Чего тут разбирать! Зачем в «братцевы» пошел? Вот его теперь все «бариновы» бить учнут. И отлично. Я из ваших никого не переманивал, а вы переманиваете.
— Ей-Богу, Олимпий Дмитрич, мы Клима не переманивали… У нас, сами знаете, после смерти Егора кучера не было совсем, а у вас он вторым состоял. Да и опять-таки на то воля Онисима Абрамыча была. Он указал.
— Ну, ладно. Разберу. Прикажу Ваську-форейтора[32] засадить в рунтовом доме на три дня.
— Маловато это, Олимпий Дмитрич, — улыбаясь сказал молодой Змглод.
— Буде… буде… Ну, а у вас что? Что сестра? Устала от вчерашнего небось?
— Ничего-с. Отоспалась.
— А нога?
— Ничего-с. Так ли ей случалось падать.
— Это братца она благодари. Таков уж у нас искусник. Всегда кого-нибудь толкнет, зацепит, либо с ног сшибет. С ним хоть ни в какие игры не играй.
— Со всеми такое бывает… Не беда.
— Ну, а отцу как? Получше?
— Получше… Так как же, Олимпий Дмитрич?
— Что?
— А насчет фолетора? Маловато… три дня…
— Ну, ладно, на неделю велю засадить. Так уж и быть. Мне и самому надоели эти драки. Пора бы всему этому конец. Вот что я тебе скажу, Иван Денисыч. Конец…
— Мы бы душой рады. Мы никогда не зачинаем. Наши — народ все тихий.
— Толкуй! С малолетства я это слышу. Вы — тихони. Вы все исподтишка да из-за угла все норовите. А мы — прямой народ, без хитрости и все начистоту.
И Олимпий, отпустив Змглода, тотчас направился в самый глухой край сада.
Здесь, среди чащи, дожидался конюх, держа в поводу оседланную лошадь.
Олимпий, не сказав ему ни слова, привычным и бойким движеньем взмахнул в седло, взял из его рук нагайку и, хлестнув лошадь, скачком исчез в чаще.
Беседовавший с барином был сын прежнего обер-рунта. Вернувшись в дом, молодой Змглод прошел в левое крыло. Здесь в угольной комнате у открытого окна сидел совсем юноша лицом, однако уже почти совершеннолетний Аркадий Басанов. Всякий, знавший Дарью Аникитичну, догадался бы, что это ее сын, настолько велико было его сходство с матерью. Даже добродушная простоватость взгляда и улыбки была та же. Большие светлые глаза имели ту же способность «разбегаться» при малейшем смущении и волнении, выражая полную потерянность и всякое отсутствие воли.
Зато по одному лицу этому, помимо ласкового певучего голоса и женственной мягкости во всех движениях, чувствовалось, что этот молодой человек — «золотое сердце» и что незлобливость его доходила до крайности, доброта беспредельна.
Высокса не ошиблась в своем прозвище братьев! Если Олимпий не был вполне Каин, то Аркадий был вполне Авель.
Молодой человек сидел давно, не двигаясь, нагнувшись над столом, и рисовал по дощечке из слоновой кости акварелью… Это была красивая женская головка с золотистыми кудрями, густо вьющимися, и с черными выразительными глазами, в которых было много энергии.
Как мог безвольный и простодушный Аркадий выразить в глазах маленькой головки такую решимость, такую волю — было загадкой дарования.
Он рисовал портрет, а не фантазировал… Вдобавок это был уже восьмой портрет все той же личности. Над каждым из них он сидел по два или по три месяца и, подарив кому-либо, принимался снова за ту же работу, обещая, что добьется своего…
— Будет она у меня, как живая! — думал и говорил он. Разумеется, лучший портрет он предполагал оставить себе… Теперешний, счетом восьмой, после двухгодовой работы, казалось, долженствовал быть именно таковым, каким художник воображал его и добивался произвести в действительности. Помимо рисования в Аркадии проявлялась одаренность натуры на всякие лады. Он хорошо пел, недурно играл на арфе, хотя собственно не учился, а только видел с детства, как играла его тетушка. Он чрезвычайно красиво танцевал…
Лишь одна черта характера молодого человека как бы не шла к его натуре. Кроткий и тихий, он дивил всех своими вспышками гнева, которые являлись как припадки, будто независимо от его воли.
Зато после нескольких минут страшного, чуть не безумного пыла он начинал плакать и рыдать…
Войдя к Аркадию, Змглод сел около него. Он был любимец, но не простой льстящий и услужливый наперсник, а истинный друг, заменяющий родного брата. Отношения между ними были равные, дружески-искренние.
— Просил сейчас Олимпия Дмитриевича, — сказал он. — Согласье дал.
— О чем? — рассеянно спросил Аркадий, осторожно ведя кисточкой и вырисовывая золотистый завиток на головке.
— Наказать за Клима… Вы бы сто лет не собрались. А этак наших забьют совсем. Удивительно, что есть еще охотники быть «братцевыми»: не выгодно!
Змглод нагнулся к столу, поглядел на портрет и покачал головой.
— А ведь и впрямь этот будет самый лучший. Живая — сестренка: чуть не говорит!
— Да… Этот и первый — два разных лица, — отозвался Аркадий и добродушно улыбнулся.
— Удивляюсь, как вам не надоест все ее одну рисовать. Даже и в Высоксе все удивляются. Да это было бы ничего. А врут, выдумывают всякое — вот что обидно.
— Пускай выдумывают… Умные знают, что все это пустобрешество и что Саня вышла девушка не такая. Да и я не такой! Я даже уразуметь не могу, что это за бешенство такое у брата. Ну, хоть бы одну любовь имел, ну, хоть две, одну за другой… А что же это такое? Известных можно насчитать за шесть лет чуть не две дюжины, а сколько было неизвестных… Этак и дедушка Аникита Ильич не поступал, а куда, говорят, был падок на бабье… А Олимпий совсем и вправду, как его зовут, бабоед. И как это можно любить одну за другой!..
— Это не любовь, Аркадий Дмитриевич. Это блажь, баловство. Эго у него от дедушки по наследству.
— Только еще пуще.
— Да. Не в пример пуще. И сказывают верно все, что как окончится опека, Олимпий Дмитрич бросит высокских… Займется губернскими, а то и столичными красавицами. И нарвется когда, — на рожон налетит и наколется.
— Нет. Не думаю…
— Верно. На мужа на какого ревнивого. А то и на брата какого… Да вот я к примеру. Учини он что с нашей Саней, — нешто я спущу: в каторгу уйду, а все-таки расправлюсь по-своему.
— Понятно. Но за Саню и не ты один заступник. Другие тоже есть.
— Батюшка сам? Известно, и он.
— И еще найдутся… — усмехнулся Аркадий.
— Вы-то?.. Это не ваше дело: вы чужой человек!
Аркадий не ответил и подавил в себе вздох.
Между тем в то же самое время Олимпий продирался верхом среди гущины кустов глухого края сада, хотя мог ехать и по дорожке. Но он таился…
Проехав чащу, он двинулся к забору, где в одном месте тот был наполовину разобран. Оставались только четыре нижние доски: верхние же лежали на траве… Пустив лошадь в галоп еще шагов за десять, он ударил ее нагайкой и ловко, легко перемахнул через забор… Здесь были огороды дворовых людей и место глухое и безлюдное… Взяв напрямки через гряды, передавив много всяких овощей, Олимпий выехал на опушку начинающегося леса и, очутясь на узкой лесной колее, едва заметной среди травы, пришпорил лошадь. Это была даже не дорога, ибо не вела никуда: здесь только возили дрова раза два в неделю.
Проехав с версту, молодой человек свернул вправо и поехал целиной и чащей леса… Однако кое-где направо и налево свежесрубленные ветви сосен и елей доказывали, что в этой чаще недавно слегка прочистили лес, чтобы дать возможность верховому свободно проехать.
Минут через пять езды шагом Олимпий выехал на лужайку, на которой стоял покосившийся маленький домик вроде сторожки лесной.
Молодой человек стал озираться кругом себя на лужайку и даже обернулся подозрительно назад, на чащу, которую проехал.
Одно из двух маленьких оконцев домика растворилось, и в нем появилась хорошенькая головка, черная, как смоль, кудрявая, повязанная красным платком.
— Давно ли? — крикнул Олимпий весело.
— Да уже давненько! — отозвался веселый и звучный голос. И лицом, и звуком голоса говорящая вполне смахивала на цыганку.
Олимпий привязал лошадь к дереву и через дверку вошел в домик.
Но внутри была не грязная конура лесного сторожа или мужика. Это была очень маленькая, но очень красиво убранная комната со стенами, обтянутыми красным кумачом, и с хорошей барской мебелью.
Очевидно, что домик-лачуга или сторожка снаружи, но отделанная богато внутри, была затеей молодого барина.
— Никто не видал? — спросил Олимпий, обнимая и целуя красивую девушку, почти девочку ростом и внешностью.
— Как можно… Избави Бог.
— То-то, смотри, Тонька. Я боюсь…
— Я пуще вас боюсь… Он не даст и пояснить все, как убьет… Хитрее приходить сюда и нельзя…
— Ну… Убить не убьет, — рассмеялся Олимпий. — А мне с ним ссориться не охота.
IV
Если переменились люди и порядки, то большой дом, вернее, дворец, стоял все тот же огромный и угрюмый.
Расположение комнат и апартаментов в доме было несколько иное. После смерти Дмитрия Андреевича главный управитель занял комнаты Аникиты Ильича не по собственной воле, а Сусанна непременно желала этого. Ей казалось, что Гончий, живя в комнате основателя заводов, получит иное значение в глазах всей Высоксы. И она не ошиблась. Старожилы, увидя прежнего Аньку в апартаментах старого грозного барина, поневоле отнеслись к нему с пущим уважением.
Сама же Сусанна Юрьевна, перейдя в свои старые комнаты, откуда изгнали ее молодые Баса новы после своей свадьбы, переделала все на старый лад, устроила точь в точь так, как было прежде. И теперь были некоторые места в этих комнатах, которые Сусанна Юрьевна любила и часто на них показывала Гончему. Чаще всего она показывала ему на двери балкона или на небольшой диван в гостиной и говорила улыбаясь:
— А это помнишь?..
Гончий отвечал только улыбкой и взглядом, полным любви: она показывала на те места, где он ударил ее ножом и чуть не зарезал, и на тот диван, где ее положили, считая зарезанной насмерть. Иногда же Гончий, точно так же улыбаясь, поднимал руку и говорил:
— А это помните? Мы квиты!
— Нет, — несколько грустно отвечала Сусанна, — не квиты! Я в долгу: у меня только рубец на шее, а ты на всю жизнь безрукий остался.
Весь низ дома был по-прежнему занят нахлебниками, вторым и третьим поколениями тех, кого поместил здесь основатель заводов. Разница была лишь та, что самая большая квартира, бывшая Ильевых, теперь была занята другом старшего барина, жившего здесь с одной сестрой.
В правом флигеле или крыле дома, где когда-то жил и умер Алексей Басанов, затем очень недолго помещались новобрачные Басановы, а после них двое-трое главных любимцев Дмитрия Андреевича, в том числе Михалис и князь Давыд Никаев, — теперь давно жил старший Басанов со своим отдельным штатом прислуги. С ним же вместе жили, имея отдельные горницы, его два любимца: князь Абашвили, очень похожий на свою мать-немку и потому не имевший вовсе внешности кавказца, и Андрей Шлыков, внук Масеича, но, конечно, уже не крепостной человек, каким был его дед-лакей, а имеющий чин сенатского секретаря[33].
В левом флигеле, где когда-то девочкой и девушкой жила Дарья Аникитична, жил младший Басанов, тоже со своим штатом и тоже с двумя любимцами. Двое молодых людей, почти сверстники Аркадия, были живыми портретами своих отцов. Первый, Иван Змглод, был поразительно похож на прежнего обер-рунта Дениса Иваныча. Второй, Василий Ильев, будучи похож на отца, был при этом вылитый дед Василий Васильевич. Молодые люди были вдобавок двоюродные братья между собой, так как мать молодого Змглода, Алла приходилась родной теткой Ильеву.
У каждого из названных любимцев двух молодых господ Басановых были в Высоксе свои любимцы и приятели, а у этих были опять свои приспешники, и все они по своему общественному положению, спускаясь по известной градации, составляли две сплоченные привязанностью группы, враждебные между собой.
Два брата, жившие отдельно, жестоко дравшиеся в детстве, враждовавшие в юности, теперь по-прежнему заслуживали вполне прозвище «Каин и Авель». Разумеется, два любимца Олимпия враждовали с двумя любимцами Аркадия и все, что стояло за ними, конечно, более или менее враждовало тоже.
Таким образом казалось, что всю Высоксу, все заводы, расчеркнула пополам невидимая линия или граница. Все заводы, рабочие и крестьяне деревень — все это, казалось, раскололось на две части, которые склеить вновь было невозможно. Не только на каком-либо дальнем заводе, но даже в какой-нибудь деревушке крестьянская семья принадлежала душой и телом или барину Олимпию Дмитриевичу, или барину Аркадию Дмитриевичу.
В Высоксе от барского дома до последней лачуги все говорили про себя, называли себя Бог весть когда и кем придуманным именем.
— Мы «бариновы»! — говорили одни.
— Мы «братцевы»! — говорили другие.
И в этом случайном прозвище был какой-то особенный смысл, тот же, что в прозвище «Каин и Авель». В этом прозвище как бы главную роль, захватив львиную долю значения, играли партизаны старшего Басанова. Они назывались «бариновы», как если бы барин был у них один на свете. Другие, прозванные «братцевыми», изображали из себя как бы нечто совсем второстепенное. Младший Басанов, Аркадий, как будто не был сам по себе Басанов, а был лишь братом Басанова.
Как создались эти два прозвища, было никому не неизвестно, но когда-то в основу их легла молва — правда или клевета, никому, конечно, было не известно, — что Аркадий Дмитриевич, собственно, по закону должен был бы называться Аркадием Давыдовичем. Некоторые верили в эту клевету на Дарью Аникитичну. Другие доказывали фактами, что Аркадий родился в то время на глазах у всех, когда о князе Давыде Никаеве не было ни слуху, ни духу и в Высоксе он еще не появлялся.
Вражда двух братьев, их любимцев и всех остальных, принадлежавших к числу «бариновых» и к числу «братцевых», была уже давнишняя, чувствовалась и сказывалась постоянно. Что бы ни произошло в Высоксе, в доме или на заводах, постоянно во всякой ссоре появлялось два лагеря, но во всем всегда брал верх лагерь «бариновых».
Умные люди, приглядываясь к этому положению, обвиняли главную опекуншу. В продолжение пятнадцати лет, видя, как появились эти два лагеря, потом все ярче обрисовывались и привели наконец к постоянному враждованию, Сусанна Юрьевна ничего не предпринимала. Конечно, это было по желанию Гончего, для которого Олимпий Дмитриевич и его присные, что бы ни творили, всегда оказывались мало виноватыми, а то и правыми. Умные люди, считая Гончего хитрым, искали в этом умысел, тайную заднюю мысль, но ничего объяснить себе не могли. Только некоторые смутно угадывали, что ему на руку вражда между двумя молодыми людьми. Они были правы. Гончий понимал, что при дружбе и согласии двух братьев он скорее сделается лишним, когда они будут совершеннолетними. Поэтому понятно, что за много лет он ничего не сделал, чтобы уменьшить и утишить эту вражду братьев, и зачастую наоборот случалось, что он как будто разжигал ее. За последние годы он стал прямо, не скрываясь, держать сторону старшего Басанова, убежденный, что если старший брат захочет, чтобы управление оставалось в руках его, Гончего, то младший согласится на это беспрекословно.
Но едва только Олимпию минул 21 год, как он стал намекать всем, что ждет только совершеннолетия своего брата, чтобы обоим вступить в управление. Но дальновидный Гончий давным-давно приготовил громоотвод. Нужно было, чтобы у Высоксы появился крупный долг. Волокита над Дмитрием Андреевичем уже положила основание этому. Вместо того, чтобы скорее погасить этот долг, Гончий постарался увеличить его. Приводя из любви к делу все заводы в блестящее состояние, трудно было устроить, чтобы у них был большой долг; тем не менее Гончему это удалось, благодаря его кипучей деятельности.
Он строил новые заводы, делал всякие сооружения, в особенности плотины, стоившие, конечно, больших денег. Производство все расширялось, доходы увеличивались. Но долг не уменьшался, а только рос, нарастая процентами. Теперь Высокса должна была уже около миллиона, и эта сумма сосредоточилась в руках двух лиц, помимо, конечно, самой казны, которой Высокса также была должна.
V
Было одно нововведение в образ жизни господ. Все нахлебники допускались к господскому столу ежедневно. Поэтому обеды и ужины были людны и шумны. Главное место занимала, конечно, барышня-опекунша и тетушка, налево от нее неизменно сидел «господин» Гончий, а направо оба племянника, уступавшие однако свои места случайным гостям из губернии или из столиц.
Сусанна, по внушению Гончего, строго требовала, чтобы все в известный час были в сборе. Поэтому за полчаса зал уже наполнялся.
Поэтому ускакавший Олимпий Басанов снова был в саду еще за час до обеда и, отдав лошадь ждавшему конюху, прибавил сурово, почти промычал одно слово: забор!
— Не извольте тревожиться, — ответил конюх.
— Ладно. Но помни… Хоть на два-три часа когда забудешь, то прямо в солдаты попадешь.
— Не может того быть, Олимпий Дмитриевич. Как же забыть!
Барин направился к дому, а конюх повел лошадь в противоположную сторону.
«Чуден тоже! — ворчал малый. — Думает, скрытно все. Все знают. Куда собственно ты летаешь этак, понятно узнать нельзя. Покудова. А что я сюда лошадь вожу, да забор разбираю да собираю, все знают. Чуден! Весь огород буфетчика Алексея Миколаича истоптал конскими ногами, а думает — никому то неведомо. Кабы не знали, что барин топчет, то жаловались бы, а они помалкивают… А он боится, что я забор разобранный брошу… Чуден!»
Между тем Олимпий быстро прошел сад и скоро был у себя в комнатах.
Навстречу ему вышел молодой человек с южным типом лица, чернобровый, с горбатым носом-клювом и большим ртом с толстыми губами. Молодец был очень некрасив собой, и вдобавок лицо его было недоброе, взгляд косой. Когда он улыбался, стараясь быть любезным или ласковым, то выражение лица становилось еще неприятнее. В молодом человеке вообще чувствовалось что-то отталкивающее.
Это был Платон Михалис, племянник давно умершего грека, картежника, и скорее друг, чем простой любимец Олимпия Дмитриевича.
— Слетали? — встретил он Басанова, улыбаясь двусмысленно.
— Слетал, Платоша, — как-то странно, будто ехидно, усмехнулся и Олимпий.
— И неведомо к кому? Так и останется?
— Неведомо. Так и останется.
— Прежде мне всегда сказывались во всем, — угрюмо заметил Михалис, — а теперь дожил я до укрывательства.
— Теперь, Платоша, так и будет завсегда впредь. Так я порешил. Да и лучше.
— Почему же лучше? Я не болтун. Знаете давно.
Олимпий снова усмехнулся как-то двусмысленно и, помолчав, прибавил:
— Для тебя лучше.
— Для меня? — удивился Михалис и пристально глядел на барина.
— Да… Видишь ли… Так к примеру… — тянул Олимпий, будто не зная, что сказать. — Видишь ли. Если что вдруг огласится, я не буду на тебя думать.
— Вона как? Хитро! — рассмеялся Михалис, чуя, что барин лжет.
— Да. Прежде, зная, что ты один здесь все про меня ведаешь, я мог иной раз тебя в подозрении иметь.
— Да ведь никогда не бывало такого!
— Не бывало, да могло быть. Ну, да брось. Шабаш!
Михалис лукаво ухмыльнулся.
Первый друг и наперсник Олимпия Дмитриевича мог почесться самым умным человеком в Высоксе и поэтому занимал совершенно особое и исключительное положение. Этому содействовало тоже полученное от дяди небольшое состояние, составленное тем картежной игрой в той же Высоксе.
Племянник пролаза-грека с раннего детства рос со старшим Басановым, был участником его детских игр и юношеских затей. Отношения не были таковы, как если бы они были родными братьями.
Платон Михалис ничем особенно худым себя никогда не заявил, тем не менее его недолюбливали. Его некрасивое суровое лицо, резкий голос, косой взгляд — все отталкивало от него. Никогда большого зла никому он не сделал, но в мелочах не раз доказывал, что он — человек коварный и вполне бессердечный. И его почему-то все немножко опасались, как бы чувствуя, что в случае чего от Михалиса можно ожидать всякой беды.
Разумеется, вследствие долгой привычки он был привязан к Олимпию и любил его на свой лад. Но на настоящую искреннюю дружбу он был по натуре просто неспособен. Если бы ему было выгодно совершить что-либо дурное по отношению к этому другу детства и отчасти покровителю, то он, конечно, и Олимпия не пожалел бы. Главная черта его характера, сначала бессознательная и только за последние годы уясненная себе самому, было недовольство своим положением, а отсюда зависть и жадность.
Платон Михалис, единственный из всех нахлебников имевший свои собственные доходы с капитала, живший на всем готовом совершенно спокойно, игравший роль какого-то третьего молодого барина среди всех приживальщиков, все-таки не считал себя счастливым, а иногда считал себя совершенно несчастным и обойденным судьбой. Причиной этому было неудовлетворенное честолюбие.
В жизни его было, однако, одно утешение, было нечто примирявшее с жизнью и заглушавшее завистливую истому.
Этот бессердечный, коварный и, пожалуй, злой человек дивил всех одной чертой характера или одним обстоятельством. У Михалиса была на его попечении двоюродная сестра, дочь дяди-картежника, которой шел теперь только шестнадцатый год. Он не только любил ее горячо, но обожал. Его отношения к этой сестре были удивительны для всех, были непонятны, были просто загадкой.
Со дня смерти дяди Михалиса, Платон, которому было тогда самому не более четырнадцати лет, стал заботиться о девочке пяти лет, заменяя ей не только отца или нежного родного брата, а даже няньку и горничную. Он одевал ее поутру, раздевал и, уложив спать, сидел у ее кроватки, пока она не заснет, водил гулять, зимой возил ее в салазках до устали. Он был счастлив ее улыбкой довольства и была пасмурен, когда она легко хворала.
Платонида, или, как девочку прозвали в Высоксе, «Тонька», была всегда хорошенькая девочка, теперь же стала совсем красивой, и притом оригинально красивой благодаря южному происхождению. Недаром ее отец и дед с бабкой были чистейшими греками. Одно, что мешало молоденькой девушке быть вполне красавицей, был малый рост. Теперь, на 16-м году, она была уже совершенно развитая телом девушка, по лицу и формам могла бы пройти и за двадцатилетнюю, но ростом казалась еще девочкой.
Впрочем эта миниатюрность ее, в глазах многих, придавала ей особую прелесть.
— Мал золотник, да дорог! — говорили многие, любуясь взрослой малюткой.
Сначала Платон отчаивался, что сестренка не растет, грозит остаться уродом-карлицей. Но когда Тоньке минуло 14 и 15 лет, она, рано развившись, как женщина, тотчас стала многим сильно нравиться. И своим маленьким, но изящным телом, крошечными ручками и ножками и главное, конечно, своим типичным южным лицом: жгучими черными глазами, правильным маленьким носиком, пунцовыми губками нежно очерченного рта. При всем этом у нее была длинная и густая черная коса, почти бремя для ее маленького туловища. Многие часто ради забавы заставляли ее распускать волосы, хватавшие до полу, и миниатюрная Тонька могла вся завернуться в них, как в одежду.
Разумеется, красивая девушка благодаря положению двоюродного брата в доме пользовалась тоже исключительным положением.
Обожание брата, которого все бессознательно опасались, привело к тому, что все старались заслужить приязнь его ухаживанием за его кумиром. И действительно это было вернейшее средство его задобрить. Если бы не этот кумир, существование Михалиса стало бы пыткой. Его мечтания загрызли бы его. А мерещилось ему всякое, что другому и на ум бы никогда не пришло. Ему мерещилось, что он мог бы быть на месте одного из Басановых, мог бы быть вообще страшным богачом. А еще проще… мог бы быть давно на службе и быть чиновником наместничества, а затем когда-нибудь и наместником.
Всех, кого он в жизни встречал, Михалис мерил с собой и немедленно убеждался, что всякий, будучи ниже его разумом и способностями, был много выше его по положению, совершенно не заслуженному. И это недовольство своей судьбой настолько преследовало его, что положило отпечаток на его лицо, на все его привычки. Он был большею частью сумрачен, несловоохотлив и почти нелюдим.
За последнее время Михалис нетерпеливо ждал, когда оба Басановы станут совершеннолетними и вступят в управление своим имением. Благодаря давнишней дружбе с Олимпием, он готовился быть главным его помощником в управлении, а затем, конечно, и самостоятельным управителем. Он так же, как и многие, знал, что братья недолго вынесут на плечах бремя управления и пожелают жить беззаботно.
Мечтания Михалиса о его будущем управлении тоже шли далеко. Он ясно видел в будущем, как сумеет, дельно управляя заводами, откладывать тайком кое-что в свой карман, а при огромных доходах с заводов это «кой-что» могло стать крупным состоянием. Жажда разбогатеть обусловливалась отчасти и любовью к сестренке, желанием, чтобы ее будущность была не просто счастлива, но вместе с тем и блестящая.
Михалис давно решил, что он красавицу-сестру выдаст отлично замуж. За последнее время эта мечта как бы осуществлялась: в Высоксе появился славный малый, подходящий жених для сестры, хотя без состояния, но дворянин и князь.
Михалис быстро сошелся с этим князем Абашвили, помог ему стать любимцем Олимпия и вместе с тем стал мечтать выдать за него сестру. Абашвили не только не имел ничего против этого, но наоборот, с самого появления своего в Высоксе, относясь к Тоньке очень внимательно и ласково, теперь был уже глубоко привязан к ней. Но планам князя и самого Михалиса явилось непреодолимое препятствие. Против брака была сама Тонька. Она любила князя, но замуж за него идти отказывалась теперь наотрез. И в этом отказе для Платона Михалиса чудилось что-то подозрительное, странное.
«Почему же прежде она соглашалась?.. А теперь и руками и ногами против этого», — думал он.
Действительно, когда Абашвили только что приехал и остался на житье в Высоксе, понравившись Олимпию, Тонька так приветливо отнеслась к ухаживанию молодого человека, что он был уверен во взаимной склонности. И вдруг с половины зимы она переменилась к князю, а с весны стала даже враждебно относиться к нему.
VI
Через два дня после гаданья Гончий был поражен. Слепая колдунья предсказала верно. Он получил известие о смерти старика и близкого человека… близкого иначе, чем родной отец.
Когда прием по заводским делам кончился, главный и любимый камердинер Онисима Абрамыча, Феофан, тотчас отправился вниз доложить об этом Сусанне Юрьевне и просить пожаловать. Феофан этот считался в Высоксе очень важным человеком, так как он был доверенным лицом Гончего и, пользуясь его большим расположением к себе, часто брал на себя всякого рода ходатайства. Будучи добрым и честным человеком, он, разумеется, пользовался теперь всеобщею любовью.
Этот видный человек уже лет за тридцать, по имени Феофан, был не кто иной, как прежний мальчуган Фунька, служивший мальчиком на побегушках у Аникиты Ильича. Главная должность его, в те времена, заключалась в том, чтобы лететь стремглав чуть не кубарем по лестнице сверху вниз и предупреждать весь дом, чтобы все были настороже, сакраментальными словами:
— Барин идет!..
Попал прежний Фунька в число видных людей лишь по одной причине, но по какой — сам того не знал. Знал про это один Гончий.
Когда прежний Анька, примирившись с Сусанной Юрьевной, был в первый раз у нее наверху, а затем, спускаясь вниз, был арестован обер-рунтом, князем Давыдом, он попросил кого-либо из дежурной дюжины доложить об этом самоуправстве барышне. Но никто не двинулся. Мальчуган Фунька, неведомо почему, из хитрости или просто из жалости, слетал наверх, доложил барышне, что Аньку арестовали и ведут в полицию. И Сусанна Юрьевна немедленно отправилась к Басанову для объяснений.
Онисим Абрамыч узнал об этом деянии мальчика гораздо позднее и случайно, но в тот же день юноша Фунька был уже у него в услужении.
Феофан прошел прямо в комнаты барышни и доложил лично Сусанне Юрьевне, а она немедленно собралась наверх. У нее стало привычкой видеть Гончего всякий день после того, как он занимался делами, чтобы вместе обсуждать все текущие вопросы.
Конечно, Гончему следовало бы ежедневно самому спускаться вниз в апартаменты барышни-опекунши, но она настояла на том, чтобы ей самой подниматься наверх. Это входило в раз принятый ею образ действий по отношению к управителю.
Она неуклонно, систематично, в своих отношениях к нему всячески старалась ставить его вровень с собой, а иногда даже и выше себя. И это немало подействовало на то, что все стали относиться к главному управителю заводов с особого рода уважением.
— Как дозволит Онисим Абрамыч! — было постоянною фразой на устах барышни.
Часто даже в тех делах, которые не касались заводов, касались лишь ее личности, она ставила решение вопроса в зависимости от согласия Гончего.
Поднявшись наверх и войдя в рабочую комнату Онисима Абрамыча, нежно и молча поздоровавшись с ним, она села и вопросительно глядела на него. Этот взгляд часто заменял вопрос: «Ну, что нового?» И каждый день Гончий при этих свиданиях объявлял ей все, что было исключительного и любопытного в деле.
На этот раз Гончий, не говоря ни слова, перешарил на столе несколько бумаг, нашел одну и передал ее Сусанне Юрьевне. Она прочла, а потом, подняв с бумаги на него глаза, вымолвила:
— Это хуже…
— Почему же хуже? — сказал он.
— Хуже! Было бы лучше, если бы он был жив. Все бы это так распуталось, якобы им самим. Как знать, что теперь будет!
— А что же будет?
— Будет, что всякий скажет: дело не чисто! Как же это? Сам же управитель, почти опекун, да является неведомо как, вдруг, главным заимодавцем?
— Золотая моя, ведь все бумаги, документы до последнего клочка бумажки — все ясно, все чисто. А что богатый человек, главный заимодавец заводов, был бездетен, помер и сделал меня наследником всего своего состояния, — тут ничего противозаконного нет. А поэтому и нельзя сказать, что дело нечисто.
— Ну, а я тебе скажу, что непременно будут говорить! — вымолвила Сусанна Юрьевна несколько резче. — Скажут, что этот купец Бабаев…
— Знаю, знаю! — прервал Гончий. — Что он был нищий, никогда ничего не наживал, а я же ему, из доходов заводских воруя, состояние составил с тем, чтобы оно только числилось ему имуществом и по моему требованию или после его смерти ко мне перешло.
— Ну-да! — сказала Сусанна Юрьевна.
Наступило молчание, после которого Гончий заговорил мерно:
— Вот, моя золотая, сто раз я сказывал вам, что, во-первых, эти деньги большущие мною, собственно говоря, не наворованы, а второе — это только одна угроза. Оставят меня эти молодцы на моем месте, ни копейки взыскания с них не будет. Разумеется, если они и вас не обидят… Прогонят они меня, а затем, конечно, вслед за мной и вас, то пускай платят, а уплативши страшные деньги всем кому следует, пускай они с Высоксой провалятся. Будь жив Аникита Ильич, да имей их года, то, конечно, он в какие-нибудь десять лет Высоксу опять бы поднял и очистил. И опять дело бы пошло, как шло при нем и при мне, а эти молодцы, выплатив такой куш, сядут на мели, а через пяток лет будут, если не нищими, то далеко и не богатыми дворянами. Либо то, либо другое: либо мне здесь оставаться, либо уходить.
— Надумать надо что-нибудь, — отозвалась Касаткина.
— Говорил я вам и говорю: никакого способа у меня другого нет. Без отплаты им не могу я уйти. Привык чересчур я за пятнадцать лет иметь в руках важные и любопытные дела и привык к тому, что меня, Онисима Гончего, знают власти в обеих столицах. Да это не главное… Главное, что всякий день с утра и весь день почти до вечера у меня дело есть. Наконец, теперешние заводы, прежние увеличенные да два новых, которые я сам выстроил, — вся Высокса теперешняя — ведь это мое детище, почти такое же, каким было оно для Аникиты Ильича. И вдруг меня два молодца, которые еще недавно были поросятами, сопливыми мальчуганами, по совершеннолетию погонят взашей, думая, что якобы могут сами управиться. Смех, право! Не им под силу такое дело! Добро бы были они дружны, завели бы, пожалуй, сообща по взаимному согласию какого нового управителя, человека не глупого и знающего. А ведь они, как бывало, из-за куска сладкого пирога дрались, так и теперь повздорят в первый же месяц правления. А раздели Высоксу пополам — это, знаете ли, что? Мне говорил один умный человек из Питера, что это будет в некотором роде из Священного Писания суд Соломонов, суд умный: как царь Соломон рассудил дитятю пополам разрубить и двум матерям отдать. Но только в ту пору самозваная мать согласилась, а настоящая — отказалась. А как же будет братьями дело рассуждено? Разделиться двум братьям Басановым значит рассечь Высоксу пополам. А она — не простое имение, где пашут, да сеют, да хлеб в житницы собирают. Высокса, разделенная на две части между двумя злобствующими друг на друга братьями — тот же младенец, разрубленный пополам. Что же будут делать заводы одного Басанова, когда главные домны будут принадлежать другому Басанову? А сделать из Высоксы две Высоксы, отдельные, благоустроенные, на это понадобится лет десять. И, конечно, не нашим молодцам это сделать.
Гончий замолчал. Сусанна ничего не ответила и угрюмо смотрела в окно. Все то, что она слышала, она уже слыхала не раз, хорошо знала, давно поняла и давно согласна была с Гончим во всем. Нового было только то, что один из главных кредиторов, нижегородский купец Бабаев, умер и по завещанию, будучи бездетен, оставил все, что имел, Гончему, а в том числе и то, что Высокские заводы были ему должны.
Известие о его смерти смутило Сусанну. Вдобавок она знала, чуяла, что и сам Гончий смущен, но не хочет признаться. Бабаев умер как нельзя более некстати и запутывал дело и положение Гончего.
И, продумав о неприятной новости весь день, Сусанна собралась тайно от любимца повидать, чтобы посоветоваться, самого умного человека в Высоксе. Но вызвать его было нельзя. Это был больной, хворавший ногами Змглод, давнишний и верный друг, с которым у нее была вдобавок особая связь… общая страшная тайна! Сусанна побывала у старого и преданного друга, но переговорить ни о чем не удалось, так как оба племянника вдруг собрались тоже в гости к старику.
VII
Денис Иваныч Змглод жил по-прежнему в том же доме, который когда-то себе выстроил. Но если тогда поселилась тут пара счастливцев, каких, быть может, не было во всей Высоксе, а затем стал раздаваться здесь голосок одного ребенка, то теперь дом, несмотря на большую пристройку, был полон.
В нем вместе с прислугой было до дюжины человек.
Помимо Дениса Иваныча и Аллы Васильевны, было пять человек детей и свояченица Ильева. Старший сын Змглода, Иван, был лишь на несколько месяцев моложе Олимпия. Старшая дочь, восемнадцати лет, была крестницей барышни Сусанны Юрьевны и была названа в ее честь тоже Сусанной. Затем следовали три дочери, из коих только одной минуло недавно четырнадцать лет, а две другие были еще малолетние.
Главной личностью в семье Змглода была Сусанна. Впрочем, насколько любили ее в семье, настолько же все любили и во всей Высоксе. И все единогласно утверждали, что Сусанна Денисовна — удивительная девица.
Действительно, молодая девушка была далеко не заурядною личностью. Внешностью она была в мать, какою Алла была в молодости. Стало быть, она была красавица собой, белая, как снег, с золотыми вьющимися кудрями, но при этом с оригинальными черными глазами отца. Изящная красавица-девушка удивляла и поражала всех, даже приезжих гостей из губернии и из столиц.
Внешностью, лицом, телом и повадкой уродившаяся в мать, Сусанна, или, как звали ее в семье, Саня, разумом, энергией и вообще нравом уродилась в отца. Характером это был второй Змглод. Девушка была решительна, предприимчива и мягкосердечна. Но если Змглод когда-то вследствие обстоятельств своей жизни прослыл за грозного и злого, то дочь его вся Высокса считала отважной не по-девичьи, а по-отцовски, но зато доброй по-матерински.
Алла Васильевна, конечно, изменилась лицом до неузнаваемости. Ей, казалось, было за пятьдесят лет, а в действительности она едва переступила сорок. Вместе с тем, простодушная или прямо глупенькая в молодости, она теперь совершенно опустилась и удивляла всех своим малоумием, невозможностью заняться даже и хозяйством, не только маленькими детьми.
Всем заведовала Сусанна, причисляя мысленно свою мать к младшим сестрам и заботясь о ней, как о ребенке… Впрочем, брат всячески помогал ей.
Иван Змглод был противоположностью сестре по внешности: он был живой отец не столько чертами лица, сколько смуглым цветом кожи, а разумом и сердцем был совсем в мать, Аллу Васильевну, то есть добрый и недалекий малый. И именно этот характер и привел к тому, что он стал с детства другом Аркадия Басанова.
В них обоих было так много общего, как если бы они были родные братья. По всей вероятности, игра природы или, вернее, таинственные законы природы сказались в двух молодых людях. Аркадий Басанов был по матери и деду потомком одного Басанова, про которого сам Аникита Ильич говаривал часто, что был у него дядя один не только добрейший человек, но чуть не святой своей жизнью, но зато малоумия диковинного: кажется, глупее его и на свете не бывало.
— Святейший дурак был! — говаривал Аникита Ильич.
Иван Змглод, уродившийся свойствами характера в свою мать, был, стало быть, внуком Василия Васильевича Ильева и правнук того же самого «святого» Басанова. Если оба молодых человека были по закону чужими людьми друг другу, то по крови они могли назваться родственниками в шестом колене. Родство дальнее, а при взгляде на них можно было подумать, что это два родных брата, если не лицом, то характером.
Семья Змглода жила дружно, мирно и тихо между собой. Денис Иванович обожал жену по-прежнему и, конечно, обожал детей. Алла Васильевна считалась, по-видимому, главной личностью в семье, но в действительности, если Денис Иванович исполнял все ее желания до малейшей мелочи, то сама Алла Васильевна была в полном подчинении у своей дочери Сани, считавшей мать младшей сестренкой.
Сусанну Денисовну особенно любили все, и если сначала Высокса прозвала ее «Змглодкой», то теперь никто никогда не отзывался о ней иначе, как называя ее по имени и отчеству или по новому прозвищу «Змглодушка».
За последнее время положение и известность Сусанны Змглод еще более увеличились. За последние два года за нее три раза сватались три личности, и всем троим одинаково отказала она, несмотря даже на усовещивания отца.
Один из отринутых женихов служил во Владимире в казенной палате[34] чиновником, но был, правда, пожилой. Другой, сделав предложение Сусанне Денисовне, даже заставил над собой смеяться: он был главным делопроизводителем в коллегии Высокской и, конечно, мог быть парой для дочери прежнего обер-рунта, если бы личное положенье ее не было исключительное.
Вслед за этим сватовством появилось третье, которое окончательно изумило всех. Приезжий из Петербурга молодой артиллерийский офицер, старинный дворянин по отцу, человек с состоянием, рязанский помещик, встретив Сусанну Змглод на вечеринке у Сусанны Юрьевны, был поражен ее красотой.
Расспросив, кто она, и узнав, что девушка — крестница Касаткиной, молодой человек, хотя дело о заказе казенном было кончено, задержался в Высоксе. Он был не первый. Со-многими прежде, давно, случалось подобное из-за Сусанны Юрьевны.
Прожив две недели, офицер посватался.
Денис Иванович был в восторге. Мог ли он мечтать — он, полутурка, неведомо кто, не то осетин, не то абхазец, — что дочь его будет когда-нибудь русской помещицей и дворянкой. И Денис Иванович был немало смущен, даже поражен на другой же день, когда его любимица отказала наотрез выходить замуж за молодого человека. Никакие увещания не помогли. Сусанна Денисовна объявила отцу, что лучше пойдет в монастырь, нежели пойдет замуж.
Отказ этот, конечно, наделал много шуму во всей Высоксе, а шум этот, толки и пересуд, разные догадки и умозаключения привели к тому, что у Высоксы как будто раскрылись глаза. Долгое ослепление прошло, все будто сразу прозрели, увидели и ахнули. Прозрение это началось, быть может, с самого отца, Дениса Ивановича, но он только покачал головой в ответ на собственные свои догадки, а с дочерью о своих подозрениях не захотел даже и говорить.
Причина, по которой Высокса ахнула, была та же догадка. «Змглодушка» всеми любимая, всему наместничеству известная своим ангельским сердцем, своим удивительным умом, а в особенности своей красотой, могла, конечно, мечтать «об этом диковинном».
Все будто теперь только поняли то, что видели уже давно… А видели все, что два молодых барина, подрастая, часто видаясь с детьми Дениса Ивановича, будучи с ними если не одних лет, то одного поколения, оба относились к крестнице их тетушки и своей дальней побочной родственнице как-то особенно.
Теперь, когда оба барина были уже молодые люди, женихи, а Змглодушка — девушкой невестой, отношения были как будто холодные, а собственно эти отношения стали менее детскими, осторожными. Действительно, в отношениях обоих братьев к Сусанне Денисовне явилось что-то крайне сомнительное. Чужой человек и дальновидный, явившись в Высоксу, конечно, сейчас заметил бы, что оба брата просто влюблены в молодую девушку.
Умная Сусанна относилась к обоим тоже неравнодушно, но, к кому предпочтительнее лежало ее сердце, было неизвестно. Даже в семье полагали, что Саня обоих молодых господ одинаково жалует.
Отказ на предложение руки и сердца молодого офицера заставил, однако, многих вдруг воскликнуть, если не вслух, то мысленно.
Неужели же дочь прежнего обер-рунта настолько о себе возмечтала? Какая она ни на есть умница и красавица, все же считать господ Басановых себе ровней — дерзость. Она должна помнить, что ее отец, если не был крепостным холопом их деда, то был вольнонаемным холопом. И если бы благодаря своему уму и энергии не попал в должность обер-рунта, то был бы, по всей вероятности, простым лакеем, пожалуй, хоть бы даже потом и дворецким. Только его «мастерство» на все руки сделало его на время грозой всей Высоксы, сделало его страшным орудием в руках старого барина.
Впрочем, подозрение, что Сусанна Денисовна хитро старается нравиться обоим братьям и как будто рассчитывает на них, как на женихов, держалось недолго. Было известно, что хотя она нравится Олимпию Дмитриевичу, но он постоянно повторяет, что ранее сорока лет не женится, а может, и совсем никогда не женится.
— На кой прах идти под венец! — постоянно говорил он. — И кой шут это выдумал!
Что касается Аркадия Дмитриевича, то мысль, что он вздумает на ком-либо жениться, казалась совершенно нелепою: всем представлялось, что Аркадий Дмитриевич должен еще лет десять пропрыгать, как мальчуган, забавляясь всякими пустяками.
И в этом все ошиблись. Никто и не подозревал, как давно, сильно и глубоко был Аркадий привязан к красивой крестнице своей тетки. Впрочем, это, может быть, случилось потому, что сам молодой человек будто не знал, как именно относится он к Змглодушке. Он сжился со своим чувством и никогда не размышлял о нем. Когда оно возникло, он был сам слишком юн, полуотрок, и ни о чем не рассуждал. А теперь это бессознательное чувство как-то слилось с его существованием. Думать о том, любит ли он Сусанну Денисовну, как любит, каким образом и до какой степени, было бы то же, если бы он вдруг начал думать, почему он белокурый, а не брюнет, и с каких пор волосы посветлели и каким образом, почему?..
Казалось, что только какой-либо внешний толчок, какое-нибудь особенное и внезапное обстоятельство может заставить его отнестись сознательно к его отношениям с девушкой и спросить: что она ему?
Конечно, теперь, когда Аркадию было уже за двадцать лет, он знал, что есть на свете существо, которое имеет столько значения в его жизни, что заставляет на все в мире смотреть не своими глазами, или как бы через нее. Теперь часто и все чаще приходило ему в голову, что Сусанна должна была бы стать его подругой жизни.
Если до сих пор Аркадий ни разу не обратил внимания ни на одну девушку в Высоксе, если он даже иногда защищался от иной назойливой красавицы, которой нравился, то это было ради Сусанны: его чувство к ней не дозволяло ему кем-либо увлечься, хотя бы ради простой прихоти, временно и шутя.
И все считали барина Аркадия Дмитриевича тюфяком, мякиной и плаксой… А это была мягкая, но страстная натура, способная на истинное глубокое чувство, на отвагу при самообороне.
VIII
Протекавший год имел особое и огромное значение для заводов, разумеется, главным образом для его обитателей.
В тот самый день, когда Гончий заявил Сусанне Юрьевне о смерти Бабаева и о том, что он нежданно и поневоле стал самым главным заимодавцем заводов на крупную сумму, во всем доме толковали и нахлебники, и дворня исключительно об одном и том же. Только Гончий не знал этого до вечера да Сусанна Юрьевна. Ввечеру Феофан доложил об этом говоре Онисиму Абрамычу, а горничная доложила барышне, когда она ложилась уже спать.
Говор шел о том, что этот день — 27-е число, и ровно через месяц произойдет в Высоксе уже давно ожидаемое событие: минет Аркадию Дмитриевичу 21 год, и в этот день опека по закону прекратится. Онисим Абрамыч должен будет сдать все дела, а господа Басановы вступят во владение заводами. Но, что будет затем, представлялось смутно мыслям всех обитателей Высоксы. Но, однако, всем представлялось или чудилось нечто, очень похожее на бурю.
— Будет, — как выражался уже давно старик Змглод, — будет сущий трус и потоп!
В сумерки, в правом флигеле, в угловой горнице, сидел у друга в гостях Михалис. Здесь жил князь Абашвили, по имени Давыд, в честь своего дяди, долго всеми проклинаемого в доме князя Давыда Никаева. Князь недавно явился в Высоксе.
— Знаешь ли ты, — говорил Михалис, — какой нынче день? Ровно через месяц Аркаше минет 21 год, и, стало быть, Аньку уберут и начнут всем править братья. И как это все пойдет и наладится, вот уже который год мы все соображаем и ничего придумать не можем. Покорится Аркашка со своими всеми «братцевыми», то будем жить мирно и тихо, будет всем властвовать наш Олимпий Дмитриевич. Не покорится Аркашка, тогда война пойдет. Уж первое, что потребует Олимпий Дмитриевич, будет неприятно его братцу…
И Михалис рассмеялся громко и несколько ехидно.
— А знаешь ли что? — прибавил он вопросительно. — Я сейчас узнал от Олимпия Дмитриевича.
— Что такое?
— А первое, что он потребует, чтобы братец Аркадий Дмитриевич очистил свои комнаты, уходил жить, куда хочет, чтобы строил себе новые палаты, хотя и лучше этих, да чтобы другие были. А здесь мы расположимся. Мне вот этот весь правый флигель обещан. Олимпий Дмитриевич займет весь дом и спальню свою устроит из двух комнат, что у среднего балкона, и для того стену сломает.
— А Сусанна Юрьевна? — заметил князь.
Михалис громко рассмеялся, как если бы его собеседник сказал самую большую нелепость.
— Глупый ты человек! Да неужто же ты полагаешь, что Сусанна Юрьевна останется еще здесь? Довольно пожила, слава тебе Господи! Когда еще ее черт принес? Ей пятьдесят лет, а она поступила здесь в любовницы к старому хрычу-дяде, когда ей всего, говорят, было годов около двадцати. И чего только она ни натворила тут! Все, что за это время было худого в Высоксе, все — дело ее рук! Ты — новый человек, а спроси-ка, вот, что тебе скажут… И молодого Алексея Аникитича она и уходила, извела и похоронила. И старого своего обожателя Аникиту уходила, приказав его придушить кому-то ночью. И Дмитрия Андреевича женила на наследнице всех заводов, когда она, бедная, обожала твоего дядю, князя Давыда. А потом она же Гончего подсунула, чтобы тот накрыл твоего дядю и привел бы Дмитрия Андреевича убийство сгоряча учинить. А затем он в главные заправилы попал опять-таки по ухищренью Сусанны Юрьевны. Она из-за этого в Петербург ездила. Так вот, начудив так-то, пора ей теперь уж уходить отсюда. Как только объявится совершеннолетие Аркадия Дмитриевича, так сейчас же ее, голубушку, попросят отсюда вон. Ну, конечно, за ней следом съедет и «безрукий» леший.
— Но что же будет? — спросил Абашвили. — Ведь все у вас сказывают, что заводам не устоять. По пословице, «два медведя в одной берлоге не уживаются». Все сказывают, что ума не приложишь к этому делу.
— Подумаем! — выговорил Михалис так важно, как будто бы он сам вступил в права наследства. — Есть одно средство верное! — добавил он. — Пускай братец и все «братцевы» покорятся. Жил же он со своими под опекой «безрукого». Ну, а вперед пускай довольствуется жить под опекой старшего брата. Я даже скажу, что Олимпий Дмитриевич, управляя Высоксой, прижимать не станет брата. Напротив того, будет с ним в ладу, будет ему дозволять все, что тот пожелает, и денег будет давать много. Только не суйся он в управление. И вот обида! Сам-то он, Аркашка, пошел бы на это, да его сподручники не хотят. Ну, вот и придется делить Высоксу…
— Да ведь делить же нельзя? — заметил князь.
— Нельзя! Все можно! Трудно, а все-таки можно! Разделят заводы пополам, припишут к каждой половине крестьян и земли, а там начнут строить новые домны. Пускай этим занимается Аркадий Дмитриевич, а нынешние домны, понятное дело, достанутся Олимпию Дмитриевичу, как старшему. Он же — поблизости отсюда, от главных барских палат.
Собеседники замолчали, и наконец князь Абашвили выговорил как-то загадочно, будто нехотя:
— Ну, положим, Высокса — Высоксой. Как-нибудь поделятся! Ведь нельзя же ей быть все одним куском. Женятся оба Басановы, и будут у них дети — сыновья помрут все, явятся наследники, пожалуй, десять человек Басановых, двоюродных. Ведь не могут же они веки вечные все вместе управлять одним куском, одним имением? Стало быть, Высоксу, как ни толкуй, рано ли, поздно ли, все-таки делить надо. А ты вот что мне поясни… Сказывали мне здесь, что будто есть еще загвоздка. Есть кое-что обоим братцам дорогое, что поделить уже совсем нельзя. Нечто такое. Правда ли это?
Михалис удивленно поглядел в лицо князя и наконец выговорил:
— Что же такое?
— А есть, сказывали мне, некто такой, кого поделить совсем нельзя…
— Ох, понял, понял! — воскликнул Михалис. — Да ты же сказываешь «нечто такое», а выходит это человек… девица!.. Ну это, братец ты мой, легче: Высоксу не выкрадешь, а это можно выкрасть. С этим делом можно в один час времени порешить.
— Каким же способом? — спросил князь.
— Да просто! Кто посильнее, тот и завладеет.
— Так-то так, но я полагаю, что из этого может возгореться пущая вражда, чем из-за самих заводов: тут уж прямо братья на ножи пойдут.
— Может быть! Только нож у Олимпия Дмитриевича подлиннее, чем у братца. Да потом еще неведомо, кого она сама выберет. Выберет Олимпия Дмитриевича, так тот молчи!
— Вот в том-то и сила, — отозвался князь, — что по всей видимости, красавица-то любит, и уже давно, Аркадия Дмитриевича, а Олимпия-то Дмитриевича только боится. А он сильнее во всем своего братца. Стало быть, что же из этого должно выйти? Одолеет старший Басанов, а она всем сердцем к младшему. Что же выйдет?
— Да опять то же, — рассмеялся Михалис. — И тут выйдет столпотворение! Что делать! Видно, уж такое заколдованное место — Высокса, что в ней должны происходить всякие такие дела, что даже в Москве и в Питере откликаются. Чего у нас тут в доме не бывало! Тут и душили, тут и резали, тут и застреливали, тут и покойники ходили.
— Ну, ходил-то дядя! — рассмеялся князь.
— Ну, положим, ходил, и накрыли ею. А почем знать? Может, прежде чем он выдумал скоморошествовать да наряжаться, может, и сам Аникита Ильич и впрямь ходил? Говорят, что все не своей смертью скончавшиеся ходят.
— И вдруг, Платон, из-за этой Змглодки, здесь опять смертоубийство произойдет! — воскликнул князь весело.
— Кто же кого? Старший — умница, а младший — плакса.
— Мне так со стороны сдается, что он и сам не знает, а так шибко любит ее, что на все пойдет.
— В этом деле не грех Олимпию Дмитриевичу и уступить бы братцу. У него самого сотня перебывала, и еще будет сотня скоро… а у Аркашки никого нет и не было.
И Михалис рассмеялся презрительно.
IX
Онисим Абрамыч, принимая просителей и докладчиков, был настолько расстроен и сумрачен, что почти никого не слушал, очевидно, думая о другом. Отпустив разных канцеляристов, подписав кое-какие бумаги, отложив две или три в сторону для подписи самой опекунши, он вдруг прекратил прием, объявив его на завтра.
Позвав Феофана, он резко выговорил:
— Ступай к Олимпию Дмитриевичу и скажи, что я желаю его видеть. Пускай он сам ко мне пожалует, или я к нему приду. Понял?
— Понял-с, — отозвался Феофан.
— Да что ты понял? Пойми толком. Никогда я у него не бывал, всегда вызывал к себе. А теперь видишь что! Стало быть, с этого начни: Онисим Абрамыч желает, мол, с вами повидаться, побеседовать и будет у вас. Если же желаете, то пожалуйте наверх. Доложи ему так, чтобы он раскусил. Он — умный, сейчас почует, что ему почуять след.
Феофан отправился в праве крыло дома. В комнатах Олимпия Дмитриевича стоял гул голосов. У него было до десяти человек гостей, из коих только трое из губернского города, остальные же — свои приспешники и прихлебатели.
Лакей доложил о Феофане Платону Михалису, Михалис передал Олимпию. Феофан слышал, как в гостиной раздался гулкий хохот. Чей-то голос воскликнул:
— Начал хвост поджимать!..
Феофану, любившему своего барина, Онисима Абрамыча, стало досадно и обидно.
«Ладно! — подумал он про себя. — И волки хвосты поджимают, а все ж таки они — волки».
Олимпий приказал отвечать, что сам тотчас же будет у Онисима Абрамыча.
Действительно, через несколько минут он уже поднимался наверх. Он нашел Гончего задумчивым и ходящим по своему кабинету из угла в угол медленной походкой человека волнующегося.
Главный управляющий и молодой человек поздоровались и сели молча.
— Побеседуем толком! — вымолвил Гончий. — Дело не спешное, но важное, надо его непременно так ли, сяк ли порешить!
— Знаю, знаю! — отозвался вдруг Олимпий. — И не хочу верить, что вы не можете. А если нельзя, то я и обойдусь…
Гончий на минуту удивился и присмотрелся к его лицу.
— Нет, Олимпий Дмитриевич, вы ошибаетесь! Вы насчет чего-то другого…
— Знаю, — повторил Басанов. — Вы будете говорить, что не можете мне дать три-четыре тысячи на обновление и переделку охотного дома. Не верю я, чтобы у вас таких деньжонок не было. А просто не хотите вы. Считаете, что это моя прихоть. Мне бы хотелось опять завести охоту, какая была при батюшке, а охотный дом чуть не сгнил. Я уже справлялся, посылал разузнавать! Чтобы вновь отделать охотный дом, купить собак в столице или у кого из соседей, и на все другое, разное, нельзя меньше трех тысяч. Впрочем, повторяю, обойдусь своими…
Гончий улыбнулся и вымолвил:
— Ну, а я совсем не об этом хочу с вами потолковать! Мое дело поважнее охотного дома. Что же касается этой вашей затеи, так вот…
Гончий встал и, приотворив дверь, крикнул Феофана и приказал:
— Сходи от меня в коллегию, снеси вот… чтобы сейчас же… Получи и принеси!
Гончий передал Феофану бумажку, на которой черкнул несколько слов. Затем он сел снова и заговорил:
— Вот что, Олимпий Дмитриевич, через месяц братец ваш будет совершеннолетний! Опека снимется!.. Делом этим, стало быть, пора заняться сейчас же. Сдача такого управления, как Высокские заводы, — мудреное дело. И вместо того, чтобы начинать его со дня рождения Аркадия Дмитриевича, я бы желал начать его тотчас. Поэтому мне нужно, чтобы вы мне прямо объяснили, что вы предполагаете делать. Какие ваши намерения?
— Я еще пока, Онисим Абрамыч, — отозвался Олимпий, — ничего особенного не придумал! Да я же один и не могу. Надо в согласии с братцем.
Гончий улыбнулся.
— В согласии с братцем? — повторил он. — Эта задача, еще мудренее, чем сдача дел заводских! У вас, к несчастию, сего, то есть согласия, никогда не бывало.
— Эго точно! — улыбнулся Олимпий и вдруг, нахмурившись, прибавил: — Я в этом не виноват! Он — слабодушный, у него семь пятниц на одной неделе. Я с ним тысячи раз мирился, тысячи раз уговаривал жить в дружбе. И что же из этого вышло? Послушает он меня — согласится, потом послушает другого — иначе рассуждает, а там третий, четвертый прибегут… И что последний кто ему сказал, то и он повторяет. С этакой мельницей какое же согласие может быть? Какой ветер подул, по тому ветру эту мельницу и повернуло.
— Вот по этой причине, — ответил Гончий, — что я считаю вас умным, дельным человеком, у которого одна пятница, а Не семь, я с вами и хочу потолковать! Что вы решите, то и будет.
А что пожелает Аркадий Дмитриевич, будет уже делом второстепенным. Одним словом, я считаю, что все зависит от вас. Итак, прямо скажите мне: при совершеннолетии Аркадия Дмитриевича оставите ли вы меня управляющим вашими заводскими делами так же, как и теперь? Понятное дело, что теперь я над вами главный вместе с Сусанной Юрьевной, а тогда уже вы, два брата, будете главными лицами, я же буду исполнять ваши приказания. Но я хочу теперь же знать, оставите ли вы меня?
Олимпий вдруг видимо смутился. Он собрался что-то сказать, запнулся, потом опять двинул языком, но вымолвил что-то совершенно непонятное. И, наконец, он выговорил резко, будто рассердясь на самого себя.
— Я ничего сказать не могу! Все в согласии с братцем должно…
— Позвольте, оставим согласие братца в стороне! Я у него его согласия в свой черед могу попросить. Вы мне скажите про себя и скажите прямо, честно. Оставите вы меня управителем или нет? Если нет, я сейчас же попрошу, чтобы прислали кого нужно из столицы для наблюдения над сдачей заводского управления. Этого нам больше чем на три месяца хватит. Ну-с, стало, отвечайте прямо: сдавать мне, готовиться к отставке и уходу от дел или нет? Я знаю, что вы — человек правдивый, прямой, и юлить не станете.
Олимпий совершенно насупился, глядел в сторону своими ястребиными глазами и в сотый раз удивил Гончего своим поразительным сходством с дедом Аникитой Ильичом.
— Прямо скажу, Онисим Абрамыч, — заговорил Олимпий сурово. — Мне бы хотелось управлять самому, конечно, вместе с братцем. Управитель главный, конечно, нам нужен. Но рассудите, что вам быть под нашей командой не пристало. Согласия не будет. Вы пятнадцать лет были полным хозяином. Как же вдруг вы будете наши приказания исполнять? Каждое из них будет вам казаться неподходящим, неправильным, а нам будет казаться самым настоящим. Что же тут выйдет? К примеру скажу. Вы вот соорудили плотину около Проволочного завода, стоила она страшных денег. А я бы этого никогда не сделал! Да и все говорят в Высоксе, что стоила она безумных трат, а ни на что не нужна.
Гончий вдруг изменился в лице. Это был главный упрек, который делала ему вся Высокса. Но Гончий сам знал отлично, что сооружение этой плотины было необходимо не для заводов, а для искусного и мнимого увеличения долгов, лежащих на заводах.
Он собрался отвечать, но в эту минуту вошел Феофан и передал ему что-то в бумаге, перевязанной тесемочкой. Гончий развернул. Это были четыре пачки серых билетов — четыре тысячи рублей.
— Вот-с! Для охотного дома! — произнес он, передавая деньги молодому человеку.
Лицо Олимпия прояснилось.
— Кстати, позвольте прибавить… Если бы я был управителем вашим, то дела пошли бы так же, как шли до сих пор. Порядливо и успешно. Едва вы станете совсем независимыми, как в качестве молодых людей оба захотите как можно меньше иметь забот и как можно больше денег. При моем управлении денег вы будете получать вволю. Больше, чем вы думаете. Если вы останетесь с каким-нибудь наемным управителем, ничего не понимающим, вы скоро запутаете все дела, и придет время, когда и четырех тысяч на какую-нибудь затею у вас не будет. Не проще ли было бы жить вам в свое удовольствие, а все заботы поручить человеку, который уже пятнадцать лет к ним привык?
Гончий вопросительно поглядел на Олимпия, ожидая ответа.
Прошло мгновение и показалось ему вечностью.
— Не могу я, Онисим Абрамыч, скажу по совести, — наконец тихо ответил Олимпий. — Оставаясь нашим управителем, вы непременно захотите управлять по-своему, а не по-нашему. И если брату будет это все равно, то мне оно покажется… как бы сказать?.. кажет, обидным. Мне сдается, что всякий дворовый человек, всякий заводской и всякий деревенский мужик будет на меня, своего барина, смотреть, как на какого приживальщика, а не как на барина. Всякий будет знать во всей Высоксе, что если нужно что, дело какое, просьба ли какая, — все зависит от Онисима Абрамыча, а не от господ Олимпия и Аркадия Дмитриевичей! Так жить, воля ваша, нельзя! Опять скажу, если бы вы остались, как желаете, нашим управителем, то с братцем, может быть, вы ладить бы стали, а я с вами никогда не полажу. Мало ли что захочу я сделать, а вы будете противиться. Поверьте, через месяц мы поссоримся, и вы сами уйдете, и мы будем еще пущими врагами. Так не проще ли вам сдать дела и жить в Высоксе, хотя бы даже вот и в доме, и быть нашим советником? В ином деле мы с братцем будем обращаться к вам, а вы будете нам советовать. Каждый раз, что мы с ним в чем не согласимся, вы, третий человек, рассудите.
Наступило молчание, так как Гончий не ответил ни слова, угрюмо задумался и слегка опустил голову.
— Это ваше последнее слово? — выговорил он наконец глухо.
— Да… Что же?.. Я не могу!.. Я прямо правду говорю. Скажите братцу, и он, хоть и мельница, а все-таки, полагаю я, скажет вам то же. Он тоже хочет сам управлять.
— Не можете вы двое, дравшиеся с малолетства, — резко выговорил Гончий, — не можете вместе пироги печь, кашу варить, не только заводами управлять! Одно спасение было бы разделиться, но это…
— Ну, что ж, разделимся!
— Разделитесь?.. Да есть ли хоть один человек разумный, который бы вам сказал, что разделиться можно? Это разрушение и погибель Высокских заводов.
Гончий начал горячо доказывать, что раздел невозможен. Олимпий знал это давно и молчал.
Гончий, вдруг заметив в лице молодого Басанова нетерпеливо-презрительное выражение, сразу смолк, а затем выговорил гордо и холодно:
— Да. Я вижу, что вам хоть кол на голове теши… толку не будет…
— Толк будет, Онисим Абрамович, — резко и недружелюбно отрезал Олимпий, вставая. — Будет толк! Только не тот, который вам желателен. Всяк за себя, а Бог за всех. Вы захотели тесать кол на моей голове, а она оказалась твердой… Тем лучше для меня.
Гончий изумленно поглядел в лицо молодого человека… Олимпий пошел из комнаты, улыбаясь самодовольно и презрительно вместе… Гончий проводил молодого человека до двери и оставшись один, выговорил глухо:
— Ну, погоди же… Аникитово отродье!.. Я тебе себя покажу… Поросенок!.. И как же я этого духу не видал, не заметил, проморгал?..
Олимпий между тем, быстро спустившись вниз, вернулся к себе и, найдя своих гостей, тотчас рассказал свое объяснение с главным управителем.
Михалис первый начал смеяться и подшучивать, а затем и все стали вторить ему.
X
Гончий был не только изумлен, но поражен. Прежде, тому назад еще года четыре, в нем была уверенность, что братья, враждующие между собой и не имеющие возможности разделить состояние, и сами будут просить его управлять всем по-прежнему. За последнее время сдавалось, что он ошибся в расчете. Он мог себе сказать, что промахнулся по пословице: «на всякого мудреца довольно простоты».
Сделавшись важным лицом в Высоксе после смерти Басанова, он был занят делами и почти совершенно не вмешивался в воспитание молодых людей. Это было делом Касаткиной. В действительности никто мальчиков не воспитывал. Разные учителя менялись, обучая их кое-чему, а воспитание в сущности совершалось той средой, в которой они вырастали: нахлебники и дворовые воспитывали их.
Пока Басановы были мальчиками, Гончий даже не обращал на них никакого внимания и мало видал. Когда они стали юношами, то он более интересовался ими, чаще видел и во всем систематически старался об одном: чтобы они еще более возненавидели друг друга и полюбили его. Лучшее средство к этому было конечно, одно: поблажка во всем обоим, а в распре их поблажка старшему, как сильнейшему. Таким образом юноши Басановы были вполне свободны и делали то, что хотели их друзья, наперсники и окружающие этих друзей их собственные любимцы.
Оказалось теперь, что поблажка ни к чему не привела. Братья продолжали враждовать, слушались во всем своих «лебезителей», как прозвал Гончий их любимцев, а его самого и оба брата, и оба лагеря равно не любили. Он промахнулся. И даже вдвойне. Он знал Олимпия, как человека умного, с твердой волей, ясно видел, что молодой человек уродился прямо в своего деда, но все-таки он не ожидал найти в нем ту смелость и даже резкость, с которой тот теперь заговорил.
«Просто слепота какая-то на меня нашла! — говорил себе Гончий. — Взялся бы вовремя, то все бы на свой лад наладил, а теперь поздно…»
Сусанна Юрьевна, узнав подробно о результате разговора с Олимпием, тоже как будто слегка удивилась. Она почему-то всегда надеялась, что по достижении совершеннолетия оба брата согласятся оставить Гончего главным руководителем всех дел. Она думала, что молодые люди захотят веселиться и что занятие делами покажется обоим равно страшной обузой.
— Не верится мне как-то! — сказала она, выслушав объяснение Гончего. — Это он вдруг на себя напустил. Посмотри, не пройдет года, надоест ему вся эта обуза, и он захочет освободиться, захочет иметь управителя.
— Да, — отозвался Гончий, — знаю это наверное. Сдаст все дела и ни во что входить не станет. Но только сдаст не мне, а тому же пролазу и хитрецу Платошке Михалису. Больше скажу: Михалис его и подбивает, чтобы получить самостоятельное управление в руки.
Сусанна вызвалась переговорить сама с обоими «племянниками», как она их называла, хотя была только родственницей.
— Ничего не будет! — решил Гончий. — Аркадий мямля, колпак, попросту сказать, дурак. А этот хоть и умен, но творит то, что Михалис пожелает.
Переговоры Сусанны Юрьевны с обоими молодыми людьми не привели, однако, ни к чему. Олимпий ее тоже удивил. Он будто отчасти скрывался до сих пор, и мягкость, с которой он обращался постоянно с ней и по отношению к Гончему, оказывалась теперь как бы напускная. Теперь он будто снял маску, он говорил решительно и более чем когда-либо поглядывал взглядом своего деда исподлобья, упорно.
Он заявил «тетушке», что, несмотря ни на что, желает сам управлять своим имуществом, а Гончий не может после полной независимости сделаться вдруг подначальным.
— Только ссориться будем! — сказал он. — И в конце-концов очень скоро сам Онисим Абрамыч не захочет оставаться.
Разговор Сусанны Юрьевны с Аркадием, конечно, тоже не привел ни к чему. Молодой человек отвечал, что он на все согласен, рад бы, чтобы Гончий оставался и управлял всем, но что его согласие без брата ничего не значит.
На следующий день, довольно рано, Гончий, после доклада нескольких человек, спустился вниз, прошел в правое крыло дома и, вдруг появившись в комнатах Олимпия Дмитриевича, попросил Михалиса и двух молодых людей оставить его наедине с барином. Он заявил Олимпию, что пришел последний раз спросить у него решительного ответа.
Олимпий слегка гневно, но холодно и спокойно ответил, что перемены в мыслях его нет никакой. Он объяснил:
— Рассудите сами, Онисим Абрамыч, главное обстоятельство, про которое я вам уже сказывал. Нельзя вам, после долгой привычки быть полным хозяином, вдруг попасть под мою команду. А мне быть по-прежнему под вашей не будет значить, что я управляю. Чем больше я думаю об этом, тем больше вижу, что желаемое вами совершенно невозможно.
Через несколько минут Гончий уже вышел из комнат и, пройдя весь дом, отправился в левый флигель. Аркадий Дмитриевич, узнав о появлении главного управителя, смутился так, как если бы его поймали в какой-нибудь шалости.
Начав с ним говорить, Гончий тотчас же увидел ясно то, что и предполагал. Никакие переговоры с молодым человеком ни к чему повести не могли. Аркадий соглашался положительно на все, но прибавлял:
— А вот как братец! Я без братца не могу!
Гончий сумрачный вернулся к себе и тотчас же приказал управляющему канцелярии писать бумагу в дворянскую опеку.
В это же самое время Олимпий, извещенный о том, что Гончий переговаривался с его братом, тотчас же послал сказать Аркадию, что желает с ним видеться, перетолковать и просит его к себе. Когда Аркадий явился к брату, то был несколько удивлен. Олимпий встретил его словами:
— Обнимемся и поцелуемся!
Разумеется, Аркадий крепко обнял брата и, расцеловавшись, совершенно был растроган.
— Слушай, брат! — заговорил Олимпий, сев и усадив его около себя. — Пришли времена такие, что нам надо зажить на иной лад. Пословица сказывает: «Кто старое вспомянет, тому глаз вон». Мы с тобой завсегда враждовали, маленькими дрались, а когда были большими, то ссорились на иной лад, еще, почитай, хуже. И это потому, что наши разные блюдолизы да прихлебатели нас только друг на друга науськивали. Меня — мои, тебя — твои! Теперь всему этому должна быть перемена. Хочешь ли ты сего?
— Понятно, братец! Я всегда желал с тобой в дружбе жить.
— Ну, и слава Богу! Я в чем был виноват, прошу у тебя прощения и вперед постараюсь всячески себя сдерживать. Только одного прошу у тебя. Не слушай ты, что будут тебе напевать твои все, которых здесь прозвали «братцевыми». А я тебе обещаю, что мои «бариновы» тоже замолчат. Я-то с моими всегда справлюсь! Прежде всего скажи мне: хочешь ли ты вместе со мной всем управлять, или хочешь, чтобы оставался Гончий?
— Это, братец, как вам угодно?
— Я хочу, чтоб он уходил, а ты как хочешь?
— Ну, что же? Пускай уходит.
— Твердо ты это порешил?
— Коли ты желаешь, чтобы он уходил, то и я желаю. Что вы, то и я…
— Хорошо! Теперь скажи, как ты полагаешь, что нам делать: разделиться, или вместе управлять всеми заводами?
— Опять-таки, братец, как ты желаешь.
Олимпий толково объяснил брату то, что тот, впрочем, давным-давно знал, — о невозможности разделить заводы на две части без огромных затрат, совершенно непроизводительных.
— Зачем делиться? — сказал Аркадий. — Будем вместе жить и вместе всем править.
Олимпий снова обнял брата, и оба снова расцеловались. Старший крепко, а младший горячо. Аркадий был тронут. Сердечный и чувствительный на ласку, он однако ни от кого за всю свою жизнь ее не видал, если исключить друга Ивана Змглода и его сестру. Его всегда тяготила вражда с братом, искусственная, устроенная наперсниками, так как сам он против брата ничего иметь не мог. Детьми они дрались, и Аркадию приходилось плохо, а злобы на брата-драчуна и тогда не являлось. Теперь он строго судил брата только за его, как говорила Высокса, «бабоедство». Но это до него прямо не касалось.
Предложение брата, нежданное и отрадное, — жить в мире, впервые, что они были на свете, — растрогало Аркадия, и Олимпий, умный и бессердечный, увидел, что «плаксу» водить за нос надо ласковым обращением.
«И хорошее дело! — подумал он. — Ласка ничего не стоит, а на него, дурака, действует. Не знаю, почему я раньше не догадался. Впрочем, раньше плевать мне было на него. А вот теперь важно, что нашелся фортель, как мне им орудовать».
— Я всегда, брат, жалел, что мы все вздорим, — говорил он. — Ну, маленькими сопляками дрались мы, — это завсегда промеж всех братьев было и будет на свете. А вот теперь, когда мы уже с тобой не махонькие, то это самое враждование только на руку разным прохвостам. На руку было бы и Гончему. Я знаю, что он имел в уме оставаться навек заправилой, знаю, что мы вместе не управим, повздорим. Ну, вот наша теперешняя дружба, — прибавил Олимпий, — подарочек, которым подавится «безрукий».
И он снова обнял и расцеловал брата.
Аркадий вышел и был совершенно счастлив…
XI
— Ну, стало быть, сегодня петлю накидывать! — шутил Гончий, злобно усмехаясь. Он только что проснулся и еще лежал в постели, потягиваясь.
— Да голубчики… на задние лапы сядете и хвосты подожмете! — рассмеялся он снова, уже входя в кабинет.
Около полудня Гончий послал Феофана к Олимпию просить его к себе. Басанов сначала удивился и хотел ответить отказом, чтобы Гончий понял, насколько времена переменились… Подумав, он ответил:
— Сейчас буду!
Гончий принял молодого человека вежливо, холодно и стал говорить, что ему очень любопытно узнать, как братья намерены действовать, вступив в управление.
— Если бы возможен был раздел, то и толковать нечего. Разрезать всю вотчину пополам…
— Понятное дело, пополам, — отозвался Олимпий.
— Да. Поровну. Но это невозможно. Высокса не простая вотчина с посевами да с запашками. А если бы так, то дело самое простое. Только одному из двух братьев новую усадьбу себе выстроить. А тут что же делать, когда разделиться нельзя?
— Нет, многие говорят, что можно разделиться, — ответил Олимпий.
— Кто же это говорит?
— Да вот хоть бы Платон.
— Михалис! — ехидно произнес Гончий. — Полюбопытствовал бы я узнать, как он разделит.
— Он говорит, что можно отделить дальние заводы. Если мы двое не уживемся вместе, то один из нас двух выстроит себе новый барский дом. На это и место есть подходящее — у Мохнатой горы, где рощу можно сейчас в большой сад обратить.
— А домны?
— Домны новые, особенные, надо выстроить.
— Ну, что же, и хорошее дело, — усмехнулся Гончий, — если Михалис такой знающий распорядитель! Он же может быть у вас и управителем. Теперь скажите мне второе, Олимпий Дмитриевич. Как вы думаете поступить насчет уплаты долгов? В случае сдачи мной управления и снятия опеки я знаю, что двое главнейших высокских кредиторов пожелают иметь свои деньги тотчас же. Каким путем думаете вы устроить эту уплату?
Басанов зорко, пытливо присматривался к лицу Гончего, а лицо его стало сурово.
— Какие долги? — выговорил он наконец нетвердым голосом.
— Долги по заводам.
— Сколько?
— Около девятисот тысяч. Миллион.
Олимпий разинул рот, хотел что-то сказать, но голос дрогнул, лицо стало меняться и слегка побледнело.
— Миллион?! Выдумки!.. — выговорил он наконец.
И в этих двух словах прозвучало что-то особенное, снова удивившее Гончего… Это был голос Аникиты Ильича. Казалось, что старик в эту минуту пришел с того света, стал за стулом своего внука и за него произнес эти слова.
— Я не считал нужным объявлять вам об этом прежде, — ответил Гончий холодно. — Правление до вас не касалось, а Сусанне Юрьевне хорошо известно, какие это долги и откуда они накопились. И, конечно, на все это есть письменные документы. Все это, Олимпий Дмитриевич, в полном порядке. А удивление ваше, конечно, понятно.
— Откуда долг? — повторил Олимпий. — Откуда таковому громадному взяться?
— Началось это еще при Дмитрии Андреевиче…
— Я знаю, что, когда судили отца, волокита нас грабила. Но помнится мне, да и другие сказывают, что разные крючки всяким вымогательством, всякими обещаниями, что оправдают отца, выманили около двухсот тысяч…
— Около трехсот, Олимпий Дмитриевич!
— Говорили, меньше двухсот… Ну, положимте, вам лучше знать. Скажем, триста тысяч. А вы теперь говорите — девятьсот… ровно втрое! Я, право, думаю, что вы ради шутки выдумываете.
— Шутка плохая, Олимпий Дмитриевич! Когда начнется сдача управления, то вы будете, конечно, присутствовать совершеннолетним, да я попрошу, чтоб допустили к этому и Аркадия Дмитриевича… Вам же лучше. Вместе поучитесь! И вот тогда увидите, откуда долги, как они увеличились, почему и зачем.
— Стало быть, шестьсот тысяч вы сделали! — говорил Олимпий, злобно улыбаясь.
— Точно так-с. Около пятисот тысяч сделано за мое управление. Сначала эти деньги были в разных руках взяты, но за последнее время долг сосредоточился в руках двух кредиторов, не считая казны.
— Кто же другой? Один, как я знаю больше по догадке и по слухам, купец, ваш частый гость, Яхонтов. А другой?
— Яхонтов и Бабаев! — ответил Гончий.
— Бабаев? Он умер недавно!
— Точно так-с!
— И кто же заместитель?.. Сын его, наследник?
— Он был бездетен, Олимпий Дмитриевич!
— Вот потому я и спрашиваю! Был слух в Высоксе… Вот мне и хочется, чтобы вы сами сказали, — сухо произнес Басанов.
— А вот какой слух был, Олимпий Дмитриевич, тот слух и верный. Оказался наследником Бабаевым на триста двадцать тысяч чужой ему человек.
Наступило молчание, после которого раздался резкий какой-то металлический смех молодого человека, и он вымолвил насмешливо:
— Ну, с кредитором, господином Гончим, конечно, согласия нам, Басановым, ожидать нельзя…
— Если вы его выкинете вон, то, конечно, ему не будет никакой причины быть податливым. А оставите вы его управлять делами, то он обязуется за пять-шесть лет уплатить Яхонтову около трехсот тысяч. А те, что должны заводы ему самому, мы и считать не станем.
— Как «считать не станем»?
— Эти триста с лишком тысяч по завещанию моему, которое я на днях сделаю, будут предназначены Сусанне Юрьевне Касаткиной, а как у нее никаких прямых наследников нет, то по закону ее наследники — братья Басман-Басановы. А ее я попрошу тоже сделать завещание. Если я умру прежде нее, она будет безопасным кредитором Высоксы. Если она умрет прежде меня, то в день ее смерти я эти деньги просто подарю вам и Аркадию Дмитриевичу, а сам пойду в монастырь. В этом божусь вам перед сею святой иконой!
И Гончий, проговорив с глубоким чувством эти слова, перекрестился.
И опять наступило гробовое молчание… Олимпий, сильно взволнованный, тяжело дышал и даже сопел. Гончий ждал, что он скажет, и был тоже тревожен, но всячески старался скрыть это.
— Надо подумать! — глухо выговорил наконец Олимпий. — Я полагаю, что ради успеха дела, ради всякой ясности в делах тотчас по сдаче вами опеки, нужно нам с Аркадием вам немедленно уплатить этот долг…
Гончий резко двинулся в своем кресле.
— А-а!.. — воскликнул он. — Вот как!..
— Это наилучшее…
— Но где же… Как?.. Вы полагаете, что у вас сейчас же будет шестьсот тысяч, чтобы их уплатить? Ведь и Яхонтов потребует свои.
— Думаю, будут.
— Где же вы их найдете?
— В столицах! Мало ли богатых людей?
Гончий рассмеялся.
— Олимпий Дмитриевич, недаром вы воспитывались здесь в этом доме, а в этих столицах, если и были, так на побывку — поглядеть разные храмы Божии и московский Кремль. Шестисот тысяч никто вам не даст. Высокские заводы стоимостью равны долгам. Через сто лет они два миллиона будут стоить, а пока вряд ли они миллион стоят. Кто же вам даст деньги? Если вы в первый же год управления начнете путать дела, то давший свои деньги их совсем потеряет.
— Можно — найдем, нельзя — не найдем! Все-таки заимодавцу господину Гончему тотчас заплатим. А с Яхонтовым, может быть, войдем и в соглашение-, — твердо произнес Олимпий. — Да потом, кроме того, может быть, можно будет с господином Гончим и судиться начать.
— Вот как!.. — с полным изумлением в голосе вымолвил Гончий.
— Да как же нет? Посудите! Опекун, управлявший пятнадцать лет заводами, так ли, сяк ли, наделал долгов. И вдруг он сам же оказался и кредитором! Ему же эти заводы и должны.
— По завещанию, — прибавил Гончий, — чужого человека.
— Подставного! — выговорил Олимпий.
Гончий переменился в лице, и обрубленная рука его, на которую он опирался, сильно дрогнула. Ее метнуло…
— Ну, что же, — глухо и притворяясь спокойным, вымолвил он. — Больше толковать не о чем! Сегодня же я переговорю с Аркадием Дмитриевичем и, полагая, что он скажет то же, что и вы, я завтра отпишу в Петербург, прося назначить сюда кого-либо присутствовать при сдаче опеки. И позвольте вам сказать, что во всех делах полный порядок, полная ясность. А то дело, каким образом сам опекун стал главным кредитором, это дело ясное и чище воды ключевой и суда никакого не боится.
— Тем лучше для вас! Проиграем наше дело в суде и уплатим вам ваши триста тысяч. А судиться все-таки след.
Олимпий быстро поднялся с кресла, но был настолько взволнован, что не только руки, но даже и ноги его будто слегка дрожали. И вдруг он выговорил будто себе самому:
— Да, спасибо, что мне только двадцать три года! Будь я в годах покойного батюшки, то со мной, пожалуй бы, тоже теперь паралич приключился! Хорошую весточку узнал! Вместо ста восьмидесяти — девятьсот! Можете похвастаться вашим управлением! А пуще всего удивительно, что никто никогда в Высоксе об этом не знал и слыхом не слыхал!..
XII
Весь день до вечера Гончий ждал увидеть переполох в доме и смущенные лица обитателей, предполагая, что Олимпий тотчас поведает всем ту ужасную весть, которая его самого заставила побледнеть.
Но день прошел заурядно. Олимпий ни словом не обмолвился ни с кем и только ввечеру сказал все Михалису и, разумеется, поразил и его…
Наутро Олимпий позвал к себе брата и объявил ему две новости: на заводах оказывается огромный долг, а вечером предполагается поездка на лодках через озеро, на остров, чай пить, конечно, со всеми молодыми девицами, какие есть в Высоксе налицо.
— Сусанну Денисовну вы уже звали? — спросил Аркадий, пропустив первое известие мимо ушей.
— Нет еще, — ответил Олимпий. — Ты позови… Ну, а насчет долга что скажешь? — странно произнес он, глядя пристально в лицо брата.
— Да что же сказать? Право не знаю, — простодушно отозвался Аркадий.
— Ну, молодец! — рассмеялся презрительно Олимпий.
Часа через два в гостиную дома Змглода явился гость. У окна на большом кресле сидел сам Денис Иванович с ногами, укутанными одеялом, около него на стуле сидела его любимица Саня, а напротив них — Аркадий Дмитриевич, довольный и радостный. Он приехал с тем, чтобы звать ввечеру молодую девушку в числе прочих ехать на лодках на остров.
Сусанна Денисовна пришла, конечно, в восторг от приглашения.
— Затеи затеяли, — вдруг строго вымолвил Денис Иванович. — Веселиться вам, молодежи, подобает, а вы мне вот что скажите Аркадий Дмитриевич. Времена-то наступают в Высоксе лихие! Ходит слух промеж всех такой, что диковина! Знаете ли вы об этом? Сказал ли вам Олимпий Дмитриевич?..
— Говорил! — усмехнулся Аркадий добродушно. — Вчера. Вы про беседу его с Онисимом Абрамычем? Как же, знаю! Ну, что же?
— Если все это правда, Аркадий Дмитриевич, то ведь тогда страшное дело… Тогда кто же хозяин-то, владелец Высоксы? Двое! Купец Яхонтов да купец Гончий. А ведь у вас-то с Олимпием Дмитриевичем ничего почти, стало быть, нет?
— Как же так? — удивился Аркадий. — Братец этого не говорил мне.
Змглод стал объяснять подробно все, что вытекало из заявления Гончего. Аркадий выслушал и приуныл.
— Не знаю я и не понимаю ничего! Я думаю, что братец сумеет все это уладить. И сами мы с ним теперь большие друзья-приятели. Помирились совсем. Он умный. Он будет управлять, я ему ни в чем перечить не стану. И все пойдет слава Богу. Наладится. И он все долги уплатит.
— Да их, Аркадий Дмитриевич, нельзя уплатить! Если Высоксу продать, так еле хватит. Или же очистится грош. А вы и он будете немногим богаче вот меня грешного.
— Понемножку, не зараз! — отозвался Аркадий.
— Понемножку нельзя! Казне еще можно, а Гончий и Яхонтов, по его же наущению понятно, сейчас захотят все сполна. Я к тому говорю, Аркадий Дмитриевич, что хочу вам посоветовать…
И, обернувшись к дочери, Змглод сказал:
— Выйди, Саня. О делах при девицах не говорят.
— Ну, при Сусанне Денисовне можно бы… — заметил Аркадий.
Девушка тотчас поднялась и вышла, тревожно поглядев на отца и на Басанова.
— Вы знаете, — начал Змглод, — я не большой приятель Онисима Абрамыча. Было время, что мы с ним были на ножах, было время, что я его разыскивал с моими рунтами! Он был для меня, главного рунта, простой заводской холоп. Теперь я обыватель Высокский, а он главное лицо здесь… Но я на него злобы ни за что не имею… И вот я скажу вам, по совести, и что если вы теперь отнимете у него управление, то вам прямая погибель. И не будь заводы должны такие страшные деньги, я бы и сказал: оставьте его. Он поведет дело мастером. Яхонтову он уплатит все живо, потому что собственно не хотел ему уплачивать, чтобы напугать вас этим долгом. А свои — хоть я и не знаю, а так мне сдается — он не потребует никогда. Ему до страсти желательно управлять. Это такой человек, которого если оставить теперь не у дел, пускай он живет, вот как я, на креслице у окошечка, поглядывая на улицу, то он истомится, высохнет от тоски, руки на себя наложит. Онисим Абрамыч не простой человек, как вот все! Я его не люблю за одно дело, о коем говорить не хочу, но сужу я его по справедливости, по совести. Я настолько считаю его дельным, умным, полезным, что, полагаю, он один может управиться с Высокскими заводами не в пример кому-либо другому. А вы с братцем как вступите во владение и управление, простите мое суждение, так у вас через два-три года все будет кверху ногами, все развалится и всему будет конец! Беспременно. А ввиду этакого случая и через два месяца у вас все ухнет. Вы и продать не сумеете.
— Стало быть, по-вашему, Денис Иванович, — кротко ответил Аркадий, — непременно следует, чтобы Онисим Абрамыч оставался главным управителем в том виде, как он теперь, всевластным?
— Беспременно, Аркадий Дмитриевич!
Аркадий потупился, задумался, однако продолжал слегка улыбаться простодушно.
— Ну, что же, Денис Иванович, я согласен! — сказал он вдруг.
— Да вы-то, мой дорогой, всегда на все согласны. А вот приедете домой, придет к вам — понятно, не сын Иван, — а другой кто, скажет вам, что Гончего надо сейчас гнать в шею. А вы скажете: погоним, что ж?
— Нет, Денис Иванович! Я так положил и уже давно… во всяком деле обращаться и слушаться только вас и Ивана, а больше никого.
— А братца своего?
— В управлении, конечно, я предполагал часто ему уступать, а все-таки прежде с вами посоветовавшись. Я так даже думал, что как стану совершеннолетним и начнем мы с братцем управлять, то у него главным советником был бы, понятно, Михалис, а у меня — ваш Иван, собственно вы сами.
Змглод покачал головой.
— Слышал я это от вас много раз, но вы с братцем всю-то жизнь вздорили из-за всяких пустяков, а Михалис с моим Иваном тоже на ножах из-за вас ли, сами ли по себе. Какое же это будет управление? Я полагаю, вы на третий же день еще пуще перессоритесь и друг на друга полезете. Нет, воля ваша, теперь, когда Гончий заговорил о сдаче опекунского управления, теперь вот я вам мой главный сердечный совет даю: уломайте братца не вступать в незнакомое ему дело и оставить Гончего. Как будет мне только немножко полегче, отойдут ноги, я кое-как доберусь до Олимпия Дмитриевича и буду ему земной поклон класть — не губить Высоксу.
— Дело решенное! Гончий оставайся! — воскликнул Аркадий. — Я буду вам помогать братца усовещивать.
— Слушайте дальше, самое важное, — шепотом заговорил Змглод. — Если нам это не удастся, то тогда, Аркадий Дмитриевич, одно спасение есть, на худой конец: тотчас вам с братцем разделиться, перерезать заводы пополам. Это будет дело очень мудреное, но возможное. И вам тотчас назначить главным управителем своей части того же Гончего. У вас будет заимодавец — Гончий, а у Олимпия Дмитриевича — Яхонтов. Если один своего заемщика задавит, то уж Гончий, понятно, вас не тронет. Ему же великое утешение если не управлять всеми заводами, то управлять половиной их и стараться всячески, чтобы половина эта процвела и свою соседку задавила.
Аркадий, сидевший спокойно, простодушно улыбаясь, вдруг встрепенулся.
— А ведь это вы удивительно надумали! — выговорил он. — Вот так надумали! Вот это диво! Если мы с братом чуть повздорим, то сейчас же я требую разделиться. А как разделимся, я сейчас же все передаю в руки Онисима Абрамыча, а помощником к нему Ивана.
— Прежде всего, Аркадий Дмитриевич, уломайте братца оставить Гончего, а уж если он на это не пойдет, тогда думайте о разделе…
— Да, да, конечно… а не захочет, я Онисима Абрамовича беру себе управлять моей частью.
И, простившись с Змглодом, Аркадий вышел на улицу, но затем прошел в маленький садик, где завидел Сусанну Денисовну.
— Ну, что же? Послушаетесь батюшки? — спросила она, подпустив его и ласково глядя ему в лицо…
— А вы знаете? — удивился Аркадий.
— Понятно, все знаю. Больше вашего знаю… Знаю даже, что сейчас обещались батюшке слушаться, а ничего из этого не будет.
Сусанна Денисовна вздохнула украдкой, вдруг стала сумрачнее и заговорила о поездке на озеро.
Поболтав с девушкой о всяких пустяках, Аркадий выговорил, будто грозился:
— Вот сейчас прямо к братцу и все ему выложу.
— Ну, что же, давай Бог! — отозвалась она.
Аркадий сдержал слово и через час уже сидел в комнатах брата и объяснял, что надо оставить Гончего управляющим.
— Ладно. Какой еще ветер подул? — спросил Олимпий. — Говори.
— Какой такой ветер? Я не понимаю.
— Что же, скажи, так ты и будешь менять свои мысли каждый день? — сурово вымолвил Олимпий.
И он хотел было дать волю гневу и начать кричать на брата, но вдруг, будто вспомнив что-то, заговорил нежно:
— Жалею я теперь, что не были мы с тобой завсегда сызмальства настоящими братьями и друзьями. Вот теперь ты бы слушался меня одного из любви… А ты теперь вертишься. Кто тебе сказал что, ты сейчас и повторяешь… а своих у тебя нет ни мыслей, ни слов. Да, жаль, что мы не настоящие братья…
Аркадий взглянул на печальное лицо брата, вдруг растрогался и порывисто обнял его…
— Братец, как вы желаете. Я так это сказал. Как вы желаете. Меня напугали, что долг велик и что мы будем разорены.
— Все пустое… Ну, слушай… Мне донесли сегодня, что тетушка говорит, будто у нее да и у Гончего большая надежда на твое несогласие со мной и желание оставить Гончего или же делиться. Скажи, любишь ты меня?
— Вестимо… Теперь… вы другой стали…
— Ну, если любишь, пойди к тетушке сейчас же и скажи ей, что пришел объяснить, что ни за что Гончего управителем не желаешь, а делиться тоже никогда намерения не имел.
Аркадий радостный отправился к Касаткиной и твердо повторил ей слова брата.
XIII
Сразу вся Высокса приняла другой вид. Разнеслась весть, что уже пошла бумага в дворянскую опеку и приедет депутат от дворянства, так как Онисим Абрамыч хочет, чтобы немедленно была произведена ревизия всех дел и всего его управления, ибо он желает до совершеннолетия барина Аркадия Дмитриевича освободиться от опеки. Это известие будто подняло всех на ноги, оживило и ободрило.
Давно ходил слух, что барин Олимпий Дмитриевич не захочет быть под командой кого-либо, но желание младшего барина оставить Гончего могло бы сразу стать помехой. Многие думали, что у Олимпия Дмитриевича не хватит храбрости тотчас же начать действовать смело, а в виду противодействия Аркадия Дмитриевича ему даже будет мудрено действовать.
И вдруг теперь оказывается, что все обстоит благополучно, и все радовались. Главный управитель, почти опекун, за пятнадцать лет ни одним своим действием не возбудил к себе ненависти. Он был строг, строже, пожалуй, самого Аникиты Ильича, но положительно во всем всегда справедлив. И тем не менее оказывалось, как будто бы его вся Высокса ненавидела.
Теперь сам Гончий почуял вокруг себя общую вражду. Он видел только радостные лица и понимал, что все эти люди радуются его уходу, его унижению. И он внутренне изумлялся и озлоблялся.
«Что я им сделал?» — думалось ему.
Не прошло и двух недель, как в Высоксу явился депутат от дворянства, явилось еще каких-то два важных гостя-чиновника, и началась формальная ревизия и сдача всех дел. Трое прибывших, Гончий и два молодых барина заседали вместе всякий день с утра и до обеда.
А Высокса ликовала еще больше… Все повсюду настолько оживилось, что кто-то заметил:
— Подумаешь — масленая неделя!
Действительно, у всего и у всех был какой-то праздничный вид. Гончий, конечно, был страшно сумрачен, угрюм и раздражен. Проходя по дому или посещая заводы, он никому не глядел в лицо и, несмотря на все старания казаться равнодушно спокойным, имел какой-то виноватый вид.
Старший Басанов ликовал, как и Высокса, но вместе с тем удивлял всех от мала до велика. Всегда гневный, недобрый, задорный, молодой барин вдруг стал неузнаваем… Он был добр и ласков со всеми, относился особенно дружественно к брату, в разговорах с приживальщиками постоянно намекал на то, что при его с братцем управлении положение их будет лучше. И каждый нахлебник из разговора с молодым барином должен был заключить, что как только оба Басановы вступят в свои права, то в Высоксе будет для них море разливанное.
А между тем причина была простая. Главному управителю не могли простить того, что он — «Анька», бывший высокский же крепостной холоп, вышедший в люди благодаря прихоти Сусанны Юрьевны. Высокса будто бы за целые годы не могла забыть, что этот Анька был в убийцах, был в бегах, был ошельмован… и если бы сам не отрубил себе руку, то, пожалуй, изморенный голодом, околел бы у столба, или был бы сдан в город, в острог, ушел бы в Сибирь. А вместо того он после всех этих приключений попал на место самого Аникиты Ильича.
И Высокса не могла простить этого и относилась к прежнему Аньке с презрением, хотя ни единое его действие этого презрения не заслуживало.
Аркадий Дмитриевич, напротив, стал будто угрюмее, но причина этого была простая. Он уставал сидеть по нескольку часов и слушать то, что говорили заседающие с ним. В голове его стоял какой-то дурман. Он сознавался Ивану Змглоду, что если его заставят управлять делами заводов, то он лучше откажется от всего состояния и просто сбежит с Высоксы.
— Голова трещит! — говорил он всякий день своему другу и наперснику.
Но вместе с тем Аркадий, иногда оставаясь один, радостно улыбался одной своей затаенной мысли. Радовался он тому, что его давнишнее, от всех скрываемое тщательно, желание может быть вскоре исполнено. Никто не будет иметь права перечить ему и запретить поступить так, как уже года три им решено. Самый важный шаг в его жизни будет от него зависеть, а он решил его сделать тотчас по совершеннолетии.
Однако, общий праздничный вид всех обывателей Высоксы вскоре переменился. Всем стало известно и всех удивило некоторое обстоятельство, о котором никто никогда не думал. На Высокских заводах огромный долг! Заимодавцев только два, из коих один — сам Гончий.
Когда все убедились, что это не простой слух, а истина, то, разумеется, оно отозвалось повсюду, как настоящий громовой удар. Олимпий Дмитриевич вызвал из губернского города двух стряпчих[35] и, не скрываясь, назначил у себя в правом крыле дома два заседания, таких же, как и заседания с депутатом и с бывшим главным управителем.
На этих заседаниях Басанов желал выяснить вопрос, можно ли судиться с бывшим управителем. Можно ли выяснить и доказать судом, что бывший крепостной человек не имел прежде ни гроша, если не считать маленький капиталец, который он имел в качестве купца. Каким же образом в его руках очутились вдруг такие громадные деньги?
Депутат от дворянства, знавший уже теперь почти все касающееся заводов, объяснил, что судиться с Гончим ни к чему не поведет. Это — простой случай. Был богач, купец, скупивший векселя и дававший сам взаймы опекунскому правлению. Затем этот купец, умирая, сделал своим наследником своего любимца. Любимец этот был заводским главным управителем. Дело совершенно ясное и правильное. Во всем соблюдена полная законность.
Когда Олимпий попросил депутата высказать свое мнение по совести: подозрительное ли это дело или нет, то депутат заявил усмехаясь:
— Дело совершенно законное!..
— Но темное?! — воскликнул Олимпий.
— Совершенно темное, Олимпий Дмитриевич, и, если хотите, то совершенно ясное. Главный управитель никаких денег ни у кого не занимал, а только разным лицам выдавал векселя, а векселя эти шли в руки Бабаева с надписями. Долг этот вымышленный. А затраты, на которые пошли деньги, взятые якобы взаймы, все самым ясным образом показаны. Затраты были сделаны из доходов заводских, но доходы эти нигде не показаны, или показаны наполовину. Одним словом, во всем полная темнота, но законная полная ясность. Все документы налицо до самой последней расписочки в сто рублей. Да, искусный человек Онисим Абрамыч Гончий.
Конечно, когда Высокса узнала, что бывший Анька — кредитор Высоксы, умышленно и предательски разорил обоих внуков своего бывшего барина, — все страшно возмутились.
— Зарезать бы его подлеца! Удавить! Утопить! — слышалось повсюду, и в доме и на заводах.
— Собаки убить не могу, а этого бы собственноручно застрелил! — выражался один из приживальщиков.
В результате приглашения из города стряпчих было только то, что один из них взялся ехать в Москву советоваться со знающими законниками и умными людьми. И если можно, то и начать дело, подать жалобу от имени гг. Басман-Басановых на главного их управителя, оказавшегося их заимодавцем по вымышленным векселям. Другой стряпчий был отряжен к купцу Яхонтову, чтобы всячески уладить с ним дело и убедить не требовать уплаты долга ранее двух-трех лет.
Через несколько дней на новом заседании наверху Гончий спросил, ехидно улыбаясь, у Олимпия:
— Я слышал, вы уже отрядили ябедника в столицу. Хотите начать со мной судиться и обвинять меня в воровстве?
— Нет, воровства тут никакого нет! — резко ответил Олимпий таким тоном, что удивил всех присутствующих. — Вы ничего не крали. Вот теперь при получении с нас этих денег, конечно выйдет так, что иначе, как грабежом, назвать нельзя. Если я узнаю, что судиться с вами невозможно и что по закону вы правы, а мы с братом ограблены, то мы поедем в Петербург и подадим просьбу самому монарху.
Гончий рассмеялся и после паузы произнес сурово:
— Государь император, — отозвался он холодно, — прикажет все дело знающим людям расследовать. А при расследовании окажется то же, что узнали вот теперь господа ревизующие. Деньги, мною занятые, я все употребил на ту же Высоксу.
XIV
Несмотря на огромное пространство Басановских земель в несколько тысяч десятин, все-таки в одном месте, не более как верстах в пяти, врезывалось клином в земли Басановых маленькое имение одного помещика, отставного майора.
И вдруг Высокса узнала, что это имение куплено на имя барышни Сусанны Юрьевны. Старый дом начали ломать, а на его месте приступают к постройке нового барского дома, небольшого, но со всякими затеями. И сюда, сдав все дела по опеке, поедет жить барышня, а с ней вместе, конечно, и ее любимец.
Вместе с тем еще прошел иной слух. Кто-либо догадался и высказал свою мысль или просто сочинил. Высокса говорила, что в случае невозможности уплатить Гончему триста тысяч, половина заводов должна быть продана и что все проданное сделается собственностью Сусанны Юрьевны, так как Гончий в качестве купца не имеет права быть помещиком.
И теперь Гончий в свободное время, большею частию после обеда, почти ежедневно ездил в имение Сусанны Юрьевны, сам наблюдал за ломкой дома и новыми постройками, все прибавлял рабочих и страшно спешил.
Повод спешить был особый, о котором даже и Касаткина не подозревала.
Самолюбивый Гончий спешил выехать из дома Высоксы. Он замечал, что все, и нахлебники и дворня, встречают его насмешливым взглядом, будто глумятся над ним, а за спиной и вовсе смеются и «шишы показывают да носы делают».
Разумеется, это все мерещилось ему…
Но Гончий, всегда щепетильный насчет почитания и уважения его личности, теперь стал особенно чувствителен. Теперь было «всякое лыко в строку».
Однажды, перед полуднем, занимаясь у себя, он вдруг услыхал сильный стук под своими комнатами. Спросив, что такое творится, он узнал, что каменщики, по приказанию Олимпия Дмитриевича, пробивают толстую стену в одной из парадных гостиных. Он приказал доложить молодому барину, что этот стук не дает ему покоя, даже все в комнатах его ходуном ходит, и что нельзя ли отложить эту работу.
Посланный принес ответ от барина, что отложить работу нельзя.
Гончий вспылил и, бросив занятия делами, тотчас выехал из дома.
Наутро многие ахнули. Стало известно, что главный управляющий нанял себе квартиру в доме, принадлежащем одному из помощников коллежского правителя. Дом этот был маленький, но недавно выстроенный, красивый снаружи и чистый внутри.
Известие, что главный управитель хочет выехать из барского дома прежде окончания сдачи управления, конечно, всех удивило. Многие не верили. Прежде все думали, что, и сдав опеку, Гончий за свои заслуги останется некоторое время в своих комнатах барского дома.
Вскоре известие не только подтвердилось, но все увидели, как разные вещи, в том числе и мебель, перевозили из барского дома в маленький домик. А через три дня комнаты Аникиты Ильича были пусты и бывший главный управитель жил в маленьком домике как бы простой канцелярист.
Разумеется, было известно, что Онисим Абрамыч пробудет тут очень недолго, пока не будет окончен постройкой большой барский дом в купленном имении.
Сусанна Юрьевна, конечно, тоже обиделась на племянника, «выгнавшего» Гончего. Разумеется, она ради отместки тотчас сама тоже бы переехала из барского дома в маленький домик вслед за своим другом, но у нее не хватило смелости. Ей казалось это полным соблазном. Переехать в свое имение и взять Гончего с собой в качестве своего управляющего было иное…
XV
Олимпий, рассорившись с Гончим окончательно, вскоре начал раскаиваться.
Безвыходное положение обоих братьев выяснялось все более. Исхода не было. Все зависело от Гончего. Даже в столице один он мог дело наладить и отсрочить уплату казенного долга, не говоря уже о его собственном иске…
Умный Михалис много думал и решил, что Басановы должны просто «умолить» Гончего. В этом одном — спасение.
И однажды Олимпий в сопровождении Михалиса вышел из дома и пешком отправился в домик… Онисим Абрамыч, увидя из окна приближение молодого человека со своим наперсником, рассмеялся раздражительно и гневно:
— И не раз придешь! Пороги обобьешь и ничего не добьешься! — проворчал он.
Через минуту он уже принял молодого Басанова вместе с Михалисом и, усадив их, любезно спросил у Олимпия:
— Не прикажете ли нам вас попотчевать? Хоть я здесь как на перепутьи сижу, пока якобы лошадей кормят, а все-таки у меня кое-что в запасе найдется!
Олимпий поблагодарил, а затем тотчас же перешел к делу.
— Я к вам, Онисим Абрамыч, по нашему делу. Я не хочу верить, чтобы дело это было совсем порешенное, все надеюсь, что вы скажете мне иное слово.
— Не знаю, Олимпий Дмитриевич, — сухо ответил Гончий, — почему вам так кажется! Я переменить намерение мое не могу. Если вы думаете, что я упрямлюсь и хочу мстить вам, то разуверьтесь! Ничего такого нет! Выслушайте меня.
И Гончий холодно-медленно объяснил Олимпию, что, прожив около пятнадцати лет с постоянной заботой о Высоксе, с массой дел, он привык к работе, привык к занятиям. Теперь от бездействия, от пустоты в жизни у него голова кругом пошла, как у иного идет кругом от излишней работы.
— Если мне так продолжать жить, — сказал Гончий, — так я ума решусь! Хоть лбом о стену бей со скуки! И вот одно мое спасение получить мои деньги, купить имение или какие-либо заводы, фабрику и начать работать вдвое больше, чем я работал здесь, чтобы лет через десять увеличить свое состояние вдвое. Зачем? Для кого? Понятно, не ради себя или ради детей, коих у меня нет, а только ради того, чтобы у меня было дело, без коего я жить не могу, без коего я с ума спячу! Оставили бы вы меня править высокскими заводами, я был бы совершенно счастлив. Но понятное дело, что слушаться вас, дела не знающего, и исполнять такие ваши приказания, которые, по-моему, только в ущерб заводам, я бы не мог. И вы были правы, говоря, что под командой вашей я оставаться не могу. Оставить же меня на прежнем основании вы не можете, потому что хотите быть первым лицом и настоящим барином.
Гончий замолчал, и Олимпий заговорил настолько мягко, насколько умел:
— Ведь мы не просим, Онисим Абрамыч, чтобы вы нам этот долг простили. Мы с братом только просим об одном: дать нам передохнуть, не требовать уплаты сейчас же! Еще кабы вы одни, а то ведь в то же время и столица на нас, наместничество тоже грозится. За вами ждали недоимки сколько лет, а теперь требуют. Точно будто у казны уговор какой с кем задавить нас.
— Оно очень просто, Олимпий Дмитриевич. Когда казна знала, что управление находится в моих руках, что все идет порядливо, то казна не боялась. Теперь же, зная, что заводы попадают в руки двух молодых братьев, казна то же думает, что и все в Высоксе. Тотчас же, мол, начнется всякая безурядица, дым коромыслом, и вскоре дела будут в таком положении, что всему конец и никто своих денег не получит. И вот, понятно, как всякий хочет теперь иметь свои деньги, так и казна.
— И вы точно так же думаете, — спросил Олимпий, — что мы двое не управимся? И оттого только якобы вы и требуете тотчас свой капитал?
— Нет, по совести говоря, дело не в этом… Я бы еще и обождал… Но повторяю вам, что мне нужны деньги для того, чтобы в руках иметь сейчас же какое-либо дело. Не будет у меня фабрики какой, ну, буду орудовать в Нижнем. Пущусь во всякие торговые обороты, завалю себя по горло работой и буду орудовать шибко. Так вот, как в картежной игре разные азартные игроки: либо спустил все, либо выиграл кучу. Так и я буду действовать! Беречь мне эти деньги не для чего.
— Стало быть, вы совсем порешили нас погубить? — сказал Олимпий резко.
— Погубить? Нет! А если придется плохо заводам, так ведь и без того им придется плохо позднее. Теперь ли вы будете наполовину разорены, или через год, или через шесть лет, — не все ли вам равно?
— Так предоставьте нашу судьбу нам самим! — вымолвил горячо Олимпий. — Пускай наша судьба решится по воле Божией плохо. От других причин и от других людей! А ведь так выходит, что наша судьба в ваших руках.
— Да! — улыбнулся Гончий и, повернувшись на кресле, он протянул руку в угол комнаты, ткнул пальцем и, рассмеявшись, выговорил: — Да-с, судьба Олимпия и Аркадия Дмитриевичей Басановых тут вот!
Олимпий, а за ним и молчавший Михалис повернули головы. В углу стоял небольшой сундук, красный, обитый красивыми жестяными скобами. Это был подарок Сусанны Юрьевны. Сундук, по прозвищу «голландский», был куплен ею когда-то в Петербурге.
Так как Олимпий, поглядев на сундук, снова взглянул на Гончего, как бы вопросительно и не понимая его слов, то Гончий произнес, странно ухмыляясь:
— Да-с, оно так! Коль скоро вы сказываете, что судьба ваша и вашего братца в моих руках, то я и отвечаю, что оно действительно так. И если не в моих руках, то вот в этом сундучке. И вот как вы свой праздник отпразднуете, так я возьму ключ, который вот у меня здесь всегда…
Гончий полез за ворот рубашки и вытащил черный шнурок, на котором было три образка, маленькое женское колечко и небольшой ключ.
— Как видите, всегда на себе! И вот после вашего празднования я отворю сундучок, положу кое-что в карман и с этим поеду во Владимир, а может, и в Москву, хотя дело это простое. С такими документами хлопот не бывает. Не пройдет и месяцев двух-трех, как вам будет уже приказ мне платить. Смазывать дела в судах я умею, обучился, когда еще ваш батюшка был под судом. Да и старые друзья-приятели, ябедники и крючки судейские, есть у меня в Москве.
— Стало быть, дело решенное? — спросил Олимпий сурово. — Вы нас пожалеть не хотите?
— Не могу, Олимпий Дмитриевич! Я вам объяснил — почему.
— Ну, Бог с вами! сказал Олимпий, поднимаясь.
— Да будет воля Божия! — вдруг громко проговорил все время молчавший Михалис и злобно посмотрел на Гончего.
— Да, истинно так! — отозвался Гончий тоже ехидно.
— Ничего тут не поделаешь! — обернулся Михалис к Олимпию. — Все на свете так: кому какая судьба, так тому и быть должно!
Выйдя из домика, и Басанов и Михалис шли долго молча, но вдруг наперсник расхохотался, а Олимпий, пасмурный и озабоченный, удивленно глянул на него:
— Чего ты? Ошалел, что ли?
— Нет… Ошалел… да не я…
— Чему радуешься? Пошли мириться, умолять да усовещивать, а вместо того хуже поругались… Есть чему смеяться!
— Не могу… Уж больно смешно мне, до чего он прост… Дурак! Прямо петый дурак! — И Михалис снова рассмеялся.
— Чем же это дурак? Злыдень, а не дурак.
— Злыдень, само по себе… а глуп он пуще младенца. Разве можно было этакое колено отмочить?.. Прямо нас обоих взять да носом ткнуть… «Вот, мол, где все… где ваше все счастье и несчастье. Вот, мол, этот сундучок. Ha-те, глядите… Тут, мол, все и лежит. А ключ вот он. С крестами да ладонками завсегда у меня за пазухой». Ах, дубина! Да нешто ключ — документ? Сундук, дубина, за пазухой носи. А нельзя, так помалкивай…
Олимпий ничего из слов друга не понял и удивленно глядел. На его вопросы Михалис ничего не объяснил и, смеясь, махнул рукой.
— Говори, черт окаянный! — вспылил Олимпий.
— И буду говорить. Все скажу, только не сейчас. Дайте мне с самим собой побеседовать еще денек…
— Понял! — вдруг воскликнул Олимпий. — Ты полагаешь, можно его обворовать.
— Как же это? — притворился Михалис удивленным.
— Ты говоришь: ключ завсегда при нем, а бумаги в сундуке. Стало быть, в его отсутствие приходи кто, ломай сундук и воруй. Так ты, Платон, дурак. У него не деньги лежат. С его бумагами никто ничего не поделает… В сундуке что? Завещание Бабаева, векселя или закладная, или иное что в этом роде… Своруй, и он тебя в суд потянет и выиграет дело, а вор улетит, куда Макар телят не гонял. Дурак ты…
Михалис ничего не ответил и будто согласился мысленно.
Однако в тот же вечер, пересидев всех гостей и оставшись один с Олимпием, он заявил ему, что берется устроить все дело по отношению к Гончему. Но в продолжение еще двух дней на все вопросы Олимпия он ничего не объяснил.
Наконец, на третий день, снова оставшись наедине с другом-барином, Михалис заявил, что хочет поговорить о важнеющем деле.
— Я думал, думал, Олимпий Дмитриевич, — сказал он, — и додумался! Думал, как вам быть с этим Анькой, и придумал. И вот хочу вам пояснить. С кем другим я бы никогда конечно, говорить так не стал, но с вами, полагаю, можно. Хотите ли вы избавиться от этого долга Аньке Безрукому? Тогда поручите это мне.
— Что же ты сделаешь? — удивился Олимпий.
— Надо от него избавиться…
— Но каким образом, — удивился Олимпий, — если денег не будет?
— Похерить его…
— Как похерить долг, когда нечем, говорят тебе!..
— Аньку похерить, а не долг… Да. И за это возьмусь. Конечно, не сам. Я буду только руководствовать. Приищу таких молодцов, которые его похерят. Но однако вы должны тоже помочь в этом.
— Я? Что ты! — ахнул Олимпий.
— Не пугайтесь! Вы только должны будете дать денег. Я выищу, понятно, не здесь в Высоксе, а где-либо в чужих людях таких молодцов, которые нам Гончего ухлопают, как муху. Если молодцы попадутся и меня выдадут, то я-то уж вас не выдам и пойду в ответ один. Если же дело удастся, то я за это по справедливости попрошу у вас за все награду.
Олимпий, видимо смущенный предложением друга, долго молчал но, наконец, произнес:
— Что же мы от этого выиграем, ведь документы останутся?
— Так что же? У него никаких детей и наследников нет. Кто тогда будет взыскивать? Некому! А если он действительно по завещанию оставляет все Сусанне Юрьевне, то она сделается кредитором и, конечно, с вас ничего требовать не будет. Да, кроме того, я вам отвечаю головой, и если вы рассудите, то и сами поймете: если что приключится с Гончим, то Сусанна Юрьевна тоже будет полуживая. Ведь она только и дышит, что им. Узнай она завтра, что он на том свете, то соберется топиться или постригаться. Где же ей будет тогда требовать с вас большие деньги, да и зачем, на что?
И после недолгого молчания Михалис спросил:
— Даете вы мне ваше разрешение?
— На что? — спросил Олимпий мрачно.
— На что? — повторил Михалис. — Я же вам докладывал! Разрешите похерить Аньку и большущий долг.
Олимпий не ответил и вздохнул.
— Дай подумать! — сказал он.
— Чего же тут думать!
— Не знаю, как-то не хочется таких слов говорить. Давать свое разрешение на смертоубийство — жутко. Дай подумать!
Через дня два после этой беседы друзей Михалис выехал в Муром, пробыл там сутки и совсем исчез, отправившись, неведомо куда. И только через неделю вернулся он обратно в Высоксу и был, видимо, доволен своей поездкой.
— Дело на мази! — заявил он другу-барину и так решительно, что тот отчасти смутился.
— Я, право, Платон, не знаю… опасаюсь… Злоба злобой, а все же этакое на душу брать… как-то страшно, — заявил Олимпий.
— Ну, ладно… Теперь поздно… Остановим молодцов, — они, потеряв обещанное, меня выдадут, донесут на подговор их…
Но веселое настроение Михалиса тотчас же пропало. После своего недолгого отсутствия он нашел такую перемену в сестре, что не знал, что и подумать. Тонька была темнее ночи, похудела и была печальна.
— Больна ты, что ль? — допрашивал брат.
— Нет, — робко отвечала девушка.
— Что же с тобой?
— Ничего. Может быть, простудилась или так…
— Случилось что без меня? Обидел кто?
— Ох, нет. Чему же случиться? Так, говорю…
Михалис, не добившись ничего, обратился с тем же к другу Абашвили. Князь ничего не мог объяснить, но соглашался, что с Тонькою что-то творится, что он два раза видел ее в слезах.
Однако дня через два Тонька стала веселее, и Михалис успокоился, приписав все хворости. Он не знал и не мог, конечно, догадаться, что юная сестренка притворяется веселою…
XVI
Между тем, хотя двадцать первое число было еще за горами, а во всей Высоксе уже началась такая суета, веселая и радостная, как если бы был канун празднования. Было решено давно, что день этот будет отпразднован особенно пышно.
Более всех настаивал в этом Олимпий. День этот во всяком случае был особенный и долженствовал принести переворот в судьбе заводов и всех обитателей. Все законные формальности были уже начаты, и все подготовлялось, так что в день совершеннолетия младшего владельца заводов братья могли уже вступить в управление и подписывать бумаги.
Предполагалось устроить парадный обед в доме, угощение заводских рабочих, а вечером иллюминацию и фейерверк.
Братья, совершенно подружившиеся за последнее время, всякий день со своими ближайшими наперсниками заседали и совещались, как устроить празднество. Они вызвали несколько стариков-старожилов, чтобы узнать, как праздновали прежде при их деде Аниките Ильиче. Самые важные и дельные советы и указания были получены от Змглода. Совершенно расхворавшийся старик, едва волоча ноги, все-таки явился в барский дом, где не бывал уже несколько месяцев, и делал указания на месте.
Разумеется, была личность, которая могла бы лучше всех помочь в этом деле, но к ней было мудрено обратиться. Это была Сусанна Юрьевна, которая когда-то сама устраивала разные праздники, так как это поручалось ей стариком Басановым. Но среди всеобщего ликования Сусанна Юрьевна сидела безвыходно у себя и даже обедала отдельно, не принимая никого, кроме Гончего, который аккуратно всякий день приходил к ней в сумерки и сидел до вечера. Утро и день он проводил в имении на постройке, куда вскоре они должны были переехать.
Общее ликование и в особенности радостное настроение братьев Басановых и их наперсников отравлялось лишь одним помыслом: как распутаться с огромным долгом? Купец Яхонтов продолжал отвечать уклончиво: не грозился тотчас же требовать своих денег, но и не соглашался дать обещание ждать по-прежнему, как из года в год ждал при опекунском управлении. Гончий прямо заявил, что дает сроку один месяц.
Если бы грозился один Гончий, то, быть может, дело могло бы как-нибудь устроиться, но случилось нечто, что в Высоксе объяснить не могли. Из Петербурга уже пришла грозная бумага. Была давно накопившаяся казенная недоимка, а вместе с тем и крупная неустойка по поводу какого-то подряда, который запоздал. Казна долго молчала снисходительно, а теперь все это требовалось немедленно, и грозили еще строже, чем Гончий.
Оба Басановы и их наперсники заседали, рассуждая, призывали из Мурома сведущих людей и пришли к одному, что распутаться нет никакой возможности, а достать огромную необходимую сумму было не у кого. Олимпий начинал уже жалеть, зачем не оставил Гончего на его месте. Он более всех был озабочен, так как чувствовал, что вся тяжесть и ответственность управления лежит на нем. Но он смущался только по утрам, а днем будто забывал про надвигающуюся грозу, занятый приготовлением к празднеству.
Приглашения в Муром, в губернский город, к разным соседям и даже к некоторым знакомым в Москву были уже разосланы. За последние дни в саду, перед домом, на улице и на базарной площади расставлены были смоляные бочки и готовились разные потешные огни. На площадке перед домом и коллегией строились столы с лавками для угощения заводских крестьян.
В доме тоже шла суета и возня. Старший Басанов переселился в верхние комнаты, конечно, с согласия брата. Решил это перемещение как бы глас народа. Оно казалось необходимым. С тех пор, что Высокса существовала, всякий привык, чтобы руководитель судеб ее жил в верхних комнатах.
Одновременно младший Басанов переселился в центральные комнаты с балконом, где за последние годы проживала Касаткина. Сама же она в первый раз переходила в правое крыло дома, но, конечно, на время, так как собиралась уезжать в собственное имение.
Сусанна Юрьевна была крайне грустна. На нее напала какая-то беспричинная тоска. Она не жалела, что приходится уезжать с Высоксы, где прошла половина ее жизни. Вместе с тем, жалея Гончего, она надеялась, что он в новом имении найдет себе занятие и утешится постепенно…
А напавшая тоска не умалялась, несмотря ни на какие размышления.
И тоска оказалась предчувствием.
Однажды среди Высоксы поднялась такая сумятица, как если бы случилось землетрясение. Всё поднялось на ноги не днем, а около полуночи, и всё бросилось на улицу к базарной площади.
— Пожар! Пожар! Горит! — раздавались крики.
Действительно, в Высоксе было светло, как днем. Огромное и высокое пламя среди полного затишья ночи высоко поднималось столпом, разрастаясь в громадные черные клубы дыма, тихо и плавно уходящие в поднебесье.
Когда толпы рабочих и дворня из дома сбежались на самое место пожара, то крики усилились, сумятица удвоилась. Все восклицали почти одно и то же:
— Гончий! Онисим Абрамыч!
— Да сам-то?… Сам! Где? У барышни или… тут?…
Пылал, очевидно уже давно загоревшись среди ночи, маленький домик, нанятый бывшим управителем, но находился ли в нем сам хозяин, никто не знал.
Бросившиеся в барский дом доложить и справиться прибежали обратно с криком:
— Там! Там! В огне!
Через несколько минут явились на пожар и оба молодые барина и за ними куча приживальщиков, все спросонья, перепуганные и полуодетые…
— Тушить! — вскрикнул Аркадий с ужасом.
— Попал пальцем в небо! — отозвался Олимпий.
— Где же тушить? — прибавил кто-то. — Да и нечего. Уже одни головни сейчас будут…
— Спасибо, ветру нет. А то прощай вся слобода.
— А и чтой-то, братцы, как смолой оттудова несет. Чисто бочки потешные полыхают.
В то же мгновенье раздались отчаянные вопли… Женская фигура вся в белом, пробившись сквозь толпу, подбежала к самому пожару, стала, взмахнув руками над головой, и снова бросилась еще ближе к огню, чуть не к языкам зияющего пламени…
— Держи. Держите… Барышня! Тетушка! — вскрикнули разом оба Басанова и толпа.
Четверо человек кинулись к Сусанне Юрьевне, схватили ее и силой повлекли назад… Отчаянные и дикие вопли огласили всю улицу… Но затем, уводимая силой от огня, она вдруг осунулась и повисла на руках людей, как мертвая.
Олимпий распорядился тотчас… Барышню без чувств положили на траву и побежали на конюшню скорее запрягать что-нибудь, чтобы отвезти ее в дом.
— Какой страх! Какое несчастье! Кто мог думать? — лепетал Аркадий, не спуская глаз со сверкающего огромного костра. — И бедный Феофан с ним…
— Вестимо несчастие, — отозвался Олимпий и прибавил тише: — но не нам с тобой, братец. Наше дело сторона.
— А уж как смолой несет… Так и отшибает, — ахнул кто-то около Олимпия.
— Полно врать, дурак! — грозно крикнул он.
Толпа все увеличивалась, и скоро вся Высокса была в сборе на базарной площади. Но пожар уже кончился, и была лишь раскаленная груда, ослеплявшая глаза. Появилось наконец несколько бочек с водой, и народ начал пробовать заливать из ведер красную груду, но подойти близко было невозможно от пышащего жара. Платье начинало тлеть… Лицо и руки будто щипало и рвало…
— Обожди! Ништо! Тихо. Далее не пойдет, — сказал появившийся в числе последних Михалис.
И, обратясь к барину Олимпию Дмитриевичу и ко всем тоже, он прибавил:
— Удивительно! С чего бы это? Вот уже и ума приложить нельзя, как он это не выскочил, когда зачалось. А что если Онисим-то Абрамыч в отсутствии?
— Полно уж ты! — тихо, но резко отозвался Олимпий и хотел что-то сказать, но в тот же миг снова раздались крики и рыдания. Сусанна Юрьевна пришла в себя и, поднявшись, сидела на траве.
— Сожгли! Сожгли! — вскрикнула она вдруг…
— Успокойтесь, тетушка… Милая, дорогая… — заговорил Аркадий, опускаясь на колени около нее.
Сусанна Юрьевна рыдала, схватив себя руками за голову и качая головой из стороны в сторону.
— И могилы не будет… и могилы нельзя…
— Найдем его все-таки, тетушка, — утешил ее Аркадий со слезами в голосе.
Но у окружающего их народа тоже заныло на сердце. Слишком ужасно было горе барышни…
И до самой зари просидела Сусанна Юрьевна у пожарища.
Вернувшись в экипаже домой, она, войдя в свои комнаты, будто снова лишилась чувств и пролежала, закрыв глаза и без движения, до самого полудня, но не дышала просто, а тихо стонала.
Ввечеру только удалось народу разрыть головни и уголья и найти два совершенно обуглившихся скелета, а не трупа.
И на другой день были странные похороны двух маленьких почти пустых гробов с костями…
Сусанна Юрьевна не явилась… Она лежала в горячке и в бреду.
XVII
Всеобщая нелюбовь, всеобщее неискреннее, а напускное презрение к Гончему вдруг исчезли. Его поминали и о нем толковали изо дня в день без всякой злобы.
— Сожгли! — повторяла вся Высокса от мала до велика и будто совестилась.
Глас народа — глас Божий! Бессознательное убеждение в чем-либо массы есть непременно истина. Не было положительно ни единого человека на заводах, который бы считал пожар случайностью, несчастным случаем. Но, кроме того, все были убеждены в том, что преступление было дерзко совершено с ведома, если не по приказанию, барина Олимпия Дмитриевича.
А кто был руководитель, если не прямо совершитель преступления? Высокса отгадала и единогласно указала на Михалиса. Некоторые доходили даже до намеков в разговорах.
Михалис ходил угрюмый, чувствовал, что его подозревают, и это озлобляло его. Все, им совершенное, было действительно так искусно подстроено, что он ни минуты не думал о возможности зародиться подозрениям по отношению к его личности.
Михалис кончил тем, что начал сам говорить и сердито шутить, что Высокса считает его поджигателем и убийцей. Но помимо досады в Михалисе ничего не было. Бояться он не мог. Дело это было не такое, как убийство князя Никаева. Временное отделение не могло приехать для следствия. Какие бы слухи ни ходили, все-таки улик не было никаких, и оставалось только сказать, что это все дело темное.
Впрочем, если Михалис ходил чересчур угрюмый, то на это были еще две причины помимо пожара. Олимпий Дмитриевич, обещавший тысяч десять, а то и больше, если все кончится благополучно, теперь медлил с обещанной уплатой. Михалис уже два раза напоминал ему об обещанном, но Олимпий отвечал:
— На что тебе теперь? Обожди! До того ли теперь? Да и денег совсем нет. Вот распутаюсь немножко, кончится сдача всех дел, отпразднуем рождение братца и начнем управлять. Тогда деньги свои и получишь. Недолго ждать!
Но по голосу Олимпия, которого Михалис так давно знал, он чувствовал, что тот собирается сначала оттянуть, а затем и совсем не сдержать своего обещания. И это, разумеется, возмущало его.
Кроме того, у него была еще другая пущая забота. С его сестренкой положительно что-то творилось. Что именно, он и ума приложить не мог. Тонька изменилась лицом, будто похудела. Затем она часто задумывалась, иногда бывала даже грустна и печальна.
На вопрос Михалиса, что с ней, Тонька, конечно, ничего не отвечала, уверяла брата, что ему все мерещится, и при этом Михалис видел, или вернее, чувствовал, что Тонька робеет. Каждый раз, что заходил разговор между ними о том, что в ней есть какая-то перемена, молодая девушка начинала глядеть и говорить трусливо. Михалис ломал себе голову, и тщетно.
Однажды, вдруг, по поводу пустяка, подозрение молнией сверкнуло в его голове. Но это подозрение было такого рода, что самому Михалису стало страшно. Он испугался того, до чего додумался. Ему казалось, что если это его подозрение станет действительностью, фактом, то сразу произойдет какое-то вокруг него светопреставление, разрушение мира.
Однако, тотчас же это подозрение показалось ему таким нелепым, что, отогнав его мысленно от себя, он и забыл о нем.
Впрочем, скоро у Михалиса явились и занятия. Окончательная сдача дел опекунства после погибели Гончего должна была прекратиться. Депутат от дворянства, двое чиновников, двое стряпчих вместе с Олимпием Дмитриевичем распутывались кое-как, стараясь выяснить только главное, а на мелочи и подробности не обращать никакого внимания.
Олимпий начинал уставать от этих занятий, отчасти они надоели ему, и он стал все менее заседать. Наконец он свалил все на коллежского правителя и присоединил к нему Михалиса.
Зато одновременно Олимпий стал приводить в исполнение все свои и прежние давнишние, и новые затеи и прихоти. Он за все схватился зараз. Театр заново отделывался, двое человек были посланы в Москву разыскать и нанять актеров и музыкантов. Охотный дом, если не перестраивался, то отделывался внутри заново и особенно пышно и богато, причем однако ничего собственно до охоты касающегося не приобретали. Даже собак купить не приискивали. И всем казалось, что охотный дом отделывается совсем не для охоты. А для чего? Было загадкой!
В то же время Олимпий решил как можно скорее восстановить прежний гусарский конвой, но в двойном количестве, чтобы у него и у брата была одинаковая свита. Людей в будущий конвой уже выбирали, причем иногда пришлось брать за рост или статность отличных мастеров на заводах. С проволочного завода взяли, чтобы завербовать в гусары, таких трех мастеров, что дело на заводе могло совсем стать.
Доложить об этом Олимпию Дмитриевичу, конечно, никто не смел. Целый день толковали об этом в коллегии тихонько и робко. А на другой день в той же коллегии случилось то же. Один писарь, отличавшийся самым красивым почерком и писавший всегда бумаги, направляемые в Петербург, попался на глаза Олимпию. На другой день он уже не явился в должность, а ожидал быть гусарским десятником.
Но с каждым днем у Олимпия являлись новые затеи, воображение разыгрывалось, а смелость усиливалась… То, что было прежде мечтой, теперь желалось осуществить немедленно во что бы то ни стало.
— Удержу нет! — тихо поговаривали все, и нахлебники, и холопы.
И наконец одна давнишняя мечта, скрытая от всех, осуществление которой было страшно трудно, теперь вдруг, неведомо почему, сделалась уже не мечтой, а чем-то иным… Это было бремя. Прихоть стала болезнью. «Вынь, да положь!» — говорит пословица.
Дело шло о к раса вице-девушке, которая ему давно сильно нравилась. Это была Сусанна Змглод.
Прежде он стеснялся… и не из боязни Змглода… Теперь, вступив в свои права владельца Высоксы, Олимпий решил, что надо действовать и осуществить и эту самую главную прихоть, давнишнюю и близкую к сердцу.
«Нечего откладывать! — решил он. — И не робеть! Смелость города берет!»
XVIII
Однажды утром Иван Змглод, явившись к Аркадию Дмитриевичу, удивил его своим видом. На молодом Змглоде лица не было.
— Что ты? — ахнул Аркадий.
— Чего ждали, то теперь и хочет будто стрястись на нас! — ответил Змглод.
— Что такое?
— Да вот батюшка со всеми нами собирается уезжать из Высоксы, купить дом в Муроме и зажить там.
— Зачем?! Что?! — вскрикнул Аркадий.
— Ради безопасности!
Аркадий пристально и пытливо глядел в глаза своего друга и вдруг оробевшим голосом произнес:
— Братец?..
— Понятное дело! Что же другое?
— Хорошо! Но что же он может? Грозится только.
— Нет, Аркадий Дмитриевич, — потряс головой Змглод. — Он не из таких, что будет только грозиться! И прежде батюшка его опасался, как барина смелого, о двух головах, способного на все. А теперь после приключения с Онисимом Абрамычем батюшка его еще пуще опасается. Он сказывает, что Олимпий Дмитриевич со своими приятелями вроде Платона ни перед чем не постоят.
— Да что же он может? Ведь тут не смертоубийство ему нужно… Что же он может?! — воскликнул Аркадий.
— Все может! Мало ли он что может надумать? Может выкрасть нашу Саню и силой запереть где, так что мы месяц целый ее не разыщем! Недаром у него домики в лесах водятся. Нет, мы порешили все — и батюшка, и матушка, и я — уезжать.
— Никогда этого не будет! — вскрикнул Аркадий. — Я не допущу!
— Вы?! — грустно спросил Змглод и опять покачал головой.
Этот вопрос и движение произвели странное действие на добродушного молодого человека. Он вспыхнул. Голосом, какого Змглод никогда не слыхал, он произнес:
— Я не допущу! Я за нее не то что на брата, на смерть пойду! Это ведь не то, что ссоры разные да драки братцевых да бариновых. Нет, это другое! Нет, никогда такого ничего не будет. Я тебе говорю! Голову тебе на отсечение даю, что Олимпий пальцем Саню не тронет!
И голос Аркадия был такой странный, новый, глаза его так необычно сияли, он так преобразился, что Иван Змглод изумился, а потом будто сразу поверил, лицо его слегка прояснилось. Он почти с восторгом поглядел на Аркадия.
— Давай-то Бог! Вот кабы всегда вы так… А то уж очень вы…
И он не договорил.
— Я такой, говорят, робеющий, молчащий. Верно это, Иван!.. Да ведь это в пустом, в глупостях. А если мне будут ножом сердце вырезать! Так что же? Буду я плакать по-твоему, жалиться и давать себя резать? Ты знаешь, как я твою сестру люблю — и давно!
— Знаю, Аркадий Дмитриевич! Все мы знаем, всех нас вы любите. Кабы не то, мы бы давно с Высоксы уехали.
— Ты знаешь, да не знаешь! — вскрикнул Аркадий. — И никто не знает! Я один знаю!.. А то, что вы все не знаете, а я знаю, то вот завтра и Олимпий узнает… И всем его ухищрениям будет конец! Он не посмеет!..
Отпустив Змглода, Аркадий тотчас же позвал к себе любимца Ильева и заставил его поклясться, что он не выдаст его, не разболтает про тайное поручение, которой он ему даст. Затем он объяснил Ильеву, что он должен через своего приятеля, брата Андрея Шлыкова, разузнать, что затевает Олимпий по отношению к Сусанне Денисовне. Брат любимца Олимпия был в лагере бариновых, но держался особняком и, видимо, любил более Аркадия.
Ильев взялся исполнить поручение, не ручаясь за успех.
И в тот же вечер он доложил Аркадию, что Шлыков не знает, что именно затевает Олимпий Дмитриевич, но затевает наверное и вскоре задуманное приведет в исполнение.
— Шлыков сказывал, — объяснил Ильев, — что ему сдается самому… Смекает он, что Сусанну Денисовну положено при случае выкрасть и укрыть так, чтобы и в месяц, два никто ее не нашел.
— Ах, мерзавец! — вскрикнул Аркадий. — А коноводом Михалис?
— То-то нет, Аркадий Дмитриевич. Даже удивительно. Шлыков заверяет, будто Михалису ничего даже не известно.
— Вздор это! Михалис! Он и науськивает. Ну, да черт с ним. Вот увидим… Спасибо тебе. Теперь мой черед орудовать!
И, совершенно не спав всю ночь, Аркадий будто в какой-то лихорадке решился действовать… Он сам себя не узнавал. В нем что-то как будто шевелилось, дрожало и заставляло его почти метаться по комнате. Наконец, он не выдержал и задолго до полудня приказал скорее подать себе дрожки.
Через полчаса он был уже на подъезде домика Змглода и входил в него. Когда он вошел в комнату Дениса Ивановича, то удивил его своим лицом.
Старик собирался сказать: «Что с вами?», но Аркадий предупредил его.
— По делу я к вам, Денис Иванович, по самому важному делу и не терпящему отлагательств… От вас зависит порешить самое важное дело, какое только может быть в моей жизни…
Аркадий смолк на минуту, будто оробел, но тотчас же взгляд его снова вспыхнул. Он как-то выпрямился и проговорил голосом, который удивил Змглода так же, как и его сына накануне!
— Вы знаете, Денис Иванович, как я люблю вас давно… Ну, вот и не удивляйтесь… Я, Денис Иванович, хочу… Давно хотел.
Всегда так думал… Давным-давно порешил, только не говорил никому… И вам не говорил. И вот теперь скажу. Я хочу жениться на Сане!
Змглод как-то ахнул, вытаращил глаза, а затем опрокинулся на спинку своего кресла и глядел на Аркадия широко раскрытыми глазами.
— Вы удивились?
— Понятно… Господь с вами!
— Тут ничего удивительного нет! Это, Денис Иванович, давно, давно мною порешенное дело. И ваша Сусанна Денисовна должна знать это. Если я ей никогда не говорил прямо, то тысячи разов говорил так, что она теперь не удивится.
— Дорогой мой Аркадий Дмитриевич, — заговорил Змглод, — спасибо вам за вашу любовь, но все это, извините, измышление самое невозможное. Вам нельзя, дворянину, высокскому владельцу, богачу, сочетаться браком с дочерью… кого же? Ведь меня всегда звали полутуркой. Мать нашей Сани, конечно, по крови вам родственница, дворянка. Но я-то кто же такой? Как называют: проходимец! Что вы! Полноте! Нешто возможно этакому браку состояться!
И Денис Иванович даже слегка улыбнулся.
Аркадий стал горячо доказывать Змглоду, что он, может быть, пять уже лет как решил, что никто, помимо Сусанны, его женой не будет.
— Я никому этого не сказывал, — горячо объяснял Аркадий, — робел признаваться в этом. Одно время думал, что и пройдет это. А вышло наоборот. За последние два-три года я увидел, что мне жить без Сани невозможно. Она должна быть моей женой! И никто мне в этом не помешает! Один вы можете помешать запретом ей венчаться со мной.
— А Олимпий Дмитриевич?! — воскликнул Змглод.
— Олимпий тут ни при чем! Он не отец, да и в качестве совершеннолетнего я по закону могу жениться на ком хочу.
— По закону? Верно, Аркадий Дмитриевич. Но дело не в законе! Дело в том, что Олимпий Дмитриевич по многим причинам сего не пожелает и вам запретит.
— Запретит?! — вскрикнул Аркадий.
И Денис Иванович опять удивился голосу, которого никогда не слыхал.
— Вот до чего довело мое всегдашнее помалкивание, — вскрикнул Аркадий. — Ну, да теперь пора! Конец! В чем другом я буду все уступать Олимпию. В этом деле никогда! Как я сказывал Ивану, так и вам скажу: на смерть полезу!
Аркадий смолк и после паузы заговорил спокойнее, но с чувством:
— Или Саня будет моей женой, или пускай меня убьет кто. Хоть тот же Олимпий. Но дело в том, что если вы не будете перечить, а станете мне помогать, то, конечно, ничего худого не приключится. Мы одолеем. И я не попадусь, как кур во щи. Меня при вашей помощи и защите какой-нибудь Платон не сожжет и не зарежет. А если вы сами будете против меня, то тогда, понятное дело, и я пропаду. Да еще, помяните мое слово, и Сусанна Денисовна пропадет. Он вас и в Муроме достанет. Что ему?! И всегда он был о двух головах, а теперь после такого ловкого дела, как с Гончим, он, пожалуй, еще пуще осмелел. Все ему теперь трын-трава! Он на ваш дом с новыми своими гусарами нападет, выкрадет Сусанну Денисовну и увезет. А вот вы себя так поведите, чтобы я мог сделаться ее защитником. А прежде этого мне надо сделаться ее нареченным с вашего согласия.
Аркадий замолчал. Денис Иванович сидел сумрачный, отчасти как будто даже смущенный.
Молчание длилось долго.
— Что же?! — резко произнес Аркадий.
И снова это вырвалось у него тоном голоса его брата. Он как будто давно гневно ждал решительного ответа.
— Скажу я одно пока, — глухо отозвался Змглод. — Дайте мне поразмыслить, очень уж вы меня огорошили!..
Аркадий уехал, а старик созвал всех своих — жену, дочь и сына.
Объяснив им, с чем приезжал Аркадий, он спросил:
— Ну? Что же тут делать?
Алла Васильевна заявила тихо и глуповатым голосом, что всегда ожидала предложение молодого барина.
— Это почему? — воскликнул старик.
— А вот Саня мне всегда это сказывала, а она не лгунья.
Змглод опешил и удивленно глянул на дочь.
— Правда, батюшка, — улыбнулась Сусанна. — Я надеялась всегда… Но при таких обстоятельствах, как вот теперь, надо сто раз отмерить и один отрезать. Правда, Ваня? — обратилась она к брату.
Иван сурово кивнул головой, а затем стал объяснять, что на Аркадия, известно, полагаться мудрено, и надо предоставить ему бороться с братом, а самим выждать.
— Я ему срок для ответа моего дал, — сказал Змглод.
— Ну, минует срок, тогда и увидим, что отвечать, — решительно проговорила Сусанна. — Наш ответ будет зависеть от того, как сам Аркадий Дмитриевич себя поведет сегодня и завтра.
— Будь по-вашему! — тихо произнес старик.
XIX
Разумеется, Аркадий волновался и трусил при мысли, что придется объясняться с братом и, конечно, выдержать натиск.
Какая будет стычка и что из нее произойдет, Аркадий не мог даже вообразить. Ему однако представлялось, что чем натиск брата будет грубее, тем лучше. Чем мягче станет противиться брат, тем хуже. Аркадию представлялось, что если брат дойдет до остервенения, станет грозиться всячески, то он, Аркадий, немедленно все будет готовить к свадьбе и в самый день своего совершеннолетия обвенчается.
Денис Иванович между тем, ничего не сказав жене и дочери, объяснился с сыном. Оба Змглода, отец и сын, были одного и того же мнения, что предложение Аркадия Дмитриевича есть просто затея. Конечно, он искренно желает этого, потому что давно любит Саню, но никогда не хватит у него смелости привести все в исполнение. Только всю семью подведет.
Сусанна Юрьевна так же, как и Олимпий Дмитриевич, будет, конечно, против этого брака, будет орудовать на все лады, действовать и убеждениями, и угрозами. И, конечно, мягкий и нерешительный Аркадий Дмитриевич им уступит. И серьезное дело станет смехотворным делом. Над семьей Змглода будут только потешаться, скажут, что они затеяли неподобное, зазнались, забыли, кто они, и вообразили, что простодушного молодого человека легко женить на дочери.
Иван Змглод, видя задумчивость и какую-то растерянность Аркадия, прямо говорил ему и убеждал:
— Только смех один будет! Где вам против братца идти!
В то же время Иван Змглод советовал отцу молчать и отложить ответ в долгий ящик или же тотчас отвечать решительным отказом. Кончилось тем, что на третий день Денис Иванович, чувствуя себя несколько лучше, при помощи костыля добрался до своей тележки и, явившись в дом, с трудом поднялся по лестнице. Отсюда он прошел прямо на половину Аркадия Дмитриевича.
Денис Иванович считал необходимо нужным явиться лично, поблагодарить молодого барина за честь и объяснить, что все это дело совсем немыслимое. Но едва только Аркадий узнал, с каким решением явился Змглод, как пришел в такое состояние, в каком никто его никогда не видал.
— Так вот что! — воскликнул он. — Вот до чего дошло дело. Я должен быть несчастным человеком вследствие моей трусости, моего слабодушия. Я люблю Сусанну Денисовну невесть с каких пор и, конечно, без нее совсем жить мне будет невмоготу, а вы мне отказываете! Почему? Потому что не любите меня, или потому, что я ей не пара? Это бы ничего! Это бы понятно было! А вы отказываете потому, что я плакса, как зовет меня брат, что я, затеяв дело, только осрамлю вас, только всех смеяться над вами заставлю! Так слушайте, Денис Иванович! — вскрикнул он вдруг. — Несмотря на ваш отказ, я сейчас иду к брату и все ему объясню. Все-таки дело огласится. И если вы будете все-таки продолжать отказываться, то я увезу Сусанну Денисовну и тайно обвенчаюсь с ней в самый день моего совершеннолетия! Я знаю, что она пойдет на это.
Змглод, глядя на Аркадия, невольно изумлялся. Никогда нельзя было предположить в молодом человеке того пыла, который вдруг оказывался.
«Стало быть, — думалось Змглоду, — когда дело-то близко сердцу, то он не такая плакса, как все мы думаем…»
Аркадий заставил Дениса Ивановича снова объяснить и побожиться, какие именно причины заставляют его отказывать ему в руке дочери. И Змглод снова объяснил все то же: Аркадий Дмитриевич неспособен побороть все те препятствия, которые возникнут. А главной причиной было нежелание его, Змглода, быть осмеянным всей Высоксой.
— Ну, так вот вы увидите! — ответил Аркадий тихо, почти шепотом.
Денис Иванович опять удивился. Эти слова были сказаны хорошо знакомым ему голосом. Это говорил Аникита Ильич.
Объяснение кончилось тем, что Змглод уехал домой, сказав молодому человеку:
— Делайте, как знаете! Позвольте только нам объяснить всем, что мы тут ни при чем, что мы желаем только одного — уехать поскорей с Высоксы, а не то что за кого-либо из господ Басман-Басановых прочить свою дочь.
И старик вернулся домой несколько тревожный. Он представлял себе немедленную стычку братьев, после которой можно было ожидать «чудес в решете». Аркадий Дмитриевич, конечно, тотчас струхнет, а Олимпий Дмитриевич невесть что затеет. Единственное, на что Денис Иванович стал рассчитывать, было, что молодой человек, нерешительный, лишь с мимолетными, мгновенными вспышками, будет собираться объясняться с братом и не соберется.
Но он ошибся.
Аркадий был возмущен, даже глубоко обижен: «Вот до чего я дошел! — говорил он себе. — Все уступал и уступал! И теперь хорошие люди боятся даже со мной дело иметь. Нет, так нельзя!..»
Аркадий собрался на другой день поутру отправиться к брату и объясниться, но затем вдруг рассердился и выговорил вслух:
— Опять завтра! Нет, сейчас надо идти!
И в ту же минуту он вышел из своих комнат, быстро, как бы спеша, прошел дом, поднялся по лестнице и чуть не ворвался в комнаты брата. Казалось, что он прибежал с каким-то сейчас полученным известием, не терпящим отлагательств. Олимпий, поглядев на брата, заметил что-то особенное в его лице и невольно вымолвил:
— Что такое? Случилось что? Наши бариновы да братцевы опять передрались?
И он рассмеялся.
— Если какое, Аркадий, побоище, то плюнь! Последнее!
Отвечаю тебе головой, что больше на Высоксе бариновых да братцевых не будет. Сейчас прикажу всех подравшихся выгнать из Высоксы вон, хоть на поселение.
— Нет, братец, ничего такого нет! — выговорил Аркадий. — Я пришел вам сказать… Вот теперь скоро мое совершеннолетие, а я так положил, что как мне двадцать один год минет, так я сейчас женюсь…
Олимпий широко раскрыл глаза и глядел, ожидая, что дальше будет.
— Ну, так что же? — выговорил он ввиду молчания брата.
— Ну, вот я и решил вам сказать!.. Оно все-таки брату знать нужно. Как мне минет двадцать один год, так сейчас же я и венчаться хочу.
— И хорошее дело! Да только успеем ли мы невесту найти? — усмехнулся Олимпий.
— Невеста есть, братец! Особа, которая уже столько лет почитается мной моей нареченной. Особа, которая всеми находима прелестной. Ты сам часто сказывал, что она — писаная красавица, золотое сердце и ума несравненного. Я хочу жениться на Сусанне Денисовне.
Олимпий покачал головой и после несколько мгновений молчания произнес укоризненно:
— Как, братец, тебе не стыдно! И всегда-то ты был не особливо прыток, но все ж таки дурашных затей у тебя не бывало. И вдруг этакую чепуху надумать! И кто это тебя науськал? Ванька Змглод, что ли?
— Никто меня, братец, не науськивал! Я же сам говорю, что уж сколько лет, как я и порешил, что Сусанна Денисовна будет моей женой. И только она одна может быть моей женой. Ни на ком другом я никогда не женюсь. А если я так порешил, то чего ждать? Как вот выйдет мне совершеннолетие, так я с ней и повенчаюсь.
— И никогда этого не будет! — отозвался Олимпий резко.
— Как не будет?
— Да так… не будет!
— Почему же не будет?! — воскликнул Аркадий.
— А потому, что не должно быть! Потому, что это срамота! И я не допущу! Хоть я и не отец тебе, а брат, но я не допущу тебя срамить ту же фамилию, которую я сам ношу! В чем другом я тебе перечить не стану. Все, что ты пожелаешь, сделаю, помогать буду. Но в этом деле не только не буду помогать, но всячески воспротивлюсь. Во всяком другом деле честь нашей фамилии будет не замарана, какие бы ты колена ни выкидывал. А этак срамить нас, Басман-Басановых…
— Какой же тут срам? И понять нельзя!..
— Да кто он, этот Змглод! Полутурка! Тот же холоп дедушкин. Не крепостной, а вольный, но все-таки был тем же холопом. Не будь шустрым, то и в обер-рунты никогда бы не попал, а попал бы в камердинеры. Вот если бы ты Сусанну Денисовну затеял в любовницы брать, иное дело. Я бы сказал, давай тягаться, кто перетянет, ты или я, потому что этакое и мне, пожалуй, пожелалось бы. А чтобы жениться, чтобы Змглодка, дочь полутурки, была здесь барыней, такой же, как была наша матушка, и называлась так же госпожой Басман-Басановой… этого, Аркадий, дудки, никогда не будет!
— Жаль мне, братец, — выговорил Аркадий тихо, но опять не своим голосом. — Жаль мне очень, что ты так это понимаешь! Стало быть, мы только что помирились, хотели было на всю жизнь, а теперь пуще повздорим, потому что хоть весь мир Божий перевернется кверху тормашкой, а я на Санне женат буду!
— Скажите на милость! — отозвался Олимпий и, разведя руками, невольно рассмеялся.
— Да вот увидите! — вскрикнул Аркадий.
— И откуда это вдруг у него прыти набралось? — произнес Олимпий, как бы обращаясь не к брату, а к себе самому. — Просто фокусник! Слышишь — и ушам не веришь!
— Правду ты сказываешь. У меня никогда никакой прыти не бывало, потому что не хотел ее иметь. А вот теперь захотел. Какая охота вздорить с людьми из-за пустяков? Лучше сохранять спокойствие духа. А вот когда вас зарезать хотят, так тут с покойным духом не будешь! Тут сам полезешь с ножом.
— Это ты-то с ножом полезешь?.. — расхохотался Олимпий.
— Да еще как, братец! Пошибче много отважного!
— Ну, буде, брат, пустомельствовать! Мне не время! Сейчас идти заседать с этими чертями и о долгах рассуждать. Хочешь собираться жениться, ну, и собирайся! До сборов твоих никому никакого дела нет. А вот, когда ты совсем спятишь с ума и захочешь ехать в храм… Ну, тебя тогда возьмут и запрут!
— Кто же это? — вскрикнул Аркадий.
— Да хоть бы я!..
Аркадий изменился в лице, побледнел, хотел заговорить, но голос его задрожал.
— Ну, ступай, ступай! — произнес Олимпий. — Нечего злиться! От этой злости только раскиснешь и развоешься.
— Да как ты смеешь со мной так говорить! — вдруг наступая на брата, заорал Аркадий на весь дом.
Олимпий превратился в истукана… Он вытаращил глаза, разинул рот, отступил на один шаг и совершенно не верил, во сне или наяву видит он и слышит.
— Я тебе сто раз горло перережу, прежде чем ты, злая собака, высокский развратитель, злодей, убийца Гончего…
Аркадий наступил еще два шага на брата, а Олимпий снова попятился в том же состоянии оцепенения. Но затем он увидел, что брат схватил себя сам за горло. Действительно, Аркадий едва переводил дыхание и чувствовал, что он сейчас задохнется. И он вдруг махнул рукой на брата и пошел из комнаты нетвердыми шагами, пошатываясь, как слегка пьяный.
Олимпий совершенно невольно, бессознательно двинулся за братом и глядел, как тот шел по соседней комнате, потом по коридору, и тоже шел за ним, все глядя и все спрашивая себя:
«Что это? Кто это? Если это Аркадий, то не сошел ли он с ума? Если он не спятил, то что же это? Откуда же взялся этот Аркадий? И что же будет теперь? С этаким Аркадием вместе владеть всем состоянием и управлять им?»
И, когда брат его исчез, Олимпий остановился среди большого коридора. Если бы кто-либо увидел его в эту минуту, стоящего опустив голову, разводя руками, то, конечно, подивился бы и ничего не понял.
Впрочем, придя в себя через несколько мгновений, Олимпий удивился, что стоит среди коридора, и не знал, зачем он здесь, почему сюда попал. Он озирался. Затем, придя окончательно в себя, он вернулся в свой кабинет и через несколько минут был снова спокоен.
«Стало быть, — думалось ему, — по пословице «в тихом омуте черти водятся»! Но какие черти! Чертенята, бесенята, такие, что баба клюкой десяток перехлопает зараз! Сам разозлился, да сам же и задохся. И теперь, поди, плакать учнет. Не этакие страшны! Не тот страшен, кто с ножом на тебя бросается, со стола его схвативши, а тот, кто при этом ноже тайком ходит».
Но после нескольких минут спокойствия Олимпий в свой черед почувствовал медленный, но сильный прилив гнева, — и гнев не крикливый, не озорной, а спокойный. От такого гнева не задохнешься, а другого тихо задушишь.
Просидев в раздумьи около часу он чувствовал себя еще более озлобленным.
XX
Много передумав о нежданном объяснении с братом, Олимпий пришел к искреннему убеждению, что Денис Иванович давным-давно метил на простофилю брата и искусно подготовил все.
«А почему, — думал он, — брат, не дождавшись даже своего совершеннолетия, явился объяснить свою дурацкую затею? Очень просто».
Змглод прослышал или почуял, что он, Олимпий, хочет теперь обратить свое особенное внимание на его дочь Сусанну. Вероятно Змглоды догадались, что пока он не был полновластным владельцем своего состояния и был под опекой, то не решался действовать открыто относительно девушки, которая ему тоже давно нравилась. Теперь же все переменилось. Не нынче-завтра опеки никакой не будет, и ему стесняться уже не приходится.
Конечно, Змглоды — не крепостные, а вольные, но они живут в Высоксе, и на них привыкли смотреть, как на принадлежащих к заводам и, следовательно, подвластных Басановым.
«Да, наконец, это такое дело, что до суда не доходит, — усмехнулся Олимпий. — Это — не смертоубийство».
Разумеется, прежде всего он пожелал рассказать невероятное приключение своему любимцу Михалису и тотчас же послал за ним. Когда Михалис явился, то нашел Олимпия уже несколько спокойным. Узнав о приключившемся, Михалис удивил своего патрона тем, что был нисколько не удивлен.
— Этого следовало ожидать, Олимпий Дмитриевич! Я так давно полагал! Аркадий Дмитриевич именно такой человек… Совсем не такой, как вы. Вы швыряетесь направо и налево, все меняете свои любовные прихоти. А у него, поди, лет с четырнадцати, с пятнадцати застряла в голове Сусанна Денисовна, да по сию пору и торчит. И поэтому, конечно, он никогда ни на ком не женится, кроме нее. Теперь не допустите, он после женится.
— После? — выговорил Олимпий, подсмеиваясь. — После меня…
Михалис не понял и удивленно смотрел.
— Как после вас? — выговорил он.
— Да так! Нетто он захочет на ней жениться после того, что она станет моей любовницей?
Михалис помолчал, потом потряс головой и произнес едва слышно:
— Напрасно! Есть кого можно трогать, а есть кого и нельзя…
— Как это?
— Так, Олимпий Дмитриевич!
— Что же это? Стало быть, Змглодов мне не трогать? Бояться турки? Холопа?
— Дело не в холопстве и не в Турции. А говорю я вам: есть кого можно трогать, а есть кого и нельзя! Дениса Ивановича трогать опасно. Себе дороже выйдет! Не стоит того из-за смазливой девчонки свою жизнь подвергать опасности. Змглод за свою дочь зарезать может.
— Ну, это, Платон, так сказывается! Резать не так-то легко, да и не меня. Аркашку может зарезать, как курицу, кто захочет. Ну, а меня пускай кто попробует. Я и не с таким, как этот полутурка, потягаюсь!
— Напрасно, Олимпий Дмитриевич! Если хотите мне верить, то бросьте эту затею. Мало ли у вас тут этого добра было, да и будет опять? Вот только за последнее время вы что-то притихли, перестали гоняться за бабьем… Надоели, что ли?
— Как? Как? — почти вскрикнул Олимпий. — Не пойму я, что ты говоришь.
— Я говорю, что у вас столько перебывало прихотей, что вам Сусанна Денисовна, какая ни на есть красавица, не на редкость.
— Нет, не то, не то! Ты сказал, что вот это все время я притих? — рассмеялся Олимпий.
— Да, я сказываю, что вот за это все время, с зимы, вы бросили гоняться за нашими высокскими девицами, и никакой новой приятельницы у вас не было. Надоело, должно быть, или отдых какой себе положили, или дела, что ли, смущают заводские.
— Так, по-твоему, Платоша, я с зимы никакой прихоти не имел?
— Так сдается.
— Ах ты, шут гороховый! — вскрикнул Олимпий. — Все вы вот таковы, один глупее другого… А куда же я верхом-то пропадал? Ты же сам обижался, что я не сказываю, куда езжу. Забыл, что ли?
— Не забыл, да только догадался, куда вы отлучались… И знаю теперь, что это дело было не любовное, а заводское.
— Заводское?!
— Да! И понятно… Зачем вам в своей какой прихоти укрываться? Никто вам в этом перечить не станет. Все, что у вас было, всегда было навиду. После всякой новой приятельницы на другой же день вся Высокса знала, кто она, знала даже, надолго ли. Лучше вас знала! Помню, что про Пашку Барабанову вся Высокса сказала: «Ну эта на три дня!» Так и вышло, на три дня! Стало быть, если вы никогда не таились, то с какого черта стали бы теперь таиться? Да-с, вот что! Вы думаете, я — дурак! Вы вздумали верхом уезжать неведомо куда через забор садовый, что разбирали вам. И это я знаю! Да и не я один, потому что вы все огороды дворовых потоптали конскими ногами. И ездили вы в лес, по дорожке, по которой дрова возят! Да-с! А вы думали, я этого ничего не знаю?!
Михалис усмехнулся и замолчал, а Олимпий сидел, разинув рот, истуканом и как будто даже слегка смущенный. И после молчания он выговорил голосом, слегка доказывавшим волнение:
— Ну, ну… потом?
— Что потом?
— По дорожке этой куда же я ездил?
— Этого я, Олимпий Дмитриевич, не знаю, потому что понятно, за вами не приглядывал. Но говорил мне стряпчий из Владимира, что якобы он к вам с какими-то бумагами приезжал в лес на свидание. И вы совещались с ним, что предпринять и как быть ввиду окончания опекунства.
— Ай-ай-ай!.. — вдруг воскликнул Олимпий. — Ай, батюшки, вон оно что!..
Он рассмеялся, потом смолк, как будто думал о чем-то, потом начал опять смеяться и, наконец, начал хохотать.
Михалис вытаращил на него глаза, и вдруг ему почудилось, что Олимпий издевается над ним…
XXI
Однако объяснение с братом странно подействовало на Олимпия. Чем более он думал, тем более смущался и как-то запутывался. Он приходил поневоле к таким выводам и заключениям, что сам дивился. Не только дивился всему, что приходило на ум, но дивился себе самому.
Он как будто в себе самом нашел нечто, о чем не подозревал. До сих пор за последние лет пять или шесть он был сугубо тем, что называлось «бабьим угодником». Он постоянно влюблялся и был настолько же непостоянен и прихотлив, насколько быстро увлекался.
Вместе с тем он ясно сознавал, что все его любовные похождения не имеют для него никакого значения, и он, собственно, не может любить так, ка к другие. Каждый раз, что он сходился вновь, он тотчас чувствовал, что это опять прихоть, что он просто совсем неспособен сердечно привязываться к женщине.
Между тем была в Высоксе одна личность, которая ему давным-давно крайне нравилась как-то иначе. Ему казалось, будто эту девушку он мог бы полюбить надолго. Но он не знал, почему ему так кажется. Потому ли, что она действительно из ряда вон привлекательна, или же потому, что именно она-то одна для него и недосягаема среди всех женщин Высоксы.
Личность эта была красавица, дочь Змглода. Общее мнение и отношение всех к ней оправдывали чувство Олимпия. Действительно, она была в Высоксе и, пожалуй, даже во всем округе самой красивой, самой умной и, кроме того, от природы получила дар нравиться и молодым, и старикам.
И каждый раз, что Олимпий менял свои прихоти, переходя от одной к другой, при каждой новой связи какой-то тайный голос говорил ему:
«А все-таки не она!..»
Вместе с тем молодого человека, смелого до дерзости, до олицетворения собой того, что называется «о двух головах», не покидала надежда, что когда он сделается самостоятельным владельцем Высоксы вместе с братом, он может действовать смелее и, конечно, не побоится полутурки, смирить его и своей дерзостью, и большими деньгами. Он даст Сусанне Денисовне такой куш, что у нее явится большое приданное и она потом может отлично выйти замуж.
За это последнее время он ухаживал за Сусанной, был к ней всегда особенно ласков и даже нежен. Он видел точно так же, что и брат влюблен в нее, но он считал Аркадия неспособным даже и на любовь. Соперником своим он не мог его считать. Он побоялся бы всякого другого молодого человека, который стал бы увиваться около красавицы, но этот простофиля был, конечно, не страшен.
И вдруг теперь сразу он узнал, что этот простофиля победил его, не задумал то же, что и он, — взять красавицу, как наложницу, а задумал жениться. Вместе с тем он будто теперь только вполне ясно понял, как он относится к молодой девушке. Теперь как будто оказывается, что у него к ней какое-то новое чувство, которого он никогда не испытывал.
«Неужели же я ее люблю так же, как и другие люди любят, — так, как я считал себя неспособным любить?» — спрашивал он себя и дивился себе.
Оказывалось ясно, положительно, само собой, что он любит «Змглодушку», душою и сердцем привязан к ней. И узнал он это только в ту минуту, когда явилась угроза, что запретный плод так и остается запретным на всю жизнь. А представить себе теперь Сусанну Денисовну невесткой, женой брата он совершенно не мог. Он возмущался…
И когда вдруг он вообразил себе, как Аркадий женится, как явится в дом эта невестка, будет ежедневно у него на глазах, а затем появится на свет ее ребенок, Олимпий вдруг треснул кулаком по столу и закричал дико и отчаянно:
— Никогда!.. На все пойду!..
И, подумав несколько мгновений, он прибавил:
— На все!.. Как есть на все!..
И в эти слова «как есть на все» он мысленно включил и убийство брата, и собственный брак с Сусанной. Говоря «все», он действительно решался на все.
Но, задав себе вопрос, что теперь делать, и скорее, он пришел к убеждению, что одному действовать нельзя. Нужно найти помощника отважного и умного.
Разумеется, таковой был под рукой, уже доказавший свое искусство на темные и страшные дела. Он был виноват перед этим человеком, но вину свою не считал великой, ибо вполне поправимой. Такой малый, как Платон Михалис, за деньги продал бы родных отца и мать, а следовательно, деньги, и не очень большие, вполне утешат его в том, что приключилось с его сестрой. И хотя он как-то даже удивительно обожает Тоньку, но деньги ему дороже.
Одно обстоятельство немного смущало Олимпия. Чтобы победить глупенькую, но оказавшуюся довольно упрямой, Тоньку, он пошел на крайнее средство — на обман. Он обещался ей жениться на ней, как только минет совершеннолетие брата, и он сделается сам независимым от опеки. Девушка поверила и сдалась.
Из своего разговора с Михалисом о том, что он за последнее время никакой женщиной не занят, Олимпий убедился, что Тонька не обмолвилась ни единым словом с братом об их отношениях. Почем знать, может быть, она из боязни брата и совсем промолчит, утешится и выйдет замуж за кавказца Абашвили, который в нее влюблен.
Во всяком случае Олимпий решил тотчас же начать действовать, что-либо предпринимать, что-либо затевать. Ему пришло на ум, что Аркадий, этот новый Аркадий, которого он как бы вновь узнал, способен, конечно при содействии всей семьи Змглода, вдруг тайно обвенчаться с Сусанной даже до своего совершеннолетия. И тогда все еще более запутается. Он, Олимпий, захочет все-таки добиться своей цели. А она будет уже не Змглодушка, а будет госпожа Басман-Басанова. Теперь дело мудреное, а тогда будет преступное.
В тот же вечер Олимпий, оставшись наедине со своим наперсником, объяснил ему все и даже подробно, даже искренно, не скрывая и того нового чувства, которое сам в себе нашел. Горячо объясняя и доказывая Михалису, что он серьезно любит Сусанну Денисовну, что сам этого не знал и только теперь почувствовал, Олимпий, одновременно, как бы себе самому, окончательно разъяснил все и увидел ясно, что он сам в себе не ошибается.
Кончилось тем, что он дал слово Михалису, что если дело не удастся, то он положительно готов на то же, на что давно решился брат.
— Да, Платон… Пойми это! Помогай мне на все лады! Добьемся — я тебя озолочу, не добьемся — делать нечего… поеду венчаться в церковь!
И молодой человек говорил это искренно. Решение же это еще более утвердилось в нем, когда он увидел, что Михалис нисколько не удивлен, напротив того, понимает все и оправдывает все.
— Что же, Олимпий Дмитриевич, — решил Михалис, — самое простое дело! Я полагал, что вы никогда не женитесь, потому что неспособны любить одну и ту же женщину, по природе изменчивы. Но если вы можете любить, как все другие люди, то уж, конечно, из всех, кого мы знаем, можно любить вам только одну Сусанну Денисовну. И если жениться вам, то опять-таки на ней. Кто же, кроме нее? Никого нет! И во Владимире нет! Разве вам в Москву да в Питер ехать искать невесту? То — другое дело. Но от добра добра не ищут! А что Сусанна Денисовна будет барыней Басман-Басановой такой, какой и не бывало еще, такой, которая, извините за правду, будет поважнее, покраше и подостойнее даже самой вашей матушки Дарьи Аникитичны, то в этом и сомневаться нельзя! А что она, может быть, опостылеет вам после, и будете вы раскаиваться, что женились, то этого вперед решить нельзя. Может, так и будет. Но не в том дело. И на другой женитесь, то же будет еще скорей. Я полагаю, что Сусанна Денисовна дольше заставит вас себя любить, чем какая иная. А потом, когда надоест она, и приметесь вы за старое, то барыня в Высоксе все-таки останется красавица и умница, которую все будут любить и уважать. Да, вот мой вам совет, Олимпий Дмитриевич, уж коли жениться вам, то конечно, на ней. Более подходящей нет!
— Ладно, решено!.. — весело воскликнул Олимпий и прибавил: — Ну, а пока как? Пока что делать?
— Пока, понятно, постараться обойтись без храма Божия. А как? — надо подумать. Я вам говорил, что со Змглодом, Денисом Ивановичем, шутки плохие! Надо подумать, да подумать! И главное надо теперь держать ухо востро и глядеть в оба, что будет затевать и делать Аркадий Дмитриевич. Я тому верить не могу, чтобы он якобы оказался какой-то бешеной собакой. А если и вел себя этак, то это прозывается фырканьем. Знаете, дворной пес, который, страшно заливается, лает, редко кусается, а опаснее тот пес, который, не тявкнув, умеет цапнуть.
XXII
В тот же вечер Михалис был встревожен, а затем стал сумрачен. Тонька заговорила с братом по поводу слухов, которые стали уже бегать по всей Высоксе, о новой стычке между двумя недавно помирившимися братьями, но уже не из-за заводов, а из-за чего-то другого. Михалис, почти все говоривший откровенно сестре, рассказал ей и свой разговор с Олимпием. И он был сильно озадачен, а затем и опечален тем нежданным обстоятельством, о котором и не подозревал.
Молодая девушка, узнав, что Олимпий Дмитриевич давно влюблен в Змглодушку, да еще настолько, что сознает себя способным на ней жениться, побледнела, замерла, а затем чуть не лишилась чувств. На вопросы встревоженного Михалиса обожаемая им сестренка созналась, горько плача, что она влюблена уже с год в Олимпия.
Михалис не стал расспрашивать ее, как это приключилось, и изумлялся только тому, что он ограничился подозрением, когда Тонька упорно отказалась выходить замуж за Абашвили. Конечно, он тотчас и мысленно упрекнул себя в том, что якобы недостаточно обращал внимания на сестру.
Надо было быть с ней откровеннее, приучить ее, чтобы она приходила все сказывать про себя. Тогда он узнал бы о ее вспышке сердечной на первых же порах и мог бы, конечно, так или иначе спасти ее от бесцельной привязанности. Разумеется, слава Богу еще, что она только влюбилась и что он не воспользовался этим. Спасибо, что он первый наперсник Олимпия Дмитриевича, а она — его сестра. Иначе, конечно, и Тонька попала бы в число его прихотей.
— Вот тогда-то каково бы было? Помилуй Бог! — восклицал Михалис и, представляя себе подобное, он с испугом хватался за голову.
На вопросы сестры, что значит это повторяемое восклицание, Михалис ничего не отвечал. Он не хотел даже мысли подать сестренке о том, какой опасности она подвергалась бы, если бы не была его сестрой.
Разумеется, Михалис стал всячески усовещивать девушку, что ее привязанность — простая девическая глупость. Надо стараться скорее забыть и думать об Олимпии Дмитриевиче. Она ему не пара, а иди к нему в любовницы на несколько месяцев повело бы только к чему-нибудь страшнейшему.
Простившись с сестрой, отправив ее спать, Михалис собрался было тоже лечь, но был настолько смущен, что вышел на воздух прогуляться. Эта сестренка была настолько дорога ему, что он чувствовал ее горе точно так же, как и она. Его сердце заныло с тех пор, что он узнал, что и ее сердечко ноет.
«И как я не видал ничего? Как я допустил?» — думал Михалис.
Он утешался тем, что конечно, месяца в три все это пройдет. Если Тонька будет чересчур тосковать, то он возьмет ее, и они поедут во Владимир, а то и в Москву. Он стал размышлять о том, что Тонька еще такая молоденькая, почитай, еще девочка, что, конечно, живо забудет Олимпия Дмитриевича. И если не полюбит того же Абашвили, то полюбив иного кого, выйдет замуж и будет счастлива.
«Только одно обидно, — думал Михалис, — что теперь-то моя Тонюшка горюет, а помочь я не могу…»
Наутро проснувшись и встретившись с сестрой, Михалис ахнул… Никогда не видал он свою Тоньку такою. Девушка за одну ночь переменилась, как люди меняются разве за неделю. Она, очевидно, не спала, глаз не смыкала и проплакала всю ночь. Но это было еще не все… В лице ее была не простая девичья печаль, было даже не простое большое горе, а было что-то еще пущее, худшее, что-то страшное. Отчаяние до потери разума было написано на лице ее. Взгляд ее красивых глаз, которые еще вчера утром блестели девичьим блеском, сегодня был иной. Эти глаза сразу потухли и мгновениями смотрели будто неразумно.
Михалис испугался. Оказывалось, что сестренка была старше своих лет сердцем, что ее чувство было не ребяческое увлечение, а истинное, глубокое. Не в один месяц утешится такая, а дай Бог в год, в два забыть все и начать снова жизнь.
Михалис проходил целый день сумрачный. Когда Олимпий снова заговорил с ним о своей заботе, то он отвечал, что еще ничего не надумал, а про себя сказал:
«Не до того мне! Не до твоих затей! Да и чувства мои к тебе, дьяволу, переменились. Хоть и не виноват ты, что Тонька из-за тебя горюет, а все-таки из-за тебя».
И действительно, у Михалиса первый раз в жизни сразу явилось к его покровителю неприязненное чувство. Убежденный, что Олимпий ни на волос не виноват в горе сестренки, он все-таки относился к нему враждебно.
Прошло два дня, и вечером довольно поздно весь большой дом всполошился… В комнатах, где жил Михалис с сестрой, раздались такие отчаянные крики, как если бы кого-либо резали. Первым прибежал живший по соседству князь Абашвили и, распахнув настежь две двери, сделал то, что отчаянные вопли разнеслись еще громче по всему дому. Но Абашвили тотчас же выскочил из комнат назад и стал звать на помощь. Дежурная дюжина бросилась на его зов, некоторые из нахлебников, собиравшиеся ложиться спать, тоже побежали на крик.
Оказалось, что Платон Михалис бьется, чуть не катается на полу комнаты и кричит, как помешанный, диким голосом, с лицом белее полотна. И не только бьется он об пол, а рвет на себе волосы, бьет себя в голову, в лицо и в грудь кулаками. И бьет себя так нещадно, что сам себя одурманил тумаками. Тонька сидит в углу, в кресле, уткнувшись лицом в ладони, и ничего не предпринимает, к брату не подходит, а сама тоже будто обезумела.
Собравшаяся толпа на все вопросы никакого ответа не получила ни от брата ни от сестры. Молодую девушку увели в ее комнату, положили в постель, так как она казалась хворой. Но ни на один вопрос, к ней обращенный, девушка не ответила ни единым звуком.
Платона Михалиса тоже чуть не силком подняли с пола и усадили. Он постепенно успокоился, стих, но сидел на кресле, качаясь из стороны в сторону, как если бы мучился от болей в теле. Он тяжело дышал, изредка стонал, потом вдруг снова вскрикивал, как прежде, снова сжимал кулаки, собираясь начать себя бить в голову и в лицо. И его надо было схватить за руки. Затем понемногу он успокоился совсем и стал просить всех уйти. На вопросы, что приключилось, он отвечал только один раз:
— Получили мы с сестренкой весть из Владимира страшнейшую!
Когда все ушли и остался лишь один близкий друг, Абашвили, Михалис вдруг ухватил его за плечи, впился в рукава его сюртука судорожным движением, так что пальцы его захрустели, и потащил его. Рванув его на себя и будто не понимая, что делает, он заставил князя опуститься на колени около кресла. И в ту же минуту Михалис, припав к нему на грудь, повис головой на его плече и начал всхлипывать, как малый ребенок.
Через несколько мгновений Абашвили тоже вскрикнул. Михалис в трех словах сказал ему то, что сам в немногих словах узнал от сестры.
Тонька, задавленная своим горем, созналась брату в этот вечер, что она уже месяца четыре состоит очередной любовницей Олимпия Дмитриевича.
Поездки в лес по заводским делам теперь Михалис понял!
Горе усугублялось чувством ненависти и омерзения к извергу, который даже его, своего ближайшего друга, не пожалел… Единственное, что у него, Михалиса, на свете было, и то Олимпий Дмитриевич вырвал у него из рук, как сытый может вырвать кусок хлеба изо рта у голодного.
— Что теперь делать? Что теперь делать? — тихо, непрерывно повторял Михалис.
— Да, спустить такую обиду нельзя! — отозвался наконец Абашвили. — И знай, Платон, что я с тобой! Что ты решишь, на то и я пойду! У тебя сестру отняли, а, у меня… ты знаешь кого. Я все надеялся, что она когда-либо полюбит меня. И я бы за всю мою жизнь обожал ее до последнего издыхания… Но теперь, теперь…
Абашвили не договорил и махнул рукой.
XXIII
Через два дня вся Высокса, пораженная, толковала уже о другом, не менее удивительном приключении.
Барышня Сусанна Юрьевна вдруг середи дня явилась в переднюю и, обратясь тихо и ласково к дежурной дюжине, спросила:
— Не приезжал еще Онисим Абрамович?
Дежурные, остолбенев, стояли недвижно, тараща глаза, и молчали. Она повторила тот же вопрос и так же кротко… А затем среди всеобщего изумленного молчания двинулась и села около них на ларь… Было видно, что она не знает, где она, да и забыла, что спрашивала.
Один из дежурных бросился бежать с удивительной вестью к Олимпию Дмитриевичу. Молодой барин, нисколько не взволновавшись, с усмешкой двинулся в переднюю, но застал тетушку уже уходящей. Вернее, ее уводили. Старуха Угрюмова и горничная, которым тоже дали знать о приключении, пришли за барышней и позвали ее. Сусанна Юрьевна встала и тотчас послушно двинулась за ними.
Олимпий, смеясь, заставил себе снова все рассказать подробнее, а затем махнул рукой и ушел.
У него была, впрочем, своя забота и поважнее. Да к тому же он был, как без рук, без своего главного наперсника.
Несмотря на всякого рода сумятицу в доме, на обострившиеся отношения двух молодых людей, а за ними и двух лагерей — «бариновых» и «братцевых», главный коновод его партии, Платон безвыходно сидел в своей комнате. Он сказался больным и настолько, что якобы не мог явиться к Олимпию на его зов.
Впрочем, Михалис был действительно болен, и если у него не было никакой особенной болезни, то было страшное нравственное потрясение. Каждый раз, что в его воображении восставал облик молодого Басанова, какая-то дрожь пробегала по спине, и кулаки сжимались.
Михалис понял, что надо прежде вполне овладеть собой, а затем уже войти в прежнюю колею жизни.
На другой день после признания сестры и припадка, который сделался с ним, он, проклинавший ее накануне, снова отнесся к ней с прежней нежностью и горячностью, ласкал и целовал ее более, чем когда-либо, прося у нее прощения за свои бессмысленные слова.
Он понял, что его Тоньку прощать не в чем, она ни в чем не виновна. Вся вина падает на негодяя и изувера, а затем и на него самого. Как же было не уберечь сестру? Сумел быть для нее родным отцом, сумел быть когда-то ее нянькой, а не сумел теперь быть ее защитником от развратника.
В объяснение всего происшедшего Михалис рассказал всем, кто приходил навестить его, что капитал, который достался по наследству Тоньке и ему, пропал, благодаря его неосторожности. Деньги эти были якобы в руках у купца владимирского, который торговал лесом на Волге, разорился и скрылся. И все до единого поверили этой выдумке. Князь Абашвили прибавлял от себя, что и он виноват косвенно, так как этого купца познакомил с Михалисом.
Олимпий вечером, когда ему донесли о чем-то странном, происшедшем у Михалисов, несколько смутился, догадавшись что, быть может, Тонька, которой он за последние дни совершенно пренебрегал и даже не видал, вдруг призналась во всем брату. Но затем россказни о пропавших деньгах успокоили вполне и его.
«Не такая она, чтобы сдуру брату все бухнуть! — решил он. — Она умная… Да и он по сестре не стал бы так выть и кувыркаться. А вот деньги — это другое дело! Для этого человека выше денег ничего нет…»
Но вместе с тем Олимпий досадовал, что в эти дни обострившихся отношений с Аркадием у него не было главного советника. Всякий день посылал он вниз спросить, будет ли у него Михалис, и всякий раз получал ответ, что тот в постели, хворать не хворает, а ноги болят, как будто отнялись. Тогда Олимпий велел сказать, что сам побывает у наперсника. Михалис взволновался, но делать было нечего.
Ввечеру, ожидая молодого барина к себе в гости, Михалис стал просить и даже умолять сестру постараться овладеть собой и разыграть ту комедию, которую он подготовил. Вместе с тем он позвал на помощь и Абашвили. Все трое должны были вполне убедить Олимпия Дмитриевича, что все происшедшее у них и всполошившее весь дом было последствием потери состояния.
— Надо, Тоня, чтобы он и не подозревал, что ты мне все сказала, а иначе все пропало.
Олимпий явился посоветоваться с наперсником и спросить у него, когда он поднимется на ноги, чтобы начать помогать ему. Явившись, он удивился, насколько Михалис изменился, похудел, и главное удивился его странному взгляду. Михалис всегда смотрел далеко не ласково, а теперь взгляд его стал совершенно зловещий, лицо сохраняло отпечаток крайней озлобленности, даже голос его изменился.
Встретившись глазами с Михалисом, Олимпий на минуту усомнился, в деньгах ли дело. Не иное ли что? Но затем явившаяся молодая девушка, сам Михалис и даже князь Абашвили так красноречиво рассказали Олимпию Дмитриевичу о своей беде, о разорившемся купце, что умный и далеко не простодушный молодой человек был совершению обманут.
Через два дня после посещения Олимпия Михалис, поднявшись рано утром, объяснил другу Абашвили, что он чувствует себя отлично.
— Теперь за дело примусь! — сказал он.
И, глядя в лицо друга, Михалис так улыбнулся, что Абашвили задумался, а потом тихо вымолвил:
— Помни, Платон, я помощником твоим!
— И во всяком деле? — спросил Михалис, сверкая глазами.
— Во всяком!
— Какое бы я Дело ни надумал, ты со мной? Верно ли?
— Говорю тебе — верно!
— Ну, а если я возьму топор да пойду крошить всех в Высоксе, начиная с дежурной дюжины, — будешь ли со мной?
Абашвили долгим взглядом, пытливо и пристально всмотрелся в лицо Михалиса, по-прежнему сохранявшее отпечаток озлобления, и затем выговорил:
— Буду! Что бы ты ни затеял, я с тобой! Ведь твоя затея будет за Тоню, а она мне так же дорога, как и тебе.
Через час Михалис был у Олимпия и вошел бодрый, стараясь придать лицу веселое выражение.
— Ну, вот отлично! — встретил его Олимпий. — Нечего убиваться! Деньги — дело наживное. Да я же у тебя и в долгу за расправу с Гончим.
— Да, Олимпий Дмитриевич, воистину вы у меня в долгу… в двойном!..
И Михалис рассмеялся, но смех этот звучал фальшиво.
— Послушайте-ка, что я вам скажу! — произнес Михалис, тряхнув головой и подмигивая, как бы собираясь начать шутить.
Он присел к столу ближе к Олимпию и произнес нараспев:
— Нехорошо, Олимпий Дмитриевич! Приятель, приятель! Главный приятель, как вы сказывали. А все же вы со мной поступили предательски! Хоть и не Бог весть какая беда, а все-таки не хорошо!
— Что такое? — удивился Олимпий, так как вся фигура Михалиса не допускала возможности догадаться, о чем он заговорит сейчас.
— А вот что, Олимпий Дмитриевич: стыдно вам было мою сестренку погублять! Ведь она мне все сказала.
Олимпий разинул рот и сидел озадаченный. Его поразило не то, что Тонька призналась во всем и что Михалис знает все. Его поразило, как этот Михалис, обожающий сестру, легко относится к тому, что должно было бы его собственно заставить горевать.
— Удивились? — заговорил Михалис. — Неужели же вы думали, что Тонька мне никогда ничего не скажет? Понятное дело, рано ли, поздно ли должна была признаться. И вот что скажу я вам: вы должны теперь со мной поквитаться! За вами должок, как вы говорите, за расправу с безруким. А теперь еще должок, если не мне, то сестре. И вот если вы хотите, чтобы я продолжал вам служить верой и правдой и утешился, простил вам вашу стряпню, то дайте мне сейчас же деньги! Теперь, когда все наше за купцом пропало, самое время нам получить другое за наши труды… мои и Тонькины.
И Михалис рассмеялся, но от смеха его покоробило Олимпия.
— Хорошо! — отозвался он. — Я не отказываюсь! Я тебе больше дам, чем ты думаешь, я тебе пять, шесть тысяч дам.
— Маловато, Олимпий Дмитриевич!
— Пока шесть тысяч, а потом еще дам!
— Нет, уж как хотите. Или вы мне дадите десять тысяч, или я вам не слуга!
— Ладно! И на это согласен, только служи мне! Теперь самые бедовые времена, самые мудреные. Устрой мне мое дело с Змглодкой, и я с удовольствием отблагодарю тебя.
— А когда, я могу получить обещанное? — спросил Михалис.
— Вот как все устроится!
— Нет, Олимпий Дмитриевич! Мое последнее слово: теперь все дела у вас в руках и все деньги у вас. Денег в коллегии, я знаю, теперь набралось немало. Прикажите тотчас же принести себе, как бывало приказывал Онисим Абрамыч, десять тысяч и передадите мне их из рук в руки. А нынче ввечеру я начну работать, займусь Аркадием Дмитриевичем и Змглодкой.
Олимпий слегка колебался.
— Не угодно — как угодно! Тогда завтра я соберусь и вместе с сестрой уедем с Высоксы. И расправляйтесь вы тут одни, как знаете!
— Ну, все пустое! Сейчас прикажу принести!
И Олимпий, крикнув человека, написал два слова на имя коллежского правителя. Когда деньги были принесены, Михалис перечел их, положил в карман сюртука и заговорил добрее и веселее:
— Ну, а теперь, Олимпий Дмитриевич, пошлите опять в коллегию, прикажите прислать еще десять! Они есть, я знаю! На этих днях пермский богач-купец страшный куш привез в Высоксу. Так вот пошлите, чтобы еще принесли десять.
— Зачем? — удивился Олимпий.
— Чтобы мне их отдать!
— Что ты, с ума сходишь?
— Нет, с ума не схожу! И вы сейчас сами согласитесь. Желаете ли вы быть единственным владельцем всех Высокских заводов?
— Как единственным?..
— Так! Просто! Как если бы у вас брата и не было. Желаете вы, чтобы я так все устроил, что вам делиться ни с кем не придется?
— Да что же ты хочешь? Похерить Аркадия?
— Ни больше, ни меньше.
Олимпий потряс головой.
— Как же… родного-то брата?! — проговорил Олимпий едва слышно.
— Вон какие нежности на вас нашли! Вы подумайте. Ведь вы-то будете в стороне. Приключится несчастный случай с Аркадием Дмитриевичем. Он на глазах у всех сам помрет. Как? — то мое дело!
— Уж я и не пойму. Как же ты это так сделаешь?
— Да уж это не ваша забота! Говорю вам, на глазах у всех сам помрет. Никто его пальцем не тронет. А вы сделаетесь единственным владельцем, единственным богачом на несколько наместничеств. Тогда Сусанна Денисовна, не имея в виду Аркадия Дмитриевича, сама согласится на все. Даю вам слово! Она теперь предпочитает Аркадия Дмитриевича, как более тихого. А тогда ей выбора нет. И вот если вы пошлете за деньгами и дадите мне еще десять тысяч, то вы будете единственным владельцем всех заводов.
— Ну, нет, Михалис. Так нельзя! Надо подумать!
— Извольте! Думайте! Но только предупреждаю — долго думать я вам не дам. Иначе все дело пропадет!
— Почему?
— У меня есть сомнение, что Аркадий Дмитриевич хочет тайным образом обвенчаться, а углядеть за ним мудрено. Он может, не дожидаясь дня рождения, махнуть в церковь, — вестимо, не в Высоксе. Тогда все и пропало…
XXIV
Сусанна Юрьевна продолжала безвыходно сидеть в своих комнатах и проводила день в том, что лежала на постели на спине с открытыми глазами или бродила по комнатам без цели. Лицо ее страшно изменилось, и помимо того, что сильно исхудало, в нем было нечто странное, бросавшееся в глаза. Рот был как-то бессмысленно раскрыт, а взгляд блуждал или, останавливаясь изредка на каком-либо предмете, упорно приглядывался к нему, но без смысла. Во взоре будто не было сознания окружающего.
Казалось, что она ни о чем не думает, что она как бы спит наяву. Изредка она шептала все те же слова и фразы, которые сорвались у нее в первый день после катастрофы. Чаще всего она произносила, еле шевеля губами и неразборчиво, иногда же громко и ясно:
— Даже могилы нет!..
Однажды, проспав две-три ночи более спокойно, Сусанна Юрьевна объявила, что она будет говеть, исповедается и причастится. Несколько дней сподряд шла служба в большой церкви ради нее. Затем она исповедалась ввечеру и, собираясь наутро причащаться Св. Тайн в церковь, попросила обоих племянников быть в церкви и приказать быть всем нахлебникам и главным дворовым.
— Пускай вся Высокса, помимо заводских рабочих, будет в храме. Таково мое желание! — сказала она.
Действительно, наутро за обедней храм быль полнехонек, и не было только одних крестьян. Канцелярия и коллегия были пусты и заперты, так как весь наличный состав начальников и писарей был в церкви. После причастия и поздравлений Сусанна Юрьевна, благодаря каждого по очереди, каждого приглашала тотчас же в дом.
По ее просьбе и по приказанию Олимпия, в большом зале был приготовлен завтрак. Около полудня дом, и в особенности зал, были переполнены высокскими жителями, от двух молодых господ и до мелких писарей коллегии включительно. Отсутствовали лишь князь Абашвили, выехавший в Муром, и старик Змглод от обострившейся боли в ногах.
Внимание всех было обращено на барышню Сусанну Юрьевну.
Она казалась всем странной, взволнованной и со взглядом совсем особенным. Красивые большие глаза ее горели необычным огнем, и выражение их, да и всего лица, было какое-то озлобленное, будто зловещее.
— Что такое? — дивились и перешептывались все. — Совсем непонятно… Вот, вот, гляди, что она что-нибудь непостижимое выкинет.
И чутье людское на этот раз не ошиблось. Не прошло четверти часа, что все сидели за столом, как Сусанна Юрьевна, обратясь к обоим племянникам, заговорила твердым, почти строгим голосом:
— Я вот, недостойная, исповедавшись вчера, приобщилась сейчас Святых Тайн. И потому приобщилась, что на духу не сказала, не поведала батюшке всего, что следовало… Исповедуйся я по-христиански, то батюшка не допустил бы меня до святого причастия. Но я заглажу свой великий грех. Покаюсь сейчас пред вами, при всех… Мне мало было сказать на духу то, что я должна сказать, чтобы облегчить свою душу и получить прощение у Господа Бога.
Она не договорила от волнения. При всеобщей мертвой тишине за большим столом слышно было ее тяжелое дыхание.
Помолчав несколько мгновений, Касаткина обвела весь стол огненным взглядом, и снова раздался ее голос, в котором, казалось, слышалось теперь сдержанное и заглушенное волей рыдание:
— Непостижимая кончина Онисима Абрамыча для меня великое горе! Всем ведомо почему… Но это наказание Господне, которое я заслужила. И вот я и скажу за что… Олимпий, и ты, Аркадий… и вы все… знайте, что я виновата в смертоубийстве Аникиты Ильича. Я и еще… двое… я, Змглод и ваш батюшка Дмитрий Андреевич, — мы виновны в смерти вашего деда. Я и ваш родитель допустили, а Змглод, чтобы жениться на Алле Васильевне, его… его задушил ночью.
— Тетушка! Что вы сказываете? — воскликнул Олимпий. — В уме ли вы?
Слова племянника странно подействовали на Касаткину. Она будто озлобилась, оглядела всех за столом гневными глазами, будто грозилась всем, а затем заговорила, обращаясь к племянникам:
— Ваш родитель и я дозволили Змглоду задушить Аникиту Ильича… Это так оставить нельзя… вам, внукам. Надо судить… нас двоих. Меня Бог уже осудил и наказал, но этого мало. Я каюсь… Надо суд людской. Надо мне в Сибирь и каторгу идти…
— Тетушка… в полной ли вы памяти? — вскрикнул снова Олимпий. — Вы на себя можете… клеветать. Но зачем на нашего батюшку, на покойника безответного?..
— Вот! Бери! Читай! — громче и резче произнесла Касаткина, доставая из кармана и передавая ему сложенный листок синей бумаги.
Олимпий схватил его, развернул и стал быстро читать вслух.
Это было письмо от немца-доктора, писавшего Дмитрию Андреевичу, что он требует уплаты себе двадцати тысяч, иначе немедленно донесет, что по освидетельствовании мертвого тела Аникиты Ильича Басман-Басанова он удостоверился, что старик был задушен без внешних знаков насилия на шее, а по всей вероятности, подушкой…
Когда Олимпий прочел краткое письмо, то совершенно растерянно поглядел на тетку.
Сусанна Юрьевна выговорила:
— Деньги эти тотчас же были немцу выплачены. Если бы он клеветал, то Дмитрий Андреевич, конечно, ничего не уплатил бы…
— Но зачем… Бог с вами, Сусанна Юрьевна, — заговорил вдруг бледный Иван Змглод. — Зачем было вам и батюшке моему убивать Аникиту Ильича?
— Твоя мать была любовницей дядюшки, а Гончий из мести же донес ему, что я — любовница Дмитрия Андреевича. Дядюшка приказал немедленно мне и ему уезжать отсюда, идти по миру. И вот… Змглод женился… Дмитрий Андреевич женился… Я осталась здесь… Все это давно в Высоксе зналось, чуялось… Не зналось только, кто задушил Аникиту Ильича. Ну, вот теперь знайте! — вскрикнула Касаткина. — Знайте! И суд зовите!
И она, поднявшись из-за стола, двинулась вон из залы…
— Грех вам! Грех! — крикнул Иван Змглод ей вослед.
Она обернулась и выговорила:
— Пойди, спроси… отца и мать. Они то же скажут. Меньше всех виноват Дмитрий Андреевич. А истинный убийца твой отец… Я же виновата — дозволила… Суд все разберет.
И Сусанна Юрьевна вышла из залы.
Разумеется, все уже давно были на ногах, выскочив из-за стола вслед за молодыми господами.
Братья бессознательно сошлись вместе и молча вопросительно глядели друг на друга. Олимпий был гневен, а Аркадий, казалось, перепуган насмерть.
— Ошалела, что ли? — шептал Олимпий себе самому.
«Подстроено, что ли? — вместе с Олимпием думал робко Аркадий и подозрительно глянул на брата. — Подстроено, чтобы мне не жениться».
Разумеется, снова за стол никто не садился, и завтрак не окончился. Переполох за столом сообщился быстро и всем тем, кто не был в зале. Дворня, служившая за столом, разнесла тотчас по дому, а затем и по всем улицам молву о том, что приключилось, и все были равно поражены.
— Ошалела, сама не знает, что болтает! — повторяли многие со слов барина Олимпия Дмитриевича и вместе с тем не верили своим словам, а верили всему тому, что барышня поведала.
И все верили тем паче, что все это как-то подспудно, но единодушно всегда думалось всей Высоксе. Нового было только одно, что барышня назвала злодея. И если бы Денис Иванович был здоров, не сидел бы в эту минуту дома, а сидел бы за столом, то, конечно, по нему, по его лицу можно было бы наверное узнать, зря и со зла болтает барышня, или истину сказывает.
Высказав все, что хотела, Сусанна Юрьевна одна ушла спокойная, а десятки гостей и приглашенных, как ужаленные, повскакав со своих мест, долго толпились в зале, роились и гудели, как пчелы в улье. Мнения насчет происшедшего и всего сказанного барышней разделились резко. Все равно волновались, но всякий верил, тому, чему хотел, на свой лад. Только несколько человек, пораженные правдивостью голоса Сусанны Юрьевны, ее спокойным, точным рассказом, поверили вполне всему.
Во всяком случае все поняли, что теперь дело без суда не обойдется, и снова явится в Высоксу волокита, которая будет судить Змглода. А, пожалуй, вместе с ним и барышню Сусанну Юрьевну! Она себя не отстраняет, сама во всем сознается и сама просит расследования и наказания.
Понемногу, без всякого приглашения со стороны молодых господ, гости стали расходиться один за другим — кто по своим комнатам, а кто по своим домам. Братья, будто очнувшись, вышли вдруг, каждый к себе. Люди стали убирать со стола посуду и кушанья, которые были даже и не тронуты, и все, от буфетчика до последнего мальчугана, глядели, как помешанные.
То, что случилось тому назад без малого двадцать пять лет в этих барских хоромах, вдруг всплыло и каким-то страшилищем явилось в дом.
— Страшное дело! Страшное дело! — повторяли все так, как если бы старый барин Аникита Ильич был умерщвлен в это самое утро.
Прошли целые сутки, а все еще ходили, как в чаду, и все от мала до велика, от двух Басановых до дворовых людей, смутно сознавали и будто сами себе внутренне говорили:
«И зачем было ей?.. Какая же польза?..»
Олимпий был глубоко возмущен двумя поклепами на его отца… Если был кто-либо на свете для молодого человека когда-либо дорог, то это был для него отец. И он даже к памяти отца относился с особым чувством, чуждым его натуре.
А тетка обвинила его отца при всех и в том, что он якобы был ее любовником, состоя уже женихом, и вдобавок в соучастии в гнусном преступлении.
— Ах, дьявол баба! — восклицал Олимпий.
И более суток просидел он у себя, не принимая и не видя никого.
Аркадий, не только смущенный, но совершенно пораженный, чуть не слег в постель от потрясения. Он тотчас сообразил, какие последствия будет иметь дикое заявление тетки на его личную судьбу, на его счастье.
Отца его возлюбленной, полу невесты, обвиняют в убийстве его же деда… А пока все это распутается да разрешится благополучно, что времени утечет! Да и неизвестно, как все это еще кончится. Поговорят и бросят или будет в действительности суд и расследование.
И Аркадий был в полном отчаянии. Целый день пролежал он у себя на диване, запершись, не видя никого, как и брат. Десятки разов собирался он вскочить и ехать к Денису Ивановичу и заговорить с ним…
О чем! Спрашивать, убийца ли он его деда?
Аркадий понимал, что это был бы бессмысленный поступок и обидный для старика. Что ж делать?..
Между тем Иван Змглод тоже не шел к нему… Он ушел домой после завтрака и пропал.
Но не мудрено было Аркадию потеряться, когда и Олимпий не знал, что делать. Когда он вышел от себя, все окружающие — и свои, и гости — стали сбивать его еще более столку своими советами и увещеваниями, совершенно противоречивыми. Одни убеждали немедленно начать дело, не оставлять преступления, хотя и давнишнего, безнаказанным. Другие убеждали, что поднимать дело ни к чему не приведет, кроме глупой огласки.
Доказательств преступления и тогда не было, а теперь, конечно, еще мудренее найти улику. Помимо тогдашнего крайнего смущения и даже болезни Змглода, не было против него никакой улики.
Конечно, не мало изумляло всех, что из дома Дениса Ивановича нет ни слуху, ни духу: он вовсе не хочет оправдываться, только отмалчивается! Однако те, кто знали его поближе, любили и уважали, объясняли это молчание его самолюбием и гордостью.
— Зачем безвинному человеку, — говорили некоторые, — себя оправдывать? Пускай суд приезжает и разбирает!
Письмо немца-доктора, которое сначала показалось очень веским доказательством преступления, теперь разбирали и понимали совершенно иначе. Говорили, что немец просто хотел выманить крупную сумму денег от нового владельца Высоксы Дмитрия Андреевича.
А если Басман-Басанов, только что женившийся, откупился, заплатил требуемое, то это деяние совершенно простое, естественное. Молодому Басанову не хотелось, чтобы первые дни его брака были омрачены соблазнительными толками и приездом суда в Высоксу. По доносу доктора, хотя и клеветническому, конечно, немедленно сочли бы долгом отправить в Высоксу волокиту.
XXV
Через три дня дело сразу повернулось иначе. Высокса решила: обстоятельство, что Сусанна Юрьевна, обвиняя Змглода и Дмитрия Андреевича, обвиняет и самое себя, требуя суда и над собой, собственно ничего не доказывает! После нечаянной погибели Гончего Сусанна Юрьевна слишком горевала, и, может быть, это отразилось и на ее разуме.
Это предположение, которое явилось у кого-то из гостей, менее чем в сутки стало искренним убеждением всей Высоксы.
— Сусанна Юрьевна спятила. Сумасшедшая! Вот и все объяснение.
Предположение это казалось так естественно, что никто ни на минуту не усомнился в его правдивости.
Наконец, стоило теперь только поглядеть пристально на барышню, которая еще недавно была красива, несмотря на свои годы, стоило только внимательно приглядеться к ее глазам, прислушаться, что она делает и как ведет себя по ночам, бродя по своим горницам и разговаривая сама с собой… И все это явно доказывает, что она «не в себе».
И через три дня после переполоха и заявления барышни вся Высокса снова успокоилась. Разгадка всего была найдена… Барышня сошла с ума! Пройдет еще месяц, два, и она будет на стены лезть, кусаться начнет и не такое еще что выдумает да скажет. Недаром она сказывала, что Анька никогда не сгорал, что не нынче-завтра он приедет в Высоксу. Если оно так, чего же она убивается, чего же она исхудала и на мертвеца стала похожа? Понятное дело — умалишенная!
Между тем в то самое время, когда Высокса успокоилась, порешив, что все — выдумки сумасшедшей барышни, старики напоминали всем, что когда-то Высокса почла смерть старого барина загадочною. Многие тогда крепко верили, что он помер не своею смертью. Признание Сусанны Юрьевны не есть открытие новое и нежданное, а есть только подтверждение давнишнего тайного убеждения всей Высоксы.
Если бы был на свете Масеич, то он, быть может, теперь сказал бы свое слово, веское и решающее. Быть может, он и признался бы, за что после смерти старого барина и после свадьбы молодого барина он получил такие большие деньги в награду. За одну службу верную Аниките Ильичу Масеич никогда бы не получил такого куша. Очевидное дело, что ему тоже рот замазывали, однако не замазали. Масеич, никогда никого не называя, все-таки всегда сказывал, что кончина его барина странная. А кто, что и как? — он отмалчивался. Сын Масеича и внук поневоле теперь подтверждали это.
Однако Олимпий Дмитриевич недолго смущался. Михалис успокоил его и надоумил. Заявление Сусанны Юрьевны было как нельзя более кстати в помощь той затее, которая была теперь у них. Михалис в нескольких словах объяснил Олимпию, как они должны радоваться всему, что произошло, и как теперь должно действовать.
Брак Аркадия Дмитриевича стал совершенно невозможен, пока отец молодой девушки находится в подозрении, как убийца их деда. С другой стороны, Змглод попал окончательно в западню, находится в их руках.
Михалис взялся за все. Однажды, среди дня, он явился в домик Змглода и пожелал видеться с ним. Денис Иванович, вылежавший дня три или четыре в постели, был снова в своем кресле, хотя боли в ногах были сильнее, чем когда-либо.
Узнав о приезде Михалиса, Змглод, конечно, тотчас же сообразил, в чем дело. Он слегка изменился в лице и стал еще сумрачнее, но лицо его выказывало твердую решимость.
— Я к вам от барина Олимпия Дмитриевича, — сказал Михалис, садясь, — по важному делу, которое вас несколько удивит…
— Не думаю, чтобы удивило, потому что я знаю, в чем дело, — отозвался Змглод сурово. — Вы насчет того пожаловали, чтобы спросить у меня, убийца ли я Аникиты Ильича?
— Да. Простите… Но вы сами…
— За глупое дело взялись вы, — прервал старик. — Если я не убийца, то чужого преступления на себя брать не стану, выдумывать и клепать на себя не буду, как делает Сусанна Юрьевна. А если я действительно повинен в смерти Аникиты Ильича, то, двадцать пять лет промолчавши, не сознавшись, неужели я теперь сознаюсь? А доказательств никаких нет! Что я женился на Алле, якобы бывшей уже любовницей Аникиты Ильича, — это высокские дурацкие выдумки! А если немец в своем письме правду рассказывает, что якобы старый барин был задушен в постели, то разве это значит, что я его душил? Рассуждение, что по винтушке могли ночью пробраться к Аниките Ильичу только Масеич да я, а что всякого другого рунты бы остановили, — опять выдумки! В те времена всякий, кто знал пропускное слово, входил к Аниките Ильичу, когда хотел. И кто бывал у него по ночам — никому неизвестно! Может быть, его и вправду задушили. И вернее всего, что задушила-то женщина. Как бы он бодр ни был, а все же ему было много годов. Иная здоровая баба со зла, за насилие могла бы и двух таких стариков придушить. Вот все что я могу вам сказать! Я до сих пор молчал, потому что незачем мне было отвечать на всякую болтовню. А теперь, коль скоро вы приходите от молодого барина, который тоже будто бы хочет меня подозревать, то я вам и говорю. Передайте ему все то, что я сказал.
— Стало быть, вы, Денис Иванович, — спросил Михалис ехидно, — положительно можете Богом поклясться, поцеловать крест и евангелие, что вы в этом темном деле не участник?..
Лицо Змглода как-то передернуло, он собрался заговорить, но запнулся и затем не сразу, но ответил вопросом:
— Кто же это будет заставлять меня клясться и целовать крест и евангелие?
— Судьи, власти! — сказал Михалис сухо. — Олимпий Дмитриевич так дела этого оставить не может и не хочет. Стало быть, в Высоксу придет временное отделение, как было после убийства князя Никаева. И, конечно, суд займется делом, будет все расследовать. А виновных только и есть что двое — вы да Сусанна Юрьевна. К тому же она сама во всем сознается, стало быть, с ней и путаться суду нечего. Остаетесь вы один.
— Ну, что же? — глухо отозвался старик. — Как угодно Олимпию Дмитриевичу! Воспретить себя подозревать и судить я не могу. Я не знаю поэтому, зачем собственно он вас ко мне и посылал. Дать знать в губернию о том, что оказалось в Высоксе, и наместник сам вышлет кучу крючков и ябедников. Коли нравится Олимпию Дмитриевичу, чтобы в Высоксе опять была волокита, тем хуже для него! Мне же от этого худа никакого не будет. Вот все. Так и ответьте! И незачем ему было вас ко мне засылать.
— Я не все сказал, Денис Иванович! — начал Михалис более тихим голосом, как бы несколько стесняясь и не решаясь начать говорить. — Олимпий Дмитриевич приказал спросить у вас, желательно ли бы вам было, чтобы это дело не начиналось, чтобы он не только не стал вашим обвинителем, а стал бы порукой за вас? Желаете ли вы, чтобы в случае чего, если власти сами сюда нагрянут вследствие слухов… желаете ли вы, чтобы Олимпий Дмитриевич прямо чиновников одарил, чтобы они ничего не зачинали, а отправились восвояси? Желаете ли вы быть под судом или совсем не быть… спокойно жить-поживать, как и до сих пор?
Змглод пристально уперся в глаза Михалиса, долго глядел на него и, наконец, произнес:
— Да, понятно, желаю. Но согласиться на условие Олимпия Дмитриевича не могу… И никогда не соглашусь! Слишком оно дорого… по пословице, «себе дороже».
— Стало быть, Денис Иванович, вы догадались? — усмехнулся Михалис.
— Как мудрено догадаться! — злобно усмехнулся и Змглод. — Всякий мальчуган в Высоксе, который бы тут сидел теперь, догадался бы, чем я должен приобресть заступничество Олимпия Дмитриевича. Скажите ему от меня, что я человек вольный, а не крепостной его. Если я остался жить в Высоксе, то в собственном своем доме. А не уехал я Бог весть куда только потому, что моей Алле сначала хотелось быть около своего отца, сестер и братьев, а потом и привычка явилась. Второе, доложите Олимпию Дмитриевичу, что ведь я — не россиянин, меня в Высоксе полутуркой величали, да и теперь зовут. Кровь во мне была горячая, теперь поостыла, но когда нагрянет какая беда на меня или на моих, то моя туркина кровь опять может заиграть. Сын мой, Иван, малый добрый, но думаю, что и он поможет отцу защитить от злых людей родителей и сестру. И вот, выходит, что трогать нас никому не следует! Есть такие на свете Искариоты[36], которые способны, хотя бы, к примеру сказать, свою сестру, еще девчонку, любя и обожаючи, все-таки за деньги в любовницы продать кому-нибудь! Есть такие, сударь мой! И на Высоксе даже есть, но Иван мой — не из таковых, а я-то уж и того меньше!
Змглод замолчал, а Михалис был бледен, как снег, и не знал, что сказать. Но затем, оправившись, он вымолвил глухо:
— Знаю я, про что вы сказываете, только я знаю тоже, что это высокская выдумка, еще пущая, чем поклеп на вас Сусанны Юрьевны. Про себя же скажу, Денис Иванович, что вот Господь Бог видит, что я, к примеру, свою Тоню никогда бы за деньги не продал никому. Разрази меня Господь сейчас, если я лгу!.. Но не в этом дело. Скажите мне: какой ответ передать Олимпию Дмитриевичу? Сказать ему прямо, что вы предпочитаете суд и волокиту?
— Понятное дело, так и скажите!
Михалис вышел от Змглода сумрачный, озабоченный. Намек, который он слышал, был новым ударом для него. До сих пор он утешался только одним, что есть только три человека на свете, помимо Олимпия Дмитриевича, которые знают его тайну, его горе. Теперь оказывается, что Змглод знает тоже. Откуда, каким образом? Михалис тщетно ломал себе голову.
А если Змглод знает, то почему же не найдется другой кто? Может быть, и десяток людей найдется в Высоксе, которые все знают. А если эта ужасная тайна не есть тайна их троих — его, сестры и князя, то тогда все погибло. То, чем он, Михалис, теперь от зари до зари только и жив, погибло… И исхода нет! И горю со срамом исхода нет! А будущему счастью сестренки, о котором ему мерещилось, тоже никогда не бывать!
Михалис был настолько взволнован, что, прежде чем отправиться к Олимпию, прошел к себе. Затем, успокоившись, он поднялся наверх к барину и объяснил ответ Змглода.
— Ну, что же тогда, Михалис? Как же быть? Посылать гонца в наместничество?
— Вестимое дело, посылать!
Олимпий хотел было отложить писание письма к наместнику, но Михалис настоял на том, чтобы действовать немедленно.
— Надо скорей! Времени терять нечего! — резко сказал он. — Откладыванием вы ничего не выиграете! Надо припереть старого Дениса к стенке. Может быть, испугается, и тогда дело ваше само сладится.
Затея Михалиса была хитрая: поставить семью Змглода во враждебное отношение к Олимпию.
XXVI
Через три дня в Высоксе был уже чиновник от наместника, а за ним вслед явилось уже нечто знакомое старожилам, да и некоторым еще сравнительно молодым. В доме появились та же волокита. В числе прочих был даже один подьячий постаревший, оплешивевший, который когда-то действовал при следствии над Дмитрием Андреевичем.
Теперь дело было и проще, и мудренее… Тому назад пятнадцать лет расследовали дело, которое только что произошло, а теперь приходилось расследовать такое же смертоубийство, которое было двадцать пять лет назад. Но тогда виновный запирался, а теперь была налицо пожилая барышня, сама себя обвинявшая и все ясно и толково объясняющая.
Судебное отделение, поселившись в доме, тотчас начало свое дело, но тотчас же попало в самое удивительное положение. Главный начальник комиссии, пожилой человек, оказался каким-то совершенно редкостным чиновником. Это был князь Темнишев, крайне богатый человек, с большими связями в Петербурге и не только просто метивший в важные чиновники, но, по молве, должен был через несколько месяцев непременно сам занять должность владимирского наместника.
Вдобавок это был человек если не очень умный, то крайне добрый и правдивый. Одна беда была, он был новичок цо службе и сам теперь начинал запутываться в крючках своих собственных подчиненных.
Не прошло двух-трех дней после приезда отделения, как князь Темнишев был смущен более всех… То, что происходило вокруг него, совсем ему голову вскружило. А происходило нечто удивительное: его подчиненные, человек семь, полезли друг на друга, как злые собаки. Разногласица была между ними полная: что говорили одни, другие опровергали, чего требовали эти вторые, первые считали чуть не подлогами по службе, и так далее.
Конечно, что именно происходило в судейской среде и отчего был смущен сам князь Темнишев, было никому неизвестно. Знали про это из числа всех обитавших в доме только два брата Басман-Басановы и их два наперсника: Михалис, с одной стороны, и Ильев, с другой. Андрей Шлыков, конечно, всячески помогал Михалису и, как внук Масеича, мог помочь. Что касается до Ивана Змглода, то он, по желанию отца, отстранил себя совершенно от всего и только продолжал видеться с Аркадием Дмитриевичем.
Несмотря на толковое заявление Сусанны Юрьевны в среде чиновников мнения разделились. Одни верили госпоже Касаткиной, другие, по примеру Высоксы, считали ее умалишенной.
Разногласица дошла до того, что когда половина отделения решила немедленно заключить под стражу подозреваемого Змглода, то другая половина подняла целую бурю. Всегда слышал и знал князь Темнишев, что служба гражданская — дело нелегкое, что уголовные законы — целый лес, что суд и расправу чинить мудрено, но все-таки никогда он не думал, что попадет в такое сугубо трудное положение.
Ему приходилось, как главному начальнику, бороться не с подсудимым или свидетелями, за них или против них, а приходилось воевать с собственными своими подчиненными. И он вскоре увидел ясно; что из его следствия не выйдет ничего.
Решит он, что старый барин Басман-Басанов был когда-то умерщвлен и что виновны его племянница и полурусский человек именем Змглод, то в губернии или столице на основании его следствия все дело будет перевершено, потому что уж очень темно. Если же он теперь постановит заключение, что, несмотря на откровенное признание умалишенной барышни Касаткиной и в силу отрицания всего Змглодом, они нисколько не виновны, что смерть Аникиты Ильича была естественной, то и это заключение властями принято не будет.
— Так ли, сяк ли, — думал и говорил князь, — полная темнота, полная чепуха! И ничего поделать нельзя!..
Между тем если бы честный и добрый человек знал правду, то все бы понял. А правду эту знали два брата Басановы со своими наперсниками. И вместе с тем оба брата, враждовавшие теперь более, чем когда-либо, всячески таились друг от друга.
Все дело заключалось в том, что Олимпий сыпал деньгами, закупая судей, чтобы обвинить Змглода, взяв под стражу и отправить в город, обязав его семейство оставаться в Высоксе впредь до решения дела, но вместе с тем постараться припутать к делу и Ивана Змглода, хотя тот в дни смерти старика Басанова и на свете не существовал.
С другой стороны, Аркадий Дмитриевич при помощи своих двух наперсников занял в Нижнем огромную сумму денег и тоже сыпал тому же отделению, чтобы тетка была признана сумасшедшей, а Змглод был оправдан.
Самый умный из всех Михалис долго не мог догадаться, почему отделение медлит в своих действиях и, несмотря на огромные деньги, которые он от имени Олимпия Дмитриевича уже переплатил, ничего не предпринимает против Змглода.
Наконец, и он догадался… Он разделил мысленно комиссию на две части, чтобы разобраться и узнать, кого закупает Аркадий Дмитриевич. Спрашивать тех из чиновников, которых он одаривал, не вело ни к чему, так как они, принимая благодарность, никогда бы не согласились клеветать на своих товарищей, что они тоже принимают благодарность от младшего брата. Если хитер был Михалис, то он видел, что эти все крючки поистине хитрее чертей.
Однако Михалис все-таки добился своего, убедив Олимпия Дмитриевича скорей достать взаймы крупную сумму денег, так как наличных в коллегии уже не было ни гроша. Он убедил его закупить и тех, кто был за его брата и, следовательно, за Змглода.
И дело увенчалось успехом… Вскоре князь Темнишев со всем своим штатом выехал из Высоксы. Денис Иванович Змглод, взятый под стражу вместе с сыном, не были увезены во Владимир, как того ожидали, а остались в Высоксе в полицейском доме под стражей. Олимпий всячески настаивал, чтобы оба Змглода были увезены в город, и поручил это Михалису. Наперсник обещался всячески стараться, а в тайных своих переговорах с князем Темнишевым и его помощниками всячески сугубо и горячо настаивал, чтобы оба Змглода были оставлены под арестом в Высоксе. Кроме того, он добивался, чтобы Ивану Змглоду было дозволено отлучаться из-под ареста, по разрешению самого князя Темнишева. Сам же он брался за то, что оба заарестованные не убегут.
Если бы переговоры Михалиса с крючками и подьячими мог услышать или узнать Олимпий, то он не только бы изумился, а подумал бы, что Михалис ума лишился. Он даже и не поверил бы собственным ушам. Недаром князь Абашвили, которому Михалис иногда передавал подробности о своих действиях, тоже дивился другу, а иногда тоже таращил глаза и ничего не понимал.
— Христос с тобой! Ни черта не пойму! Говори.
— И нечего тебе понимать! — говорил Михалис, смеясь каким-то зловещим смехом. — Ты обещался быть со мной, помогать мне во всем. Следовательно, и помогай! И придет день, что и на нашей — на моей и на твоей — улице будет праздник! И праздник, друг ты мой, не за горами! Праздник этот будет как раз в день празднества совершеннолетия Аркадия Дмитриевича. Но помни одно, что этот день я, бьющийся как рыба об лед, буду как без рук, буду ни при чем… Вся сила будет в тебе! Будет у тебя дело, прикажу я тебе сделать кое-что, самое что ни на есть на свете простое и самое что ни на есть на свете важное. И вот тогда ты должен мне всей душой помочь. Тоне помочь! Ее спасение, ее счастье устроить! Своего счастия добиться!
— Слышал я это от тебя много раз! — отвечал князь.
— И все то же сказываешь, обещаешь?
— Да. Будь спокоен. Все, что прикажешь, исполню. Хотя бы и трудное, хотя бы и опасное. А ты говоришь, что оно легкое. За Тоню я на смерть пойду.
— Ну, спасибо. Но повторять буду сто раз все то же: будь готов! — со зловещим взглядом, сверкая глазами, говорил Михалис. — Пора нам быть богатыми и счастливыми.
XXVII
Наконец, наступил этот давно ожидаемый день рождения и совершеннолетия.
Празднование было давно подготовлено на все лады и должно было продолжиться три дня… Изобретательный Олимпий напряг все свое воображение, чтобы празднество было блестящим. Михалис помогал ему и придумывал тоже всякое… Так, придумал он между прочим устроить на второй день вечер с ряжеными, как на святках «машкерад». Олимпий делал все, конечно, не для брата, а для себя. Он праздновал свое личное вступление во владение состоянием, хотя пока и вместе с глупым братом.
«Пока!»
Да, эта мысль теперь уже не покидала Олимпия. Михалис сумел давно уничтожить в нем всякое колебание и всякое смущение, тем паче, что брал все на себя, да еще клялся, что он так устроит, что тот скончается вдруг, на глазах у всех, а виновных не будет.
«Как сделает он это? — думалось Олимпию. — Непонятно. Но Михалису нельзя не верить. Он жаден! А документ на обещанные ему еще десять тысяч, выданный ему, действителен условно. Если он ничего не сделает, то ничего и не получит».
За два-три дня до празднества все приглашенные уже съехались, и дом был переполнен. Самые почетные гости были размещены наверху и в комнатах двух братьев, которые потеснились, оставив себе по две комнаты, а остальные переделав в спальни. Некоторых нахлебников внизу совсем перевели из дома, очистив их помещение для менее важных гостей.
Приезжих из губернии и даже из Москвы было до сорока человек, а в их числе было немало лиц, которых братья лично почти не знали. Это были хорошие знакомые, даже приятели их отца, с которыми он подружился, будучи под судом и живя во Владимире. Братья еще детьми видели их всех на похоронах отца.
В самый день рождения Аркадия все поднялось рано и к девяти часам господа, гости, нахлебники, коллегия и канцелярия в полном составе, даже вся дворня — все направились в экипажах и пешком в главный храм к обедне. Служба была торжественная, потому что служил архиерей, приглашенный заранее со своими собственными певчими и с большим штатом священников и дьяконов.
Красивый, блестящий конвой из гусар стоял фронтом пред папертью, а за ним теснилась целая туча народа, рабочих и крестьян, так как работа на заводах была приостановлена на три дня.
По окончании обедни началось молебствие о здравии боляр Олимпия и Аркадия. Рослый и красивый дьякон, с замечательным голосом, своего рода знаменитость во всем округе, провозгласил многолетие… И голос его прогремевший в храме, разнесся и кругом него. В рядах гусар и толпы услышали явственно:
— Мно-о-гая… мно-о-о-гая лета! — подхваченное певчими.
И тотчас вся Высокса, огласилась гулкой пальбой из пушек, расставленных кругом храма.
Возвращение в дом было тоже торжественно. Коляски с двумя братьями, с архиереем и с тремя самыми почетными гостями двинулись шагом, предшествуемые и сопровождаемые гусарами в кафтанах, залитых золотом, и на великолепных конях. Кругом колясок шли скороходы в диковинных разноцветных нарядах с серебром и с киверами на головах, вокруг которых развевались красные перья.
Ничего подобного Высокса еще не видала.
Один из гостей из губернии, тотчас по приезде своем узнав, какое готовится празднование, заметил:
— Ну, этот Олимпий Дмитриевич из всех бывших Мономахов Владимирских будет самый прыткий, «помономашистее» и отца и деда.
После храма началось принесение поздравлений новорожденному… Аркадий смущался и сиял, и только изредка на лицо его набегала тень. Его пугал взгляд брата. Он видел в глазах Олимпия не только ненависть к себе, а какое-то зловещее злорадство.
«Ни дать, ни взять затевает что-то худое, — думалось Аркадию, — и уж, конечно, касающееся Сани».
А красавица Сусанна Денисовна, явившаяся в дом с матерью тоже поздравить молодого барина, была к тому же бледна и печальна. Судьба отца и брата, конечно, поразила ее.
После поздравления все разошлись отдохнуть, но в три часа снова гостиные переполнились, а в зале уже был накрыт стол на семьдесят с лишком человек. Вся Высокса была налицо. Все нахлебники и главные служащие коллегии и канцелярии были приглашены. Только и отсутствовали по-прежнему больная Сусанна Юрьевна и два Змглода.
Обед длился, конечно, долго, а для виновника празднества показался вечностью, так как Олимпий удивил всех и испугал брата, посадив около себя справа архиерея, а слева Сусанну Денисовну… Красавица всячески отказывалась от этой чести, когда все усаживались за стол, но Олимпий настоял упрямо на своем… Аркадий, севший на другом конце стола с двумя почетными гостями, лишился из-за ревности и беспричинной боязни и зрения и слуха. Он никого и ничего не видел и не слышал. Он видел только через весь стол одну свою возлюбленную, с которой Олимпий не переставал любезничать, как бы нарочно, будто напоказ всем, даже будто с тайным умыслом. Красавица Сусанна, печально бледная и видимо смущенная теперь тем, что от него слышит, отвечала сдержанно…
За тем же столом в средине была другая юная красавица, которая была еще печальнее «Змглодушки» и не отрывала глаз от нее и Олимпия. Это была Платонида Михалис.
А в то же время с нее не спускал глаз ее брат, и лицо его выдавало внутреннюю бурю. Платон знал, что его дорогая Тонька страдает.
Когда все поднялись, наконец, из-за стола, Михалис тотчас подошел к барину и выговорил весело:
— Олимпий Дмитриевич… Глядите что?
И он показал в окно на небо.
Сизая хмурая туча надвигалась с горизонта со стороны озера.
Было очевидно, что через час разразится сильнейшая гроза.
— Ох! Обида! — воскликнул Олимпий. — Вся половина дня пропала!
— Зачем! — рассмеялся Михалис. — Сейчас переменим. Гулянье в лодках и иллюминацию отложим до завтра. А сегодня прикажите машкерад.
— Отлично! — воскликнул Олимпий. — Да у всех ли готово ряженье?
— Как есть у всех.
И надвигающаяся гроза, опечалившая всех вдруг, стала причиной особой радости и ликования. Все, узнав, что прогулка отменяется и заменяется ряжением и танцами, только обрадовались… Все, у кого костюмы были еще не в полном порядке, бросились по своим комнатам придумывать, как обойтись или состряпать недостающее что-либо на скорую руку.
Сусанна Денисовна, сильно взволнованная после стола, прощаясь с Аркадием, тихо молвила:
— Я не буду ввечеру: душегрейка[37] еще не обшита галуном.
Аркадий печально поглядел на нее.
— Да и не до того, чтобы рядиться и плясать… Я боюсь…
— Чего? — глухо и испуганно спросил он.
— Так! Боюсь. Он Бог весть что мне болтал. Понять нельзя. Загадки… а страшно… Будто затевает что не сегодня-завтра злодейское!
— И я так-то думаю! Но помните… Помни, Саня, пока я жив, он с тобой ничего не сделает.
Сусанна не ответила и грустно поникла головой. Она не верила.
«Не отстоял отца и брата, — думалось ей. — Стало быть, и меня не отстоит».
В сумерки действительно разразилась сильнейшая гроза и грохотала два часа. Гром гремел и молния, сверкая, падала, казалось, над самым огромным домом. И басановские палаты трепетали будто пугливо под натиском небесного гнева… Стены дрожали, а в стенах, во всех комнатах шла гулко веселая суетня, чуть не сумятица. Все наряжались, а выходя и глядя друг на друга и в зеркало, хохотали до упаду. Только старики охали и крестились.
— Не в пору это скоморошество!.. Грех! Молитву читать надо. И свечу зажечь против грома небесного. И так-то не святки или масленица, а тут еще эта непогода, которая будто гнев Божий показует.
Однако около семи часов все стихло. Небо прояснилось, и после душного дня повеяло благодатною прохладой.
В восемь часов зал и все гостиные были переполнены ряжеными в диковинных масках и образинах. Все друг на дружку дивились. По предложению и по приказу, гостям и своим, заранее придуманному затейником Михалисом и объявленному Олимпием, все заранее тщательно скрывали и никому не показывали своих костюмов и масок. Никто не знал, в чем будут даже оба барина и главные гости.
И теперь в шумной, суетливой толпе ряженых нельзя было узнать, кого видишь, с кем говоришь. Было только одно обстоятельство, руководящее догадками. Были костюмы обыкновенные и недорогие, были совсем простые, и было с десяток диковинных, богатых одеяний, очевидно выписанных из столицы. А в числе прочих и двое нищих в рубищах и с мешками за спиной.
Пуще всех поражал, великолепием своего костюма из атласа и бархата турок в чалме, усеянной брильянтами, и с поясом, украшенным тоже самоцветными камнями. Все догадывались, что это «сам» барин Олимпий Дмитриевич.
Где и в чем найти и узнать другого младшего барина, все затруднялись и, наконец, стали говорить, что будто Аркадий Дмитриевич, ввиду непогоды и грома небесного, не захотел рядиться и отсутствует.
Затем прошел такой удивительный слух, якобы Платона Михалиса видели сейчас еще не одетого у него в комнатах около захворавшей вдруг сестренки… Но зато было другое совсем удивительное… Кто-то среди массы народа признал по голосу Ивана Змглода, якобы сидящего под арестом с отцом в рунтовом доме.
Гул, шум и хохот, едва заглушаемый оркестром полусотни музыкантов, все усиливался. Гости, постоянно очередно осаждавшие два буфета со всякими заморскими винами, становились все веселее. Даже сам турок, которого уже окрестили «господином салтаном», был будто слегка навеселе и, перестав картавить, дал возможность узнать себя по голосу. Он бродил по всем комнатам между ряжеными и, не стесняясь, говорил, что тщетно ищет двоих:
— Нет нигде Сусанны Денисовны и Платона. Я их ряженье знаю. Не могли же они вдруг заменить свои костюмы другими какими. Ну, Змглодушка, еще, пожалуй, надумалась, догадавшись, что я про ее ряженье пронюхал, а Платон был и сгинул.
Подойдя снова к буфету, «господин салтан» очутился в кучке веселых ряженых, а вплотную с ним оказался вдруг такой ряженый, что он ахнул… Это был петух… Как есть петух, весь в перьях с головы до ног, с гребешком и с диковинным хвостом.
— Ку-ку-рику! — пел он визгливо всякому над самым ухом и сделал то же и с «господином салтаном». Турок рассмеялся и спросил:
— Откуда ты петух взялся? Тебя не было.
— Куку. Сейчас из Москвы прибежал. Рику-у! — отозвался петух одним визгом.
И все кругом расхохотались.
Петух нагнулся над ухом турка и что-то шепнул ему.
— Вздор! — отозвался тот вдруг гневно, но слегка пьяным голосом, так как сейчас еще осушил до дна залпом уже четвертый стакан столетнего венгерского из запаса вин Аникиты Ильича.
— Верно говорю! — провизжал петух.
— Я сейчас прикажу и Михалиса с Тонькой и Абашвили силком привести… Как смеют не праздновать! — вскрикнул гневно турок, и всякий признал, конечно голос Олимпия Дмитриевича.
Петух снова наклонился над ним и снова шепнул что-то.
— Ладно… Пойдем… В маленькой желтой гостиной. А коли кто есть, прикажу выйти… ведь недолго расписывать будешь.
— В двух десятках словах все дело… и что ни слово — алмаз! — отозвался петух гнусливо.
И салтан с петухом двинулись через три гостиные в угольную маленькую. Там оказалось трое ряженых, весело болтавших, а на полу в углу сидел четвертый. Это был нищий с мешком.
— Господа, уходите. У нас дело важное. Беседа по секрету, — сказал салтан.
Гости или подозревавшие, или уже знавшие, кто в костюме турка, тотчас вышли из комнаты. Только нищий остался.
— Ну, а ты… Эй попрошайка… пошел вон! — крикнули ему.
Нищий хотел встать на ноги, но не мог. Он был совершенно пьян. Он встал на четвереньки, дополз до порога и ткнулся снова.
— Ну, черт с ним. Пускай лежит, — выговорил петух. — Спьяна ничего не поймет. Ну, слушай, господин салтан, и двадцати слов не будет. Слушай в оба… слушай. Когда какой изувер, развратник отнимет у брата сестру и у жениха невесту, да обманом ее губит, то за такое вот что с ним приключ…
Петух не договорил и взмахнул рукой над салтаном. Тот тихо вскрикнул и схватился за грудь. Еще два раза взмахнул петух рукой, в которой блестел длинный нож, и два раза с силой всадил его снова.
Турок, хрипя, зашатался и грохнулся навзничь на пол, обливаясь кровью, хлынувшей из трех ран. В отверстиях маски тоже показалась кровь.
Петух оглянулся на двери и шепотом крикнул:
— Давай!
Нищий вскочил, подбежал и набросил на голову упавшего платок. Затем он открыл и расставил мешок.
Петух будто встряхнулся, и костюм его из перьев сразу упал на землю, а на ряженом оказался другой — голубой, изображающий астролога. Он выхватил из мешка нищего красную мантию и набросил на себя. В то же мгновение нищий всунул нож в петушиное одеяние, тоже слегка окровавленное, а все вместе в мешок.
И оба бросились вон из комнаты.
Через десять минут дом ходуном ходил. Толпа перепуганных ряженых, поснимав и побросав маски и образины, теснилась в маленькой гостиной. Передние, и в числе прочих Аркадий и Михалис, стояли на коленях, над зарезанным Олимпием и всячески старались привести его в чувство, не зная или не веря, что он мертв.
Но старший Басман-Басанов был уже трупом.
XXVIII
На заре в Высоксе было столпотворение Вавилонское.
Не только заводские рабочие, но и крестьяне, приписные к деревням, все поднялось на ноги и забушевало. Толпы народа повалили отовсюду к барскому дому и осадили его. Казалось, что бурное серое море разлилось и заливает палаты.
Два враждебных лагеря сказались тотчас. «Бариновы» обвиняли «братцевых» в убийстве и грозились, не дожидаясь суда, расправиться с ними сами.
Начались драки между самыми отчаянными. Перед полуднем случилось уже несколько страшных драк, стенка на стенку, в разных местах Высоксы. Ввечеру все стихло, но едва занялась заря, как начались уже целые побоища. Разумеется, нападающими были «бариновы», а «братцевы» только защищались.
Однако дальнозоркие люди поняли, что дело вовсе не в любви к покойному и не в мести за него, a просто отчаянный заводский люд придрался к случаю побушевать безнаказанно.
На второй день, когда тело Олимпия Дмитриевича было уже положено в гроб и стояло в углу зала, и надо было готовиться наутро к похоронам, — по всем заводам был настоящий бунт. Уже не «бариновы» дрались с «братцевыми», а пьяные орды разбивали кабаки, а затем бросились разбивать и лавки с красным товаром на базарной площади.
В доме все были перепуганы… Гостей, конечно, уже не оставалось давно ни единого человека, так как они все еще в ночь и на заре после злодеяния умчались в разные стороны. Но нахлебники, служащие в коллегии и в канцелярии, и вся дворня — все струхнули, ибо не на кого было положиться…
— Будь зарезан Аркадий Дмитриевич, а жив Олимпий Дмитриевич, — говорили все, — тогда иное дело! И бунта бы не было!
Аркадий действительно сидел, как потерянный, в своих комнатах, не спал от волнения две ночи и не знал совершенно, что предпринять. Посоветоваться было не с кем. Единственный человек в эти минуты неоцененный, на которого можно было положиться, был Платон Михалис, первый друг покойного брата и, конечно, всегда относившийся к Аркадию враждебно, хуже, чем кто-либо другой из лагеря бариновых.
Однако теперь сам Михалис уже раза два-три являлся к Аркадию, умоляя его принять какие-либо меры. Он опасался, что пьяные толпы кончат тем, что ворвутся и в барский дом.
Наконец, из-за пьяных бунтов даже похороны могли бы ознаменоваться каким-нибудь прискорбным обстоятельством, какой-нибудь дикой выходкой.
Наступил день, в который по-настоящему следовало хоронить покойника, но сделать этого было невозможно. Побоища усилились повсюду, даже близ дома, даже в саду. Было уже несколько десятков тяжелораненых и около десятка убитых.
От пролитой крови заводская чернь как будто рассвирепела еще пуще. Толпы народа, окружавшие дом, бушевали и кричали, что не дозволят хоронить Олимпия Дмитриевича, прежде чем не приедет суд из губернии и не разыщет, кто смертоубийца.
— Довольно злодейств на Высоксе! — ревели голоса.
— Буде! Буде вам смертоубийствовать!
— Что за разбойное место!
— Больше не допустим!
— Пущай судят самого Аркадия Дмитриевича!
— Пущай нас в казну берут!
— Хотим быть государственными!
— Царскими будем! Царскими! А не злодеевскими Басановскими!
И пока Аркадий метался в своих комнатах, не зная, что делать, Михалис по собственному почину, как лукавый человек, стал совещаться с Сусанной Денисовной, единственной личностью, которая в эти минуты сохранила полное присутствие духа и решимость. И совершенно незаметно, как бы само собой, Змглодушка стала распорядительницей… так как Михалис, не добившийся ничего от Аркадия, на второй же день легко убедил Сусанну послать самовольно гонцов к наместнику от имени Басанова. Михалис хлопотал, опасаясь отчасти и за себя. Лагерь «бариновых», который страшно увеличился «братцевыми», иначе говоря, просто-напросто бунтующие заводские требовали, чтобы Михалис, как первый и главный наперсник убитого барина, стал их коноводом.
— Коноводом чего?! — восклицал Михалис вне себя. — Разграбления коллегии и барского дома?!
На четвертый день, однако, все приняло несколько иной вид. Слух ли добежал до губернского города о волнениях, или Змглодушка дослала к наместнику гонца от себя, но по распоряжению властей на заводах появилась команда солдат. За нею через несколько часов явился целый напольный полк с пушкой. Командир полка имел приказание усмирить все в двадцать четыре часа, хотя бы пришлось действовать оружием и пользоваться пушкой.
Действительно, в одни сутки все стихло и отрезвилось поневоле, так как кабаки были заперты, и к каждому приставлен караул, с приказом стрелять в тех, кто явится за вином. И, наконец, вслед за солдатами явился и суд, уже в третий раз!..
Но на этот раз во главе чиновников приказных и подьячих был сам губернаторский товарищ. Приехавшая комиссия имела грозный вид. Пошел слух по всем заводам, что якобы наместник послал уже донесение в Петербург, и будет доложено самому царю, что есть такое разбойное гнездо, которое надо или разорить, или взять в казенное управление. Иначе, мол, конца не предвидится смертоубийствам.
На пятый день, позже чем повелевал обычай, произошли похороны четвертого Басанова за каких-нибудь неполных двадцать пять лет. Похороны эти имели странный вид, потому что при выносе из дома и шествии во храм повсюду были команды солдат. Даже вокруг церкви расположилась целая рота, так как ходил слух, что после отпевания «бариновы» бросятся на «братцевых» и что самому Аркадию Дмитриевичу грозит беда. Однако отпевание и погребение в склепе под большим храмом прошло обычно, порядливо и без какой-либо беды. Затем ввечеру все было тихо.
И в Высоксе толковали уже о строжайшем приказе губернаторского товарища, чтобы все заводы были немедленно пущены в доход и чтобы тотчас всяк был на своем месте. Непослушным грозили огулом, заковав в кандалы, на канат гнать в город на расправу.
Разумеется, на следующий же день Высокские заводы пришли в такое положение, как если бы никогда ничего не случалось. Все заводы запыхтели и застучали…
XXIX
Между тем в доме было спокойно. Суд заседал в большом зале и чинил спрос. Все обитатели, однако, настолько уже привыкли к появлению волокиты в дом, что не казались вовсе испуганными.
Что касается убийства молодого барина, то из всех таких злодеяний, совершенных в Высоксе, оно было самое темное и самое диковинное. Был убит барин среди кучи пировавших и танцевавших гостей. Кто убил, было совершенно невозможно не только доказать, но даже и предположить.
Пущенный слух, что якобы Иван Змглод, отлучившийся из-под ареста, явился тоже ряженый в дом и зарезал Олимпия Дмитриевича, казался всем бессмыслицей. Еще если бы явился Денис Иванович, то можно было бы заподозрить, что это дело его мести, но старик после своего ареста от волнения лишился окончательно способности ходить и не мог двинуться из полицейского дома. А Иван Змглод, припутанный к делу отца, к такому делу, которое совершилось, когда его, Ивана, и на свете еще не было, не имел никакого повода мстить, зная, что этим отцу не поможешь.
Сначала суд почти уже склонялся было к мнению, что виноваты Змглоды, но когда председательствующий товарищ наместника узнал, в каких отношениях состоит к семье Змглода высокский владелец, то совершенно переменил мнение. Вдобавок, едва только совершились похороны Олимпия Дмитриевича, как Аркадий приказал объявить по всем заводам важную новость, как пройдет сорок дней со смерти брата, он будет венчаться с Сусанной Денисовной Змглод.
Однако, пока суд заседал и тщетно старался раскрыть преступление и уличить преступника в коллегии происходило нечто, пожалуй, худшее. В ней появились поверенные и ходатаи, а главное появился приезжий из Москвы чиновник, не имеющий ничего общего с владимирским отделением.
Дело было в том, что казна, а равно и кредиторы заводов сразу появились, каждый по своему делу. Если бы теперь посторонний умный человек заглянул в Высоксу, то понял бы, что тут началось столпотворение, и начиналось разрушение. То, что создал старик Аникита Ильич Басман-Басанов, теперь приходит к своему концу.
Волокита в доме, команды солдат около заводов и по заводским улицам и целая стая воронья в коллегии, небольшая, но роковая. Солдаты уйдут восвояси, приказные крючки, не добившись ничего, не добившись даже и взятки, тоже уйдут, но те, что орудуют в коллегии, останутся.
Молодой Басман-Басанов, высокский барин, владелец всего по закону, в действительности смутно всем представлялся как бы последней спицей в колеснице. Кто будет завтра на его месте барином-помещиком, — было совершенно неизвестно. Перейдет ли вся Высокса с заводами в одни руки? Или распадется на куски, будет разорвана на клочья? Или, наконец, будет все отобрано в казну?
Давно ли был долг в девятьсот тысяч, а теперь прибавилось еще по недавним документам двух братьев, и вся сумма перевалила за миллион. И вдобавок из-за чего? Чтобы якобы знать, своей ли смертью умер Аникита Ильич!..
Ко всем бедам прибавилась еще одна, которая, случись прежде, всех бы переполошила, но теперь эту новую беду все встретили безучастно, даже без особого любопытства.
Барышня Сусанна Юрьевна, давно становившаяся все страннее, окончательно сошла сума. Теперь в этом уже не было никакого сомнения.
Равнодушие, с которым она встретила известие об убийстве племянника, ее последовавший затем смех, и затем даже радость, ясно свидетельствовали, что она почти умалишенная. Но затем, вскоре же после похорон убитого, Сусанна Юрьевна начала вести себя, как совершенно помешанная. Она стала ходить по ночам по всему дому, врывалась ко всем, пугая дикими, бессмысленными речами спящих, или уходила и бродила по улице, по саду, заходя Бог весть куда.
Горничная и двое рунтов, приставленные к барышне, ничего не могли сделать. Когда ее останавливали силой, она начинала бороться, драться и страшно кричать на весь дом, как если бы ее резали.
А Аркадий Дмитриевич по совету многих убедился, что оставлять в доме тетушку опасно и для всех, да и для нее самой.
И однажды утром Касаткину посадили силой в карету и увезли в Москву, чтобы сдать в дом умалишенных.
XXX
Несмотря на всеобщее смущение и удрученное состояние, в котором находились все обитатели Высоксы, все-таки через десять дней похорон покойного Олимпия Дмитриевича в доме в нижнем этаже пировали гости. Было маленькое празднество в комнатах Платона Михалиса.
Бывший первый друг и наперсник покойного, не считаясь с родством, а только дружбой, счел возможным отпраздновать свадьбу своей сестры с ее давнишним нареченным, князем Абашвили.
В Высоксе все давно догадывались, что князь — жених Платониды Михалис, что он, ничего не имеющий, не прочь жениться на ней, имеющей свое состояние. Когда прошел слух, что Михалисы потеряли все деньги на каком-то купце, то все решили, что князь не женится на Тоньке. Но затем почти одновременно и за несколько дней до страшного злодеяния Михалис поведал всем, что его должник снова появился и ликвидирует свои дела и что, благодаря Бога, ни единого гроша у них не пропадет на нем.
Поэтому теперь не удивлялись и свадьбе Абашвили. Удивлялись только тому, что невеста, которая должна была бы ликовать, что выходит за давнишнего своего жениха, напротив того, какая-то диковинная, похудевшая, печальная.
Впрочем, все знали, что Платонида Михалис за последнее время сильно хворала и от каких-то болей внутренних плакала по целым дням и ночам: немудрено похудеть и печально глядеть.
После брака, князь и княгиня Абашвили вместе с Михалисом простились с барином Аркадием Дмитриевичем и выехали с Высоксы, чтобы никогда не возвращаться.
Но перед выездом своим Михалис передал председательствующему губернаторскому товарищу письмо в несколько страниц, которое он, укладывая свои вещи, случайно нашел у себя. Письмо это было адресовано к Олимпию Дмитриевичу, но никем не подписано.
Михалис объяснил, что это письмо пришло не из другого какого города, а было писано в высокском доме одним из гостей, которые были приглашены на праздник совершеннолетия. Назвать писавшего Михалис не мог за полным незнанием. Олимпий Дмитриевич не захотел ни за что ему назвать человека, от которого это письмо получил.
А между тем письмо это имело огромное значение. Писавший объяснял Олимпию Дмитриевичу, что он приехал на праздник, но денег с собой не привез и уплатить свой прошлогодний долг Олимпию Дмитриевичу не может не только теперь, но даже и через года два-три. И он просит его обождать уплату. А если Олимпий Дмитриевич будет, ввиду собственных стесненных обстоятельств, требовать эти деньги, то пишущий предупреждал, что он отомстит… и самым лихим образом. Олимпий в ответ потребовал, по словам Михалиса, немедленной уплаты. И вот этот гость и мог совершить и преступление, будучи в маске на бале, как и все прочие. Временное отделение приняло это письмо, как важный документ. И оно только еще более затемнило все дело.
Прошел сороковой день поминок Олимпия Дмитриевича, и через три дня в большом храме было торжественное венчание молодого барина Аркадия Дмитриевича с Сусанной Денисовной.
Этого все ждали и не удивились. Удивлялись только несказанно все от мала до велика, что накануне бракосочетания Денис Иванович и его сын Иван были освобождены из-под стражи по приказанию из губернии, куда ездил гонец с письмом от имени Аркадия Дмитриевича к самому наместнику. Их обязали только не отлучаться из Высоксы.
Через месяц уголовное дело о таинственной смерти старика Аникиты Ильича, тому назад без малого двадцать пять лет, было постановлено предать воле Божией. Одновременно было решено и дело об убийстве молодого Басанова. Злодей не был открыт, а первоначальное подозрение, что Иван Змглод виновен в этом злодеянии, уничтожилось само собой. Было нежданно вполне доказано нахлебниками, что в ту минуту, когда раздались крики о помощи, а Олимпий Дмитриевич, пораженный насмерть, лежал в крови на полу, Иван Змглод, действительно отлучившийся из-под ареста в машкерад, стоял около буфета и, сняв маску, пил прохладительное. Его видели в это мгновенье человек пять, и все единодушно показали это… На вопрос, зачем они прежде молчали, все ответили, что боялись впутываться в страшное дело.
Конечно, вся родня молодой барыни Сусанны Денисовны Басман-Басановой тотчас переехала на жительство в дом.
Но медовый месяц прошел почти печально, потому что было очевидно и молодым новобрачным, и всей семье Змглода, что Высокса в действительности уже не принадлежит Аркадию Дмитриевичу. Распутать дело было нельзя, а надо было спасти хоть что-нибудь и удалиться.
XXXI
Прошел год, и в красивой усадьбе на берегу Оки жила совершенно счастливая семья Басман-Басанова с родственниками. Аркадий Дмитриевич был все-таки богатый тульский помещик, владея двумя тысячами крестьян. Разумеется, это были крохи от прежнего состояния деда.
Высокса была продана для удовлетворения главных кредиторов, но казна согласилась ждать свой долг, так как покупателем явился важный сановник, наместник и покровительствуемый в Петербурге… князь Темнишев…
Однако через десять лет князь, запутавшись в мудреных заводских делах, чуть не потеряв свое прежнее большое состояние, сам попросил спасти его покупкой всего в казну.
И Высокса стала процветающим государственным имуществом, понемногу достигнув ценности в два миллиона с лишком. От прежнего не осталось и следа…
Но слава злодейского барского гнезда, где грозно царили и страшно погибали Владимирские Мономахи, далеко прошла и до сих пор жива!
Примечания
1
Околоток — окружность, предместье города, конец города. Впоследствии территориальная полицейская единица в городе. Объяснение помеченных слов приводится в конце книги.
(обратно)2
Камердинер — комнатный или приближенный служитель.
(обратно)3
Вольности дворянские — «Манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству от 18 февраля 1862 г.» Петра III возвестил на вечные времена свободу и вольность дворянству, которое отныне могло покидать военную службу по своему усмотрению (за исключением предвоенного и военного времени); совершать путешествия за границу.
(обратно)4
Приписные — (приписные крестьяне) — категория феодально-зависимого населения в России. Вместо уплаты подушной и оброчной подати приписные крестьяне были обязаны работать на казенных и частных заводах и фабриках, т. е. «приписывались» к ним.
(обратно)5
Наместник — глава местного управления в России в конце XVIII — начале XIX вв.
(обратно)6
Рунт (рунд) — поверка караулов, обход.
(обратно)7
Сотский — низший агент сельской полиции.
(обратно)8
Одноколка — двухколесный экипаж.
(обратно)9
Духовник — священник, который постоянно принимает исповедь.
(обратно)10
Завертелся турманом — турман — голубь-вертун. Иные турманы вертятся через голову, иные ничком, через хвост, другие боком, через крыло.
(обратно)11
Промемория — памятная записка, подаваемая начальству.
(обратно)12
Двунадесятые праздники — двенадцать главнейших праздников православной церкви: Рождество Христово, Крещение, Сретение Господне, Преображение Господне, Рождество Богородицы, Благовещение, Введение во храм, Успение Богородицы, Крестовоздвижение, Вход Господен в Иерусалим, Вознесение Господне, Троица.
(обратно)13
Коллежские — служители «коллегии» у владельцев Выксунских заводов.
(обратно)14
Стоящий покоем — стоящий в виде буквы П, которая в древне-русском алфавите называлась «покоем».
(обратно)15
Регент — дирижер и управляющий церковным хором.
(обратно)16
Прихотник — капризный человек.
(обратно)17
Четьи-Минеи — собрание книг Священного писания с толкованием. Составлены в 30–40 годах XVI в. под руководством митрополита Макария.
(обратно)18
Губернаторский товарищ — вице-губернатор, заместитель губернатора.
(обратно)19
Берлина — название дорожной коляски, изобретенной в Берлине.
(обратно)20
Шлафрок — просторная домашняя одежда без пуговиц, с большим запахом, так как подпоясывалась поясом. По покрою и назначению похож на халат.
(обратно)21
Блазни — соблазн, соблазнительные слова, поступки; смущать, совращать, наводить на грех.
(обратно)22
Верхний и Нижний суд — по «Учреждению о губерниях» 1775 г. были созданы Верхний земский суд, как учреждение судебное для дворян и Нижний земский суд. Первый являлся аппеляционной инстанцией по отношению Нижнего земского суда.
(обратно)23
Приказные — служащие в приказе, органе центрального управления России XVI — начала XVIII вв.
(обратно)24
Балабан — балбес, болван, неотесанный, глупый человек.
(обратно)25
Рыдван — большая дорожная карета.
(обратно)26
Гнать на канате в Сибирь — способ транспортировки преступников в Сибирь. С целью предотвращения побега, они связывались одним канатом.
(обратно)27
Подьячий — низший чин приказной администрации в России XVI — начала XVIII вв.
(обратно)28
Земские ярыги — низшие служители в приказах, которые несли полицейские функции.
(обратно)29
Сбитень — горячее питье, приготовленное из воды, меда и пряностей.
(обратно)30
Острожный — человек, находящийся в остроге — тюрьме, окруженной стеною.
(обратно)31
Стих (Стиховитый) — человек с капризным характером.
(обратно)32
Форейтор — кучер, сидящий на передней лошади при упряжке четверней и шестерней.
(обратно)33
Сенатский секретарь — должностное лицо, заведующее канцелярией в Сенате.
(обратно)34
Казенная палата — губернский орган Министерства финансов, заведовавший государственным имуществом и строительной частью.
(обратно)35
Стряпчий — В XVIII в. помощник прокурора и защитник казенных интересов.
(обратно)36
Искариоты — Иуда, предавший Христа был из города Кариот. Потому отсюда всех предателей называют Искариотами.
(обратно)37
Душегрейка — женская теплая кофта без рукавов.
(обратно)
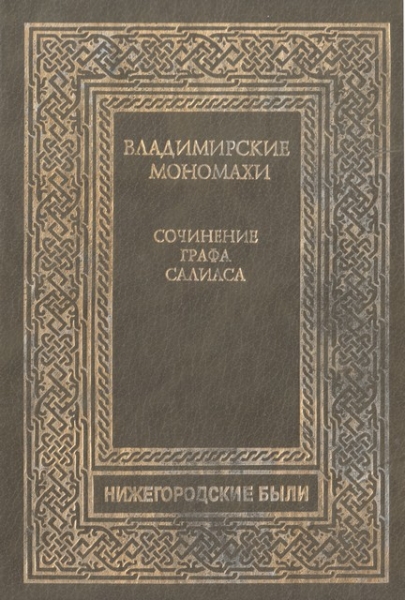


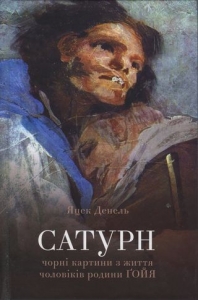


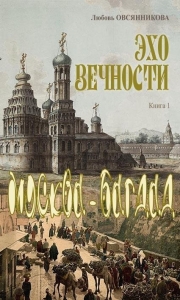

Комментарии к книге «Владимирские Мономахи», Евгений Андреевич Салиас
Всего 0 комментариев