Анна Нимова История зеркала (Две рукописи и два письма)
Пролог
Спешу, наконец, написать о давно ушедшем: ведь кто знает, сколько ещё мне суждено оставаться на этом свете… Брат Рене из Сент-Антуанского аббатства, вблизи которого я надеюсь провести остаток дней своих, уступил многочисленным просьбам и уже несколько месяцев в час краткого досуга от усердного служения Господу нашему обучает меня искусству письма. И теперь самая несказанная радость – видеть, как бестелесные мысли в моей голове обретают свою земную жизнь на этих хрупких листах. Хотя стоило ради этого тянуть почти шесть десятков лет? Не так уж и мало, мог бы выбрать дорогу покороче, Корнелиус…
Невинное приключение, выпав вам однажды, может послужить источником для всей жизни, и, если наполнится сей источник не радостью, но горечью и тоской, – всё равно един исход, вам придется испить его полностью, хоть это до конца дней лишит вашу душу малой надежды на успокоение.
Я точно знаю, что не искал приключений – они сами пришли за мной, я лишь послушно следовал неизбежному. Иногда я раздумывал, как сложилась бы моя жизнь, если бы не случился в ней тот вечер, много лет назад, или прислушайся я к наставлениям старших… «Никогда не заговаривай с незнакомцем!» – учил меня папаша Арно, конечно, он был прав… Но узнал бы я жизнь, как знаю сейчас? И самый главный вопрос: почему наш Господь всемилостивый захотел, чтобы я это знал? Сейчас я не верю в случайности. Тот вечер, когда в руках моих оказался сей незнакомый предмет, перевернул мою жизнь. Наверно, стоило отдернуть руку, но я доверился. Сначала глаза слепило острым лучом, а затем на дрожащей поверхности проступило бледное лицо, и мне сказали, что в нем есть я! «Колдовство, колдовство!» – шептал в ответ, так был поражен… Но и очарован. В памяти это осталось навсегда.
Годы прошли, прежде чем я смог осознать, что глупо жалеть о содеянном тогда и судить себя. Значит, не было на этом свете мне другого пути. Ещё порочнее – судить других. Нет, совсем не для того я решил учиться письму… Для чего же? Волосы твои, Корнелиус, давно потеряли цвет, морщин не сосчитать, глаза слезятся и с трудом различают буквы. А ведь был ты так же юн, как эти сорванцы, послушники аббатства, что во время мессы святой украдкой щипнут пальцем бок соседа и насмешничают, когда тот от неожиданности пронзительно вскрикнет. Но сколько же всего минуло с тех дней… И все эти годы ты хранил молчание, слова никому не молвил, что же теперь заставляет держать в руках перо, бумагу? Вопросы, вопросы… До сих пор помню, как начал их задавать, а вот откуда оно пришло, это желание знать… Воистину, озаряет нас свет небесный, когда просыпается желание познать неизведанное. Жизнь учила меня, но вот странно: чем больше я узнавал, тем меньше, казалось, я знаю, и тем больше вопросов рождалось. На многое мне был дан ответ, и по-прежнему смиренно я ожидаю, что Господь не сочтет мысли мои за дерзость и не оставит своей милостью.
Не решаюсь говорить об этом с братом Рене и другими братьями аббатства, опасаясь быть непонятым и лишиться их расположения. Но хочу оставить им эти листы и сказать на последней исповеди: пусть уж сами решат, как с ними поступить, сохранить ли в скромной своей библиотеке (в чем сильно я сомневаюсь) или положить со мной в могилу (что, скорее всего, и произойдет, так думаю).
О, искушение возвращаться в прошлое, где каждый твой день наполнен надеждой и потому обретает естественный смысл. Стереть бы эти проклятые годы, сделавшие из тебя немощного старца, медленно бредущего к последнему дню. Позволь мне, Господь всемогущий… Да святится имя твое… Да будет воля твоя… Уповаю на милость божью и приступаю.
Корнелиус Морассе1711 года, октября 21 дняАббатство Сент-Антуан, ПарижРукопись первая. История зеркала
1
Десяток ливров – не бог знает какие деньги, некоторые тратят их на обед, а за меня столько платили в год, когда через десять лет после рождения мой родитель определил меня на постоялый двор к папаше Арно. Двор стоял в нескольких часах езды от Лиона, но не на прямой дороге в Париж, а надо было съехать немного в сторону. Всего – четыре невзрачные постройки, в самой большой из которых находилась таверна, в остальных можно было расположиться на ночлег и поставить лошадей на отдых.
Первое время на постоялом дворе я сильно тосковал, но потом привык и был не в обиде. Дети-то часто замечают все не хуже взрослых. Я уже тогда понимал, что родители мои бедны, троих детей им прокормить трудно, а тут, получается, и деньги хоть какие, и чей-то рот всегда с куском хлеба. Поэтому отец и не отказался от предложения Арно отправить к нему одного из сыновей. Брат был старше меня двумя годами и уже помогал отцу и матери в хозяйстве, так что решили отдать меня.
У папаши Арно и его жены собственные дети не появились, но были две племянницы, уже не вспомню точно их имен… Своим семейством они жили в комнате над кухней таверны, а кухней служил небольшой закуток за грубой занавесью, где выпекали хлебные лепешки, жарили свинину и разливали вино в кувшины. На кухне мамаше Арно помогала одна из племянниц, другая девчонка и я разносили нехитрое кушанье гостям, убирали со столов после трапезы. На ночь я уходил в домик напротив, а точнее сказать, это были просто небрежно поставленные стены, разделенные внутри кривыми перегородками, и низко надвинутая крыша. Там же лежали набитые соломой тюфяки и старые тряпки, чтобы при желании было чем прикрыться в холодную ночь. Зимой, спасая от холода немногочисленных путников, мы разводили огонь в нарочно сделанном углублении ровно в самой середине, я же оставался ночевать в кухне.
Добряком папашу Арно я бы не назвал. Чаще всего он был хмур, за пролитое в спешке вино мог дать хорошую затрещину, но особой злости в нем не чувствовалось. Хозяйство его было небогатым, но налаженным, конечно, кто при достатках, к нам не заезжал, но мелкие торговцы и ремесленники, отправлявшиеся на заработки в ближайшие города, наш постоялый двор знали.
Бывали вечера, в особенности летом, когда в таверне шумно садилась за ужин дюжина гостей, ночевали у нас и одинокие путники. Некоторых из них папаша Арно был рад видеть, мог подсесть к ним и расспросить о делах, но для меня разговоры с чужими были под строгим запретом. Много разных людей ходит, как знать, где – хорошие, где – плохие, а случись что – объясняй потом судье, удача, если удастся отделаться одним штрафом. Словом, мое дело – донести вино, не пролив ни капли, да убрать со стола поскорее.
В памяти мало что сохранилось о тех днях. Лишь помню – шли они однообразно друг за другом и были похожи словно капли воды, разве что летом теплое солнце золотило макушку, а зимой приходилось увертываться от порывов ветра, царапавшего ледяной крошкой. Но когда тебе одиннадцать или около того, и ты ничего не видел, кроме постоялого двора и соседней деревни, где временами навещаешь родных, как-то не думаешь, что может быть по-другому.
Летом день начинался с первыми лучами. Едва светлело небо, двор оживал, и посвежевший за ночь воздух вновь наполнялся пылью, когда постояльцы, перекрикивая друг друга, укладывали вещи, выводили седлать лошадей. Но были среди них и такие, кто желал остаться незамеченным и быстро исчезал, не притронувшись к завтраку, чаще всего, больше мы их не встречали. Украдкой наблюдая эту суету, я смутно сознавал, что все люди разные и за каждым стоит какая-то особая жизнь, весьма отличная от той, к которой привыкли папаша Арно или жители моей деревушки. Этим людям дано проснуться в одном месте, а уснуть в другом, – думал я, – сегодня они завтракают у нас, а завтра – за сотни лье отсюда. Мысль эта вызывала неясное оживление, но разум мой спал, пока я носил еду, мыл грубо сколоченные столы и собирал остатки со столов. Двор постепенно пустел, так же угасало мое оживление…
Поздней же осенью и зимой, когда из-за нескончаемых дождей и снега дороги становились труднопроходимыми, часто по нескольку дней мы не встречали ни одного человека. О чем я тогда думал, коротая долгие вечера на полу в кухне? О том, что какая бы ни была холодная зима, все равно ей придет конец, и вслед наступят весна и долгожданное лето. Вспоминал прошедшее лето, прозрачный свет, разливающийся ранним утром, и разноцветных птах, ловко перепрыгивающих с ветки на ветку – стрекоча между собой, они поворачивали головки в сторону восходящего солнца. Вспоминал, как юркие рыбки мелькали в ручье за домом, и воду его, такую холодную, что сводило руку, которая несла ведро. Так неспешна и проста была в то время моя жизнь, что, будучи ребенком, я о грядущем думал как о прошлом, словно глубокий старик.
Минул первый мой год у папаши Арно… За ним – второй. Время тянется, когда ждешь чего-то, когда ничего не ожидаешь, дни пролетают незаметно. В то время я ничего не ждал, и мыслям моим было покойно. Думалось мне: так и буду всю жизнь работником на этом дворе, а если даст Господь, со временем заведу свое хозяйство. Так же гулко стану приветствовать гостя, тяжело усаживаясь рядом, заведу разговор о видах на урожай, напоследок прошепчу злое словечко о приставах – опять без зазрения требуют новую уплату, хотя платили налог не далее как в позапрошлом месяце. Словом, как это делал папаша Арно, ибо я не видел перед глазами ничего другого… И не было мне тогда дано знать, что судьбой уже предначертана для меня другая дорога. Есть на этом свете человек, с которым уготовано встретиться, который с каждым днем подходит все ближе и ближе ко мне, и вот уже нет такой силы, что разведет нас в стороны и не допустит нашей встречи. Встречи, которая всего лишь через несколько лет решит нашу судьбу, ибо я казню его, а он казнит меня.
2
Подходил к концу третий год жизни на постоялом дворе. Вспоминаю: осень 1665 выдалась на редкость сырой, пронзительно ветреной. Заморозков почти не было, от обильных дождей дороги совсем расползлись, и никто не стремился отправляться в путь в такую непогоду. Несколько дней кряду мы не видели ни души.
Дел оказалось немного. Племянниц папаша Арно отправил навестить родственников в деревню, сам же со своей женой был занят по хозяйству, я помогал им. В один из хмурых дней хозяин решил подправить дом, служивший для ночлега постояльцам, из-за своей старости тот уже давно накренился, угрожая однажды обрушиться прямо на головы спящих гостей. Помогая в работе, время от времени я посматривал по сторонам, и неожиданно поймал себя на том, что надеюсь увидеть путника, желающего получить еду и ночлег на ночь. Эта мысль удивила меня. Раньше, когда гостей становилось меньше или не было вообще, я был несказанно рад и предпочитал поспать, зарывшись в охапку сена или развлечься нехитрой игрой, складывая подходящие щепочки и разбивая горку ударом маленького камешка. А тут почувствовал себя как в первые дни у папаши Арно, когда грустил по родному дому.
Ещё раз оглядел знакомый до мелочей двор, видел его по многу раз, и вчера, и днями раньше – вроде всё то же, но вдруг проступило что-то новое, заставившее болезненно сжиматься. Неровные облака, переполненные влагой, от того тяжело нависавшие над размякшей землей, голые деревья с пустыми черными, как обуглившимися, гнездами давно улетевших птиц – все замерло, словно покоряясь неведомой воле, лишавшей их собственного движения. За открытыми настежь воротами виднелась размытая дорога, усыпанная обломками веток, и только прозрачная дымка крутилась над ней, единственно живая, сохранившая способность двигаться. Какая-то неприятная пустота подкрадывалась к нам, продвигаясь вперед шаг за шагом медленно, но неуклонно… Оставалось поглотить лишь эту дрожащую дымку.
Сквозь непривычную для себя задумчивость расслышал голос папаши Арно:
– Ну всё, на сегодня довольно, вроде как получше стало… До весны точно продержится. А там видно будет… Посмотрим, как доживем.
Не сообразив сразу, что он говорит со мной, я ничего не ответил, чем вызвал его удивление.
– Да, вижу ты, парень, замерз совсем. Собирай вещи, пошли скорее в дом.
В доме я согрелся, но ощущение пустоты не проходило. К вечеру почувствовал, что оставаться одному совсем тоскливо, и сказал, что хотел бы спать в кухне. Мамаша Арно равнодушно пожала плечами.
– Оставайся, кто тебе не дает… Да присмотри, чтобы печь не остывала.
Ночью, прижавшись спиной к теплой печке, я старался забыться сном, но никак не мог отогнать от себя унылую картину замирающих на долгие месяцы деревьев и дороги, укрытой густым холодным туманом. Словно кто-то нарочно прячет её на зиму, не желая, чтобы у нас нашли приют. И пройдут путники мимо, будут уходить дальше и дальше, другие люди их встретят, а вокруг нас по-прежнему будет кружиться эта нескончаемая пустота, – думал я, и беспокойство непрерывно теснило мою грудь. В ту ночь я не смог бы выразить словами, но теперь понимаю: причиной тогдашней грусти было нашедшее меня чувство одиночества.
Три последних года я жил среди нескольких взрослых, которым не было до меня никакого дела. Как и не было рядом человека, с которым мог бы сблизиться. Со мной редко говорили, а если такое случалось, слышал я не более десятка слов. Разговоры же с гостями, как уже упоминалось, были под суровым запретом. Но смотреть на гостей никто не мог запретить – это единственное, что оставалось, и с некоторых пор люди, в особенности новые, стали вызывать во мне любопытство.
В памяти моей всплывало грубое лицо торговца, удачно продавшего товар в Лионе, а в ушах стоял его оглушающий хохот, когда он рассказывал на всю таверну, как ловко сторговался с покупателем и выручил даже больше, чем ожидал. Случайные его приятели гоготали не меньше, пили за его здоровье, перебрасываясь грубыми шуточками, только вскоре разбежались. Сначала один вышел, облегчиться ему понадобилось, да что-то так и не вернулся, потом незаметно исчез другой, и пришлось торговцу с перекошенным от злобы лицом расплачиваться с папашей Арно за всю трапезу – так и утекли его легкие денежки. Ночью я слышал, как он ворочался за соседней перегородкой и в бессильном гневе сыпал такими проклятиями, что я под конец испугался, не вызовет ли сей мирный с виду человек самого черта.
Тот торговец был из знакомых, иногда заезжал к нам, но были другие гости, посетившие нас единожды и исчезнувшие навсегда.
Однажды со мной пытался заговорить монах, по виду – францисканского ордена. Вроде был тот монах ничем не примечателен: говоря о нем, и трех слов не наберешь. Я бы только смог сказать, что он невысок и вид имел угрюмый. Появился в нашей таверне вечером и сразу занял пустой угол, словно подальше от особого внимания. Посидев немного, монах без лишней надобности прикрыл голову капюшоном. И как раз к нему подошел папаша Арно.
– Что желает господин хороший?
Я стоял рядом с кухней и не услышал ответ, последовавший из-под капюшона, но заметил, как папаша Арно насторожился. Вроде он собирался спросить что-то, но, поколебавшись, громко крикнул:
– Эй, Корнелиус, воду и хлеб на этот стол!
Схватив ломоть хлеба и кувшин, я бросился вон из кухни. Когда я расставил скромное угощение, монах быстро глянул на меня, и я догадался, что смутило хозяина. Глаза монаха метались непрестанно, цепляли людей и предметы, но ни на чем не задерживались, скользили, загораясь беспокойным огнем, и, казалось, жили своей жизнью, отдельной от их хозяина. Уж не приступ ли лихорадки случился с ним в дороге, а может, что и похуже, – подумалось мне.
Я отходил от стола, когда что-то удержало край моей рубахи. Оглянувшись, увидел мелькнувшую руку монаха и ещё раз почувствовал на себе его скользящий взгляд.
– Я понял: тебя зовут Корнелиус. Ты давно живешь здесь?
Было в этом человеке нечто, заставившее меня остановиться. Говорил он глухим шепотом, но шепот звучал как последние раскаты грома после сильной грозы. Руки его не лежали спокойно, а без всякой надобности поправляли одежду, у меня мелькнула мысль, что неудобно монаху в этой одежде, и заметно она ему велика.
Не дождавшись ответа, монах зашептал снова:
– Давно здесь живешь? Верно, ты всех здесь знаешь?
Неизвестно, чем бы эти расспросы закончились, если бы папаша Арно не поторопился к нам подойти.
– Не сердитесь, мой господин, мальчишка этот мал да глуп, ему бы только поглазеть вместо того, чтобы работать… – и от звонкой затрещины у меня загудело в голове.
Благоразумным было поскорее убраться, что я не замедлил сделать. Прислуживая другим гостям, я старался не смотреть в угол, где оставил монаха, но чувствовал, как временами он посматривает на меня, и каждый раз, когда я против воли всё же поворачивался к нему, его беспокойные руки шевелились, словно делали мне знаки подойти.
Поев, монах продолжал сидеть молча, словно чего-то ждал. Сидел он сильно сгорбившись, опершись руками о стол, а его лицо совсем исчезло в капюшоне. Мне стало казаться, что он непременно хочет со мной говорить, и, верно, от этого я и сам сильно заволновался. Я то страшился наказания за нарушение запрета, то желал этого разговора, ведь до сих пор никто не обращал на меня самого малого внимания. От волнения у меня так задрожали руки, что добрая половина кувшина расплескалась прямо под ноги ужинавших. Увидев это, папаша Арно в ярости заорал на всю таверну, разговоры разом притихли, а странный монах будто очнулся от забытья. В величайшем беспокойстве он оглянулся, пытаясь сообразить, что произошло, потом как вспомнил что-то и потянулся к кожаному мешочку, болтавшемся у него на поясе. Бросив на стол мелкую монету, он, не говоря ни слова, пошел к двери, даже не спросив про ночлег, несмотря на поздний вечер. Это вызвало ещё больше удивления у папаши Арно: в те времена, как, впрочем, и сейчас, путешествовать ночью, да ещё одному, было делом не только неразумным, но и опасным. Однако удерживать его никто не стал…
Позже, уже собираясь идти спать, я слышал, как папаша Арно тихонько говорит жене:
– Сдается мне, и не монах он вовсе… Слышишь, Анна?
– Да, много лихих людей, такие времена, что и говорить, – только и сказала мамаша Арно, прибирая в кухне. Они были довольны, что столь подозрительный гость без лишних хлопот убрался со двора, и больше не заговаривали о нем. Я же ещё несколько дней вспоминал о его следящем взгляде, но потом успокоился.
В ту ночь я перебирал в памяти свои короткие встречи, и мне стало казаться странным, что одни люди словно наделены даром свободно выбирать себе дорогу, и дано им идти по ней. Опять я стал думать, что их новый день не похож на вчерашний, и сколько всего они смогут увидеть, узнать на своем пути, даже если это таит в себе некую опасность… А другие принуждены всю жизнь провести на одном месте… Сам ли человек решает, как жить, или ему дается знать? Верно, надо обратиться к Господу, чтобы наставил на нужный путь… Или человек всё узнает, когда приходит его время… Стараясь положить конец странным, как мне казалось, размышлениям, я шептал молитву, но сон всё равно бежал от меня. Первый раз в моей голове сложился вопрос, и не было ответа, который смог бы разом успокоить.
Далеко за полночь всё же начал дремать, когда увидел рядом с собой незнакомого мужчину. Я не слышал его шагов и не мог понять, как он очутился в кухне, спросонья решил: какой-то заблудившийся путник ищет ночлег до рассвета. Я уж было собрался крикнуть хозяину, но заметил бледный свет, разливающийся вокруг нас. Приглядевшись, увидел: свет тот исходит не от огня, успевшего к тому времени погаснуть, и не с улицы, коль скоро ночь, а от лица и рук мужчины. Тут я совсем очнулся и сообразил, что незнакомец никак не мог попасть в дом, ибо дверь заперта и въездные ворота тоже.
Душа моя наполнилась страхом, я чувствовал: не только крикнуть, слова вымолвить не могу, мужчина же продолжал стоять совсем близко от меня. Одет он был в темные одежды и выглядел человеком средних лет, хотя из-под круглой шапочки на голове выбивались совершенно седые волосы. Лицо его казалось скорбно и неподвижно, губ не размыкал, и скорее я почувствовал, чем расслышал голос, ему принадлежащий: В моей власти, Корнелиус, дать тебе ту дорогу… И более ничего не прибавил. От ужаса я закрыл глаза. Не могу точно сказать, сколько просидел, боясь пошевелиться, слушая удары, гулко бьющиеся в груди, пока, наконец, не послышались спасительные шаги с лестницы – это мамаша Арно спускалась в кухню, чтобы начать новый день. Открыв глаза и оглядевшись, я убедился, что мужчина исчез.
*****
3
Прошло ещё несколько дней – гостей по-прежнему не было. Взволнованный той странной ночью и необычным видением, я старался больше времени проводить вне стен таверны, ночевал в доме для гостей, а на кухню заглядывал с опаской – всё мне мерещился человек с седыми волосами. И хотя разум подсказывал, был он всего лишь сон, но слишком уж отчетливо запомнилось его обращение.
Выйдя одним ранним утром во двор, я увидел, что пронизывающий ветер, метавшийся по округе в последние дни, наконец, стих, а края неба окрашены бледно-желтым и розовым. День обещал быть солнечным, и я решил навестить родных прежде, чем выпавший снег скроет дорогу на долгие месяцы. Папаша Арно не особенно возражал, и тот день я провел дома.
Так Господь даровал мне видеть родителей, но не дал знать, что это наша последняя встреча… Много лет спустя я думал, как милостиво задумано создателем скрыть от нас будущее: кто знает, как бы мы распорядились своей жизнью, узнай всё наперед. Как бы я пережил тот день, зная, что нам не суждено больше свидеться? К счастью своему, я не ведал об этом.
Сумерки начали сгущаться, когда я возвращался на постоялый двор. Торопясь добраться, пока совсем не стемнело, я ускорил шаг, почти побежал, но внезапно остановился как вкопанный: мне почудилось, что на этой знакомой с детства дороге я не один, и из темноты прямо на меня надвигаются тени. Приглядевшись, я действительно различил сквозь деревья смутные фигуры – это были какие-то всадники, расслышал, как их лошади двигаются неспешным шагом, но голоса людей до меня не долетали, судя по всему, ехали они в глубоком молчании.
По мере того, как всадники приближались, стало возможным рассмотреть, что всего их семь человек, четверо наглухо закутаны в дорожные плащи, а лица прикрывали широкими полями шляпы. Трое же всадников лица не прятали, и даже надвигающаяся темнота не могла скрыть их важный вид, были они похожи на знатных особ, которых сопровождают слуги. Фигуры то скрывались за деревьями, то появлялись снова, но медленно двигались ко мне, встреча наша делалась неминуема.
В нерешительности я замер на дороге, не зная, что предпринять, ругая себя, что не успел вернуться к папаше Арно засветло.
Рано или поздно они заметят меня, и что хорошего может сулить такая нежданная встреча, – рассуждал я, – что может быть нужно знатным сеньорам в этом месте в столь неподходящий час? Для охоты время позднее… А если едут они по делу, то почему не торопятся, наступающая ночь настигнет их в лесу. Не найдя достойного объяснения, я не на шутку испугался. Ясно припомнился мужчина с седыми волосами, явившийся то ли во сне, то ли наяву несколько дней назад. Если людям здесь делать нечего, так, может, и не люди они, а принявшие человеческое обличие посланники Господа, отправленные нам за неведомые пока прегрешения, – подумалось мне, – а может, и не Господь их посылает…
Мысли кружились всё быстрее, и такой страх овладел мной, что, не справившись с ним, я сбежал с дороги и напролом через кусты, деревья, спотыкаясь, бросился прочь. Я надеялся, что смогу обогнуть всадников и, выскочив на дорогу позади них, добежать до постоялого двора, но совершил ошибку. Хруст ломаемых веток не мог остаться без внимания настороженно прислушивающихся ко всем шорохам, и, оказавшись опять на дороге, я понял, что меня заметили. Стараясь не оглядываться, я изо всех сил бежал вперед, но чувствовал, как всадники повернули лошадей и стали следовать за мной. Огромные тени почти бесшумно двигались за моей спиной. Окончательно уверившись, что они преследуют меня, я думал только об одном: как бы поскорее добежать до постоялого двора и выбраться из этой проклятущей темноты на свет. Губы мои пытались выговорить молитву, но слова мешались, ничего путного не выходило, и Господь, которого я отчаянно призывал, оказался бессилен помочь мне. К счастью, бежать оставалось недолго, и скоро впереди замелькали тусклые огни, едва освещавшие знакомые строения.
*****
4
Когда я вбежал на постоялый двор, уже совсем стемнело. Хозяева ждали моего возвращения и большие кованые ворота, обыкновенно запираемые на ночь, были ещё открыты. Задыхаясь, я всё так же бегом пересек пустой двор и распахнул дверь таверны. Папаша Арно, сидя за столом, доедал похлебку, его жена мыла тарелки возле кухни; услышав стук двери, они разом повернулись.
С трудом переводя дыхание и не в силах произнести ни слова, я повалился на стоящую рядом скамью, чем немало встревожил хозяев. Желания начинать рассказ о приключении на дороге не было, я сказал только, что поздно ушел из деревни, и очень торопился добраться, прежде чем наступит ночь. Мамаша Арно недоверчиво покачала головой.
– Странный ты какой в последние дни, Корнелиус, и что только с тобой происходит… То ходишь, ничего не видя – слова не добиться, а то несешься, потеряв голову.
Чувствуя себя почти в безопасности, я хотел уверить её, что ничего особенного со мной не случилось, как вдруг со двора раздались топот и фырканье лошадей, послышались голоса, кто-то громко позвал:
– Эй, хозяева! Есть здесь живая душа?
Папаша Арно проворно вскочил и, подхватив светильник, бросился к двери. В проеме я увидел людей на лошадях, но вот один спешился, за ним второй… Завороженно следил я, не в силах пошевелиться. Те, кто на ночной дороге казались видениями, при свете обретали вполне земную форму…
Схватив лошадей под узду, хозяин в раздражении крикнул:
– Черт тебя носит, Корнелиус, да помоги же!
Выбежав во двор, я придержал лошадь последнего спрыгнувшего на землю. Видно, устав в дороге, он решительно снял шляпу, и я снова замер. Ни у кого раньше не видел таких волнистых черных волос. Он пригладил их рукой, и послушно они окружили его лицо. Огоньки, отражаясь в темных, широко очерченных глазах, заставляли их то вспыхивать, то гаснуть, но не это казалось удивительным, а то, что был он совсем мальчик, едва ли сильно старше меня.
В тот момент один из тех, кого я принял за важных господ, а при свете разглядел, что одеты они в форму королевской гвардии, громко захохотал, тыча пальцем в мою сторону:
– Слава Богу, мы заметили этого мальчишку, он как полоумный заяц мчался по лесу, а то проехали бы мимо… Хозяин, нам нужен ужин и ночлег до утра.
Мне приказали поставить лошадей в стойло, после чего папаша Арно повел гостей в дом.
Управившись с лошадьми, я вошел в таверну. Гости ужинали. Спрятавшись за занавесью кухни, я с осторожным любопытством принялся их рассматривать. Несколько раз мне доводилось видеть королевских гвардейцев, когда они проезжали через нашу деревню в Лион, но не было ещё случая, чтобы гвардейцы почтили своим присутствием двор папаши Арно, очевидно, находя это ниже их гвардейского достоинства. А скорее всего, просто не было для них особой необходимости сворачивать к нам с прямой дороги. Как же могли они оказаться на затерянном дворе сегодня вечером? Возможно, ответ сокрыт не в гвардейцах, а в людях, с которыми они едут, – думал я.
Во время ужина, как и на дороге в лесу, гости предпочитали хранить молчание, лишь изредка перебрасывались словами, суть их мне была не слышна. Мальчик, которого я приметил во дворе, сидел ко мне спиной, напротив расположился пожилой мужчина. Крупные, резко очерченные черты его лица говорили, что, скорее всего, он родом с юга, но смуглая с темным отливом кожа, именно темная, а не загорелая, даже для жителей юга выглядела весьма необычно. Поверх рубахи из тонкого полотна на мужчине было надето что-то вроде кожаной куртки с короткими, доходившими до локтей, рукавами, перехваченной на животе широким ремнем с блестящей пряжкой. Одежда выдавала в нем городского жителя, а сдержанность, с которой он вел себя во время еды, окончательно укрепила во мне эту мысль.
Слева от него, с жадностью изголодавшего, поглощал куски свинины один из королевских гвардейцев, далее степенно управлялся с едой мужчина средних лет. И хотя цвет его лица почти не отличался от привычного для нас, разница в чертах сразу становилась заметной в сравнении с соседом-французом. Рассмотрев его крупный, немного вытянутый как птичий клюв нос, я решил, что нет лучшего способа отличить нефранцузов от французов, как посадить их за стол с французами. Подумав об этом, я не смог сдержать смешок, хихиканье не ускользнуло от папаши Арно. Довольно ощутимо защемив пальцами мое ухо, он всунул мне в руки большое блюдо с хлебом и слегка подтолкнул в спину. Когда я подносил блюдо к столу, пожилой мужчина обменялся со своим соседом короткими словами, и с удовлетворением я убедился, что прав, и говорят они на другом наречии, округлом и приятным для слуха.
*****
5
Ужин подходил к концу. Я уже приготовил тряпки – сметать крошки со стола, когда гвардейцы потребовали от папаши Арно ночлег. Хозяин отправился с ними в домик для гостей, но почти сразу они вернулись, при этом гвардейцы бранились не хуже наших деревенских торговцев.
– Послушай, папаша, как тебя там… Неужели ты и правда думал, что мы отправимся спать в твой дырявый сарай? Да это всё равно, что лечь под открытым небом!
Один из гвардейцев, особо не церемонясь, сунул свой локоть прямо под нос хозяину. На рукаве красовался герб с лилией.
– Ты что, ещё не понял, кто перед тобой? Иди туда сам, а мы устроимся в твоей теплой каморке.
Папаша Арно насупленно смотрел в сторону:
– Тогда мне нечего предложить вам, господа, разве что отправиться в Лион, где вы сможете остановиться в гостинице как раз по вашему вкусу.
– Ха, Лион! Ну и умник…
– Попридержи язык, хозяин, не тебе давать советы, как нам поступить!
Завязалась перепалка. Раньше мне не доводилось видеть, что бы кто-то из гостей или домочадцев столь уверенно возражал, и со вниманием я прислушивался к резким голосам, разносившимся по всему дому. Спор тот был скорее желанием избавиться от раздражения, вызванного, в свою очередь, усталостью, но гвардейцы не скупились на колкие словечки. Хозяин же старался быть сдержанным перед слугами короля, хотя я видел: это давалось ему немалым трудом. Остальные, по-прежнему в молчании, ожидали конца спора, и было неясно, понимают ли они нашу речь или, всё понимая, просто не считают нужным вмешиваться. Мальчик, закончив ужинать, пересел на другую скамью, и теперь я видел его лицо; взгляд блестящих глаз задержался на мне, но не было в нем ничего, кроме сильной усталости…
Неизвестно, чем всё закончилось, если бы в конце спора папашу Арно не озарило.
– Впрочем, господа, если хотите, можете оставаться прямо здесь. Гостей больше не ожидается, лавки сдвинем, а тюфяки я принесу.
Предложение было воспринято с некоторой благосклонностью, и мы, наконец, начали готовиться ко сну. По требованию гвардейцев хозяин вышел во двор ещё раз проверить, хорошо ли заперты въездные ворота, а я быстро убрал остатки от ужина. После этого мы отправились за тюфяками, по дороге папаша Арно шепнул:
– Послушай, Корнелиус, ложись-ка ты сегодня в кухне. А если что – беги скорее наверх и разбуди нас с Анной.
Я молча кивнул и про себя обрадовался представившейся возможности лучше присмотреться к гостям. То ли причина тому их необычные лица, а может, незнакомый язык, но сильно будоражили они мое любопытство. Не думать о гостях я уже не мог, и, словно угадав мои мысли, папаша Арно вдруг рассердился.
– Сразу отправляйся спать, да не вздумай с ними разговаривать!
И безо всякой надобности опять дернул моё ухо.
Вдвоем мы перетащили тюфяки и расстелили их на полу, как раз посередине таверны. Однако гости посчитали, что им удобнее спать порознь. Люди со смуглыми лицами устроились у стены, а королевские гвардейцы, посовещавшись, решили спать ближе к двери. Меня это не удивило: ещё во время ужина заметил, что, хотя они и путешествуют вместе, друг с другом почти не разговаривают. Конечно, большая разница между дорожным плащом и формой королевской гвардии, – рассуждал я, – как гвардейцы кричали на хозяина, он им и возразить не посмел. С простым человеком они не церемонятся, а уж если едут вместе, значит, это особый случай. Получается, всё-таки важные господа – эти люди со смуглыми лицами, если гвардейцы приставлены их охранять. Но как они оказались в нашем лесу, в стороне от прямой дороги…
С этими мыслями я остался в кухне. Папаша Арно загасил светильники, кроме одного, как раз рядом с лестницей, было слышно, как он медленно поднимается по ступеням. Вскоре шаги затихли.
Я сидел на полу и смотрел сквозь занавесь, как дрожит и качается робкий огонек: он то расплывался, то становился совсем крошечным. Если ты не один, ночная тишина никогда не бывает полной. До меня то и дело долетали шорохи, сонное бормотание и вздохи засыпающих людей.
Наконец, почувствовав, что сам засыпаю, с удовольствием опустился на теплый пол и уже предвкушал увидеть какой-нибудь приятный сон, как вдруг послышались осторожные шаги. От движения занавесь затрепетала, потом слегка отодвинулась, и смутная тень заглянула в кухню. Сонный, я приподнялся с пола, чтобы рассмотреть вошедшего. Вероятно, он нагнулся ко мне, но не рассчитал, и в темноте наши головы едва не столкнулись. Скорее догадался, чем разглядел лицо мальчика, а потом услышал его шепот:
– Можешь дать воды?
Сон мгновенно слетел с меня, так неожиданно было услышать, что он говорит теми же словами, что и я.
*****
6
Несколько мгновений мы смотрели друг на друга молча. Я пытался сообразить, должен ли ему что-то ответить или просто показать, в каком кувшине стоит вода. Так и не дождавшись ответа, мальчик продолжал тем же шепотом:
– Без воды не уснуть, от вашей свинины в горле пересохло.
И добавил:
– Как твое имя?
Вероятно, приключения того вечера подействовали так сильно, что я не удержался перед соблазном и все же вступил в разговор:
– Я думал: вы нездешние… Ты говоришь по-французски?
– Ты прав, мы нездешние, – откликнулся он. – Но моя мать была француженкой, и на этом языке я учился разговаривать… Так как тебя зовут?
– Корнелиус. А ты…
– Ансельми.
– Ансельми, – с удивлением повторил я. Никогда не слышал подобного имени.
Он говорил с непривычным акцентом, но плавная речь звучала так красиво, казалось, слова рождаются сами по себе, без его участия, и ему остается самое легкое: просто их произнести. Мой же язык был как деревянный и так беден, что завязать разговор стоило больших трудов. Сам не знаю, зачем я спросил:
– Ты много путешествовал?
– О, да! Приходилось… Когда я появился на свет, мои родители жили в Вероне, а потом мы переехали в Венецию.
Я решил умолчать, что никогда не слыхал ни о Вероне, ни о Венеции.
– А сейчас где твои родители?
Он сделал неопределенный жест рукой.
– Они уехали… Всё-таки можешь дать воды?
Стараясь двигаться как можно тише, я снял с полки кувшин.
– Мои родители живут в соседней деревне. Те другие, что с тобой, тоже говорят на французском?
– Очень плохо. Сказать по правде, они меня для того и взяли, чтобы поменьше объясняться. Так что это я при них, а не они со мной.
И тихонько рассмеялся своей шутке. Напившись, мой неожиданный собеседник опустился на пол, мне пришлось усесться рядом.
– Значит, ты из соседней деревни, а живешь на этом дворе. Сколько же тебе лет?
– Тринадцать лет и четыре месяца.
– Четыре месяца? Умеешь считать? Это неплохо. И чем же приходится здесь заниматься?
Я подумал: оказывается весьма приятно, когда к тебе проявляют интерес. Это заставило окончательно позабыть о наставлениях папаши Арно и продолжить беседу. Одно омрачало наш разговор – моя ужасная речь, позже Ансельми не упускал случая, чтобы подшутить надо мной, меня же воспоминания об этом до сих пор повергают в смущение.
– Я разношу еду, убираю со стола.
Ансельми искоса посмотрел, но ничего не ответил. Я поторопился прервать наступившее было молчание.
– А что делаешь ты?
– Я? Да, пожалуй, вроде тебя… Подношу, убираю. Конечно, я нетерпелив, но, думаю, придется заниматься этим годы, прежде чем мне доверят серьезную работу и сделают мастером.
– Мастером?
– Ну да, мастером. Как Антонио и Пьетро. И французский король прикажет своим слугам охранять меня, – он снова улыбнулся.
– Кто такие Антонио и Пьетро?
– Антонио и Пьетро ты видел за ужином – два пожилых мужчины среди нас. Они приглашены ко двору, чтобы открыть мастерскую.
Чем больше мы говорили, тем больше рождалось вопросов. Разговор велся едва слышно, а из комнаты наверху до нас долетал звучный храп папаши Арно, так что внезапное появление хозяина в кухне меня не беспокоило. Но можно ли задавать столько вопросов совсем незнакомому человеку? Я замолчал в нерешительности. Однако Ансельми разрешил мои сомнения и, удобно вытянувшись на полу, сам продолжил разговор:
– Мы выехали ещё в прошлом месяце. В Лионе пришлось задержаться, чуть не вернулись обратно. Но теперь дороги назад нет, только в Париж.
Про Париж я, конечно, знал и решился спросить:
– А что вы будете делать в мастерской?
Ансельми задумался, потом быстро поднялся и вышел, стараясь не потревожить ночную тишину. Я решил, что он совсем утомился от разговора со мной и ушел спать, однако вскоре он вернулся, держа в руках дорожную суму. Снова опустившись рядом, Ансельми размотал узел и начал перебирать вещи. Наконец, вытащив какой-то небольшой предмет округлой формы, повернулся ко мне:
– Можешь протянуть руку, чтобы на неё падал свет?
Ничего особенного в его просьбе я не усмотрел, поэтому согласился. В руках Ансельми держал нечто вроде маленькой оправы. В похожие оправы в нашей церкви вкладывали картинки с нарисованными деяниями святых; он положил мне её на ладонь, и я почувствовал прохладу, исходящую от поверхности. Взяв мою ладонь в свою руку, Ансельми глазами показал мне смотреть на оправу, а сам начал медленно поворачивать руку так, что вскоре оправа оказалась как раз напротив моего лица. Тогда я увидел, что сделана она не из дерева и не из железа, хотя такая же твердая и гладкая на ощупь. По мере того, как рука моя приближалась, поверхность оправы светлела. Для чего же может служить сей странный предмет, – удивлялся я про себя, как вдруг из середины оправы вырвался луч, а за ним… На меня отчетливо смотрели чьи-то глаза! Не нарисованные, нет, они двигались, словно живые.
Приглушенно вскрикнув, я отшатнулся. Колдовство! Колдовство, колдовство!! Оправа выпала из моих рук, и Ансельми едва успел подхватить её, прежде чем она покатилась по полу. Я бросился к дальнему углу кухни. Учили же меня, почему я, глупый, пренебрег советами старших! Вот до чего может довести непослушание, только что мы чуть не вызвали самого дьявола, что бы я сказал на это папаше Арно! Рот мой сам раскрылся, я хотел кричать, позвать на помощь, пока страшный дух не успел окончательно проникнуть в наш дом.
Кто-то бросился ко мне и изо всех сил сжал мою голову. Принимая его за разбушевавшегося духа, я отчаянно вырывался, когда заметил, что это всего лишь Ансельми пытается удержать меня от крика. И, хотя с виду он был не намного выше и такой же худой, явно он оказался сильнее и смог заставить меня молчать.
Увидев, что кроме нас двоих в кухне больше никто не появился, я понемногу успокоился. Однако наша борьба наделала шуму. Стало слышно, как за занавесью кто-то ворочается. Храп из комнаты папаши Арно оборвался, и, несмотря на пережитый ужас, я почувствовал, что появление в кухне хозяина или кого-то из гостей принесет новые неприятности. Видимо, Ансельми тоже не жаждал встретить своих товарищей, и, не сговариваясь, мы забились в самый угол, тесно прижавшись друг к другу, стараясь успокоиться и даже дышать беззвучно.
Странное чувство охватило меня тогда. Мне казалось, что однажды мы уже сидели вот так, и знаю я Ансельми очень давно. Хотя родились мы и жили далеко друг от друга, незримая связь существует между нами, и связаны мы ей словно старший и младший брат. Его ладонь всё ещё сжимала мой рот, но сила ослабла, и я чувствовал, как тепло руки согревает моё лицо. Мне захотелось повернуться и вот так же приложить руку к его щеке, но я не осмелился это сделать.
Прошло какое-то время, прежде чем все шорохи улеглись. Наконец, я решился взглянуть и смутился, встретившись с его глазами.
– Я так и думал, что раньше ты не видел ничего подобного, – шепнул он мне.
– Что это было? Что? Какое-то колдовство, да? Где тебя научили колдовать?
– Ну что ты, какое колдовство… Мы называем это – зеркало. Обычное зеркало. Его делают в Венеции, чтобы каждый, кто захочет, мог в нем видеть самого себя. А французский король пожелал иметь такую мастерскую в Париже. Он и пригласил итальянских мастеров.
– Так вы из Италии?
– Я же говорил: мы выехали из Венеции. Но вообще-то об этом никто не должен знать, пока мы не доберемся до Парижа.
– Почему это тайна?
Ансельми пристально смотрел на меня.
– Я сам удивляюсь, что не боюсь говорить с тобой… Но я спокоен: тебе некому рассказать, а если и скажешь, кто тебе поверит.
Слова его – чистая правда: вряд ли когда-нибудь решился заговорить об этом с папашей Арно.
– Ты хочешь сказать, что я видел там себя? То есть это были мои глаза?
– Ну, конечно, а ты их не узнал? Хотя, что тут удивительного – ты так испугался. Но это было твое лицо, уж поверь мне.
Раскрыв ладонь, он посмотрел теперь на оправу, сперва задумчиво, но взгляд его постепенно менялся, а глаза смотрели так внимательно, словно видели что-то особенное, недоступное другим.
Страх и любопытство попеременно терзали меня, что говорить, старость мудра и предусмотрительна, а в юности любопытство всегда берет над нами верх – я оказался не исключением. Но что тут может быть опасного, если Ансельми так спокоен, и тишина по-прежнему окружает нас? И если сам французский король желает иметь сей предмет, что тогда может быть предосудительного?
– Можешь показать ещё раз, Ансельми?
С недоверием я опять смотрел. Как в такой крошечной оправе может поместиться моё лицо? Я видел в ней то маленькое, чуть оттопыренное ухо и светлые волосы, торчащие над ним, то сжатые губы. Я приоткрыл рот, и губы в оправе слегка раздвинулись! И впрямь колдовство, как такое может быть… Пробовал улыбнуться – и в ответ получил такую же неуверенную улыбку. Нахмурил лоб – и на лбу в оправе проявились черточки. Под ними двигались глаза – как бы я ни поворачивал оправу, они неотрывно смотрели на меня.
Ансельми молча наблюдал за моими гримасами. Потом поднялся.
– Ладно, уже совсем поздно, а утром рано вставать…
Неохотно я протянул ему оправу, и снова почувствовал тепло руки Ансельми, когда его пальцы слегка задели мои. Хотелось попросить его не уходить, но я лишь спросил напоследок:
– Сколько тебе лет?
– Шестнадцать скоро.
И, помедлив, добавил:
– А ты наблюдательный, Корнелиус.
*****
7
Удивительно, но в ту ночь я заснул сразу после его ухода. И странные сны явились ко мне: лежа на жестком полу, я грезил, как вокруг распускается сад, и цветы в нем на невиданно длинных стеблях то высились каждый на своем месте, то начинали кружиться, раскачиваясь и выгибаясь, их лепестки вихрем летели над моей головой. Цветы умели разговаривать, склоняясь, шептались между собой, но я ничего не разобрал, кроме своего имени.
Потом увидел двух девушек, похожие, словно сестры, совсем крохотные, они носились наперегонки друг за другом, и голоса их перекликались, только что совсем близко и вскоре едва слышно, где-то вдали. Во сне мне показалось, что это племянницы хозяина, я окликнул их, но когда они подбежали, понял свою ошибку: их лица оказались совсем незнакомы. Тонкие невесомые фигурки почти растворялись в воздухе, а глаза ласково и безмятежно смотрели на меня. Застенчиво я стоял с ними – ранее такие создания никогда мне не являлись.
Одна из девушек протянула руки, словно приглашая в свою забавную игру, и вдруг её глаза стали расти, меняться, пока не превратились в глаза Ансельми, такие же огромные, черные, со множеством отраженных огней, пляшущих в каком-то безудержном веселье. Девушка грубо схватила меня за плечи и принялась что было сил трясти…
– Оставь, оставь, я не сделал ничего дурного, – вскричал я и… проснулся.
За плечи, стараясь разбудить, держала мамаша Арно.
– Ну же, Корнелиус, ты совсем разоспался… Вставай скорее, господа хотят ехать, надо посмотреть, что там с лошадьми.
Не вполне проснувшись, я поднялся с пола. Перед глазами пробегали обрывки сна, но я не мог разобрать, что только снилось мне, а что действительно случилось прошлой ночью. Многое из того, что наполнило мою память за последний день, не соответствовало жизни, которую я привык вести, а потому казалось невозможным.
Проходя через таверну, я поискал глазами мальчика, но не нашел: то ли он вышел, то ли ещё спал. А может, он мне привиделся? За столом сидели двое пожилых мужчин – один из которых успел набросить плащ – и такие же заспанные, как я, королевские гвардейцы. Если всё остальное – сон, тогда действительно со мной происходит что-то неладное. Мне стало не по себе.
На дворе было морозно и темно, солнце ещё дремало на самом краю неба. Что-то зашуршало под ногами, приглядевшись, я рассмотрел остатки соломы, сначала не догадался, как она могла попасть на двор ночью, а потом вспомнил: мы ведь переносили тюфяки. Надо же, я и не заметил, как из них сыпалась солома, будет теперь папаше Арно чем занять меня утром пораньше.
Я прошел к лошадям, когда же взялся за ручку, чтобы открыть дверь в стойло, на мое плечо опустилась чья-то рука. От неожиданности я сильно вздрогнул, оглянувшись, увидел Ансельми.
– Видел, как ты вышел и решил пойти за тобой.
Я же не нашел ничего лучше, чем сказать:
– Почему ты так решил?
Ансельми усмехнулся.
– Не думаю, что иначе нам удалось бы с тобой попрощаться, уж больно хозяин твой суров. А знаешь, я решил, что оставлю его тебе.
И в руку мою легла знакомая оправа. Значит, это был не сон – я почувствовал на душе облегчение.
– Только спрячь хорошенько и никому не показывай. А то отберут да тебя же поколотят. Я и сам раньше никому не говорил, что оно у меня есть. Просто вчера хотел рассказать, что мы будем делать в Париже, но без него ты бы не понял.
– А как же ты сам? – только и смог я спросить.
– Ну, я же буду работать в мастерской, наверняка мне что-нибудь перепадет.
Всё-таки я в нерешительности держал оправу в руке. Очевидно, превратно поняв мои сомнения, Ансельми поспешил объяснить:
– Ты не думай ничего плохого, мне его подарил один из мастеров, с которым довелось работать. На самом деле, на нем трещинки и для продажи всё равно не годилось, вот я и выпросил у мастера. Только осторожно обращайся: оно хрупкое, легко повредить. Слава Богу, вчера удалось поймать, когда ты выпустил его из рук, а то наверняка бы разбилось.
Я осторожно сжал ладонь.
– Из чего же оно сделано, если так легко разбить?
– Это долго объяснять, милый. Могу только сказать: как ни старались придать ему большую твердость, оно пожелало остаться таким, как ты его видишь, и мы бессильны против этого. Но многие, среди них – ваш король, готовы заплатить за него большие деньги, так что береги получше.
Я переводил взгляд с зеркала на Ансельми.
– Почему ты хочешь оставить его мне?
Его рука снова коснулась моего плеча.
– На счастье, как у нас говорят, просто на счастье. Пусть оно принесет тебе много счастья, Корнелиус.
И, повернувшись, он быстро зашагал к таверне. Я едва успел спросить:
– Скажи ещё раз, как ты его называешь?
– Зеркало, – не останавливаясь, ответил он мне.
*****
8
После завтрака гости, расплатившись, отправились в свой путь. Я стоял возле двери таверны и видел, как последний всадник выехал за ворота. Не могу сказать, что мне стало грустно, нет, скорее, я был задумчив. За один день со мной приключилось столько, сколько не случалось за все годы жизни, но волнение не просто улеглось, а уступило место размышлению.
Когда совсем рассвело, я принялся собирать солому со двора, и у меня появилась возможность подумать о произошедшем. То, что Ансельми назвал зеркалом, я завернул в тряпицу и держал за пазухой, стараясь придумать, где его можно лучше спрятать подальше от чужих глаз. Двигаться приходилось осторожно, да ещё надо было придерживать зеркало рукой, чтобы не выскочило наружу. И каждый раз, когда я дотрагивался до него, в моих ушах звучал голос: Пусть оно принесет тебе много счастья, Корнелиус…
Кому-то будет трудно поверить, но смысл этих слов для меня тогда был не совсем ясен, я не знал или не понимал, что такое счастье. Счастлив ли я, проводя свои дни на дворе папаши Арно? У меня есть родители, крыша над головой, скромная еда – можно ли назвать это счастьем? Мне доводилось видеть нищих, таких истерзанных и грязных, что самая добрая душа не решалась дать им ночлег, да и сам я при их виде с содроганием закрывал глаза, бормоча: Несчастные… Мои хозяева по-своему добры ко мне, можно ли сказать, что я счастлив с ними? Однажды кузнец в нашей деревушке до полусмерти забил подмастерье, когда тот так ловко подковал лошадь, что бедное животное захромало… Самым страшным наказанием у папаши Арно до сих пор была тяжелая затрещина, значит, мне повезло и в этом. Так какого же счастья можно ещё пожелать? У меня пока нет собственных денег, но только по причине малолетства хозяин отдает мой скудный заработок отцу. Да и папаша Арно как-то обмолвился: если я буду хорошенько с ним трудиться, то со временем он передаст хозяйство в мои руки, ведь не вечно они смогут работать с женой… Может, в этом и будет мое счастье? Однако я смутно сознавал, что в пожелании Ансельми говорилось о чем-то ином.
Не найдя ответа, я всё-таки загрустил и, чтобы хоть как-то отвлечься, стал вспоминать подробности прошлой ночи, мгновение, когда увидел Ансельми, как мы сидели с ним в кухне, как держал в руках зеркало… Отчего я так испугался?
Не могу сказать, что уж совсем никогда не видел своего лица раньше. Собираясь в деревню, племянницы хозяина прихорашивались, глядя в ведро с водой, там же при желании мог увидеть себя и я, и ничего особенного в этом не было. Но, сказать правду, в отличие от девиц, у меня никогда не появлялось желание заглядывать в зыбкую мутную воду. Мне нравилось рассматривать чужие лица, и верно Ансельми это подметил, иначе почему он назвал меня наблюдательным. Лицо всегда расскажет правду, хотя бы ты и видел человека в первый раз. Я уже тогда догадывался: по лицу можно узнать, что за человек перед тобой, в каком он настроении и даже чем он занят. Наши страсти, радости и скорбь, гнев, ненависть найдут свое собственное место на лице, и если рано или поздно мы забудем о них, знаками своими они напомнят о себе каждому, кто на нас смотрит. Окружающие могут знать о нас много больше, чем мы сами, встречал же я на дворе такие лица, что хотелось креститься вслед его владельцу, а тот в свой черед был уверен, что за слащавой улыбкой не видно, какие гнусности у него в голове.
Возможно, меня смутило что-то в собственном лице? Вот ведь как получилось: подсмеивался над чужими лицами, а о своём ни разу не задумался… Думал, что и так всё про себя знаю. А выходит, знаем мы лишь отчасти, и сколько можно нового открыть, взгляни мы на себя. Может, присмотревшись внимательно, я смогу найти в нём ответ на мучившие вопросы, – решил, наконец, и почувствовал себя увереннее.
Весь день я носил зеркало на груди, не подыскав для него более подходящего места. И хотя мысль, что можно столь близко и отчетливо рассмотреть себя, заставляла волноваться, достать зеркало не решался: хозяева могли увидеть меня с ним в самое неподходящее время. Оставалось только с нетерпением ждать… В первый раз я ждал чего-то, и день тянулся нескончаемо.
Поздним вечером я сидел в кухне. Дождавшись, когда папаша Арно с женой улягутся спать, осторожно вынул сверток и, немного робея, достал зеркало. Как и прошлой ночью поверхность засветилась, отражая свет, неровные пятна расплывались по краям, но уже не вызывали во мне испуга, я спокойно продолжал рассматривать. На этот раз зеркало не казалось холодным, пробыв целый день на груди, как моя маленькая частица, оно хранило тепло моего тела.
Наконец я поднес зеркало к глазам, пытаясь различить в нем лицо, но, сколько ни старался, видел только по отдельности кончик носа, глаза или изогнутые над ними брови… Некоторое время я рассматривал каждую черточку, всё это вызвало во мне скорее удивление. Я так и не понял, почему король готов платить за сей предмет много денег.
Устав от бесполезного занятия, я опустил руку и решил спать, а завтра просто закопаю это самое зеркало в землю подальше от беды, но, взглянув в него напоследок, уже не смог отвести глаз.
Ансельми не открыл мне маленький секрет о том, что зеркало отражает лишь часть предмета, находясь в непосредственной близости от него, а если мы хотим наблюдать весь предмет, следует отодвинуть зеркало на некоторое расстояние. Случайно проделав это, я всё же добился, чего искал, и теперь завороженно смотрел на своё отражение. И правда в том, моё лицо действительно было мне мало знакомо.
Что я мог сказать в то мгновение о мальчике, который так напряженно смотрел на меня из глубины? Наверно, мне он казался беззащитным, а в чертах его была видна детская слабость. В остальном же это было ничем не примечательное лицо. Жизнь ещё не успела оставить на нем сколько-нибудь заметных следов или отметин. Увидев такое лицо единожды, вряд ли ваша память сохранит надолго эти глаза, рот, волосы… Но в тоже время, было в этом лице что-то трогательное.
Не осознавая, я провел рукой по поверхности зеркала, как будто пытаясь защитить мальчика от превратностей, что могли бы ему грозить… Губы его шевелились, словно он разговаривал со мной, и я вдруг почувствовал желание ответить, или, по крайней мере, как-то выразить свое приветствие.
Немудрено, что за эти три года окружающие почти не замечали тебя, – сам того не желая, я заговорил с ним. Чем больше я смотрел, тем ближе он мне становился, будто у меня появился первый друг.
Сколько раз в это зеркало вот так же вглядывался Ансельми, искал ли он в нем скрытое или ему просто хотелось взглянуть на своё лицо, как хочется этого сейчас мне. Зеркало словно притягивает, я не в силах отвести взгляд… А ведь Ансельми очень красив, – подумалось вдруг. Пожалуй, самый красивый из тех, с кем мне довелось встретиться. Почему же его лицо кажется таким привлекательным? У него выразительные глаза, послушные волосы, так и хочется их растрепать, но не только это, не только… А мог бы кто-нибудь назвать моё лицо красивым? С сомнением я покачал головой, мальчик в зеркале ответил мне тем же.
– И ты согласен со мной, – тихонько шепнул ему.
Я старался рассмотреть лицо то с одной, то с другой стороны, а поверхность всё время переливалась, рождая новые формы, и мальчик в зеркале уже не казался таким напряженным, черты приобрели заметную мягкость. В этом ли разгадка Ансельми, – думал я, вспоминая, что лицо его могло казаться усталым или улыбалось, но напряжения, заставлявшего черты искажаться, в нём заметно не было.
Некоторое время я просто смотрел в глаза отражению, когда почувствовал, что утрачиваю ощущение реальности. Казалось, грань между мной и мальчиком постепенно растворяется, ещё немного – мы или превратимся в одно целое, или, наоборот, окончательно отделимся друг от друга и станем жить каждый по-своему. Голова тяжелела, сильно хотелось спать. Опасаясь, как бы не заснуть с зеркалом в руках, я опять плотно обернул его и вернул на прежнее место. Может, завтра придумаю, где буду хранить, – последнее, что пронеслось в голове, прежде чем я погрузился в сон.
*****
9
– Новая беда с тобой, Корнелиус, откуда взялась эта сонная болезнь? – ворчала мамаша Арно.
По утрам меня стало невозможно добудиться. Обычно, заслышав шаги хозяев, я поднимался и выходил из кухни. Теперь же им приходилось меня долго расталкивать, прежде чем я с трудом садился, пытаясь вырваться из остатков сна. Отнюдь не прекрасные видения служили тому причиной. Даже не причиной, а скорее, виной, как вы правильно догадываетесь, стало зеркало. Я не пропускал ни одного вечера, чтобы посмотреть в него, и засыпал далеко за полночь. А иногда доставал и днем, если был уверен, что хозяев нет поблизости. Лучшего места, кроме как у себя за пазухой, я для него не нашел, да уже и не мыслил, чтобы без него остаться.
Сам не мог понять, как и почему так сильно к нему привязался. В младенчестве я не знал особых игр, и, возможно, наблюдение в зеркале стало для меня своеобразной игрой в юности, тем более что присутствие собственного отражения вызывало ощущение, что в этой игре ты участвуешь не один. Это ослабило чувство одиночества, а на его место пришли воспоминания об Ансельми.
Каждый назвал бы нашу встречу мимолетной, случайной, но иногда довольно и мгновения, что бы прочертить след в душе человека. Ансельми легко удалось проделать такое с моей душой, что скрывать – теперь я думал о нём чаще, чем о своих родителях, и то, что я владею вещью, долго ему принадлежавшей, рождало в душе приятное ощущение некой сопричастности. Мы были далеко друг от друга, но, казалось, зеркало связывает нас воедино, даже несколько раз ночью мне снился один и тот же сон, как вглядываясь в зеркало, на месте собственного отражения я нахожу лицо Ансельми. Сны вызывали беспокойство, и в то же время было в них нечто сладостное. Проснувшись однажды после такого сна, я неожиданно почувствовал, как моя жизнь немного изменила цвет. Хотя она по-прежнему оставалась однотонной, вместе с холодным серым в неё вошел какой-то другой, более теплый оттенок.
Глядя в зеркало, поначалу просто наблюдал за собой. Но мысли об Ансельми не давали покоя, и, в какой-то мере неосознанно, я начал ему подражать. Внешность поначалу захватила меня. Я обдумывал, есть ли возможность сделать моё лицо чуточку приятнее, чтобы быстрый взгляд незнакомца мог хотя бы недолго задержаться на нём. Даже нечто вроде тщеславия проснулось во мне, захотелось уметь привлекать, как это мог делать Ансельми. Однако вскоре занятие сие наскучило, и я было совсем его забросил, как в один из вечеров заметил некоторую странность.
Я уже был научен и, прежде чем заглянуть в зеркало, аккуратно устраивал его на небольшом выступе в стене, при этом в зеркале отражалось не только лицо, но был виден кусочек, принадлежавший печке, а также выщербленная полка со старой посудой. В тот вечер моё внимание привлекло, что если в зеркало смотреть мельком, то просто увидишь лицо. Но если вглядываться и при этом замечать не только себя, но и окружающие предметы, на поверхности словно отражается некая реальность, и ты лишь её часть.
Отражая человека и предметы рядом, зеркало не просто точно передавало их черты и формы, а словно старалось показать, как они относятся друг к другу. И в то мгновение зеркало сумело мне подсказать: дело не только в самом лице, но и в жизни, которая нас окружает. С возрастающим удивлением я смотрел на то, что осталось за спиной. Если бы эти стены не были такими грязными от бесконечной стряпни, а посуда такой убогой, может, и моё лицо не казалось бы столь невыразительным. Меня эта мысль ошеломила.
Той ночью я заснул совсем под утро, раздумывая, как хрупкая поверхность может гораздо лучше отразить жизнь, чем видят её наши глаза. Снова и снова сквозь полумрак, висевший в кухне, я принимался рассматривать покоробленные стены, облупившийся угол большого стола, расставленные на нем блюда… Одни и те же предметы, как их мало и какие они незначительные! Сколько раз я уже всё это видел, но никогда не задумывался, что они занимают немалую часть моей жизни и меня самого. Пройдет ещё несколько лет, и они, верно, станут от меня неотделимы, как вот эта рука, на которой сейчас удобно покоится моя голова. Окружающие предметы служат мне, но столько вокруг всего – и ничего достойного, что удержало взгляд, – думал я. Хотел бы я провести все свои годы – уж не знаю, сколько мне отведено – среди этих старых, наполовину изломанных вещей?
Этот итальянский юноша – почти мой ровесник, а столько повидал и знает, конечно, он многого добьется в Париже, я же должен томиться в забытом всеми углу. Мне представилось, как одним днем Ансельми, будучи важной персоной при короле, проезжая поблизости, случайно вспомнит обо мне и решит свернуть на наш двор. Лицо его сохранит удачливость и довольство, моё же утратит последние отблески, и здесь Ансельми встретит увядший старик, которого будет невозможно узнать, а сам он никогда не признается: я и есть тот самый мальчик, что сидел с тобой вот в этой кухне много лет назад… От этой мысли я даже вскрикнул, так горестно стало на душе, но, как мог, старался успокоиться, поминая слова хозяина: мысли наши могут послужить хорошей ловушкой для дьявола. Ночь отлична ото дня, так и жизнь днем выглядит иначе, чем нам видится ночью, не стоит поддаваться страхам, – уговаривал себя и решил при случае ещё раз проверить, о чем говорило зеркало.
Случай сам нашел меня на следующий день. На дворе закончился запас хвороста, и папаша Арно велел собрать перед обедом в лесу, сколько могу донести. Я сложил небольшую охапку, но перед тем, как вернуться, достал зеркало и внимательно вгляделся в него. С поверхности смотрело дрожащее от холода лицо, губы сложились в узкую полоску, а уголки глаз печально опустились. И если ночью меня окружала измазанная копотью стена, то теперь над головой висело унылое небо с такими же грязными разводами, оттуда то и дело срывались хлопья снега. Попадая на лицо, они мгновенно таяли и неровными дорожками текли по щекам. Зеркало тоже намокло, казалось, само отражение плачет. Зрелище было столь безрадостное, что едва забытое ощущение пустоты болезненно толкнулось в груди, и я поторопился спрятать зеркало, дабы не разразиться уже настоящими слезами.
*****
10
Между тем наступала зима. Дни становились короче, и на нашем дворе всё чаще останавливались путники, не успевшие добраться до Лиона к приходу темноты. Работы опять прибавилось, но делал я её неохотно: с некоторых пор жизнь на постоялом дворе казалась мне невообразимо скучной. Зеркало, оставленное Ансельми, показало всю скудность той жизни, как физическую, так и душевную. Возможно, кто-то сочтет странной такую перемену в деревенском парнишке, но я не смог остаться равнодушным, и во мне стало появляться желание избавиться от этой скудности или, во всяком случае, сделать её менее заметной. Мысли об Ансельми в какой-то мере справлялись с этим: колол ли дрова, разносил еду или готовился ко сну – мысли о нём следовали, не отставая. Память сохранила нашу встречу в мельчайших подробностях, и я столь часто их вызывал, что иногда почти мерещилось, как рука дотрагивается до моего лица – простой, неприметный жест, а может так много значить.
Единственное, о чем я сожалел, что в ту ночь не получилось узнать больше о его удивительной мастерской. Когда я просыпался по утрам, старался представить, чем мог быть занят Ансельми в тот ранний час. Воображение рисовало мастерскую, похожую на замок, стены которого увешаны такими же крохотными, как моё, зеркалами. Но не только о мастерской я хотел говорить с Ансельми, и с каждым днем желание видеть его становилось всё сильнее и сильнее. Наконец, стало почти наваждением.
Вспоминая те дни сейчас, я осознаю, что моя сильная привязанность к его образу была вызвана естественным желанием иметь друга, с которым можно разделить волнение или радость, нежели какими-то иными чувствами. Ансельми оказался самым ярким и необычным человеком, встретившимся мне в тот момент жизни, примерно моего возраста и при этом красив – этого было совершенно достаточно, чтобы разбудить мою душу. Думая о нём, я наделил его ещё множеством других черт, которых у него и в помине не было, но, не зная об этом, я мечтал в нём их видеть. И, в конце концов, почти влюбился в свое творение.
Встреть я в то время другого столь интересного мне человека, вполне возможно, об Ансельми я и не вспоминал, но, не имея перед глазами никого, кто мог бы повлиять так же сильно, жаждал видеться только с ним.
Конечно, у меня не было ни малейшего представления, как может произойти наша встреча. Мне не доводилось бывать даже в Лионе, что уж говорить про Париж. Из людей, останавливавшихся на нашем дворе, может, кто и следовал в Париж, но как я узнаю об этом – хозяин строго следит за мной. И даже если мне удастся заговорить – кому нужен в дороге незнакомый мальчишка. А уж если произойдет что-то совсем невероятное, и я всё-таки доберусь до Парижа, то как в этом огромном, как слышал, городе я смогу разыскать Ансельми? Нет, это совершенно невозможно: я или погибну в дороге, или умру уже в Париже. И я старался гнать прочь от себя все мысли о нашей встрече. Но, переждав, они возвращались снова.
Существовала лишь слабая надежда, что однажды Ансельми решит навестить родных в Венеции, и его дорога случайно пройдет через наш двор. Не подумайте, будто я не понимал, как наивно так думать, но хоть что-то согревало мою душу, и оставалось тихо лелеять эту мысль.
Целыми днями я томился в чувствах и ходил, погруженный в бесконечные раздумья. При этом стал часто отказываться от еды, и хозяева о чём-то тихо переговаривались, с тревогой поглядывая на меня. Мне стали давать немного меньше работы, а хозяин уже не злился так сильно, когда видел, что я замешкался во дворе, в то время как в таверне ужинают гости.
Во время одного из таких ужинов я поставил перед одиноким гостем тарелку с едой, сам же устроился на скамье неподалеку. Гостя звали Пикар, он считался старым приятелем папаши Арно, вроде, они были родом из одной деревни. Пикар давно перебрался ближе к городу, чем он занимался, я точно не знал, возможно, служил на конюшне у какого-нибудь знатного сеньора, но время от времени наведывался в родные места и, проезжая, останавливался на нашем дворе. Вот и сейчас он сидел напротив, поджав под скамью коротенькие ноги, намеревался ужинать.
Перед собой я видел толстого неряшливого мужчину, неровные волосы его путались и свисали прямо на глаза, один из которых был заметно больше другого. Распухшие пальцы ломали лепешку, крошки катились в разные стороны, и скоро весь пол под ним оказался усыпан хлебом. При этом он очень шумно ел, громко шлепая губами, лицо заблестело от жира, а на и без того нечистой одежде капли, падающие с ложки, оставляли неровные пятна. Зрелище вызвало во мне глухое раздражение, и я решил ненадолго выйти во двор.
Было темно, уходить далеко не хотелось, стоя перед ещё раскрытыми воротами, я вдыхал острый от мороза воздух. В черном небе виднелись крохотные золотистые точки. Иногда они ярко мигали, а затем блеск их становился малозаметным, почти исчезал, и тогда всё вокруг, казалось, погружается в глубокий сон. Такое же оцепенение охватило меня. Голоса из таверны не доносились, окутанный тишиной, какое-то время я простоял, не в силах двинуться с места.
У меня появилось ощущение, что всё это было однажды, уже случалось со мной… Так же трудно становилось дышать, холод и напряжение сдавливали горло, в полной темноте перед глазами метались огни, и где-то совсем рядом слышался шум, похожий на топот лошадей… Всё это было, было – так же немного кружилась голова, я стремился к огням, и волнение билось в груди, отзываясь на стук за спиной, я почти задыхался от отрывистых ударов…
Очнувшись, я понял, что действительно слышу конский топот. Сначала где-то вдали, со стороны леса он послышался едва различимо, и вроде совсем затих, как вдруг снова появился. Всё ближе отчетливо раздавался глухой стук, теперь настолько близко, что под ногами вздрагивала земля, не оставалось сомнений: всадник держит путь в нашу сторону.
Наконец, из темноты вырвался и стремительно въехал на двор какой-то человек. Натянув поводья, он ловко осадил лошадь и спрыгнул на землю, резко повернувшись, неожиданной хлопнул меня по плечу.
– Что смотришь так странно, не узнал меня? А я тебя ещё тогда в лесу хорошо приметил… Помнишь, мы заезжали к вам на ночь?
Но я молча смотрел на него. Сердце моё билось так сильно, должно быть, услышали в таверне. Я узнал всадника, едва тот успел коснуться земли. Он был одним из гвардейцев, сопровождавших Ансельми и людей со смуглыми лицами по дороге в Париж.
*****
11
В то время королевских гвардейцев отличала большая простота, одежда их ещё не имела такого количества золотых и серебряных нашивок. Гвардеец, посетивший нас тем вечером, был молод, о чем свидетельствовало гладкое лицо и порывистые движения, но носил плащ с нашитой лилией и шпагу – этого было достаточно, что бы ему сразу оказали знаки внимания.
На пороге гостя встретил папаша Арно, гвардеец приветствовал хозяина таким же ударом в плечо. Причина столь необычного дружелюбия быстро прояснилась – мы почувствовали довольно крепкий запах вина, то ли он пил его за обедом, то ли подкрепился в пути. Новый гость оказался сильно голоден, я поторопился принести жареную свинину и переставил блюдо с лепешками со стола, где заканчивал ужин Пикар. Тот косо посмотрел на меня, но промолчал.
Устраиваясь, гвардеец продолжал начатый разговор.
– Хорошо, что запомнил к вам дорогу, чего ради гнать лошадь ночью.
Он явно расположился поговорить и что собеседников немного, не особенно его останавливало. Выяснилось: гвардеец ехал в Лион, но задержался и не успевал добраться до места. Тут, на его счастье, он вспомнил, как останавливался у нас прошлым месяцем и решил свернуть заночевать. Дорогу удалось найти достаточно легко…
Всё время разговора я провел, прижимаясь к стене в самом темном углу таверны. Стараясь, насколько возможно, придать лицу равнодушный вид, я на самом деле напряженно ловил каждое слово. Это оказалось довольно трудно, к словам, в которые я вслушивался, добавлялись мои собственные мысли, было нелегко отделить одно от другого.
Интересно сейчас посмотреть на своё лицо в зеркале, – подумалось мне. Мысль о зеркале притянула мысли об Ансельми, и я поспешно прижал руку к груди, что бы хоть немного умерить биение сердца.
Что-то подсказывало: в ответ на мои настойчивые прошения этим вечером мне предлагается возможность узнать о моем друге – позволю так себе его называть – но оказалось, я к этому совершенно не готов. Много раз, оставаясь один, я шептал слова, обращенные к нему, теперь же понял: мечты и реальность могут не совпадать, и, оказавшись перед лицом некой возможности, я не представлял, как лучше ей распорядиться. Но ни разу не усомнился: гвардеец знает об Ансельми, и мог бы мне рассказать. Сознавая, что на размышления остается слишком мало времени, я до боли искусал пальцы, пытаясь придумать, как поступить. Сам же про себя бормотал ругательства, что так много времени потратил на бесплодные мечтания и не придумал ничего стоящего…
Во время ужина Пикар недобро косился в сторону гвардейца, но в разговор так и не вступил. Губы его кривила усмешка, один глаз совсем закрылся, а лицо перекосилось, словно во рту у него оказалось что-то очень едкое. Наконец он поднялся и, стерев ладонями остатки жира со щёк, принялся собирать вещи. Вытащив из-под стола свои мешки, Пикар, пошатываясь от тяжести, дошел до двери, распахнув её настежь, отправился через двор в дом напротив. До нас долетало его недовольное бормотание.
Увидев это, гвардеец запротестовал.
– Ну нет, хозяин, в твой сарай я бы и лошадь не поставил, а ты хочешь меня заставить там спать.
Папаша Арно постоял в раздумье, потом махнул рукой.
– Можете оставаться здесь, как в прошлый раз.
Убрав со стола и дождавшись, когда мамаша Арно отправится наверх, я привычно расположился в кухне. Посветив на меня, хозяин кивнул напоследок и нацепил светильник на торчащий из стены крючок.
Оставшись один, гвардеец некоторое время прохаживался по таверне; сквозь занавесь я, не отрываясь, следил, как в неровном свете движется его тень. Было слышно, как он отстегнул шпагу, с легким звоном она легла на пол. Потом шаги стихли, видимо, он выбрал себе подходящее место и улегся спать.
Я по-прежнему сидел неподвижно, но с каждым мгновением волнение мое росло, стараясь не задрожать, я с силой сжал колени руками. Нас разделяло всего несколько шагов, и я подумал, что никогда себе не прощу, если этой ночью не решусь их сделать. Переступив однажды через запрет говорить с незнакомцем, я более не вспоминал о нём, во мне родилось некое суждение, что я сам в воле решать, как мне следует поступать. В голове проносились какие-то обрывки из слов, но они не складывались даже в начало разговора. Объяснение моих затруднений было довольно простым: в тот момент я не понимал, чего ждать от разговора, хочу ли просто узнать, как здоровье Ансельми, или выяснить о нём нечто большее… У вопросов не было истиной цели, по сути, они были всего лишь те неясные мечты, и так же смутно мне представлялось, как с их помощью добиться чего-то значительного. Время бежало, а я всё сидел, то сосредоточенно размышляя, то предаваясь воспоминаниям.
Внезапно решившись, я поднялся и вышел в таверну. Глаза мои привыкли к темноте, и я сразу разглядел гвардейца, лежащего рядом с дверью: он передвинул самую широкую скамью, она и послужила ему ложем. Гвардеец спал, закинув руку за голову, другая же рука свесилась вниз, пальцы, как я заметил, касались лежащей на полу шпаги. Плащ он небрежно бросил на соседний стол.
Осторожно приближаясь, я собирал все силы для разговора, столь важного для себя, наконец, решил действовать наудачу. Главным было не напугать спящего, ведь проснувшись от неожиданности, он мог поднять сильный шум, а это наверняка перечеркнет мои планы.
Подойдя почти вплотную, я робко прикоснулся к его плечу. Глаза гвардейца остались плотно закрыты, он даже не шелохнулся. Поколебавшись, я решил потянуть его за руку и почти до неё дотронулся, как режущий звон прервал тишину – кто-то выхватил шпагу, отблески мгновенно пронеслись по её узкому клинку. Все произошло так внезапно, я едва успел отскочить в сторону. Гвардеец резко поднялся со скамьи, на лице его не было ни малейшего следа сна. На месте, где я только что стоял, покачивалось острие шпаги.
*****
12
– Что тебе нужно? – на меня в упор смотрели широко раскрытые глаза.
Не предвидя такого исхода, я окончательно растерялся, некоторое время мой язык просто отказывался слушаться. Как ни странно, вокруг нас было тихо. Очевидно, привлекать лишнее внимание было не в привычках гвардейцев и, говоря со мной, он намеренно приглушал голос.
Наконец удалось справиться с волнением, и еле слышно я зашептал:
– Ничего… Ничего такого… Я просто… В прошлый раз, когда вы останавливались у нас, с вами был Ансельми… Я просто хотел спросить, знаете ли вы Ансельми, что был с вами в прошлый раз.
Гвардеец внимательно наблюдал за мной, даже не думая убирать шпагу, теперь её кончик замер рядом с моим плечом. Взгляд его был холоден и не оставлял сомнений: шпага немедленно продырявит меня, если ему придутся не по вкусу мои ответы. Но я страшно обрадовался, что теперь он задает вопросы, я же мог только отвечать и был избавлен от мучительных раздумий.
– Откуда ты знаешь Ансельми?
– Мы говорили с ним ночью, когда все спали… Он захотел пить. Все легли спать, а он зашел на кухню попросить воды. И мы с ним говорили.
– О чем же был ваш разговор?
У меня даже мысли не возникло рассказывать о зеркале и о том, что успел поведать Ансельми, но я понял: многое зависит от того, как я отвечу на этот вопрос. И я лишь кротко сказал:
– Ансельми немного расспрашивал, чем мне приходится заниматься.
Гвардеец ещё раз смерил меня недоверчивым взглядом, острие медленно проплыло, слегка задев грудь. Он устало прислонился к столу и опустил шпагу.
– Я думал: ты решил стянуть мой кошель. Кругом полно омерзительных проходимцев, я уж было подумал: ты один из них… Ну, хорошо, положим, я знаю Ансельми. И что с того?
– Ничего… Я просто… Хотел узнать, как он сейчас живет.
Гвардеец пожал плечами.
– Я понимаю, о ком ты говоришь. Но я ничего не знаю о его жизни, мы не виделись с тех пор, как вернулись в Париж.
Какая-то тоска навалилась на меня. Я почувствовал, что этот человек не расположен говорить со мной и, вероятно, я сам, сам все испортил своими нелепыми расспросами. Слезы помимо воли выступали на моих глазах. Заметив это, гвардеец сильно удивился.
– Для тебя так важно знать об Ансельми? Если я правильно понял, ты едва знаком с ним.
Из-за слез мне с трудом давалось говорить, к губам словно привязали нити, и кто-то дергал за них, заставляя исполнять причудливый танец.
– Да, это верно, – почти плача, шептал я. – Но он был так добр ко мне…
Сам того не замечая, я доверился незнакомому человеку. Я бормотал бессвязные слова о том, как одинок, за день мне даже не с кем поговорить, а Ансельми – единственный, кто по доброте душевной проявил ко мне интерес. Память об этом – самое дорогое, что у меня сейчас есть, и я буду так рад узнать о нём хоть немного… Однако, даже в расстроенных чувствах я сохранил благоразумие и не упомянул о подарке, оставленном мне на прощанье.
Но всё оказалось к лучшему. Возможно, в моих словах было что-то, показавшееся гвардейцу близким, иначе не могу объяснить, почему он вдруг смягчился. Помолчав, он неожиданно предложил:
– Я живу недалеко от того места, где они работают. Если хочешь, я зайду и передам ему твои слова, только сделай милость – не реви у меня над ухом.
О большем я даже не смел мечтать! В порыве радости я было принялся благодарить самыми восторженными словами, какие только знал, как вдруг ко мне пришла новая мысль, пожалуй, я и сам ей сильно удивился. Почти уверен: старайся я в другое время придумать её нарочно, мне бы не удалось, а тут словно кто-то сторонний вложил эту мысль в мою голову.
Если бы в тот момент я ответил только «да», мы бы просто разошлись с добрыми чувствами друг к другу, и вряд ли моя рука сейчас выводила эти буквы, но на своё несчастье и сам того от себя не ожидая, я решил воспользоваться удачным стечением. Очевидно, так устроен человек: едва ему удается добиться малости, он немедленно желает иметь большее.
– А могу я передать через вас что-то на память для Ансельми?
Гвардеец задумался. Потом сказал, ни к кому не обращаясь, словно меня и не было рядом:
– Да, Жюст, какой год ты в гвардии, много чего повидал, но стоит разрыдаться женщине или какому-нибудь юнцу, вроде этого, таешь, как снег весенний. Когда же ты, наконец, избавишься от этого? Прав отец: пора тебе жениться.
Он перевел взгляд на меня.
– Что ты хочешь передать Ансельми? Неси скорее и дай мне спать.
Я же в нерешительности продолжал стоять рядом, несмотря на усилия, не мог сообразить, что такого особенного могу послать Ансельми, что бы напомнить о себе. Не дождавшись ответа, гвардеец начал терять терпение.
– Парень, утром я уезжаю.
– А из Лиона вы вернетесь в Париж, Жюст? – стараясь заручиться его расположением, я решил обратиться к нему по имени.
– Откуда ты знаешь, что меня зовут Жюст?
– Вы сами произнесли ваше имя.
Он засмеялся.
– Ты наблюдательный. Как, кстати, тебя зовут?
– Мое имя Корнелиус.
– Так вот, Корнелиус. Я уеду рано, и весь день проведу в Лионе. А следующим днем поеду обратно в Париж. К вам заезжать не стану – нет в этом смысла, но если придешь на дорогу, где встретил нас в прошлый раз, я захвачу твой подарок и передам.
– Вы… обещаете?
Усмехнувшись, он кивнул и добавил:
– Если опоздаешь – я не буду ждать. Так что приходи на рассвете.
*****
13
Судьбе было угодно заставить меня позабыть про бесцельные мечтания, которым я предавался последние недели, и дать только один день, чтобы обрести себя в реальности. В ту ночь я уже не сомкнул глаз, голову мою попеременно терзали два вопроса: что передать для Ансельми и как незаметно отлучиться, дабы избежать потом расспросов и подозрений хозяев.
Едва дождавшись утра, я вышел во двор. Вскоре мимо прошел гвардеец. Уезжая, он не сказал ни слова, но, почувствовав его взгляд, я понял: он готов сдержать данное мне обещание. Значит, завтра с восходом надо быть на дороге в лесу. Само по себе это не вызывало затруднений – папаша Арно нередко поднимался затемно и почти сразу шел открывать ворота. Другое дело – как я смогу покинуть двор и объясню своё отсутствие.
Не решив окончательно, я задумался о подарке для Ансельми. Поразмыслив, я ещё раз убедился, как бедна моя жизнь: у меня не было решительного ничего, что возможно подарить другу. Всё моё богатство состояло из старой, много раз чиненой одежды, доставшейся после брата, и пары деревянных башмаков, которые приходилось носить, невзирая на холод, даже зимой. Все эти вещи были грубы, сильно поношены и ровно ничего не значили, а я хотел отдать Ансельми нечто дорогое мне, так же, как и для меня он расстался с чем-то особенным.
Единственно возможным, что пришло на ум, был крошечный крестик, который я носил на груди. Этот крестик повязала мне моя мать, когда настало время уходить из дома, с тех пор я никогда его не снимал. Я уже плохо помнил, как он выглядит, и вот теперь, вытянув на свет, старался рассмотреть.
Совсем потемневший и ничем не примечательный, для меня он был наполнен любовью матери, и я размышлял, готов ли с ним расстаться. Я думал, что ни за что его не отдал, но для Ансельми смогу им пожертвовать, вложив в него все чувства так же, как мать вложила тогда в него всю свою любовь ко мне. Было невыносимо трудно его отдать – крестик стал частью меня – но в нём моя благодарность всегда пребудет с Ансельми, – твердил я себе, – будет хранить и оберегать, и, возможно, принесет ему то счастье, которое он ждет.
Вернувшись в дом, я украдкой почистил крестик золой. Он посветлел и, глядя на него, я остался доволен подарком, решил, что следующим утром просто отдам его гвардейцу и попрошу передать Ансельми просьбу не забывать обо мне, а я о нём всё время помню и молю небо даровать нам новую встречу.
День прошел, как во сне, ведь я не спал ночь накануне, но к вечеру мою усталость словно рукой сняло. Беспокойство о том, как не проспать следующее утро, прогоняло сон, и, чтобы скоротать время, я достал зеркало.
На меня смотрели лихорадочно блестевшие глаза, временами по лицу пробегала заметная дрожь: всё свидетельствовало о возрастающем волнении. Зная, как тревожно сейчас моей душе, я вдруг понял, что смог бы прочитать похожие мысли на лицах других. Наблюдая проявление своих чувств в отражении, мы будем лучше понимать появление таких же чувств у других, – думал я, и мне лишь оставалось удивляться, как этот маленький предмет может учить нас не менее искусно, чем учит сама жизнь. Не потому ли наш король хочет иметь при себе зеркало, что бы понять, что творится в собственной душе, а через это познать окружающие души?
Как много сумел сделать для меня Ансельми за единственную встречу… Встреча… Я бы отдал за встречу с ним не только крестик, но частицу собственной жизни… Как бы всё-таки нам встретиться? Попросить гвардейца взять меня в Париж? Нет, он ни за что не согласится… Ни за что не согласится… Он не согласится… Я негромко повторял эти слова, и в какой-то момент показалось, что мне их шепчет само отражение.
Ночь пролетела на удивление быстро. Скоро послышались шаги папаши Арно, как обычно он спустился с лестницы и отправился во двор. Я понял: мне пора идти, и более не задумывался о последствиях, только молил, чтобы никто не задержал меня ни до, ни после. Быстро одевшись, я вышел следом.
Папаша Арно только что отпер ворота и теперь стоял, глядя сквозь темноту на дорогу, в тот ранний час с трудом виделось, как она вьется, скрываясь между деревьями. Я встал рядом, мы молчали, каждый думал о своём. Потом хозяин повернулся ко мне.
– Что, Корнелиус, смотришь, уж не ждешь ли гостей так рано? – негромко произнес он.
Не дождавшись ответа, он продолжал:
– Много лет каждый день я выхожу утром и вижу эту дорогу, а она всё та же… Такой была и десять, и двадцать лет назад, сколько себя помню. Я вот иногда смотрю и думаю, куда она может вести, если ехать по ней дальше и дальше? Я-то никогда особенно не ездил, в город ли, в деревню и обратно…
– А вам когда-нибудь хотелось уехать?
Словно сомневаясь, папаша Арно покачал головой.
– Мы не выбираем себе дорог, Корнелиус.
И, опустив голову, медленно побрел в дом, словно сожалея о прожитой жизни. Лицо его ещё сравнительно молодо, но волосы поседели рано, я смотрел, как он, тяжело передвигаясь, пересек двор, в тот момент папаша Арно казался глубоким стариком. Такой же старик привиделся мне той ночью… На душе сделалось так неспокойно, чуть было не решил вернуться, но сдерживаясь, дождался, когда за ним захлопнется дверь. Времени на размышления не оставалось, стараясь ни о чем не думать, я зашагал, подгоняемый своими страхами и холодом. Я боялся, что хозяева, выйдя во двор, окликнут меня, но всё обошлось благополучно, и, чувствуя, что уже не виден за деревьями, я с облегчением вздохнул.
Идти было легко. Ноги не вязли в земле, мороз успел её выровнять, снег же мелко лежал по краю. Лес постепенно светлел, но я бы смог дойти и ночью: здесь мне была знакома каждая тропинка. Чем дальше уходил, тем спокойней становился, наступающий день придавал мне силы.
До нужного места добрался быстро, хотя тяжело дышал от спешки. Решил было присесть на поваленное непогодой дерево, но быстро продрог и, чтобы немного согреться, принялся ходить широким шагом вдоль обочины, несколько шагов, поворот, ещё несколько шагов. На дороге было совсем тихо, только слышался сухой треск веток, небрежно придавленных моим башмаком.
Так я ходил, прислушиваясь ко всяким шорохам, стараясь издали расслышать приближение всадника. Но время шло, шар солнца двигался к верхушкам деревьев, уже был не рассвет, но утро, а дорога оставалась такой же безлюдной. Меня охватили сомнения. Перед собой я приметил дерево, его макушка качалась чуть в стороне от остальных, и решил, как только солнце заблестит в последней ветке, поспешу домой, хотя буду сильно разочарован, но видно, так угодно Господу.
Наконец до меня долетели какие-то звуки, похожие на размеренный конский шаг. В радостном нетерпении я пошел им навстречу, но вскоре, помимо шагов, послышались скрипы и неровное постукивание от колес, будто ехала расшатанная телега. И точно: из-за деревьев показалась лошадь, а в телеге, что она везла, сидел, укутавшись в толстую накидку, мужчина, казалось, он дремлет, слегка покачиваясь.
Раздосадованный столь ненужным мне явлением, я сошел в сторону, уступая дорогу. Лошадь неторопливо и уверенно протащила телегу, мужчина нехотя приподнял голову, им оказался Пикар, он провел у нас ночь назад и теперь, судя по всему, возвращался в город. Узнав меня и сильно удивившись, он натянул вожжи, лошадь остановилась. Бежать было некуда, да и поздно, раз он меня заметил.
– Что ты тут делаешь?
Я ответил первое, пришедшее в голову.
– Возвращаюсь на постоялый двор.
Я всегда чувствовал, что Пикар меня недолюбливает, и со своей стороны скрывал такую же неприязнь к нему. Дело даже не в том, что мне было противно это вечно засаленное лицо, я подозревал у него такие же нечистоты в мыслях, и при каждом подходящем случае он был рад ими воспользоваться. И вот теперь Пикар явно обрадовался возможности досадить мне.
– Возвращаешься на постоялый двор? Где же ты шлялся всю ночь? Рано начинаешь, Корнелиус… Впрочем, я всегда думал: рано или поздно ты свернешь на скользкую дорожку. Садись-ка, отвезу тебя, уж больно хочется посмотреть, как Арно задаст тебе хорошую трепку, а я добавлю, в следующий раз не будешь выхватывать хлеб, за который уплачено.
Он злобно сощурился. Говорил он скрипуче, и слова мешались с каким-то гнусным хихиканьем, глаза перекашивались, в тот момент лицо Пикара казалось особенно безобразным, и одна только мысль, что придется ехать в его телеге, вызывала отвращение. Я ответил, что смогу дойти сам и остался стоять на обочине. Пикар осклабился.
– Что же ты не идешь? Погоди, я помогу тебе сдвинуться.
Соскочив с телеги, он направился ко мне. Глядя на его налитое злобой лицо, я отступил, но, в общем-то, не ждал ничего плохого. Пикар же неожиданно вцепился в мои волосы и, вырывая их, принялся трясти голову, приговаривая:
– Я научу тебя относиться с должным почтением…
Огненные пятна вспыхнули у меня перед глазами. Казалось, со всех сторон в голову врываются раскаленные стрелы, ещё немного – они сольются, и случится настоящий пожар. Жестокая боль погасила разум, а когда уходит разум, остаются только чувства, и одно дело, если нас ослепляет любовь, во мне же запылала дикая ненависть к человеку, о котором думаешь с презрением, но которому не сделал ничего плохого. Он же, по каким-то своим правилам, понятным только ему, считает, что может вытворять с тобой всё, что захочет.
Переполненный этой ненавистью, я отчаянно старался освободиться из его рук, но он вцепился в меня со всей силой, на какую был способен. Протащил несколько шагов и не собирался отпускать, исступленно терзая мою голову. Поняв всю бесполезность попыток, изловчившись, я впился зубами ему в руку. Заревев на весь лес, он ослабил хватку, и мне, наконец, удалось вывернуться. Как в тумане, передо мной плыло раздувшееся багровое лицо Пикара, из прокушенной руки полилась кровь, и кровь стояла в его глазах, когда он, обезумев от сопротивления, готовился вновь на меня наброситься. Шея его вздулась темными, почти черными полосами, а пальцы сжались в тяжелые кулаки, удар одного из них мог превратить в калеку даже взрослого мужчину. Моя рука подхватила с земли какую-то палку, чтобы обезопасить себя, я схватился за толстую ветвь от того поваленного дерева, на котором ещё недавно дожидался гвардейца. Пикар приближался, и, защищаясь, я неловко взмахнул рукой. Раздался глухой удар, мне показалось, палка лишь слегка задела голову Пикара, но тот неожиданно обмяк и, как подкошенный, медленно опустился на землю. Ноги его задергались, словно он силился подняться, потом неловко замерли, он остался лежать неподвижно. Ничего не понимая, я выронил палку из разом ослабевших рук.
– Черт побери, парень, да ты, кажется, убил его… – раздался чей-то голос. – Что здесь произошло?
Содрогаясь от этих слов, я обернулся. Рядом стоял гвардеец, я даже не слышал, как он подъехал.
*****
14
Пикар лежал, уткнувшись залитым кровью лицом в полусгнившую листву. Его грузное тело, лишившись жизни, стало ещё тяжелее, и нам с трудом удалось оттащить его в лес, дальше от дороги. Разум вернулся ко мне, но я был так потрясен, что не мог ни думать, ни говорить. Голова разламывалась от боли, к горлу подступала какая-то дурнота.
Гвардеец же, наоборот, говорил, не умолкая, произошедшее не особенно его волновало.
– Ну, одним мерзавцем меньше стало… В Париже однажды драка случилась, мы таких восемь положили, что поделать, такова жизнь.
Смерть для него являлась чем-то неотъемлемым, а потому естественной в жизни, он привык с ней встречаться, я же, заглянув в её глаза, был страшно удручен.
– Как я смогу вернуться к хозяину? – повторял в отчаянии, не сознавая, спрашиваю ли у себя или у гвардейца.
Казалось, я покинул двор не нынешним утром, а много дней назад. Я никак не мог поверить в содеянное, но какая-то тяжесть надавила на мои плечи, заставляя пригибать ниже голову. Не удивился, если бы увидел седину у себя в волосах – так переживал, что стал, пусть невольной, но причиной гибели человека. То вслух, то про себя шептал молитву – хоть к этому оказался способен в тот горестный час, молил за свою душу и благодарил, что послана помощь, кто-то готов меня поддержать: видя, что со мной творится, гвардеец задержался с отъездом.
– Да, нетрудно будет раскопать, чьих рук это дело. По правде говоря, у тебя сейчас всё на лице написано.
Эти слова потрясли меня едва ли меньше, чем сама гибель Пикара. Неужели эта нелепая смерть уже успела оставить на лице свой отпечаток? Я чуть не выхватил зеркало, неужели уже заметно, что я убийца, и больше никогда не увидеть того по-детски трогательного мальчика, которому улыбался ещё несколько часов назад.
Гвардеец же продолжал:
– Думаю, будет лучше, если ты уедешь отсюда на время. Может, в город, как-нибудь попробуешь устроиться. А когда всё забудется, сможешь вернуться. Да в любом случае, не вечно же тебе сидеть рядом с этим надутым индюком, твоим хозяином.
Я кивал головой в ответ на его слова, хотя с трудом разбирал их смысл.
– В таком случае, парень, тебе надо торопиться, незачем время терять. Знаешь, как добраться до города?
– До какого города? – переспросил я.
– До любого, черт возьми. Отправляйся в Лион или Дижон, какой тебе больше нравится… Только не стой посреди дороги, как виселица.
– Да… Да, наверно… Я смогу добраться до города… – в растерянности я озирался по сторонам, словно выбирая, куда лучше направиться.
Но я не мог собраться с мыслями. Всё происходящее казалось настолько невозможным, что, хотелось думать, случилось не со мной. Кто-то другой сейчас отправится в город, я же спокойно вернусь на двор, вспоминая встречу в лесу, как тяжелое сновидение, что может явиться во время болезни. Однако гвардеец был другого мнения.
– Я провожу тебя, только не медли. Бери лошадь, и поехали быстрее. Мне уже давно пора быть в пути.
С этими словами он пошел, явно намереваясь уезжать.
Я не понял, о какой лошади идет речь, тогда гвардеец ткнул рукой в сторону, и я увидел лошадь Пикара, спокойно стоявшую, чуждую ко всему, что пронеслось перед нашими глазами. Я подошел к ней, она и не думала сопротивляться, когда я распряг и вывел её на дорогу. Потом нерешительно посмотрел на гвардейца, но тот, уже в седле, с нетерпением махал рукой:
– Да что тут думать, покойнику лошадь ни к чему, а тебе хорошо послужит.
– А если лошадь кто-нибудь узнает? Узнает, что это лошадь Пикара?
– Узнают, если ты немедленно не уберешься отсюда. Пикар бы её узнал, да говорить уже не сможет.
Если бы он дал мне хоть немного времени на раздумье, возможно, я принял другое решение. Но я побоялся, что он уедет, оставив меня одного, и ничего другого не оставалось, как подчиниться. С трудом взобравшись на лошадь, я закашлялся и никак не мог отдышаться: горло давила судорога, то ли дурноты, то ли от подступавших рыданий.
Гвардеец внимательно осмотрел меня.
– Повезло: на тебе не осталось его крови, а то расспросов не миновать.
Когда мы тронулись, с непривычки я еле усидел на лошади, в другой обстановке это было бы на редкость комичное зрелище, но тогда мне было не до смеха. Деревенская кляча, доставшаяся от Пикара, оказалась не сильно способной к верховой езде. Я старался держаться гвардейца, он же старался не пустить свою лошадь вскачь, дабы я не отстал безнадежно. Мы следовали друг за другом на некотором расстоянии, но будто незримая нить стянула нас: он уезжал и увозил меня, о том, что может меня ждать, никто из нас не думал.
*****
15
Мы провели в седле до самого полудня. Какое-то время лошади стремительно неслись вперед, всё дальше от того места, где остался лежать Пикар. К моим душевным мукам добавились муки физические: я держался в сильном напряжении, опасаясь при малейшем неверном движении вылететь из седла, и очень быстро ломота наполнила тело, каждая косточка давала о себе знать, в довершение я до крови изодрал руки. Подавляя стоны, я терпел всю эту боль, не сомневаясь, что она послана во искупление содеянного мной. Боль рвалась из тела, за ней я почти ничего не видел перед собой, только чувствовал: силы на исходе, ещё недолго – и я свалюсь наземь. Что же, придется разделить участь Пикара, наверно, это и есть справедливость, – подумалось мне.
Однако судьба хранила меня, и вскоре, давая лошади отдых, гвардеец перешел на шаг. Я нагнал его, лошади двигались рядом, но я не заговаривал с ним, и он не искал моего общения, только один раз переспросил моё имя.
Мы все ещё ехали по лесу, в местах, мне совсем незнакомых – никогда не думал, что наш лес тянется так далеко. Глядя вниз на дорогу, я видел, как она расходится в разные стороны, потом сливается с другой дорогой, вышедшей из чащи, петляет, словно весенний ручеек, когда тот стремительно несется к реке, по капле вбирая в себя другие воды, чтобы целым потоком слиться с родной стихией. Я удивлялся, как гвардеец безошибочно определял, где сделать поворот или какую дорогу выбрать – я бы не отличил одну от другой. Мне вспомнилось: кто-то говорил, мы не выбираем дорог. Как же давно это было!
В неспешной езде я почувствовал себя значительно лучше, в голове прояснилось, и, чем дальше мы уезжали, тем меньше стенала моя душа, словно все ранившие её мысли остались лежать рядом с Пикаром.
В полдень мы проезжали через небольшой городок, название которого я так никогда и не узнал. Пожалуй, от обычной деревни его отличали только несколько домов в два или три этажа. Гвардеец бывал здесь раньше. Во время обеда мы, наконец, разговорились, разливая вино, он спросил:
– Ты решил, что будешь делать дальше? Я бы не советовал оставаться прямо здесь: паршивое место, к тому же все друг друга знают.
Я ответил, что пока не успел обдумать. Это было правдой лишь наполовину: не то, что не успел, но ещё не был готов о чем-то задумываться. Мысли ускользали, и я вполне довольствовался тем, что просто куда-то ехал.
Гвардеец сочувственно кивнул.
– Попал ты в заварушку, но ничего, считай – ещё легко отделался. Если хочешь, можешь пока ехать со мной. Вижу: денег у тебя нет, но расход небольшой, а когда заработаешь – вернешь, я часто здесь езжу.
– Какие города ещё есть на этой дороге?
– Через пару дней приедем в Дижон. Ты бы мог там остаться, я знаю кое-кого, могу поспрашивать, не найдется ли работа.
Я благодарил. Гвардеец уже не был так отстраненно холоден, как в первые минуты нашего знакомства, когда едва не заколол меня шпагой, и к концу разговора мы стали называть друг друга по имени.
Оказалось, Жюсту минуло двадцать три, последние пять лет он служил в гвардии. В Лионе на этот раз удалось повидать родных, там жила его кузина, недавно разрешившаяся от бремени, а вообще, приходится много ездить, в гвардии ему благоволят и часто отправляют с поручениями, подробностей он не коснулся. Мне было особенно нечего рассказывать о себе и, чтобы отвлечься, спросил, нельзя ли поступить на службу в гвардию. Жюст посмеялся моей наивности.
– Это немного труднее, чем можно представить, боюсь, одной моей просьбы будет недостаточно. Не помешают рекомендательные письма, а также поручители, которые подтвердят, что ты готов ревностно служить его величеству.
Но ты не так прост, Корнелиус, если сразу рвешься в слуги к королю.
Я старался улыбнуться в ответ, но улыбки не вышло. Отчасти из-за Пикара, отчасти из-за сильной усталости, что стала одолевать, но больше от людей, нас обступавших, я чувствовал сильную скованность, даже вино не принесло облегчения. Со всех сторон двигались, стояли, сидели незнакомые люди, в общем, они были похожи на тех, кого я привык встречать раньше – такие же шумные, чаще грубые и малоопрятные, но их было намного больше. Я дичился не отдельного человека, а этого скопища, не зная, как себя вести, что говорить, и надо ли вообще с ними говорить. Благодарение Богу, был не один, это уберегло в первые дни, иначе никто не ведает, каких ещё ошибок сумел бы натворить.
Отдохнув, мы продолжили путь. Тело опять сковывала боль, но молодость брала своё, и я уже находил в себе силы смотреть вокруг, пытаясь запоминать дорогу: кто знает, когда понадобится вернуться по ней, в душе надеялся, что смогу это проделать очень скоро. Но по неопытности мне мало что удавалось. В дороге не было особого разнообразия, которое помогло бы памяти дольше сохранить увиденное. Может, летом, когда природа расцветает, дорога выглядит по-иному, и каждый шаг чем-то отмечен. А зимой перед глазами мелькает всё та же мрачная картина из голой земли, неровно присыпанной снегом, пустых полей и выступавших за ними, подобно останкам пепелищ, построек.
Как же я ошибался, когда с радостным нетерпением мечтал о путешествиях! На самом деле – это труд, и потяжелее того, чем мне приходилось заниматься на постоялом дворе. Там хоть проводишь дни в тепле, крыша над головой защищает от непогоды. А здесь ледяной ветер продувает насквозь, одежда в беспорядке, весь зад отбит, руки не слушаются и трясутся от напряжения. Хорошо ещё, что тогда начиналась зима, а летом приходится страдать и от дорожной пыли. Пыль эта – повсюду: на одежде, руках, на лице, не дает дышать и забивается в рот, так что приходится постоянно сплевывать.
Всю дорогу я, как тень, следовал за Жюстом, ни о чем не спрашивая, только старался повторять его движения. Это избавляло от лишних объяснений, и, кажется, он остался доволен таким незаметным спутником.
К вечеру мы добрались до другого города. Нас встретили ровные ряды домов, жавшихся один к другому, в сумерках стены казались невидимыми, лишь окна слабо проступали бледным светом. Покружив по безлюдным улицам, мы, наконец, приблизились к одному из них, спрыгнув на землю, Жюст постучал. На стук ставни приоткрылись, по разговору я догадался, что Жюста в этом доме знают. Когда мы подошли к двери, на пороге ждал старик, пробормотав слова приветствия и старательно избегая смотреть нам в глаза, он повел наших лошадей вверх по улице.
В доме стоял какой-то затхлый запах, вроде плесени, и невольно я сморщился. Позже я встречал этот запах во всех больших городах, в Париже он был особенно невыносим от обилия грязи, старых вещей, годами покрывавшихся пылью, и отсутствия притока свежего воздуха. В деревне мы чувствуем только то, что дает нам сама земля: кружит голову запах цветов, пахнет мокрой травой, и, даже когда смердит навоз, в этом нет ничего неестественного. Но затхлый воздух городов для меня всегда был наполнен отравляющей гнилью, он нёс болезнь и разрушение, как окружающим вещам, так и людям в их окружении.
Навстречу нам устремилась молодая женщина. Не взглянув на меня, она подошла вплотную к Жюсту и прижалась губами к его губам. Жюст не сделал попытки её обнять, но его губы ответили на тот поцелуй. Это не был поцелуй брата и сестры, нет, его породила не дружеская привязанность, но страсть, и я, невольный свидетель этой страсти, испытал неловкость и стеснение, чувствуя, как кровь приливает к лицу. Их губы по-прежнему соприкасались, пальцы Жюста осторожно провели по щеке женщины, на их лицах дрожали тени. Слегка наклонив голову в мою сторону, Жюст проговорил:
– Он едет со мной, ему тоже нужен ночлег. Ты сможешь помочь?
Женщина, наконец, обратила на меня внимание. Словно желая получше разглядеть, она взяла в руки подсвечник, оставленный у двери, но быстро прошла мимо и стала подниматься по лестнице. Лестница привела нас в комнату, совсем крохотную, заставленную мебелью, с массивной кроватью в углу, едкий запах витал и здесь.
Рядом с изголовьем кровати оказалась ещё одна дверь, женщина попросила меня войти, я услышал её голос, он звучал довольно низко и неожиданно напомнил об Ансельми. Бог мой! Оказывается, я не вспоминал о нём с самого утра, с того момента, как встретился с Пикаром. Долгие часы, пока трясся в седле, я размышлял о чем угодно, но об Ансельми ни разу. Как же могло случиться, что я совершенно о нём позабыл…
Вероятно, в комнате, куда я вошел, предпочитали заботиться о себе: здесь лежали отрезы, служившие полотенцем, на небольшом столике громоздились какие-то коробочки, а под столом примостился перевернутый таз. Женщина принесла одеяло и расстелила на полу. Потом забрала подсвечник и вышла, плотно притворив дверь. Единственным освещением оставалось пятно из лунного света, проникавшего в комнату через окно, вырезанное под самой крышей.
Быстро стянув одежду, в одной рубахе я растянулся на одеяле. И, хотя глаза закрывались без моего на то участия, решил, не откладывая, заглянуть в зеркало, удостовериться, что удалось сотворить сегодняшнему дню. Руки дрожали от волнения, когда подносил зеркало к лицу. Света недостаточно, лучше бы подождать до утра, но я был слишком напуган, а потому нетерпелив. Из глубины проступили глаза, измученные, настороженные, они казались чужими, но, верно, от усталости, – подумал я и быстро осмотрел лицо. Ничего особенного. Я почувствовал облегчение. Оглядел себя снова. Немного отдыха, и всё будет по-прежнему, – решил наконец.
Из комнаты, где остались Жюст и женщина, доносились какие-то скрипы и едва слышный шепот, настолько тихий, что было невозможно понять, кому он принадлежит. Потом показалось: я слышу негромкий стон, он прозвучал, но сразу оборвался – то ли стон, то ли вздох. Не удержавшись, я поднялся с пола, подошел к двери и приоткрыл её, намереваясь окликнуть Жюста.
Двое стояли как раз напротив окна, ночной свет окутывал фигуры, делая отчетливыми изгибы и выделяя движение. Фигура мужчины с силой сжимала в объятиях фигуру женщины, её тело послушно гнулось в его руках, поддаваясь порывам желаний, свидетелем которых я опять становился. Я должен был поскорее захлопнуть дверь, но почему-то не сделал этого и, незамеченный, продолжал наблюдать, как мужчина освобождает женщину от одежды. Уверенность во всех его движениях чувствовалась необычайная, он ни на мгновение не сомневался: то, что находится в его руках, принадлежит ему.
Трудно сказать, сколько я простоял, глядя на них, завороженный этой новой для себя стороной жизни. В объятиях они опустились на постель, до меня доносились стоны, а их тела то тесно сплетались, то замирали без движения, давая друг другу краткий отдых.
В смятении от увиденного, я прикрыл дверь, жар медленно растекался по телу. Вернувшись на одеяло, я лежал неподвижно, но биение сердца не давало уснуть. За один день я встретил смерть и вот теперь увидел любовь в одном из её проявлений – как странно всё переплетается в жизни.
Если бы утром нашелся провидец, сказавший, что следующую ночь я проведу в незнакомом доме, за стеной мужчина будет любить женщину, и всё после того, как моя рука принесет смерть человеку, который тем же утром был бодр и, как ни в чем не бывало, собирался прожить новый день, за ним ещё два, а потом многие годы, но мое неловкое движение навсегда остановило его намерения… Это оказалось слишком невероятным для моего понимания, разумеется, я бы не поверил. Но, размышляя позже, заключил, что одно следует за другим, как неделимая часть, порожденная чем-то случившимся и, возможно, те двое любили друг друга, чтобы дать новую жизнь взамен утраченной. Они осознали себя в этой жизни, мне же ещё только предстоит найти свое место. И, если уже суждено провести дни вдали от родных, почему бы завтра не попросить Жюста помочь добраться до Парижа и попробовать разыскать Ансельми.
То решение стало первым из немногих осознанных, принятых мною, до него я лишь следовал неизбежному за уже свершившимся. Решение, которое сложило в мучительную цепь все последующие события, но что я тогда понимал в этом… Конечно, я мечтал свидеться с Ансельми, но никогда не думал добиться встречи такой ценой, видит Бог, не было у меня таких мыслей.
*****
16
Я боялся, что во сне мне явится Пикар и примется грозить всеми карами небесными, но обошлось, спал я довольно сносно, лишь иногда изболевшееся за день тело напоминало о себе.
Проснувшись, поначалу с возрастающим удивлением осматривался по сторонам, не понимая, как мог здесь очутиться. Наконец, память воскресила подробности вчерашнего дня, и со стоном я уткнулся головой в одеяло. Но делать нечего, случившееся уже навсегда останется со мной, и самым разумным было попробовать с этим примириться. Я принялся одеваться, когда внимание привлек лежащий на столике предмет, по виду – с гладкой поверхностью. Я осторожно взял его в руки, и на поверхности появилось лицо. Это было подобие моего зеркала, в чем-то более совершенное: для удобства руки к нему была сделана изящная ручка, но смутно и невыразительно проявлялось в нём само отражение, оно расплылось так, что лицо становилось почти неузнаваемым. Моё зеркало умело показать каждую черточку и даже едва заметную морщинку, это же определяло формы, но, теряя подробности, само лицо выглядело безжизненным. Тем не менее, не появлялось сомнений, что сей предмет служит той же цели.
Задумавшись, я вертел зеркало в руках и неожиданно испытал острое чувство близости с женщиной, обнаженное тело которой извивалось перед моими глазами ночью, при желании я бы мог дотронуться до него рукой. Она обладала таким же редким предметом, и некая общность словно соединила наши души, что подчас вызывает много большее волнение, чем обычная физическая связь. Сама по себе физическая связь слишком коротка в жизни, глупец тот, кто ищет только её. Она приносит удовольствие, оно скоротечно и обрывается, едва одно тело покидает другое. Мы забудем о пережитом очень скоро, но, если задета наша душа, тончайший механизм начнет действовать, и не будет нам покоя, пока мы снова не соединимся и не обретем друг друга. В этом я смог убедиться позже, а тогда, конечно, был слишком юн и физические проявления занимали меня куда больше.
Шаги за дверью заставили оторваться от мечтаний, я спешно вернул зеркало на его обычное место. В дверях появился Жюст, он был одет и дал знак, что уезжает. Мы вышли из дома, лошади стояли привязанными к коновязи у дверей, глоток воздуха, пропитанного свежестью, помог окончательно прийти в себя, и со вздохом я приготовился к новым испытаниям, что сулила дорога.
Но настроение поднялось, когда мы двигались по городу, сверкающему от снежной россыпи на крышах домов и деревьях. Жюст дружелюбно переговаривался со мной, и я решил посвятить его в свои планы. Опять услышав об Ансельми, он лишь покрутил головой.
– Дался тебе этот Ансельми… Впрочем, поступай, как знаешь, дело твоё.
Я ничем не выдал, что видел прошлой ночью, да и вопросы пришлись бы не к месту. Чаще я молчал, привыкая довольствоваться малым. Но и от малого можно узнать больше, чем от намеков или уклончивых ответов.
Я ожидал, что их расставание будет таким же бурным, как и ночь, но ошибся. Уезжая, Жюст даже не попрощался, а когда мы проходили через комнату, женщина спала или, возможно, делала вид, что спит. Всё-таки я не удержался и спросил, как зовут хозяйку дома. Жюст процедил имя, так неохотно, и я не решился заговорить о ней вновь.
Мы думали об одном, но не сама женщина была источником мыслей, а то, что каждый смог от неё получить. И мне она сумела подарить чувство, хотя я почти не видел её и, случайно встретив, вряд ли смог узнать. Это чувство возвращало в обычную жизнь, заставляло думать о дне наступившем, и с удивлением я понял, что почти не вспоминаю о Пикаре. Был ли обязан этим женщине, или в юности мы склонны всё переживать быстрее, но путешествие уже не казалось столь трагичным, а предстоящая встреча приятно волновала душу.
Дорога до Парижа заняла больше недели. Позже я всегда возносил молитвы Господу, что дал мне те дни и человека, разделившего их со мной, ибо только благодаря нашему союзу я смог понять, что выживу, если не отторгну, но приму происходящие в жизни изменения как можно скорее.
Большие города поражали меня. Каменные глыбы зданий нависали, готовые обрушиться, а толпы народа, что нас встречали, могли растерзать и поглотить, мой страх перед ними был огромен, и я выучил свой первый урок: надо сначала научиться преодолевать этот страх. Для городов и живших в них людей я был ничтожной крупинкой, попросту никем, но старался сблизиться с ними, ибо только в этом увидел своё спасение. Мне так долго приходилось хранить молчание, не будучи немым, теперь же, чтобы стать их частью, требовалось научиться говорить с ними. От природы я был очень робок и стеснителен, да и обстоятельства не позволяли вести себя иначе. Жюст помогал, как мог, казалось, для него в жизни нет тайн, и как должное он принимал всё, что жизнью ему давалось.
В Дижоне он любил другую женщину. На ночь мы остановились в знакомом ему месте – что-то вроде гостиницы. Совсем юная девушка принесла ужин и, раскладывая еду, улыбалась, поглядывая на нас. Черные колечки волос в беспорядке вились вокруг её лба, а в глазах пряталось столько лукавства, в котором без труда можно было отыскать любопытство к жизни, такое же любопытство испытывал я и простодушно вообразил, что могу быть ей интересен. В тот вечер я впервые решился ответить улыбкой женщине. Однако она не приняла мой взгляд, лишь равнодушно повела глазами, зато неотрывно смотрела на Жюста. Вспыхнув от обиды, а ещё больше от смущения, что он всё заметил и теперь явно забавляется увиденным, я судорожно глотал еду, не решаясь взглянуть на него.
До конца ужина так и не сумел поднять глаза, страдая от неудачи. Этажом выше нам приготовили комнату, вскоре Жюст решил подняться наверх, я же, сославшись на головную боль, заявил, что приду позднее. На самом деле мне очень не хотелось ловить его насмешливый, хотя и безо всякого недоброго умысла, взгляд.
Пережить поражение в одиночку оказалось легче, и, наконец, я смог оглядываться на проходивших мимо. В дни, проведенные с Жюстом, не было случая пользоваться зеркалом, но его успешно заменили окружавшие лица, благо за последнее время они прошли передо мной в великом множестве. Я не знал книг, которые могли бы послужить ответом на вопросы. Не имея иного источника, я присматривался к людям, полагая, только так и постигают секреты бытия. И надо сказать, размышлений они давали предостаточно.
Взять, к примеру, того мужчину, может, он торговец или хозяин лавки – одежда грубовата, но аккуратная, видно, следит за собой. Волосы лежат ровно, лицо пухлое и гладкое, морщин мало, хотя годы его немалые, по всему вроде добропорядочный, а всё-таки есть что-то неприятное. Что скрывают эти крошечные, словно прикрытые глазки, бегающие от вашего взгляда, и какие слова может произнести кривящийся в разговоре рот – вижу, как мужчина расспрашивает одного из гостей.
А вон тот человек напротив тщательно выбирает ложкой последние кусочки. Одежда победнее будет, движения мягкие, вкрадчивые, лицо и без того широкое, а он ещё и волосы назад отбросил, хотя лучше уж прикрыть эти надутые щеки. Глаза его с хитрецой, на подбородке заметен шрам, он-то как раз лица не портит, только всё равно чувствуется заметное беспокойство, что же тому причина? Задумавшись, я смотрел, как передо мной непрерывно двигаются чужие лица, и очнулся, когда сообразил, что все расходятся, и я остаюсь один.
В узких проходах пришлось почти наощупь добираться до отведенной нам комнаты, я уже нащупал ручку двери, как дверь распахнулась сама, и навстречу мне кто-то выбежал. Мы почти столкнулись, несмотря на стоявший полумрак, я сразу узнал девушку, разносившую еду. Чтобы устоять, она схватилась за мою руку, это заставило её разжать ладонь, и на пол со звоном посыпались монетки. На мгновенье девушка замерла, но отыскать их до утра не представлялось возможным, горестно всхлипнув, она пробежала мимо и скрылась в конце коридора.
Было нетрудно обо всём догадаться, и обида опять сдавила мне сердце. Я был уверен: Жюст не встречал её раньше, как же они смогли так быстро понять, что им нужно друг от друга? Очевидно, существует секрет, в который я пока не посвящен, и только лицо вряд ли сумеет его раскрыть.
Я не решался спрашивать, но на следующее утро Жюст сам заговорил об этом.
– Надеюсь, Корнелиус, в Париже ты будешь посмелее, – как бы невзначай бросил он, когда мы собирались в дорогу.
Я чувствовал, что краснею.
– Почему они улыбаются тебе, а мне никогда?
– Наверно, потому, что я им улыбаюсь, а ты смотришь волком.
– Как? Волком? Я смотрю на них, как на всех.
– Ну, нет – на меня ты смотришь по-другому. А всё потому, что меня ты не боишься, а их боишься.
– Никого я не боюсь, – буркнул сквозь зубы.
Жюст расхохотался.
– Да ладно, страшно только в первый раз, а потом как пойдет – удержу знать не будешь.
И прибавил со странным смешком:
– Думаю, Ансельми сможет тебе в этом помочь.
Я не понял, почему он вспомнил об Ансельми, но промолчал.
В остальном мне везло, я оказался способным и быстро учился, теперь мне стала понятна ценность зеркала. Выучившись со стороны наблюдать своё лицо, я постепенно разбирал другие лица. Выделял те, с которыми хотел бы сблизиться, и старался избегать, когда видел, что они недостаточно расположены ко мне. Мне хотелось чувствовать лицо, то настроение, которое оно излучает, искать лица добросердечные, наполненные теплом, и был разочарован, поняв, как мало таких людей встречалось на нашем пути, слишком мало, чтобы определить, что есть добро в них. Тогда я решал искать в лицах зло, чтобы, однажды осознав, его избегать и никогда к нему не приближаться.
*****
17
Большая часть времени прошла в дороге. Присутствие Жюста избавляло от нежелательных взглядов и лишних расспросов, да и не так много людей обращали на нас внимание. Жюст подтвердил мою догадку, что зимой отправляются в путь реже, но столько людей, сколько встретилось при подъезде к Парижу, ранее мне видеть не приходилось.
Последнюю ночь мы провели в предместье. Весь двор, где мы остановились, занимали лошади, телеги, экипажи, и ещё Бог знает какие мешки, набитые тюки и сами люди. Те, кому не хватило места за столом, грелись у огня прямо на улице, чтобы с первыми лучами войти в город. Постепенно я привыкал к тому гвалту, что производило это скопище, хотя поначалу он казался мне оглушительным. Я стал терпимее, когда нашел в нём свои достоинства: при необходимости шум этот мог заглушить мысли, если собственные мысли вам не в радость, и вы не против от них отделаться. Поэтому ту ночь Жюст провел в теплом доме, я же предпочел улицу. Бродил среди нагромождений из тел, их вещей и животных, и мне не верилось, что через несколько часов случится то, о чем я так долго грезил. При этом старался не отвечать на голос, нашептывающий где-то внутри, что не доброе провидение способствовало тому, а роковая встреча. Всё же душа моя жила надеждой на лучшее, мне хотелось представлять, как произойдет наша встреча, какие слова я найду для приветствия, и что последует за ним.
И вот я въезжал в Париж, чтобы остаться в нем… Кто знает, сколь долго. Ещё в дороге Жюст в нескольких словах упомянул, что Ансельми и его товарищи трудятся в мастерской поблизости от Сент-Антуанского аббатства, до аббатства пришлось добираться почти через весь город. Зимний день был хмурым, но для меня Париж в то утро выглядел так, словно солнце слепило глаза. Город сам был солнцем, притягивающим к себе обещанием живительного тепла и безжалостно сжигающим всё, что лишалось его милости.
Город жил своей привычной жизнью. С жадным интересом я оглядывался по сторонам, боясь пропустить нечто важное. Мое внимание одинаково быстро привлекал ряд домов, украшенных фигурами трепетных созданий, или огромная шляпа господина, нахлобученная притом на довольно грязный парик. В то же мгновенье я поворачивал голову, слыша, как разносчик сладостей громко нахваливает свой товар.
Радость мою омрачало лишь страшное зловоние, царившее вокруг. Такой же удушливый запах встретил меня в первую ночь пути, только здесь многократно повторенный – нигде не было от него спасения, царство его было повсюду. Он исходил от улиц и домов, мимо которых мы проследовали, равно как и от людей, населявших эти улицы… Но не верьте тому, кто скажет, что Париж груб и мрачен, Париж может быть разным, и для каждого он открывается той стороной, каков есть сам человек, в него входящий, Париж – как зеркало, в котором мы можем найти своё отражение.
Ехали мы медленно, протискивались сквозь толпу, высыпавшую на улицы, словно был великий праздник. Люди, повозки, всадники непрерывным потоком двигались перед нами, одни спешили по делу, другие же с раннего утра искали развлечений. Их забавы, скажу вам, всегда оставались для меня малопонятными.
На одной из площадей – Жюст назвал её Гревской – гудящая толпа намеревалась стать свидетелем казни молодой женщины. В длинном грязно-белом одеянии она казалась совершенно отрешенной от жизни, бушевавшей перед её глазами. Взгляд был устремлен на стоящих перед ней, но глаза едва ли их различали. Наклонившись, Жюст вполголоса расспросил, в чем её обвиняют, ему ответили, что она удушила собственного ребенка и вообще подозревается в колдовстве. Я холодел от ужаса, вспоминая: и на мне есть смертный грех убийства, в котором ещё не покаялся и – кто знает – заслужу ли прощение. Ведь, по сути, что отличало меня от той несчастной? Только благодаря покровительству мне удалось скрыться, и неизвестно, как сложится жизнь в дальнейшем. Происходящее столь сильно потрясало, я едва не разрыдался, чувствуя, что сам нуждаюсь в исповеди, возможно, такой же, как сейчас пытается произнести перед священником эта страдающая, еле шевеля безжизненными губами.
Мы проезжали достаточно далеко от возвышения, на котором женщина преклонила колени, но мне удалось видеть её бледное, распухшее то ли от слез, то ли от какой-то болезни лицо. Рассмотреть само лицо мешали спутанные волосы, они налипали со всех сторон, она даже не старалась их отбросить, безвольно покоряясь всему, что ещё могло случиться, пока смерть не забрала её душу. Может, она так и не раскаялась, или Бог посчитал раскаяние недостаточным, но последние минуты не принесли ей утешения, чтобы достойно встретить вечность. Толпа на площади выкрикивала всевозможные насмешки и ругательства, чья-то рука швырнула камень. Я больше не смотрел, но чувствовал, как её душа молит не о себе, не о ребенке, но чтобы всему поскорее пришел конец.
Жюст торопил, очевидно, от нетерпения встретить товарищей или ещё кого.
– Этого здесь предостаточно, если останешься, можешь смотреть хоть каждую неделю.
– Так часто казнят? – сдавленно спросил я.
– Народу хватает, – он беззаботно рассмеялся.
Мы свернули на одну из прилегающих улиц и отъехали довольно далеко, когда со стороны площади долетел глухой рокот, едва слышный рев толпы, означавший, что казнь свершилась.
Почти рядом с аббатством моим глазам предстала крепость – угрюмое, вросшее в землю строение. Даже воздух потерял здесь обычную легкость, замер в тяжелой неподвижности. Полюбопытствовав, не служит ли крепость домом королю, я получил ответ, что это тюрьма для совершивших злодейские преступления и опасных бунтовщиков, в народе её называют Бастилия. Вокруг царила гнетущая тишина, изредка прерываемая шагами спешащих мимо, и в конце пути, после всего увиденного, я сам проникся каким-то тоскливым напряжением. Париж больше не радовал, во всем виделось дурное предзнаменование. Голос внутри нашептывал: самое верное поскорее пойти к исповеди, пока душа окончательно не загублена, я изнывал от беспокойства, но был не в силах принять решение.
Словно прочитав мои мысли, Жюст заговорил.
– Можешь быть спокоен, от меня никто о тебе ничего не узнает, сам же будь осторожен.
Но в тот момент мне с трудом давалось сохранять благоразумие. Страдая от близкой разлуки с человеком, к которому успел привыкнуть, и от неизвестности, караулящей за каждым поворотом, со слезами на глазах я прошептал:
– Жюст, я не знаю, как смогу с этим жить.
Он даже придержал коня.
– Да ты что, спятил? Проделать путь, чтобы вот так оставить голову на плахе? Ты из-за чего? Из-за какого-то негодяя, который сейчас жарится в аду, где ему самое место? Не выдумывай, Корнелиус, держи язык за зубами, а остальное наладится. Впрочем, уверен, это пройдет, ты умный парень, в этом я убедился.
Нечего было возразить, дальше мы ехали молча.
*****
18
Задолго до моих дней по соседству с Сент-Антуанским аббатством начали строиться мелкие мастерские. С каждым годом больше и больше им требовалось рук в работу, и многие из бежавших в город крестьян нашли там себе дело. Начинающим ремесленникам ничего не оставалось, как селиться где-то поблизости, так и начал разрастаться этот пригород. Неподалеку, между пологих берегов текла речка, для наших дел оказалась вполне пригодна… И поныне здесь делают мебель, ткут гобелены для королевского двора, хотя многое изменилось, и, вернувшись, я с трудом узнавал улицы и строения, которым время добавило новые этажи, одело людей сообразно их ремеслу, тогда ничего этого не было и в помине.
Неровные домишки наседали друг на друга, часто на нижнем этаже ютилась мастерская, в ней трудились несколько человек, и только заход солнца позволял им уйти на отдых. Согласно приказу, двери мастерской надлежало держать открытыми целый день, в них мог войти каждый, чтобы выбрать или заказать понравившийся товар. Однако строение на улице Рейн, перед которым мы остановились, было предусмотрительно огорожено, а над воротами ограды я заметил королевский герб. Под гербом, отдавая ему должные почести, возвышался привратник, это и была, как я узнал потом, мануфактура по производству зеркал, именуемая королевской.
Жюст придирчиво осмотрел дом, бледно выкрашенный, и перевел взгляд на меня.
– Ну вот, Корнелиус, ты добрался, куда хотел. Хочешь, что бы я расспросил его об Ансельми? – он кивнул на привратника. – Напоследок готов для тебя это сделать.
Я понял, что минута прощания близка. Стараясь не всхлипывать перед насупленным привратником, я принялся благодарить Жюста за его помощь, но тот перебил на полуслове:
– Да ладно, чего уж такого, ничего ты мне не должен.
Он спрыгнул на землю, по уже сложившейся привычке я последовал за ним и теперь стоял, глядя исподлобья в его глаза. Я думал, за эти дни успел изучить его лицо полностью, но сейчас видел в нём нечто особенное. То, что часто и безуспешно искал я в лицах окружающих, незаметно для других, но открыто для меня, наполнило глаза Жюста – такими глазами, наверно, любящий отец смотрит на своё только что рожденное дитя. Оставаясь внешне серьезным, он прибавил:
– Не обещаю, но может случиться, как-нибудь навещу тебя.
Я почувствовал руку на своём плече. Рука, ранее державшая шпагу, готовая без колебаний принести мне смерть, теперь говорила о поддержке, и, желая отблагодарить, я прижался к ней щекой.
Не имея другого подходящего занятия, привратник начал к нам присматриваться, а увидев, как к нему направляется Жюст, напустил на себя самый важный вид, какой только сумел. Но на вопросы отвечал охотно – плащ гвардейца помог и здесь, – и вскоре Жюст вернулся обратно.
– Придется немного обождать. Сейчас все работают, и этот проходимец отказывается к ним идти. Но скоро наступит время перерыва, тогда он обещает помочь разыскать нужного человека.
У каждого из нас есть мгновения, до последнего бережно хранимые в памяти, мы вызываем их, дабы подержать себя в трудную минуту или ищем в них силы, когда жизнь подвергает нас испытаниям. Для меня одним из таких мгновений стал прощальный взгляд Жюста и слова, обращенные ко мне:
– Желаю тебе во всем удачи.
Я остался один напротив мастерской. Жюст не принял моей благодарности, но ничто не препятствовало изливать её вслед. Я понимал: без его вмешательства человек за воротами даже не повернулся бы в мою сторону, а после разговора с гвардейцем готов оказать посильную помощь. Временами привратник посматривал в мою сторону, но уже без подозрений, разговор с Жюстом настроил его вполне миролюбиво.
В тот час я не чувствовал себя скованно в окружении незнакомых людей, я почти перестал их сторониться. Здесь было меньше народа, чем в городе, а те немногие, что шли мимо, в основном бедно одетые работники мастерских, были слишком заняты своими делами, чтобы интересоваться мной.
Проходя по улице из конца в конец, я осторожно заглядывал в распахнутые двери. В столярной мастерской по соседству были погружены в работу трое мужчин. Комнату заполняли неизвестные мне приспособления для сборки, но я не решился подойти ближе, чтобы рассмотреть. Дальше через дом работал краснодеревщик, ему помогал мальчик примерно моего возраста, вероятно, его сын. Заслышав шаги, он с любопытством поднял глаза, но, не увидев во мне стоящего покупателя, отвернулся. Глядя на них, я подумал: может, и мне посчастливиться найти здесь хоть какую работу.
Между тем приближался полдень. Я уже собирался с духом, чтобы напомнить о данном обещании, когда ещё раз внимательно оглянувшись, привратник скрылся за входной дверью.
Поразительно, как спокоен я был в тот час. Мне ещё помнилось биение сердца при появлении Жюста на нашем дворе, теперь же я просто ждал чего-то предрешенного. Про себя улыбался, что наивно представлял нашу встречу в порывах и словах радости, понимая, всего этого не случится. За последние дни что-то успело измениться во мне, пожалуй, от перенесенного душа не то, что огрубела, скорее, утратила некую открытость, которая позволяет нам в детстве безо всякого ограничения выражать любое настроение, будь то слезы или гнев… Но суть моя осталась прежней, в том же нетерпении я желал его встретить, просто чувства проявлялись по-другому.
Он вышел на улицу и, помедлив, неуверенно направился в мою сторону. Я впервые увидел его лицо при свете дня, и оно показалось более необычным, чем в день, точнее, ночь нашего знакомства. Глядя на него, я вдруг понял, какой секрет оно скрывало: в нём отсутствовал самый малый намек на грубость, присущую большинству мною виденных. В лице не было ничего резкого, что отвратило бы взгляд, наоборот, оно притягивало своей соразмерностью, заставляя память сохранить эти правильные, словно вылепленные умелой рукой, черты. Волосы мягко спускались на высокий, смуглый даже зимой лоб, но оставляли открытыми глаза, в них читалось только удивление. Не ожидая встретить, он никак не мог узнать меня, хотя смутно угадывал, что мы знакомы. Я тоже молчал, стараясь продлить это невероятное мгновение: кто знает, что случится дальше, сейчас же я просто счастлив, что нашел его. Наконец он догадался.
– Корнелиус? Ты Корнелиус? – повторил он, ещё сомневаясь. – Вот так встреча… Как ты здесь очутился?
Выглядел он немного растерянным.
– Я здесь очутился, потому что искал счастья, которого ты мне желал, – улыбаясь, ответил я.
– Так ты что, удрал от своего хозяина? – он тоже засмеялся.
– Значит, этого ты мне и желал – я правильно понял?
– Нет, я просто хотел, чтобы жизнь была тебе в радость, а там уж сам решай. Ты решил перебраться в город?
Он оглядел мой изрядно потрепанный дорогой наряд, и под его взглядом мне стало не по себе. Вид у меня тогда был, право слово, совсем как у бродяги, хоть я и старался каждый вечер чистить одежду от грязи. Как Жюст не сторонился ехать со мной, – подумалось мне.
– Не совсем так, Ансельми, но вот случилось, что я добрался до Парижа и хотел бы остаться здесь на время.
Я заметил, как в нем начинает просыпаться интерес к моему неожиданному появлению.
– Что же, я рад, конечно, если ты сам рад. А где думаешь остановиться?
– Не знаю пока, я приехал этим утром.
– Твой хозяин тоже в городе?
– Нет, я здесь один.
– Один? Как же ты сюда добрался?
Он продолжал улыбаться, теперь я видел: он рад нашей встрече, но даже Ансельми я не был готов рассказать о моих приключениях, а потому старался заговорить о том, что волновало.
– Не знаю, как смогу устроиться. Может, попробовать получить работу, как ты думаешь, это удастся?
Ансельми задумался. Казалось, мои путаные ответы его особо не смутили.
– Получить работу? Пожалуй… Послушай, меня уже ждут, нужно возвращаться. Где ты будешь, как тебя найти?
Я неопределенно пожал плечами.
– Могу быть поблизости и приду, когда ты скажешь.
– Хорошо, приходи вечером на это же место.
Он собрался идти, но я удержал его.
– Ансельми, и ещё: не знаешь ли, где бы я мог оставить на время лошадь?
В задумчивости он потер подбородок, но быстро нашелся.
– Лучше тебе сейчас пойти в аббатство. Спросишь отца Бернара, скажи: я прислал, он меня знает. Спроси, возьмут ли на время твою лошадь, думаю, они будут рады принять её в хозяйство.
Не успел я сделать десятка шагов, как он снова меня окликнул:
– Если ты голоден, тебя смогут накормить – они всегда оставляют еду неимущим. Не найдешь отца Бернара в церкви, иди в больницу – он может быть там.
На том мы расстались до вечера.
*****
19
Следуя описанию, что дал мне Ансельми, я довольно быстро добрался до аббатства, собственно, требовалось только подняться вдоль улицы и обогнуть несколько построек. Дальше дорога вилась вдоль какого-то заросшего оврага с мелким ручьем и в конце уперлась в самую ограду монастыря. За оградой виднелись строения разной величины, потемневшие и постаревшие. Возле одного из них монах помогал сгорбленному старцу подняться на ступени, очевидно, это и была больница, я же, ступив за ограду, направился в церковь, возвышавшуюся напротив.
Литургия свершилась недавно. В церкви повсюду горели свечи, пары расплавленного воска мешались к сладковатому запаху, поднимавшемуся от курильницы, я с удовольствием вдохнул его, после гнилых испарений улиц он действовал исцеляюще. Стояла тишина, монахи разошлись на послушание, лишь один из них чистил лампаду в пределе девы Марии. Я спросил его об отце Бернаре, тот сначала сделал вид, что не слышит, но потом всё-таки слез со скамьи и нехотя за ним отправился.
Чувствуя, как сильно устал, я опустился на пол. Прошлая жизнь в деревне заставляла ходить в церковь, однако быть её ревнителем мне никогда не доводилось. В душе все побаивались священников, и хотя бы видимо старались держаться установленных правил, дабы не навлечь их гнев, чреватый дурными последствиями. Но саму жизнь и без того переполняли бесконечные лишения, болезни и заботы о насущном, чтобы ещё задумываться о страданиях после смерти, о коих непрерывно толковали святые отцы. К тому же, теперь с уверенностью я мог говорить: никто не знает, что приготовлено нам завтрашним днем, так много ли смысла задумываться до его наступления? И в тот час я без боязни смог сюда прийти, опасаясь больше, как смогу вынести тяжесть от содеянного при жизни, чем получить осуждение святых угодников, обступавших со стен храма, тем более, что в их глазах не было заметно укора. Глядя на их опечаленные лица, я снова чувствовал желание говорить о своём несчастье в надежде избавиться от тяжести гнетущей, оставшейся в душе после смерти Пикара, хотя про себя соглашался с Жюстом – это небезопасно. Но Жюста не было рядом, на добрые советы рассчитывать не приходилось, я оказался одинок со своими мыслями.
Ведь я не вынашивал планы, желая другому смерти. Ни наяву, ни во сне никогда об этом не мыслил, всё произошло по роковой случайности. Почему же я должен лишиться за это своей жизни, словно преступник, погрязший в тяжких грехах? Неужели, оступившись единожды по неосторожности или недомыслию, человек теряет право быть прощенным, а единственная плата за случившееся – только собственная жизнь? Но что изменит новая смерть, кому она требуется, не лучше ли привести его к раскаянию, тем более, если он сам об этом молит, как о великой милости…
Размышляя, я смотрел на изваяние, будто намеренно установленное передо мной: Дева Мария с венцом из цветов и несмышленым младенцем на коленях. Младенец тянул ко мне руку, словно просил защиты, предчувствуя несправедливость этого света. На глаза мои навернулись слезы. Разве я сам не такой же беспомощный, волей случая принужденный бежать, скрываться даже от родных и дрожать при мысли, что содеянное откроется. Всего я лишился, даже поддержки в нелегкий час, а как она мне требуется…
И я решил искать другого покровительства, дерзнул обратиться к Деве святой милосердной, прося о заступничестве и наставлениях. В безмолвии встал на колени, глаза Марии были устремлены поверх моей головы, и тщетно я пытался поймать её взгляд, строгий, но понимающий, и с жаром молился в убеждении, что все слова, произнесенные с мыслью о раскаянии, находят в ней отзыв. Я просил указать на возможность исправления, не забирая при этом жизнь, но даровать мне время, дабы успокоить душу и заново обрести себя. В молитвенном порыве сложил руки, даже закрыл глаза, и не смог вовремя заметить человека в широком черном одеянии, который остановился рядом, впрочем, не показывая при этом никакого нетерпения. Осознав, что человек ждет меня, я поторопился подняться, и отец Бернар дал свое благословление.
– Ты хотел меня видеть, сын мой?
Отцу Бернару вряд ли было больше тридцати. Ни видом своим, ни лицом он не походил на знакомых мне священников, пожилых и раздобревших за годы неспешной деревенской жизни. Не могу сказать, что он мне сразу чем-то понравился, но его узкое, с тонкими бровями лицо хранило спокойствие, таким же спокойствием, скорее, обретенным после долгих молитв, чем данным при рождении, веяло от всей его фигуры. Сложив руки, он участливо смотрел на меня. Это располагало к разговору, я кратко объяснил своё появление, отец Бернар слушал, не перебивая. Потом спросил:
– Откуда ты родом?
Я ответил.
– А как ты пришел в Париж?
В нескольких словах я рассказал о путешествии вместе с гвардейцем. Отец Бернар заметно удивился.
– Это гвардеец совратил тебя бежать из дома?
Я объяснил, что вовсе нет, я ушел по своей воле, однако отец Бернар или не совсем понял, или отказывался в это поверить, спокойствие оставило его, и выглядел он сильно возмущенным.
– Что можно сказать о человеке, соблазнившем невинное дитя на побег из родного дома? Его Преосвященство давно считает гвардию рассадником зла, я полностью разделяю его мнение. И где теперь этот гвардеец?
Вопросы нравились мне всё меньше, я перестал отвечать, стоял, уткнувшись глазами в пол, переступая с ноги на ногу. Отец Бернар немного смягчился.
– Ну, хорошо, что ты намерен делать дальше, зачем ты хочешь оставить нам свою лошадь?
На это я ответил, что хочу попробовать найти работу в предместье, чтобы остаться здесь на какое-то время.
– Почему же ты не желаешь вернуться домой? Может, тебя прельстили пустые обещания?
Я опять молчал. Не дождавшись ответа, отец Бернар вздохнул.
– Где твоя лошадь?
– Осталась у ворот.
– Это непредусмотрительно, сын мой, – он повернулся к монаху, который по-прежнему возился с лампадами. Тот послушно направился к выходу. Когда монах проходил мимо, я поймал его взгляд, вероятно, он расслышал наш разговор и теперь пожирал меня глазами. Мне же отец Бернар коротко бросил:
– Ступай за мной.
Пришлось идти следом. Мы пересекли широкий двор и вошли в дом, стоявший возле самых ворот, он оказался трапезной. Длинные, аккуратно убранные столы говорили, что монастырская братия немалого числа. Отец Бернар указал место в углу, а когда я уселся, принес ломоть хлеба, я вцепился в лепешку обеими руками, только сейчас понял, как голоден.
Отец Бернар остановился напротив. Помолчав, он сказал:
– Слышал, в мастерскую, где трудится твой друг, требовался работник поддерживать огонь ночью, ты бы мог с ними поговорить. Как я знаю, они ещё не успели нанять человека.
С трудом отрываясь от нежданного обеда, я отвечал, что надеюсь увидеть Ансельми тем же вечером, тогда спрошу. Подобрав последнюю крошку, поблагодарил и намеревался уйти, тут отец Бернар остановил меня.
– Тебе не нужно пойти к исповеди, сын мой? Я готов её принять.
Я сначала онемел, а потом сильно затряс головой, так что волосы заслонили глаза, и всё равно поспешил опустить голову как можно ниже, чтобы себя не выдать. Щеки мои разгорелись, уж не знаю, что подумал тогда отец Бернар – взглянуть на него было неловко, но больше он меня в тот день ни о чем не спрашивал.
*****
20
Обойдя несколько раз вокруг аббатства, я захотел осмотреть прилегающие улицы, но не решился идти один, опасаясь заблудиться в незнакомом месте. Вскоре опять оказался напротив мастерской, где принялся терпеливо дожидаться окончания короткого зимнего дня. Пасмурное небо заставляло выглядеть день сумрачнее, чем он был на самом деле, временами казалось, что вечер давно наступил. На улице зажигали огни, но светили они слабо, и, беспокоясь, сможет ли Ансельми разыскать меня в такой темноте, я подходил всё ближе к дому, наконец, остановился рядом с привратником.
Ансельми появился, когда совсем стемнело. За ним шел пожилой мужчина, один из тех, кого в ту ночь довелось видеть на постоялом дворе. Между собой они сердито переговаривались на своём родном языке, и из разговора я ничего не понял. После ухода Антонио – а это был он – Ансельми разъяснил мне сказанное.
– Как мы говорили, нужен ещё работник, следить за мастерской ночью, – напомнил он Антонио.
Одетый на сей раз скромно, без малейшей отделки, с жестким воротником, туго схватывающим шею, Антонио был сдержан и немногословен, чем внушал уважение даже малознакомым людям. Когда он подходил к воротам, привратник придержал створку и почтительно наклонил голову. Позже я понял: такую сдержанность порождает достоинство, которое, в свою очередь, проявляется, когда человек многое успел сделать и повидать, и теперь у него нет нужды обращаться с вопросами к окружающим – он сам есть источник ответов для них.
Ансельми горячился, пытаясь настоять на своем, Антонио лишь досадливо морщился:
– Я уже отвечал тебе, что один не смогу принять решение, нужно говорить с мессиром Дюнуае, последнее слово за ним.
– Но Дюнуае сейчас нет в мастерской, он вернется только завтра.
– Тогда мы решим завтра, – лицо Антонио ясно показало, что дальнейший спор бесполезен.
После его ухода Ансельми огорченно развел руками:
– Что же, придется обождать, но, думаю, тебя возьмут. Работа несложная, правда, платят за неё совсем мало, зато кормят, и будет место для ночлега.
– Тогда, пожалуй, подожду до завтра.
– Ты уже знаешь, где сможешь переночевать?
Видя моё замешательство, Ансельми заторопился:
– Надо поскорее решить, а то становится поздно. Ты не можешь оставаться на улице, это опасно. Полно всякого сброда, и в любой момент может забрать патруль.
Сам Ансельми, как и другие работники, прибывшие из Венеции, поселился недалеко от мастерской. Он бы предложил свою комнату, но не мог пригласить стороннего человека без одобрения мастера… Не оставалось иного пути, как опять искать счастья в аббатстве.
По дороге Ансельми поглядывал на меня, с трудом удерживаясь от расспросов, очевидно, желая, чтобы я первым начал рассказ. Но, измученный усталостью и долгим ожиданием, я не чувствовал, что готов к этому. Желая отвлечься, я заметил: как ни странно, вечером на улицах становится многолюдно, тогда Ансельми объяснил: это молодые работники торопятся отправиться в город на поиски развлечений – хоть как-то скрасить остаток дня после тяжелого труда.
Двери церкви оказались заперты, но нам повезло встретить отца Бернара рядом с больницей. Однако, выслушав Ансельми, он возразил:
– Ансельми, твой друг не является гостем аббатства, мы не можем его принять. Я окажусь в неловком положении, если возьмусь удовлетворить твою просьбу.
– Он мог бы остаться в больнице. Пожалуйста, только на одну ночь.
– Больница переполнена страждущими избавиться от мук телесных. Настоятель, я уверен, будет против, мне не хотелось бы вызвать его недовольство. Очень жаль, но мы не в состоянии давать приют всем желающим, ты сам это хорошо понимаешь.
– Но мы не можем оставить его ночью на улице, отец Бернар, прошу вас. А завтра, я уверен, он уже будет трудиться в мастерской. Всего-то на одну ночь, пожалуйста, помогите нам!
Будь мой друг менее настойчив, не уверен, где бы я встретил следующее утро. Но на сей раз Ансельми весьма искусно старался добиться своего, и в конце разговора отцу Бернару ничего не оставалось, как с большой неохотой уступить.
– Хорошо, но только на одну ночь. Брат Гийом остается в больнице, я поговорю, не найдет ли он возражений против этого. Подождите здесь.
Ансельми заметно повеселел.
– Вот видишь, думаю, всё сложится. Да тебе просто везет, Корнелиус, всё идет в твои руки. Сумел добраться до Парижа, почти имеешь работу.… И как тебе удается?
Вроде он посмеивался, но теперь с тем же упорством пытался расспросить о моем внезапном появлении в городе. Про себя я решил поскорее придумать сколь-нибудь подходящую историю, дабы избегать лишних расспросов, пока сам не решусь заговорить. К счастью, за мной ввернулся отец Бернар, и мы простились, договорившись увидеться следующим утром возле мастерской.
В больнице стоял тот же смрад, теперь совсем тошнотворный от запаха человеческой плоти, страдающей и гибнущей под действием болезней и пороков, их порождающих. Вместе с отцом Бернаром мы прошли вдоль рядов, составленных из низких деревянных лож, на которых сидели, лежали больные, одни – скорчившись от переносимых мучений, другие – вытянувшись так, что на коротком ложе не хватало места: их руки и ноги свешивались в проход, цепляясь за проходивших. Я старался держаться от них подальше, но при этом едва не натолкнулся на одного, согнувшись, он продвигался навстречу, шипя что-то малопонятное. Заметив меня, он задрал голову, и от вида его изъеденного почти до кости лица со мной чуть не случился приступ дурноты. Я покачнулся, но устоял, машинально опершись на чью-то вытянутую руку. Тотчас раздался сдавленный крик, разлетевшийся над головами этих несчастных, – крик оказался моим собственным, ибо рука, за которую я так неловко ухватился, была покрыта сочившейся раной. Дрожащий, я бросился вслед за отцом Бернаром.
На второй этаж поднималась довольно широкая лестница, возле стоял брат Гийом, высокий тощий монах, который помог тем днем разыскать отца Бернара. При виде меня в его глазах зажегся лихорадочный блеск. Однако в следующее мгновение глаза потухли, и я решил, что мне всего лишь почудилось.
От нахлынувшей слабости я с трудом передвигался, когда мне отчетливо представились беспокойные глаза монаха, пытавшегося говорить со мной на постоялом дворе. Я даже не удивился тому видению, что ещё могло породить место, переполненное страданиями измученных людей. Признаюсь, со страхом встречал ночь, не представляя, как можно себя чувствовать, если знаешь, что рядом едва дышит умирающий человек, и, возможно, этот судорожный вздох, на который у него уходят остатки сил – последний в его жизни. Но у меня не было выбора.
Больных размещали главным образом на первом этаже, на втором, к моему счастью, их не оказалось. Вдоль стен были расставлены перевязанные мешочки с непонятными знаками, сосуды разной величины, даже в чадящем свете одни казались темнее, другие светлее. Я догадался, что сами сосуды прозрачные, а цвет зависел от жидкости, их заполняющей. Вероятно, этими снадобьями монахи врачевали больных.
От невыносимой вони и от того, что целый день почти не ел, всё шло кругом перед глазами. Было довольно холодно, и я не решился снять одежду, чтобы к утру самому не разболеться. Уснуть долго не удавалось: мешали беспокойные стоны больных, доносившиеся снизу, их слабый голос то и дело напоминал, где я нахожусь, и неприятный озноб сотрясал моё тело.
Брат Гийом появлялся, потом внезапно исчезал – я даже не успевал заметить, как он вышел. Снова вернувшись, в каком-то отрешении он неподвижно стоял рядом с окном. Я лежал с закрытыми глазами, но чувствовал всякий раз, когда он находился рядом: он смотрел в мою сторону, от этого пристального взгляда начинала нестерпимо болеть голова.
Я потерял счет времени, казалось, что только прилег, – и сразу за этим начинало мерещиться, что лежу здесь уже несколько дней. Ансельми, верно, совсем меня заждался, они решили: я больше не приду, и теперь кто-то другой трудится в мастерской, я даже вижу его: мальчишка лет четырнадцати с растрепанными волосами, в длинном, не по росту, переднике, торопливо собирает со стола какие-то бесформенные обрезки и относит в угол. Вот он оглядывается настороженно, почти испуганно, взгляд проходит сквозь меня, как острая игла, заставляя болезненно сжиматься, я совсем не могу дышать… На меня навалилось забытье.
Откуда-то издалека доносился невнятный шепот, потом я почувствовал хриплое дыхание рядом, чьи-то руки сжали мою голову, принялись ощупывать лицо. Я пытался от них освободиться, оттолкнуть, но не удавалось, и они набросились на моё тело, беззастенчиво блуждая, стремились пробраться сквозь одежду. Было ли это частью тяжелого сна или наяву… Слабое сопротивление не могло их остановить, я чувствовал прикосновения на коже, руки двигались, срывали одежду, заставляя дрожать от холода, а сами продолжали метаться, то едва касаясь, то прижимаясь, замирали, похожие на перепуганных птиц… Они не причинили боли, когда трепетно, но настойчиво старались себе подчинить, но всё же, сделав усилие, я смог от них избавиться, и, недовольные, они умчались, я же по-прежнему не мог очнуться, голова кружилась, хотя не так сильно, перед глазами, словно раздувшееся облако, висела пелена.
Прийти в себя помог голос, звучавший более отчетливо и звавший меня по имени. Сразу не мог догадаться, кому он принадлежит, но точно помнил, что слышал его раньше. С трудом раскрыв глаза, я в удивлении видел пустую комнату и священника рядом. Что это означает, возможно, я умираю, и он пришел причастить меня, я должен ему рассказать…
– Ты напугал нас, Корнелиус. Брат Гийом сказал, что ночью с тобой случился жар, ты начал бредить… Что стряслось, тебя беспокоят дурные сны?
Память постепенно возвращалась, припомнилась встреча с Ансельми, и этот священник… Я оставил у них лошадь, на которой добирался до Парижа, потом и сам остался в аббатстве – куда ещё я мог пойти… А ночью со мной действительно сделалось плохо, вспомнив, как замерзал без одежды, я быстро оглядел себя. Одежда была на мне, правда, в беспорядке, видно, во сне сильно метался, но всё на месте, и, нащупав зеркало, я совершенно успокоился.
– Уже… утро, отец Бернар?
Священник повернулся к окну.
– Уже почти полдень, сын мой.
Полдень! Я начал лихорадочно приводить себя в порядок. Нужно было прийти в мастерскую ранним утром, я торопился, как мог, но недомогание давало знать, и чувствовал себя совсем слабым.
Отец Бернар наблюдал за моими сборами, потом заговорил:
– С тобой случалось подобное раньше?
– Нет. Наверно, устал в дороге, а потом сильно замерз, ожидая на улице.
– Ты слишком бледен, Корнелиус, если нездоровится, не хочешь ли пока остаться у нас?
Но я продолжал собираться.
– Спасибо вам, отец Бернар, мне уже лучше, да и с Ансельми мы договорились, я не могу не прийти.
Он предложил воды, я с жадностью выпил две большие кружки. Вода была чуть горьковата, с привкусом травы.
Мы вышли во двор. Преклонив колено, я получил благословление и спешно направился на уже знакомую улицу Рейн. Отойдя довольно далеко, неожиданно для себя оглянулся, словно меня кто-то в спину толкнул. В воротах аббатства был заметен человек в черном. Фигура его странно колыхалась, но, приглядевшись, я заметил, что просто ветер путает его длинное одеяние. Лица не разглядеть, да того и не требовалось, не было сомнений, что глаза человека смотрят мне вслед.
*****
21
Разговор продлился недолго. Моя будущая работа была слишком мелкой по сравнению с тем, что делали другие, не говоря уже о сеньоре Антонио Риветти или втором мастере – его звали Ла Мотта. Тем не менее, работник требовался, и мессир Дюнуае дал согласие его принять. Нашлась подходящая одежда, мне выдали короткие штаны с отворотами на коленях, почти новые чулки, рубаху я оставил свою – так началось моё превращение в ремесленника стекольной мануфактуры.
Самым большим моим потрясением в первые дни стали зеркала огромных размеров, превосходящие мой рост – даже представить не мог, что такие существуют. Первое из них увидел, когда явился в мастерскую: оно возвышалось на специально устроенной подставке, а в тщательно отполированной поверхности отражались с головы до ног проходившие мимо. Зрелище сие притягивало и тем, что, стоя рядом с зеркалом и отвернувшись от других, я мог видеть каждого, как и всё, происходившее за спиной, была видна любая мелкая деталь, и едва заметное движение не ускользало, но никто из присутствующих не догадывался, что за ним наблюдают. Подобно таинственной игре, в которой сам невидим, но окружающее остается видимым. Необычное, завораживающее было в этом, по крайней мере, для меня.
Разглядывая отражение, я вдруг заметил, как оно меняется. Зеркало показывало комнату, где мы находились, с теми же людьми и предметами, но в той зеркальной комнате я видел нечто, только ей принадлежащее и не вполне очевидное для нас. Я подошел почти вплотную к поверхности, словно замер на пороге, стараясь различить эту особенность, и в какое-то мгновение поймал себя на мысли, что не понимаю, в какую сторону нужно сделать шаг, чтобы вернуться в настоящую мастерскую. Слабость вновь нашла на меня, и сделалось по-настоящему страшно. Как во сне, я видел себя между двух комнат, но не помнил, которой принадлежу, каждая по-своему старалась притянуть.
На моё спасение меня окликнул кто-то из работников:
– Что такой бледный? Если нездоровится, присядь в сторонке.
На голос я обернулся и в некоторой мере освободился от наваждения, но полностью оно не отпускало, заставляя даже во время работы смотреть в сторону огромного зеркала.
На ночь мне велели оставаться в мастерской. После того, как инструменты были убраны, а столы освобождены, я был почти свободен, моя единственная обязанность до утра состояла в том, что бы печь исправно горела: если она потухнет, дальнейшие работы остановятся, и процесс делания станет невозможным. Меня обучали, а в первую ночь Ансельми остался со мной. Было ли это его желание, или управляющий просил приглядывать за новым учеником, так и не решился спросить, но его присутствию сильно обрадовался. Одни мы сидели перед гудящей от жара печью, и я, наконец, рассказал, как жил после нашей встречи, на какие мысли навело зеркало, когда перешло из его рук в мои, и как пришел с Жюстом в Париж, умолчав, правда, о случившемся с Пикаром. По моим словам выходило, вроде, Жюст сам позвал меня в дорогу, а от расспросов, которые могли бы прояснить, почему так вышло, я старательно уклонялся.
Ансельми почти не помнил Жюста, но моё неожиданное приключение сильно его заинтересовало. Как и в ночь нашей встречи, в его глазах поблескивали огоньки, когда он слушал о любовных похождениях гвардейца, – а зачем было скрывать, раз сам Жюст не делал из них секрета? При этом я упомянул и про другое зеркало, походившее на наши, если бы не было таким темным и мутным, на это Ансельми со знанием ответил:
– Оно изготовлено из другого состава, наверно, какая-нибудь смесь меди. Люди давно научились делать такие предметы – надо же иметь возможность хоть отчасти видеть себя. Для меня они лишь слабое подобие того, что делаем мы. Истинные зеркала до появления этой мастерской рождались только в Венеции.
– Но почему, Ансельми? То зеркало так же показывает наше лицо.
Он помолчал, словно размышляя, продолжить ли разговор или остановиться на сказанном, но всё-таки заговорил.
– Своё лицо можно увидеть в любой луже после дождя, не думаю, что ты интересовался этим раньше. Сам же говоришь: сейчас готов не выпускать зеркало из рук, а много ли ты видел людей в поисках своего отражения возле воды? Конечно, ты скажешь, что держать его в руке много проще, чем заглядывать себе под ноги, но, уверяю тебя, дело не только в этом.
– Значит, есть какой-то секрет? – обратился к нему. – Ты его знаешь?
Ансельми смотрел в сторону зеркала, по-прежнему возвышавшегося в глубине мастерской. Лишившись света, оно казалось почти невидимым, словно и вовсе не было, а на его месте только поглощающая пустота. Я видел, как Ансельми вглядывается в эту пустоту, и чувствовал нарастающее в нём волнение.
– Секрет в нём самом.
Неожиданно он заговорил словами Жюста.
– А ты не так прост, Корнелиус, если задумался об этом. Или всё не так просто, если даже у деревенского парнишки появляются такие мысли в голове.
Заметив мой укоризненный взгляд, он смягчил усмешку:
– Не сердись, не сердись, я ведь не со зла… Я только очень удивился тому, что ты рассказал. Но ты не первый, кто про это говорит.
Он уже не сидел рядом, а подошел к столу, сделал шаги к зеркалу, но тотчас вернулся обратно.
– Я сам раньше подолгу смотрел на него. Поначалу как ты, ради забавы, пока однажды не почувствовал, оно ведет себя странно.
Глаза его что-то пристально высматривали, мне показалось, он пытается различить в темном пятне наши отражения.
– У тебя никогда не появлялось ощущение, что оно следит за тобой?
– Ты говоришь про зеркало? – удивленно переспросил я.
Он же, не обращая внимания, продолжал:
– Однажды я понял это. Ты думаешь – ты просто видишь своё отражение, а на самом деле оно так же смотрит на тебя. Пожалуйста, не подумай, что я сошел с ума, раз так говорю, я лишь объясняю, что чувствую.
– Почему ты не сказал мне об этом раньше?
– Когда раньше? И, к тому же, я думал – это мое заблуждение. Я вообще не хотел об этом говорить, пока не услышал твою историю. Но теперь не сомневаюсь: заблуждение думать, что мы пользуемся зеркалом, нет, оно никогда не станет служить другим.
Он посмотрел в мою сторону, словно сравнивая с увиденным в зеркале.
– Думаешь, ты его хозяин, но сам не заметишь, как оно подчинит себе, а когда поймешь, возможно, будет поздно. Жизнь без отражения кажется неинтересной, скучной, и сама рука непрерывно тянется к нему, что чуть не случилось со мной. А оно разглядит тебя до самых мелочей и станет показывать на свой лад, так что постепенно начнешь забывать, кто ты есть и каков на самом деле. Сохранится лишь это невыносимое вожделение. В этом его сила.
Я хотел спросить, но движением Ансельми остановил меня:
– Ты правильно сказал: зеркало, виденное тобой в том доме, было мертвым. Это я и имел в виду, когда говорил, что мы делаем истинные зеркала. В истинных зеркалах живет душа, только она может дать им тот блеск и отражение, которое нас захватывает, но она делает их опасными, если мы не знаем об этих свойствах.
– Почему же это опасно? – снова не удержавшись, я вмешался в его слова.
– Теперь понимаешь, почему ты ушел из дома? – шептал он, словно нас могли подслушать. – Оно настроило тебя, оно добилось, чтобы тебе захотелось уйти.
Я растерялся, даже не знал, что сказать.
– Но… Почему ты так думаешь, Ансельми?
– Потому что сейчас ты здесь, в мастерской. А должен был прожить всю жизнь в своей деревне. Даже не знаю, хорошо это или плохо, но решение ты принял не сам, оно решило за тебя.
– Моя жизнь могла так сложиться и без зеркала, – немного обидно было слышать его слова.
Отметая возражения, Ансельми резко качнул головой:
– Вряд ли. Поверь, вряд ли это случилось с тобой. Уверен, до встречи с ним ты не помышлял об уходе.
Действительно так, но всё же…
– Зачем ему было нужно заставить меня уйти? – помимо воли я сам понизил голос.
Он задумался, потом со вздохом произнес:
– Этого я не знаю, – и добавил: – Пока не знаю. У него свои желания.
Мы опять сидели на дощатом полу. Ансельми рассеянно теребил волосы, накручивая пальцами короткую прядь, я же, напряженно подавшись вперед, вслушивался в гудение огня. Желания зеркала – может ли быть такое? Что оно есть – просто кусочек меньше моей ладони, каждый волен обращаться с ним по собственному разумению. Ведь и раньше я раздумывал о своей жизни, хотя и по-другому… Голос рядом прервал мою задумчивость:
– Возможно, оно хотело вернуться к прежнему хозяину.
Я не сразу сообразил, о чем он говорит.
– Ты хочешь, чтобы я тебе его отдал?
Ответ последовал не сразу.
– Нет… Всё равно теперь ты рядом, а значит, и оно рядом. Пусть всё остается пока как есть.
Ночью в мастерской заметно холодало. Печь горела медленно, огонь утих, опустился на самое дно, изредка напоминая о себе, выбрасывал короткие снопы искр. Было видно не дальше руки, я едва различал сидящего рядом, но совсем не думал о сне, вслушиваясь в каждое слово, которое он произносил.
– Столько раз я присутствовал при варке, а до сих пор не понимаю, когда рождается его душа, и оно обретает свою силу. Как видишь, сам я мало что знаю, в эту тайну посвящены только мастера.
Мы проговорили почти всю ночь. Сказанное Ансельми стало для меня совершенной неожиданностью, но я верил ему – конечно, он знал о зеркалах много больше. Мне же оставалось строить догадки, чувствуя его смутные тревоги, граничащие со страхом. В свою очередь Ансельми находился под впечатлением от доверенного мной, про себя я думал: какое же потрясение он испытает, если узнает историю полностью, и поклялся сохранить оставшееся в тайне, ради его же спокойствия.
*****
22
Последующие дни вроде убедили, что Ансельми рад моему появлению. Радость эта в самом деле казалась искренней, только, помимо желания видеть меня, были в ней и другие причины. О них я позже догадался, а поняв, испытал разочарование… С моим приходом сложилась возможность передать мне место самого младшего работника мастерской, сам-то он уже давно этим положением тяготился, считая про себя, что достоин большего, а до тех пор, пока остается младшим, ему не поручат ни один сколь-нибудь заметный участок делания. Теперь же ко мне перешли его обязанности по уборке и чистке – нелегкая работа, но я приспособился к ней без особых усилий: к тяжелому труду был давно приучен и благодарил Господа, что всё так благополучно устроилось.
Но честолюбивые планы не мешали Ансельми проявлять заботу обо мне, вернее сказать, не препятствовали покровительствовать, тем более что, сам того не замечая, я невольно способствовал тому. Обретя, наконец, друга, которого мне так не хватало, я смотрел на него восторженными глазами, а он был доволен получить расторопного ученика, это правда – я многому у него учился. Мы вполне дополняли друг друга, и наша привязанность выглядела взаимной.
Пока большинство работников не привыкли к моему ежедневному присутствию, они не то что не заговаривали со мной, но даже не удостаивали взглядом. Ансельми же стал первым, кто рассказывал о мастерской и людях в ней. Я доверял его словам, хотя со временем рождались собственные мысли и, скажу вам, они не всегда совпадали с тем, что говорил мой друг. Если бы поначалу я не воспринимал сказанное им так безоговорочно, возможно, случившееся в дальнейшем не стало бы так трагично… Хотя с горечью признаю, всё равно случилось, не знаю, можем ли мы помешать не нами задуманному.
К моему появлению в мастерской трудились больше тридцати человек, восемь из них пришли из Италии. Основные работы по производству итальянцы разделили между собой. Антонио считался старшим, при необходимости Ла Мотта мог его заменить, на деле же такое случалось редко – за постоянные придирки Ла Мотта недолюбливали. Что касается его отношений с Антонио – между ними частенько разгорались ссоры, они могли начаться из-за сущего пустяка, но, если Антонио всегда держался с достоинством и не опускался до мелочных споров, Ла Мотта старался использовать любой предлог, чтобы доставить другим неприятности. То, что Ла Мотта считал своей хорошо скрытой тайной, давно перестало быть тайным для окружающих: в мечтах он видел себя управляющим мастерской, пока же это место принадлежало французу, готов был довольствоваться любым подвернувшимся случаем, чтобы пошатнуть положение остальных работников и тем самым хоть на полшага приблизить заветную мечту.
Вероятно, поэтому в делах Антонио предпочитал другого итальянца по имени Пьетро Риго. Пьетро был самым старшим из нас, он сам точно не помнил свой возраст, а когда принимался считать, выходило, что почти шестьдесят годов. Как и Антонио, он слыл молчуном, но, в отличие от мастера, не держался отчужденно, даже ко мне проявлял дружелюбие. Из разговоров я узнал, что в Венеции у него осталась большая семья, он сильно скучал по домочадцам, но, благодаря работе в Париже, зарабатывал достаточно, чтобы родные жили в полном довольстве.
Споры вспыхивали не только между мастерами. Может, в соседних мастерских, где работали всего несколько человек, жизнь текла поспокойнее, наша же мастерская напоминала хитрые сплетения паука, что уже закончил работу, но обдумывает новый узор для паутины.
Между французами и итальянцами постоянно существовала вражда. Она принимала разные формы – от затаенной неприязни до открыто выражаемой грубости, и дело не только в том, что большинство французов просто до раздражения не любили итальянцев, и наоборот. Люди разные, родились далеко друг от друга, а теперь волею судьбы должны работать целый день вместе. Они и языка-то общего не имеют, как им друг с другом договориться? – думал я, и здесь не изменяя своей привычке больше молчать, но наблюдать при этом. И как мне было удивительно видеть, что эти люди, так преданно любившие своё дело, между собой постоянно искали повод для раздоров. Даже любовь к хрупкому предмету, рожденному в их руках, не могла помочь им примириться.
Конечно, плохое понимание чужого языка мешало, но при этом каждого наполняли собственные планы, более или менее значительные, каждый дорожил своим местом, не будучи уверенным в завтрашнем дне, ведь мануфактура была недавно создана. Многое зависело от успеха начинания и последующего решения самого короля, который вот сейчас решил производить сей предмет в непосредственной близости от себя, дабы самому никогда в нём не нуждаться, но кто знает, какое решение он примет завтра.
Трудностей встречалось много и после того, как производство удалось наладить, они не уменьшались, а в чем-то становились более существенными. Об одной из них я узнал, случайно услышав разговор Антонио и мессира Дюнуае. И не только я был посвящен в их дела. Наша мастерская оказалась слишком большой, чтобы сохранять добрые нравы, но слишком маленькой, чтобы прятать раздоры подальше от любопытных глаз.
Дюнуае неоднократно просил Антонио начать обучать французских работников процессу делания стекла, тот всякий раз отвечал согласием, но приступать не торопился. Этапы делания, понятные на первый взгляд, включали множество секретов, хозяевами которых являлись итальянцы, французским же работникам оставалось знать только то, что они могли случайно разглядеть, а сами работы, начиная с составления стекольной массы и заканчивая варкой в печи, оставались для них сокрыты.
А однажды в мастерской чуть не случилось самое настоящее побоище, когда кто-то из французов приблизился посмотреть, как Дандоло, итальянский стеклодув, готовит массу, а тот бесцеремонно оттолкнул его, этого хватило, что бы француз в ярости бросился на Дандоло. На шум прибежали другие работники, а главное – вовремя подоспел Антонио, и машущих кулаками спорщиков развели. Хорошо, обошлось без крови…
Ансельми сказал однажды, что Антонио считает французов недостаточно подготовленными, чтобы разделить с ними такие важные знания. Французы же думали по-другому и не желали мириться. Вроде мы работали в одной мастерской, но словно разделились на две стороны, и ни одна из сторон не собиралась делать шаг другой навстречу.
В таком водовороте мне приходилось нелегко. Конечно, в душе я был полностью на стороне французов – сам-то немногого стоил – но сочувствовал, что их положение подчас не лучше моего. Работая наравне с итальянцами, они получали намного меньше денег и то, что управляющий прощал итальянцу, никогда не сходило с рук французу, штраф же мог уменьшить и без того небольшое жалование.
Но я стремился быть с Ансельми – ради того перетерпел столько потрясений, что едва не заболел и уже не мог отказаться от нашей дружбы, тем более, нуждался в ней. Мое стремление не осталось незамеченным. Постепенно между мной и французскими работниками наметилось отчуждение, выражавшееся то в продолжительном молчании, то в раздраженных окриках. Я всё терпеливо выносил, чувствуя: за этим нет настоящей злости, одно только непонимание и горечь на царившую несправедливость.
Итальянцы же, наоборот, относились ко мне снисходительно. Для них я был почти ребенком, а в Италии, как узнал из разговоров, отношение к детям особое – им многое позволяется. Потому их раздражение никогда не обращалось против меня, они не стремились меня оттолкнуть. От Ансельми я узнал итальянские слова, и вскоре начал понемногу понимать речь, иногда даже обращался на их языке, предварительно убедившись, нет ли французов поблизости. Мне охотно отвечали, в этом чувствовалось их расположение.
*****
23
Не скажу, что после нашего разговора с Ансельми я стал относиться к зеркалам с большей опаской. Поначалу его рассказ насторожил, возбудил тревогу, но вскоре она утихла… Зеркало интересовало, притягивало взгляд, в этом мы с Ансельми оказались схожи, правда, мой интерес был иного рода. Его заставляла задуматься некая тайна, как ему казалось, скрытая в зеркале, вернее, в отражении, проступающем на поверхности. Меня же больше привлекала внешняя сторона, нечто совершенно явное, что можно легко рассмотреть.
Работая, я довольно быстро привык находиться среди зеркал днем и ночью, и если первое время жизнь в их окружении была чем-то новым и необычным, то довольно скоро всё обратилось в повседневное. Ничего особенного не происходило, и сказанное постепенно растворилось в будничной суете. Окруженный зеркалами со всех сторон, я больше не испытывал необходимости вынимать крошечный подарок, даже забывал про него, а он спокойно лежал на своём месте, вполне мирясь с моим теперешним равнодушием.
В мастерской мне нравилось, хотя по дороге в Париж я надеялся, что смогу проводить с Ансельми гораздо больше времени, на деле же выходило по-другому. Обычно дни до отказа занимала работа, а ночь нас разлучала: вечером Ансельми уходил из мастерской, я же был вынужден в ней оставаться. Порой так уставал, что не хватало сил волноваться об этом, я мечтал только о нескольких часах сна рядом с натопленной печью, и мечта исполнялась, едва закрывалась дверь за последним работником. В другие же дни я грустил, но просить о большем не решался, боясь показаться назойливым и оттолкнуть.
Той дружбы, о которой я грезил вечерами в кухне на постоялом дворе, у нас не получалось. При всём расположении друг к другу в наших отношениях отсутствовало нечто важное, я ломал голову, что это могло быть.
С одной стороны понимал: несправедливо мне жаловаться. Я всегда мог обратиться к нему, уверенный, что ответом мне будет посильная помощь. И во время работы Ансельми был готов меня поддержать: то советом, а то я просто чувствовал ободряющий взгляд. Часто я нуждался в нём и старался заглянуть в его глаза. Заметив, он едва приметно кивал, и мне передавалось его спокойствие. Никогда не замечал, чтобы он улыбался кому-то ещё в мастерской. Но, даже когда он улыбался, глаза его сохраняли задумчивость и какую-то отстраненность, словно в это мгновение он думал о чем-то слишком далеком, и меня не покидала мысль, что наши отношения подобны тому медному зеркалу, оставшемуся в комнате, где я провел ночь, сбежав с постоялого двора.
Впрочем, иногда он всё же задерживался, и у нас появлялась возможность говорить. Я упоминал, что в то время был никудышным собеседником, а мой опыт ограничивался несколькими годами на постоялом дворе да дюжиной дней, проведенных с Жюстом. До того в моей жизни не было путешествий или приключений, и немудрено, что рассказ о себе я смог легко уместить в половину одного из вечеров.
Ограниченность моих знаний рождала множество вопросов, но, как ни странно, я робел их задавать, вспоминая, как однажды Ансельми подсмеивался надо мной, предпочитал слушать, в надежде отыскать в его словах нечто, значимое для себя. Так что, в основном, конечно, говорил Ансельми, но мне нравились его рассказы о родной ему Италии, первых днях в Париже, сам я тогда почти не видел город – работа не позволяла уйти дальше соседней улицы.
О своем детстве, проведенном в Вероне – небольшом городке – Ансельми говорил мало, но лицо его оживилось, когда он рассказывал, как впервые услышал о стекольщиках. Венецианское стекло славилось своей красотой, а людям, его делавшим, доставались почет и уважение, с тех пор мечтой Ансельми стала работа в стекольной мастерской. Мечте было дано осуществиться: с родными он перебрался в Венецию, где, наконец, смог пойти учеником в небольшую мастерскую… Разговаривая, мы обнаружили, что я пришел в мастерскую примерно в том же возрасте, что и он. Я радовался всякий раз, когда подмечал между нами какое-то сходство, видел в этом добрый знак.
В своих рассказах Ансельми счел нужным упомянуть других работников. Восхищался Антонио, его познаниями и умением вести дела. Ла Мотта был ему малоприятен, как и мне, а из всех итальянцев, трудившихся в Париже, больше всего он выделял Пьетро – неудивительно: к нему многие питали симпатию, даже французы. Оказалось, Ансельми познакомился с Пьетро в Венеции ещё до переезда в Париж.
О французах Ансельми говорил доброжелательно, но с заметным превосходством и всё время сетовал, что они уж слишком торопятся, а спешка в таком деле совсем ни к чему. У них в Венеции проходят годы, прежде чем ученика возведут в следующую степень и допустят работать без наставника.
Слушая эти рассуждения, я чувствовал, что его истории очень просты и скорее затрагивают то, что он наблюдал или слышал от других. Он мало говорил о собственных чувствах и почти никогда о том, что касалось его лично. Рассказывал о родном городе во всех подробностях, но почему-то совсем не упоминал о семье, я не знал, живы ли его родители, есть ли у него братья, сестры… Неожиданно он обошел молчанием и мои расспросы о дороге в Париж, а мне очень хотелось узнать, как они оказались в лесу той ночью.
Вскоре я убедился, что бесполезно выспрашивать, если он сам не желает говорить. В таких случаях подвижное лицо Ансельми становилось замкнутым, а от односложных ответов веяло холодом, впрочем, он мог просто хранить молчание. Меня это огорчало, ведь я мечтал о полном его расположении, он не может не чувствовать, как это важно для меня, я-то ничего от него не скрывал. Почти ничего…
Однажды моё огорчение вылилось в упрек.
– Ансельми, ты нашел меня достойным, чтобы разделить работу, почему же ты не хочешь ответить на простой вопрос?
Недосказанность мешала: в самом деле, не особенно приятно, когда чувствуешь, как за множеством слов осталось одно последнее, возможно, главное слово, но оно так и не было произнесено. Я подумал: он просто не придает этому значения, и, если объяснить, что это означает для меня, непонимание между нами исчезнет, поэтому продолжал:
– Ты даже не можешь представить мою благодарность за то, что помог мне начать работать в мастерской. Одной этой благодарности вполне достаточно, чтобы скорее принять смерть, чем раскрыть доверенное тобой. И за многое другое я полон признательности. Ты вполне можешь довериться мне.
В удивлении он смотрел на меня.
– Я верю тебе, Корнелиус, и многое открыл, раньше я никому не доверял свои мысли.
– Пусть так, но ты почти ничего не говоришь о себе, – продолжал я упорствовать.
Однако моя настойчивость не принесла желаемого. Не раздумывая, он дал ответ, словно давно нашел его для меня, для всех моих расспросов:
– Чтобы знать о человеке больше, требуется время. А со временем многое становится понятно и без слов. Для меня лучшее, что может проявиться между людьми – когда ты понимаешь, о чем думает человек, неважно, говорит он или молчит.
Я вглядывался в его спокойное лицо, пытаясь разобрать, почему при словах этих на губах Ансельми мелькает улыбка. Уже открыто рассмеявшись, он сказал:
– Вижу, как ты гадаешь, что стоит за моими словами. Ничего особенного, Корнелиус, они – не насмешка. Но не стоит судить о людях по себе, полагая, если в твою голову пришли мысли, они тотчас появятся в головах других. Если ты готов открыть душу, это не значит, что другой пришел к тому же. Но если любишь человека, позволяй ему оставаться таким, каков он есть.
Сердце моё болезненно вздрогнуло. Не такой ответ хотелось мне услышать, а главное, слова не принесли ожидаемого тепла и не оставили надежды на скорейшую перемену. Но боль была мгновенной и почти сразу утихла, когда за ней я подумал: вероятно, он прав, и действую я поспешно. Он верно говорит: не так уж близко мы пока знакомы, дай Бог узнать друг друга лучше, тогда и доверия будет больше. Мысль эта немного успокоила, я смог улыбнуться в ответ, хотя и неуверенно.
После того разговора старался особенно ему не докучать. К слову добавить, я так и не отдал подарок, который готовился передать с Жюстом. Поначалу стеснялся, несколько раз почти заговаривал, но, не чувствуя его интереса, отступал, решая подыскать более подходящий случай, да так и не нашел. Случай сам не представился, а потом и вовсе не было возможности.
*****
24
Хотя время от времени подобные огорчения вносили смятение, близость Ансельми и сама работа действовали исцеляющее. Нельзя сказать, что я совершенно избавился от мыслей о случившемся в лесу, однако Жюст оказался прав: с каждым днем они отходили, уступая место новым впечатлениям. Подобно тому, как от брошенного камешка расходятся на воде круги, оставляя за собой безукоризненно гладкую поверхность, скрывая сам камень в глубине, и чем глубже он уйдет под воду, тем труднее его рассмотреть.
Воспоминания о днях, проведенных на постоялом дворе, стали казаться только сном, не имевшим ничего общего с реальностью. Так же, как о сне, я думал о родителях и редко мучился тоской по ним, я чувствовал, словно родился и провел всю свою жизнь в мастерской. Объяснить ли это моими юными годами или сильным потрясением от произошедших перемен – не берусь судить, но помню с уверенностью: боль в душе постепенно стихала, и жизнь становилась вполне сносной. Это окончательно убедило, что обращение к деве Марии не осталось незамеченным, и Господу угодно освободить меня от той тяжести, стало быть, я вступил на путь правильный и занял своё место.
К концу зимы работа стала такой напряженной, что мало кому за день удавалось присесть. Иногда мы даже обходились без обеда, лишь поздно вечером садились за положенную трапезу. Думаю, это доставляло мессиру Дюнуае только радость, раз он мог выгадать на отсутствии обеда сколько-нибудь для своего кармана.
Дни уходили на варку стекла, затем выдували форму, резали её огромными ножницами. Полученные части раскатывали на заранее подготовленной поверхности, это действо повторялось за день помногу раз.
Для Ансельми пришло новое время, он окунулся в него с головой. Ему стали поручать мелкие работы в производстве, итальянцы Дандоло и Доминико даже привлекали его к шлифовке – важный этап, а Доминико считался в нём лучшим, и Ансельми со всех ног бросался выполнять любое его указание.
Полученный результат итальянцы внимательно осматривали, негромко переговаривались, прищелкивая языком, часто спорили, но между собой. Иногда и Ансельми давали вставить слово, он страшно гордился, что теперь ему это позволительно. Меня к самим работам даже близко не подпускали, но я мало обращал на это внимания, а вот другие французы, так же лишенные права принять участие в общем разговоре, то угрюмо, а то и с нескрываемой злостью поглядывали в сторону итальянцев, шептавшихся возле только что отполированного зеркала.
В один из вечеров, уходя последним, Ансельми под большим секретом сообщил, что наш управитель мессир Дюнуае уведомил королевского министра о первых зеркалах, произведенных в мастерской, и в ответ было дано знать, что король Людовик пожелал лично осмотреть собственное стекольное производство. Я тот секрет никому не выдал, но каким-то непостижимым образом совсем скоро об этом стало известно всем, и мастерская пришла в сильнейше волнение.
Все, начиная со старшего мастера и заканчивая последним подмастерьем, то есть, мной, с тревогой готовились к светлейшему визиту. Оказалось, у всех есть, что потерять, если его величество останется нами недоволен. Итальянцы боялись лишиться высоких заработков, и, как я узнал позже, было для них в возвращении на родину и нечто похуже. Я же вообще не представлял, каково мне придется, если окажусь на улице: всё прошедшее время почти без выхода провел в мастерской, она стала мне домом, ничего больше не видел, никого не знал…
О дне приезда не было известно заранее, и две или три недели мы провели в великом беспокойстве. Как ни удивительно, оно сказалось на мастерской вполне благотворно. На ссоры не оставалось времени, трудились упорно, беспрекословно подчиняясь Антонио, даже Ла Мотта оставил свои колкости, которыми любил изводить всех без исключения. Но тревога непрерывно носилась среди нас, а по замкнутым лицам легко догадаться, о чем так сосредоточенно размышляют люди.
Известие было получено лишь накануне. День почти завершился, когда в мастерскую стремительно вошел мессир Дюнуае. Вообще Дюнуае приезжал на улицу Рейн не так уж часто, а когда появлялся, то предпочитал проводить время в небольшом, обустроенном рядом с основным строением, флигеле, где собирал мастеров обсудить дела и работы. В мастерскую Дюнуае могли привести только самые срочные и важные новости. Все сразу стихли, как бы невзначай прислушиваясь, о чем пойдет речь в их с Антонио разговоре. Хотя и так было понятно.
На следующее утро большую часть работников освободили от дел, французы ушли, радуясь неожиданно выпавшему отдыху. Кто-то пошел в город, остальные разошлись по домам, меня с собой никто не позвал: к этому дню размолвка между нами была очевидна. В мастерской остались только управляющий, мастера, кое-кто из итальянцев, но неожиданно был допущен и Ансельми – на тот случай, если король пожелает иметь беседу, а итальянцы затруднятся с ответами по причине всё ещё неважного знания французского языка.
Несмотря на то, что прошли десятки лет, то утро помню отчетливо, словно оно случилось вчера, и каждый раз, когда думаю о нём, в сердце просыпается нечто, похожее на слабую надежду… Да-да, я написал правильно, именно надежду, родственную той, с которой тяжелобольной думает о дне завтрашнем: вдруг завтра всё сможет измениться, и придет долгожданное выздоровление. Так и во мне воспоминания говорят, что в любой день жизни может выпасть случай, который послужит переменам. Пока человек живет – неважно, сколько ему лет – он продолжает надеяться. Кто возьмется доказать, что самое главное происходит лишь в юности? Скажу вам теперь: годы, конечно, заставляют надежды меняться, рождают новые, отвергая старые, но убить их полностью не в силах. И что, как не надежда, подвигло меня на сей труд? Желание повторить свой путь и надежда, что в конце пути, возможно, милостью Божьей, я сам окажусь другим. Вот что привело меня к этим листам. Разве сердце моё не изнывало отчаянием, вновь переживая гибель Пикара, разве не мутилось в глазах от набежавшей влаги, когда рука выводила о прощании с Жюстом? Всё так, словно я переживаю то время заново, вернемся же к нему и позволь, Господи, мне продолжить.
Я вышел из мастерской и остановился в раздумье, куда направиться. Разумеется, мне хотелось видеть короля, но я не был уверен, долго ли нужно его ожидать, не стоять же целый день рядом с привратником, вызывая удивление у оставшихся в мастерской. Хотя, почему нет…
Свобода казалась заманчивой: наконец-то смогу побывать в округе, но одновременно пугала – большой город всегда таит опасности, тем более, если доведется идти одному. Досадно, что не узнал у Жюста, где он живет, вот теперь навестил бы его. Ну как же, Корнелиус, будучи за сотни лье, ты смог разыскать Ансельми, что теперь стоит найти Жюста – он говорил, его жилище где-то поблизости.
Неожиданно для себя я громко засмеялся собственным мыслям. Видно, такова твоя участь, Корнелиус: гоняться за людьми и безнадежно ждать от них чего-то. Сейчас я вспоминал о гвардейце, как раньше думал об Ансельми, всем сердцем желал оказаться рядом с ним перед воротами мастерской, чтобы ещё раз почувствовать на плече его руку… Так же рука Ансельми однажды коснулась моего лица. Может, люди способны передавать свои чувства только через прикосновение, и нет никакого другого способа познать их искреннее расположение, – подумал я, – может быть, именно это и отсутствует в наших отношениях с Ансельми, не позволяя им наполниться пониманием.
В нерешительности сделал несколько шагов и снова остановился, заметив, как башмаки отяжелели от густо налипшей земли. Много дней я почти не выходил на улицу, и в тот час она показалась мне совсем незнакомой. Присмотревшись, я понял, что небо больше не нависает, стараясь прижаться к земле, оно поднялось довольно высоко над головами прохожих, и более не свинцового цвета, а бледно-серое, почти белое. Было сыро, и чем-то пахло, но не тот мертвый запах, нет, так пахло у нас в деревне, когда земля освобождалась от снега и морозов. А ведь верно: уже месяц март, совсем позабыл, как раз в это время наступает долгожданная после зимних холодов весна. Я вдыхал поднимающуюся от земли свежесть, губы сами продолжали улыбаться, в первый раз с тех пор, как я покинул постоялый двор, улыбка вернулась на моё лицо. Словно что-то родное окружило меня, и грудь наполнилась если не радостью, то, по крайней мере, её ожиданием, что же это могло означать?
С другого конца улицы послышался дробный топот, гулко загремели колеса, обернувшись, я увидел, как прямо на меня, сильно раскачиваясь на неровной дороге, движется богато отделанный экипаж, а за ним виднеются ещё два. Сразу догадавшись, я отбежал к соседнему дому, стараясь оставаться незамеченным, но видеть вход в мастерскую.
Привратник, проводивший дни перед мастерской, уже осведомленный о визите, торопясь, распахнул ворота и исчез, очевидно, забежав в дом предупредить, но едва я успел моргнуть, как он снова стоял на улице, сгибаясь чуть ли не до земли. Экипажи остановились в ряд, из одного, толком не заметил из какого, выпрыгнул маленький юркий человек и прямо по размокшей грязи быстро раскатал узкий, винного цвета ковер от двери первого экипажа до самых ступенек, ведущих к входу.
Одно так быстро сменяло другое, в то же мгновение, оторвав глаза от ковра, я увидел, как на входе уже возвышаются мессир Дюнуае, Антонио, Ла Мотта и кто-то ещё, со спины не мог различить. Вот они почтительно склонили головы, когда всё тот же юркий человечек бросился к экипажу и, распахнув дверь, подставил руку, помогая выйти.
Почему-то я был уверен: в обычные дни король носит простую одежду, скорее, похожую на ту, что довелось видеть на Жюсте и других гвардейцах – даже не знаю, с чего это взял. А тут из экипажа показался невысокий мужчина в роскошном костюме серого бархата, подбитом ярким голубым шелком – я отчетливо запомнил этот цвет. Широкий, искусно расшитый серебряной нитью воротник прикрывал пухлую шею, такая же отделка спускалась по низу рукавов, при этом сами рукава были столь пышны, что, казалось, их раздувает легкий порыв ветра. Я приметил сапожки его величества из блестящей кожи, узкие на ноге – и как только взрослый мужчина смог их натянуть? – украшенные ремешками с пряжками и высоченными каблуками, явно служившими добавлением к росту. Конечно, это был великолепный наряд придворного, но он никак не соответствовал моему тогдашнему представлению об одеянии для мужчины, пусть и знатной крови, тем более, в убогости нашей улицы, и я смотрел на него во все глаза. Удобным сие громоздкое одеяние я бы точно не назвал, особенно, когда заметил, как неторопливо его величество направляется к входу, где, одинаково согнувшись, словно замерли четыре изваяния. При ходьбе король Людовик опирался на шпагу, то ли по причине слабости ног, то ли стараясь придать походке большую твердость. Не представлялось, что он пользуется шпагой для другого случая – уж слишком мягко рука покоилась на рукояти. Верно, шпага полагается ему по праву рождения, – решил я, вспоминая, как при необходимости обращался со шпагой Жюст.
Из экипажей к мастерской подошли ещё несколько человек, вероятно, ближайшее окружение. На короткое время все задержались у входа, и мне были отлично видны лица. Черты лица его величества казались немного заплывшими, а, может, плохо очерчены с рождения, и я поразился, насколько они маловыразительны. Не было в них ни силы, ни твердости, ни значения, но больше всего лицо портили неровные складки, окружавшие рот. Непрестанно двигаясь, они строились так, что придавали лицу то унылое, то брезгливое выражение, хотя, скорее всего, это не соответствовало действительному настроению. И таким обычным становилось лицо, что, окажись король в скромном платье и без высоких каблуков, его бы приняли за небогатого горожанина, причем, довольно заурядного, отягощенного самыми простыми заботами. Если убрать шляпу с затейливо уложенными перьями и широкую ленту, стягивающую наряд, перед нами окажется мужчина средних лет, много повидавший в жизни, причем, больше дурного, чем хорошего, а ведь в то время он был ещё молод. Я удивлялся неподобающим мыслям в своей голове, других же у меня не находилось…
Но размышлял я недолго: зрелище окончилось быстро. Продолжая начатый разговор, все удалились в мастерскую, на дороге с экипажами остались лишь юркий человечек да наш привратник, с трудом разгибавшийся после усердных поклонов. Я ожидал увидеть толпу из сбегающихся посмотреть на тех, кто по воле рождения наделен властью править нами, но приезд остался почти незамеченным обитателями домов по соседству. Никто не бежал следом, приветствуя короля громкими криками. Те немногие, что прошли в тот час перед мастерской, любопытствуя, замедляли шаг, заметив экипаж, украшенный тем же гербом, как и наши ворота, но, вспоминая о делах, торопились дальше, и прошли мимо от силы человек пять. Было рано для тех, кто приезжал делать заказы или выбрать понравившуюся мебель, и время тех, кто без особой цели шатался в наших переулках, праздно глазея в распахнутые двери, норовя что-нибудь стянуть, ещё не наступило. Остальные оказались слишком заняты или не сочли нужным прерываться. Улица, слегка оживившись, снова погрузилась в дремотное состояние, лишь ветер тащил по земле остатки какого-то мусора, да временами скрипели колеса экипажей, когда лошади, устав от ожидания, переступали ногами.
Меня охватило разочарование. Не того я ждал, и вот теперь с ещё одной фантазией придется расстаться. Хорошо, что хоть намеренно не искал этой встречи. И с чего я всё себе придумываю? Но, боюсь, не один таков… Как, оказывается, много мы сочиняем о людях и вещах им принадлежащих, только часто это не то что далеко от настоящей жизни, а полно противоположностей к ней – с этими мыслями я стал подниматься вверх по улице.
Впрочем, на сей раз увиденное не имело большого значения, не стоило о нём сильно задумываться. Главное в сегодняшнем дне – чтобы король остался доволен мастерской и одобрил наше дальнейшее существование, – подумал я и про себя наскоро прочитал молитву.
*****
25
Однако вскоре мои мысли приняли другой ход. Не сразу, но постепенно пришло осознание, что тем утром я встретил не простого человека, а короля – стоило задуматься об этом. Неважно, что он низкого роста и наряжен подобно особе женской – это наш король, я видел самого короля! Надо же случиться такому! Младший сын бедного крестьянина из всеми позабытой деревни стоял в каких-то десяти шагах от первой особы во всей Франции. Расскажи я это в своей деревне – ведь никто не поверит. Другие просто не знали о его приезде, а то не преминули бы выбежать на улицу: все-таки – наш король, может, только избранным позволяется встреча с ним. Зачем это было дано? Мы, столь далекие по происхождению, рожденные на разных концах, в какой-то час смогли настолько приблизиться друг к другу, что я его видел, и, если бы он чуть повернул голову, непременно заметил меня. Оставалось дивиться таким поворотам судьбы.
Раздумывая, я шел по улице, машинально повторяя её изгибы, поворачивал вместе с ней, надеясь таким образом выйти в город, и очнулся, когда почти налетел на ворота, принадлежащие Сент-Антуанскому аббатству. Хотя у меня не было намерений идти непременно в эту сторону, тем не менее, я здесь оказался.
Ворота были гостеприимно распахнуты, если слово гостеприимно подходит к месту, где люди молятся об искуплении и ищут спасения от постигших несчастий. Решив передохнуть, я прислонился к одному из деревьев, живой оградой обступивших аббатство. Росли они, наверно, не меньше ста лет, тянулись узловатыми ветками к небу, позволяя ветру стряхивать на землю капли воды весной и засохшую листву осенью. Вот и сейчас на меня летели мелкие брызги – ещё одно напоминание о наступающей весне.
Прижавшись к дереву щекой, я ожидал пронизывающей сырости, но неожиданно легкая прохлада коснулась лица, заставив расслабиться – было немного похоже на прикосновение тонких шершавых пальцев. С угрызением подумал, что даже ни разу не удосужился навестить отца Бернара, а он был добр во время нашей встречи, и в этом городе – единственно знакомый человек, кроме известных по мастерской, – не подойти ли к нему сейчас…
Вдалеке на дороге появилась хрупкая фигурка, двигалась она очень живо, словно пританцовывала, приближалась поначалу стремительно, но вскоре шаги замедлились, а, подойдя близко, она и вовсе остановилась. Рядом я увидел тоненькую девушку лет шестнадцати, в поношенном, но опрятном платье из темного сукна в мелкую полоску. Сверху была наброшена короткая накидка с выцветшим бархатным воротничком, накидка казалась ей велика, должно быть, досталась от матери. Явно смущаясь, девушка обратилась ко мне:
– Не укажешь ли, где находится больница?
Я кивнул на строение по соседству с примыкавшей к воротам трапезной. В памяти сохранилась та ночь, когда, явившись в Париж, подобно другим обездоленным, я искал в нём прибежище. Девушка поблагодарила, направилась к крыльцу, но в воротах снова задержалась. Я догадался, что она здесь впервые и, несмотря на решительный вид, чувствует себя неуверенно. Так и есть: немного подумав, она снова повернулась в мою сторону.
– Скажи… Тебе приходилось там бывать? Мне нужно навестить одного человека, не знаешь ли, как можно его разыскать?
В голосе слышалась робость, и, хотя ничего больше она не прибавила, в словах звучала просьба, я понял, словно её мысли были моими.
Мне не удалось ответить также просто, как говорили со мной другие, как говорит сейчас она. Я желал помочь, но растерялся в её присутствии и никак не мог заставить свои глаза смотреть прямо, скорее, у меня получались быстрые, исподлобья взгляды, которые помимо воли я бросал на неё. Это было не намеренно, просто не находил сил взглянуть открыто, но, наверно, она усмотрела в этом что-то подозрительное, я чувствовал, как с беспокойством она ожидает, что последует дальше.
Вместе мы молча прошли за ограду и остановились на дорожке, расходившейся по двору между церковью и другими строениями. Встреча с отцом Бернаром весьма бы пригодилась, – решил я, значит, её не миновать, но раз Господь посылает для того предлог, стало быть, так ему угодно.
– Кого вы хотите отыскать? – обратился к ней.
– Дедушку, он болел всю зиму, а на днях ему стало совсем худо. Его увезли в аббатство, и с тех пор мы не имеем никаких известий о нем. Его имя Анри. Анри-Франсуа Вийон.
Чуть слышно я повторил имя.
– Подождите здесь, – с этими словами направился в церковь.
В тот день удалось разыскать отца Бернара, не прибегая к помощи других: он сам вышел мне навстречу. Только закончилась литургия, из церкви нестройными рядами шли монахи, а за ними я разглядел служителей саном выше, к моему счастью, отец Бернар оказался среди них. Почти побежал за ним, по неловкости налетая на проходивших, в удивлении они сторонились, и их недовольные восклицания нарушили однообразный гул, стоявший во дворе аббатства. Отец Бернар оглянулся – замечательно, что он сразу меня узнал. Тот день вообще был удивительным в моей жизни: всё, о чем я едва успевал подумать, сразу исполнялось.
Дождавшись, чтобы большая часть монахов покинула двор, отец Бернар подошел ко мне.
– А, Корнелиус, – он приветливо улыбнулся.
Было приятно, что отец Бернар запомнил моё имя.
– А я всё думал: когда же ты нас навестишь? Столько дней прошло. Я надеялся: должен же ты, по крайней мере, справиться о своей лошади.
Дружелюбие, с которым он ко мне обратился, чуть не сыграло злую шутку: я позабыл об осторожности, хотя, следуя наставлениям Жюста, жил с ней последние месяцы.
– Сказать по правде, отец Бернар, это не моя лошадь.
– Вот как? А чья же? Во всяком случае, никто другой за ней не приходил.
Я прикусил язык, но холод успел зародиться где-то в глубине и дрожью разлился по телу. Наверно, лицо моё изменилось, иначе не могу объяснить внимательный взгляд отца Бернара – он вопросительно взглянул на меня, я же поторопился с рассказом, что привело на этот раз.
– Значит, тебя всегда надо ожидать только по делу. Хотя это не так уж плохо, сын мой. Но ты удивишься, я скажу, что кое-что слышал о тебе. В мастерской тобой довольны, говорят, ты весьма смышлен и, главное, старателен.
– Кто говорит, отец Бернар?
– Кто? Да хотя бы сеньор Риго.
– Вы знаете сеньора Риго?
– Конечно, он часто приходит в церковь, впрочем, как и другие работники. Как твой друг Ансельми. Разве ты не знал об этом?
Для меня это была новость, когда же они успевают сюда приходить?
– Нет, не знал… Я ведь почти не выхожу из мастерской.
– Да, они говорили, – мне показалось: отец Бернар смотрит на меня укоризненно. – Знаю, ты много трудишься, и похвала, что передали о тебе, справедлива. Но о душе нельзя забывать, в особенности, когда тебя что-то тревожит.
Я не удержался.
– Почему вы думаете, что меня что-то тревожит?
– Заметил по твоим глазам, – рука его прикоснулась к моему лбу, и невольно наши глаза встретились. – Видел их тогда, вижу сейчас: они не меняются, в них все та же тревога.
Он участливо наклонился.
– Ты не согласен со мной?
Я счел благом промолчать, тогда он заговорил снова:
– Причины для тревоги могут быть разные: тоска по родным или сожаления о прошлых деяниях, опасения, беспокойство о будущем. Не берусь судить, что мучает тебя, но проявление одно: тревога изводит людей, мешает предписанной им жизни, и если избавление от неё не придет во время, она может превратиться в источник страданий и даже болезнь.
Отец Бернар говорил от чистого сердца – я чувствовал – потому терпеливо выслушивал, хотя, надо признать, терпение давалось нелегко, и, верно, он об этом догадывался. Заметно было, как, не встречая ответа, про себя он раздумывал, что послужит большей пользе: продолжить ли расспросы или остановить разговор до более подходящего часа. Пребывая в нерешительности, он привычным жестом сцепил пальцы рук.
– Но пойми правильно, я говорю не для того, что бы принудить тебя силой своего сана к исполнению естественного для христианина долга. Хочу лишь напомнить: молитвой, как и участием в других таинствах, мы обращаемся к Господу, через неё получаем возможность сблизиться с ним, просим прощения за вольно или невольно содеянное, и искренне раскаявшемуся Господь дарует успокоение.
Всё-таки слова его тронули меня, разбудили старые сомнения. То, что он говорил, каждый из нас усвоил с малолетства, истина сия, многократно услышанная в церкви или повторенная родителями, является опорой в жизни, помогая выстоять, потому к ней трудно оставаться равнодушным. И кто знает, чем бы закончился тот разговор, я совсем решился на откровенность, как неожиданно в ушах моих зазвучал голос, и голос тот произнес: Если ты готов открыть душу… ещё не значит, что другой пришел к тому же… Где я слышал эти слова, как относились они к сказанному священником – но прозвучали так отчетливо, будто в наш разговор вступил третий, и этот третий велел мне хранить молчание. Губы мои сомкнулись, словно их прикрыла незримая ладонь.
Для отца Бернара моё молчание выглядело как сомнение, похоже, это его огорчило, хотя смотрел он всё также с пониманием.
– Впрочем, я не настаиваю. Не являюсь твоим наставником, не могу обязать тебя к послушанию. Говорю лишь, заботясь о тебе: храм всегда открыт мятущимся душам. Справедлив суд Божий, но милость его безгранична.
Я вдруг подумал, что обо мне отец Бернар мог слышать не только от сеньора Риго. Если они регулярно молятся в аббатстве, значит, столь же исправно ходят к исповеди. Что, если обо мне рассказывал Ансельми? Такое вполне могло быть. Выходит, отец Бернар неплохо осведомлен, и, спрашивая, на многое знает ответ. И теперь так упорно пытается разговорить меня. Вдруг Ансельми имеет сомнения относительно моего прихода в Париж и делился ими…
Вслух я пробормотал, что впредь использую каждую возможность, чтобы присутствовать на богослужении.
– Хорошо, сын мой, теперь пойдем, посмотрим, что можно сделать для твоей знакомой. Как, кстати, её зовут?
*****
26
Оказалось, девушку зовут Ноэль. Скрывая улыбку, отец Бернар полюбопытствовал:
– Кто же дал вам такое имя?
– Дедушка.
– Тот самый, кого вы навещаете?
– Да. Я родилась в канун Рождества, и он всегда говорил: это лучшее имя для младенца, пожелавшего явиться на свет в такой день. Все удивляются, но я не обижаюсь.
От дежурившего в больнице монаха мы узнали новости об Анри. Тот был жив, хотя сильно ослаб. Присев на самый краешек жесткого лежака, Ноэль теребила в ладонях сморщенную, вялую руку старика, то принималась рассказывать, как они с матерью ждут его возвращения, то вопрошала стоящего рядом отца Бернара, когда появится возможность забрать больного домой.
На лице монаха, с которым отец Бернар говорил, значились сильные сомнения в том, что Анри удастся покинуть больницу в добром здравии, всё-таки годы его были немалые, но говорить про то вслух не стали. Да и сам Анри, судя по виду, не особенно верил в исцеление, хотя старательно улыбался запавшими губами. Зябко кутаясь в истрепанное, кое-где с заметными проплешинами одеяло, он принялся было расспрашивать о каких-то мелочах по хозяйству, когда речь его прервалась хрипом. Воздух, не находя выхода, шумно бился в горле, переходя в надсадный кашель, сотрясающий высохшее тело. Руки старика беспомощно скользили по одеялу. Ноэль в испуге обернулась к монаху, тот подал чашу с водой, но старику ещё долго не удавалось справиться с приступом, слишком долго, чтобы предсказывать благополучный исход для болезни.
Зрелище подействовало угнетающе, к тому же я невзлюбил это место с тех пор, как довелось провести здесь ночь. Видя, что Ноэль больше не требуется моя помощь, я потихоньку вышел во двор.
День приблизился к своей середине, и в тот час стало особенно заметно, как весна пробует занять место, отведенное ей природой. Пелена ещё скрывала небо, но был уже не тот плотный со сгустками туман, недвижно висевший утром. Весна превращала его в тонкое кружево, причудливо вившееся, сквозь него пробивались хрупкие лучи, робкие, почти незаметные в небе, они переливались, как божественное сияние, в ветках сонных деревьев. И тишина уходила вместе с зимой, сейчас двор наполнили звуки: из открытой двери трапезной доносились голоса, перекликаясь с ними, звенела вода, стекавшая с крыш в огромные бочки, расставленные под желобами.
Я снова задумал отправиться в город, но, прежде чем покинуть аббатство, решил войти в церковь. Дверь, почерневшая и разбухшая, с трудом поддалась моим усилиям и гулко захлопнулась, едва я переступил порог. За дверью этой ничего не менялось. В сумраке с трудом виднелись святые и аллегории, украшавшие росписью стрельчатый купол. Весенний свет был слишком слаб, чтобы осветить стены и пробраться под самый верх, и казалось, от ровно теплящихся возле изваяний огоньков исходит больше света, чем пробивается сквозь узкие окна. А может, так оно и было. Когда я опустился на колени перед Девой святой, заметил, что лицо её озарено, хотя и трудно представить причиной тому лишь крошечную свечу, мерцающую рядом.
Меня мучил вопрос: отчего отец Бернар говорит о тревоге в моих глазах, сам же я не нахожу в них ничего особенного… Я считал, что жизнь моя наладилась, и теперь хотел стереть остатки прегрешения, если таковые в виде тревоги на лице ещё сохраняются. Просил искренне, а закончив обращение, продолжал оставаться в смирении, надеясь поймать в себе хоть отзвук, что дал бы знать, услышана ли моя молитва. Долго стоял в молчании, не думая ни о чем… Наконец, поднялся.
К своему удивлению во дворе встретил Ноэль, я-то считал – она давно покинула аббатство, а оказалось, всё это время она провела в больнице, стараясь облегчить состояние больного, и ушла, когда старик задремал. Я не решился её окликнуть, но девушка подошла сама.
– Спасибо тебе, – и слова её прозвучали как тот отзвук, что безуспешно пытался расслышать, стоя коленопреклоненным. В жизни меня никто не благодарил. Сильно смутившись, я отвечал: такая помощь не стоит благодарности, на это услышал:
– Если не требуется благодарности, можешь обратиться за помощью ко мне, когда тебе понадобится.
Я не смог представить, что мне от неё может понадобиться, и в то же мгновенье пришла мысль узнать, не по пути ли нам в город или расспросить о дороге. Ноэль же просто сказала:
– Идем, я провожу.
На первом повороте она в нерешительности остановилась, потом ещё раз оглядывала дома по обе стороны, вскоре же шла уверенно – это означало: мы пришли в места, хорошо ей знакомые. Какое-то время мы шли молча, но молодость тяготится тишиной, а Ноэль была в хорошем настроении, видно, после встречи в её душе сохранилась надежда. Слово за слово мы начали разговор. Говорить стало легче, встречая на лице девушки оживление, а в словах – интерес, я почти не смущался. Трудно, когда ответом служит замкнутый взгляд, а когда чувствуешь в собеседнике расположение, ответное просыпается в тебе.
– Вы родились в Париже? – спросил я.
– Да. Как ты догадался?
– По тому, как вы говорите.
– Разве люди, рожденные в других городах, говорят как-то иначе?
– Да.
– На французском языке, но по-другому?
– Да.
– А как ты отличаешь?
Чуть растягивая от неуверенности слова, я объяснял:
– Я знаю, как звучит речь человека, рожденного на юге Франции, как говорят люди в Лионе. Теперь знаю, как говорят в Париже.
– Ты много путешествовал?
При этих словах глаза её оживились, совсем как у меня, когда грезил на кухне постоялого двора.
– Нет, но я встречал разных людей.
– Где?
– На постоялом дворе, недалеко от Лиона.
– На постоялом дворе? Что же ты там делал?
– Работал, пока не перебрался в Париж.
– И давно ты в Париже?
– Уже тому несколько месяцев.
Краем глаза я следил за ней. Почувствовав, она обращала на меня свой взгляд, тогда я делал вид, что интересуюсь только дорогой. В моём теперешнем положении, когда рука выводит эти буквы, я нахожу страшно глупым мой прошлый интерес исключительно к внешности, но не могу не признать: почти каждое знакомство начинается именно с этого интереса, тем более знакомство между ещё совсем юными людьми.
Никто не назвал бы Ноэль красавицей. Глаза самого обычного серо-голубого цвета под пушистыми бровями, слегка приподнятыми к вискам. Немного широкое лицо, хотя, возможно, оно казалось таким из-за прически: волосы гладко убраны со лба под отворот небольшой шапочки, завязанной лентой под подбородком. Черты лица тонкие, явно не хватало чувственности, которая бы заставила их проступить резче и придала лицу большую выразительность. Одежда более чем скромная.
Стороннего человека в Ноэль могла привлечь только юность – то радостное, но скоротечное время, когда лицо светится от чистоты желаний и искренности надежд, и часто этого оказывается вполне достаточно, чтобы покорять другие сердца. Разговаривая с ней, я никак не мог отделаться от мысли, что лицо Ноэль напоминает мне о чем-то давнем, почти забытом, что-то смутно проявлялось в памяти, но так неуловимо – я не смог разобрать… Впрочем, не особенно задумывался: впервые шел рядом с девушкой, и не просто шел – девушка дарила свое внимание, это было очень волнительно, а потому я, не переставая, поглядывал на неё.
Держаться она старалась с достоинством, но я видел: Ноэль из бедной семьи, хотя, наверно, богаче по сравнению с моим достатком. В ней чувствовалась легкость, данная природой, и эту легкость она невольно передавала всему, что её окружало. Мы шли между людьми по узким проходам и говорили, говорили… Город перестал интересовать, я был не в силах отвлечься и обратить внимание на что-то иное.
В мастерскую вернулся под вечер. Никого из работников не было, только возле одного из столов заметил Пьетро Риго, и невольно опять вспомнились слова отца Бернара о тревоге на моём лице. Подошел к Пьетро – он осматривал зеркало, зачищенное накануне. Пьетро вздыхал, очевидно, результат был малоутешительным, и, действительно, присмотревшись, я заметил неровные разводы на гладкой с виду поверхности.
Зеркало отражало Пьетро и другое, хорошо знакомое лицо – я-то был уверен, что узнал его полностью, почему же не вижу в нем изменений… Не очень рассчитывая получить ответ, я всё-таки решил заговорить, вроде, ни к кому не обращаясь, но в надежде, что буду услышан:
– Я видел своё лицо много раз, и оно не меняется, всё то же. Но другие находят в нём что-то иное, чего не дано видеть мне, наверно, есть какой-то секрет в этом.
Пьетро снисходительно взглянул на меня, потом усмехнулся.
– Говоришь, другому глазу виднее…
Оставив зеркало, он задумчиво скрестил руки на груди.
– Лицо меняется постепенно. Иногда это занимает годы, и сам ты не можешь поймать момент, когда в нём проявится новое, о чем ты даже не подозревал. В этом и есть секрет. Чем реже видишь человека, тем заметнее перемены в нём, а твоё лицо всегда с тобой – где уж самому о них догадаться.
– Хотя, пожалуй, никакого секрета нет, – он неловко поднялся после долгого сидения. – Если будешь смотреть в зеркало каждый день, ты ничего не поймешь, это для глупцов, мой мальчик, для тех, кто озабочен своей внешностью за неимением других забот. В зеркало надо смотреть только в минуты размышлений, тогда оно откроет тебе тайны.
Пьетро отошел, стал проверять, как горит печь, было слышно, он что-то бормочет и гремит задвижками. Я остался один и, не в силах оторваться, рассматривал, как на зеркало ложатся тени. И раньше не раз наблюдал, как, опускаясь, они задерживаются на поверхности, но лишь на самый краткий миг, и словно проваливаются, устремляясь дальше, в глубину, но не мог понять, откуда она берется, эта глубина, если само зеркало не толще моего пальца. Взгляд мой ловил путь, по которому они следовали, но быстро они терялись, исчезали… А потом, оттолкнувшись от чего-то невидимого, возвращались, чтобы явить собой отражение. Тщетны усилия, зеркало лишь играет со мной, – с досадой думал я, – дразнит, а сама тайна остается сокрыта. Насмехается над моими безуспешными попытками её разгадать, верно, оно – как живое. Стараясь не испортить поверхность, я осторожно провел по ней рукой. Пальцы оставляли едва заметный след, он тут же таял, а на его месте проступало мерцание. Может, душа зеркала рождается, когда его шлифует рука мастера, – мелькнуло в моей голове.
*****
27
Напряжение, державшее всех цепкими руками, спало, когда нас известили, что король Людовик остался весьма доволен стекольным производством. Новость эту узнал Дюнуае, передал Антонио, тот, наверняка, поделился с Пьетро, Ла Мотта невзначай оказался рядом и подслушал, и скоро об этом перешептывались во всех углах мастерской. Последним узнал я, как всегда, от Ансельми.
– Он не только остался доволен, он распорядился выделить новые деньги, много денег – восемьдесят тысяч ливров, чтобы расширить мануфактуру.
Скажу: даже представить не мог столько денег. Невероятное, немыслимое богатство! Я завороженно слушал, мне мерещилась комната, доверху засыпанная монетами.
– По его заказу мы будем делать ещё больше зеркал, – уверенно договорил он.
В один из вечеров вскоре после моего нового знакомства мы разговаривали в мастерской. Мы остались одни, и Ансельми уселся прямо на стол, небрежно сдвинув в сторону мешавшие резаки, я же устроился напротив. Раньше Ансельми не позволил бы подобные вольности, но наступило время короткого затишья, когда людям даровано право на отдых, дабы собраться с новыми силами. В те дни особенно стало заметно, как меняются лица: на смену хмурой сосредоточенности пришло расслабляющее спокойствие, стирающее изломы, порожденные внутренним напряжением. Хотелось надеяться: похожее умиротворение коснется и меня. Все чувствовали себя увереннее, понимая, что достигли желаемого, и немного гордились успехом.
– Ещё больше? Но мы и так работаем без отдыха по многу часов каждый день. Чтобы сделать больше, надо попросить день не заканчиваться.
Ансельми согласно кивнул:
– Ты прав, самим нам не справиться, но скоро из Венеции придут новые работники – это вопрос решенный. Поговаривают – они уже в пути.
Я насторожился.
– А что будет со мной?
– С тобой? А что с тобой может случиться? Для тебя ничего не измениться, продолжишь свою работу. Мастера довольны – ты отлично справляешься.
С благодарностью я взглянул на него, волнение улеглось. Сейчас он говорил со мной как равный, признавая и моё право разделить общую радость. А может, я сам стал другим за последнее время…
– Ты знаком с людьми, которые придут в мастерскую?
– Я слышал немного, но наверняка о них может знать только Дюнуае. Даже Антонио не посвящен, всё делается очень скрытно.
– К чему эти тайны?
Он нахмурился.
– Корнелиус, не будь наивен, ты не первый день в мастерской. Сам знаешь, что производство имеет множество секретов и, разумеется, в Венеции не в восторге, что о них станет известно французам. Если мы сможем делать зеркала, итальянские стекольщики начнут терять свои заработки. Речь идет о деньгах, об огромных деньгах.
И, понизив голос, добавил:
– Нам ведь тоже пришлось тайно сюда добираться.
– Ты говоришь о дороге в Париж?
– Это сначала мы ехали по дороге, но в Лионе нас нагнали…
– Кто нагнал?
На мгновенье он запнулся, но я смотрел с требовательным нетерпением, и вполголоса он продолжал:
– Помнишь, я говорил, что нам пришлось задержаться в Лионе, так вот… Я расскажу тебе. На самом деле мы оставались там не по своей воле, нас удерживали. Они называли себя посланцами Республики.
– Кто – они? – не понял я.
– Слушай, не перебивай, – махнул он рукой. – Когда мы уехали из Венеции, нас было семь человек. Мы добрались до Турина, где уже ждали королевские гвардейцы, всё прошло спокойно. Не прячась, мы поехали дальше, только потом узнали: они просто не успели нас перехватить. Опоздали на несколько часов – видно, в тот день удача была на нашей стороне. Но в Лионе посланцы – их было трое – явились прямо в гостиницу, где мы остановились. Они хотели говорить с Антонио и Пьетро, передали им какие-то бумаги, а Антонио отказался разговаривать. Тогда посланцы набросились на остальных, стали угрожать, все кричали, ругались между собой… Посланцам всё-таки удалось уговорить троих вернуться, и следующим утром они их увезли. Гвардейцы предложили отправиться в путь ближе к вечеру, считалось – так будет безопаснее. Один из них говорил, что отлично знает дорогу, которой никто не пользуется, и нас не разыщут при всём желании, но в лесу мы сбились. Дальше ты знаешь.
– Так вот как вы там оказались… – протянул я. Ансельми всё-таки решил мне рассказать.
Некоторое время в мастерской стояла тишина. Ансельми, покусывая губу, о чем-то сосредоточенно размышлял, может, вспоминал ту встречу, а может, думал о тех, кто так и не добрался до Парижа.
– Почему они решили вернуться, Ансельми?
Он неопределенно пожал плечами.
– Наверно, испугались за свою жизнь. Вообще-то, по законам Республики, стекольщикам, если они отправятся работать за пределы Венеции, грозит смерть.
Меня снова охватило беспокойство, только теперь оно поднялось не изнутри, а пришло от другого человека. Я почувствовал: он что-то умалчивает. Неужели он опять, не договорив, уйдет, оставит меня одного теряться в догадках?
Спрыгнув со стола, Ансельми начал восстанавливать нарушенный порядок. Антонио требовал, чтобы каждый инструмент занимал строго определенное ему место, и просто выходил из себя, если кто-нибудь их путал. Я подошел, чтобы помочь, как, между прочим, он негромко добавил:
– Если мы заговорили об этом, то знай: когда идет речь о благополучии Республики, посланцы просто так не отступают. Тогда уговорили троих, но в Венеции не успокоятся, пока наша мастерская не прекратит работу. Или, по меньшей мере, пока в ней трудятся итальянские стекольщики.
Я понял. Мой вопрос прозвучал слишком отчетливо, от него нельзя было уйти. Ансельми обернулся, даже полумрак не мог скрыть его расстроенное лицо.
– На днях стало известно: посланцы приезжали в Париж. Тайно, чтобы никто не знал их дело. Как нам передали, они ищут работающих здесь итальянцев. Это очень серьезно.
– Тебе… угрожает опасность?
Он в сомнении покачал головой.
– Не думаю, что сильно угрожает. В конце концов, не я хранитель секретов. Пьетро и Дандоло надо тревожиться больше. Но осторожность никогда не помешает.
– А что может случиться, если они найдут вас?
– Ну, возможно, для начала они снова попробуют уговорить нас вернуться. Они не желают нам смерти, пойми, их интерес в другом.
– В том, чтобы вы трудились в Венеции?
– Конечно. От мертвого работника мало пользы, к тому же, они хотят сохранить знания.
Сказанное немного ободрило, но всё же служило слабым утешением. Оказалось, даже поддержка его величества не несет избавления от новых неприятностей.
Я видел: Ансельми подавлен известием. Без всякой цели он перекладывал инструменты, печально глядя перед собой. И в то мгновение мне захотелось как-то успокоить его, просто выразить свое сочувствие, дать понять, что он может рассчитывать на любую мою помощь. Желание было столь велико, что, не удержавшись, я потянулся к нему и осторожно прикоснулся ладонью к его щеке. Я просто не нашел другого способа поддержать его. Тепло кожи согрело пальцы быстрее, чем я взглянул в его глаза. Сначала в них отразилось непонимание, даже растерянность, но быстро они начали меняться, глаза Ансельми удивленно раскрылись, будто он узнал что-то совершенное новое для себя. Это было не просто удивление, но ничего резкого, что могло бы принести неловкость или отвратить. Потом он осторожно отвел мою ладонь, сделав это мягко, легко удержав мои пальцы в своей руке. Я тихо проговорил:
– Раньше я думал: почему ты скрываешь от меня…
Он снова нахмурился, и в голосе послышалась сердитая хрипотца.
– Я не скрывал от тебя, Корнелиус. Но не могу же я довериться первому встречному. Даже если он добр и приятной наружности.
Желая прервать неловкую тишину и отвлечь Ансельми от мрачных мыслей, я решил рассказать о встрече с Ноэль, и не ошибся: он заметно оживился. Внимательно выслушав мой рассказ, он задал вопрос:
– Она красива?
Как объяснить… Нет, Ноэль не была красива, но… Я вспомнил, о чем так смутно напоминало её лицо. Старый забытый сон, виденный ещё на постоялом дворе в ту ночь, когда я познакомился с Ансельми. Точно такое же нежное, словно из дымки, лицо было у девушки, протянувшей мне руки… Но не мог я об этом говорить, потому старательно подбирал слова, а вышло только:
– Я был бы рад снова её увидеть.
И вот ещё одно достоинство юности: она не позволяет долго предаваться унынию. Ансельми оказался не исключением.
– Я спрошу Антонио, можно ли тебе иногда выходить в город, – думаю, он не будет против. Тем более, когда придут новые работники. Хорошо, что ты сказал – как же я раньше не задумался, каково тебе проводить дни в четырех стенах. И ты знаешь, где живет твоя подружка?
Я тоже оживился.
– Не сказал бы, что она моя подружка.
Расставаясь, Ноэль объяснила, как её можно найти. Мне показалось, она не стала бы возражать против моего прихода. Впрочем, возможно, я ошибаюсь, но это легко проверить.
*****
28
Ансельми оказался прав: действительно, не прошло и месяца, как в мастерской появились новые люди. Однажды утром они переступили порог: трое незнакомых мужчин, двое средних лет, третий совсем молодой, немногим старше Ансельми, – я сразу обратил на него внимание.
Был он довольно высок, выше других почти на голову, сильно худой. Прямые черные волосы доходили до согнутых дугой плеч, он сутулился, словно старался выглядеть наравне со всеми. Бледная матовая кожа делала его совсем непохожим на других итальянцев, с ними его роднили только глаза, такие же крупные и темные, как вызревшие вишни. Но если глаза Антонио говорили о сдержанности, а в глазах Ансельми задумчивость сменяла недоступные мне размышления, то глаза молодого человека стремительно двигались, не задерживаясь подолгу, выразительно сопровождали любое слово или жест. Когда он работал в молчании, лицо его сохраняло неподвижность, но стоило ему заговорить, как оно начинало подергиваться и дрожать – выглядело это не самым приятным образом. И ходил он поспешно, какими-то рывками, резко оборачивался, когда его звали по имени… Но почему-то мне он понравился.
Новых людей представили, с одним Антонио то и дело обменивался дружескими возгласами – по всей видимости, они были знакомы раньше, к другому подошел с приветствием Ла Мотта. Самого молодого звали Марко, знал ли его кто до появления в мастерской – осталось неясным.
За работой я стал приглядываться к Марко. Не то что бы искал общения, скорее, был мой обычный интерес к новому человеку, я осторожно поглядывал в его сторону, иногда проходил мимо. Но Марко мало обращал на это внимания. Работа настолько его поглощала, что он почти ни с кем не разговаривал, часто пропускал обед, а по вечерам задерживался в мастерской дольше остальных. Хотя и до его появления я наблюдал, с какой привязанностью итальянские стекольщики относятся к предмету, ими создаваемому, отношение Марко превзошло виденное мною до сих пор. Он мог работать часами, не отрываясь, не замечая ничего вокруг, и, как только приступал – неважно, чем он в тот день занимался, раскатывал форму или смешивал состав – любому становилось понятно: он не новичок в своём деле. Работая, он преображался, дрожь переставала искажать лицо, и куда только девались его неловкие движения.
В первые дни, когда он задерживался вечерами, я лишь издали наблюдал за ним, он же вел себя так, будто меня и не было рядом. Закончив работу, иногда совсем поздно, он бросал передник рядом с дверью и, не говоря ни слова, покидал мастерскую. Но в один из вечеров, когда мне показалось, что он не слишком занят, я решился заговорить.
– Все эти зеркала из нашей мастерской достанутся одному человеку? – негромко спросил я, подразумевая короля.
Марко вздрогнул. Видно, работа так увлекла его, что никого не видел и считал, что остался один. Он смотрел в мою сторону, словно не понимая и силясь разобраться, как здесь мог оказаться кто-то ещё. Пришлось напомнить о себе:
– Меня зовут Корнелиус, я остаюсь на ночь в мастерской.
Он коротко кивнул:
– Знаю.
Последовало молчание, и я решил, что разговор, не начавшись, завершился, но тут он немного отрывисто произнес:
– Не совсем так. Часть из них будет продана другим заказчикам. Но лишь малая часть, а остальные действительно будут доставлены ко двору его величества.
– Для чего может понадобиться так много зеркал? Король хочет каждый день видеть себя в новом зеркале?
На лице Марко мелькнуло некое подобие интереса, в ответ он спросил:
– Ты давно в мастерской?
– С зимы.
– Значит, совсем новичок. Но наблюдательный – я заметил, как ты смотришь. Из тебя выйдет толк, так все говорят.
Он поманил меня.
– Подойди ближе, что жмешься к стенке.
Я послушно встал сбоку от стола, за которым он работал.
– Ты правильно рассудил: чтобы видеть себя, вполне хватило бы небольшого зеркала. Но, знаешь ли, это только одна его сторона. Ведь оно может хорошо послужить и другим целям.
Рука его мягко дотронулась до края стоявшего у колен зеркала, он словно ребенка погладил.
– Так или иначе, оно прекрасно само по себе и способно преобразить любую убогость. Думаю, король уже оценил по достоинству его красоту. Помоги мне…
Вдвоем мы передвинули подставку в угол, где были собраны готовые зеркала. Марко ещё раз внимательно их оглядел.
– Завтра зеркала увезут из мастерской, его величество украсит ими свои комнаты, чтобы иметь возможность беспрепятственно и в любой момент видеть не только себя, но и других, – его лицо передернулось, мне показалось: он хотел подмигнуть.
– Для чего? – наивно удивился я.
Марко принялся объяснять, и, скажу вам, делал это с удовольствием. Он немного знал французский язык, мешал слова с родными итальянскими, иногда понять его было непросто, но Марко терпеливо старался растолковать сказанное.
– Все думают, король Людовик покупает зеркала из любопытства к своей внешности. Отчего же нет, возможно. Но я уверен, – тут голос Марко зазвучал торжественно, словно собирался донести нечто особенное. – Он хочет большего. Он хочет, чтобы власть его была безгранична.
Марко умолк на миг, приглашая расценить сказанное, и продолжал:
– А как можно этого добиться? Увы, увы, знать только себя для этого недостаточно. Надо знать других, их мысли, замыслы, а лучше – тайны.
Ладонью он бесцеремонно уперся мне в грудь.
– Кто знает твою тайну, тот имеет над тобой власть, разве не так?
– Верно… Верно, я и сам об этом думал, – вдруг того не желая, пробормотал я.
Марко смотрел вопросительно, брови его поползли вверх.
– Ну, видишь, если уже ты об этом задумался, то каково королю приходится, – добавил он с самым серьезным видом.
– И как этого добиться с помощью зеркала? – я торопливо вернулся к разговору.
Марко уселся на прежнее место, удобно прислонился к столу. Я последовал за ним.
– Существует множество способов, одни более доступны, другие менее, но весьма действенны. Главное в этом – твоё желание, оно способно дать всё, что угодно. Власть, деньги…
– Но каким образом?
– Пожалуй, самое простое, – решил он. – Когда мы в зеркале наблюдаем за другими, а они даже не подозревают об этом.
Чуть улыбнувшись, я вспомнил свой первый день в мастерской…
– Это можно делать очень скрытно, – продолжал Марко. – Разместив зеркало так, чтобы в нём отразилось желаемое. При этом ты можешь находиться поблизости или даже за пределами комнаты, но увидишь, что происходит в нужном тебе месте. Сам же останешься незамеченным.
– И как это может помочь?
Марко вздохнул.
– Тебе, Корнелиус, никак не поможет. А вот для короля Людовика очень удобно. Перед его светлым взором едва ли кто-то решится плести интриги, а за спиной – сколько угодно. Имей он возможность узнать об этом заранее, последствия не будут плачевны.
– А как можно обрести богатство?
– Опять-таки что-то увидеть, узнать… И хранить молчание. За определенную плату. Не слыхал историю слуги маркизы ди Коносса? Об этом много говорили. Этот плут разбогател после того, как подсмотрел в зеркале, что происходит в комнатах маркизы в отсутствие хозяина. В спальню ему, конечно, прохода не было, но этого и не требовалось. Когда к маркизе приходили подруги, она, не таясь, принимала их в гостиной. А для кого-то был особый путь. Человек мог проникнуть в дом, минуя вход с улицы, пройдя через галерею из соседнего палаццо, где жила сестра маркизы. Не встретив слуг, он оставался незамеченным.
Марко всё больше воодушевлялся.
– К маркизе приходили гости, и никто из домашних о них не подозревал. А слуга заинтересовался: отчего хозяйке так часто нездоровится после ухода супруга – она часами отдыхала в спальне и выходила как мак цветущий. И ни разу странная болезнь не застала маркизу, когда хозяин дома – с чего бы это? Во время уборки слуга немного передвинул зеркало, стоявшее против будуара, чтобы была заметна дверь в спальню. Наверно, ему многое стало известно, если маркиза так обеспокоилась. Говорят, муж её был очень вспыльчив, а она побоялась, что он заподозрит неладное и лишит их единственного сына наследства. И имела бы эта история счастливый конец, если бы не жадность слуги – по-моему, его звали Жордано.
– Что же случилось в конце?
– Его выловили в канале мертвым. У сеньоры закончились деньги, или иссякло её терпение. А возможно, слуга начал болтать. Точно, он всё-таки проговорился, иначе, откуда всё стало известно?
Марко рассмеялся, мне эта история тоже показалась забавной. Мы разговаривали как давнишние приятели, чувствуя себя при этом совершенно свободно. Лицо Марко больше не кривилось, глаза оживленно поглядывали на зеркала, о них он был готов говорить бесконечно… Я неожиданно спросил:
– Как ты думаешь, у зеркала есть душа?
– Душа? – переспросил он удивленно. – Подобная той, что имеют люди?
– Да. Мне рассказывали, что только божественное проявление, коим является душа, может наделить зеркало силой, которая позволяет притягивать взгляд и придает ему этот блеск, – почти не сбиваясь, я повторил слышанное от Ансельми.
Он недоверчиво помолчал, словно пытался вспомнить всё, что ему доводилось знать о зеркалах.
– Нет, никогда раньше не слышал про такое.
– Но ведь зеркала разные. Даже в нашей мастерской. Вот это, – я бросился к одному, – вон то, – показал на стоящее рядом. – Если присмотреться, они отличаются. Так же, как мы отличаем людей по их лицам.
– И что? Ты хочешь это объяснить? В них вселяются разные души? – в голосе Марко слышалась откровенная насмешка.
Я не знал, как возразить… Раздумывая над ответом, он тоже подошел к зеркалу, возле которого я остановился, и нас стало не двое, но четверо. Глаза Марко встретились с отражением и, чуть прищурившись, осмотрели двойника. Когда он заговорил, мне стало не по себе. То ли он сказал, то ли отражение – попробуй разберись. Издалека слышал я его голос, и собственный голос показался не мне принадлежащим. Видно, сильно устал в тот день, иначе, откуда взяться непонятному страху, который – я чувствовал – подкрадывается неотвратимо.
– Настоящий мастер всегда определит подлинное лицо зеркала. Разные зеркала приходилось видеть, верно, не все из них наделены таким блеском, как это, – он размышлял. – Но думаю, дело не в душе, а в составе массы. У каждого мастера – свои секреты, а Антонио, как мне кажется, добавляет в массу золото. Где-то его больше, где-то меньше.
– Ты хочешь сказать: в разных мастерских могут быть разные составы? Разве не один рецепт для всех?
– Рецепт хранится в семье и передается из поколения в поколение – это фамильная тайна. Внуки работают над тем, что удалось сделать деду.
Он собрался уходить, и был почти на пороге, когда я окликнул его.
– А как ты думаешь, могло бы оно иметь душу?
Улыбнувшись, Марко покачал головой:
– Думаю, Господь дарует душу только своему подобию. То есть, человеку.
Вместо прощания он дружески произнес:
– Смотри, не заговори об этом с церковными отцами, Корнелиус. А то не миновать тебе Святой Инквизиции.
И за ним захлопнулась дверь. После его ухода я быстро, как только мог, стал укладываться спать. Отворачивался от зеркал – сам не знаю, что на меня нашло. Завернувшись с головой в старый шерстяной отрез, служивший одеялом, я лежал, не шелохнувшись, стараясь не задрожать от тоскливого напряжения, охватившего всё тело. С трудом погрузился в беспокойный сон.
Сквозь сон я видел Марко. Он снова был в мастерской, только почему-то сидел на полу, неловко откинувшись, словно искал опоры. В комнате посветлело, день начинается, – думал я и пробовал подняться, но не сумел, а свет окрасил комнату прозрачным лиловым, и теперь она казалась нагромождением бесформенных предметов, выступавших острыми углами. Я повернулся к окну. Огромная белесая луна закрывала собой почти весь проём, вздохнул с облегчением: значит, всё-таки ночь. Такая же многократно повторенная луна блуждала позади Марко в зеркалах, её безжизненное отражение ложилось на его опущенную голову, застывшее спокойствием лицо, полузакрытые глаза, вроде, он спал… Возле рта к подбородку тянулась густая неровная полоса. Присмотревшись, я понял, что это кровь.
*****
29
С приходом итальянцев расширение мастерской не закончилось. По распоряжению Дюнуае приняли ещё французов, и к лету стекольное производство насчитывало без малого полсотни человек.
Ансельми сдержал слово: для меня сделали некоторые послабления. Два раза в неделю мне разрешалось уходить вечером вместе со всеми, если кто-нибудь из вновь прибывших оставался в мастерской до утра. Дюнуае был весьма недоволен, когда Антонио обратился с просьбой позволить самому младшему работнику провести свободную от работы ночь вне стен мастерской. Чтобы решить сие прошение, требовалось подыскать место для ночлега, а это непременно ввело бы управителя в новые расходы, Дюнуае зорко следил за нашими тратами, себе же ни в чем не отказывал. Но неожиданно нашелся подходящий выход – признаться, даже на него не рассчитывал. Ансельми не возражал, если время от времени я переночую в его комнате в доме неподалеку, где расселились итальянцы. И все с этим согласились.
В Париже мое обиталище было немногим удобнее кухни на постоялом дворе. Теперь я готовился к новому жилищу в малопримечательном доме почти в три этажа, если считать чердак, а приходилось считать: туда поселили молодого работника со странным именем Пеппа. Довольно унылый дом: в нем ощущалась сырость даже в погожий летний день, а на поблекших стенах кое-где пестрели пятна от осыпавшейся краски… Впрочем, за исключением мастерской, наша улица состояла из таких вот домов: потрескавшиеся стены, крохотные окна. Убранство внутри – самое простое, хотя зависело от вкуса хозяина. Проходя мимо комнаты Пьетро, я даже приметил небольшой гобелен, впрочем, скорее служивший защитой от холода, проникавшего зимой, чем радующий глаз хозяина. Единственным украшением комнаты, которую я собирался делить с Ансельми, можно назвать стол на низких изогнутых ножках – уж не знаю, откуда он взялся, может, от наших соседей-краснодеревщиков. Под столом Ансельми хранил небольшой сундучок, туда же я перенес короб с вещами, мне принадлежащими. Так я почти стал частью итальянской фамилии и теперь, волей-неволей, должен был следовать их привычкам, по крайней мере, когда находился с ними.
Оказалось, действительно, по нескольку раз в неделю они ходят в Сент-Антуанское аббатство. Шли туда ранним утром, едва в крохотные улочки предместья заглядывал рассвет, торопясь отстоять литургию до начала работы в мастерской. В свое первое утро, проведенное в итальянском доме – так звали жилище – вместе со всеми в церковь отправился и я.
Хор монахов стройно выводил песнопения, я молча слушал, с трудом припоминая, о чем нам говорит сия молитва, но, поймав строгий взгляд Антонио, зашевелил губами, сперва еле слышно, потом громче вторил словам, голоса наши сливались, достигая высот запредельных, и все вокруг погрузились в молитву. Кто в молчании, набожно сложив руки, потупив глаза, кто, наоборот, крестясь и с жаром шепча бессвязное – может, просили о чем Господа. Вот ведь, оказывается, не у одного меня столь горячие просьбы, да только есть ли на чьей душе грех тяжелее моего, что отягощает и тянет не к небу, но к земле… Исповедоваться приступали и мастера, и молодые работники, пошел к исповеди Ансельми. Я пока воздерживался, но чувствовал, как за мной зорко наблюдают: Антонио – неодобрительно, да и другие смотрели с недоумением. Выходило – исповеди мне не избежать, – тревожно я думал: что же смогу сказать, неужели придется вдобавок отяготить душу ложью.
О грехах других, конечно, не столь великих, вскоре узнал я многое: было им в чем раскаиваться. Странные перемены появились в нашей мастерской. Как уже упоминал, после приезда его величества настроение у многих изменилось. Поначалу едва заметно, и все, даже старшие, приняли это за краткое расслабление, которое часто необходимо, чтобы отбросить старое и собраться с силами, приступая к новым, возможно, более тяжелым работам. Но время шло, и то ли уже не могли собраться, или сил не оставалось, а может, и думать позабыли. Довольство короля не принесло удачи. Уверенные на сей день в своём положении, окруженные со всех сторон похвалой и щедро осыпаемые деньгами королевской казны, итальянцы стали пропускать работу.
Вначале это проходило скрытно, даже для меня, живущего с ними, та сторона их жизни оставалась закрытой. Как потом догадался, они позволяли себе вольности и в первое время в Париже, но тогда работа и тревоги о будущем занимали все мысли. Теперь, проводя дни в удовольствиях, они уже не могли от них отказаться, в конце концов, об этом стало известно всем, даже в соседних мастерских. Итальянцы пропускали работу, ссылаясь на слабость и недомогание после непривычно суровой зимы, но все знали, что служило причиной их болезней. В предместье не было принято так себя вести, на итальянский дом стали коситься брезгливо, даже с презрением.
Надо отдать должное: мастера в распутстве участия не принимали и, как могли, старались наставить молодых на путь благоразумия, но ветру только дай разгуляться – прав Жюст – удержу знать не будешь. Вдали от семьи – пожалуй, единственного, что хоть как-то могло их сдержать – они не видели для своих вольностей никаких препятствий и считали, что за деньги им позволительны любые утехи. Да, успех и богатство многих сокрушали, заставляя лишаться разума. Все слова Антонио и Пьетро виделись им пустой болтовней, по воскресеньям они смиренно каялись, глаз не поднимая, щедро жертвуя королевские монеты на руку священнику, и в последующие дни всё повторялось сызнова. Любовные приключения Жюста казались мне теперь незначительными, я догадался, о чем он думал, когда говорил, что Ансельми сможет мне помочь.
Я не осуждаю, тем более сами они находили в этом только естественные проявления, но я за свою жизнь так и не смог это принять. Женщины, приходившие в дом вечерами, казались мне слишком грубыми. Я чувствовал: телом они молоды, но душа их успела так сильно состариться, что не могло не отразиться на внешности – даже самая ровная от природы кожа была не в состоянии скрыть их стремительное увядание. Возможно, они, как и я, не замечали в себе никаких перемен, по-прежнему считая, что остались невинными созданиями, коими были когда-то, прежде чем свершилось их падение. Но я видел, как безжалостно жизнь уродует им лица: не имея шрамов физических, они носили на себе другие отметины, рубцы, пятна, словом, ту червоточину порока, что, единожды вселившись в человека, начинает безжалостно разъедать его душу, а потом – и тело, искажая черты. Больше всего страдает лицо, оно становится неприятным, часто отталкивающим, хотя и без понятных на взгляд причин.
С тех пор, где бы ни приходилось бывать, я безошибочно узнавал этих женщин, даже если со временем они бросали своё ремесло. Все равно – добропорядочных хозяек из них никогда не получалось. Я выделял их в толпе среди других людей, иногда по визгливому голосу – невозможно слушать без содрогания эти пронзительные выкрики – но чаще их выдавали глаза. Беззастенчиво смотрели они на мужчин, и те принимали вызывающий взгляд, как согласие на похоть. Сердца этих женщин не требовалось долго уговаривать. За несколько монет они были готовы пойти с тобой на всю ночь куда угодно, будь ты хоть последний изувеченный калека, без рук, без ног или сам дьявол – их бы это только раззадорило. Так и не мог привыкнуть, не находил ничего привлекательного, но и не смог их избежать…
О том опыте, который приобрел, едва сравнялось четырнадцать, сейчас даже не хочется вспоминать. Но что поделать, если сам взялся терзать себя письменами. Да, я напишу, что раскаиваюсь – да помилует меня Господь всемогущий. Первая ночь принесла мне ожидаемое удовольствие, но наутро с недоумением я думал о нём, ибо моя первая ночь принадлежала не женщине, которую я полюбил искренне и сильно, но самой что ни есть потаскухе в дешевом наряде, с деланным блеском в глазах, а на самом деле мертвенно равнодушной к себе и ко всем, кто её окружал. Но обойтись без окружения – я говорю о мужчинах – она не умела, иначе, откуда взяться деньгам – этим круглым монеткам, дающим право на жизнь, – и верх её платья был так сильно затянут, что груди, раскрытые до неприличия, дерзко выпячивались, впрочем, этим она совершенно не смущалась. Даже наоборот, облачаясь утром в одежду, она старалась приподнять грудь ещё выше, так, что та едва не вывалилась наружу. Она была молода – не больше двадцати, хорошо сложена. Ночью мои руки, мокрые и скованные от возбуждения, торопливо скользили по её прохладному телу – это доставляло удовольствие, но, когда наши тела соединились, я не чувствовал, что эта женщина стала мне ближе, мы так и остались чужды, бесконечно чужды друг другу.
Лихорадочно я стремился проникнуть в неё, думая только о том удовольствии – был много о нём наслышан, да и, как упоминал, однажды видел перед своими глазами. Ночами воспоминания горячили кровь, и вот теперь в нетерпении я стремился повторить увиденное. Но она осталась равнодушной к моему напряжению, нас ничего не связало, я почувствовал, со мной ей просто скучно. Терпеливо она переносила мои неловкости, но ради чего? Ради желания видеть меня счастливым? Ради монет, поблескивавших на столике рядом…
Я достиг желаемого, словно вспышка пронзила тело, ослепив. Но волна блаженства, едва успев коснуться, схлынула мгновенно, оставив лежать в смятении и усталости, дрожащим от озноба, хотя за окном стояла душная летняя ночь – такая случается в преддверии грозы. Она даже не повернулась ко мне, чтобы хоть для видимости наградить поцелуем, да и мои руки больше не искали её тела. Остаток ночи мы провели, неловко отстранившись друг от друга – уж я-то точно был смущен. Проснувшись рано, она оделась украдкой, стараясь не разбудить меня, хотя я не спал, просто делал вид, что спящий, всей душой желая, чтобы она поскорее ушла. Тело хранило воспоминание о связи, как об источнике удовольствия и, пожалуй, с новой силой возжелало повторения, но в душе не осталось ничего, кроме пустоты и отчуждения, и, сказать по правде, я вздохнул свободнее, услышав, как закрылась за ней дверь. Откуда эта женщина пришла ко мне? Действительно, Ансельми посодействовал тому.
Скажу сначала, что после той ночи несколько дней промучился, размышляя: отчего женщина осталась равнодушна ко мне, моим желаниям, не разделила страсти, которую я хотел подарить её телу? С горечью думал, что уход с постоялого двора, по сути, ничего не изменил, как люди смотрели сквозь меня, так и по сей день остается. А другим всё дается легко, без особых усилий. Проходя с Ансельми по улице, я не раз замечал, как, столкнувшись с ним, женщины – не только юные, но и обремененные годами матроны – розовели лицом, а взгляд их становился какими-то особенно влажным. Даже не будучи с ним знакомы, они сладостно улыбались, так и норовили дотянуться до его руки, словно он их притягивал.
Ансельми женщин не сторонился. Не могу с уверенностью сказать, скольким он подарил своё внимание, но подозреваю: в Париже не так уж много ночей он провел в одиночестве, хотя, когда я оставался в доме, мы были вдвоем. Впрочем, иногда он уходил на всю ночь и возвращался утром уже в мастерскую.
Вообще, Ансельми вне стен мастерской отличался от того Ансельми, с которым я привык видеться за работой, и уж менее всего он походил на Ансельми, о котором я думал на постоялом дворе. По-прежнему он проявлял дружелюбие, а его намерения в работе оставались весьма серьезными, в нём не замечалось небрежности, как у некоторых из итальянцев. Он избегал чрезмерности – в отличие от своих товарищей, в комнатах которых иногда даже ночью не стихали шумные развеселые голоса. Но вскоре после того, как я начал появляться в жилище, ко мне приблизилась и другая его сторона.
*****
30
Любое изменение, случись оно рядом, отражается в нас, хотя иногда бывает трудно распознать его немедленно, но будьте уверены: оно не пройдет совсем бесследно. Вся наша жизнь – скорее череда мелких перемен, и они не менее важны, чем нечто значительное, к ним стоит присмотреться, ибо они и ведут к тому значительному, желаемому нами или нет.
Я стал чаще бывать с Ансельми. Уставшие после работы, мы говорили немного и больше по пустякам, но, разделив комнату, спали в близости друг от друга, а что может сделать человека более уязвимым, чем собственный сон. Сбросив одежду, как с тела, так и с лица, он остается лишь с тем, что получил от природы, или с тем, что смог взять у неё за прожитые годы. Во сне человек не в состоянии уберечь себя, показываясь другому спящим, мы невольно доверяемся, позволяя видеть собственную незащищенность.
Однажды среди ночи показалось, как кто-то громко позвал меня и, испуганный, я поднял голову. В доме было тихо и, верно, далеко за полночь, раз все разбрелись и, наконец, угомонились. Я прислушивался, но не услышал ничего, кроме шуршания листвы за окном и ровного дыхания на соседней постели. Комната была так мала, между нами не набиралось и четырех шагов, но ночью трудно что-то разглядеть, кажется, Ансельми спал, повернувшись боком, подложив вытянутую руку под голову. У изголовья белела свеча, проснувшись утром, он сразу тянулся её зажечь – я заметил: Ансельми избегает темноты. При слабом свете он недолго дремал или просто лежал, задумавшись. Больше всего я любил тогда эти утренние пробуждения: они напоминали о часе нашего знакомства, оставшемся позади, но по-прежнему ярким в памяти…
Снова улегшись, я думал, как изменилась моя жизнь. Пожалуй, теперь доволен, что всё в ней так сложилось. Конечно, не о Пикаре речь, но появилась мастерская, в которой многому научился, работа, которую полюбил, и более не чувствую себя одиноким благодаря людям, меня окружавшим: они дали понять, что я им нужен… Останусь работать с ними, сколько позволят, а со временем сделаюсь опытным стекольщиком, ведь, рано или поздно, сеньор Антонио всё равно уступит, и итальянцы раскроют секреты, пока нам неизвестные…
Мысли пробегали, и от них становилось спокойнее. Смутно припомнилась тоска на постоялом дворе. Так вот, наверно, что есть счастье, Корнелиус: думаешь ты о дне завтрашнем, и мысли не омрачают голову… Глазам моим представилась дорога, по которой, спеша, я уходил с постоялого двора. Холодный туман нехотя отступал, словно размышляя, позволить ли мне пройти, но я не задумывался, уверенный в своём выборе. Вдруг в том месте, где нужно было сворачивать в лес, дорога резко оборвалась возле невесть откуда появившейся ограды, я остановился, не понимая, куда идти дальше… Ограда тянулась в обе стороны бесконечной чередой узора, ни прохода, ни малейшей лазейки в ней заметно не было. Как не было и самой дороги: сколько я не пытался смотреть по ту сторону, видел густо спутанный кустарник, дальше всё закрывал туман. Кто-то тронул мою руку. Подняв глаза, заметил напротив фигуру, завернутую в плащ с низко опущенным капюшоном. Я отшатнулся, приняв её за монаха с беспокойными глазами, руки мои судорожно вцепились в ограду, стараясь нащупать выход, фигура скользнула ближе, Ноэль, Ноэль, – догадался я, – вот уж не думал встретить, как ты смогла прийти сюда? Знаю, ты думала: я забыл о нашей встрече, но это не так, откроюсь – я вспоминаю тебя по многу раз в день.
Мне казалось – мы снова идем с Ноэль в предместье – тогда была моя первая прогулка в город. Становилось шумно, радуясь наступавшему теплу, горожане распахивали ставни, отовсюду разносились голоса, крики, какой-то скрежет. Высунувшись в окно, старик в колпаке громко звал мальчишку с другого конца улицы, тот не отвечал, старик злился и что есть силы колотил по оконной перекладине. Возле окна в клетке из прутьев билась перепуганная курица.
Какая-то женщина с седыми всколоченными волосами, не глядя, выплеснула целое ведро помоев чуть не под ноги, грязная вода стекала по небрежно уложенным камням. Разгоняя её потоки, тяжело двигались повозки, иногда столь сильно груженные, что приходилось прижиматься к стене, уступая им дорогу. Помню, осмелев, я спросил у Ноэль, чем заняты её родители.
– Отец умер, когда я была совсем малюткой. Напала болезнь, многие здесь померли, и мой брат тоже. Мама болела, но осталась жива.
– А чем занимается ваша матушка?
– Трудится в прачечной герцога Орлеанского.
– Брата короля?
Она кивнула и быстро пошла вперед. Я спешил следом, мельком оглядев удивительную дверь: кто-то пожелал нарисовать на ней багровое солнце с неровно загнутыми краями и тонкий завиток месяца пониже. Месяц словно тянулся подняться, но мешала дуга из крохотных звездочек, проложенная между ними. Когда дверь открывалась, из глубины доносился голос колокольчика, нежный и требовательный одновременно…
Болезненный стон прозвучал совсем рядом. Ансельми, повернувшись, с тяжелым вздохом уткнулся в перину. Я с тревогой оглянулся, не понимая, что послужило тому причиной: видит ли он плохой сон или ему нездоровится. Решив, что всё-таки – первое, негромко окликнул его, но он продолжал лежать без движения. Тогда попробовал дотянуться, как неожиданно послышался незнакомый, звенящий от напряжения голос.
– Да что тебе нужно? Зачем ты всё время смотришь на меня?
Поначалу даже не понял, что голос тот принадлежит Ансельми: никогда не видел его в таком возбуждении, он еле сдерживался, чтобы не перейти на крик, я же растерялся.
– Ты следишь за мной? Следишь?
– У меня и мысли не было следить за тобой… С чего ты взял… – бормотал я, сбитый с толку.
– Не отпирайся, я не раз замечал, – он уселся на постели. – Сначала мучил меня расспросами, а, не дождавшись ответа, принялся за мной следить.
Торопливо он потянулся к свечке, но она выскочила из его рук. В темноте он старался её нащупать, наконец, это удалось. Раздался негромкий стук, вскоре пламя задрожало на его ладони, вроде, он немного успокоился.
– Ты ведь тоже не всё мне рассказал, – вдруг бросил он.
– О чем ты говоришь? – не понял я сразу.
– Ты ведь что-то скрыл от меня!
– С чего ты взял?
– Да, скрыл! Всё просто, – на лице его мелькнула усмешка. – На днях случайно встретил твоего гвардейца, как его, Жюст, что ли… Просто увидел в городе: он с товарищем куда-то направлялся. Он обрадовался, по-моему, не столько мне, сколько случаю поговорить о тебе, как ты да что с тобой… Я возьми и спроси: что это ты, Жюст, позвал с собой в дорогу Корнелиуса? А он удивился, глаза вытаращил. Никуда, говорит, я его не звал, он сам напросился. Я, мол, ещё уговаривал его не ехать… Так где же правда? Кто из вас врет?
Словно перед моим носом захлопнулась дверь, и как выбраться на свет божий? Я окончательно смешался.
– Какая мне причина врать? Право, Ансельми, – я старался поскорее придумать объяснение, но ничего достойного в голову не приходило. Совсем позабыл об этом, похоронил камешек глубоко на самом дне, а он вот теперь угрожающе всплыл – так некстати.
– Жюст ошибся… Просто ошибся, – продолжал я уже более твердо. – Или перепутал с кем-то.
Но он не поверил, слова те даже мне показались малоубедительными.
– Перепутал? Да с кем ему тебя путать? Хочешь сказать, он каждую неделю привозит мальчишку в Париж?
Я молчал, охваченный тревожными предчувствиями, каким могло быть продолжение их случайного разговора. Но, не дождавшись ответа, Ансельми отвернулся. Вскоре снова заговорил, ярость пропала, уступив место то ли обиде, то ли усталости.
– Что, Корнелиус, кажется, не по вкусу тебе мои вопросы? Легче самому задавать, чем отвечать, не правда ли?
– Ладно, не хочешь говорить – дело твоё, – наконец довольно равнодушно протянул он.
Я так и не понял, чем вызвал гневную вспышку. Некоторое время мы молча сидели друг против друга. Ансельми рассеянно оглядывал комнату, словно после нашего разговора она изменилась до неузнаваемости. Временами взгляд его задерживался на мне, будто вопрошая, можно ли по-прежнему доверять человеку, который явно что-то скрывает… Но продолжения не последовало, он расправил измятый холст, наброшенный на перину – на одном спал, другим укрывался – и собрался загасить огонь, качавшийся на краешке свечи.
– Давай спать, ещё есть время.
Неожиданно со стороны лестницы послышались осторожные шаги. Кто-то, крадучись, двигался, стараясь оставаться бесшумным, но башмаки предательски постукивали по рассохшимся ступенькам. Вскоре до нас долетело, как этот кто-то возится с замком входной двери. Я удивился, на лице Ансельми отразилось такое же недоумение. Он вопрошающе посмотрел на нашу дверь: за окном глубокая ночь, кому в такой час понадобилось отправиться на улицу?
– Может, кто-нибудь из их женщин? – предположил я.
– Не похоже, – откликнулся он. – Скорее, это был мужчина.
– Если он из своих, выход из дома ночью – неслыханное нарушение, – заметил я.
Ансельми пожал плечами.
– Откуда здесь взяться чужому?
Мастера строго следили, чтобы работники не показывались на улице по ночам, и даже если они отлучались, их каждый раз предупреждали об этом. Хотя теперь всё шло в разлад, никто ни с кем не хотел считаться.
Входная дверь слегка заскрипела. Ключи от двери имелись только у Антонио, он запирал дверь на ночь, почти всегда сам, лишь изредка по его поручению это делал Пьетро… И куда он мог отправиться? Разве что на тайное свидание, подальше от чужих глаз. Неужели и он проникся царившим настроением? Почему нет, в конце концов, он человек, мужчина, хотя и постарше других будет, но для мужчины нет возраста… Я усмехнулся. Наверно, Ансельми тоже подумал об этом, и разговор наш принял новый оборот.
– А кстати, – спросил он. – Почему ты так и не навестил свою подружку?
Как он подметил, действительно, я откладывал визит к Ноэль, себе объяснял это то работой, то усталостью, но сейчас буду честен. Я просто боялся. Боялся испытать ещё одно разочарование. Я стал осторожнее, приобрел опыт, а вместе с ним понимание – не все мечты сбываются так, как нам видятся, и отрицательной стороной этого опыта стала неуверенность. Думал о встрече, но уже со страхом, что в первое же мгновение почувствую, как некстати пришел, меня не особенно хотят видеть и вообще – давно позабыли… И медлил, опасаясь, что радость от нашего знакомства, в лучшем случае, переживет болезненные изменения, так случилось в отношениях с Ансельми, а в худшем – будет безвозвратно утрачена…
Ансельми внимательно смотрел на меня.
– Вообще-то я хотел спросить: почему ты избегаешь женщин.
– С чего ты взял? – машинально повторил я, какой раз за ту ночь.
– С чего взял? – передразнил он. – Право, Корнелиус, когда у тебя нет желания отвечать, ты начинаешь задавать вопросы.
– Если же у тебя, и правда, нет ответа, – он вытянулся на перине. – Попробую объяснить. Никогда не замечал в тебе интереса к женщинам. Ты не стараешься приблизиться к ним, наоборот, сторонишься. Зачем я добивался, чтобы тебе дали время, свободное от мастерской, как ты думаешь? Антонио со мной согласился: мальчик взрослеет, ему нужна и другая жизнь… Или ты был полностью доволен? – прервал он свою речь, ибо в тот момент по лицу моему скользнула гримаса. Незнакомый человек принял бы её за нежелание говорить, или, того хуже, презрение, на самом деле она носила оттенок той неуверенности, о которой я упомянул. Ансельми понял мои сомнения.
– Тебе это нужно, поверь, – шепнул он. – А то подумают, что ты решил уйти в монахи.
Соскочив с постели, он присел рядом, обхватил меня за плечи.
– Ну же, не молчи. Тебе надо попробовать. Смотри!
Он выложил на стол несколько монеток.
– Следующей ночью меня не будет, но я позабочусь, что бы ты остался не один. Если не придумаешь о чем говорить, начни с того, что спросишь её имя.
Вот так всё случилось. И потом, когда за ней закрылась дверь, и дни после я думал: лучше бы провести ночь с простой девушкой или, может, вроде той, что случайно встретилась в Дижоне. С таким же любопытством и нетерпением она пожелала бы разделить неизведанное и, конечно, не осталась бы так равнодушна. Напрасно на следующее утро Ансельми пытался заговорить со мной. От собственных унылых мыслей я замкнулся более обычного. Ничего не добившись, он оставил меня, но мысли не отставали, увиваясь повсюду.
*****
31
Угрюмым я проходил несколько дней. Оставался ночевать в мастерской, отмахивался от расспросов. Голос внутри нашептывал, что Ансельми хотел для меня лучшего, но решение его оказалось неверным. Он так же судил по себе, как и я, да, впрочем, как и все. А натура его была другой, другое отношение к женщинам, для него они были необременительным развлечением, простым утолением жажды природной, он сильно удивился, поняв, что я остался так разочарован. Что я искал в них? Увы, сам себя не понимал… Мне хотелось спросить Ансельми: была ли среди его женщин та, чьё лицо заставило сердце биться чаще и воспоминания о ней тревожили душу, но я наверняка знал, что не получу ответа. А может, ответ уже не был значим для меня, случай тот свидетельствовал, что совместное времяпровождение и дружеское расположение ещё не рождают внутреннее сходство и не содействуют сближению натур столь разных, так к чему мне было полагаться на его советы. И тогда, пожалуй, впервые во мне поднялось раздражение на него, я злился, что, не задумываясь, позволил толкнуть себя в эту историю.
Не имея выхода, раздражение копилось, под конец от него сделалось совсем непереносимо. Я понимал: воспоминания о той ночи принесут одну горечь, но вновь и вновь к ним возвращался и чувствовал настолько скверно, даже лишился способности молиться, слова не шли с языка, былая пустота заняла своё место. Вот именно – своё место… Никуда она не исчезала, так, дремала всё это время, чтобы при первой возможности заявить о себе с новой силой. Каким же я был самонадеянным, раз считал, что смог полностью от неё избавиться! И какое может быть от неё исцеление? Неужели, раз поселившись, она будет следовать за мной всю оставшуюся жизнь, заставляя беспричинно мучиться.
Тогда, совсем отчаявшись, решил разыскать отца Бернара. Странное дело… Несколько раз после литургии я вынужденно подходил к священнику, и, услышав от меня десяток ни к чему не обязывающих слов, тот, особенно не раздумывая, позволял пойти к причастию. И ни разу я не выбрал для своей скороговорки отца Бернара. Иногда в церкви он проходил совсем близко от меня, я же, пряча глаза, делал вид, что не замечаю. Но сейчас, когда накопилось многое, от чего с радостью бы избавился, и просто необходимо выговориться, никому другому не смог довериться. Нет, Боже сохрани, я не собирался рассказывать о Пикаре, конечно, надо проявлять осторожность. Хотел лишь рассказать о случившемся в Париже…
Я выбрал вечер после работы, избегая, чтобы меня видели другие. Сам того не сознавал, но искал одиночества. Предупредил Ансельми, что приду позже, но от дальнейших объяснений воздержался. Мы разошлись на улице Рейн, мне показалось, он несколько раз оглянулся, явно заинтересовавшись, куда я могу пойти вечером. Про себя я довольно насмешливо пожелал ему догадаться об этом без лишних вопросов… Ровно так, как однажды он заявил, что лучшее происходит между людьми, когда они понимают друг друга по молчанию.
В аббатстве я довольно долго бродил по опустевшему двору. Зимой день у них заканчивался примерно как в мастерской, а летом – раньше: мы работали до захода солнца, жизнь монахов меньше зависела от присутствия светила в небе. Церковь заперта, кругом – ни души, должно быть, разошлись по своим кельям, готовясь отойти ко сну, чтобы подняться, едва минует второй час пополуночи. Наконец, из трапезной вышел какой-то служка, неторопливо переваливаясь, вытирая рот концом рукава. Пока он, задержавшись на крыльце, перебирал ключи, я спросил об отце Бернаре, он только небрежно отмахнулся.
– Отец Бернар собирался быть вечером у отца настоятеля. Приходи завтра.
Я было направился к воротам, решив, что пришло время запирать их на ночь, но служка ушел, и то ли забыл про ворота, или не считал их своей обязанностью. Тогда я остался поблизости, почему-то уверенный, что всё-таки увижу отца Бернара. А может, мне просто не хотелось уходить. Согретый теплым вечером и не испытывая неудобств, я чувствовал себя здесь гораздо лучше, словно опускавшиеся на аббатство сумерки заботливо несли желанное забвение.
Близился к концу первый месяц лета, время, когда природа дышит в полную силу, не опасаясь обжигающего холода, а воздух наполняется особым пряным вкусом, от него исходит живительная сила, и даже усталость после напряженной работы делается приятной.
Вот это дерево – теперь с густой листвой на кроне – возле него я стоял, когда встретил Ноэль. Я повернулся в сторону, откуда она тогда пришла, и почти увидел, как навстречу движется крохотная фигурка. Сейчас она приблизится, я услышу её высокий голос, а может, даже решусь заговорить первым… Я потряс головой, отгоняя наваждение, и впереди осталась пустая дорога, обрамленная по краям плотно стоящими деревьями. Но мгновение спустя фигурка снова представилась моим глазам. Неожиданно мне понравилась такая игра.
Отец Бернар не сильно удивился моему позднему явлению или сделал вид, что не удивился – мы увиделись, когда он возвращался от настоятеля. Неподходящий час для встречи – времени оставалось лишь на краткий разговор, но его мне хватило предостаточно. После обычного приветствия я решал, с чего вступить, отец Бернар заговорил, опередив мои слова:
– Я рад, Корнелиус, что теперь ты приходишь в церковь, надеюсь, душа твоя перестанет тревожиться.
– Спасибо, отец Бернар, я тоже надеюсь, что Господу угодно направить меня, коль скоро я проявляю усердие в служении ему, – отвечал я довольно неопределенно.
– Тебя ещё мучают дурные сны, сын мой?
– Дурные сны? Нет, отец Бернар, я вижу сны редко.
– Что же, хорошо, что ты от них избавился, – заметил он.
– А почему… вы спросили об этом? – никакого дурного предчувствия в тот момент я не испытывал. Ответ же сразил, словно из безоблачного неба в меня ударила молния.
– В ночь, когда ты оставался у нас, брат Гийом слышал, как во сне ты просил пощадить тебя и говорил, что не хотел его убивать.
Колени мои подогнулись, за последние дни – это второе напоминание о прошлом. И молчать ты будешь, но повелит Господь, все тайны твои, Корнелиус, выскочат наружу. Получается – ничего от нас не зависит, всё во власти Божьей… Дрожащей рукой я перекрестился.
– Я такого не припомню, – еле пролепетал в ответ, холодея.
Темнота меня спасла, кажется, отец Бернар не заметил моего внезапного испуга, голос его по-прежнему звучал ровно:
– Вероятно, сон был вызван твоей болезнью. Конечно, лучше не вспоминать. Довольно об этом. Как твои дела в мастерской?
Я с трудом собрался ответить:
– В порядке, отец Бернар, я много работаю.
– А как приняли тебя в итальянском доме? Слышал, теперь ты у них частый гость.
Удивительно, он был обо всём осведомлен.
– Итальянцы очень добры ко мне.
– Уверен: ты заслуживаешь их расположение. А Ноэль? Ты видишься с ней?
– Нет…
– Отчего же? Она хорошая девушка.
– Вы её знаете?
– Благодаря тебе, Корнелиус, и… печальным обстоятельствам.
Я встревожился.
– С ней что-то случилось?
– С ней всё хорошо. Но Анри Вийон умер. Мы оказались бессильны помочь – годы его взяли свое.
Он замолчал, я понял, что пора уходить. Провожая, отец Бернар снова заговорил о Ноэль:
– Думаю, нет ничего плохого, если ты навестишь её.
– Спасибо за совет, но удобно ли навестить, если в семье горе?
– Уверен: твой приход её порадует.
– Почему вы так думаете?
– Она спрашивала о тебе.
Я поднял голову.
– Правда?
Улыбнувшись, отец Бернар потрепал меня по плечу.
– Ну, конечно, Корнелиус. Зачем мне обманывать?
Я спешил в своё жилище, переводя дух от пережитого. Странно себя ощущал: будто разделенный надвое. Одна половина переживала ужас от известия о моих речах в больнице – оставалось лишь молиться и надеяться, что тому горячечному бреду не придали большого значения и в дальнейшем не усомнятся: был он всего лишь порождением болезни. Но страх я испытал сильный – настолько, что переживания последних дней виделись на нём малозначительным огорчением.
Другая же часть трепетала в радостном волнении от слов отца Бернара, что Ноэль мой приход будет приятен, – так хотелось тому верить. Обе части жили совершенно самостоятельно, переменно борясь друг с другом, я испытывал жар, и почти сразу меня донимало ознобом, и гадал, что же из них возобладает. Превращусь ли в жалкое подобие себя, коим явился в Париж, или, наконец, обрету то, в чем так нуждаюсь? Понимал ли я тогда, что мне нужно? Очень смутно, скорее, опять создавал мечты, ещё беспомощные, лишенные смысла и определенности. Но инстинктивно я тянулся к людям, ибо без них не находил собственного существования.
Разговор с отцом Бернаром, мысленно возникший, пока его поджидал, не сложился. Однажды едва не проговорился ему и сразу почувствовал – не стоит заговаривать о прошлом… Тогда решил: история с Пикаром осталась так далеко позади, что более со мной не связана. И вот – новое напоминание, словно кто-то хочет указать: это было и не должно забываться. Что напоминания могут означать, неспроста ведь нам даются. Готовят к грядущему или требуют действий… Как их понять? – всю дорогу ломал я голову.
*****
32
Вернувшись, я не застал Ансельми. И хотя досада на него улеглась, я обрадовался, что один – слишком уж был взволнован, не мог усидеть, тем более спать и ходил по комнате от одного угла к другому. Визит к Ноэль решил не откладывать, может, соберусь в ближайшие дни, а впрочем, зачем тянуть – попробую пойти к ней завтра, – я продолжал вышагивать до окна и обратно.
Скоро в дверь постучали, и не успел я ответить, как на пороге появился Марко. Оглядевшись, он шутливо обратился ко мне:
– Я гадаю, кто здесь так носится, а оказывается, Корнелиус, ты один создаешь столько шума.
Не дожидаясь приглашения, Марко прошел в комнату.
– Выглядишь довольно странно. Что-то случилось? – он явно искал предлог задержаться.
– Да, вроде, ничего… – наконец, я остановился. – Почему ты не спишь?
– Не спится, – он обогнул стол и приблизился к окну. – Лежу вот и думаю, что там, дома. Я ведь, знаешь, из большой семьи. Четыре сестры, два брата. Вспоминаю о них, и как-то щемит…
Он потянул ворот рубахи, словно ему становилось трудно дышать.
– Да ещё ты гремишь рядом. Как тут уснуть?
Я поспешил извиниться, но он прервал слова, давая понять, что находит их излишними.
– Где пропадает твой друг поздним вечером? – спросил Марко.
Я пробормотал маловразумительное и вдруг сильно забеспокоился: в самом деле, где он может быть? Он не упоминал о своём ночном отсутствии, осведомлены ли о нём остальные? Как неосмотрительно с его стороны покидать дом ночью, если он знает, что ищут итальянцев и в любой момент могут схватить его, что может он сделать, будучи один и безо всякой защиты.
Марко тем временем присел на край постели.
– А у тебя есть кто из родных?
– Да, – не слишком охотно откликнулся я.
– И родители живы?
Я кивнул.
– Что же, ты по ним не скучаешь? – Марко не отставал.
Я снова кивнул – понимай, как хочешь.
– И я вот скучаю. Раньше, когда жили вместе, особенно о них не задумывался. А теперь даже во сне вижу. Так-то, Корнелиус, – он прищелкнул языком, словно сам тому удивился.
– Ты легко согласился приехать в Париж? – спросил я, раз уж он остался, и надо было о чем-то говорить. Впрочем, против разговора не особенно возражал, повторюсь: Марко был мне весьма приятен.
– Да уж, раздумывал недолго. Посулили хорошие заработки – что ещё нужно?
– Ты бы не смог столько заработать в Венеции?
– Если бы женился на дочке хозяина, наверно, смог, – из темноты послышался его прерывистый смех, больше похожий на фырканье. – Иначе… В Венеции хватает мастерских, десятки мастеров, а работников – и того больше. Что там за будущее? Денег, открыть собственную мастерскую, у меня нет. Так что, наверняка, здесь – больше удачи.
– И тебе было не страшно уезжать?
– А чего бояться? Пока птица невелика, а за будущее станем беспокоиться, когда оно наступит, – отшутился он.
– Говорят, в Венеции слишком злы, что вы ушли от них, – осторожно заметил я.
– Тебе успели рассказать? Ансельми или ещё кто? Впрочем, неважно…
Я уселся рядом.
– Такое есть, конечно, – Марко подвинулся, уступая место. – Хотя и раньше случалось, что стекольщики уходили, только всё больше по одному. В первый раз удалось сманить так много работников, агенты мессира Кольбера поработали на славу.
– Кто такой мессир Кольбер?
– Надо же, – Марко удивился. – Живешь в Париже и не слышал о Кольбере… Это главный министр двора его величества. Он и открыл нашу мастерскую.
– Разве это дело не мессира Дюнуае?
– Дюнуае – всего лишь управитель. Такой же работник, как мы, хотя и знатного рода.
Кольбер с Дюнуае не вызвали во мне интереса, и я вернулся к вопросам насущным, тем более, в отличие от Ансельми, Марко не стремился делать тайну из того, что знал.
– Опять в Венецию ты сможешь вернуться?
– Почему нет?
– И тебе ничего не будет за уход?
– Ну, я не собираюсь возвращаться прямо сейчас, конечно, это было бы неразумно. Но пошумят и со временем успокоятся.
– Ты уверен?
– Рано или поздно эта история забудется, Корнелиус. Как забывали про другие истории. Так уж устроены люди: память у них недолгая.
Теперь пришел мой черед удивляться. Марко выглядел скорее равнодушным, больше переживал о родных, чем о себе, могло ли такое быть, что он не знал о законах Республики или, зная, не придавал тому особого значения. Я решил проверить.
– Странно ты говоришь, Марко. Как раз наоборот, я слышал: они не успокоятся, пока не остановят работу нашей мастерской.
– Откуда ты черпаешь свои знания? – в голосе его зазвучал интерес.
– А разве не так? Что было со стекольщиками, которые покидали Венецию раньше? Они понесли наказание за свой уход?
– Право сказать, не знаю. Что было… Толком никто ничего не слышал, и, в конце концов, о них переставали вспоминать.
– А ты уверен, что за уход их не лишили жизни, и только потому более никто не имел от них известий?
Я сказал лишнее. Нужно было не раз подумать, прежде чем заводить тот разговор. Но случилось, что случилось: очередное колесико сдвинулось и повлекло нас за собой. Многое в жизни устроено вот по таким крошечным поворотам, неосторожным движениям, неосмотрительным словам…
С виду Марко отнесся к сказанному довольно терпимо. Он лишь сказал:
– Здесь не принято говорить об этом, Корнелиус.
Не принято, потому что слишком похоже на правду, – подумалось мне.
– Трудно жить, когда даешь волю таким мыслям, – продолжал Марко. – И, к тому же, что попусту рассуждать: ни ты, ни я, и никто другой на самом деле ничего не знает. Всё это – не более чем слухи, до нас доходящие.
– Слухи?
– Ну да. Догадываюсь, что тебе рассказали. В Париж явились люди Республики и разыскивают итальянцев… Но ведь никто их в глаза не видел.
– Откуда же стало известно?
– Вроде как Ла Мотта получил письмо, о том уведомляющее. Но при этом отказался письмо показать, передал на словах. И даже, от кого получено сие известие не посчитал нужным сообщить. Вот и суди: написал ему кто, или он нарочно хочет страху нагнать.
– Зачем же ему пугать людей, да ещё такими новостями?
– Кто его знает… Но любит он других морочить, в чем не раз убеждались. Я ему не доверяю. Слишком много важности желает себе придать.
Я догадался, о чем он говорит… Однажды сам был тому свидетель, как Ла Мотта накричал на одного из французов – Жанно-Не-Дремли мы его звали за лишнюю медлительность. Может, и был тогда Ла Мотта прав, распекая за нерадивость, но притом ссылался на Антонио, дескать, оба мастера давно считают Не-Дремли самым никудышным и уж постараются избавиться, если он за дело опять не с той руки возьмется. Однако быстро выяснилось: Антонио мнение сие не разделяет и, хотя особых надежд о Жанно не питает, в трудолюбии его не сомневается.
– Ты был знаком с Ла Мотта до прихода в нашу мастерскую?
– Я слышал о нём. Дома он был тишайшим, работник отменный, дурного никто не скажет. Но характер, видать, переменчивый. Заносчивый такой стал, гордый, – лицо Марко презрительно скривилось.
– Думаю, ему посулили блага немалые, вот он спит и видит, как пробиться к хозяевам поближе, – продолжал он. – Антонио, Пьетро – у них семьи, рано или поздно они задумаются о возвращении домой. А Ла Мотта хочет здесь остаться, он сам как-то говорил об этом.
– Значит, письмо – единственное свидетельство тому, что вас ищут? – ещё раз переспросил я.
– Другое мне неизвестно.
Марко принялся оживленно говорить: Париж красив, но сумрачен, люди на улицах по большей части хмуры, даже злы, улыбки не дождаться. Должно быть, на них так действует зима, говорят, снег может устлать улицы на глубину ладони, – он со значением очертил пальцем сгиб руки. Краем уха я слушал и отвечал невпопад.
– А нравится ли тебе в Париже?
– Да я и был в городе всего только раз…
– Отчего же, разве не интересно? Хотя, по-моему, единственная прелесть Парижа – эти молоденькие цветочницы, что скажешь?
– Не знаю, я их не встречал…
Но в мыслях снова и снова возвращался к тому злополучному письму и, в конце концов, не выдержал.
– А нельзя ли расспросить Ла Мотта получше? – задал вопрос, удивляя Марко собственной наивностью.
Не особенно охотно, он всё же отвечал:
– Думаешь, не пытались сделать? Но ничего не вышло, он отмалчивается.
– Даже Антонио не смог дознаться?
Марко усмехнулся.
– Антонио… Антонио – не бог, а всего лишь мастер. Он может заставить других работать, но что за пределами работы – ему не подчиняется. Близкими друзьями их не назовешь, ссорятся они предостаточно, сам знаешь. Ла Мотта и так считает, что облагодетельствовал нас, сообщив известие.
– А что Антонио обо всём думает? – продолжал я допытываться.
Марко неопределенно развел руками.
– Он с нами не делился… Но, вроде, он пытался связаться с родными в Венеции, разузнать кое-что, получил ли ответ, неизвестно.
Я задумался. Письмо Ла Мотта – вымышленное или настоящее, тревога Ансельми – неподдельная, а вот не боится остаться ночью один в городе… Потом шаги на лестнице – кто был тот таинственный, решившийся выйти из дома в час, когда глаза едва различают стоящего рядом, а городская стража свирепа и несговорчива? Перебирал эти события, вроде незначащие, сторонние друг к другу, они следовали одно за другим, цепляясь и завязываясь… Подумал, рассказать ли Марко о ночных шагах, но промолчал.
Ансельми в ту ночь так и не появился.
– Марко, а об Ансельми ты знал раньше? – спросил я, когда он собрался уходить.
– До прихода в Париж? Нет, похоже, мы не встречались… – произнес он, как мне показалось, не слишком уверенно.
*****
33
Ноэль, Ноэль, – твердил себе, когда следующим вечером искал затерянную улицу, незаметная в большом городе, она узким мостиком скрепляла его дороги, давая возможность двигаться по ним беспрепятственно. Но улицу эту почти никто не знал… С большим трудом мне удалось выйти из мастерской раньше окончания работ – на тот случай, если поиски мои займут слишком много времени. Я расспрашивал прохожих, они кивали каждый в свою сторону, словно сговорившись меня запутать, но всё-таки я добрался до нужного места, думается мне, почти чудом. Точнее сказать, это была даже не улица, а тесный проход, упиравшийся в спину большого дома, хотя, пройдя по нему несколько шагов, я успел заметить не меньше трех дверей. Пока я гадал, в какую из них постучать, передо мной появилась полная, шумно и с трудом дышавшая женщина, то ли дыхание её сбилось от быстрой ходьбы, а может, она страдала в жаркий вечер по причине нездоровья.
– Что тебе? – от резкого выкрика я вздрогнул и назвал вслух имя, многократно про себя повторенное. Женщина та с удивлением воззрилась на меня.
– Это дочь моя, если нет ошибки, – она медлила, словно была уверена, всё-таки я ошибаюсь и нужен мне кто-то другой. – Посмотрю, дома ли она.
Она вошла, плотно претворив дверь, до меня не долетало ни звука. Несмотря на заверения отца Бернара, я и так чувствовал сильную неловкость, встреча с матерью Ноэль сбила меня окончательно. Почему-то задумался, превратят ли годы Ноэль вот в такую же раздраженную женщину с опухшим лицом на короткой шее. Пока перемен ничего не предвещало, но ведь и мать её когда-то была молода и, вероятно, в те годы отпечаток жизни, не всегда милосердной к людям низкого сословия, не успел проявиться… Я вспомнил, что она работает в прачне. Всё равно, почему-то я представлял её другой. Мысли мои, попадая вовне, возвращались, являя мне некую суть, для меня это было не ново, раз я работал в стекольной мастерской. Похожее мы наблюдаем в зеркале, когда заглядываем в него, чтобы подтвердить догадку или опровергнуть. Зеркало, как окружающая нас жизнь, или сама жизнь, как зеркало, отражает наши представления; возможно, встречаются счастливцы, для которых желаемое совпадает с увиденным, мои же мысли так разнятся с происходящим. В разглядывании себя я тоже не преуспел, другие видели меня как-то иначе.
Рука моя машинально поправила рубаху, пальцы скользнули по груди, нащупав твердый выступ. Забыл упомянуть, как в один из вечеров сделал из подарка Ансельми нечто вроде ладанки. Я по-прежнему хранил его зеркало в той же тряпице, но продел сквозь неё кожаный шнур, случайно найденный в углу мастерской среди прочего хлама. С тех пор оно нашло место почти у самого сердца, рядом с крестиком, подаренным матерью.
На мысль о ладанке навёл Марко, показав однажды плоскую дощечку примерно с палец длинной, он прикрепил к ней нить, намереваясь повязать вокруг шеи. На дощечке мужчина, опустившись на колени, благоговейно простирал руки, а над ним усердно вился крошечный голубь с позолоченными крылышками.
– Я ношу то же имя, что и он, – Марко с трепетом разглядывал расплывшееся изображение. – Покровитель моей прекрасной Венеции.
Набожность у итальянцев, на мой взгляд, подчас принимала какой-то странный вид. Повторюсь, многие из них пьянствовали и грешили без меры, но, по их разумению, исповеди, особенно если она сопровождалась обильными слезами и мольбами о прощении, вполне хватало, чтобы освободить человека от любого его прегрешения. Во время богослужения их умиляло выражение скорбной покорности у алтарных статуй, и из церкви нередко они выходили, смахивая слезы, набежавшие от усердного исполнения какого-нибудь псалма. С особой любовью они носили при себе крохотные иконки, святых почитали своими покровителями и частенько обращались к ним взором, то вопрошающим, то полным неподдельного раскаяния. После такого вот безответного общения они чувствовали себя как младенцы после купания в священных водах и могли с новыми силами приняться за прежнее…
Так что появление мешочка на моей груди никого не удивило, беспокойства от расспросов я не испытывал, и никто так и не узнал, какие мощи в нём скрываются. Конечно, есть в том святотатство немалое: вместо признанной святыни хранить на груди предмет для забавы, но он вызывал у меня не меньше симпатий, чем нарисованный покровитель у Марко… И сейчас я теребил его в волнении.
В общем, уже ничего не ждал от встречи, тем более, стоял я перед запертой дверью явно дольше необходимого. Но наконец-то дверь приоткрылась. Выглядела Ноэль точно как в час нашего знакомства, только платье носила другое. Неожиданно мне показалось, что расстались мы всего лишь накануне, и не было этих тягостных дней переживаний и одиночества. Я до сих пор помню её наряд с мелкими оборками вокруг плеч и туго повязанным поясом. Более чем скромное платье, пошитое дома, наверно, из самой дешевой ткани, но девушке шло удивительно, и невольно в памяти моей всплыли слова Марко о парижских цветочницах.
– Я вдруг так и подумала, что это ты, – сказала она совсем обычно, словно ждала мой приход.
– У вас строгая матушка, – произнес я и испугался: вдруг мои слова её обидят.
– Строгая? Не думаю… Но с тех пор, как она лишилась близких людей, самых близких, какие только бывают, она очень тревожится обо мне, и всё вызывает в ней лишнее подозрение.
Оказалось, Анри умер в конце весны, в один из тех дней, когда дождь, не останавливаясь, сыпал крупными каплями, проливаясь под одежду, они вызывали зябкую дрожь. В свои последние дни Анри по многу часов проводил перед окном, мечтая дожить до грядущего тепла. Ему казалось: тогда все хвори непременно отступят, по крайней мере, на лето. Но к тому времени, когда воздух согрелся, а деревья набрали достаточно сил, чтобы покрыться свежей листвой, душа его не могла больше удерживаться в состарившемся теле. Ноэль говорила, что, несмотря на глубокую печаль, не могла плакать… Впрочем, необходимость в слезах отпала: лицо, руки, платье, всё и так намокло от дождя.
Пока я слушал её рассказ, мы брели по мощеной дороге, наконец, остановились на углу. На удивление здесь было довольно опрятно: ни сточной канавы или горы из нечистот под окнами, возможно, потому, что почти не встречалось людей, мало кто пользовался этим проходом. А может, именно так всё виделось, я почувствовал, как сковывающее меня напряжение отпустило, сменившись спокойствием, столь непривычным, что я стоял, рассеянно озираясь, – как будто только на свет явился.
Ноэль спросила, чем я был занят, пришлось напомнить о моей работе в мастерской. Сильного интереса она не выразила, лишь кивнула, будто сей предмет был хорошо ей знаком.
– Вы знаете, что есть зеркало?
– Я слышала о нём. Однажды матушке довелось нести белье герцогу, в доме его она видела то, о чем ты говоришь.
Всё же она принялась расспрашивать, и как-то само получилось, что я рассказал понемногу о моей жизни на дворе папаши Арно, о том, как встретился с Ансельми. Я не назвал его имени, в рассказе он был просто стекольщик из Венеции. Ноэль, как и я раньше, понятия не имела о Венеции, но завороженно слушала мою историю: ей она представлялась чем-то вроде волшебного путешествия. В истории той не нашлось места для Пикара, но я говорил, как встретил Жюста и как потом пришел в Париж.
Мне очень хотелось повторить нашу прошлую прогулку, чтобы, наконец, осмотреть город, о котором так много слышал, но заметил: Ноэль тревожится отходить от дома в поздний час. Потому мы двигались всё той же улицей, и за время встречи я выучил улицу почти наизусть. Годы после того, как мне пришлось покинуть Париж, я вспоминал то место, ибо в памяти оно осталось связано с Ноэль, а всё, что было связано с ней, и ранило меня, и врачевало одновременно. По моим воспоминаниям, несколько домов по обе стороны теснили друг друга, тёмные и однообразные, но всё же не лишенные грубоватой аккуратности. Кое-где сквозь их стены пробивалась трава, что, пожалуй, даже украшало их незамысловатый вид. Двери были наглухо закрыты, будто за ними давно нет никакой жизни, но в окнах, расположенных над головами, там, где ставни оставались ещё распахнутыми, время от времени медленно проплывали тени, напоминавшие, что дома принадлежат людям.
Каково же было моё отчаяние, когда, вернувшись в Париж, я не смог найти это место. Точнее, оно существовало, но изменилось до неузнаваемости, в нём не осталось ничего от прежней жизни. Вновь и вновь я сюда стремился, но вместо знакомого поворота: помнил его по разрисованному деревянному петуху, чудом сохранившемуся и вертящемуся перед глазами, натыкался на крикливых торговок – своим товаром они загораживали весь проход. Наверно, они принимали меня за умалишенного, когда я пытался протиснуться сквозь них и зайти за дом, теперь поперёк стоявший, чтобы посмотреть, осталась ли улица позади него. Мне говорили: уже давным-давно на этом месте всё перестроили, с тех пор, как с десяток лет назад случился сильный пожар, и многие дома обрушились, не выдержав жара, и ничего там нет… Но я всё не могу в это поверить. Мне кажется, если удастся оказаться за этим домом, уже почти мне ненавистным, то откроется та самая улица, Господи, да куда же ей деться? Привычно я постучу в знакомую дверь, и выйдет женщина, конечно, я в своём рассудке и не жду встречи с молоденькой девушкой, но её улыбка, её глаза… Они не изменятся никогда, даже если на пороге передо мной встанет древняя старуха.
– Матушка не боится оставлять вас одну? – спросил я во время разговора.
– Она беспокоится, но доверяет мне, – рассудительно ответила Ноэль.
В отсутствие матери она вела хозяйство и, когда оставалось время, помогала знакомой швее справиться с заказами, за это платили немного, – в словах Ноэль мелькнуло недовольство.
– Вас огорчает, что мало платят за вашу работу?
– Нет, вовсе нет… Я и работаю мало – с матушкой не сравнить.
Всё-таки что-то беспокоило её.
Потеряв надежду выйти в город, пришлось ограничиться тем, что спросил, могу ли иногда её навещать. Она легко согласилась:
– Приходи, когда будет время.
И прибавила с застенчивой улыбкой:
– Ты так непривычно говоришь, совсем не похож на других.
На том мы простились. Но через день я вновь отправился к Ноэль. В прошлый раз я беспомощно метался по улицам, робко останавливая прохожих и отскакивая подальше, если ответом служило грубое слово. Теперь же я шел уверенно и не только потому, что запомнил дорогу. Мысль, что я могу вызвать чье-то расположение, ободрила меня, мне хотелось узнать, что же необычного она находит в моих словах.
Потянув за тяжелое кольцо, я несколько раз осторожно ударил в дверь. Потом ещё раз, но никто не отзывался. Я решил стучать сильнее, тут с верхнего этажа высунулась незнакомая женщина и, тряся головой, визгливо прокричала, чтобы я немедленно убирался, не то она опрокинет на меня ведро кипятка. Что-то прежнее проснулось во мне, испуганный таким приемом, я бросился вон и столкнулся с Ноэль: она возвращалась, неся корзину, переполненную свертками. Заметив мой побег, она громко засмеялась, и я тоже не смог удержаться…
*****
34
С того времени мы стали видеться. Не так часто, как мне бы хотелось: мы не могли проводить вместе каждый день. И недолго: нужно было успеть вернуться прежде, чем Антонио запрёт входную дверь на ночь. Но как только вечером меня освобождали от работы, я шел её навестить. А когда возвращался, ждал часа новой встречи.
Обычно наши встречи состояли из коротких прогулок. Мы отправлялись в город, но редко удавалось уйти далеко, хотя однажды мы всё-таки добрались до старого дворца на острове, а по дороге я рассказывал, как довелось увидеть короля Людовика. Но шли мы медленно, а может, дни становились короче, ведь лето пошло на убыль, сумерки повернули нас обратно, и больше на остров мы не возвращались.
Впрочем, место прогулок для меня уже не имело значения. Первое время я стремился узнать город, увидеть его большие улицы, коль маленькие мне прискучили, встретить людей, получивших право на этих улицах обосноваться – чем же особым заслужили они сие право? Но вскоре интерес мой поубавился. Я стал частью города и не увидел в нём многообразия, хотя по мере удаления от нашего нищего предместья и дома, и люди становились видимо наряднее и веселее, но, по сути, мало отличались. Как упоминал, отвратительный смрад мог появиться на любой улице, а присущее большому городу напряжение распространялось без исключения на всех, у кого перерастало в глуповатое самодовольство, у кого – в подозрительность и даже откровенную озлобленность. Редко кто выглядел искренне радостным или беззаботным. И, в конце концов, показалось лишним растрачивать внимание на других, коль скоро я всё больше нуждался в общении с Ноэль, теперь моя потребность в собеседнике была удовлетворена полностью.
Однажды она сказала:
– Другие всё видят иначе, чем ты.
– Вы говорите о вашей матушке? – поинтересовался я.
Губы её дрогнули:
– Не только.
Впрочем, улыбалась она нечасто…
Те же слова я бы сам мог сказать о Ноэль. Она совсем не походила на людей, среди которых прошло её детство, и теперь проходила юность – в последнем месяце года ей должно было исполниться шестнадцать. Она умела делать только то, чему смогла научиться у матери, то есть, самые простые дела по хозяйству, но разумность, дарованная ей, легкость, с которой она откликалась на происходящее, позволили бы развиться намного больше, если бы представилась благоприятная возможность.
Временами в голосе Ноэль прорывалось беспокойство, и вскоре по разговорам я догадался о причине. Она прекрасно сознавала своё положение и мысли, как может сложиться собственная жизнь, не могли её не беспокоить. Окружение тяготило её. То, что она видела, удручало так же, как меня на постоялом дворе мучила необъяснимая тоска. Возможно, Господь весьма требователен к подобным натурам, если вне зависимости от их происхождения наделяет способностью воспринимать и размышлять.
Не то что бы она считала, что достойна лучшего – нет, не в этом дело. Скорее, она пыталась определить своё место по отношению к людям, переполненным грубостью и равнодушием, и уже вполне отчетливо сознавала, насколько непросто это сделать. Можно было только догадываться, откуда берется достоинство, с которым она старалась принять уготованную ей по высшей воле жизнь. Притом оставалось надеяться: у неё достаточно сил сопротивляться разрушительному воздействию, ибо жизнь та по духу ей совсем не соответствовала. Но она стремилась узнать новое, другое, что, возможно, могло бы облегчить положение – вот чем объясняется её интерес ко мне, вот почему она хотела со мной встречаться. Я понял это.
О матери она говорила:
– Я знаю: она сильно любит меня, но это не мешает ей быть недовольной и ругаться безо всякого повода. Иногда мне кажется: чтобы я ни сделала, это вызовет её неприятие и гнев.
– Почему же вы думаете, что она любит вас? – в таких вопросах я был совершенно несведущ.
Словно доверяя тайну, о которой другие не должны знать, она проговорила:
– Иногда ночью я слышу, как она подходит, или чувствую: она стоит рядом и что-то шепчет, мне кажется, она молится… Потом поправляет постель, чтобы мне было удобнее. Что, как не любовь, заставляет это делать?
Я оставил вопрос без ответа.
– Она хочет мне добра, – твердила Ноэль.
Я снова ответил молчанием.
– Хотя иногда просто невыносимо, – вздохнув, продолжала она. – Бранится целыми днями по пустякам, ссорится с соседями. А те мало чем отличаются – здесь все такие. Но это – не их вина.
– Не их вина… – отозвался я.
– Конечно, они страдают от жизни, что им досталась. Особенно тяжело весной, когда припасы кончаются, а тепла нет и новой еды нет. Многие умирают.
Потом она заговорила о мастерской:
– Ты доволен своей работой?
– Она изменила мою жизнь, Ноэль, – отвечал я. – К лучшему. Я бы покривил душой, если начал жаловаться.
Она задумалась.
– А что ещё может изменить жизнь? Раз говоришь – верно, знаешь.
Я счел возможным разделить свой опыт.
– Новые встречи. Новые люди. Не те, с которыми ты от рождения.
В другой день она сказала:
– Тебе повезло, раз так всё сложилось. Но я бы никогда не смогла уйти от матери: кроме меня, у неё никого не осталось.
Постепенно некая общность проступала между нами, настолько очевидная, словно утверждавшая: знакомство наше неслучайно. В присутствии Ноэль я не дичился более, наоборот, стал разговорчив:
– Чтобы встретить новых людей, совсем необязательно уходить. И наш разговор тому подтверждение: год назад ты понятия обо мне не имела.
– Да, но тебе-то пришлось уйти из дома, – заметила она.
Я смотрел на её мягкие волосы, аккуратно перевязанные лентой, чуть приподнятые к вискам глаза… Ноэль, Ноэль.
У меня никогда не было дурных мыслей в отношении этой девушки. Наверно, вы не поверите, но я совершенно не задумывался, хочу ли, чтобы она принадлежала мне в привычном для мужчины смысле. Я даже не допускал такой мысли. Думаю, мой ранний плотский опыт сыграл со мной злую шутку, оставив убеждение: мужским утехам подходят лишь гулящие женщины, только они пригодны для того, что требуется мужчине. Мой же интерес к Ноэль был совсем другим. Я просто стремился быть с ней, хотел видеть, разговаривать… Однажды я подумал: вот так, наверно, чувствует уставший человек, когда после бесчисленных дней пути ему всё-таки удается добраться до знакомого дома. Если он знает, что ему здесь не причинят зла, он почувствует себя в безопасности. Не надо более притворяться, дабы бы избежать невзгод, можно просто оставаться собой. И ночью, перед тем как погрузиться в сон, я вызывал в себе это чувство, оно обладало много большей ценностью и силой, чем желание видеть Ноэль обнаженной.
И уж тем более этих мыслей не было у Ноэль – я готов ручаться за это. Глядя на низкое происхождение, вы скажете: таким девушкам нет иного пути, как начать работать в захудалой едальне, скопить немного денег, подавая еду и предлагая себя, а дальше – как повезет. Действительно, не так уж редко такое случается, но, слава Богу, что-то и от нас самих зависит.
Вот если у кого и появлялись дурные мысли, так это у матери Ноэль: она с самого начала терпеть не могла мои приходы, это несомненно. Верно, те романтичные мечтания, что туманят разум молодых, всегда были ей чужды. Как женщина сведущая – всё-таки пожила на свете больше нашего – она уже тогда почувствовала опасность. А может, вообще не доверяла малознакомым, тем более, мужчинам, в которых видела только врагов для своей дочери. Не знаю… Но её косой взгляд, когда я сталкивался с ней на улице, раздражение, если не сказать, злоба, когда она видела, что Ноэль собирается идти со мной, – мне посчастливилось испытать всё это на себе. Ноэль не сильно обращала внимание: привыкнув за годы, она считала эти выходки нестоящими, меня же они задевали болезненно.
Однако в юности всё скоротечно, включая неприятности, и уже через мгновение разговор с Ноэль заставлял отвлечься. Гораздо приятнее обсуждать новости, если таковые имелись, или говорить о мастерской… Ноэль чаще о ней расспрашивала. Будни довольно однообразны, но при желании можно найти что-то новое и даже забавное. Желая развлечь, день за днем я рассказывал о людях, с которыми работал, и вскоре с моих слов ей были знакомы почти все в мастерской. Я даже доверил кое-какие истории об итальянском жилище, предварительно заручившись обещанием, что впредь она никому о том не расскажет.
– Корнелиус, ты можешь мне доверять, – шептала она.
Всё, что Ноэль говорила, не вызывало сомнений. Я ни о чем не беспокоился.
Теперь же рука моя дрожит, когда выводит эти слова, а тоска разрывает сердце. Те месяцы в обществе Ноэль были самыми счастливыми в моей жизни. Ни до, ни после я не испытывал такого спокойствия, уверенности в происходящем. Ноэль, Ноэль… Я приходил к ней, чтобы вновь и вновь обрести это поразительное чувство, ибо рождалось оно только в её присутствии. Одного присутствия было достаточно, чтобы сомнения ушли прочь, от Пикара я отрешился, словно его и на свете не было. И окружающие стали другими по отношению ко мне, я чувствовал себя почти им равным.
Меня никто не спрашивал, куда я отправляюсь вечерами, но я догадался: они знают, должно быть, от Ансельми. А что он мог им сказать – ведь я с ним почти не делился. Вообще, в то время нам довелось не так уж много общаться, больше – в работе, а когда я возвращался из города в жилище, заставал его спящим, ибо часто приходил в дом последним. Одним вечером едва успел вернуться, Антонио уже подходил к двери. Но хорошо, что успел, не то обозлил бы всех своим стуком. Пробрался в комнату и в темноте ощутил близость Ансельми, даже не видя, знал, что он рядом, и не удивился, когда услышал его голос:
– Ты опять навещал эту девушку? Так часто к ней ходишь?
И не успел я ответить, как он произнес:
– Скрытный ты стал, Корнелиус, ничего не добиться… А хотел быть мне другом. Мог бы рассказать о ней.
А что было рассказывать? Что иногда дорога к Ноэль занимает больше времени, чем сама встреча? Или что сегодня мы провели время почти на пороге дома, болтая о пустяках? В окне то и дело показывалось мрачное лицо её матери. Я даже ни разу не взял Ноэль за руку. Он бы всё равно не поверил…
*****
35
Осень сменяла лето, и дни эти были особенно красивыми в предместье, а потому любимыми мной. Деревья, медленно желтея, роняли листву, и разноцветным ковром она ложилась под ноги. Но сквозь оголившиеся проемы виднелось по-летнему голубое небо, да и солнышко ещё пригревало ласковым теплом.
Жизнь в мастерской шла своим ходом. Так мне казалось. Точнее, был уверен в этом, ведь каждый день я старательно искал подробности, о которых можно поведать Ноэль. И всё выглядело как обычно. Но в том-то и дело, что рыбак ловит сетями рыбу, а не воду.
Моё увлечение Ноэль не отразилось на работе. Так же день напролёт я трудился со всеми, готовый выполнить любое поручение, хотя, если рассудить, в обязанности мои входили только уборка да ночные бдения. Но я, как мог, хотел помочь, проявить участие и, заметив однажды, что Доминико намеревается перенести зеркало, подошел к нему. Видно, не рассчитал и слишком высоко приподнял – жалобно зазвенев, зеркало едва не обрушилось наземь. Доминико всё-таки смог его удержать, но, когда разжал ладонь, побелевшую от напряжения, по ней растекалась кровь: он сильно порезался об острый край.
– Madonna mia… sventura… presagio… madonna… – бормотал он, стараясь зажать рану тряпкой.
К нам быстро приблизился Антонио.
– Отойди от стола, когда за ним работают, – не скрывая раздражения, прикрикнул он на меня.
Я отодвинулся на несколько шагов.
– Вообще уйди. Нечего тебе здесь делать, – не унимался он.
Остальные молчали, в мастерской повисла напряженная тишина. По привычке я поискал глазами Ансельми: тот стоял, низко опустив голову. До конца день я провел в одиночестве, никто ко мне не обращался. Впрочем, и разговоры между работниками не завязались.
В ночь выпало оставаться в мастерской другому, и по завершении дня я отправился на улицу. Вместе со мной из мастерской вышел Марко.
– Ты в город, Корнелиус? Пройдусь с тобой, если не возражаешь… А ты не возражаешь?
Не очень-то хотелось вести его за собой, но я согласился.
По дороге я спросил:
– Марко, почему все так напряжены?
– Разве? Не замечал…
Беззаботность его показалась совершенно не к месту.
– Но Антонио накричал на меня.
– Ты просто подвернулся под руку, всего-то.
– Он мной недоволен?
– «Недоволен» – слово для данного случая неподходяще. И не тобой, а тем, что происходит.
Я замедлил шаг.
– А что… происходит?
– Да так, ничего. Не стоит забивать голову, когда идешь на встречу с хорошенькой особой! – чуть заикаясь, подразнил он.
– Марко, ответь! – я начал злиться.
– Ну, что ты хочешь? – он повысил голос.
– Тебе трудно ответить?
Тут он совсем вышел из себя.
– Что отвечать? Будто сам не знаешь… Целый день проводишь в ожидании, как бы чего не стряслось.
– Кто в ожидании?
– Корнелиус, вроде ты и не с нами, что ли?
– Марко, если я что-то пропустил – это не моя вина, – запальчиво возразил я.
– Не надо было заводить тот чертов разговор, понятно? Про этих дьяволов республики, посланников, провались они в самый ад.
– Всё-таки они в Париже? – спросил я нерешительно.
– Должно быть, если подбрасывают мерзкие письма.
– Куда подбрасывают? В мастерскую?
– Ещё хуже, – лицо его резко дернулось. – В наше жилище. Сегодня утром опять нашли письмо перед дверью.
– Что значит «опять»?
– Первое было третьего дня.
Я вздрогнул. Ансельми, уж конечно, знал, но даже не посчитал нужным мне рассказать. А сам я ничего не заметил. Выглядело это весьма неприятно.
– На улице перед дверью?
– То-то и оно – не на улице, а в доме. Утром Антонио пошел отпирать, а письмо валялось под ногами, возле самого входа.
– Но как оно могло оказаться в доме, ведь ночью дверь на замке?
– Сие никому не известно.
– И что было в письме?
– Всё то же. Угрозы.
Немного успокоившись, Марко сказал:
– Вообще-то Антонио с Пьетро хотели скрыть историю с письмами, но ты видишь: у нас ничего не утаить. Ума не приложу как, к полудню все знали.
Помимо воли я улыбнулся.
– А сам-то от кого узнал?
– Я? – Марко растерянно покрутил головой. – Ну, если честно, случайно услышал их разговор. Знаешь ли, я живу через стенку от Пьетро, а Антонио утром пришел к нему с письмом. Я далеко не всё понял, о чем они там шептались, но что не расслышал, про то догадался.
– Понятно, – я усмехнулся. – С другой стороны от Пьетро, кажется, тоже кто-то живет.
– Ла Мотта, – напомнил он.
– Ла Мотта, – подтвердил я. – И внизу живут. Так чему удивляться…
– Им надо было с письмом отправиться на улицу как можно дальше, – вздохнул Марко. – И то вряд ли помогло бы.
– Всё же, как оно могло попасть в дом? – снова повторил я. – Может, есть щель под дверью, через которую письмо протолкнули?
– Ты сообразителен, такая мысль и другим пришла в голову. Но нет, дверь уже осмотрели и не обнаружили ничего подобного. К тому же, при входе, если помнишь, пол слегка приподнят. Получается, оно никак не могло проскользнуть. В самой двери изъянов тоже не нашлось.
– И что же решили?
– Ты удивишься, – Марко как-то странно посмотрел на меня. – Решили: письмо мог подбросить тот, кто живет в доме.
*****
36
Я не верил своим ушам.
– Посланец Республики один среди нас? Такого не может быть.
– Отчего же не может? За некоторыми давненько замечаются странности.
– Какие, например?
– Они неизвестно где пропадают вечерами, – Марко внезапно расхохотался, запрокинув голову.
На нас стали оборачиваться, злобное бормотание понеслось вслед. Какая-то старуха в грязном платке, ковылявшая за нами, так и норовила толкнуть Марко узловатой палкой.
Намек его был вполне понятен.
– Марко, как ты можешь шутить при таких делах?
– Ну, а что прикажешь делать?
За разговором я так отвлекся, что оказалось – мы давно пропустили нужный мне поворот и теперь двигались по улицам, совсем незнакомым. Не Марко шел со мной, а я увязался за ним, но это уже не имело значения, другая мысль мучила меня, казалась очень важной. Я медленно произнес:
– Я бы мог рассказать о куда больших странностях…
Он вопросительно оглянулся.
– В середине лета… Или нет, даже раньше. Словом…
Словом, в ответ я рассказал о ночных шагах на лестнице. Он внимательно слушал. Потом переспросил:
– С какой стороны двигался этот человек?
Я задумался.
– Я не могу сказать точно. Он спускался по лестнице. И у него был ключ от двери.
– Судя по тому, как ты говоришь, по лестнице мог спускаться кто-то из мастеров, Пьетро, Доминико, – принялся перечислять Марко. – Или Венцо. Или… я.
Я покосился на него. Нисколько не смущаясь, Марко продолжал:
– Если бы этим человеком оказался, скажем, Доминико или Антонио, он бы прошел мимо моей комнаты, так как живут они дальше всех от лестницы, тогда, пожалуй, я бы тоже слышал. Но, признаюсь, я не помню о таком происшествии. Исключим, что в ту ночь я спал как убитый, обычно мой сон довольно чуткий. Остается предположить: этот человек вышел из комнаты, которая ближе, чем моя, к лестнице. То есть, Ла Мотта или Пьетро. И ты слышал эти шаги лишь единожды?
– Да. Больше ни разу, – подтвердил я.
– А когда он вышел, он запер дверь, или она осталась открытой? – допытывался он.
Этого я вспомнить не смог.
– Ключ от двери… ключ от двери… – несколько раз задумчиво повторил Марко. – Но почему ты решил, что эта история может быть связана с письмами?
Я пожал плечами.
– Ничего я не решил. Ты заговорил о странностях, и я рассказал, что, по-моему, выглядит по-настоящему странно. А вовсе не то, что я ухожу вечерами.
– Кстати, куда ты всё-таки ходишь?
Я поморщился.
– Марко… К знакомой девушке.
С Ноэль в тот вечер мы не встретились. Когда Марко собрался вернуться, я решил: в столь малоприятный день важнее будет разговор с Ансельми. На удивление он оказался дома, когда я вошел, он стоял у окна.
– Почему ты не сказал мне о письмах? – обратился к нему. Я старался говорить спокойно, но всё-таки что-то дрогнуло в голосе.
Он медленно повернулся.
– Ты всё равно о них узнал. Какая разница – когда, от кого?
– Да, узнал, – согласился я. – От Марко. Но предпочел бы знать от тебя.
– Это что-то могло изменить? – он пристально смотрел на меня.
Мне неприятны были его слова и то, как он их произносил – вроде не желает со мной разговаривать, но я вдруг почувствовал за этим нечто большее.
– Ансельми, ты что, обижен на меня?
Он продолжал меня разглядывать.
– Странно мы сейчас разговариваем, не так ли? – заметил он. – Всё-таки, что двигало тобой, когда в прошлую зиму ты решил отправиться за нами?
Я слегка запнулся.
– Я уже много раз отвечал тебе. К чему твои вопросы? Думаешь, я – посланец Республики?
Он усмехнулся.
– Ты слишком неискушенный для такой грязной работы. Хотя, как посмотреть: ты всегда себе на уме, мог бы им пригодиться.
– Ансельми, о чем ты говоришь! – не выдержал я.
– А ты сильно изменился, – продолжал он. – От того мальчишки с постоялого двора и следа не осталось. Что так повлияло на тебя? Встречи с этой девушкой?
– Я хотел пойти сегодня к Ноэль, – перебил я его. – Я хожу к ней каждый свободный вечер, потому что… Потому что это очень важно для меня. Но когда узнал, что посланцы здесь, они угрожают, и тебе тоже, я вернулся с полдороги ради того, чтобы спросить, могу ли я что-то сделать, могу ли помочь… Это ничего не значит?
Он выслушал, потом резко отодвинулся от окна, пересек комнату и остановился в шаге от меня. Мгновения неслись, мы молчали.
– Я не обижен, Корнелиус, – наконец проговорил он. – В конце концов, каждый занят своим делом. Но с тех пор, как ты пришел в мастерскую, я всегда задавал себе вопрос: можно ли доверять тебе. И, по правде, до сих пор у меня нет ответа.
Я попробовал вдохнуть как можно глубже:
– Всё из-за Ноэль?
– Нет, – отрезал он. – С самого начала. Ты скрываешь больше, чем говоришь. Ты намеренно это делаешь?
– Я рад, что ты спросил, Ансельми, – с горечью произнес я. – Это служит доказательством, что твой интерес ко мне не потерян окончательно. Ты ещё что-то хочешь узнать.
Он пожал плечами.
– Я благодарен тебе, Корнелиус, за желание помочь. Наверно, единственное могу добавить…
И отвернулся. Занялся какими-то делами, кажется, достал свой сундучок… Я так и остался стоять, лихорадочно обдумывая, как ему объяснить, что вижу, как это чувствую, мысли мои неслись назад, то к встрече с Ноэль, то ко дню прихода в мастерскую, потом – ещё раньше, к Жюсту, Пикару и, наконец, к тому позднему вечеру, когда Ансельми спрыгнул с лошади возле мало кому известной таверны близ Лиона. Но я не знал, с чего начать, как подобрать нужные слова, позволившие выразить себя, проклятая немота опять скрутила мой язык. Как я мог объяснить? Да, он прав, я многое утаил. Вначале страх меня принудил. Потом молчал, смущаясь собственных мыслей, ни за что не решился бы о них поведать. И, выходит, я сам всё время закрывал дверь, не успев в неё войти, а потом и вовсе сбежал, обратив внимание на Ноэль. Для него это действительно выглядело так, чего же я тогда добиваюсь? Осознав, я совершенно растерялся. Но ведь мои поступки не означали, что я позабыл о нём или отказался от мыслей, прежде с ним связанных. Совсем нет, и в этом я не лукавил. Всё, что соединило нас, по-прежнему важно, если же теперь лишусь этого, что останется?
Слезы стояли в моих глазах, чтобы скрыть их, я отвернулся. Когда решился заговорить, голос мой казался чужим:
– Не знаю, поймешь ли ты и поверишь в то, что скажу, но только нет у меня никого ближе тебя и Ноэль. Наверно, не заслуживаю я твоего доверия, но, случись что с тобой, для меня это будет мука невыносимая.
Я не видел его за спиной, не слышал шагов или движения, когда почувствовал, как кто-то касается моей руки. Опустив глаза, увидел, что от напряжения пальцы мои сжались в судороге, и теперь Ансельми пробует их расцепить. Волна тепла поднялась во мне, и то странное чувство, уже испытанное однажды, когда мы сидели в тесной кухне на постоялом дворе, и я грезил, будто Ансельми мой брат, и роднее для меня на этом свете не существует. Я повернулся, чтобы взглянуть на него и вдруг убедился: мы одного с ним роста. Странно, всегда казалось, он выше, но нет: вот сейчас его глаза вровень с моими, мы смотрели друг на друга, а его рука лежала поверх моей. О чем я тогда подумал – захотите узнать вы. Трудно объяснить. Но не трепет несведущего пробудился во мне и не зов какого-то отдаленного желания. Всё не то. Его рука была как моё продолжение, как часть меня самого. Довольно просто, хотя поймет не каждый. Думаю, Ансельми испытал нечто подобное, и взгляд его смягчился, а говорил он с меньшей суровостью. Жаль только, мимолетно длилось то чувство от его близости… И не повторилось больше никогда.
*****
37
С работником, менявшим меня, случилась лихорадка, и четыре ночи подряд пришлось оставаться в мастерской. Добавьте к тому день, точнее, вечер, проведенный с Ансельми. То есть, всего-то несколько дней, скажете вы, но казалось, с Ноэль мы не виделись долгие месяцы, я еле дождался освобождения от работы.
Раньше мой приход заставал Ноэль дома, в этот раз я увидел её на улице и немало встревожился появлением: она явно чего-то ожидала. Я прибавил шаг, и она, заметив меня, устремилась навстречу. Подбежав, схватила мои руки и в волнении сжала.
– Корнелиус, я рада, так рада, что ты появился, – твердила она. – Тебя не было несколько дней, я испугалась: вдруг что случилось. Уже хотела искать тебя.
– Где же ты собиралась искать? – с облегчением произнес я. С ней всё в порядке, слава Богу. Мы замерли посредине улицы, проходившие мимо с нескрываемым интересом глазели на нас.
– В мастерской или аббатстве. Или ты бываешь где-то ещё?
– Да. Бываю, – улыбаясь, подтвердил я.
– Где же? – спросила она с едва заметной подозрительностью.
– С тобой.
– Верно, здесь ты нашелся!
Глаза её светились. В своей бесхитростной радости она удивительно хорошела, я совсем потерял голову. Ноэль, Ноэль…
– Я подумала: отец Бернар – единственный человек, которого я могла бы спросить о тебе. Он знает тебя лучше других?
– Не думаю, что хорошо знает. Я даже на исповедь хожу к другому священнику.
– Наверно, в мастерской ты с кем-то дружен. Ведь проводишь в ней целые дни.
До этого в разговорах я никогда не выделял Ансельми особо, и был он равным среди прочих. Я скрывал его от Ноэль так же, как не желал делиться о ней с Ансельми. Дело ли только в боязни взамен откровенности получить боль ответную, или скрытность говорит о некой душевной жадности – не знаю… Но в тот день я намеревался о нём рассказать. Он не должен оставаться простым стекольщиком, – решил так после нашего последнего разговора. Как странно, что Ноэль сама об этом спросила. Я осторожно погладил её руку.
– Есть человек, который мне ближе остальных. Даже могу сказать: он мне дорог. Я упоминал о нем. Ансельми.
– Молодой итальянец? Тот, что из Венеции?
– Вообще-то, они все из Венеции, – заметил я.
– А почему он дорог тебе? – что-то беспокойное опять почудилось в её вопросе.
– Ну… Если не он, мы никогда бы не стояли на этом месте. Ты никогда бы мне не улыбалась, а я не держал твою руку, – отшутился я. Всё-таки, как бывает трудно заговорить о том, что живет не на поверхности, а в глубине нас.
– Вот как? Почему же?
– Благодаря ему, я нашел работу в мастерской. И встретил тебя, – последнее прибавил совсем тихо. По-моему, она не расслышала.
Вокруг нас толкалось довольно много людей, и меня всё больше раздражали их праздные взгляды. Лучше оказаться в месте поспокойнее. Да и осенний день заметно убавился.
– Давай провожу тебя? – предложил я.
Мы двинулись обратной дорогой. Ноэль не выпускала моей руки, словно опасаясь, что я могу исчезнуть.
– Знаешь, однажды я бы хотела увидеть тех, с кем тебе приходится работать, – неожиданно произнесла она. – Верно, они необычные люди, у них всё иначе. Так же, как и ты не похож на других.
– Не знаю, почему ты решила, что я не похож на других, – откликнулся я. – Если разделяю чью-то жизнь, значит, такой же. И мне довелось терпеть лишения. Как и другие, я знаю о голоде не понаслышке. Я испытал боль и страх. Но мне пришлось узнать и нечто похуже. Счастлив тот, кто волен говорить всё, что вздумается, а каково приходится, когда заставляют молчать, хотя душа стонет, и жизнь превращается в пытку? Я вот принужден молчать.
Удивленная моими словами, она внимательно слушала. Потом нерешительно спросила:
– Кто же обязал тебя молчать?
– Я сам, – таков был мой ответ. Конечно, ей непонятен, но она не переспросила, и я продолжал свой рассказ:
– Раньше я думал: как долго смогу это вытерпеть, иногда приходил в отчаяние. Но Господь милосерден – я убедился в этом. Не сразу, но шаг за шагом он облегчил мою жизнь. Сначала – работой в мастерской. И Ансельми всегда старался поддержать меня.
– Он похож на тебя, если близок к тебе?
Я покачал головой:
– Когда я встретил его, то верил, что похож. Но когда узнал его лучше, понял: он совсем другой. Сознаюсь, не сразу это принял и даже злился.
– Вы ссорились между собой? – удивилась она.
Моим глазам представился недавний вечер, вновь я слышал знакомый голос… Не принимай так близко, Корнелиус, не стоит того… Не отказывайся от моей помощи, Ансельми, просил я тогда.
– Корнелиус, – позвала Ноэль.
Я очнулся.
– Нет, Ноэль, не в этом дело. Мне нерадостно вспоминать, но одно время я отдалился от него. Вроде как оттолкнул.
– Была тому причина?
Я задумался, с чего всё началось.
– Отчасти потому, что встретил тебя. Но не из-за тебя! А всё-таки больше потому, что не принял его таким, как он есть. Хотел, чтобы всё совпадало с моими мечтаниями, и был в досаде, когда находил иное. Но это глупо. И весьма неблагодарно с моей стороны, – заключил я.
– А сейчас? – спросила она.
– Сейчас это прошлое. Надеюсь, раз я понял, оно не повторится.
Возле дома Ноэль мы остановились. Чуть поодаль от нас улицу освещал чадивший факел, вспышки то и дело срывались с него, устремляясь в черное небо. Я потянул шнур из-под рубахи, и обернутое тряпицей зеркало легко выскользнуло наружу. Так давно не заглядывал в него и смотрел теперь недоверчиво, будто оно могло исчезнуть, или вместо зеркала окажется иная вещица. Но нет: оно на месте, пальцы нащупали его плотные края. Столько всего довелось увидеть, пережить, оно же оставалось неизменным, неподвластным времени и всему, что происходило.
– С него всё началось. Смотри…
Подумав, я перекинул шнур через голову и снял, теперь держал перед Ноэль. На конце шнура зеркало ровно покачивалось между нами. Ноэль протянула руку, я опустил его на раскрытую ладонь. Не произнося ни слова, она развернула тряпицу, и мы оба оказались в отражении, нежно-розовом от света пламени. Наши лица сблизились.
– Я оставлю его тебе, – шепнул я. – Только обещай, что никому не покажешь.
Она понимающе кивнула.
– Оно принесет тебе счастье, Ноэль, – мои губы почти коснулись её виска.
Она подняла глаза и с надеждой смотрела на меня.
Рукопись вторая. Ансельми
1
Пьетро, бледный, со встрепанными седыми волосами, остановился на пороге. Дрожащей рукой он опирался на дверь, даже не потрудившись прикрыть её как следует, и ледяной воздух клубами врывался в мастерскую. Он что-то бормотал, но невозможно разобрать слова в трясущемся голосе. Никогда не видели его в таком состоянии.
– Дан… Ан… Дандоло мертв, – наконец смог он выговорить.
Все замерли, то молча смотрели на Пьетро, то вопросительно переглядывались между собой. Никто не поверил в сказанное!
Накануне Дандоло выглядел больным. Жаловался на боли в животе и без конца пил воду. Утром он не появился в мастерской, но поначалу на это не обратили внимания, решив: придет позднее. Только ближе к обеду спохватились, что его по-прежнему нет. И вот Пьетро вернулся с такими новостями.
Антонио, позабыв снять испачканный передник, поспешно закутался в плащ, отрывисто переговариваясь по-итальянски, они ушли. Я расслышал только «комната», «несчастный», «священник» и, вроде, «странный». Последнее меня задело. Может, Пьетро ошибся, – с надеждой думал я. Заглянул в комнату, увидел Дандоло лежащим с закрытыми глазами и без движения, ну, и решил, что тот умер… Ну да, такое возможно: с годами он стал хуже видеть, так что вполне допустимо, они сейчас возвратятся и скажут, что ничего такого не случилось. И все вздохнут с облегчением… Но они не вернулись.
День пошел кое-как, работа остановилась. Все были потрясены, даже Ла Мотта затих, хотя оставался старшим. Дандоло, наверное, сравнялось тридцать, немолод, конечно, но ещё два дня назад он был полным жизни мужчиной.
Не сторонился веселой компании, и женщины к нему приходили – я не раз видел. Никогда не жаловался на здоровье – до вчерашнего дня, и что за недуг мог сразить его внезапно… Избавь нас, Господи, молю тебя, чтобы не та болезнь, опустошавшая целые города.
Ко мне подошел Ансельми.
– Ты проведешь эту ночь в мастерской? – как бы между прочим спросил он.
– Пойду в жилище, – ответил я. – Чтобы проститься с Дандоло.
Улица в тот зимний вечер гудела, стонала от непогоды, ветер то и дело бросал горстями снег. Одной рукой я загораживал лицо, другой придерживал полы одежды – кое-как добрался. В жилище, когда вошел, стояла непривычная тишина. Словно я в нём оказался совсем один, хотя остальные вернулись раньше. Видно, в тревоге попрятались каждый в своём углу, строя догадки о случившемся.
Не заходя в нашу с Ансельми комнату, я поднялся выше, прошел вдоль стены и снова спустился в небольшой флигель – там жили несколько работников, включая Дандоло. Возле его двери прислушался. Ни звука, ни шороха. Осторожно толкнул дверь. Передо мной открылась совершенно пустая комната, я удивился: даже постель вынесли, только рядом с окном в углу догорала свеча. Я склонился над ней, шепча: Даруй ему, Господи, вечный покой и милость твою, ибо был он человек нрава открытого, зла не замышлял и не содеял. Почему же ты забрал его, Господи, и так поспешно? – хотелось добавить.
Отношение к самой смерти у меня к тому времени сложилось вполне осознанное, хотя до случая с Пикаром я не задумывался о ней вовсе. Даже когда мимо везли хоронить покойника – а в деревнях похороны – самое обычное дело – по детской наивности я не допускал мысли, что такое может случиться и со мной. Вроде, любой мог оказаться ей подвержен, но не я. И трудно сказать, сколь долго я бы пребывал в непонимании, если бы не гибель Пикара. После неё явность смерти проступила столь отчетливо, что какое-то время при слове этом я болезненно сжимался и долго не мог отделаться от колотья в груди. Потом работа заставила отвлечься, и волнение немного улеглось, но сделаться равнодушным оказалось невозможным. Смерть удручает, и, думаю, не меня одного, силой неотвратимой. Смерть оставляет за собой вопросы, на которые почти не находят вразумительного ответа – одни догадки и предположения.
Почему он скончался, да ещё в то время, когда в нём сильно нуждаются? Почему смерть выбрала именно Дандоло? И что теперь будет с нами? Дандоло, пожалуй, был самым знающим из работников, а в чем-то превосходил даже мастеров, к его советам всегда прислушивались. Если он имел собственные секреты, делил ли их с Антонио и Пьетро? А если унес все тайны с собой, сможет ли мастерская продолжить работу? Вопросы, вопросы…
– Из аббатства приходили монахи, они забрали тело. И вещи тоже забрали, так Антонио распорядился, – раздался голос за спиной.
Марко остановился рядом, нервно скрестил руки на груди.
– Его похоронят завтра. В чужой земле. Ни одна родная душа не будет присутствовать при этом. Не хотел бы я себе такой кончины, – закусив губу, он оглядел опустевшую комнату.
Я выпрямился. Какое теперь этому значение?
– Ему уже всё равно, Марко.
Прошел мимо и был почти на выходе, когда что-то светлое, легкое мелькнуло под ногами. Машинально нагнулся и поднял с пола какой-то сморщенный обрывок. На нём проступали непонятные завитушки, я попытался его развернуть, он негромко хрустнул между пальцев. Чтобы не привлекать внимания, я торопливо сунул обрывок за пояс. Теперь он шуршал при каждом движении, но едва слышно, это не мешало спокойно вернуться к себе.
Усевшись, я принялся старательно его разглаживать, Бог знает, как долго он пролежал на полу в той комнате, по виду – довольно долго: не одна пара башмаков наступила на него. Закончив расправлять, я поднес к самым глазам, словно это могло как-то помочь разобрать мелкие знаки, покрывавшие бумагу.
Если кто из работников стекольного цеха, будь то мастер, или подмастерье, или простой рабочий, отправится в чужие края и там начнет демонстрировать своё искусство, и в ответ на приказание вернуться он откажется повиноваться, в тюрьму будут брошены все его родственники. А в том случае, если он будет упорствовать, несмотря, что родные томятся в узилище, если он и далее пожелает оставаться на чужбине, тогда на одного из Посланцев Светлейшей Республики будет возложена обязанность убить упрямца.
Совет Десяти Светлейшей РеспубликиТщетно! Я не знал ни одной буквы в то время, и понять написанное оказалось не в моих силах. Я вертел клочок в руках, гадая, как он мог попасть к Дандоло. Большинство из нас были неграмотны, и редко кто получал известия от родных. Чтобы прочесть полученное, можно было обратиться за помощью к Антонио, иногда Ла Мотта снисходил до просьбы прочитать несколько слов. Но вот не мог я припомнить, чтобы Дандоло приносил письмо.
А может, письмо не принадлежало Дандоло, и выронил его кто-то из приходивших? В комнате за день побывали многие, если из аббатства, может, это какой-нибудь псалом, переписанный усердной рукой монаха, потерянный по небрежности?
Почему я не пошел к кому-то из мастеров? Надписи мне были неведомы, о смысле я не подозревал. Всё-таки что-то удержало меня. Отдать Марко, Ансельми? Мысль сия тоже не вызвала определенного намерения. Хотя, если бы Ансельми появился в тот час, думаю, я бы не скрыл от него. Но его не было, и я продолжал оставаться на месте, рассеянно отложив находку в сторону. И дело не в особой прозорливости, а в глубокой подавленности, даже спуститься вниз за водой представлялось большой работой.
Мне придется рассказать Ноэль о смерти Дандоло, не сомневаюсь, что известие опечалит… Она встречала Дандоло и других итальянцев в Сент-Антуан на литургии. Вроде, таково стечение обстоятельств, но, как уже упоминал, в случайности давно не верю. Осенью я не навещал Ноэль несколько дней кряду, и после мы условились, если такое повторится впредь, в случае надобности она разыщет меня с помощью отца Бернара или итальянцев, бывавших в аббатстве. Я простодушно поведал, что в любой день, если не все, по крайней мере, кто-то из итальянских работников обязательно приходит на раннюю литургию. Минуло от силы две недели, и одним утром заметил в церкви Ноэль: она тихонько стояла поодаль, с любопытством посматривая по сторонам, хотя накануне, когда мы виделись, об этом и речи не заходило. Любопытство! Вечное губительное любопытство! Последствий не избежать, и нередко – весьма плачевных… Сама же потом уверяла, что просто хотела удивить меня. Нечего сказать, ей удалось: от неожиданности я едва глазам поверил.
*****
2
Заметив, что я смотрю неодобрительно, она и бровью не повела, подошла ближе, почти прислонилась к моему плечу.
– Зачем ты пришла, Ноэль? – довольно сердито начал я.
– Разве ты не рад меня видеть? – пробовала она обидеться.
– Я всегда рад тебе, – возразил я. – Только в твоём приходе не было необходимости, ты прекрасно понимаешь.
Резко ответил, я знаю. Она насупилась, но настоящей обиды не получилось. Ноэль всё время что-то отвлекало. Украдкой через моё плечо она осматривала стоявших вокруг и удивленно, как в незнакомом месте, оглядывалась, когда мимо проходил священник, облаченный в белое ради торжества.
– Ты здесь впервые? – не удержался я.
В этот момент худенький монашек, с трудом удерживающий громоздкую книгу, закончил протяжно читать «Деяния». Братия возвестила начало песнопения, и ответ Ноэль потонул в хоре голосов, зазвучавших со всех сторон… К торжеству Святых в тот день присоединились почти все итальянцы и многие работники с окрестностей Сент-Антуан. К середине литургии в церкви почти не оставалось свободного места, опоздавших теснили к самым дверям. И Ноэль, когда хотела что-то разглядеть, приходилось тянуться выше.
По случаю празднества пение разносилось торжественно долго, когда же смолк последний отголосок, она осторожно потянула меня за рукав:
– Кто вон тот юноша?
Я проследил её взгляд, терявшийся в толпе. Вроде она смотрела на Антонио, но юношей его назвать я бы, пожалуй, не решился…
– О ком ты? – переспросил чуть слышно.
Еле заметным движением она указала:
– Вон там. Справа. Ты знаешь его?
Я слегка наклонился. Вот кто привлек её – неудивительно. Я тоже смотрел, не отрываясь, когда впервые увидел. Нельзя его не заметить, появись он рядом – в доме или на улице, и даже в церкви, где на лица находит пелена от размышлений, и человек скрывается в ней, как под покровом… Но мои переживания об этом уже прошли, былая горечь перегорела.
– Это и есть Ансельми… А вон там – Марко, – я кивнул на стоящего за ним.
Она машинально посмотрела, но тотчас взгляд вернулся на прежнее место. Наверно, он почувствовал, что за ним наблюдают, потому что повернулся в нашу сторону. Глаза его привычно встретились с моими и задержались на Ноэль. До конца литургии они раз-другой переглянулись, но умысла я не заметил. Словно два незнакомых человека вынужденно сталкиваются только потому, что оказались друг против друга, не более того.
После причастия, не дожидаясь остальных, я заспешил в мастерскую. Ноэль вышла со мной, и простились мы в воротах безо всякого недовольства. Я к концу мессы уже думал, что в самом приходе нет ничего предосудительного, и корил себя, что так сурово её встретил. Отец Бернар, заметив нас, стоящих рядом, открыто улыбнулся, явно радуясь её появлению. Антонио, Пьетро тоже вроде отнеслись с пониманием, во всяком случае, вопросительных, тем более, косых взглядов от них не последовало. На прощание Ноэль легко провела рукой по моему плечу – иногда она так делала, когда была уверена, что матери нет поблизости. Словом, я совершенно успокоился.
По дороге Ансельми нагнал меня.
– Что за девушка была с тобой?
Я ответил. Глаза его удивленно расширились.
– Ты позвал её в церковь? Зачем?
– О Господи, Ансельми, – я подавил внезапно прорвавшееся раздражение. – Я не звал. Но не могу запретить появляться там, где ей хочется.
– Она хотела посмотреть, кто трудится с тобой в мастерской, – догадался он.
– По-видимому, так, – согласился я.
На том разговор остановился. Он задумчиво шел рядом, временами толкая ногой примерзшие к земле камни, больше не расспрашивал.
Приход Ноэль действительно обернулся благом. Из-за коротких, пронзительно холодных дней видеться вечерами стало непросто. Непогода всё чаще преграждала путь, невозможно ступить на улицу, потонувшую во мраке, когда ветер задувает любое освещение, а проливной дождь почти до исчезновения стирает дорогу тугими струями. Сам-то я был готов идти хоть на ощупь, но не желал, чтобы Ноэль оказалась на улице в такой час. О том, чтобы войти к ней в дом, я не заговаривал: её мать не выносила моего присутствия, а я был не настолько самоуверен, чтобы не обращать внимания на злость и нападки. Привести Ноэль к себе невозможно, да она бы и не пошла. И встречи в аббатстве утром – она приходила, когда знала наверняка, что я там буду – существенно облегчали положение…
Может, Ноэль знает грамоту, – подумалось мне тогда. Мы никогда не говорили об этом, но отчего же не спросить, вдруг она сумеет разобрать… Я всё так же равнодушно сидел в одиночестве, не раздеваясь, не стараясь уснуть, хотя время давно перешло за полночь. Но где показать листок, в церкви? Не самое подходящее место и заметить могут, пойдут расспросы, толки… Ближе к утру я задремал.
За ночь ветер не только не утих, но, кажется, разыгрался с новой силой. Выл тоскливо, потом умолкал и начинал биться в стены, словно хотел пробраться сквозь них. Ноэль не придет сегодня в аббатство, – понял я, когда проснулся от его назойливых ударов. Пожалуй, и к лучшему – сам навещу её вечером. Не буду никуда звать, только покажу листок и сразу уйду. Но что делать, если на порог выйдет её мамаша? Она вполне может захлопнуть дверь, не то что не позвать Ноэль, но и не ответить ни полслова. Весь день за работой мысль сия точила разум, но решимости я не потерял. Если письмо пришло в мои руки, следует знать, о чем оно написано, – так я рассуждал. Проклятое любопытство, без конца преследует нас!
– Корнелиус? – спросил тихий голос, когда я постучал.
С облегчением отозвался – намного хуже было бы отвечать её матери. Оказалось, Ноэль увидела меня в окно и побежала к двери.
Войдя, сбросил шапку и держал в ней озябшие руки.
– Матушка твоя дома? – вместо приветствия обратился к Ноэль.
– Она у соседей, вернется скоро, – спокойно отозвалась она.
Удачно сложилось, но приходилось поторапливаться, кто знает, что придет мамаше в голову, если она меня застанет.
– Ты умеешь читать? – задал свой вопрос, для Ноэль весьма неожиданный.
К моей радости она ответила утвердительно.
– Немного. Самую малость. Дедушка показывал буквы и как их складывать в слова. Хотя сам был не сильно грамотен.
– Можешь попробовать прочитать, что написано? – я осторожно вытащил обрывок на свет.
Присев у огня, она старательно разбирала мелкие знаки. Я тем временем огляделся, впервые ведь оказался в её доме. Какие-то сундуки, неуклюжие и тяжелые, доски под ними сплошь покрыты трещинами. Пара низких стульев с округлыми сидениями, на один брошена подушка с торчащими сквозь прорехи перьями. И больше ничего. Но пол выметен, и стены очищены от грязи, я постарался не улыбнуться – легко догадаться: хозяйство здесь вели женщины. От пестрой, из мелких лоскутов завесы тянуло нагретой сыростью, должно быть, там другие комнаты, где они спали… Тут я заметил: она с недоумением смотрит на меня.
– Что, Ноэль?
– Как странно, – сказала она. – Я вижу буквы, но когда пытаюсь соединить в слова, ничего не выходит. Слова мне незнакомы.
– Ясно, – я вытащил листок из её рук.
Наверно, принадлежит Дандоло, раз написано его родным языком, и придется идти к кому-то из мастеров… Нужно попробовать обратиться к Антонио, хотя он сумрачен, как грозовое небо, и лучше бы понапрасну его не тревожить. А что даст обращение? Будет он вычитывать самому младшему работнику чужое письмо? Скорее всего, просто заберет… И лучше бы этому случиться. Но я уже был не готов так легко расстаться с находкой.
Ноэль заметила мои сомнения.
– Ты бы мог отнести письмо отцу Бернару, – неожиданно посоветовала она.
– Как? Он знает их язык? – пришла очередь моему удивлению.
– Ну, конечно.
– Ты откуда знаешь? – медленно переспросил я.
Она замялась, но быстро нашлась:
– Они ходят к нему на исповедь, разве не замечал? Потому что он понимает их язык.
Легкое беспокойство шевельнулось во мне, но я не понял тому причины.
*****
3
Черное одеяние, изрядно обтрепанное понизу от частого соприкосновения с землей, мерно двигалось перед моими глазами, потупившись, я следовал за отцом Бернаром. Добравшись до нужной двери – а проходы в монастыре оказались на редкость низкими – пришлось пригнуться, чтобы войти. Посторонившись, отец Бернар пропустил меня вперед и неторопливым шагом вошел следом.
Мы оказались в холодной, скудно освещенной келье и первое, что я заметил, – были книги. Аккуратные их башни занимали почти весь угол. Прежде я краем слышал, что держат книги в монастырях, и записаны в них всякие истории о прошлом, но воочию увидел только в Сент-Антуан. По ним священники, водя пальцами, читали на литургии длинные послания или о делах святых. Сложенные здесь, в переплетах из толстой кожи, некоторые почти в локоть длиной, они не могли не притягивать. Среди книг лежали желтоватые листы, туго свернутые и перевязанные нитью.
Заметив мой интерес, отец Бернар спросил:
– Научен чтению, Корнелиус?
С сожалением я покачал головой.
– Нет, отец Бернар. Если бы умел, не пришел бы к вам сегодня.
– Опять дела, – он сел напротив, подперев рукой подбородок. – О чем ты хотел говорить, да ещё с глазу на глаз?
Без дальнейших слов я протянул листок, ради которого явился. Выглядел тот совсем жалко: измят так, что буквы начали стираться. Брови отца Бернара вопросительно изогнулись, однако он взял и внимательно просмотрел написанное. Странные гримасы замелькали на его лице. Сначала губы вытянулись, словно за питьем, потом он раздвинул их в подобие улыбки и, наконец, плотно сжал. Я кашлянул, чтобы прервать молчание.
– Вы можете мне сказать, что надписи означают?
– Откуда это у тебя, Корнелиус? – спохватился он, что не спросил про то сразу.
– Нашел в комнате Дандоло, – признался я. Лучше говорить правду, так скорее добьешься толка, – подумал про себя.
Он смотрел испытующе:
– До его смерти или после?
– В день его смерти, отец Бернар. Вечером. Я хотел проститься, но опоздал… Написано итальянским языком, я не ошибся?
– Ты не ошибся, – задумчиво произнес он. – И где сие нашлось?
– На полу. В комнате было пусто, все вещи унесли.
– Да, верно, верно, – он кивнул. – По просьбе Антонио. На случай причины смерти в опасной болезни. Если бы появились новые заболевшие, мы сожгли бы вещи Дандоло. Если болезни более никто не подвержен, тогда следует раздать их нищим.
– Думаю, можно начать раздавать, – негромко прибавил он мгновение спустя.
– Почему? – нетерпеливо спросил я. – Вы узнали причину смерти?
Отец Бернар пропустил вопрос.
– Ты кому-нибудь рассказывал? – спросил он о дрожащем в его руке листке.
– Ноэль видела, но не смогла прочитать.
– И больше никто?
– При мне – никто.
– Хорошо, хорошо… – он держал листок, явно не зная, как с ним поступить.
Повисшая нерешительность начинала тяготить.
– Вы не хотите говорить, что в нём?
Он ещё раз оглядел написанное.
– Почему ты так стремишься узнать? Что тебе известно, кроме этой записи?
– А почему я не могу знать? – решился спросить. – Мне было дано найти его. Никому другому, но мне. Кому он достался, тому и право знать. Разве не так?
Мелкие морщины собрались вокруг глаз отца Бернара.
– Ты весьма смышлен, – сказал он мягко. – И я замечал, и другие того же мнения. Нравится тебе бывать в итальянском доме?
Он поднялся, расправил примятые складки на одеянии.
– Не знаю, насколько ты посвящен в подробности. Наверно, что-то слышал, раз живешь с ними.
Я начал догадываться.
– Письмо имеет отношение к другим, что уже подбрасывали в дом?
– То есть, ты осведомлен… – заложив руки за спину, он прошел по келье, на его шаги негромко отзывалось эхо. – Кто же рассказал тебе – Ансельми?
– Да. И с Марко мы говорили.
– Ты дружен с Марко?
– Не то что бы дружен, – уклонился я, ибо сам не знал ответа. – Но… Моё расположение к нему…
– И Марко чувствует к тебе привязанность, – докончил он за меня.
– Откуда вы знаете?
Былые подозрения проснулись с новой силой и, не удержавшись, почти выкрикнул:
– Они рассказывают обо мне на исповеди?
– Ты видишь в этом дурное? – удивился он, уловив в словах недовольство.
– Дурное? – я и вправду разозлился. – Лучше бы им побольше размышлять о себе, чем упоминать других!
Но гнев никогда не был мне свойственен. Я встречал людей, для которых сильное раздражение настолько естественно, что через него проистекает большинство их поступков. Но только не для меня. И даже когда я был чем-то рассержен, сразу чувствовал, как нелепо выгляжу, и быстро утихал.
Отец Бернар наблюдал, как моё смущение поглотило едва наметившуюся вспышку.
– Ты не прав, сын мой, – наконец возразил он. – Разве можно легко рассуждать, не зная наверняка о чужих мыслях или намерениях?
Я пожал плечами. Какая разница, какие там намерения…
– И потом, – продолжал он. – Что может беспокоить, когда уверен в собственных мыслях и делах?
Я послушно согласился, лишь бы вновь заговорить про письмо.
– Простите, отец Бернар, я сказал неразумное.
– Ты не думал прежде, чем сказал, – упрекнул он. – Не бросайся словами. Тем более их странно услышать человеку, которому известно больше, чем тебе.
– Простите, – снова повторил я, поворачиваясь за ним. – Но неужели на исповеди стоит заговаривать о ком-то стороннем, когда о собственных прегрешениях есть что рассказать?
Отец Бернар задержался у распятия, висевшего над дверью. За годы дерево рассохлось, распятие заметно клонилось набок. Машинально он протянул руку и поправил его основание. Потом с недоумением обернулся.
– По-твоему, к священнику подходят только за исповедью? А получить утешение, совет? Я никогда не принуждал тебя к исповеди. Но не отказывал в помощи, если она требовалась. И не откажу другому только потому, что совет может касаться и близкого ему человека. Ты – не посторонний для них.
Говорил он, сердито покачиваясь. Из-под сутаны то и дело выглядывали тяжелые плохо гнущиеся боты, совсем не вязавшиеся с его узким лицом и тонкими слабыми пальцами. Мне стало стыдно за грубость, но беспокойство не улеглось: какие советы им требуются, наверно, подозревают меня в чем-то.
– Я знаю: они не доверяют мне, – угрюмо проговорил я.
– Почему ты так решил?
– На то, конечно, есть причины, – с каждым словом волнение моё прорывалось всё больше. – Мой приход был для них неожиданностью, и, сколько ни объясняй – кажется, никогда не поверят.
Отец Бернар сочувственно улыбнулся.
– О твоём приходе никто со мной не заговаривал.
– Их отношение ко мне изменилось бы, походи я на них больше в беспутстве. Наверно, теперь жалеют, что приняли меня в мастерскую, – проворчал я весьма неосмотрительно, просто подумал вслух и осекся сразу, ожидая новых упреков.
Но он не рассердился и даже не удивился сказанному. Плечи его опустились, он заметно сутулился, и прежнее сочувствие на лице стало каким-то болезненным.
– Это не беспутство, Корнелиус, а страдания по естественной жизни, которой, к несчастью, они почти лишены. В чужой стране, отрезаны от близких, ничем не защищены.
Я недоверчиво слушал.
– Но король к ним благосклонен…
– Благосклонность его величества измеряется деньгами, она слишком ненадежна. И даже ту малость, что у них имеется, хотят отнять, – отец Бернар горестно вздохнул. – Все они знают, чем им грозят.
Он указал на листок.
– В нём обращение, и оно предрекает смерть тому, кто его получит. Насильственную смерть.
Я подумал сперва, что ослышался, но через мгновение за этим беззвучно вскрикнул, осознав, что это правда.
– Вы теперь думаете: Дандоло убили?
– Не берусь утверждать, – отец Бернар хмуро смотрел в сторону, случайно или нет, но избегал моего взгляда. – Слишком серьезное обвинение, что бы без доказательства о нём говорить.
– Разве сей листок не служит доказательством? И вы сами сейчас говорили…
– Сказал только, что им грозят смертью, – резко перебил он.
Шаги отца Бернара затихли, он остановился поодаль. Я тоже умолк от его окрика, опустив голову, уставился на каменные плиты под ногами. Ожидание новых бед тоскливо шевелилось в груди.
– Так или иначе, – немного погодя заговорил он довольно спокойно. – Я хотел просить тебя не передавать наш разговор кому бы то ни было. Это для твоего блага.
– Вы что-то подозреваете, отец Бернар?
– Как я могу подозревать? – взглянув на распятие, он перекрестился.
Я нерешительно мялся, но всё же робко спросил:
– Дандоло знал, что его хотят убить?
– Знал, что им угрожают, – поправил он снова. – Но никогда не упоминал про письмо, найденное тобой.
– Мне рассказывали о законах республики, – проговорил я торопливо и сбивчиво. – Думаете, угрозы сохраняют силу? Они не остановятся?
– Думаю, надо быть осторожным, Корнелиус, – коротко и печально прозвучало в ответ.
Он поднял руку, привычно сложив пальцы. Благословление означало, что говорить нам больше не о чем… Тут он произнес:
– Я бы оставил письмо у себя. Ты ведь не станешь возражать?
И листок исчез из его рук, словно растворился, прежде, чем я успел ответить.
*****
4
Отец Бернар добр ко мне, – думал я тем же днем, примостившись возле окна мастерской. Я облюбовал себе укромное местечко и каждый раз, когда помощь моя не требовалась, и лучше было держаться подальше от общего раздражения, нырял в эту нишу, отгороженную зеркалами. Готовые зеркала в мастерской никогда не переводились. Даже если днем большую часть из них увозили, по неизвестной причине одно или два всегда оставляли, а к вечеру добавлялись новые. Так что вполне безопасное место, здесь меня никто не тревожил и не искал.
Однако зимой плавильный жар, растекаясь, заметно ослабевал, и я дышал на руки, чтобы согреться. На неровном полу колченогое седалище неустойчиво покачивалось, от этого тянуло в сон. Чтобы отвлечься, я заглядывал на улицу, где ветер с силой гнал мутную снежную пыль, но совсем замерзнув, передвинулся ближе к зеркалам и смотрел в них поглощенно и безвольно, так случается, когда слишком долго рассматриваешь отражение.
Взгляд мой блуждал, переходя с одного зеркала на другое, и вокруг меня, словно в таинственном хороводе, двигались работающие в мастерской. При свете огня комната, где мы работали, в зеркалах преображалась. Коричневыми стенами она напоминала земляную пещеру, а розовеющая по краям печь походила на медленно тлеющий костер, сложенный в лесу. От недостатка света части людей и предметов терялись, иногда это выглядело устрашающе. Темный двойник Пьетро вместе с белевшим лицом Доминико склонялись над почти невидимым столом. Отдельно двигалась рука Доминико, всё ещё перевязанная после злополучного пореза, на самом деле он отчаянно размахивал руками перед Пьетро, видно, хотел в чем-то убедить. Без споров в мастерской не обходился ни один день, – я боязливо смотрел на витающую в черной пустоте руку.
В зеркале рядом Марко толковал с французом, кажется, по имени Робер. Кривоногий, тщедушный Робер стоял, задрав голову и приоткрыв рот, глаза его выпучились, как у пойманной рыбы, он силился, но не мог разобрать быструю речь из мешанины разноязыких слов. В зеркале он довольно складный, и бурых пятен на лице почти не видно, а живой Робер покрыт ими до самого пояса. Только одного не сумел найти и никогда не увижу… А что случилось бы со мной, появись он сейчас в отражении? Я пробовал представить его на поверхности, как видел много раз: с засученными рукавами, потным лицом и волосами, слипшимися от влаги. Но нет, он сохранился в памяти, зеркалу такое недоступно, в нём Дандоло больше не покажется.
После разговора на душе лежал болезненный осадок. Я выяснил, что хотел – легче не стало, даже наоборот. Жизнь никак не желала смягчаться, нас несло неспокойным её течением: миновали одно препятствие – на смену готовилось новое. Отец Бернар ушел от прямого ответа, но слишком многое указывало, вело к тому, что смерть Дандоло не была случайной или естественной. Я судил по тем рассказам, до меня доходившим, по угрозам, приносимым неизвестным. Возможно, отец Бернар прав: этого недостаточно, чтобы говорить об убийстве, я преувеличил и напрасно убедил себя. Тогда зачем давать совет быть осторожным, если все надумано? Осторожность никогда не мешает, – кто-то говорил… Ансельми упоминал об осторожности, – припомнилось мне как о чем-то давнем. И что с того? Новая смерть стала бы для них очевидным свидетельством, остается ждать, начнут ли так же тихо исчезать из мастерской другие. Сердце моё замирало. Ансельми – среди них.
Не оборачиваясь, я видел, как Доминико тянет за тесемки, помогая здоровой рукой, неловко стаскивает передник. Значит, конец работ близок, и моё время убирать со столов, выгребать мусор.
Стараясь казаться беспечным, я вышел из своего укрытия. Часть свечей погасили, входная дверь хлопала, не переставая, работники расходились один за другим. Я двинулся к Марко. Он расстался с озадаченным Робером и, собираясь уходить, мыл в ведре руки. Я взял его за плечо и поразился, как он сжался от испуга. Это подтверждало худшие догадки. Опомнившись, Марко вопросительно скосил глаза, и я шепнул ему в самое ухо:
– Можешь уйти из мастерской последним?
Он стряхнул воду и принялся вытирать руки. Какое-то время ему пришлось провести за этим бесполезным занятием, ибо последний, кроме нас, Пьетро никак не желал удалиться и, стоя в дверях, приставал к Марко с расспросами. До меня долетало:
– Si, signore… sì, sì…
Я с раздражением бросал инструменты в короб. Потом плеснул воду вокруг столов и начал оттирать пол от грязи, нанесенной за день. Наконец послышалось:
– Конечно, сеньор, завтра мы доделаем, – и Пьетро, шумно дыша, выкатился из мастерской.
Повернувшись, я молча и тревожно смотрел на Марко. Он, конечно, заподозрил неладное и шел ко мне с таким же выжидательным напряжением. Я поднялся, не выпуская тряпку, грязные дорожки потянулись за ней.
– Ты веришь, что в смерти Дандоло нет чужой вины?
Марко заметно побледнел, будто вся кровь разом отхлынула с лица.
– Тт… Тыыы ума лллишился? – заикаясь, пробормотал он.
– Марко, – волнуясь, заговорил я. – Я знаю всё, что ты ответишь. Что это не моего ума дело. И здесь не принято об этом говорить. И нет никаких доказательств. Но неужели будем спокойно ждать, кто последует за Дандоло?
– Да с чего ты взял? – он вырвал тряпку и в сердцах отшвырнул в угол. Глаза его возбужденно бегали по сторонам.
– Не сомневайся, что последует, если будешь так отвечать.
– Что ты от меня хочешь? – завопил он.
– Не кричи, Марко, – взмолился я. – Ничего особенного, только выяснить, чьи шаги на лестнице слышались в ту ночь. Я хочу, чтобы ты помог мне с этим.
– Ещё не легче, – простонал он, приседая и хватаясь за угол стола. – За что такое почтение? Почему ты выбрал меня?
Упомяни про утренний разговор, и пришлось бы, пожалуй, рассказывать с самого начала: как подобрал обрывок, как опасаясь привлечь внимание, просил отца Бернара выслушать меня скрытно, подальше от других глаз. Он недовольно отвечал, что в исповедальне можно говорить безбоязненно, но я упрямо стоял на своём… Предосторожности не казались мне излишними.
– Ты – единственный в мастерской, кому я могу довериться в этом.
– Вот как? – уставился он. – А как же Ансельми?
Почему-то я смутился.
– Я делаю это и ради него тоже, – произнес неуверенно.
– Так что же ты его не спросишь?
– Зачем начинать с другим, если с тобой мы не раз говорили? Кажется, раньше ты не имел ничего против.
– Понимаю. Щадишь его, – он как-то криво усмехнулся. – И как ты собираешься узнавать? По-моему, пустое дело. Поверь, у меня никаких соображений, кроме тех, что уже высказал.
– Марко, я не верю, что никто ничего не слышал, – тихо проговорил я. – Почему они молчат? Может, и скажут, если расспросить получше.
– Ты хочешь, чтобы я пошел с этим к Антонио или Ла Мотта и спросил, что они думают? Тогда ты и вправду сумасшедший!
– Не обязательно к Антонио… Неужели больше не с кем поговорить?
– Поговорить о чем?
– Ну, кто-то, может, знает…
– А, Корнелиус, – он в досаде махнул рукой. – Что за разговор ты ведешь: кто-то что-то знает.
Я уныло молчал, не зная, за что ухватиться. Марко стоял, всем видом показывая, что хочет немедленно уйти. Оставалось только подобрать тряпку и снова приняться за мытье. Краем глаза я видел, как Марко, всё ещё взбудораженный, сдернул с крючка плащ и остановился, держась за ручку двери.
– Черт! Черт! – разнесся его крик. – Черт тебя возьми, Корнелиус!
С этими словами он неловко перепрыгнул через порог и выскочил на улицу.
*****
5
Отчасти Марко был прав. Я почти не сомневался, что, подступи к Ансельми – и он болезненно отзовется на мои догадки, а меньше всего я хотел бы сделаться источником беспокойства, это так. Но, правда и в другом: с некоторых пор присутствие Ансельми сковывало меня. Я сам удивился, когда осознал такое. Кажется, впервые стеснение проявилось после той ночи с женщиной, окончившейся так неловко и тягостно, предпочел бы о ней не вспоминать… Словно прошла та женщина между мной и Ансельми и провела черту, нас разделявшую. С одной стороны от черты оказались его устремления, подчас заметно тщеславные, и вместе с ними – довольно непритязательные желания. С другой – лежали мои поверженные мечты и тоска.
Какое-то время разделение оставалось почти незаметным, и даже отношения вроде как наладились. Это дало повод рассказать Ноэль об Ансельми и с гордостью именовать его другом. Но вскоре снова чувствовал: та гордость – не более чем призрачная надежда. И дело не в том, что мой приход в мастерскую вызывал у него недоверие, от которого он не сумел избавиться, или я излишне страдал от его холодности.
Не буду повторяться, разъясняя, в чем наше различие. Он вовсе не шутил, говоря, что наступит день, когда король прикажет своим слугам охранять его. Наверно, моей главной ошибкой того времени было полагать, что различия для отношений не имеют значения, любые натуры можно примирить и соединить. Думая так, по-прежнему я ставил Ансельми впереди себя и был готов для него на многое. Забегая вперед, скажу: он это понимал.
Ноэль как-то спросила:
– Вы больше не ссоритесь?
Окружающим – рано или поздно – моё отношение к Ансельми становилось понятным.
– Ты беспокоишься? – я удивился. – Почему?
– Просто… Мне показалось – это важно для тебя.
Ноэль, Ноэль… О да, это было важно. Он сыграл в моих превращениях такую заметную роль, и закрывать на это глаза означало бы проявить самую низкую неблагодарность. По крайней мере, мне так казалось, что теперь моя очередь постараться оградить его от жестокости и несправедливости. И в этом, отчасти, виделось искупление собственной вины. Поэтому я всё-таки тянулся к нему.
Я до сих пор не понимаю, как такое могло случиться, но я рассказал Ноэль о своих тревогах. Разговор начался, когда мы стояли в полупустой церкви. Церковь не отапливали, хотя шел зимний месяц. Перед глазами то и дело проплывали снежные крошки, медленно они кружились и не таяли даже на одежде. Немногие, пришедшие к утренней литургии, жались друг к другу, а у монахов, когда они читали или пели, хрипел голос и изо рта валил густой пар.
Ноэль спросила, отчего из мастерской пришло мало людей.
– И так они плохо переносят нашу зиму, – отвечал я. – А после смерти вовсе отказываются выходить.
– Кто умер? – в смятении она оглядывала присутствующих.
Сказал про Дандоло и, видя искреннее сострадание на её лице, сам как-то размяк, и язык мой развязался.
– Смерть его странная, Ноэль, оставляет много неясностей.
– Что за неясности?
– Он не был болен раньше, а умер всего-то за один день.
– Наверно, сгорел в лихорадке.
– За один день?
– Ну и что же…
– Не знаю, – упрямился я. – Не верю в такое.
Тяжелый взгляд Антонио настиг нас и заставил перестать шептаться. Я погрузился в размышления, но скоро донесся знакомый голосок – Отчего же он умер, по-твоему?
– В скорой смерти виден не промысел Божий, а рука человеческая, – едва разжимая губы, произнес я.
– Бог с тобой, Корнелиус! – от холода она совсем сжалась.
Когда мы вышли, я взял её за руку, стараясь отогреть. Однажды так пытался сделать, но она смущенно отстранилась. В этот раз рука без напряжения лежала в моей, и, осмелев, я нащупал хрупкие пальцы. Но она не отозвалась на мою робкую ласку.
– Я молилась сегодня за Дандоло, – в глазах её стояли слезы. – Душа его смотрит с небес и возрадуется, что мы помним о нём.
– Живые нуждаются в молитвах не меньше, чем мертвые, – глухо отвечал я. – Чтобы участь Дандоло миновала других.
Миновала Ансельми, – поправил про себя, сознавая, что опять думаю о нём, как о ком-то главном.
– Ты никак не откажешься от своих сомнений?
– Откажусь, если увижу иное, – не удержался я. – А пока вижу, что они лишний раз носа из дома не кажут – так напуганы.
Она беззвучно шевелила побелевшими губами, кончики её пальцев мелко вздрагивали.
А через несколько дней случилось странное. Вечером я ушел из мастерской: пришла очередь оставаться тому самому Роберу, я же намеревался провести ночь в итальянском жилище. Возвращался с работниками, первым поднялся в комнату. Ансельми пришел с чуть заметным опозданием. Мы перебросились парой ничего не значащих слов, стали готовиться ко сну. И тут он, как между прочим, заметил:
– Комната Дандоло пустует, а новых работников не ожидается. Ты бы мог там обосноваться.
Заметив мой изумленный взгляд, поспешно добавил:
– Если хочешь, конечно.
– Так Антонио велел? – спросил я, пораженный.
– Нет. Это моё предложение.
– Ты хочешь, чтобы я ушел?
– Вовсе нет. Как сам решишь, так и будет. Я не настаиваю.
– Почему же такое предложение?
– Просто думал: для тебя удобнее. На тот случай, если захочешь встретиться у нас с этой девушкой… Ноэль, верно?
Довольно неумело он изобразил, как плохо помнит её имя.
Я сидел на постели в наполовину спущенной рубахе: плечи освободились, а руки ещё продеты в рукава.
– Чего ты испугался? – примирительно заговорил он. – Я ведь хочу, как лучше.
– Не знаю, что и сказать, – медленно отвечал я.
– Может, боишься ночевать в комнате, где побывал покойник? Тогда, конечно, не стоит…
– Стоит бояться живых, – возразил я. – А не мертвых.
– Не скажи, – отвернувшись, он незаметно прикоснулся к крохотной ладанке, висевшей на шее. – Смотря, какую смерть принял. Но, надеюсь, упокоит Господь душу нашего Дандоло.
– Ты знаешь причину его смерти?
– Причина, видно, особая.
– Какая особая?
– Ну, то есть, не от болезни он умер.
– Почему ты так думаешь?
– А разве ты думаешь иначе?
Я промолчал. Он взглянул вопросительно и, не дождавшись ответа, задул свечу. Так и не сняв рубаху, какое-то время я лежал с открытыми глазами. Видимых причин отказаться от предложения поселиться в доме как равный не находилось – пожалуй, он прав: довольно зависеть от других. В возможном переезде присутствовало одно несомненное достоинство: я бы сделался почти владельцем крошечной каморки размером всего в несколько шагов. Но тот, кому принадлежала поначалу единственная кружка, потом к ней добавилась кое-какая одежда, а затем тюфяк для сна и, наконец, родные стены, поймет меня: в собственных глазах это возвышает. Я должен был радоваться, но на самом деле… Вспоминая сейчас тот разговор, ещё раз убеждаюсь, как заботливо устроил своё творение создатель: им дано всё, дабы уберечь нас от ошибок. И, помимо того, что видят глаза или слышат уши, наше внутреннее естество подчас много прозорливее. Чувство… Смутное чувство, что в предложении, как и во всём разговоре, что-то не так, владело мной, не давая спокойно предаться отдыху. Я ворочался, пытаясь разобрать суть беспокойства.
Неожиданно из темноты послышалось:
– Если ты не решишься, тогда, пожалуй, сам переберусь. Посуди: так лучше будет. Понятно, мы жили вместе, когда некуда деваться. Но теперь…
Он ждал. Правду сказать, как-то не верилось, что разговор тот затеян от благих намерений. Но какие причины не доверять? Потому что порой он высокомерно со мной обходился? Или его совет привел к неприятностям? Откуда эта подозрительность? – обругал я себя.
– А что Антонио скажет, если попроситься в комнату Дандоло?
– Ничего не скажет, – равнодушно обронил он. – Его это не озаботит.
– Ты говорил с ним?
Антонио знает, – ответил себе. Он отдал в аббатство вещи Дандоло, ещё подозревая болезнь, но теперь разрешает селиться в той комнате, значит, не видит опасности. Значит, сомнения его разрешились. Или кто-то их разрешил.
*****
6
Следующим вечером Ансельми унес свой сундучок во флигель. Я помогал ему: тащил вслед мешок, в который мы уложили его небогатую одежду. Столик он обещал забрать позднее, пока же великодушно разрешил им пользоваться. Я выполнил все его просьбы, хотя во время сборов сильно засомневался, правильно ли поступаю, и печалился, видя, как пустеет комната. Переезд ведет к новому в наших отношениях, какими они станут, я затруднялся ответить, но, очевидно, его уход отдалит нас ещё больше. В мастерской к тому времени я освоился настолько, что почти не обращался за помощью, значит, теперь нам вообще будет не о чем говорить. Видно, так угодно Господу, – в конце концов, я принялся твердить излюбленную присказку, чтобы справиться с волнением и горечью.
Мы перенесли вещи, он вернулся за своей постелью и ушел, не задерживаясь. Ничего не сказал напоследок. Я остался в нашей комнате один. Хотя почему так её называю? Теперь в ней ничего не напоминало, что мы жили здесь вместе. Избавившись от его вещей, комната выглядела больше, но имела весьма неустроенный и грустный вид. Мне в ней было очень неуютно, даже не хотелось следующим вечером возвращаться. Но я скрывал своё настроение: не хватало показать, как для меня это болезненно.
Все уже знали, что отныне Ансельми живет в комнате Дандоло. Моё положение в жилище, как и думал, укрепилось. Итальянцы наперебой твердили: ловко этот малый сумел к нам пробраться, при виде меня нарочито они отпускали остроты и закатывали глаза, но подшучивали беззлобно. А вечером ко мне пришел Марко. Довольно уверенно осмотрелся.
– Как теперь живется?
– Как видишь, – буркнул я.
– Вижу. И в чем, позволь узнать, причина дурного настроения? Неужели из-за его ухода?
Подумал, прежде чем отвечать. С Марко хитрить было незачем.
– Нет, пожалуй, не прямо из-за ухода, но на душе скверно, – признался я. – За что ни возьмусь – заканчивается плачевно.
– Так уж? Вот бы не подумал. Здесь тебя считают везунчиком… Слышал, что говорят?
– Слышал, только мы о разном. Говорим о разном.
– Догадываюсь, о ком ты. По-моему, у тебя лишняя чувствительность ко всему, что исходит от него.
– Ты же не знаешь, как мы с ним познакомились, – возразил я. – И что случилось потом.
– Это стоит такой привязанности? Было бы странно, продолжай он с тобой оставаться.
– Понимаю, Марко. Не думай, что уж совсем ничего не смыслю, – попробовал я улыбнуться.
– Тогда чего хнычешь? Радуйся тому, что про вас известно, а то шептались бы втихую о разном непотребстве.
– Может, вы ждали его ухода, тогда я и вправду глупец, раз для меня он случился как полная неожиданность, – вздохнул я.
– Кстати, ты спрашивал однажды, знал ли я Ансельми до прихода в Париж, – вдруг сменил он разговор.
– Ты вспомнил его?
Марко отрицательно замотал головой.
– Я его не встречал. Но имя мне знакомо. Оно не распространено в Венеции. Не так уж часто можно встретить, поэтому легко запоминается. Если, конечно, он родился в Венеции или…
– Нет, Марко, не в Венеции, – живо перебил я. – Другой город. Вере… Верна… Как это?
Запнулся, стараясь выговорить название.
– Верона? – подсказал он.
– Да, да, – с облегчением произнес я. – Верона.
– В Вероне я не был… Но кто-то о нём упоминал, – он морщил лоб. – Не могу вспомнить.
– Одно время казалось, – продолжал он. – Приятель в разговоре вел речь о неком Ансельми, работавшем на площади возле Большого канала. Тот, кажется, повздорил с хозяином и угрожал отнести жалобу судье. Но нет, не то…
Он задумался. Я замер, опасаясь сбить с мысли. Заметив мою настороженность, он несильно толкнул в плечо, давая понять, что тишины не требуется:
– Скажу, если припомню. В остальном не вижу причины для уныния.
Обсуждать Ансельми не хотелось. Проку от этого ничуть, и то, что накопилось между нами, всё-таки касалось нас двоих, и уж точно – никого третьего.
– Скажи, Марко, а в других мастерских, где тебе приходилось работать, тоже случалось много непонятного? Загадок, одним словом.
Спросил, лишь бы отвлечься. Присутствие Марко было приятно и не имело особого значения, о чем говорить. Он рассмеялся:
– С нашего первого разговора ты говоришь про всякие небылицы. Души зеркал и что-то ещё мерещилось… На этот раз – загадки.
– Но это так, – оправдывался я. – Разве на то, что происходит у нас, ты всегда знаешь ответ? Ничего тебя не смущает?
– Назови хоть одну твою загадку.
– Во-первых, шаги на лестнице, – принялся перечислять.
– Про шаги соглашусь: хорошо бы узнать, только как взяться – непонятно. А что ещё?
– Дандоло, и потом… Странно то, что Ансельми знает о моих догадках про его смерть, хотя я с ним никогда не заговаривал.
– Разговаривать с ним совсем не обязательно, достаточно сказать тому, кто может передать. Я-то думал, работая в мастерской, ты усвоил это правило. Кому ты говорил, кроме меня?
– Отцу Бернару, – сознался я.
Лицо его недоуменно исказилось.
– С чего ты ведешь с ним такие беседы?
– На исповеди, – соврал я. – А почему ты удивился?
– Тогда не жалуйся, сеньор исповедующийся, если кое-что из сказанного тобой станет известно Антонио.
– Вот не подумал, – я насторожился. – Значит, отцу Бернару нельзя довериться?
– В общем, он довольно безобиден. Таким своеобразным способом заботится об интересах мастерской, но поступает разумно. Источник познаний сокрыт, и, выходит, тайна исповеди не нарушена.
– Он хорошо знает ваш язык? Как он смог его выучить?
– Говорят, ездил с поручениями в Авиньон и выучился у тамошних монахов.
– Он связан с Антонио, потому что тот старший в мастерской? – предположил я.
– Антонио он выделяет, хотя к другим вполне дружелюбен. Но не могу представить, что он начнет толковать про Дандоло с Ансельми. Отбросим отца Бернара. Ещё с кем?
– В мастерской – ни с кем.
Марко недоверчиво хмыкнул.
– Тогда действительно странно… А что, помимо мастерской, есть с кем говорить?
– Только Ноэль.
– Ноэль? Ну, Корнелиус, загадка твоя совсем проста и не требует дальнейших размышлений. Ведь они видятся.
*****
7
Я ничего не понял.
– Как это – видятся?
– Ну, встречаются, может… Не знаю. Я видел, как они разговаривали. Конечно, не настаиваю, что она ему сказала, но, вспоминая их беседу, исключить не могу.
– Ансельми и Ноэль? – глупо переспросил я.
– Ну да.
– Где?
– В аббатстве.
– Но когда? Марко, ты ошибаешься, – решительно заговорил я. – Со мной она там бывает, уверяю тебя, они никогда не разговаривали.
Прикусив губу, он озадаченно смотрел на меня.
– Да, припоминаю, тебя с ней не было, когда я их заметил.
– Ты хочешь сказать, она бывает в церкви, когда меня там нет?
– Да, частенько бывает.
Я пришел в замешательство.
– И каждый раз разговаривает с ним?
– Ну, может, не каждый… Слушай, я не слежу за ними намеренно, – слабо отбивался он от расспросов.
Но я так разволновался, остановиться не мог:
– Марко, прошу, вспомни, как это было!
– Боюсь, в следующий раз ты потребуешь подслушать, о чем они говорят, – заметил он. – Вспоминать-то особенно нечего. Представь, они просто стоят рядом или задерживаются на выходе, когда проходят другие. Так что не только я, многие их видели. Они не прячутся.
– Почему же ты решил, что она могла ему рассказать?
– Потому что, Корнелиус, какой-никакой опыт у меня имеется. Ты не замечал: вот иногда посмотришь на молоденькую девушку и парня при ней и думаешь: нет, не подходят они друг другу. Ничего у них не выйдет, сколько ни заглядывай он ей в глаза. А иной раз с первого взгляда понятно: здесь-то неспроста. Так что, как я их вместе увидел, так теперь и думаю: она ему вполне могла передать.
Пока он пускался в рассуждения, я кружил по комнате как птица, загнанная в силки. То, что она может пойти в церковь без меня, и в голову не приходило – зачем это нужно? Или кому, – выскочило в голове. Мелочи, касающиеся их, слова или взгляды, на которые раньше внимания не обращал, всплывали теперь в памяти и выглядели подозрительно, разрослись до небывалых размеров. Чего только себе под конец не представлял сгоряча!
– А здесь, в нашем жилище, – с трудом выговорил я. – Ты её не встречал?
Он удивленно отвечал:
– Нет, такого не было.
Не услышав ничего определенного, понемногу я приходил в себя.
– Значит, явного ты не видел? Одни домыслы?
– Ну, пусть так, – неохотно согласился он, недовольный, что кто-то позволяет усомниться. – Пожалуйста, можешь не верить. Только знаешь, я ведь редко ошибаюсь.
– Ошибаешься в чем? Хочешь сказать, между ними больше, чем простое знакомство? Ты ведь это хочешь мне сказать? – наступал я на него, злясь и сокрушаясь одновременно.
– Чего ты разошелся? – вспылил он и тоже вскочил. Плечи его судорожно подергивались. – Я всего лишь ответил на твой вопрос. Не моё дело, что между ними, да и безразлично мне это.
Его запальчивый голос вернул меня на место.
– Ладно, Марко. Не хватало только ссориться.
Он ещё недолго ворчал, что из-за моей неуживчивости его намерения обернулись почти во зло, и благодарности нынче не жди, но скоро замолчал и посматривал на меня с некоторым смущением.
– Послушай, – заговорил он. – Я понял: для тебя это новость и весьма неприятная – ты на себя не похож. Жаль, что так вышло, правда твоя – доказательства никакого. И выглядит как случайность.
Рассеянно он забарабанил костяшками пальцев по столу.
– Допустим, случайность, – повторил. – И разговоры их пустые, ничего не значат, и слухи до Ансельми дошли иным путем. А я оставил в тебе сомнения. Прости мне!
Я не желал верить ни во что дурное, просто не мог! На слова Марко не готов был полностью положиться. С другой стороны, сами понимаете, как они на меня навалились, не мог я оставаться безразличным.
– Твои слова небесполезны, Марко. И вины твоей нет. А расстроен я из-за того, что не знаю, как ими распорядиться.
– Но можно проверить…
– Следить за ними? – брезгливо отозвался я. – Избавь от этого!
– Зачем? Можно поступить проще…
– Нет, Марко, – остановил его. – Не хочу слушать об этом.
Я поднялся и перешел ближе к окну. Мысль, что Марко, решив помочь, начнет докапываться до сути, приводила в трепет отнюдь не радостный. Неудобно выпроваживать его, но я решил пренебречь дружелюбием, ибо стремился остаться один. Надеялся в тишине отсидеться, тогда сказанное уляжется, и само придет решение, как поступить.
Марко не обиделся, но, чувствуя себя виноватым, пробовал завести разговор, смягчить царившее теперь настроение.
– Понимаю, о чем ты сейчас думаешь, – говорил он неуверенно. – Существует ли связь между ними, если да – какова на самом деле. Но я не о том, мы ведь начали с другого: передала ли Ноэль твои слова.
– Марко, – не глядя, раздельно повторил я. – Ни слова больше.
Он покашливал и неловко прохаживался, но внял моей просьбе и вскоре, не прерывая молчания, вышел.
Когда дверь захлопнулась, я едва не застонал. Почему разговору не случиться утром, может, за день я бы его позабыл… Я успокаивал себя, что ничего ровным счетом не произошло. Вспоминая рассказ Марко, уповал: мало ли что может привидеться. Но уговоры не возымели действия, моя безмятежность в отношении Ноэль нарушилась. Неоспоримо: она бывала на литургии без меня – вот что сбивало. И ещё я понял, как непросто сложилось моё положение, собственное бессилие в нём выглядело ужасным.
– Может, лучше не знать? – высказал я вслух.
Постараться забыть. Делать вид, что мне ничего не известно. Нет, слишком слабая надежда, когда сомнения проникли в душу. Только мучиться понапрасну. Нужен способ убедиться. Или опровергнуть как можно скорее – твердил себе.
Мысль следить за Ноэль показалась отвратительной, я сразу от неё отказался. Разве что спросить? Тоже не великого ума дело, конечно, если она не захочет, чтобы я узнал, просто начнет отрицать. Но почему она не захочет? Сам себе отвечал: она уже что-то скрыла от меня. Может, не придала тому значения, – защитил Ноэль от своих упреков. В самом деле, почему ей не прийти, переброситься словом и забыть, оказавшись за воротами аббатства? И тут же возражал: не единожды это случилось, приходы её повторялись, Марко не станет врать и легко проверить, спроси я другого. В том, что повторяется раз за разом, скорее виден умысел. А если спросить Ансельми, что он ответит на это? Посоветует догадаться самому. Не сдержавшись, я мстительно толкнул оставленный им столик, пронзительно скрипнув, тот вжался в стену. Днем ранее Ансельми притворялся, вроде, не может вспомнить её по имени. Служит ли эта странная забывчивость доказательством ошибки в моих суждениях или, наоборот, подтверждает, что он скрывает что-то?
От дьявольской игры, которую с собой затеял, рождая вопрос и сам же на него отвечая, разум мутился, и голова как в огне горела: можно подумать, Пикар воскрес и снова таскает за волосы. На сей раз не отделаться, и целая ночь впереди – достаточно, чтобы истерзать.
*****
8
Судьба решала за меня, как мне жить, что делать. Ей легко удавалось: достаточно окружить тем, что несведущие называют случайностями, вроде, в комнату замуровать, и наблюдать: как поведет себя, что предпримет. Кто получит хоромы дворца, а кто – голые стены с прохудившейся крышей. Думается мне: рождением многое определено, но суть не меняется – в любой комнате, где окажешься, должен себя проявить. Бездействие хуже ошибок, за него уж точно придется держать ответ, и спрос – самый строгий. А когда решишься поступить так или иначе, что последует дальше? Зависит от того, что удастся сделать. Если поступки соразмерны и заслужат милости, судьба расщедрится. А я заслужил её благоволение? На седьмом десятке скриплю пером, закрывшись в монашеской келье. Вся жизнь на этих листах. Родных нет, близких тоже нет, и ничего своего нет, живу милостью Божьей и монастыря. Будь я в старости чуть наивнее, свалил бы вину на Пикара: мол, попался тогда под руку, погубитель. На самом деле…
Очнувшись, припомнил странное видение, посетившее ночью. Я полулежал на кровати, под голову, как тяжелобольному, мне подсунули подушку, хотя в действительности ни кровати, ни подушки у меня никогда не имелось… Рядом сидели Ноэль и Ансельми. Подчеркнуто выпрямившись, выглядели они намного старше, чем привык их видеть. Между собой говорили и, как услышал, пришли издалека. Потом ко мне обратились. Рука Ноэль покоилась на колене Ансельми, он же вопрошал с неизменной своей задумчивостью: что ты хотел от неё, чтобы она рассказала про себя до последней подробности? Ничего ты не понял из того, что я тебе говорил! Ничего! Ничего! Без конца повторял это слово. Ничего! Ноэль же придвинулась ко мне, но руку с его колена не сняла. Корнелиус, ещё не поздно, – мягко убеждала она. Я и вправду не мог понять, что хотят от меня, и тревожно вглядывался в их изменившиеся лица.
Открыв глаза, обнаружил, что в комнате один и лежу, свернувшись в комок, цепко обхватив плечи руками.
В то утро в аббатство не пошел, немного запоздав, явился в мастерскую. Делание началось, несколько работников суетились возле Антонио, тот давал указания на грядущий день. У двери стоял Ансельми, надевал одежду, в которой обычно трудился. Заметив меня, посмотрел, как показалось, внимательно, я же приветствовал его сдержанно и, чувствуя, как взгляд уперся в мою спину, отправился на излюбленное место за зеркалами.
Здесь меня вскоре разыскал Марко.
– Ты болен?
Я отвечал, что нет.
– Выглядишь неважно… Глаза воспалены, синева под ними. Ты не спал?
– Вроде, спал, – я потер лицо. – Лучше бы не спал – снилось дурное. Ты был в аббатстве сегодня?
– Да.
– А она… Приходила?
– Да, – он оглянулся. – Стояли рядом.
– Она к нему подошла?
– Нет, он вошел позже.
– И что?
– Ничего. Когда пришел, встал за ней. Она обернулась. Он что-то сказал. Потом ещё что-то. Она ответила. Ну, и всё, по-моему. Я должен теперь следить за ними, так, что ли?
Я молча рассматривал зеркало, ибо увидел в нём Ансельми. Зеркальный Ансельми, – усмехнулся про себя. Отражение почти лишено недостатков: зеркало покровительствует ему более, чем другому смертному, как такое удается? Я заглянул в его глаза, повернув голову, он смотрел в мою сторону, не на меня, конечно – меня он не мог видеть. Взгляд, вызывающий желание сблизиться с его обладателем, – подумалось мне. Лицо всегда задумчиво, будто под маской. После тяжелой ночи немного кружилась голова. Под маской – вглядись – его лицо под маской…
Прошло дней пять, может, шесть, и все эти дни я не ходил в аббатство. План, созревший в моей голове, был до смешного прост и, по сути, ни к чему не вел: если и удастся что-то выяснить, вряд ли покажется убедительным. Но именно своей простотой он мне нравился.
С каждым днем на душе становилось мрачнее, и печаль та не миновала лица, оно выглядело осунувшимся, растерянным. Я тосковал без Ноэль, а ожидание, что случится дальше, изматывало. И ночью не было покоя. Спал мало, больше лежал, неотрывно глядя в темноту или ворочался, не находя себе места. Гадал: сколько придется ждать, и никак не мог решить: что зависит от меня, а к чему лучше бы не притрагиваться. Наконец, судьба смилостивилась, и её колесики медленно задвигались.
Поздним вечером раздался стук. Открыл и увидел Ансельми. С одной стороны, я ожидал его прихода и, кажется, подготовился… Но когда увидел, понял, как надеялся, что именно этого не случится.
– Раньше ты входил, не спрашивая, – заметил я.
Дверь оставил открытой, приглашая войти, но он не двинулся. Что скажет, было понятно без слов.
– Ноэль спрашивала о тебе, почему ты не приходишь на утреннюю литургию.
– Что ты ответил?
– Ответил, что узнаю.
Я выдержал мгновение и задал свой вопрос недоуменно:
– А почему она спросила у тебя?
И почувствовал напряжение. Ответа, такого, чтобы дать сразу, не нашлось, ведь подразумевалось, что они не знакомы, я только рассказывал одному о другом. По тому, как он маялся настороженно, видел: он с усилием подбирает нужные слова.
– Это ты у неё узнай, – наконец, последовал ответ.
– Хорошо, – с некоторым простодушием произнес я. – Пойду завтра и спрошу.
Захлопнув дверь, какое-то время стоял, уткнувшись в неё лицом, не замечая, что неровная деревяшка оставляет царапины.
Первым делом, когда вошел в церковь, я осмотрелся. Ансельми видно не было. А Ноэль стояла, глядя на статую Девы Марии, ту самую, возле которой я молился о прощении… Увидев меня, заулыбалась. Я словно сейчас вижу: картина та навсегда во мне сохранилась. Застывшее в печали и забвении лицо святой и рядом лицо Ноэль, подвижное, тонкое, покрытое легким румянцем, нежные губы полураскрыты… Она не бросилась ко мне, как было однажды, дождалась, пока я пройду через неф.
– Почему ты не приходил столько дней, Корнелиус?
Я сделал знак, что поговорим позже. Она послушно замолчала, но до конца литургии стояла, повернувшись ко мне. Две женщины, из камня и плоти, пожелали моего внимания. Ансельми в церкви тем утром не появился. Я всё время искал его глазами, Ноэль же спокойно внимала молитвам, но может, она знала, что он не придет…
– Я пойду с тобой, – сказал, когда мы вышли во двор.
– Тебе не нужно возвращаться в мастерскую?
– Есть ещё время, – отвечал я и взял её за руку, хотя необходимости особой в том не было: день оказался сравнительно теплый для зимнего.
Мы шли, и временами я прикрывал глаза, рискуя при этом падением, но так, мне казалось, лучше пойму, говорит она правду или старается избежать. Она не замечала моей холодности.
– Я берегу твой подарок, как ты учил, но когда матушки нет дома, достаю.
– И как с ним поступаешь?
– Смотрю на него.
– Наверно, видишь в нём себя? – сухо осведомился.
В чем-то в тот час я походил на Ансельми.
– Случается, вижу, – с легкой усмешкой отвечала она.
– И тогда о чем думаешь?
– Особенно ни о чем… Иногда, правда, удивляюсь, как случилось, что оно оказалось в моих руках. И тогда вспоминаю о тебе…
– Ты скучала без меня, Ноэль? – спросил я, внезапно прервав её.
Она пошла медленнее, осторожным шагом.
– Я беспокоилась – что тебя задержало, почему ты не появляешься?
– Почему ты выбрала Ансельми, чтобы спросить обо мне?
– Как? Ведь он твой друг. Кого же ещё спрашивать?
– Вообще-то есть отец Бернар.
Она смотрела на меня, словно не понимала.
– Хорошо, – согласился я. – Пусть друг. Но разве ты знакома с ним? Просто подошла и спросила? Он не удивился твоему вопросу?
– Почему ты говоришь со мной так? – пробормотала она.
– Ты права, у меня нет на то права расспрашивать тебя, – процедил я. – Если это тайна, не отвечай.
Несколько шагов мы прошли, раздражение зрело в нас обоих. Разговор двинулся не как я задумал. Впрочем, в жизни такое совсем не редкость.
– Мне говорили: ты приходишь в церковь, когда меня там нет. Это верно?
Её рука затряслась, задергалась в моей, ища освобождения, тогда я стиснул руку сильнее. Она вскрикнула.
– Что ты делаешь? Мне больно!
– Мне было больно, когда узнал, – прошипел я, всё более распаляясь от смятения в её глазах. – Зачем ты приходишь?
– Отпусти меня, – она резко вырвалась и бросилась вперед.
Ноги её заскользили, она едва не покатилась по мерзлой дороге. Я нагнал, чтобы поддержать, но она не поняла мои намерения и грубо оттолкнула. Я пытался повернуть её к себе, она вырвалась с такой яростью, что я растерянно отступил.
– Опомнись, Ноэль! Что ты скрываешь?
– Мне нечего скрывать! – почти кричала она. – Я не хочу, чтобы со мной так обращались. С меня довольно упреков от матери.
И, круто повернувшись, она побежала вниз по улице. Как в сновидении, я видел, что фигурка её, неловко взмахивая руками, чтобы не упасть, движется и постепенно теряется из вида. И испытывал странную тяжесть, будто тело срослось с землей и не может пошевелиться…
В мастерской Марко поджидал моего возвращения.
– Выяснил, что хотел? Видел, вы уходили вместе…
Я молчал, словно окаменел.
– Что на этот раз стряслось?
– Ты был прав, Марко.
– В чем?
– Что-то происходит, наверно, между ними, иначе не объяснить.
Нетерпеливый голос звал Марко из глубины мастерской, но он встревоженно оставался рядом.
– Ты от неё услышал?
– Хотел услышать… Но она вырвалась и убежала, я слова не успел вымолвить. Она что-то скрывает, – отвечал в тоске.
– Марко! – снова послышался требовательный окрик, на этот раз Ла Мотта.
Я наспех рассказал ему о приходе Ансельми накануне.
– Странный он всё-таки, этот Ансельми, – лицо Марко кривилось сильнее обычного. – Кто же о нём говорил… Поспрашиваю, пожалуй, может, что скажут, а я вспомню.
*****
9
Я не желал нападать на Ноэль, хотел говорить с ней по-иному. Кажется забавным, как я не задумался тогда, что разговор образуют не столько вопросы, но и ответы. Какого ответа я ожидал, – спросите вы. По своему обыкновению предавался бесполезной привычке, сочинял разговор, тратя на это занятие долгие часы размышлений. Лучше, – думал я, – если она скажет, что выбрала Ансельми, потому что робела перед старшими, а он всё-таки её возраста, я бы понял и этим довольствовался. А самое лучшее, что могло прозвучать и рассеять мои тревоги мигом, если бы она сказала, что совет говорить с Ансельми дал отец Бернар, почему бы нет. Всё остальное вызывало подозрения. Настраивало на мысль, что легко спросить, потому что между собой они не раз прежде говорили. Худшим же было услышать ложь – неважно, в каком свете представленную – я верил, что сразу её распознаю. Я всегда чувствовал слова Ноэль, по тому, как она говорила, мог догадаться о настроении. Вероятно, то, о чем пытался учить Ансельми, многое понимал по умолчанию.
И вот я судил о том, что не услышал и почти уверился: Ноэль хочет что-то скрыть, но сказать, что скрывает именно своё отношение к Ансельми, не смог бы… Я не заметил обмана, но, как понял впоследствии, жизнь сможет научить лгать или изворачиваться не каждого. А таким натурам, как у Ноэль, это вообще не свойственно. В щекотливом положении они скорее предпочтут уклониться от разговора, перейти на другое или попросту не отвечать. К такому я оказался совсем не подготовленным, моя неопытность не позволяла выйти из затруднения. Я пожалел, что надумал всё решать сам и отказался от помощи Марко. Впредь решил с ним советоваться, а потому вечером позвал к себе.
Он вошел, ухмыляясь.
– Я здесь частый гость, в этой комнате. Может, пора перебираться?
Шутка удалась, не удержавшись, я подыграл.
– Слухи пойдут, не боишься?
– Слухи? Я сам начну их распускать. Про то, как ты боишься оставаться в темноте и потому зовешь к себе на ночь каждого по очереди.
Я притворился напуганным.
– Что обо мне станут думать?
– Здесь не думают, – отвечал он. – Сразу языком работают.
Мы оба расхохотались.
– Послушай, я спрашивал о твоём друге, – заговорил он, когда отсмеялся.
– Называй его по имени, – попросил я.
– Как скажешь, – он едва заметно усмехнулся. – Поспрашивал тихонько, был ли кто знаком с ним до прихода в Париж или что слышал… И странно выходит: о нём раньше не знали. Словечка не вытянул.
– Что в этом странного? – не сообразил я.
– Это странно, очень странно, пойми, – он принялся рассказывать. – Кому-то Венеция покажется большим городом. Но скажу так: те, кто живут там с младенчества, друг о друге что-то знают. Уж тем более – стекольщики. Мастерские держат на Мурано, специально, чтобы присматривать. Работать и оставаться незамеченным – нет, такое невозможно.
– Но он родился не в Венеции…
– Чужих принимают редко, и заметны они сильнее – сразу начнут расспрашивать. Спрятаться не получится: дня не проходит, что бы кто-то новость не принес.
Разгорячась, он указывал на невидимых людей, собравшихся в сторонке.
– Тот – дельный мастер, а у этого работники за труды в прошлом месяце не получили, а там подмастерье – сущий болван.
– Он говорил, что начал трудиться, когда ему было, сколько мне сейчас, – припомнил я. – Или около того, значит, в Венеции он пробыл не меньше двух лет.
– Удивительно, если так.
– Не веришь его словам?
Он неопределенно пожал плечами.
– Зачем его вообще притащили в Париж? Мороки больше, чем пользы. Или мессир Кольбер выдал личное приглашение? Вот ещё не меньшая странность в этой мастерской, как ты говоришь.
– Он говорил: из-за языка. Его мать – француженка.
– Понятно, откуда его странное имя. И это всё, что тебе известно?
Немного же он поведал – значилось на лице, Марко не скрывал разочарования. Грамотой я тогда не владел, зато неплохо выучился читать по лицам, однако от злоключений это не уберегло…
– Он не любил расспросов, а сам о себе не рассказывал, – объяснил своё незнание.
– Не полагайтесь на человека, который не говорит о себе. Скрытность свидетельствует о порочности, добродетели таить нечего, – исполнил, ломаясь и картавя, Марко и шутливо раскланялся.
– Что это? – удивился я.
– Понравилось? Слышал на представлении, которое разыгрывали куклы, – так говорила кукла Бригеллы… А может, рассказывал, с кем трудился раньше? – вернулся он к Ансельми.
– Однажды упомянул о Пьетро.
– Что именно?
– Он знал его в Венеции. И когда он рассказывал о мастерской, я не думал, что он среди них новичок.
– Да, на новичка, вроде тебя, не похож. Тогда скажи вот что… Как ты его встретил?
Я ответил не сразу.
– Не знаю, могу ли говорить об этом, – нерешительно раздумывал.
– Я спрашиваю не из пустого любопытства. Если боишься его выдать, расскажи то, что касается тебя.
Что же ещё, как не любопытство, – подумал про себя, но вслух сказал:
– Они проезжали через постоялый двор, где я жил.
– Кто они?
– Ансельми, трое итальянцев и гвардейцы с ними.
– Кто из итальянцев?
– Антонио, Пьетро. Последнего не запомнил.
– Про последнего нетрудно выяснить, зная остальных.
– Ну, выяснишь, а дальше что?
– Те, кто с ним ехал, должны знать про него, не с неба же он к ним свалился.
– Ты заговоришь с Антонио? – с опаской спросил я.
– Попробую с Пьетро. Знаешь, меня самого заинтересовало. Ну, я не слышал, кто другой… А тут все головой качают.
Глаза его блестели. За словами сквозило некоторое недоброжелательство – не новость для меня. Между собой итальянцы проявляли единение только в спорах с французами, в остальном – я подозревал – их отношения гладкими не назовешь.
– Может, не стоит заходить так далеко? – на всякий случай спросил я и этим невольно проявил своё отношение к Ансельми.
– Что ты за него заступаешься? – возмутился Марко. – Что особенного он для тебя сделал? Кроме того, что по его милости ты сам не свой.
Я вздохнул.
– Нет, Марко, скорее, это моя вина. Не нужно было затевать с ней разговор, ты не находишь?
Он морщился.
– В чем вина, не знаю.
– Думаешь, она будет теперь со мной разговаривать? – спросил я, надеясь, что хоть Марко меня поддержит.
– А что ты собираешься делать?
– За этим тебя позвал. Может, подскажешь или совет дашь.
– Совет? – переспросил он, будто плохо расслышал. – Совет…
*****
10
Здесь же позволю отступить от ровного повествования и запишу историю, которая случилась немного раньше и до сих пор избежала моего пера, но не по забывчивости или умыслу. История пришлась на время недолгих дней моей счастливой и невинной связи с Ноэль и спокойствия в отношениях с Ансельми…
Управитель наш, мессир Дюнуае, занемог – такое случалось нередко – и тогда в мастерской поговаривали: не иначе как накануне он повел себя невоздержанно в утехах плотских, включая обильную трапезу. Неудобства его болезнь не приносила, работе не препятствовала, но в тот день Дюнуае срочно понадобились какие-то бумаги по хозяйству, с чем он и прислал слугу спозаранку, требуя везти бумаги без промедления. Решили: лучше, если с бумагами поедет Пьетро, а в помощники приставили меня, благо утром поручений ко мне не находилось.
Оказия обернулась настоящим путешествием: когда мы вышли, я, нагруженный связками листов так, что дороги под ногами не видел, перед нами показался экипаж. Старый, кое-где облез – догадываюсь, у Дюнуае имелся поновее, в котором он и отправлялся ко двору его величества, – но я ощутил себя важным господином, когда проскользнул внутрь, уложил свою ношу на грязноватый пол и приник к окну. Рядом грузно уселся Пьетро. Скамья, обитая кожей, слегка погнулась и заскрипела, Пьетро жалобно посетовал, как раздался за последнее время, – это оттого, что ходить приходится мало. Отдышка постоянно мучила его, пот крупными каплями скатывался по краю лба, хотя день стоял зимний, и стылый воздух в экипаже ничем не отличался от проносившегося вовне.
То и дело я выглядывал наружу, рассматривал улицы, знакомые и впервые встреченные, но от мелькания и тряски голова закружилась, пришлось передвинуться вглубь. Пьетро пребывал в добром настроении, оно поспособствовало его словоохотливости, я заговорить не решался. Он же, посматривая добродушно, спросил про девушку, которая зовется Ноэль, так о ней выразился, с этого потек наш разговор. Вначале о Ноэль, дескать, хорошенькая девушка приходит на утреннюю мессу, а откуда она? Я сказал: живет неподалеку и дружна с отцом Бернаром, преувеличил, конечно, но всё сошло – Пьетро одобрительно кивал. Потом я его спросил: ожидаются ли новые работники в мастерской.
– Да, вроде, больше никого не ждем, пока справляемся.
И я, освободившись наконец от скованности перед старшим, напомнил ему давнишний разговор:
– Помнишь, Пьетро, ты говорил: если смотреть в зеркало, оно откроет свои тайны?
Он заулыбался и шутливо поднял палец:
– Не каждому, мой дорогой, не забывай – не каждому.
– Но тебе они открылись?
– Ах ты, чудной, это же так говорится, про тайны. К слову, вроде. А какие на самом деле тайны… Разве что на душу поглядеть.
Тут нас так тряхнуло, что Пьетро всем телом привалился к двери и страдальчески охнул, а я подскочил не меньше, чем на палец. Слуга, правивший лошадью, выругался и замедлил ход.
– Ты видел душу зеркала? – переспросил, не веря услышанному.
– Непонятливый ты, – отозвался он, потирая ушибленную руку. – Не его, а свою душу. Заглядываешь, и появляется собственная душа.
Я всё равно не понимал.
Тогда, притянув к себе, Пьетро спросил:
– Когда ты смотришь в зеркало, что видишь?
– Лицо, – недоуменно отвечал я.
– А какое лицо?
Задумался, изменилось ли что за прошедшее время.
– Незаметное. И ещё – несмелое.
– Выходит, и душа твоя такова – несмелая. И я вот тоже смотрю… Эх, – не удержался он. – Кто бы мог подумать, что я был в твоём возрасте. А теперь? Душа стареет, ровно, как мы сами.
Наверно, он хотел сказать, что лежащие поперек лица морщины уже не разгладить, и выгоревшим глазам никогда не вернуть прежний цвет. Доброй половины зубов он лишился, но улыбка от того не становилась испорченной, никто не сказал, что она злая или гадкая.
– Зато потом, – Пьетро доверительно наклонился. – После смерти, значит, освободится душа от тела и сама очистится, вернет прежнюю легкость. Не сразу, но со временем. И опять будет, глядишь, такая вся сияющая и безмятежная.
– Ты веришь в это, Пьетро? – спросил я.
– А что же? Конечно.
– И у каждого она очистится? Какой бы тяжести грехов не набрала?
– У каждого, – подтвердил он. – Кому и пострадать придется, чтобы к естеству своему прийти, но всё равно это случится, даже если от тела душа восстанет черна, как уголек. Я вот так решил – за столько лет в мастерской многого навидался. Простой человек не задумывается об этом, не понимает. Верит тому, что святые отцы говорят, а они как говорят: один так скажет, другой – иначе, и разберись – на чьей стороне правда. А стекольщику другое дано: он душу в зеркале видеть может. Только не просто этого добиться, ну, и стекольщиком не каждый станет. Как у нас говорят, знаешь? Миг рождения предрешен.
– Ты родился стекольщиком?
– Долгая история, – он задумчиво смотрел на пролетавшие за окном вереницей строения, мы снова катились исправно. – Мой отец начал работать в стекольном цехе. Ещё до моего рождения. Тогда он жил в городе, а мастерские разрешали ставить только на острове, чтобы, значит, город не повредить, если пожар случится, печь-то в мастерской днем и ночью работает, так что от беды подальше.
Отец переселился на Мурано, прожил там с матерью много лет, детей не было. Мать потом рассказывала: отец сильно сокрушался, что у соседей – не меньше четверых по лестницам скачут, а у них в доме – никого, кроме кошки приблудившейся. Мать и в церковь каждый день шла Мадонну просить, и милостыню раздавала, чтобы другие за неё молились – всё не впрок. А когда совсем отчаялись, я народился. Но так и остался единственным, других детей не появилось. Зато сейчас, – Пьетро горделиво расправился. – У меня пятеро. И больше бы было, если бы не помирали младенцами. Внуков семеро. Бог даст, ещё появятся.
– Твои родные остались на Мурано?
– Все, кроме одного сына. Тот с малых лет задумчивый был, дотошный. Грамоте выучился. Сейчас в монастыре живет, в Падуе. Говорит: Богу угодно, чтобы я сан принял. Ну, раз Богу угодно, что поделать… Два других, глядя на меня, в мастерской остались.
– Ты тоже за отцом в мастерскую пришел?
– Я тогда не такой был. Уехать мечтал, по ночам море виделось. Всё ходил в палаццо, где купцы торговлю вели, в надежде – вдруг кто с собой позовет. В мастерской трудиться не хотел, но совесть не позволяла родителей бросить. Они к тому времени совсем одряхлели, мать еле двигалась, почитай, наверно, сколько мне сейчас ей было, – куда же от них. Но думал: если один останусь, точно уеду, ничего не удержит. Отец ослаб, болеть начал. Однажды не смог пойти в мастерскую и говорит мне: мол, подмени. Ну, родителя ослушаться я не смел, значит, пошел. Цехом запрещено такое, чтобы сторонний человек в мастерской оказался, но мастер знал меня с рождения, и закрыли на то глаза. А потом мастер говорит отцу: какой у тебя сынок разумный. Отец отвечает: очень разумный, даром, что ли, к менялам и скупщикам бегает.
Пьетро насмешливо прищурился.
– А это отец мне перед тем кое-что шепнул, вот я и сообразил. И потом отца подменял, чтобы заработка не лишиться. Работник-то я был старательный, всё услужить хотел. Мастер уговаривал: оставайся. Так и пошло. Отец перехитрил меня.
Пьетро выговорился и замолчал. И ещё шум колес сильно давил и мешал разговору. Выждав немного, я спросил:
– Значит, ты родился в Венеции?
– Я-то – на Мурано. Остров такой, там мастерские и семьи стекольщиков живут.
– И остальные тоже оттуда?
– Все оттуда. Все, кроме Ансельми.
– Да, он рассказывал… Что знал тебя раньше. Вы работали вместе?
– Да не работали, – Пьетро вдруг начал путаться, словно родной язык позабыл. – Не то, что вместе… А впрочем, отчего нет…
В большом удивлении я смотрел на него.
– Вроде как, – наконец проговорил он. – Последний год вроде как он жил в моей семье. Сын мой, который сейчас в монастыре, тогда ещё оставался в Венеции и приютил его.
Я оторопел.
– А… Где же семья Ансельми?
– Нету семьи. Чума забрала.
– Чума?
– Потому и ушли они из Вероны, что чума туда вернулась. Шли и по дороге схоронили отца, мать, двух братьев. Не помню, с кем он до Венеции добрался, только здесь он один остался. Сын мой, Джакоммо, сжалился и привел мальчишку к нам.
– А сын твой… Как о нем узнал? – пролепетал еле слышно.
– Встретил в церкви Марии делла Кроче. От роду Ансельми тогда четырнадцать было. Оборванный, голодный, совсем без денег – ума не приложу, как перебивался. А когда к нам пришел, помню, жена перед ним тарелку поставила – ешь. А он молчит, сжался, руки трясутся, он их под стол сунул, чтобы не заметили. А потом как слезы польются! Голову уронил, руками прикрывается. Еле успокоили. Сказал: четыре дня такой еды не видел. А до того – ещё несколько дней. Так, иногда добрый человек сыщется – корку хлеба сунет, или сам что выпросит.
Пьетро утер лицо – то ли от пота, а может, свои слезы набежали.
– Но на Мурано он не мог оставаться – не гражданин Республики – потому жил у сына в Венеции.
– А потом начал работать в мастерской?
– Работал немного, – признался он. – Больше по хозяйству помогал. Принять в мастерскую так и не разрешили. Чужих очень неохотно берут – семейное это дело, а некоторые семьи, считай, не одну сотню лет там живут. Но сын мой его учил, говорил: он способный. Когда же я в Париж собрался, думал: пусть идет с нами. Бог даст – здесь сумеет устроиться. Всё-таки половина его крови – из этих краев. И, вроде, не прогадал…
Я слушал Пьетро и вспоминал, как завидовал: дескать, двумя годами старше и многое повидал, а теперь понимал, какая страшная цена за это уплачена. Как он старался показаться опытным, знающим – в этом виделась важность ребячья, неведомо как сохранившаяся после стольких испытаний и вот проявляющаяся таким образом. От чувств нахлынувших я смешался.
Плохо помню, как поджидал Пьетро возле дома Дюнуае, хотя в квартале, где стоял особняк управителя, иная жизнь представала неискушенному взгляду, было на что посмотреть. Я же сидел на корточках, прислонившись к ограде, и чертил на земле какие-то самому непонятные линии и пересечения из них, ибо мысли мои целиком занял Ансельми. Каким бы он был, если не выпало столько горя… Наверно, улыбчивым, оживленным, – думал я и сам чуть не плакал.
Пьетро, когда вышел от Дюнуае, выглядел виновато. Прямо с ходу он заговорил, словно те же мысли не отпускали его ни на мгновение:
– Ты не говори ему, что я рассказал. Иногда, знаешь, лукавый язык путает. Не то будет злиться: ты, старый дурень, лезешь не в своё дело. Очень он не любит воспоминаний. Ну, оно понятно.
– Не волнуйся об этом, – пробормотал я.
– Самому тебе, думаю, можно знать, ты ведь с ним дружен. Антонио знает – и довольно, другим ни к чему про то слушать. Пойдем, пойдем, – он тянул меня, но я шел неохотно, озираясь непрестанно.
– Ты ищешь кого, что ли?
– А где же экипаж? – спросил простодушно.
– Экипаж? – протянул он рассеянно. – Совсем дитя неразумное. Кем ты себя представляешь? Пойдем-ка, прогуляемся, а то не заметишь, как со мной сравняешься.
*****
11
Как видите, я не всё рассказал Марко. Вел себя так, словно ничего мне не известно. Не выдал, хотя знал, что можно услышать, если удастся разговорить Пьетро, или Марко вернется ни с чем, если на этот раз тот избежит лукавого и удержит язык на замке. Пусть Пьетро решит, что говорить, а что нет – любопытство Марко, их намечавшийся разговор не представляли для меня никакого интереса. О чем бы они ни договорились – на моё положение повлияет едва ли, мои отношения с Ансельми не изменит.
К тому времени знакомы мы были немногим больше года, и за столь короткий срок отношения между нами менялись без чьего-либо вмешательства от душевной привязанности до скованности и даже охлаждения. В разное время в них присутствовали моё подражание, его покровительство, признательностью они отмечены, но главное ведь – не в начале, а в том, к чему они пришли. Настоящую их суть я понял в те минуты, когда молчаливо приткнулся под оградой управителя и впервые ощутил, как сочувствую Ансельми за все несчастья, что он вынес. После рассказа Пьетро и после всего, что сам пережил, сочувствие – самое верное слово, которое означает моё отношение к нему, и в нём особый смысл. Моя привязанность к Ансельми постепенно ослабла. Я обходился без его внимания и не искал расположения, как раньше, но всё, приходящее от него, и позже, даже несправедливость и обида, рано или поздно, перерождались в сочувствие, хотел я этого или нет. Вот так выходило, без моего согласия. И, несмотря ни на что, до этой минуты, когда старательно вывожу неровные буквы, сочувствие моё сохранилось. Я признаюсь в этом, как бы странно для других мои слова ни звучали, ибо этим листам обещался открыться полностью.
Напишу откровенно: долгое время не считал для себя это чувство подобающим. Потому как не пристало мужчине проявлять слабость неуместную, хоть и живу в монастыре по прихотливой воле обстоятельств, но самый строгий устав не в силах изменить природу. И предпринимал решительные попытки заглушить, злил себя намеренно, настраивал против, тем более, поводов-то было предостаточно. Оно оказалось тверже моих стараний. Не усиливалось, но и не умалялось, а просто жило во мне, сочетаясь с воспоминаниями. Поздно, но всё-таки я догадался: оно и стало моим искуплением, может, тем уроком, который я должен вынести из своей земной жизни. И я спокоен на этот счет.
Но говорить так же спокойно о Ноэль не смогу. Ещё работая в мастерской, когда проводил дни без неё, я чувствовал, словно лишаюсь места в жизни. А когда мы расстались, потерял себя окончательно. Хотя, выходит, и потерявшийся на этом свете вполне способен каждый день подниматься ото сна и благодарить Господа, что сохранил за ночь душу невредимой, или вкушать посланную им пищу, в виде еды на столе или мыслей, отправленных в голову. Этим я занимаюсь уже несколько десятков лет и, возможно, преуспел в своём существовании. Но каждое мгновение чувствую себя лишним на этом свете: место мое давно потеряно.
А расставание наше произошло не от той бездумной выходки, когда она сбежала, оставив меня стоять оглушенным на дороге… Марко тогда убеждал, что такие размолвки для молодых – обычное дело, не принимай, мол, всерьез. И верно, через день встретил Ноэль – не мог я без неё обходиться. Я с трудом выждал те дни, пока терзался сомнениями о её отношениях с Ансельми, и мысль о новых днях разлуки была невыносима. К чему терпеть, – подумал, – будь что будет, увижусь с ней.
Ничего печального не приключилось. Но и обнадеживающего тоже. Хотя по-прежнему она улыбалась, глядя на меня, а когда, смущаясь, я попросил не вспоминать о нашем последнем разговоре, примиряюще протянула руку и сказала, что давно позабыла, а если я ещё когда ей о том напомню, то она рассердится всерьез. Наверно, обнадеживающим мог стать наш поцелуй в то мгновение, сейчас так думаю: пришелся бы он к месту. Но тогда мысли такой не возникло, потому как тень Ансельми всё-таки блуждала между нами, вызывая настороженность. Женщины, даже столь юного возраста, более восприимчивы к подобным вещам, и, желая полного согласия, Ноэль сама о нём заговорила:
– Я так и не поняла, что тебя смутило.
– Почему ты приходишь в церковь, когда меня там нет?
– Мы никогда не договаривались, в какие дни ты есть или нет… Я прихожу, когда могу, и надеюсь тебя там встретить.
Никакой лживости в словах её не заметил, напротив, всё она сказала искренне.
– Я приходила несколько раз, хотя тебя не встречала, но что с того?
Ранним утром мы возвращались из аббатства, и на сей раз не я уводил Ноэль дорогой к её дому, а она трогательно вызвалась проводить меня до улицы Рейн. Старые улочки вблизи Сент-Антуан не все мне известны, но ближе их нет в моей жизни. Хотя не родился на них и толком не жил, а вот считаю себя их частью. Они словно питали меня, эти улицы, сонные и затуманенные по утрам, их закрытые двери и ставни, присыпанные в тот час налетом инея, оттого казавшиеся поседевшими. Пока мы шли, воздух медленно бледнел, но на солнце не приходилось рассчитывать: уже заметно, как небо затянуто сплошным, без просветов, облаком. Пройдет не меньше четырех недель, прежде чем облако прорвется, поднимется выше, и с обнажившейся его части польется вода и пропитает землю, и запах талой земли начнет будоражить её обитателей.
– А как ты познакомилась с Ансельми?
– Я не знакомилась, – просто сказала она. – Он сам ко мне подошел. Подошел и спросил: верно, что меня зовут Ноэль, откуда такое имя… Я должна была промолчать, по-твоему?
– Нет, – вынужденно признал я и добавил: – Но ты с ним разговаривала и потом?
– Когда тебя не было, иногда мы разговаривали.
– Было о чем говорить?
– Он со мной говорит, а не я с ним, Корнелиус.
– Он говорит с тобой, потому что ты не против, – заметил я.
– Хорошо, – она устало отвернулась. – Если ещё раз такое случится, скажусь больной и откажусь от разговора.
Так мы прошли через ту размолвку, первую и единственную в отношениях, и, казалось, мир наш восстановлен. Но, восстановленный, он отличался от прежнего: что-то в нём появилось или утратилось, словом, изменилось, и не в лучшую сторону. Ноэль терпеливо выносила мои расспросы, сказал бы, с покорностью, с которой женщины говорят о причудах мужчин, мало им понятных, ибо нет большего различия, чем между мужским началом и женским. Но всё мне казалось: остается что-то несказанным, а как спросить, чтобы не задеть, и ответ бы пришел исчерпывающий, я не знал. И чуть не вызвал новую обиду.
– Ты говорила с ним про меня, что-нибудь рассказывала?
Глаза её потемнели.
– Не думала, что ты обо мне так подумаешь.
Я бы спросил опять: О чем же вы тогда говорите, – вопрос этот прямо вертелся, как говорил Пьетро, лукавый тянул за язык, но понимал: приведет он к большей неловкости. А надо было сказать: Ноэль, Ноэль, не сомневаюсь в тебе, а если ты и проговорилась ему о чем-то, не стоит скрывать того – уверен, что хотела ты лучшего. Но теперь я могу так сказать, а когда пошел пятнадцатый год от рождения, до такого, пожалуй, не додуматься. Так и не добился, остался со своими догадками.
В церкви в тот день я не удержался и подозрительно приглядывал за Ансельми, он тоже явился и вел себя совершенно спокойно. В моём присутствии он не заговаривал с Ноэль, держался с видом обычным, немного отчужденно, но по тому, как временами их взгляды пересекались, становилось понятно: они знают друг друга, и не вчера их знакомство случилось. Что-то проскальзывало в его взгляде, обращенном к девушке, глубокое, выжидающее, словно тянуло за собой – не знаю, как объяснить эту особенность. Украдкой я переводил глаза на Ноэль, он сбивал её, я чувствовал, хотя явно она ему не отвечала, не заметил такого.
И в мастерской снова смотрел на него, точнее, хватало его отражения, мелькавшего перед глазами. Но смотрел теперь умышленно. Мне претило следить за человеком, а отражение, как ни странно, вполне позволяло такое обхождение. И спрятаться в зеркале труднее, ибо отражение не смущается чужих глаз, не ждет подвоха и ведет себя естественно – не это ли имел Пьетро, когда говорил о душе, заметной в зеркале? Если не удалось сблизиться с ним самим, может, зеркало поможет добраться к Ансельми, – думал я. Ведь Ноэль не из тех женщин, которые пришлись бы ему по вкусу или позволили развлечься. Не может он не видеть, что для него простушка она бесхитростная, тогда зачем он тянется к ней, что за этим кроется…
*****
12
Однако новость, с которой Марко вскоре вернулся, я никак не мог предвидеть, поистине он принес новость ошеломляющую.
– Пьетро рассказал об Ансельми?
– Нет. Да этого уже и не требуется. Я вспомнил, что о нём говорили.
Рукой Марко отвел назад волосы, за зиму они отросли, опустились ниже плеч, так что то и дело приходилось поправлять и, похоже, ему это нравилось.
– Всё крутилось в голове, никак не мог поймать, – объяснил он на мой немой вопрос. – А когда собрался заговорить с Пьетро, всплыло. Сам не ожидал.
– Вот как? – неопределенно спросил я, чувствуя, как неясная тревога снова холодит душу. – И что же?
– История смутная, если откроется полностью, не минует хорошего скандала, – загадочно отвечал он.
– Он не работал в Венеции?
– Не стоило бы мне обсуждать с тобой. Но раз уж так сложилось… Ладно, не буду мучить.
Я смотрел на него недоверчиво, но в глазах Марко стояла такая уверенность в важности происходящего, что невольно и я ей поддался.
– Твой друг… Прости, хотел сказать – Ансельми, – исправился он, заметив мой взгляд.
– Так-то лучше, Марко, – подтвердил я.
– Незадолго до моего ухода в Париж поговаривали, что сын одного из уважаемых работников цеха… Догадываешься, о ком речь? Хоть и проводит дни в молитве, как и подобает смиряющему плоть для жизни в монастыре, на самом-то деле вовсе не так уж смирен, как хочет казаться, и слабость имеет, от которой никак не может избавиться. Благодарение почтенному отцу, из уважения к нему дело заминали. А сыну всё не впрок, он и вовсе поселил у себя мальчишку по имени… – тут он выразительно посмотрел в мою сторону.
– Ансельми, – отозвался одними губами.
– Именно. А отец, вместо того, чтобы выгнать из дома обоих, хлопочет, что бы мальчишку приняли в цех…
– Кто говорил тебе об этом? – резко перебил я.
– Какая разница? Говорили… Ты же всё равно не знаешь.
– Вот именно, – возмутившись, отвечал его же словами. – Всё это – болтовня пустая. Зачем в неё веришь?
– Может, и болтовня, – как-то легко согласился Марко. – Только в цехе о мальчишке том даже слышать не хотели. А если не веришь, спроси его сам. Хотя моего слова, надеюсь, тебе предостаточно.
– Твоего слова?
– Да, – Марко сверкнул глазами. – Я его спросил.
– У Ансельми? – ахнул я.
– А что такого? Проходя мимо, спросил, был ли он в Венеции работником цеха. Не беспокойся так за него – рядом никого не было.
– И что?
– По-моему, он всё понял. Понял, что мне известно. Прямо весь побелел, и зубы застучали. Я думал: Господи, не допусти его до припадка. Ничего не ответил.
– Зачем ты это сделал? – завопил я так, что по соседству раздались беспокойные шаги и шорох, словно кто-то приник к стене. Я сейчас вспоминаю об этом, но тогда был так зол, и разум мой затмился, забыл об осторожности.
– А зачем ты просил меня о совете? – огрызнулся Марко. – Разве не для того, чтобы я помог тебе защититься? Не видишь: он смотрит на неё, не отрываясь?
В ярости я сжал кулаки. Окажись в тот час Ансельми рядом, я бы, пожалуй, на него набросился.
– Да, но…
– Но теперь он будет знать, что против него тоже кое-что имеется, – с решимостью отрезал Марко. – Помнишь, я сказал тебе: кто знает твою тайну, тот имеет над тобой власть. Так что будет, чем его приструнить, если совсем разойдется.
– Я не верю в это, Марко, – говорил я, стараясь, чтобы голос не задрожал. – Это неправда. А в цех его не приняли, потому что он не гражданин Республики.
– От кого ты слышал эту несуразицу? – в свою очередь осадил он меня вопросом.
– От того, чьим словам привык доверять, – с этим я обрел твердость.
Он смотрел на меня, медленно покачивая головой, а в глазах его растворялась жалость.
– Да, Корнелиус, – наконец отвечал. – Трудно тебе в жизни придется. Ты и в связь его с этой девушкой поверишь не раньше, чем увидишь одного в объятиях другого. Только смотри, как бы поздно не было.
– Замолчи! – задыхаясь, прошипел я. На это у меня сил хватило. А на остальное…
Всей правды об Ансельми я тогда не узнал и по сей день не знаю. Было и ему что скрывать, не сомневаюсь, но кто без греха? Мне ли говорить об этом… Пережив свои годы, всё же склоняюсь к мысли, что ничего особенного в том, что Ансельми жил в семье Пьетро, не было. Будь он пороком тем задет, я бы заметил – ведь пребывал в достаточной близости к нему. Так что, если и ходили какие слухи, то распускали их языки мелкие и завистливые.
А Марко, вспомнив про ту историю, недолюбливая Ансельми и желая мне добра, переиначил и предложил сделать из неё вот такое оружие, полагая, что с ним я буду воин непобедимый. Таков был его совет: обратить услышанное против Ансельми. Или пригрозить. Потребовать оставить в покое Ноэль в обмен на молчание. Нравы Светлейшей Республики, что и говорить, были хорошо ему известны, а главное: он привык к такому и считал вполне допустимым любой поступок, повторюсь, любой, когда нужно постоять за себя. Право распорядиться услышанным он оставил за мной.
Я же, одиноко и бесхитростно прожив годы в деревне, понятия не имел, как смогу принять такой совет и им воспользоваться. Да, волею свыше я пришел в большой город, где каждый – сам по себе, и заступиться некому. Где-то повезет, но по большому счету отвоевываешь своё место сам. Или освободившееся место немедленно займет более ловкий, кто уж не погнушается никаким способом добиться своего. За время работы в Париже уяснил себе, но всегда наблюдал со стороны, а теперь, Господи помилуй, подошел мой черед: оказался в самой середине, и не просто в середине, а между теми двумя, кто близок сильнее прочих, хотя и отношение моё к каждому из них неодинаковое.
К чести своей напишу, что задумался о разговоре с Ансельми. Конечно, я понимал: Марко прав, и оставить без вмешательства, означало позволить происходившему развиваться не как мне видится, а по каким-то иным законам, мне неизвестным, а потому исход предсказать затруднительно. Будет ли в таком случае удача на моей стороне, уверенности не было.
Угрожать Ансельми я бы не стал – не в моём характере, с угрозами я смотрелся жалко, он бы рассмеялся в ответ. Оставалось разве что воззвать к его благоразумию, так наивно я понадеялся на остатки нашей былой привязанности, именуемой дружбой.
Но у судьбы намерения, какими благими не были, засчитываются, только если ведут они к действию, а у меня опять всё свелось к тому, что про себя без конца прокручивал одни и те же слова, надеясь, что лишние сами уйдут, а те, что останутся, и будут самыми правильными – с ними и пойду к Ансельми. Всё я задерживал наш разговор, а когда чувствовал его взгляд, отворачивался – наверно, силы копил, чтобы взглянуть ему в глаза – не знаю… Слишком затянул, в глубине надеясь: само как-то образуется. Непростительная медлительность, и судьба, в который раз устав от моей нерешительности и необходимости подталкивать меня в спину, предпочла обойтись на сей раз без моего содействия и расставить всех по местам, отведенным по нашим поступкам. А намерения по её великодушию остались при нас нетронутыми.
К несчастью, наш разговор с Марко был услышан. Самое же тягостное в случившемся, что Марко совет стоил жизни…
*****
13
Топот ног раздался с лестницы, кто-то громко позвал Антонио. Я проснулся от этого отчаянного крика, резко подскочил, решив, что проспал и, пока валяюсь на постели, другие выходят, чтобы отправиться в мастерскую. Но за окном стояла темень непроглядная, и, кроме этого голоса, снова пронзительно звавшего Антонио, других слышно не было. Я как-то вдруг понял, что не о работе этот крик, и что-то стряслось, наверно, лучше бы одеться поскорее и выйти в коридор, где уже хлопнула одна дверь, за ней – вторая, послышался приглушенный возглас – кто-то переговаривался с соседом, но я продолжал лежать, прижимаясь к постели, ибо чувствовал: случилось что-то совсем недоброе, и хоть на мгновение задержать, отдалить бы это от себя.
Гул переместился выше, туда, где жили мастера, но потом снова покатился по лестнице, несколько человек, Антонио среди них, я слышал его голос, сошли вниз. Тут я не сдержался и, натянув рубаху, осторожно высунулся в дверь. Я стоял в дверях, когда по лестнице начали подниматься, сначала показалось, что два человека несут какой-то бесформенный мешок, но из-за спины впереди шедшего взметнулись безвольные, как тряпочные, руки, и я похолодел, потому что догадался: несут они Марко. Я бросился было к нему, но меня оттеснили, пока его втаскивали по лестнице, я лишь заметил запрокинутое, с каким-то синеватым отливом лицо, мне показалось: он совсем не дышит. Изо всех сил я стиснул рот рукой, чтобы не закричать, а когда все ушли в сторону комнаты Марко, на лестнице увидел Пьетро.
– Что случилось, Пьетро? Что с Марко?
Пьетро, останавливаясь на каждом шагу, медленно поднимался по ступенькам. Я так стремительно подскочил к нему, что он придержал меня рукой.
– Венцо спустился вниз за водой и нашел его там в беспамятстве, – глухо отвечал он.
– А что с ним случилось? Он упал, разбился? – с отчаянием выспрашивал я.
– Не похоже на то… Крови нет, так, царапины. Но горит весь, как в огне.
Утром лекарь, спешно присланный мессиром Дюнуае, осмотрел внезапно занемогшего, но ограничился тем, что сделал кровопускание, чтобы часть воспаленной крови вышла из тела, и больному стало легче дышать – важно пояснил своё назначение и прописал натирать тело какой-то мазью, чтобы оттягивало жар.
Всё утро, пока меня не прогнали в мастерскую, я стоял возле двери в комнату Марко. К нему не пускали, но даже через дверь слышалось его хриплое стонущее дыхание после того, как пустили кровь. Когда же дверь отворилась, и мимо пронесли окровавленную простыню, сам едва не лишился чувств. Но лечение не подействовало, сознание к Марко так и не вернулось, и к вечеру того дня он умер от удушья.
Болезнь его была настолько скоротечной, а смерть – внезапной, что невольно напомнила о смерти Дандоло, и как только я воскресил в памяти подробности, ужаснулся: за день до смерти Марко, как и Дандоло, страдал от жажды непереносимой. В мастерской он без конца зачерпывал воду и пил длинными мучительными глотками. Временами он давился и тяжело откашливался, а когда я спросил, что с ним, он сказал: тошнота подступает и горло сжимается, словно на него надевают обруч железный. Когда мы возвращались в жилище, он опирался на мою руку – такая находила слабость.
Последний с ним разговор я вёл об Ансельми, ибо в мастерской поползли слухи. Тот, кто их передавал, не ограничился тем, что случайно подслушал, а может, каждый, кто рассказывал на ухо соседу, считал должным вставить словечко-другое, и в конце слухи раздулись Бог знает в какую историю. То, что сказал мне Марко, казалось довольно невинным из того, до чего другие додумывались. Будь у Ансельми хоть половина, о чем шушукались по углам, я бы поостерегся иметь с ним дело. Так что можете представить, на какие небылицы походило, в истории той даже мне нашлось место: поговаривали, вроде, он нарочно поселил меня в свою комнату, чтобы дождаться подходящего случая и лишить ещё одну душу невинности, только на сей раз задумка его не удалась.
Случилось это не за один день, по меньшей мере, на разговоры ушла неделя. А поскольку я так и продолжал исподтишка присматривать за Ансельми в зеркало, всю ту неделю недоуменно наблюдал, как его отражение в зеркале меняется. Я-то поначалу оставался в неведении, как всё закружилось, только видел его сильно растерянным, видимо, какие-то отголоски до него доходили, а потом лицо его мрачнело с каждым разом больше и больше.
Но это полбеды, думаю, он бы мирился с тем, как про него заговорили, в конце концов, поведением в Париже он не давал сколь-нибудь значительного повода усомниться в своих наклонностях, а стало быть, и пересудам о прошлом рано или поздно пришел бы конец. Но пошли разговоры, что до прихода в Париж он не имел к стекольному делу отношения, и это был самый болезненный удар, который получило его самолюбие. Он-то считал, что помощь Пьетро вполне может сойти за работу в мастерской, за то время он выучился кое-чему, потом ещё про себя что-то додумал, а вся эта правда наполовину с выдумкой разбилась в одночасье. Но и это не всё. Его самого поставили под сомнение. Теперь в глазах тех, с кем он трудился, не считая Пьетро и Антонио – им-то было известно больше, он был чужаком, неизвестно откуда взявшимся, вроде и не их сословия. Расспросы Марко и слухи, за ними расползавшиеся, сделали своё дело, теперь итальянцы вообще не понимали, кто он такой, как пришел в мастерскую, и смотрели подозрительно, расположение к нему совсем утратилось.
Я понимаю их тревогу: возможно, в другом положении им это было безразлично, но тогда, в особенности после смерти Дандоло, они с большим недоверием относились ко всему, что выходило за пределы их твердой уверенности или отчетливого понимания. Любой казался им опасен, если не мог доказать свою надежность. Дошло до того, что кто-то потребовал от Антонио объяснений – дескать, как этот парень мог оказаться среди них, зачем его привели в Париж и почему скрывали правду.
Какой между ними шел разговор – точно не скажу, не знаю, но Ансельми, прознав про то, наверное, от Пьетро, впал в бешенство. Ни с кем он в разговоры не вступал, замкнулся совершенно, но я чувствовал силу его напряжения, как оно раскручивалось внутри него – немалым трудом он себя сдерживал. Разговоры и подозрения послужили ему напоминанием о прошлой жизни, и все его переживания от перенесенных несчастий поднимались теперь из глубины, где он хранил их тщательно. Я и его понимал не меньше, ибо сам временами переживал подобное, но разница между нами снова показалась явной: был он не из тех, кто, переждав бурю, с обретенной надеждой стремится продолжить свой путь. В том, что случилось, он увидел обиду для себя, и мучила она его безостановочно, а рассуждать, подобно мне – намеренно нанесена или дело случая – было не в его натуре. И потому напряжение его не иссякало, не мог он от него избавиться, и жаждало оно не простого выхода, но наказания для обидчика. Никогда он с таким не смирится, – понял я, когда, наконец, слухи и до меня дошли, – такого никому не простит.
Он решил сначала, что виной тому Пьетро. Собственно, я и узнал-то, когда Пьетро пришел ко мне в жилище и угрюмо, хотя и беззлобно спросил, передал ли я кому, что он рассказывал. Я выслушал его и ответил отрицательно, и ведь это было правдой! Пьетро смотрел недоверчиво, но что ещё я мог добавить… Ничего им не оставалось, как верить мне на слово, и меня оставили в покое, больше не расспрашивали. А сказал ли потом кто Ансельми, что источником послужил злополучный разговор с Марко или вопроса от Марко ему и так хватило, чтобы перенести на него всю обиду безоговорочно, думаю, уже не столь важно…
*****
14
Когда вспоминаю о Марко, неизменно просыпается моя вина: мучительно сознавать, что я оказался той силой, втянувшей Марко в эту историю. Сейчас почти уверился: будь я с самого первого разговора осмотрительней, ничего бы с ним не случилось, и невредимым он оставался бы в мастерской. А заводить беседу о порядках Венеции вообще-то не стоило, с неё шаг за шагом мы двигались к его гибели. Но когда так думаю, бесплотный голос вторит моим мыслям, что силы неведомые ведут нас в земном пути, где мы лишь гости, хотя и считаем себя хозяевами.
В последний наш разговор я сказал, что бесполезным будет так говорить с Ансельми, раз многое открылось, и слишком он обозлен, как справиться с этим – непонятно. Он же ответил, что позапрошлым вечером Ансельми приходил к нему.
– Упрекал тебя?
– Упрекал? – Марко рассеянно смотрел мутными глазами. – Да, пожалуй, что нет.
– Тогда зачем явился?
– Я сам не понял… Все эти дни он какой-то странный.
– Он зол на твой вопрос, Марко, потому странный, – сердито проговорил я.
– Я столкнулся с ним, когда к себе заходил, он как-то на моём пороге оказался и замялся сразу. А потом говорит, не одолжу ли ему свечу, его запас кончился, а идти в лавку поздно.
– У тебя одолжил? Других не хватало?
– Я тоже подумал, что это предлог. Маялся он, а потом ушел. Поговорить о чем-то хотел – я так чувствовал.
– Но ничего не спрашивал?
Марко задумался.
– Нет, спросил что-то…
Болезненно морщась, он то и дело судорожно сглатывал.
– Спросил, у кого в мастерской я работал, – с трудом припомнил. – Думаю, он выяснить хотел, что мне известно.
Я поддерживал его, ощущая, как Марко содрогается в ознобе.
– Дьявол, земля из-под ног уходит, – Марко слабо простонал.
– Давно это на тебя нашло?
– Сегодня утром, когда в мастерскую собирался, как-то не по себе стало. А потом жажда напала, знаешь, прямо, кажется, никогда не напьюсь, – пожаловался он. – Отлежаться надо.
В жилище я довел его в комнату и вернулся к себе. А ночью проснулся от крика…
Смерть его опустошила меня, принесла какое-то равнодушие ко всему. Ночью я засыпал, но утром поднимался, как без сна провел, и еда утратила вкус, вызывала одно отвращение. В мастерской мог подолгу сидеть без движения, только когда раздражение против меня становилось заметным и грозило неприятностями, вяло принимался за работу. Всё чаще я слышал гневные окрики от мастеров, но меня спасало то, что другие также были подавлены, ошеломлены, растеряны – словами не передать. Однако, и на том несчастья не закончились, казалось, им никогда не найдется предела, так и будут тянуться одно за другим…
Спасение моё от подавленности видел в Ноэль и через несколько дней, когда стало чуть поспокойнее, встретился с ней. Она уже знала о случившемся, а я уже не сомневался, кто мог ей передать. Мне она показалась задумчивой, и я приписал это расстройству, вызванному смертью Марко, хотя теперь понимаю: думала она не о Марко и больше не обо мне. Другое занимало её. Отношения наши видимо оставались вполне добросердечными, только былой оживленности и интереса ко мне она не высказывала. И скорее по заведенной привычке, чем от своего желания, она стояла возле меня – коль скоро мы увиделись – и возвращалась со мной из аббатства.
– С тобой всё хорошо, Ноэль? – спросил я, когда, понурив голову, она шла рядом.
– Да, – односложно отвечала она. – Всё хорошо.
– И дома в порядке? – допытывался, видя её отрешенность. – Матушка здорова?
– Да, – повторила она, не глядя.
В какое-то мгновение я не выдержал такого общения.
– Может, ты не хочешь больше разговаривать со мной? – спросил со сквозившим отчаянием. – Не хочешь видеть? Скажи, зачем скрывать.
– Не говори так, – попросила она и впервые за ту встречу посмотрела в мои глаза. Взгляд её был очень нежным и одновременно каким-то исчезающим, – трудно объяснить, как я это увидел, словно весенний снег превратился в ручеек и ускользнул. Ноэль, Ноэль…
– Ну, а как говорить? – допытывался. – Ты как неживая – что с тобой?
Она помолчала, а потом негромко произнесла:
– Я отвечу тебе, только не сегодня, ладно? Не спрашивай меня сейчас.
– А когда же?
Она опять молчала.
– Через несколько дней…
– Что изменится за несколько дней? – удивился я.
– Ничего не изменится, – лицо её смягчилось. – Но я буду знать наверняка.
И я понял её ответ, всегда понимал, о чем она на самом деле думает, даже несколько слов становились такими простыми и ясными, как если бы она старательно объясняла часами.
Когда-то с надрывом думал: всё-таки он сумел перетянуть её на свою сторону. А становясь взрослее, осознал: никогда она и не была на моей стороне, в смысле, понятном любому мужчине. Такой ответ она могла дать тому, кого считала человеком близким, почти родным, но был тот как младший брат, и всегда она смотрела на меня такими глазами. Её трогательность, нежность, все чувства она обращала ко мне, но так могли бы они распространиться на младшего, хотя достойного заботы и внимания.
От неопытности я тогда мало что разбирал, думал: раз встречается со мной, значит, стремится ко мне. Не подозревал, что не воспринимает она привязанность всерьез и мужчину во мне не видит. Потому и ревность моя показалась ей непонятной, выглядело всё, как младший брат докучает сестре, когда та подросла и другим отдает внимание, он-то привык, что, как в детстве, всё без остатка принадлежит ему.
А в нём сила мужская проступает с каждым днем заметнее и движется к ней. Внимание его, как спасение от опостылевшей жизни – как тут устоять? Чуть больше года минуло с той поры, когда сам находился в похожем томлении, ежечасно мечтая с ним свидеться. Не знаю, вынашивала ли она мысли, что он тот, кто поможет ей начать жить по-новому, но, должно быть, так, какие ещё объяснения… И что я мог противопоставить?
Правда то, что никогда не задумывался, как повернуться к женщине своей мужской стороной, полагал, она и так им явная, раз дана мне природой. И привлечь, убедить не пытался, следовал всему бессильно и послушно. Но в те дни дух мой взбунтовался, смириться с услышанным не пожелал. Злость во мне проснулась, и, хотя ни слова я Ноэль не ответил, с напряжением размышлял: есть ли способ исправить сложившееся. Слова, однажды во сне произнесенные, всплыли в моей голове и неожиданно пролили надежду, а может не поздно, и я в силах изменить? И судьба не откажет мне в последней милости?
Но своим бездействием немногое я накопил, из чего выбирать. Выходом оставались только два пути: разговор с Ноэль или разговор с Ансельми. Оба пути страшили меня, вызывали они во мне тревогу немалую, что к приятностям не приведут. Третьего же не нашлось, если через несколько дней Ноэль собиралась о чем-то известить, я бледнел от мысли, что слова её могут принести.
*****
15
Всё-таки я решился на разговор с Ансельми. Время подобралось совсем неподходящее, наполненное отчаянием, страхом и подозрениями, но на лучшее надеяться не приходилось. Отправился к нему поздним вечером, по моим ожиданиям, он должен быть в жилище. Дверь его комнаты, когда подошел, оказалась наполовину приоткрыта, но, прежде чем войти, я позвал его из коридора. В ответ – ничего, кроме молчания. Может, он и со мной не желает больше разговаривать, – подумалось мне, и, собравшись с духом, заглянул.
Комната пуста, в том виде, что его там не было, а вещей в ней находилось достаточно, и беспорядок сразу бросался в глаза. Сундучок, в который он обычно вещи складывал, был выдвинут на самую середину, крышка его откинута. Вещи частью выложены на постель, кое-что брошено на пол, словно он перебирал их в поисках потерянного. Не вполне понимая, что происходит, я зашел, огляделся, и взгляд мой задержался на сундучке, оказавшемся у ног. Был он почти пуст, только на самом дне я рассмотрел что-то аккуратно завернутое.
Наверно, лукавый потянул – не могу сейчас объяснить иначе, как такое случилось, что не мог я отвести глаз, и незатейливый сверток привлек настолько, что, не удержавшись, опустился на пол, вытянул и разворошил его. Из свертка того выпали две свечи. Вроде, самые обычные, каждый из нас покупал такие свечи в лавке поблизости, я держал их, не понимая, чем они смогли вызвать мой интерес, а за ним – и сомнения, но всё же в них было что-то необычное… А необычно то – стремительно пронеслось в голове – что при мне Ансельми никогда не хранил свечи в сундучке, не имел такой привычки – всегда они лежали у его постели. Он не выносил темноты, если не спал, свечи не гасил и старался держать их в любое время под рукой. Машинально я перевел взгляд к его изголовью и увидел несколько свечей, уложенных в ряд… И только те, что в моей руке, были отделены и так тщательно завернуты.
Но я не успел обдумать увиденное: за спиной с силой хлопнула дверь. Быстро оглянувшись, я увидел его позади стоящим. Он сделал шаг и теперь смотрел на меня странно, иного слова не найти, будто я ему незнаком, он впервые меня видит. Но думаю, взглядом я ему ответил не менее диким после того, что увидел, а потом и услышал от него.
– Того, что ты ищешь, давно уже нет, – раздельно произнес он.
– Ты знаешь, что я ищу?
– Догадываюсь.
Я оторопел от неожиданности, и она оказалась не последней.
– Зачем ты отдал зеркало Ноэль? – спросил он, так просто, будто я просидел у него весь вечер, и мы только о ней и говорили.
Я положил сверток на место и поднялся, теперь говорить небрежно свысока стало бы ему затруднительно.
– Значит, это правда? – ответил невпопад, подумав о своих разговорах с Марко.
– Что – правда? – не понял он.
Но я не стал объяснять. К чему слова? Хотя у меня к нему вопросы тоже имелись.
– Зачем ты отвлекал меня своими вымышленными историями о душах зеркал? – начал я.
– Неправда! – вдруг заорал он так, словно я коснулся самой болезненной его частицы. – Я доверил тебе, во что сам верил. И до сих пор верю!
Он весь затрясся.
– Ты ничего не понял из того, что я говорил! Ничего! Ничего!!!
В каком-то неистовом порыве он развернулся и бросился к окну, мне показалось: того и гляди выскочит наружу. Я подался вперед, чтобы удержать, но нет: Ансельми остановился, вцепился в обрамление, до меня долетало его прерывистое дыхание. Я стоял, как речи лишился.
Наконец, он заговорил.
– Завтра я уйду из мастерской. Навсегда, – выдавил, с трудом разжимая губы.
– Куда? – оторопел я ещё больше.
– Мои дела тебя не касаются. Не собираюсь с тобой обсуждать. Завтра ухожу.
Он растер лоб, словно боль мучила его.
– Но и ты здесь не останешься. Завтра ты уйдешь тоже.
Я замер.
– С тобой?
– Зачем? – раздраженно бросил он. – Уйдешь сам.
– Куда? – снова вырвалось у меня. Больше всего в те мгновения мы походили на безумных.
– Не моё дело. Куда хочешь. Ты должен уйти. Здесь не останешься.
– Вот как, – я даже как-то успокоился. – Почему я должен слушать тебя?
– Ты всегда меня слушал, – немного тише проговорил он. – Не знаю, почему, ты сам так решил.
– А если теперь откажусь?
– Не сможешь. У тебя нет иного выхода.
– Это… угроза?
– Думай, что хочешь. Завтра ты должен уйти, – повторил он. – Меня здесь не будет, но и тебя тоже.
После того восстановилась тишина. Не отрываясь, я смотрел на сверток под ногами, и мой взгляд был хорошо ему заметен. Не я ему угрожал, а он мне, и слова его были нешуточными… О чем я хотел говорить с ним, когда пришел? Мысли окончательно спутались. Мой приход в мастерскую, Ноэль, Дандоло, Марко… Или уход, который он нам назначил? Что хотел узнать? Я поднял глаза.
– Зачем ты всё это затеял?
Он внимательно и жестко смотрел на меня, явно стараясь заставить опустить голову. Но я выдержал его взгляд, последний взгляд, последний миг… Так мы расстались, глядя в глаза друг другу. Последнее, что остается в памяти казненного – эти безликие глаза палача, наведенные на него сквозь прорези.
– Убирайся, – со злобой пробормотал он.
Более не находя слов, я попятился, но в дверях задержался: вопрос, который у меня к тому времени сложился, требовал его ответа.
– Это ты оставлял письма в жилище?
Ничего не дождавшись, я вышел. Когда же вернулся в свою комнату, как в далекой истории с Пикаром, показалось, что всё в тот вечер происходило не со мной. Кто-то другой завтра, может, и выйдет из дома, и отправится, куда глаза глядят, я же не представлял, что смогу такое проделать. С чего вдруг он этого от меня добивается? Нет, я спокойно приду в мастерскую, буду как всегда терпеливо дожидаться, когда понадобится моя помощь. И день будет самым обычным. Или нет, завтра пойдет иначе. К началу делания все соберутся в мастерской, все, кто в ней трудился. Даже Марко и Дандоло, увижусь с ними. И Ансельми, конечно. Меня слегка знобило, руки не слушались, пока с трудом раздевался. Вот такой будет день, а вечером, когда останусь один, примусь разбирать знакомые до последней царапины инструменты, не меньше, чем в сотый раз раскладывать их по ящикам. Почему я должен отказаться от этого? Пальцы мои немели, будто прикасались к холодной поверхности.
Среди ночи проснулся, словно кто-то ударил с размаху. В груди нестерпимо давило, от боли не мог распрямиться и дышал сбивчиво. Такой болезни не был подвержен раньше, и потому страшно сделалось, как никогда в жизни, я подумал: Ансельми, подозревая, что всё-таки могу его ослушаться, привел угрозу в исполнение. Словам о моём уходе он придал особый смысл, тогда в ближайший день я действительно встречу Дандоло и Марко. Передо мной на столике, который он так и не забрал, слабо виднелась погашенная перед сном свеча, от одного её вида ноги бились крупной дрожью, и пот обильно стекал по спине, пропитывая тюфяк, словно я в лужу улегся. Я боялся, что не доживу до рассвета.
Но время бежало, и постепенно кое-как успокоился, жестокий страх проходил, и боль поутихла, оставляя знобящую испарину. Мне стало легче, когда в голове спасительно мелькнуло имя отца Бернара.
*****
16
Рассвет застал меня стоящим у окна. Прислушиваясь к доносившимся голосам, я ждал, пока все разойдутся из жилища. Наконец, гудение внизу стихло, и я решил, что моё время выходить: если и не все ушли, во всяком случае, немногие остались. Но на пути в комнату Ансельми никто не встретился, когда я шел к нему, разговаривать более не собирался, хотел только удостовериться, не изменил ли он своего решения.
Я едва успел коснуться двери, более ничем не сдерживаемая, она легко открылась передо мной, и изнуренный бессонной ночью, я не удержался от внезапных слез. На сей раз он не вышел, а ушел. Сундучка Ансельми не было. И другие вещи исчезли со своих мест. Как в один день из жилища исчезали вещи Дандоло, Марко… Теперь его, кто мог представить, что дойдет до такого? Вне себя от его ухода, в какое-то мгновение я был почти готов пуститься на розыски, и так отчаянно возжелал, чтобы мы вернулись к самому началу и прошли всё заново, но по-другому, ничем не омрачая, словно моих подозрений о его виновности в двух умышленных преступлениях как ни бывало. Такой странный необъяснимый порыв нашел на меня, и ещё какое-то время я стоял на пороге, глотая слезы, и были со мной необдуманные, невыполнимые желания, – я сам понимал.
Вскоре украдкой вышел из жилища, но в аббатство явился ближе к обеду, зная, что в середине дня отец Бернар обычно имеет свободный час и переговорить с ним будет проще. А как они искали недостающих работников, поскольку в мастерскую я так и не зашел, – про то мне не известно. Меня же моё отсутствие не смущало, наверно, предугадывал, что обратной дороги туда не будет.
Отец Бернар встретил любезно и, одновременно, настороженно. Этому вполне имелось объяснение, думаю, с некоторых пор он так относился к большинству обитателей стекольной мастерской, коль ни одна из других мастерских улицы Рейн, как и всего ремесленного предместья, по прошедшим событиям не могла сравниться с нашей. После всего пережитого намерения прятаться как-то утратились, было в том уже не много смысла. Потому мы оставались в церкви, только перешли дальше от входа, где наше уединение никем не нарушалось, и я сказал, что сильно нуждаюсь в его совете, но рассказ мой – не исповедь, хотя в нём я ничего не утаю. И после того, как изложено полностью, надеюсь, что использовано будет во благо и дальнейшее в его руках. Никакого удивления он не высказал, на все мои слова согласно кивнул. Но по мере моего рассказа настороженность его сменялась угрюмостью, опустив глаза, он сдержанно меня выслушивал.
Свой рассказ я начал с того вечера, когда Ансельми поведал мне о появлении посланцев в Париже, и далее следовал порядку событий, закончив тем, что увидел утром того дня. Временами, признаюсь, не выдерживал, и слезы набегали на мои глаза. Он же во время рассказа ни разу не переспросил меня, ни разу не остановил, и в конце я почувствовал, что в моём рассказе для отца Бернара есть новости, однако известно ему куда больше.
Когда я закончил, он находился в тяжелой задумчивости, потом неожиданно произнес:
– Это Ла Мотта, Корнелиус.
– Что – Ла Мотта? – сразу не разобрал.
– Ты слышал его шаги на лестнице.
– Ла Мотта? – поразился я. Определенно, отцу Бернару было известно всё о мастерской. – Но куда он ходил?
– Вероятно, на встречу с теми, кто следил за мастерской, – пояснил отец Бернар.
– Посланцами Республики?
Но он ответил отрицательно.
– За мастерской следили не только посланцы, но и слуги короля.
– Зачем? – растерялся я. – Это было нужно? Так принято?
– Каждый охраняет свои тайны, – он махнул рукой. – А про Ла Мотта давно подозревали, что в Париже он связан со шпионами мессира Кольбера.
– Но зачем им понадобился Ла Мотта, если есть Дюнуае? – ещё не веря, вопрошал я.
– Чем больше сведений, тем надежнее, сын мой. К тому же, Дюнуае с трудом управлялся с итальянцами, а Ла Мотта знал их лучше.
– А почему он уходил ночью?
– Не мог же он встречаться средь бела дня, как ты себе представляешь? В мастерской, за работой?
– Вечером…
– И вечером могли заметить. Будь ты на его месте, поступал бы с не меньшей осторожностью.
– А ночная стража? Какая осторожность? Она могла схватить его.
Он усмехнулся.
– Думаю, ему ничего не угрожало. Его встречали в условленном месте и отводили, куда следует. И под их покровительством он возвращался.
– А ключи? Откуда он взял ключи?
По лицу отца Бернара скользнуло недоумение.
– Они у него имелись с самого начала.
– Ключи были только у Антонио, – возразил я.
– Это не так, Ансельми, – вдруг сказал он.
Удивленный и обескураженный, я старался поймать его взгляд.
– Вы… Назвали меня Ансельми, отец Бернар.
Но он ускользнул от меня, как-то смешался, провел по лицу, словно хотел отбросить что-то, мне невидимое. Потом отвернулся и произнес одно короткое слово:
– Прости.
Стараясь убрать неловкость, он продолжал почти невозмутимо:
– Отчего ты решил, что свечи… особенные?
– Я просто подумал, отец Бернар. Раньше, когда собирались в жилище, часто вспоминали о Венеции, и многое услышал из разговоров, я ведь понимаю их язык. Они не очень церемонились с тем, кто, по их мнению, должен исчезнуть с этого света, – печально довершил я.
– Да, я тоже про такое слышал, – он вздохнул. – Когда мне довелось там побывать.
– Вы были в Венеции?
– Нет, Корнелиус, я не заходил так далеко, но я говорю об Италии. Из таких же историй я знаю, как они… хм… – он замялся. – Прибегают к некоторым средствам, чтобы избавиться от соперника или наказать провинившегося. Но они не исключение, думаешь, здесь не поступают также?
– Наверно, – равнодушно согласился я на его предположение, что и у нас кому-то по соседству ничего не стоит замыслить убийство. – Но что же мне теперь делать?
Ответ пришел не сразу, а услышав его, я всполошился.
– Тебе пока не надо возвращаться в жилище.
– Но ведь он ушел! – воскликнул я.
– Ты уверен в этом?
– Да, отец Бернар. Его вещи пропали из комнаты.
– И кто знает – может, на случай твоего возвращения кое-что припрятано. Ты так не думал?
Перед глазами вновь проплыла одинокая свеча, оставленная на столе… Я вздрогнул.
– Или задумает вернуться, – говорил он спокойно, будто не замечая моего испуга. – Встретит там, где ты не ждешь. Неужели не понимаешь: тот, кто допустил такой разговор, уже ни перед чем не остановится.
Каждое произнесенное слово ранило всё больнее, я совсем поник.
– Почему… Как вы думаете, почему он так поступил?
Отец Бернар смотрел пристально, и сострадание виделось в его глазах.
– Ты не ожидал от него? Не мог представить, что он способен?
– Никогда… А вы ожидали?
Тем утром у окна долгие часы я не мог думать ни о чем, кроме: как он смог решиться на такое деяние? Значит ли это, что вознаграждение было столь немалым, и он не устоял, но чем сумели соблазнить его, обнадежить? Обещаниями принять в цех по возвращении в Венецию? И это стоило двух жизней… А может, ему заплатили такими деньгами, от которых отказаться не сумел, слишком хорошо помнил, как страдал в голодное безденежное время там, где убогая нищета соседствует с безудержной роскошью, что делает нищету особенно заметной и унизительной. Возможно, последнее – самое верное. Я сказал о том отцу Бернару, он лишь пожал плечами.
– Твои это рассуждения, Корнелиус, а чего строить догадки впустую? Никогда наверняка не узнаешь, что творится в чужой душе, так уж лучше вернуться к тому, что случилось с нами.
Как в истории с письмом, не стремился он со мной обсуждать, не желал моего любопытства, но я с пониманием принял и решился довериться. Что мне ещё оставалось после смерти Марко?
– И куда же мне деваться, если не возвращаться в мастерскую? – робко спросил с надеждой, что сказанное не обернется против меня.
– Куда деваться? – он сцепил пальцы у подбородка. – Не гнать же тебя на улицу. Оставайся сегодня в больнице, завтра решим.
*****
17
Через пару дней отец Бернар сказал, что в городе Ансельми так и не нашли. Куда он делся – никто не знал, просто исчез, другим про свой уход не проронил ни слова, ни с кем не прощался. Я же подозревал: он ушел вместе с посланцами, не смог более оставаться, и ему позволили спокойно вернуться, ещё бы – он выполнил своё дело. Пьетро, потрясенный его исчезновением и тем, что, по слухам, за этим крылось, слег, и в мастерской сильно о том беспокоились.
Все новости, которые выкладывал отец Бернар, непривычно мне было слушать, будто слежу за ними со стороны и к произошедшему не имею никакого отношения.
– Вы говорили им про меня, отец Бернар? Что я у вас остался.
– Нет, сын мой, я не стал этого делать.
Выглядел он сильно озабоченным.
– Я подумал, что большим благом будет молчание, и сам я вправе решать, что есть большее благо. Но Господь указал на моё место, – говорил он неопределенно и словно извиняясь.
– О чем вы, отец Бернар?
– На твоём положении моё молчание сказалось неважно.
– Что? – переспросил я довольно безучастно.
– Теперь они думают, что вы убежали вместе. И ты с ним заодно.
Когда же отец Бернар сказал, что мне будет лучше на какое-то время покинуть Париж, я так возмутился, не хотел даже про то слышать. Нетерпеливо и горячо возражал на все его попытки убедить, так что в конце отец Бернар сам потерял терпение.
– Почему ты так противишься этому? – вскричал он.
И тогда я сказал: из-за Ноэль.
– Не смогу её оставить, – прошептал, не столько ему, сколько себе.
Он, разгоряченный моим несогласием, немного успокоился, но не отступил:
– Послушай, Корнелиус, ну, будь ты благоразумен, что ещё остается? Обратно в мастерскую тебе не вернуться, а в аббатстве каждый заметить может – всё равно, что дьявола искушать. К чему это приведет, мало нам несчастья?
Я понимал: правда – в его словах, но упрямился, тогда он прибегнул к последнему доводу:
– Что ты для неё можешь сделать, когда сам в таком положении? И потом… Я не отправляю тебя навечно, при первой возможности вернешься обратно.
Этим он меня убедил. А может, я позволил ему принять такое решение. Горько мне об этом думать, но раз случилось…
Оказалось, что через несколько дней в монастырь Клюни уходит брат Гийом, знакомый мне по больнице, и отец Бернар предложил нам отправиться вместе.
– Это ведь недалеко от того места, где ты родился? – полюбопытствовал он, показывая, как хорошо помнит про нескладного мальчишку, пришедшего в аббатство после побега с гвардейцем. – Разве не хочешь навестить родных?
Я хранил молчание под его внимательным взглядом.
Собирать в дорогу было нечего: после столь поспешного ухода из жилища у меня и одежды не осталось, кроме как на мне, и кое-что одолжили по доброте братья. Перед расставанием я зашел к отцу Бернару, он торопился на вечернюю литургию, потому наш разговор получился совсем кратким.
– Вы скажете Ноэль обо мне? – попросил его напоследок.
– Скажу, скажу, сын мой. Тебе не надо тревожиться, – он обнадеживающе тронул моё плечо. – Я же обещал: как всё устроится, пришлю известие, и ты сможешь вернуться.
Я уповал только на это. С Ноэль к тому дню не виделся больше недели и не находил покоя, что разлука протянется и далее, и завершение её не намечено.
– Когда это случится, как вы думаете? – спросил, неуверенно поглядывая.
Но он был далек от мыслей, меня изнурявших.
– Давай не будем гадать, Корнелиус. Всё в руках Божьих, положимся на его милость. Молись усердно, и Господь вернет на путь уготованный.
Я проводил его, в церковь не зашел, отправился в больницу, хотя терпеть не мог то место, но в те дни безвылазно скрывался в ней, опасаясь попасться работникам мастерских.
– Буду ждать нашей встречи, – сказал он напоследок.
– Я тоже, отец Бернар, – ответил почти неслышно.
В дорогу мы вышли затемно. Брат Гийом шел впереди, я – чуть поотстав. Снова я отправлялся в неведомый путь, вроде, и на этот раз неплохо сложилось: дан в помощь провожатый, а мог бы скитаться в одиночку, – думал про себя, – хуже намного. Но напрасно я хотел себя подбодрить, напрасно пытался настроить на скорейшее возвращение, не звучало больше в душе ни отзвука, ни отголоска от того, что ведет нас в земном пути и любую дорогу сделает более доступной. Надеялся на то, во что сам не верил, я как в глухую стену уперся, заступничества не ждал и, принужденный к новой дороге, уныло плелся за Гийомом. А такое вряд ли хорошим концом завершается.
Когда мы шли, ночь близилась к исходу, но рассвет ещё не проступал. В первый раз я оказался в Париже в столь темное время, и город повернулся совсем незнакомой стороной, иной, чем при свете. Безлюдный, хотя заметил смутную тень, распростертую возле сточного желоба, и было потянул Гийома за рукав, но тот отмахнулся, и, не переговариваясь, мы продолжали наш путь. Тихо было, а шаги наши будили добрых горожан, заставляли недовольно ворочаться в теплых постелях. И обитатели гнусных местечек не встретились, должно быть, отправились к тому времени на покой. Так и не увидел их ночную жизнь воочию, только кое-что слышал от Ансельми, он-то к ним захаживал – из-за любопытства или легкой радости искал. Там, небось, и встретили его эти посланцы – не к мастерской же они пришли с привратником разговор завести. Нет, кто-то указал на него, может, женщины те неразборчивые и продажные, преисподняя им давно уготована, за ломаную монету сдадут – не задумаются.
Когда же мы приблизились к самой восточной окраине города, перед нами открылась полоска розово тлеющего неба, впервые за многие дни обещая дать городу солнечные лучи. Мне не хотелось вспоминать об Ансельми, особенно начиная новый путь, на котором его более не было. Самым правильным тогда я считал поскорее избавиться от всего, что с ним связано, имея воспоминания и размышления о том, что толкнуло его на преступление, и как теперь ему живется с тем, что он сотворил. В свой последний день в аббатстве Сент-Антуан, стоя в молитве, пообещал себе больше о нём не помнить, выбросить из головы, но, едва с колен поднялся, как он снова явился моим глазам, и так я видел его много раз на дню долгие-долгие годы…
*****
18
Описывать наше путешествие не стану, листы мои – не о нём, добавлю лишь, что проведя почти два месяца в пути, мы более-менее благополучно добрались до Клюни. В сущности, Гийом оказался неплохим малым и кое-как скрасил моё состояние: мне дорога далась с великим трудом, как с ней справился – сам не понимаю. Подчас места не находил, так изводился, что глаз не смыкал, глотка не мог сделать, и несколько раз из-за моего недомогания нам приходилось задерживаться. Даже Гийом, несмотря на извечное своё отупление, однажды спросил, что это на меня находит, и не теряю ли я постепенно рассудок.
В Клюни он передал отцу-настоятелю письмо из Сент-Антуана, с вниманием оно было прочитано, и я получил келью для проживания с тем условием, что буду работать по хозяйству, на скотном дворе, и ещё множество мелких поручений мне вменялось. Моё положение всегда было незавидным – ведь я не монах – и на сей случай никакие уговоры не подвигали. Пойти под покровительство святого Бенедикта никогда не соглашался, чем, конечно, злил настоятелей – за время моего пребывания в обители они менялись трижды. И всегда я оставался прислужником, да и на такую уступку пошли только из уважения к прошению из Сент-Антуана.
Брат Гийом так и остался единственно близким мне по прошлой жизни, с другими я как-то не сблизился, они меня сторонились, ну, и я особо не искал их внимания, чужим был среди них. Но Гийом не жил в Клюни постоянно, а раз-другой в год на долгие месяцы уходил – как он объяснял – в паломничество, и часто путь его пролегал через Париж.
Думаю, вы давно поняли: прожил я в монастыре не месяц, и не два, а гораздо дольше, и бежать оттуда не пытался. Об Ансельми и Ноэль я вспоминал, не переставая, но ничего не приносили эти мысли, кроме безысходности и боли, а в дорогу они уже не тянули. Потому всякий раз я покорно ждал возвращения Гийома: вдруг он принесет известие, от которого дух мой взыграет немедленно. Надеялся на несбыточное, будто что-то нашептывало мне: чтобы получать такие известия, потрудиться следует больше моего. Но когда Гийом появлялся в аббатстве, я неизменно шел к нему с вопросом: видел ли он отца Бернара и спрашивал ли тот обо мне. На это он бурчал что-нибудь утвердительное или односложно отвечал: да.
– Просил ли он передать мне что-то на словах?
Гийом лишь качал головой. Никаких известий не приходило. Значит, так нужно, собираясь с силами, думал я – он помнит про меня и лучше знает, как поступить, причин не доверять отцу Бернару у меня не было.
Но однажды не вытерпел и, видя, как Гийом собирается в дорогу, попросил:
– Когда увидишь отца Бернара, скажи ему имя Ноэль, просто скажи: Ноэль – он поймет.
– Что за Ноэль? – тупо уставился он на меня.
– Избавь меня от своих вопросов! Прибереги их для кого-нибудь другого! – не сдержавшись, выкрикнул я. – Скажи имя – и всё. И принеси ответ. Большего не требуется!
Он что-то суетливо забормотал. Я уж был не рад тому, что затеял. Ничего он не узнает, всё перепутает.
В тот раз, как нарочно, он задержался – я уж счет дням потерял, на такое их число моего умения считать не хватило. Когда же он, наконец, объявился, то был явно доволен, уверенный, что справился с моим поручением. Из своего дорожного мешка он вытащил свернутый лист и принялся говорить, как отец Бернар наказал прочитать только мне и слово в слово. Он ещё бы рассказывал, но я слушать не стал, заторопил его.
– Мне горько отвечать на твой вопрос, Корнелиус, – слегка запинаясь, Гийом читал монотонно, безо всякого выражения, словно речь велась о покупке дешевой утвари для хозяйства. – Признаюсь, я долго размышлял, дать тебе знать или лучше оставить в неведении. Но, в конце концов, принял решение сообщить, как мы говорили однажды, не мне судить, что есть большее благо – всё в руках Господа, сын мой, он ведет нас в пути от рождения до самой смерти, я лишь покорный исполнитель воли его. И если ты задал вопрос, ответ для тебя существует и придет к тебе, так или иначе. Поэтому с прискорбием сообщаю: Ноэль давно нет на этом свете, она скончалась через три месяца после твоего ухода. Хоронили не у нас, я был лишен возможности утешить её мать, и слухи о смерти Ноэль дошли до меня позже её кончины. Говорили: умерла она в горячке, но истинной причины никто не знал. И только совсем недавно открылось дело некой знахарки, судили которую за то, что распространяла она зелья всякие. В ходе дознания называла она имена тех, кто приходил к ней по невежеству, и в их числе с удивлением и болью я услышал имя Ноэль. Я сам задал вопрос: когда и за каким снадобьем обращалась сия девица. Знахарка ответила: чтобы избавиться от младенца в утробе, и, подсчитав, я установил, что было это примерно за две недели до кончины. Знахарку за столь гнусные деяния приговорили к смерти, но разве может приговор, пусть суровый и соразмерный вине, служить утешением и облегчить страдания тех, чьи близкие по умыслу – не создателя нашего, а человеческому – лишились жизни? Знаю, известие отзовется скорбью в твоей душе, но молись, сын мой, и я молюсь еженощно за покой и прощение для Луизы Мари Ноэль Вийон, таково её подлинное имя. О матери Ноэль мне ничего не известно. Отец Бернар.
Гийом, закончив читать, неторопливо свернул послание и смотрел на меня безучастно. Хотя нет, теперь я припоминаю, он что-то спросил. Вроде, кем мне приходится эта Ноэль.
– Кем приходится, – повторил я.
Кем приходится… Кем приходится… Слова застучали в голове, словно дробь адского барабана, всё громче и громче, пока силой своей не вызвали нестерпимую боль, пришедшую в каждую частицу моего тела. Мне хотелось броситься наземь, биться о холодный пол, кричать от обиды и боли, звать на помощь – что угодно, только бы как можно быстрее сбросить с себя, не дать задержаться, иначе она поднимется к самому горлу, сожмет и просто задушит. Но вместо этого, кажется, я ответил Гийому. Внешне я был очень спокоен. Только побледнел немного – так он мне сказал.
Я попросил отдать мне письмо. Он удивился тому больше, чем известию в самом письме. Зачем оно тебе, ты же не умеешь читать, но отдал, когда я, стиснув зубы, повторил просьбу и протянул руку.
Я хранил письмо довольно долго, десяток лет точно. Время от времени вынимал и заглядывал в него, как когда-то смотрелся в зеркало, и потом всюду мерещились слова, прочитанные Гийомом: молись, сын мой, и я молюсь еженощно… Повторял их, глядя на листок, пока однажды он не рассыпался от ветхости прямо в руках. Но даже после, какое-то время я хранил обрывки, а когда они совсем превратились в пыль, не выбросил, нет – я закопал остатки, похоронил.
*****
19
Годы опять текли, уходили, как вода сквозь пальцы. Ничего в моей жизни не происходило, припомнить и сказать не о чем, даже о детстве я рассказал здесь куда больше.
Однажды Гийом долго отсутствовал, я почти попрощался с ним, думая: он не вернется больше, но он пришел и принес известие, что отец Бернар умер… Так оборвалась последняя нить, связывающая меня с прошлым, и ничего не осталось, кроме того, что помнил. Воспоминания, воспоминания, которые со временем стали казаться мне просто вымыслом. Да, можете представить, я стал сомневаться: жил ли Париже, есть ли в нём улица Рейн и мастерская на этой самой улице. Всё казалось небытием. И я сам небытие.
Тянулось это долго, очень долго. Я не роптал, не перечил, дух мой не бунтовал. Я смирился, как и прежде покорно мирился со многим в своей жизни. Каждый день выполнял всю ту же простую работу, почти не задумываясь, что делаю. А почему изменилось? Мне неведомо. Но одним утром, хотя было оно весенним, но самым обычным и непримечательным, я проснулся, с трудом спустил ноги с постели, ощущая, как плохо сгибается и ноет тело. Сидел, скорчившись от боли, и, казалось, чувствовал каждую морщинку, все они, до последней, порождены стремительно пролетевшими событиями и долгой памятью о них. И вдруг понял, что хочу иметь хоть какое-то подтверждение тех остатков в памяти, чудом сохранившихся. Хочу убедиться, что была у меня другая жизнь.
Постанывая, сполз с постели и подошел к окну. Теплый ветерок, залетая, шевелил мои сильно поредевшие волосы. И тут я услышал в себе тот слабый отзвук, еле приметно он ожил в моей душе. Что-то звало меня, подобное тому, как уже вело однажды по дороге в Париж… Не веря самому себе, я стоял, боясь шелохнуться и вспугнуть его, но он не исчезал, только слаб был очень, едва различим.
На следующий день он повторился, я даже не знал, что и думать, а от него уже не было избавления. Напоминал о себе всё чаще и решительнее, не оставлял в покое, теребил день за днем, пока я не сдался, а он не добился своего. И через год с лишним он притянул меня к тому самому месту, на той улице Рейн, где почти полвека назад я стоял в ожидании, себя не помня от радости…
*****
20
Моё преступление не раскрылось, по крайней мере, поводов для сомнения в этом никогда не получал. Ни разу я в нём не признался, хотя проносились мгновения, когда казалось, готов был – вот-вот заговорю. Но каждый раз что-то останавливало, словно кто-то свыше давал знак, вовремя одергивал, и я продолжал хранить молчание. А тот, кто прерывал меня, знал, что раскаяние в содеянном я пережил, пронес через себя, и признавал моё раскаяние достойным, коль за Пикара меня не судили, другим человеком наказание мне не назначено.
И всё же наказание я получил: чем ещё считать мои десятки лет, прожитые в тоске и забвении в монастыре, но, думаю, и так понятно, за что дано. Я не смог удержаться на том пути, не смог воспользоваться многим из того, что мне давалось, и судьба лишила меня своей милости…
А сквозь годы, вспоминая об Ансельми, мог бы сказать… Моим глазам он всегда предстает в том возрасте, в котором мы с ним когда-то расстались, и мне трудно представить, что оставили годы на его лице. Не скрою, временами я задавался вопросом: вспоминает ли он обо мне, ведь моё участие в его судьбе малым не назовешь, и хорошим оно не закончилось. И тогда мне кажется, что, если в мыслях я вижу Ансельми, это его воспоминания находят меня и связываются с моими. А тот, кто теперь пребывает в уверенности, что напоследок на этих листах я метну в него стрелы отравленные и напишу о своих проклятиях, ошибается: ничего из этого я не сделаю, ничего похожего в душе своей не сохранил. А скажу лишь, что надеюсь: дожил он до моих лет, и простится ему содеянное теми, кого встречал он на пути к счастью, которого искал…
***** Письмо 1
Тороплюсь окончить свой труд… Господь позволил мне совершить задуманное, но всё ещё не могу сказать, заметно ли легче стала моя ноша, хотя чувствую в душе временный покой, что наступает после трудной исповеди. Даруй нам, Господи, избавиться от всякого зла…
Про труд этот знаю пока только я, и что-то подсказывает, после смерти в тревоге буду ждать, когда хоть одна живая душа откроет эти листы и прочитает их до самого конца. Поймут меня или осудят, а может, посчитают достойным одной жалости, будет не столь важно, и в том и в другом я обрету себя и смогу предстать к Господу нашему с чистым сердцем…
______________________
14 августа 1837
Мадрид, Испания
Сим подтверждает подлинность рукописи и свидетельствует, что получена рукопись от причетника аббатства Сент-Антуан вблизи Парижа.
Рукопись хранилась в архиве отца-настоятеля, и его велением была удалена за ненадобностью. По прочтению рукописи во мне поднялся сильный интерес, и с разрешения отца-настоятеля я опросил монашескую братию. Расследование моё показало, что об отце Бернаре никто из них не знал и не мог вспомнить, что слышал когда-либо это имя. Также никто не слышал имени Корнелиуса Морассе. Однако, выясняя обстоятельства, по моей просьбе сторож кладбища Сент-Антуан проверил записи, сделанные о захоронениях, и после долгих трудов обнаружил запись о неком Паскуале Дандоло Бланко, от 12 января 1667 года. Вместе мы прошли на кладбище и в крайнем ряду по левой стороне обнаружили захоронение, точнее, на него указывал почти разбитый деревянный крест, на котором едва угадывались стертые буквы …ск…е Да. ол… Б… Я переписал надпись, как смог разглядеть.
Мне удалось пройти в стекольную мануфактуру, действительно расположенную в близости от аббатства. Заручившись поддержкой смотрителя, я говорил со старшим мастером, который оказался настолько любезен, что согласился содействовать моему расследованию. Но ничего существенного не открылось. Вдвоем мы говорили с несколькими работниками, а те опросили других, но имен Корнелиус или Ансельми никто вспомнить не смог. Однако, один человек говорил, что много лет назад слышал о мастере Ла Мотта, работавшем когда-то в мастерской, но как давно это было, ответить затруднился. Я хотел было попросить проверить книги, которые велись по хозяйству, но смотритель, предугадав вопрос, заявил, что в его распоряжении записи последних трех десятков лет, куда отправили более ранние, он не знает. Я подумал, что достойная монета развяжет ему язык, он только криво усмехнулся в ответ и развел руками.
И последнее. По прошествии месяца и за несколько дней до моего отъезда ко мне пришел монах из аббатства и сообщил: отец-настоятель просил передать, если это может помочь в моих исследованиях, по воспоминаниям одного из служителей, приблизительно в указанное время в обители пребывал священник, на самом деле имевший тесные отношения с работниками стекольной мануфактуры, поскольку прежде бывал в Италии и довольно сносно говорил на их языке. Имя ему – отец Пьер Бертран.
На том моё расследование окончательно завершилось. Других доказательств подлинности событий, изложенных в рукописи, отыскать не удалось.
Подписью удостоверяю.
Капитан Мануэль Альварес Ортего
***** Письмо 2
23 марта 1921
Мадрид, Испания
Я, Мигель Жосе Ортего, живущий ныне в Мадриде, передаю хранившуюся в нашей семье старинную рукопись, датой от 21 октября 1711, антиквару сеньору Энрико Бартоломео, заявляю и свидетельствую, что рукопись та перешла ко мне от отца, а отцу досталась от деда, и является частью фамильной коллекции манускриптов, насчитывающей общим числом более двух сотен.
Рукопись оную мой дед, капитан Мануэль Ортего привез среди прочих из Парижа, где служил в 1835–1837 годах при испанской военной миссии.
Подтверждаю, что рукопись свободна от притязаний любой третьей стороны. Поручаю рукопись к продаже.
Подписью удостоверяю.
Мигель Жосе Ортего

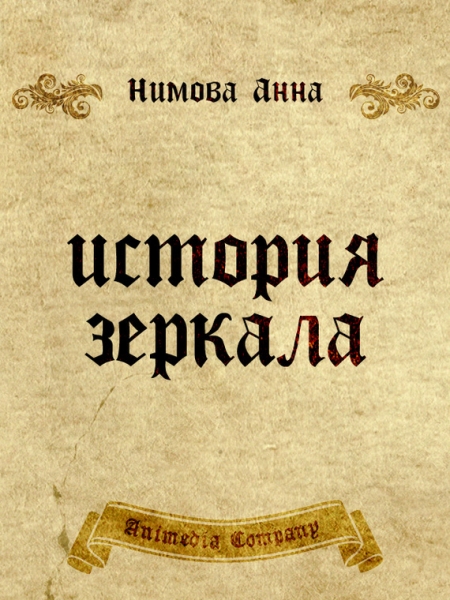

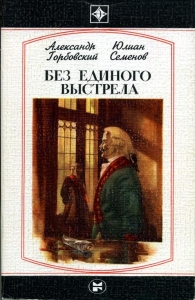


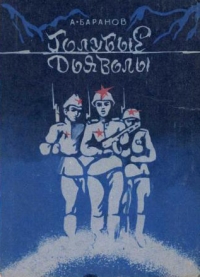



Комментарии к книге «История зеркала. Две рукописи и два письма», Анна Нимова
Всего 0 комментариев