Ирина Кёрк Родиться среди мертвых
Посвящается
Балларду
От переводчика
Ирина Кунина-Кёрк (1926–1992) родилась в Маньчжурии. Ее родители — «белые русские» (так назывались в Китае бесподданные беженцы русской гражданской войны 1918–1922 годов) — привезли ее в Шанхай, где она жила и училась в школе Реми для русских детей (1931–1945). В 1946 году Ирина вышла замуж за американского военного и переехала в США. В начале 1950-х годов ее семья жила в Японии и в Корее, после чего Ирина переехала с детьми в Гонолулу, Гавайи, где работала в газете и писала рецензии на книги. Одновременно Ирина окончила за три года Гавайский университет с отличием Пия-Бэта Каппа. Летом 1959 года она работала гидом на Американской выставке в Москве. В I960 году Ирина Кёрк переехала в Блумингтон (штат Индиана) и поступила в аспирантуру на кафедру сравнительной литературы при Индианском университете. В 1963 году она написала роман «Родиться среди мертвых». Двумя годами позже, получив докторскую степень, профессор Ирина Кёрк начала преподавать русскую литературу в университете штата Коннектикут в городе Сторрс. За эти годы написала несколько книг. Вышла на пенсию заслуженным профессором.
Обсуждая свою первую книгу, Ирина Кёрк сказала: «Главная тема моего романа — это физическая непринадлежность и духовная отчужденность. В этом была проблема «белых русских», описанная в моей книге. Проблема «отчужденности», «непринадлежности» всегда была и всегда будет до тех пор, пока будут существовать революции и войны. Духовная изоляция будет всегда, пока существует человечество».
Как и автор этой книги, я родилась в Маньчжурии в 1926 году. Жила в Шанхае с 1939 по 1949 год и дружила с Ириной Куниной. Мы обе учились в Индианском университете штата Индиана в Блумингтоне. В 1963 году Ирина и я вспоминали свою юность в японской оккупации в Шанхае. Ирина начала писать книгу, и мы часто обсуждали и корректировали ее вместе. Некоторые эпизоды в книге — случаи из жизни моей семьи. Этот перевод я делала с сестрой Татьяной Крупениной-Жирицкой (у нее память прошлого лучше моей). Сдержанный стиль письма в книге — результат нашего увлечения Альбером Камю. Ирина писала диссертацию о нем.
Я желала бы высказать большую благодарность Елене Александровне Краснощековой, профессору литературы в университете штата Джорджия в Афинах, за советы и помощь, а также моей машинистке и другу Наталье Подкопа-евой — гению в работе на компьютере.
Мариамна Крупенина-Судакова, профессор русского языка и русской литературы
в английском переводе Колорадо Колледж, Колорадо
Глава первая
Я впервые встретился с фамилией Базаров, когда мне было семнадцать лет. Русская женщина, которая была прислугой у нас в Сан-Франциско, подарила мне на Рождество роман Тургенева «Отцы и дети» в английском переводе. Я сразу же увлекся главным героем, который ни во что не верил, но, несмотря на это, хотел, уничтожив все верования и традиции, построить новый мир, хотя сам не знал какой именно. Да и не только бунтующая натура Базарова заинтересовала меня. По сравнению с интенсивностью чувств всех героев романа, отсутствие страстей во мне самом стало казаться мне большим недостатком моего характера. Я тогда же решил, что каждое поколение должно создавать свои традиции, и намеревался сам придумать какие-нибудь новые, возбуждающие идеи. Но жизнь моя текла в ухоженных берегах и никак не подталкивала к бунту.
Я мало что помню о женщине, которая подарила мне «Отцы и дети», кроме того факта, что она была беженкой из России после революции 1917 года. Я часто слышал, как мать шептала своим гостям за столом, что наша прислуга из аристократической семьи, но я никогда не мог в этом убедиться, так как сама женщина редко говорила о своем прошлом. В то время это меня не интересовало, и я ее ни о чем не расспрашивал. Вечером я иногда заходил к ней в комнату пить чай. И хотя я несколько раз просил ее называть меня просто Ричардом, она продолжала обращаться ко мне «мистер Сондерс». По прошествии времени эта почтительность перестала казаться мне странной, потому что в ней было какое-то теплое участие.
Я всегда любил читать, и полки с русскими книгами в ее комнате невольно манили меня к себе. Но когда она пробовала мне рассказать, что было в этих книгах, это казалось мне слишком сложным и запутанным. Во время Великой депрессии мама должна была справляться по хозяйству без посторонней помощи; и я больше никогда не встретился с этой русской женщиной, хотя книга «Отцы и дети», которую она мне подарила, до сих пор хранятся у меня.
Когда в 1931 годуя окончил колледж с дипломом по журналистике, мой дядя, банкир, посоветовал мне поработать несколько лет за границей, пока страна «не придет в себя и не возьмется за ум». С его помощью я был принят на службу в качестве репортера в большую английскую ежедневную газету в Шанхае. Отец думал, что впечатления нескольких лет жизни в Китае расширят мой кругозор и будут полезны мне в будущей карьере; и только мама беспокоилась насчет заразных болезней, войн и других аспектов жизни, которые она называла социальными.
Мое представление о корреспондентах всегда было связано со шляпой, плащом-пыльником с поясом, мартини-коктейлями, дальними странами и загадочными женщинами. Вращаться в их компании, пить джин в баре с сомнительной репутацией, одновременно записывая услышанное на бумажной салфетке, к тому же все это на фоне азиатского делового центра, казалось мне весьма экзотичным. Это была мечта, но я никак не смел надеяться, что она может сбыться в мои двадцать четыре года. И вот, когда я стоял на палубе «Президента Кливленда» и смотрел на бесцветные небоскребы, построенные вдоль набережной шанхайской гавани, и слышал крики кули[1] в их сампанках[2], и ощущал влажный запах реки Вангпу, меня охватило чувство, что жизнь моя только начинается.
Я много слышал о таинственном Китае и, между прочим, и о том, что ни один здравый человек добровольно не рискнет поехать в страну, где опиум — главный продукт потребления и где у проституток есть свои боги, которые их защищают. Но я был намерен сам набраться впечатлений и составить свое собственное мнение. И все же, стоя на борту парохода, трудно было сопоставить представление о Китае, которое жило в моем подсознании благодаря книгам и лекциям профессоров, с приближающимися высотными зданиями, широкими бульварами, парком вдоль берега и статуей огромного Черного ангела с крыльями, распростертыми над городом, большинство населения которого верило в злых духов.
Шанхай, основанный до рождения Младенца в Вифлееме, пережил много династий и впитал много крови. Шанхай пережил императоров, военачальников, иностранных завоевателей, внутренние перевороты и восстания. Везде я видел следы вторжения западной культуры и хотел знать, как скоро этот удивительный город переживет и нашествие Запада. В эту первую ночь в Шанхае, когда я остался наконец один в номере гостиницы и попробовал мысленно нарисовать образ города, что-то серое с яркими красными, зелеными и синими полосами предстало предо мной, как на картине Леже[3]. Спустя несколько месяцев расплывчатые формы: красные, зеленые и синие — превратились в очертания роскошных кафешантанов и освещенных неоном улиц, серое стало лицами нищих, в большинстве апатичных, но не озлобленных и не ищущих другой жизни.
Среди глыб бетона и стали, золотых куполов храмов и фешенебельных кинотеатров глубокая скорбь Китая была едва заметна ленивому зрителю. В течение нескольких лет я оставался небрежным наблюдателем; игнорировал вид завернутых в циновки новорожденных детей на тротуаре, ожидающих конца своей сорокавосьмичасовой жизни, или тех еще более несчастных, выживших и теперь на улице просящих милостыни. Сначала мне было немного совестно видеть кули, бегущего мили по раскаленному асфальту босыми ногами, в то время как я, развалившись в его повозке, спешил на какой-нибудь веселый банкет. Но скоро я заглушил в душе это чувство и успокаивал себя тем, что я оставлял ему хорошие чаевые. В Шанхае, как американец, я был желанным гостем, и американский доллар доставлял все — от шумных развлечений до девичьей невинности. Хотя британская газета, в которой я работал, платила не очень щедро, мое жалованье было вполне достаточно для беззаботной жизни холостяка, а кроме того, меня, как репортера, часто приглашали на официальные приемы и частные вечера.
Наш редактор господин Эймс, столь похожий на кембриджского аспиранта, был очень вежливый человек и до тех пор, пока я продолжал писать репортажи, которые можно было печатать, не лез с указаниями. Как у всякого начинающего репортера, у меня была тайная амбиция стать писателем, и, подобно многим из них, я ничего не делал для достижения ее. Я прилежно сообщал о наводнениях и затопленных районах, массовых голодовках, манипуляциях Чан Кай Ши, политических убийствах, которые создали бы национальный скандал дома, в США, но были обыкновенным явлением в Китае. И как только новости были отданы в печать, все мои мысли тотчас же устремлялись к возможности очутиться в объятиях красивой женщины или распить бутылку хорошего виски в веселой мужской компании.
Меня особенно интриговали женщины из числа «белых» русских. Многие из них работали такси гёрлз[4] в шанхайских дансингах. Обездоленные революцией и гражданской войной, их родители бежали в Китай, где надеялись переждать события в России. Шанхай был часто жесток к бесподданным[5]; заполучить подходящую работу без знания языков в стране, где физический труд так дешев, находилось чересчур много желающих. Слишком часто привлекательная внешность дочери становилась единственной возможностью выжить для большой русской семьи. Как содержанки русские девушки были неопытны, но когда их эмоции оказывались затронуты, они становились удивительно нежными и страстными. Многие из моих сослуживцев находили очень удобным такое соглашение, которое делало этих женщин их постоянными любовницами. Но я боялся любых продолжительных увлечений и был совершенно удовлетворен короткими связями.
Я прожил в Китае почти пять лет, когда мама прислала телеграмму, что отец неожиданно умер от разрыва сердца. Моя первая реакция была немедленно ехать домой, но, передумав, я решил, что это будет ненужным жестом, и остался в Шанхае. Мать всегда была очень занята своим клубом и благотворительными организациями, в которых она возглавляла разные комитеты; я был уверен, что она будет продолжать этот образ жизни и без отца. Я написал ей длинное письмо, советуя поездку в Европу, и обещал приехать через год, когда у меня будет отпуск. Какое-то время я грустил по поводу первой смерти в нашей семье, но когда старался воссоздать образ отца — мог только вспомнить его читающим газету или говорящим по телефону. Я нашел его последнее письмо ко мне, которое в свое время прочел не очень внимательно, и перечитал его.
Он писал, только за две недели до смерти, о возможности моего возвращения домой для работы в его фирме. Мой опыт в Китае, по его мнению, будет очень ценным в области паблик релейшнз[6], а также в отделе импорта — экспорта. Некоторые слова в письме расплылись от джина, который я разлил на него, и я сожалел, что так и не ответил на письмо.
Я представлял себя в кабинете отца на пятом этаже нашего здания на Монтгомери-стрит в Сан-Франциско — рабочий день с весьма квалифицированной секретаршей, ланчи с бизнесменами, одинокие обеды в моей холостяцкой квартире и, в лучшем случае, традиционный роман с милой девушкой, мечтающей о замужестве. Привлекательное, но безжизненное лицо матери и ее величественная манера сидеть во главе стола за нашими парадными обедами вспомнились мне, и я задумался, хотелось ли отцу когда-нибудь чего-нибудь другого.
По иронии судьбы, всего только два дня спустя после телеграммы о смерти отца, на похоронах которого я не смог присутствовать, мой редактор попросил меня побывать на похоронах человека, убитого среди белого дня во Французской концессии[7]. Этот человек садился в повозку рикши, когда другой подошел и выстрелил ему в грудь. Убитый китаец был торговцем опиума, и убийца, тоже китаец, вероятно, был нанят его конкурентом. Мистер Эймс намекнул, что похороны могут быть торжественными, что обыкновенно бывает у неосторожных бандитов. И что друзья и компаньоны убитого будут там присутствовать, и, возможно, это предоставит конкурентам случай уничтожить их всех сразу.
На этот раз я не разделял предположения мистера Эймса. Иногда он был склонен к крайним выводам, — но, в общем, мало что было логично в китайской жизни, — и самое невероятное часто случалось.
Есть люди, для которых присутствие на свадьбах и похоронах имеет свою прелесть. Я знавал человека, который проводил каждое воскресенье таким образом, хотя он не был знаком ни с кем из тех, кто женился или кого хоронили. Мне все эти церемонии были отвратительны. Но ни английский темперамент, ни положение редактора не предполагали в мистере Эймсе намерения считаться с особенностями характера его репортеров, он просто велел мне явиться на Зикавейское кладбище за полчаса до назначенного часа похорон.
Китай сулил иностранцам массу удовольствий, но шанхайское лето не относилось к их числу. Был один из тех дней в августе, когда жара и влажность неподвижно повисли над городом с раннего утра и закат солнца не обещал облегчения. Жара забрала все силы даже у нищих детей, надоедавших «иностранным дьяволам» тем, что они умудрялись хныча бежать мили за их рикшами. Обыкновенно я совершенно игнорировал их попрошайничество, так как милостыня приводила к безобразию: маленький ребенок, получив коппер[8], почти всегда был избит старшим и обобран. Мой рикша двигался очень медленно, так что я должен был пригрозить ему тем, что заплачу только половину установленной заранее суммы, прежде чем он выпрямил мокрую от пота спину и побежал скорее. Я начал думать о том дне, когда я смогу привезти автомобиль из Штатов, и мне не нужно будет рассчитывать на сомнительные услуги китайских кули.
Зикавейское кладбище находилось в западной части города, в районе, где жило очень мало европейцев, куда они редко ездили и где вместо вывесок торговцы вешали маленькие зеркала в раскрашенных рамах над дверью, чтобы не впускать злых духов. Узкие улочки шли вдоль каналов, на которых толклись джонки[9] и сампанки, на них жили китайские рыбаки с большими семьями. Грязные рваные паруса джонок в неподвижном воздухе казались стаей серых хищных птиц, ожидающих жертв. На берегу, под тенью пыльных ив, старухи и голые ребятишки прятались от неистового зноя. Гнетущий запах стоячей воды, дешевого кухонного масла и пота, как по заговору с жарой, усиливался безветрием в этой части города.
Мой рикша остановился перед серым зданием, головой показывая на железные ворота в знак того, что мы достигли назначенного адреса. Мальчик лет десяти один сидел на ступеньках дома. Лицо его было закрыто книгой, которую он читал, но я сразу увидел, что он не был китайцем. Мальчик поднял голову. Его темные глаза, оставив мое лицо, медленно опустились к моим начищенным ботинкам, затем, осмотрев мой белый костюм и записную книжку в руках, вернулись к моему лицу.
— Это Зикавейское кладбище? — спросил я мальчика, он только кивнул головой.
— Кто тут смотритель?
— Мой дедушка, — сказал он. — Вы хотите кого-нибудь похоронить?
— Нет, — ответил я. — Во всяком случае, не тут. Твой дедушка дома?
— Он сажает траву.
— Я хотел бы его видеть. Он говорит по-английски так же хорошо, как ты?
— Да, он также говорит по-французски. Он говорит по-французски так же хорошо, как и по-русски.
— Ты русский?
— Да, а вы француз?
— Нет, американец.
Я не обладаю французской живостью или шармом, но, наверное, для ребенка, живущего во Французской концессии, все европейцы казались французами.
— Америка очень большая страна, — сказал он.
— Нет, не такая большая, как Китай.
Он удивился, но только на минуту, очевидно, Китай для него означал Зикавейское кладбище, и сказал:
— Это не такая большая страна, как Россия.
Я не знал, сравнивал ли он Китай или Соединенные Штаты с Советским Союзом, поэтому я сказал:
— Советский Союз действительно очень большой.
— Это неправильно. Я говорю, это неправильно называть ее Советским Союзом. Это Россия.
— Ну, хорошо, пойдем, найдем твоего дедушку.
Он спрыгнул со ступеней, и я пошел за ним в дом.
— Пожалуйста, подождите здесь, — сказал он, когда мы вошли в большую комнату, которая, очевидно, служила и гостиной, и кухней, и столовой. Мальчик побежал вверх по лестнице, крича: «Мама». Я посмотрел на два портрета на стене и почувствовал, как что-то зашевелилось в моей памяти. Лицо мужчины в парадной форме было мне знакомо. На другом портрете был изображен тот же мужчина с семьей — царственная женщина и пятеро детей — в нарочито непринужденной позе.
При звуке шагов я повернулся и увидел женщину с очень бледным лицом, спускающуюся по лестнице. У нее были такие же темные глаза, как у мальчика, и ее некрашеные губы выглядели бескровными.
— Вы хотите видеть генерала?
— Я хочу видеть заведующего этим кладбищем.
Она позвала мальчика:
— Александр, — и сказала ему что-то по-русски. — Он попросит отца прийти.
Она говорила по-английски с акцентом и не предложила мне сесть. Я осмотрел комнату, которая была выкрашена в серый цвет, как и дом снаружи, и, кроме горшка с олеандрами, в ней ничто не радовало. Потертая мебель, небрежно расставленная по комнате, говорила о том, что жители этого дома намеревались оставаться тут временно и не заботились о комфорте. Я опять посмотрел на портреты, и в моей голове воспоминания замелькали, как страницы старого календаря.
— Эти люди мне кажутся знакомыми, — сказал я женщине довольно громко, желая привлечь ее внимание. Ее молчаливость начала меня раздражать, особенно потому, что, казалось, она забыла о моем присутствии. Она посмотрела на меня с удивлением. Я ждал, через некоторое время она подняла голову и взглянула на портрет, как будто молясь, и сказала:
— Это наш царь и его семья. Они были убиты во время революции.
Я старался сказать что-нибудь подходящее, но она снова подошла к окну и стала смотреть в него, совершенно забыв обо мне. Ее дешевое ситцевое платье подчеркивало ее худобу. Тяжелые косы узлом на затылке делали ее похожей на девочку.
Вдруг она подошла к двери и открыла ее. Крепкий лысый мужчина вошел с мальчиком, на нем была французская морская форма самого низшего ранга; я ее уже раньше видел на служащих французского муниципалитета — уборщиках, сторожах в полицейских участках.
— Генерал Федоров, — представился он. — Вы хотели меня видеть?
Шрам, от его левой щеки и до лба, стянул кожу вокруг глаза, создавая впечатление, что он постоянно мигает. Я представился и объяснил причину моего визита на кладбище.
— Похороны будут не сегодня, — сказал он строго. — О, я знаю, — он поднял руку, как будто желая остановить мой протест. — Я знаю, что они были назначены на сегодня, но сегодня утром решили перенести на вторник.
— В такую жару… — начал я.
— Да, но, в конце концов, вы не можете ожидать от них цивилизованности… Вы, американцы, думаете, что только потому, что они первые изобрели печатный станок… но это же было в период императоров. Вы знаете, революции разводят невежество.
— Вы не знаете, была ли какая-нибудь причина, чтобы отложить похороны? Они ожидали беспорядков?
— Беспорядки? Какие беспорядки? Это Французская концессия, они не могут здесь устраивать беспорядки.
Моей первой реакцией было напомнить ему, что само убийство произошло во Французской концессии, но мне не хотелось спорить со стариком, и я промолчал.
— Вы уже познакомились с моей дочерью? — спросил меня генерал Федоров. Я пробормотал что-то о ее любезном приглашении зайти в дом.
— Тамара и мой внук Александр Базаровы.
Я не сказал ему, что имя Базаров напомнило мне тургеневского героя. Я только пожал Тамаре руку, которая была холодной и безжизненной. Повернувшись к мальчику, я сказал:
— А ты, вероятно, тоже будешь военным, когда вырастешь?
Следуя обычаю спрашивать детей, кем они хотят быть, когда вырастут, я забыл, что армии, генералом которой был его дедушка, больше не существует. Мальчик посмотрел на меня очень серьезными глазами и ничего не сказал.
— К тому времени, когда Александр вырастет, мы будем в России, — сказал генерал, — и Александр будет служить своему царю. Да, будет много работы после большевиков.
— Вы тоже поедете обратно на родину? — спросил меня Александр.
— Это совсем другое дело для мистера Сондерса, — сказал его дедушка. — Он служит родине сейчас за границей, он может вернуться, когда он пожелает.
Я хотел улыбнуться генералу, но его левый полузакрытый глаз вызвал во мне желание подмигнуть. Я подмигнул. Один миг генерал выглядел обескураженным, но затем он наклонился вперед и с очень вежливой улыбкой сказал: «Позвольте мне показать вам остальную часть кладбища, мистер Сондерс».
Я не мог себе представить менее привлекательной перспективы, чем хождение среди могил в жару, но не смог найти предлога отказаться, генерал же вывел меня из дома, точно переставил кнопку на карте.
— Это кладбище было совершенно пустым, когда мы его получили, — я кивнул головой дважды, как бы желая показать ему, что я не сомневаюсь, что он ответственен за всех похороненных здесь.
— Но посмотрите на все это теперь, — широким жестом руки онуказална ивы, растущие с обеих сторон аллеи. — Французские власти не считали нужным тратить деньги на деревья. Но можете себе представить это место без единого дерева. О, конечно, это не березы, как у нас в России, но все же так намного лучше. Плакучие ивы — подходяще, не правда ли?
— Это все китайские могилы? — спросил я.
— Некоторые да, но большинство — белые русские. У нас даже есть один француз. Так как он самоубийца, его хотели похоронить без вмешательства церкви. Даже в России священники были всегда автократами. Тут они ничуть не лучше. Конечно, я не мог допустить похорон христианина без церковного обряда. Я отслужил службу сам. Человек был католик, надеюсь, православный обряд не лишил его возможности попасть в рай.
Тут он фыркнул, решив, вероятно, что подшутил над католической церковью.
Мальчик бежал впереди нас, и, когда мы подошли к группе маленьких могил, он вытирал платком один из деревянных крестов.
— Это опять птицы, — сказал он дедушке.
— Тут детская секция, — сказал генерал. — Это партнеры Александра по играм. Он любит здесь сидеть часами, воображая, что они живые.
Я взглянул на мальчика, который продолжал вытирать крест, и вдруг меня охватило желание увидеть его лицо в магазине Мейсиз[10] в Сан-Франциско перед Рождеством. Какая нелепая фантазия, подумал я, и дикое желание — уйти поскорее и никогда не возвращаться — охватило меня. Мы подошли к крематорию. Старик почему-то считал необходимым объяснить мне процесс сжигания трупов, но я перестал слушать и начал думать о предстоящем вечере.
Пару дней тому назад один из моих сослуживцев познакомил меня с роскошной француженкой и позже намекнул, что мужчине, который может ее увлечь, предстоит много наслаждений. Я пригласил ее в театр, а затем на ужин во Французский клуб. Принимая мое приглашение, француженка смело посмотрела мне в глаза и медленно улыбнулась очаровательной улыбкой, от воспоминания о которой даже в тот момент, когда я стоял посреди жалкого кладбища, у меня перехватило дух.
— Что это? — голос генерала прервал мои мысли, и я увидел приближающуюся процессию, во главе которой шел китайский монах в желтом одеянии.
— Сначала меня известили о переносе похорон на вторник, — пробормотал генерал, — теперь они опять переменили, не предупредив меня. Это так типично для азиатов.
Он извинился и пошел встречать процессию. Мысленно я похвалил мистера Эймса за его проницательность и понадеялся, что враги убитого были обмануты переменой плана.
Процессия между тем приближалась, и тишину нарушали только звон серебряных колокольчиков, монотонное пение монаха и резкие звуки цимбалов. Дальше следовала группа профессиональных плакальщиков, одетых в белые одежды; их специально нанимают изображать горе и отчаяние. Они вопили высокими голосами и время от времени били себя в грудь. Поверх процессии, надетые на высокие палки, плыли, как лозунги на демонстрации, бумажные лошади и драконы со страшными зубами. Шестнадцать человек несли тяжелый гроб на длинных бамбуковых жердях. Их веселые лица и длиннополые зеленые одежды заставили меня вспомнить о волшебниках, и на минуту я был совершенно уверен, что они откроют гроб и начнут представлять фокус воскрешения.
Генерал направил процессию к открытой могиле. Он стоял, вытянувшись смирно во время всей церемонии, и когда гроб был опущен в яму и над ним выросло облако пыли, он посмотрел на меня и с удовлетворением кивнул головой.
Я посмотрел вокруг и увидел Александра, сидящего на большой ветке дерева. Он наблюдал за женщинами-пла-калыцицами, которые делили деньги и болтали между собой, как певчие птицы.
После того как последние родственники усопшего ушли с кладбища, я попрощался с генералом и поблагодарил его.
— Зайдите к нам выпить лимонада на дорогу, — сказал он и взял меня за руку выше локтя. Я пошел с ним в дом.
— Вы не находите неприятным жить на кладбище? — спросил я.
— Люди всегда задают мне этот вопрос, и я всегда отвечаю, что бояться нужно живых, а не мертвых.
В его словах была логика, только мой вопрос был не о боязни. Он остановился поправить помятый цветок и пробормотал что-то себе под нос.
Мы вошли в дом, и мне пришлось быть свидетелем того, как на Тамарином бледном лице напряженность смягчилась, когда она увидела отца, будто одно его присутствие обещало ей защиту от какой-то неизбежной катастрофы.
— Баронесса дома? — спросил генерал.
— Нет, она играет в бридж у адмирала.
— Баронесса — наша квартирантка. Жаль, что ее нет дома. Она любит говорить по-английски. Вы должны посетить нас еще раз. — Генерал подал мне стакан, наполненный какой-то жидкостью лимонного цвета, и спросил, откуда я.
— А, Сан-Франциско, — закричал он, — мой старый друг полковник Савельев живет теперь там. Тамара, ты помнишь Савельева?
— Я помню его брата, — сказала она. — Я пойду, позову Александра, становится жарко.
— Тамарин муж, — сказал генерал, когда она вышла, — и дальний родственник Савельева вернулись обратно в Россию почти восемь лет тому назад. Не навсегда, конечно, они должны были отвезти что-то во Владивосток. Тамарин муж был убит большевиками, ей был двадцать один год, а мальчику почти два года. Никто не знает, что случилось с другим человеком.
Я не очень люблю воспоминания, особенно если они неприятные. Мое дело наблюдать и докладывать, не сочувствуя, поэтому я поднялся, извинился и под предлогом, что у меня назначена другая встреча, ушел.
На дворе я еще раз посмотрел в сторону кладбища и увидел белое платье Тамары в аллее. Она шла под ивами и казалась привидением. За воротами стоял Александр и смотрел, как китайская девочка бросала мячик об стену.
— Тебя ищет мама, — сказал я и увидел, как он смотрит на мою записную книжку.
— Тебе она нравится, хочешь? — Книжка была в глянцевой обложке, из американского магазина.
— Только если она вам не нужна. Она из Америки?
Я дал ему книжку. Александр проводил меня до угла. Три рикши с шумом бросились ко мне, предлагая свои услуги, каждый расхваливал себя, стараясь перекричать других. Я увидел четвертого рикшу через дорогу, его экипаж показался мне новее и чище, и я жестом велел ему подъехать ко мне. Он, оскалив зубы, лихо подбежал ко мне, пока трое других посылали проклятия на его голову и на головы всех его предков.
— Эти были здесь первыми, — сказал Александр. Я был знаком с правилами этики среди рикш, но в такую жару мне не хотелось с ними считаться. И, может, потому, что замечание мальчика показалось мне досадным, я сказал ему неправду.
— Я нанял его на весь день, он меня ждал.
— О, — сказал Александр, — я этого не знал. Вы опять приедете к нам?
Вечер оправдал все мои ожидания. Пьеса была музыкальная с красочными декорациями и костюмами, с шутливыми песнями. В клубе мы ужинали при свечах, с соответствующими каждому блюду винами и cafe brulot[11] на десерт. Когда мы танцевали, я с удовольствием заметил, как смотрели другие мужчины на мою партнершу. В ее теле, прижавшемся к моему, в запахе духов и во французских полупонятных словах, которые она шептала мне в ухо, было столько обещания. После клуба такси отвезло нас к ней.
Квартира была декорирована в бежевых и оранжевых тонах; единственной картиной на стене был портрет ее самой с голыми плечами.
В спальне при свете маленького китайского фонарика окружающие предметы едва виднелись. У меня было приятное ощущение, что я плыву в пространстве. Голова была свободна от мыслей, все происходящее казалось нереальным. И желание всецело погрузиться в облачный мир чувств охватило меня. Но когда я взглянул на голое тело рядом, бледное, грустное, породистое лицо Тамары встало предо мной.
Глава вторая
Лето 1936 года было полно тревожных событий и в Китае, и в Европе. Посещение Зикавейского кладбища было для меня незначительным эпизодом; я не вспоминал о старом генерале и его дочери. Но мне пришлось увидеть их опять. Утром холодного и дождливого дня в феврале я нашел на своем столе записку от мистера Эймса: «Напишите статью в 500 слов об открытии памятника Пушкину в 4 часа сегодня. Джим вам даст все детали».
Джим был наш секретарь, и я не хотел признаться ему, что я смутно помню, кто такой Пушкин. Поэтому я открыл словарь Вебстера и нашел заметку: «Пушкин, Александр, 1799–1837. Русский поэт». Мне было непонятно, какое отношение к Шанхаю имеет русский поэт, живший сто лет тому назад. Джим, не объясняя ничего, вручил мне листок бумаги с адресом во Французской концессии.
Я пошел в Американский клуб, где часто завтракал, и спросил Петрова. Это был русский официант из «белых», с которым я иногда разговаривал, если бывал один. Петров жил в Китае около пятнадцати лет и иногда рассказывал удивительные истории о русской революции. После того как он взял мой заказ на завтрак, я спросил его, знает ли он поэта по имени Пушкин. Он взглянул на меня, словно я обвинил его в ужасном преступлении, и сказал:
— Ну, конечно. Как я могу не знать Пушкина, нашего великого поэта. Можете ли вы не знать… Можете ли вы забыть… не знать вашего Байрона.
Я напомнил ему, что Байрон был не американец, но Петров отклонил мое замечание:
— Все равно, все равно. Все ваши предки приехали в Америку из Англии.
— Теперь насчет Пушкина, сегодня в четыре часа…
— Да, открытие памятника, великий день. Великий день для всех нас. Завтра я буду работать две смены, а сегодня буду свободен после обеда.
— А кто же ставит этот памятник?
— Он давно уже закончен и поставлен, а сегодня, в день столетней годовщины со дня смерти Пушкина, будет открытие памятника.
— На какие деньги? — спросил я. — Кто дал деньги на все это?
— Мы дали. Русские в Шанхае. Мы собирали понемногу много лет, и теперь у нас будет памятник Пушкину.
— Когда дети… — начал я, но не закончил фразы. Я думал о русских нищих и об их детях, которых я видел на улицах Французской концессии и около русских церквей.
— Да, очень важно для детей. Самое главное — для них. Наши дети растут за границей, среди иностранцев, они должны не забывать своих национальных героев. Когда мы, старые люди, умрем, памятник будет стоять для наших детей и наших внуков.
Петров не был уверен, что убедил меня, потому что он добавил:
— Ваши миссионеры рассказывают в школах китайским детям о вашем Линкольне, не правда ли?
Его заявление мало относилось к нашему разговору, но когда он чувствовал, что ему не удавалось передать мне, американцу, какие-нибудь особые мысли о России или о русских в Китае, он всегда приводил примеры из известной ему американской истории.
— Представьте себе, — начал он, и я понял, что еще один пример будет предложен. — Представьте себе, что вы потеряли вашу родину…
Я никогда так и не узнал, что, по мнению Петрова, в этом случае произойдет, потому что в тот момент, когда он поднял палец и сказал: «Америку», — главный официант подошел к нему сзади и шепнул ему что-то на ухо. Петров покраснел и замолчал. Потом он сказал: «Простите меня», — и ушел. Он всегда говорил «простите меня» вместо «извините меня», но в этот раз он выглядел так, как если бы он действительно просил прощения. Когда он принес завтрак и потом, когда он подал мне счет, он не сказал ни слова.
После обеда дождь шел с перерывами, но город казался мрачным и серым под тяжелыми тучами. Я взял такси и поехал во Французскую концессию, приказав шоферу довезти меня до того квартала, где Route Pichon и Route Riviere[12] пересекают две улицы, названия которых я так и не научился произносить. Это был хороший район, один из лучших в городе, с большими особняками и цветущими садами. Здесь жили богатые европейцы, и, по сравнению с большей частью города, тут было тихо и просторно. Широкие улицы с тенистыми деревьями были чисты и свободны от нищих и уличных торговцев.
— Маета, — сказал шофер, — не могу ходи дальше.
Я взглянул в окно и увидел, что улицы были наполнены людьми. Мы находились в трех кварталах от места церемонии, но не могли подъехать ближе. Я вылез из машины и пошел вместе с толпой. Мой новый дождевик и фотоаппарат отличали меня от людей с серьезными лицами, большинство которых были очень скромно одеты. Они не обращали внимания на дождь, который опять пошел.
Все говорили тихими голосами, и многие несли маленькие букеты цветов и тонкие белые свечи. Толпа сгущалась по мере приближения к памятнику; скоро стало невозможно идти дальше. Я вытянул шею и стал оглядываться. Возвышаясь над толпой, на постаменте стоял памятник, покрытый покрывалом и цветами.
Некоторое время только шум ветра и отдаленный гром нарушали тишину. Но вот толпа расступилась и пропустила священнослужителя в белой, вышитой золотом одежде, который нес большой золотой крест и кадило. За ним, тоже одетый в белую одежду, шел юноша и нес икону Христа и серебряную чашу с водой. Священник поднялся на три ступени к памятнику, повернулся и произнес что-то. Все зажгли свечи. Дождь тушил их, но люди закрывали свечи руками или цветами. Священник высоко поднял крест и начал произносить молитву.
Я попытался приблизиться к памятнику, сделал несколько шагов и неожиданно увидел Петрова. Он держал шляпу над свечой, и его мокрые редкие волосы лежали на лбу, как мокрая солома. Теперь в его лице не было ни следа покорности. Глаза его смотрели на священника, и губы слегка шевелились. Я протиснулся к нему ближе. Он меня долго не замечал, а когда наконец увидел, слегка поклонился с достоинством. Священник благословил толпу, и все стали петь. В грустном мотиве я смог различить два слова, которые повторялись много раз. Когда перестали петь, я спросил Петрова:
— Что значат эти слова?
— Господи, помилуй, — сказал он.
Юноша с серебряной чашей приблизился к священнику и взял у него кадило. Священник снял покрывало с памятника, окропил его трижды водой и повторил молитву.
Все глаза устремились на памятник. Это был бронзовый бюст мужчины с серьезным лицом. Все опять запели. Радостный напев заглушил звуки дождя и грома. Я хотел спросить Петрова, что это за песня, но когда я взглянул на него, я увидел, что по его лицу катились слезы. Я поспешил отвернуться.
Священник посторонился и уступил место пожилому человеку, который стал говорить речь робким голосом, и каждый раз, когда он говорил слова «Александр Сергеевич Пушкин», он останавливался, поворачивался и кланялся памятнику, словно ожидал, что бронзовый бюст кивнет ему с одобрением. Постепенно голос говорившего стал возвышаться, мягкое выражение лица переменилось, и он больше не произносил имя поэта и не обращался к памятнику. Он повторял слова «Россия» и «большевики» несколько раз и грозил кулаком. Глаза его горели, он выглядел, как древний пророк, призывающий гнев Иеговы на грешников. Я не понимал, что он говорит, но его лицо смутно напоминало мне что-то, чего я не мог вспомнить.
Оратор кончил свою речь. Все задули свечи и стали медленно двигаться в сторону памятника. Кто-то потянул меня за рукав. Я повернулся и увидел Александра, мальчика, с которым познакомился на Зикавейском кладбище.
Он был одет в пальто для девочки, слишком большое для его узких плеч, но его волосы были гладко причесаны, и вид у него был очень серьезный.
— Вы знаете, — сказал он, — что я был назван Александром в его честь?
И он указал на памятник.
— Где твоя мама? — спросил я.
— Я не знаю, где-то здесь. Я ее потерял.
— Александр, а твой дедушка здесь? — спросил Петров. Мальчик кивнул головой.
— Вы знаете его семью? — спросил я у Петрова.
— Ну, конечно. Генерал Федоров — очень уважаемый человек.
— Ты лучше оставайся с нами, пока не найдешь маму в этой толпе, — сказал я.
— Я пойду поищу ее, — сказал Петров и исчез.
Я взял руку Александра и пробрался к тротуару. Дождь кончился, и я хотел сделать несколько снимков.
— Я никогда не видел такого большого фотоаппарата, — сказал Александр. — Вы будете снимать Пушкина?
— Да. Хочешь карточку?
— Насовсем? — спросил он и, когда я подтвердил, сказал: — Я отдам ее маме. Она меня назвала в честь Пушкина.
— Оставь себе. Я дам ей другую, если она захочет.
— Она захочет.
Я поднялся на низкую кирпичную стенку и сделал несколько снимков памятника и окружающей толпы. Я был рад, что в кадр попал священник. Его золотом расшитая белая одежда выделялась на фоне бесцветной толпы. После трех снимков я слез со стены.
— Мне надо положить это к памятнику, — сказал Александр и помахал букетом олеандров.
— Подожди, — остановил я его. — Мы подойдем вместе, когда будет меньше народа. Надо подождать твою маму. Как она?
— Она — хорошо. А он выглядит живым, не правда ли?
— Кто?
— Пушкин.
— Откуда ты знаешь? Ты же его никогда не видел.
— Я его знаю. А у вас в Америке есть такой поэт, — спросил он, — которого вы любите больше всех в мире?
— У нас есть несколько.
— Да, но кто из них лучше всех?
Я не успел ответить на этот вопрос, потому что в этот момент Петров и генерал Федоров подошли и одновременно заговорили со мной.
— Простите меня, — сказал Петров генералу.
— Ваше слово, — сказал генерал.
— Нет, нет, пожалуйста, ваше превосходительство!
— Вы присутствовали на открытии? — спросил генерал.
— Да, для газеты.
— А теперь можете ли вы пойти с нами в Офицерское собрание? Там будет небольшое празднование по случаю открытия памятника…
— Пожалуйста, — сказал Александр. — Это очень красивый клуб, как дворец.
— Хорошо, но ненадолго. А где мадам Базарова?
— Мы ее сейчас увидим, она вон там.
Мы подошли ближе к памятнику. Большинство людей уже ушло, только несколько небольших групп еще стояли и разговаривали. Я увидел Тамару. Она стояла одна недалеко от памятника. Ее темные волосы были мокры от дождя, и несколько капель осталось на ее лице. Она вздрогнула, когда Александр крикнул: «Мама», — и когда он подбежал к ней, она взяла его за руку и шепнула что-то на ухо. Он положил свой маленький букет у подножия памятника, осторожно провел пальцем по буквам надписи и прочел ее громко.
— Тамара, — обратился генерал к дочери, — ты помнишь мистера Сондерса?
— Да, помню.
На ее бледном лице я прочел тень неудовольствия.
— Добрый день, — сказал ей Петров и поцеловал ее протянутую руку. Она сказала ему что-то по-русски.
— Мистер Сондерс идет с нами в клуб, — сказал генерал и позвал внука, который ходил вокруг памятника.
— Как далеко до вашего клуба? — спросил я.
— Недалеко, кварталов пятнадцать.
Я предложить взять такси, потому что ни у генерала, ни у Тамары не было дождевиков, но Тамара решительно сказала:
— Мы пойдем пешком.
По ее тону я почувствовал, что она противоречит именно мне, и пожалел, что согласился на предложение генерала. В такой мрачный день я предпочел бы быть во Французском клубе с веселыми и учтивыми людьми.
Мы молча шли под мелким дождем.
— Смотрите, — крикнул Александр, когда мы дошли до белого здания. — Это наше Офицерское собрание.
Он побежал вперед. Недалеко от дверей стояла женщина лет сорока с опухшим лицом. Она отделилась от стены, как тень, и подошла к нам.
Она прошептала что-то по-русски Тамаре, которая взяла отца за руку.
— Мистер Сондерс, пойдемте, — сказал генерал.
Женщина повернулась ко мне и сказала по-английски:
— Джонни, дай мне денег.
Ее мокрое платье прилипло к телу, и я мог видеть, что в некоторых местах ее тело было покрыто болячками. Я сунул руку в карман за деньгами, но генерал быстро сказал:
— Не надо, мистер Сондерс! Это же просто пьяница, она пропьет ваши деньги и все равно будет стоять на улице.
— Старый дурак, — взвизгнула женщина. — Будьте вы прокляты. Я тоже офицерская жена. А вы…
Ее крик сопровождал нас до двери. Я взглянул на Тамару. Наши глаза встретились, ее взгляд был полон негодования, она закусила губу и отвернулась. Когда мы вошли, Петров дотронулся до моего плеча и сказал:
— Простите эту падшую женщину. Ее муж был офицер, но… — и он развел руками.
Генерал провел нас через полутемный зал в большую столовую. Я сразу же увидел огромный портрет царя и его семьи. Стены комнаты, украшенные флагами и знаменами, были сплошь покрыты портретами других монархов.
— Посмотрите, — Александр потянул меня за руку и указал на один из них. — Это — Петр Великий. Он был самый высокий человек в мире, и все его боялись.
Генерал шел через переполненную комнату грудью вперед, кланяясь любезно людям, приветствовавшим его. Он оглядел флаги, столы, кивнул музыкантам, которые сидели на маленьком возвышении в углу, и отдал честь старому господину в военной форме. Мы подошли к столу, где пожилая дама сидела прямо и с достоинством.
— Баронесса фон Раффе, — загудел генерал, — разрешите представить вам мистера Сондерса, корреспондента из Америки.
Ее припудренное лицо над белым кружевным воротником было похоже на безжизненную маску, но, когда она заговорила, ее голос обнаружил неожиданную живость, как будто вся сила, которая еще осталась в ее хрупком теле, сосредоточилась в ее голосе.
— Я очень рада с вами познакомиться, мистер Сондерс, пожалуйста, садитесь.
Петров поцеловал ей руку, подставил стул Тамаре, подождал, пока генерал опустится на стул, и сел сам.
— Мистер Сондерс присутствовал на церемонии открытия с нами, — сказал генерал.
— Это было довольно интересно, — повернулся я к баронессе. — Жаль, что вы там не были.
— Глупости, mon cher[13]. Я терпеть не могу толпу и все сборища. А Пушкину я могу отдать честь позже.
— Епископ Иоанн служил молебен, — сказал Петров.
— Я его не знаю. Он стал епископом уже в эмиграции, не правда ли? Мы ничего не знаем о его семье. Я лично предпочитаю епископа Нестора.
— Епископ Иоанн — большой аскет, — сказал генерал.
— Если он ascete[14], то должен жить в пещере. А у епископа есть общественные обязанности. Поэтому мне больше нравится епископ Нестор. Он у места и в церкви, и в гостиной. Какого вы мнения об этом, мистер Сондерс?
Вопрос баронессы застал меня врасплох. Ребенком я ходил в церковь с родителями довольно неохотно, а с тех пор, как стал студентом, не был в церкви ни разу. Мне и в голову не приходило задумываться о достоинствах духовных лиц.
— Я думаю, это зависит от религии, — ответил я туманно.
— О, да! Я слышала, что у вас в Америке много религий, и все ходят в разные церкви.
— А почему у вас нет одной религии? — спросил Александр.
— В от что получается, mon enfant[15], когда люди думают, что они могут самостоятельно управлять страной. Сначала они убирают монарха, потом они придумывают различные мнения о Боге, потом они строят много разных церквей. В результате получается Вавилонская башня, и люди перестают понимать друг друга.
— Давайте выпьем вина, — переменил разговор генерал. Он подозвал официанта, чтобы заказать вино.
— Разрешите мне, ваше превосходительство, — перебил его Петров. — Я бы хотел заказать шампанского.
Он повернулся к официанту и заговорил с ним тихим голосом.
— Он самый богатый из всех нас, потому что он работает у американцев, — заявил мне Александр через стол.
Его мать сказала ему что-то коротко по-русски, и он замолчал. Официант принес шампанское в ведерке со льдом и поставил его перед Петровым. Когда пробка взлетела в воздух, Александр хотел было ударить в ладоши, но, быстро взглянув на баронессу, остановился. При виде шампанского мое настроение улучшилось, и я задумался, будет ли уместно заказать другую бутылку.
— А ты что будешь пить? — весело спросил я мальчика. Он посмотрел вопросительно на деда.
— Когда родился сын у моего знакомого французского графа, — произнесла баронесса, — граф смочил губы младенца шампанским. Я думаю, мы можем это сделать Александру сегодня.
— Сейчас? — спросил Александр.
— После гимна, — ответил генерал и взглянул на музыкантов.
— Вызнаете, — сказал Петров, — у нас есть гимн «Боже, царя храни», как у вас — «Our Flag Was Still There»[16].
Все встали, и торжественные звуки наполнили комнату. Как все мужчины, Александр положил правую руку на сердце. Я взглянул на окно и увидел лицо, прижатое к стеклу. Это была женщина, проклинавшая нас у входа. В ее распухшем лице теперь не было злобы, она кусала конец шарфа, обвивавшего ее шею, и пристально смотрела на что-то в комнате. Когда мы сели, я взглянул на окно опять, но ее уже не было.
— За Россию, — произнес генерал и поднял свой бокал. — Да поможет ей Бог пережить красное ярмо и возродиться в прежней славе.
— И за Пушкина, — добавил Петров, — чтобы наши дети никогда не забывали наше сокровенное наследие, куда бы судьба их ни занесла.
Баронесса смочила губы Александра шампанским и погладила его по голове.
— Он никогда не забудет, — до сих пор молчавшая Тамара неожиданно стала оживленно говорить. — Нет, он никогда не забудет. Я не забыла. Я была того же возраста, как Александр сейчас, когда мы уехали. Санкт-Петербург, Иса-акиевский собор, Адмиралтейство с золотым шпилем. Тот день в октябре. Кровь на снегу, и солдаты везде. Александр не знает этого. Он декламировал Пушкина, когда ему было пять лет. Мы его учили всему. Когда он вернется в Россию, он не будет иностранцем. Это не важно, где он родился.
Она сидела, подавшись вперед, — ее обычно бледное лицо теперь было оживленным, и смотрела то на отца, то на сына. Очевидно, за этими отрывочными фразами был целый мир, который был понятен всем сидевшим за столом. Они кивали головой и улыбались, и опять наполняли бокалы. Я вдруг почувствовал, что завидую их способности так глубоко верить в свою правду. Но когда я подумал, насколько неопределенно их будущее, странное чувство нежности к Тамаре вызвало во мне желание обнять и приласкать ее. К моему удивлению, я заметил, что это чисто платоническое чувство, просто мне хотелось, чтобы эта хрупкая женщина посмотрела на меня с тем же доверием, с каким она обращалась к отцу.
Оркестр заиграл вальс, и хотя я не люблю этот танец, я пригласил Тамару танцевать. Она встала и неохотно подала мне руку. Она танцевала не очень хорошо и избегала моего взгляда.
— Мне бы хотелось, — сказал я, — пригласить вас на ужин или в театр.
Я не собирался ее приглашать, мои слова были неожиданными для меня самого.
— Зачем? — произнесла она.
Я был поражен ее словами. Никто никогда так не отвечал на мое приглашение.
— У нас нет ничего общего, — сказала она тихо.
Это не было сказано грубо, просто она указала на факт, в котором она, очевидно, не сомневалась. Я попытался догадаться, как она представляла себе меня. Здоровый мужчина почти тридцати лет, не обеспокоенный судьбой своей родины, без тяжелых воспоминаний и с обеспеченным будущим. Я, наверно, казался ей наивным простачком, играющим в жизнь, но было что-то еще в ее отказе. Что-то путало ее во мне, от чего она пряталась за барьером, выстроенным ею самою. Я смутно чувствовал это, и это меня беспокоило. Я сердился на себя и на нее.
Когда я подвел ее обратно к столу, Петров улыбался мне и кивал головой:
— Очень хорошо, прекрасный вальс.
— Я слышала, что вы привезли с собой какой-то ужасный танец, названный в честь лисицы, — промолвила баронесса.
— Да, фокстрот, очень популярный танец, — ответил за меня Петров. — В Американском клубе он очень популярен.
— Говорят, что это очень неприличный танец, — продолжала она.
Я посмотрел на часы и сказал, что мне нужно идти.
— Ой, останьтесь еще, — сказал Александр.
— Александр будет читать стихотворение Пушкина, — объяснил генерал. — Он хотел бы, чтобы вы послушали. Это будет частью сегодняшней программы.
Я сказал Александру, что я не пойму стихов и что мне надо сегодня же написать для газеты статью об открытии памятника.
— Почему вы не изучаете русский язык? — спросил Александр. — Тогда бы вы поняли все.
— Прекрасное предложение, — сказала баронесса. — Тамара может вам давать уроки, у нее уже есть двое учеников.
Я сказал, что это очень хорошая идея и что, может быть, я займусь этим после того, как съезжу домой в отпуск. Я поблагодарил всех и сказал Петрову, что я увижу его в клубе. Генерал проводил меня до двери. Я был рад оказаться один на темной улице. Несколько кварталов я прошел пешком. С чувством облегчения я думал, что те люди, которых я встречал по дороге, останутся навсегда мне чужими. Дойдя до Avenue Joffre[17], которая была залита светом, я подозвал рикшу. Он ждал, чтобы я сказал ему, куда меня везти, а я некоторое время не мог решить, куда ехать. Сначала я хотел поехать домой, но потом раздумал и сказал:
— Отель «Парамаунт».
Глава третья
В 1937 году я поехал в отпуск домой. Сан-Франциско принял меня в свои безразличные объятья, и я наслаждался, как любовник, вернувшийся к своей возлюбленной после нескольких лет разлуки и нашедший ее столь же очаровательной. В восторге я ходил по знакомым улицам, упивался звуками города, смешивался с толпой хорошо одетых, себе подобных людей в ресторанах и ночных клубах. Я искал перемен и с радостью не находил их. В детских лицах я видел невинность, не затронутую голодом или войнами, ту беззаботную невинность, у которой была возможность не исчезнуть и в зрелости.
Я посетил несколько старых знакомых; у большинства из них жизнь уже вошла в предназначенную колею постоянной работы и семьи. Временами я начинал задумываться, не лучше ли жизнь, основанная на устойчивых формулах, а не на постоянных поисках чего-то нового. Но когда друзья просили меня рассказать о Китае, я тут же переставал завидовать им. Для них я был представителем той золотой поры молодости, когда жизнь еще не установилась, многое ожидалось и сердце питалось надеждой на какие-то фантастические приключения. Я часто был центром внимания на больших приемах, и мне начала даже нравиться эта роль кондотьера, красочно рассказывающего о своих приключениях во время коротких визитов домой по дороге в новую далекую экзотическую страну. Я говорил о вещах, которых никогда не было, и мне казалось, что границу между правдой и вымыслом тоже кто-то сочинил.
Мама без труда освоила свой новый образ жизни и настоятельно советовала мне написать несколько статей в крупные журналы. Я и сам думал связаться с их редакторами и с этой целью решил ехать в Нью-Йорк в середине июля.
Восьмого июля, за неделю до моей поездки в Нью-Йорк, я проснулся и первое, что увидел на подносе у моей постели рядом с кофе, была газета с большим заголовком «Мост Марко Поло в Пекине»… Это именно там накануне японцы атаковали Китай. Моя первая мысль была немедленно вернуться в Китай. Не потому, что наш редактор мистер Эймс ожидал, что я прерву свой отпуск на два месяца раньше, или что ему нужно будет мое присутствие, а потому, что видеть войну всегда было моим тайным желанием. Я не стремился кого-нибудь убить и не хотел, чтобы в меня стреляли. Я желал быть только наблюдателем войны, в которой я сам не был бы замешан. В тот же день я заказал себе каюту на одном из больших пароходов и приготовился ехать через несколько дней.
Мама видела в моем решении ехать назад в Китай полное безрассудство, свойственное молодости. Она прочла мне длинную нотацию на тему о выгоде жить в Соединенных Штатах и сказала, что мне пора устроить свою жизнь на родине. А также о целесообразности иметь жену и детей. Когда же она увидела, что мое решение ехать было окончательным, она позвонила по телефону своим друзьям, говоря каждому: «Ричард едет на войну», — как будто я приезжал домой только на побывку с фронта.
Я очень расстроился, когда через три дня после инцидента на мосту Марко Поло власти Северного Китая начали мирные переговоры с японцами, но не переменил планов поездки. Главной заботой для меня стали пересылка моего автомобиля и покупка нового фотоаппарата. Друзья помогли мне в обоих случаях, и последние дни дома я провел в хмельном дурмане прощальных обедов. Мы были в пути четыре дня, когда стало известно, что мирные переговоры в Северном Китае прерваны и военные события возобновились в китайской части города Тяньцзинь. Большую часть времени я проводил у корабельного радио, слушая сводки об этой необъявленной войне в надежде, что она будет продолжаться до моего приезда. Японцы разбомбили Нанкинский университет, почти все пути сообщения были в их руках, Пекин пал без сопротивления, а я находился почти за тысячу миль от всего этого.
Когда я наконец приехал, мистер Эймс встретил меня, по нашим американским стандартам, довольно холодно, но, по понятиям англичанина, достаточно приветливо. Он с полуулыбкой пожал мне руку, и внимательно выслушал мое желание немедленно ехать на фронт.
— Мне кажется, что эта маленькая война много обещает, — сказал он, — особенно с тех пор, как принц Коноэ заявил о планах Японии поставить Китай на колени. А генералиссимус Чан Кай Ши говорит, что Китай, возможно, достиг предела своего терпения. У нас достаточно репортеров, работающих на севере. Мой совет вам — оставаться здесь, в Шанхае.
Я задумался над тем, как он всегда умудряется сказать так, что его советы звучат приказами, и пожалел, что, будучи дома, не позаботился связаться с другими газетами. Мистер Эймс вышел со мной из своего кабинета и, проходя мимо окна, выходящего на реку Вангпу, указал на серый японский крейсер, который стоял, как воин, ожидающий команды, и сказал:
— Жаль будет пропустить что-нибудь такое прямо здесь, а? Такие ошибки часто бывают, как вы знаете. Мой совет вам — держаться поближе к реке в течение нескольких дней.
Для меня было ясно, что Япония собирается воевать на севере и вести переговоры на юге. Я хотел объяснить ему, что присутствие гарнизона японских морских пехотинцев еще не обязательно означает подготовку к битве, но меня раздражал его покровительственный тон, и я ничего не сказал. Вместо этого я решил сам отправиться на север через несколько дней. В конце концов, я же все еще находился в отпуске до сентября.
Но оказалось, что нет необходимости гоняться за войной; война пришла в Шанхай тринадцатого августа. Солдаты Императорской Японии высадились на Вузунге[18], приблизительно в десяти милях на север от Шанхая; линкор «Идзимо», символ вызывающих притязаний Японии, бросил якорь в Вангпу, напротив Интернационального сеттльмента.
С крыши Американского клуба я наблюдал, как потоки китайских солдат впитывали японскую сталь. Беспрестанный треск пулеметов время от времени заглушался грохотом орудий, стрелявших с японских кораблей по китайскому берегу. Единственное, что противостояло хорошо оснащенным японским броненосцам, — это пушечное мясо, тысячи и тысячи человеческих тел. Жизнь в Китае стоила дешевле, чем пуля, и смерть часто являлась избавлением.
Я ожидал захватывающего зрелища, а все вокруг казалось таким бесцветным, пока не наступила ночь, и разбомбленные дома в Чапэе и Намтао не начали гореть. Огонь поднимался и освещал нависшие облака, колонны дыма поднимались к небу и благоухали, как фимиам, зажженный богам разрушения.
Но я вернулся в Китай не для того, чтобы наблюдать войну с крыши дома; и на следующее утро я зарядил мой фотоаппарат и отправился в центр города. Я взял рикшу до границы Интернационального сеттльмента и китайского пригорода Нантао и дальше пошел пешком до баррикад. Часовой остановил меня, когда я подошел близко к окопам. С помощью жестов и китайских слов я старался объяснить ему мои намерения. Он продолжал качать головой и указывать в обратную сторону. Я увидел британского солдата через улицу и подошел к нему.
— По приказу китайского правительства, — сказал он, — иностранные репортеры не допускаются в этот район.
Я решил не уходить и дождаться возможности проскользнуть через баррикаду. Тут я увидел китайского редактора, которого я немного знал: он шел в сторону окопов. Я догнал его и спросил, не может ли он достать мне специальный пропуск в китайскую часть города.
— Мое правительство, — сказал он, — не желает брать никакой ответственности за жизнь иностранцев. Вы, коллеги, пишете очень красочные газетные материалы о нашей войне, наблюдая ее с крыши отеля. А теперь вы хотите подвергать вашу жизнь опасности на войне, в которой ваша страна совсем не замешана?
Я принял его объяснение, хотя и подозревал, что спасение иностранных корреспондентов от опасности не являлось единственным соображением китайских властей. Вероятно, им не хотелось, чтобы стало известно, в каком скверном состоянии их армия. В досаде я направился в центр Интернационального сеттльмента.
Угнетающая жара, типичная для шанхайского августа, повисла над городом, и редкие порывы ветра приносили только дым с пожаров в Чапэе. В ту субботу в полдень к постоянным уличным впечатлениям прибавился, помимо обычной толкучки, криков рикш и стонов нищих, еще один новый звук: глухой шум шагов тысяч китайских беженцев, молча идущих тесными колоннами, ища одного — безопасности. Не так давно, в 1932 году, Чапэй уже был местом битвы, и его жителям пришлось бежать. Теперь, как и тогда, они ожидали, что война, которая разрушила их жилища, будет остановлена на границе Интернационального сеттльмента, так как с него начиналась нейтральная зона. С кулями и детишками, привязанными за спиной, они двигались не торопясь. Калеки и старики тянулись тут и там, поддерживаемые молодыми. Надеяться им было не на что. Ожидавшее их впереди, возможно, было много хуже, чем пламя Чапэя.
Некоторые просто сидели на тротуаре или толпились у стен зданий, крепко держась за свое последнее имущество: сверток циновки, петуха со связанными ногами, пустую чашку для риса. Я сделал довольно много фотографий этих беженцев и составил в уме несколько заголовков: «Жертвы необъявленной войны», «Лицо безропотности», «Китай уже на коленях?».
Меня охватило вдохновение, и интересная статья стала формироваться в голове. Я вынул записную книжку и записал несколько мыслей.
Над головой послышалось жужжание самолета. Я посмотрел вверх. Ослепленный солнцем, я ничего не увидел. Вдруг взрыв и колебание земли бросили меня на колени; я почувствовал страшную боль в ушах, вкус пыли во рту, закрыл лицо руками и прижался к мостовой. Минуту я слышал звук падающего булыжника и разбитого стекла, когда второй взрыв заглушил все другие звуки. Удушающая тишина последовала за взрывом. Человеческий плач и стон заполнили тишину. Я заставил себя подняться. Среди лежащих недвижно и дергающихся в конвульсиях были и те, кто уцелел. На дороге горел автомобиль. Мертвый кули сидел на своей поломанной двуколке, обнимая подушку. Я поскользнулся на луже крови и упал на стену. Держась за стену, стараясь избегать тел убитых, я пошел дальше. Маленький ребенок полз на животе передо мной. На вид ему было меньше двух лет. Он запнулся, повернулся на спину и уставился в небо. Я уронил фотоаппарат, поднял ребенка и понес его на руках.
Я шел в сторону отеля «Палас»; в моем затуманенном мозгу маячила надежда, что там я найду помощь ребенку. Но «Палас» уже не был убежищем. Бомба пробила его крышу, и вестибюль этой фешенебельной гостиницы был забрызган кровью не меньше, чем улица у входа. Ни доктора, ни медсестры не было. Раненые беспомощно лежали на полу или повалившись в кресла.
Я опять вышел на улицу, не совсем сознавая, что делаю. Кто-то схватил меня за плечи. Это был молодой китаец, студент, судя по его синей студенческой форме.
— Китай никогда не сдастся, — крикнул он мне в лицо.
Я хотел вырваться от него, но не мог.
— Ваша очередь придет, — закричал он опять и исчез в толпе, но его голос долго звучал в моих ушах.
Я повернулся опять в сторону отеля и увидел моего коллегу, корреспондента «Нью-Йорк дейли», который провел двадцать пять лет в Китае. Его одежда была обрызгана кровью, но он не казался озабоченным.
— Настоящий спектакль, не правда ли? — спросил он весело. — Если тебе хочется набрать действительно интересной информации для репортажа, беги в «Нью вёлд — эмьюзмент парк»[19], там настоящий ад.
— Что же насчет ребенка? Есть ли где-нибудь доктор? — он посмотрел с удивлением на меня, как будто раньше не заметил ребенка у меня на руках.
— О, да ведь он мертвый.
Он был действительно мертвым.
— Послушай, друг, — сказал он, — тебе надо выпить.
Он взял ребенка из моих рук и осторожно положил его на тротуар.
— Кто-нибудь его подберет… Я должен бежать назад в редакцию, а ты иди в отель «Катей» и закажи себе двойной дринк[20].
Я не пошел пить в отель «Катей». Когда ребенок был взят из моих рук, я почувствовал облегчение, будто туман рассеялся у меня в голове, и вспомнил, что я — репортер, который находится в самом центре событий мирового масштаба.
Я побежал в сторону перекрестка, который разделял город на Интернациональный сеттльмент и Французскую концессию. Там, как я узнал позже, в парке, может быть иронически названным «Нью вёлд», собрались около пяти тысяч беженцев получать бесплатную еду. Пока они ждали, поврежденный китайский самолет, оснащенный двумя бомбами, предназначенными для бомбежки японского броненосца «Идзимо», пролетел низко над головами. Пилот, как он позже объяснил, хотел сбросить бомбы на ипподроме. Но оттого, что он был неопытен или испугался, он не попал в цель, и бомбы упали в толпу беженцев.
Когда я добрался до «Нью вёлд», амбулансы[21] уже были там. Санитары с трудом находили тех, кто еще мог выжить, среди горящих тел, и время от времени живых бросали вместе с трупами. Те, кто не был ранен, неподвижно сидели, как будто покорность судьбе руководила их жизнью. Среди волонтеров я заметил человека в синей морской форме и узнал генерала Федорова. Почему-то мне стало легче, когда я увидел его. Его искалеченное лицо, красное от жары, было торжественно и спокойно. Он очень деловито двигался среди праздных зевак, организовывая их в группы помощников, и отдавал им приказания. Он увидел меня, смотрящего на него с восхищением.
Я спросил:
— Как случилось, что вы оказались здесь, генерал? — но он только сделал неопределенный жест, означавший, что не могло и быть иначе, и сказал:
— Сондерс, проверьте, мертв ли тот солдат, и заберите у него оружие.
Я сделал, как он велел.
— Что делать с женщинами, которые не выпускают из рук мертвых детей? — спросил кто-то генерала.
— Если они не ранены, оставьте их, но заставьте сесть в амбуланс, если им самим нужна медицинская помощь.
Он повернулся к толпе молодежи, собравшейся вокруг него, выстроил их, как солдат, и несколько минут говорил им что-то по-русски. Я сомневался, чтобы все его понимали. Но они тут же начали выполнять его приказания. Я подумал о его дочери, и мне захотелось, чтобы она была там и видела его в эту минуту. Мне даже казалось, что вот-вот она появится среди медсестер. Белая форма очень пошла бы к ее печальному лицу. Я подал генералу ружье, которое взял у мертвого китайского солдата; он внимательно осмотрел его и покачал головой.
— Очень, очень плохое оружие, — сказал он. — С таким выиграть войну невозможно. И даже защитить себя.
— Особенно против бомб, — сказал я.
— А раньше они хотя бы воевали на поле битвы. Теперь же они просто бросают бомбы, не глядя. Никакой стратегии.
— Но вы сегодня получили боевое крещение, — добавил генерал, указывая на мой белый костюм, которой больше не был белым.
Мне показалось, что его лицо выразило удовольствие. Когда работа скорой помощи была наконец закончена и последний амбуланс приготовился уехать, генерал сказал:
— Какая ненужная трата крови, не правда ли?
— Вы не думаете, что Чан Кай Ши должен был бы защищать Шанхай? — спросил я, следуя своим мыслям.
— Генерал Чан, если он хочет выиграть войну, прежде всего должен быть генералом. Он не может одновременно принимать участие в маневрах, драться в битвах, занимать шесть штатских должностей, а также ходить со своей женой на приемы. Шесть должностей у этого человека. И это только официально. В Японии есть император, и потому у нее есть генералы, адмиралы и министры. У Китая есть только один человек, который хочет быть всем. Человек должен приносить славу своей родине, а не самому себе.
Я сказал, что сама по себе позиция обороняющегося не так уж славна, но он меня перебил.
— Нет, это не так, мистер Сондерс, не так. Когда Наполеон пришел в Россию, мы оборонялись, но что же было потом?
Он ждал от меня правильного ответа.
— Потом наступила суровая русская зима, — сказал я.
— Зима? Вы думаете, что зима в октябре месяце победила Наполеона? Зима!!! Патриотизм, мой друг, патриотизм русских людей и блестящая стратегия русского военного командования, вот что победило Наполеона. Все, все были готовы умереть за царя и отечество.
Мне казалось, что в Китае не было недостатка в людях, готовых умереть, но спорить об этом с генералом было бесполезно, и я решил переменить тему разговора.
— Как поживает ваша семья? — спросил я.
— Хорошо, все здоровы. Вы должны непременно зайти к нам и рассказать, как вы нашли Америку. Александр всегда говорит о вас, когда речь заходит об Америке. Приходите как-нибудь вечером, к обеду.
— Спасибо, приду, — сказал я, — и я все еще хочу заняться русским языком. Некоторые из моих коллег берут уроки у своих русских знакомых.
Я пожалел, что сказал это, потому что тогда было модно среди корреспондентов брать уроки у своих русских содержанок. Но генерал, казалось, не понял особого значения моих слов. Он одобрительно кивнул головой.
— Очень хорошо, очень умно. Наступит время, когда они будут в большом спросе, благодаря знанию русского языка. Идут большие перемены. Большие события. Мир потрясет другая революция, и когда она придет, мы освободим нашу родину от большевиков.
Я пожал ему руку, сказав, что тороплюсь в редакцию писать репортаж, и оставил его посреди поля, которое он осматривал. Возможно, в его воображении оно было местом победного сражения. Залезая в повозку рикши, я оглянулся. Генерал стоял, не двигаясь, как памятник неизвестному солдату. Он не видел меня.
И только садясь за стол перед пишущей машинкой, я понял, что потерял свой фотоаппарат.
Глава четвертая
Китай боролся четыре месяца, защищая Шанхай. Японцы бросали в ожесточенные бои танки и самолеты, сыпались бомбы и снаряды. У Китая были только люди, их выносливость, их покорность и их скорбь. Некоторые говорили о сверхчеловеческой храбрости, но у них просто не было другого выбора. В Чапэе китайские солдаты дрались за каждое разрушенное здание, за каждый дом. Японское превосходное вооружение не помогло, японцы не смогли выиграть бой и подожгли город. Пока Чапэй горел и японские флаги были подняты над скелетами обгоревших домов, единственный китайский флаг продолжал развеваться несколько дней: китайский батальон, прозванный газетами «обреченным», был подвергнут бомбардировке. Уцелевшие были взяты в плен японцами и исчезли навсегда.
В ноябре Сучао Крик[22] сдался; японцы передвинули войска из предместья Интернационального сеттльмента к границам Французской концессии и направили свои орудия на китайскую часть города Намтау. Пока они сражались в Намтау, однорукий французский священник отец Жакино Лебасанж, несмотря на опасность, добился создания нейтральной зоны, где укрывал и кормил тысячи китайских беженцев[23]. Но пока один человек защищал и спасал тысячи жизней исключительно силой своего духа, великие нации смотрели на все это, оставаясь равнодушно нейтральными. Когда военные действия кончились поражением Китая, европейские концессии в Шанхае оказались окружены японской армией.
Гражданские права, правосудие и законы были определены границами концессий: нарушение закона в одной части города не было преступлением в другой. Генералиссимус Чан Кай Ши передвинул свою главную квартиру в Чункин и призывал молодежь Китая на борьбу. В то время как китайские фабрики работали на Японию и китайские дети в школах должны были кланяться портрету японского императора, иностранный Шанхай делал вид, что никаких перемен не произошло. Иностранные суда посещали шанхайскую гавань и бросали якорь в реке Вангпу, как прежде. Моряки со всего мира приносили свои заработки в бары Интернационального сеттльмента и Французской концессии и оглашали ночные улицы непристойными песнями.
За закрытыми дверьми китайские компрадоры и иностранные коммерсанты отмечали заключенные сделки и поднимали тосты в честь торгового будущего Шанхая. Корреспонденты встречались в клубах и в вестибюлях отелей, делились новостями из дома, со всего мира, обсуждали запоздалые слухи. Чувствуя себя защищенными международными договорами, европейцы продолжали свою обычную жизнь, не задумываясь о том, что вся китайская часть Шанхая находится во власти нового хозяина. А кули относили свои ежедневные заработки в опиум-притоны, чтоб хотя бы на время забыть свою скорбь.
Но незаметные за блеском, весельем и шумом этой эфемерной жизни, зловещие силы надвигались на город. Из Маньчжурии, где Япония хозяйничала, утвердив своего ставленника во главе карманного государства Маньчжоу-го, приходили отрывочные и угрожающие вести.
Многие пытались покинуть Маньчжурию, потому что фанатизм, с которым японцы боролись против всех, кто стоял на пути их беспредельных амбиций, был поразителен в своей жестокости. В борьбе с Японией Китай, оставшись без союзников, все чаще оглядывался на Москву. Поездки в Советский Союз стали популярными среди корреспондентов, и я решил учить русский язык для возможной поездки в Москву.
В холодный январский день я отправился на Зикавейское кладбище повидать дочь генерала Федорова. Александр открыл мне дверь, прежде чем я успел постучать; в зеркале на стене я увидел отражение лица Тамары. Окруженная людьми, она стояла посредине комнаты и улыбалась.
— Хэлло, мистер Сондерс, — сказал Александр. — Я увидел в окно автомобиль, это ваш?
— Проходите, проходите, — закричал генерал. — Вы пришли как раз вовремя, на Тамарины именины.
Я почувствовал себя незваным гостем и попытался извиниться и уйти, но генерал не отпустил меня, взяв за руку.
— Входите, входите. Очень рады. Александр возьмет ваше пальто.
Пальто сняли без моего участия, и Александр убежал с ним наверх. Когда я подошел к Тамаре, все окружавшие ее перешли на английский язык, очевидно, ради меня. Я пожал ее руку и пробормотал поздравление. Лицо ее сияло, и, хотя улыбка относилась ко всем в комнате, мне показалось, что в ее радости было что-то потаенное. Как очень молоденькая девушка, не уверенная в своей светской роли хозяйки дома, она казалась и важной, и застенчивой в то же самое время.
— Благодарю вас, — сказала она мне и повернулась к усатому господину в морской форме. Он поднес ей маленький букет слегка увядших цветов и, приложив руку к сердцу, словно давая присягу, произнес короткую речь по-рус-ски и поцеловал ей руку.
— Позвольте вам представить мистера Сондерса, — сказал генерал, взяв меня за локоть и повернув в сторону господина в морской форме. — Адмирал императорского флота Сурин.
Адмирал принял представление с легким поклоном, потом пристально посмотрел на меня сквозь пенсне, как будто я был новобранцем на смотре. Я не знал, говорит ли он по-английски, его упорный взгляд показался мне неуместным, и я стал искать глазами генерала, который куда-то исчез.
— Американец? — неожиданно спросил адмирал. Я вздрогнул и утвердительно кивнул головой.
— Почему, — строго спросил он, — почему ваша страна допустила азиатов дать пощечину вашему флоту?
Я понял, что он говорил о потоплении японцами нашего военного судна «Пеней», которое случилось в декабре на реке Янцзы. Я пожал плечами, давая понять, что непричастен к этому событию.
— Ужасная драма для адмирала Ярнелла.
Каждая его фраза звучала, как венок на чью-то могилу, он наклонил голову, как будто в знак траура.
— Они никогда не слушают военных и потом расплачиваются.
Я сам был возмущен политикой Государственного департамента и тем фактом, что твердая позиция Ярнелла не получила поддержки из Вашингтона, но не чувствовал себя ответственным за ошибки моего правительства.
— Японское правительство принесло извинения, — сказал я, повторяя официальную фразу. — Лучше принять извинения и не делать шума.
— Японцы всегда извиняются. Они бомбят госпитальные пароходы, а потом твердят: «So sorry»[24]. Но когда честь страны замешана… — он не договорил свою фразу о чести, потому что генерал Федоров неожиданно оказался между нами, как рефери:
— Не слушайте адмирала, мистер Сондерс, эти моряки всегда высказывают странные идеи.
— Если бы армия слушала адмирала Колчака в 1918 году… — сказал адмирал Сурин и взглянул на генерала неодобрительно. Очевидно, это был давнишний спор между ними, и все точки зрения были известны и не нуждались в объяснениях.
— А где баронесса? — спросил я, чтобы сказать что-ни-будь.
— Она одевается, — шепнул генерал мне в ухо, — а это всегда длинная процедура.
Александр открыл дверь новому гостю. Вошел человек лет сорока, чисто выбритый и тщательно, хотя и безвкусно, одетый. Огромная коробка шоколада с ярко-оранже-вым бантом была у него под мышкой. Александр старался помочь ему снять пальто, бутылка коньяка, которую он держал в руке, на мгновение исчезла в рукаве. Когда она появилась опять, он передал ее Александру и указал на генерала. Я заметил, что генерал не встретил его у двери и смотрел с усмешкой на всю сцену.
Гость подошел к Тамаре, дал ей коробку и щелкнул каблуками. Его дорогая одежда и яркий галстук так не подходили к этому скромному дому. Поклонившись гостям, он подошел к генералу в тот момент, когда Александр всунул бутылку коньяка в руки дедушки. Гость щелкнул каблуками генералу, адмиралу и застыл в положении «смирно».
— Благодарю вас, — сказал генерал, взглянув на наклейку на бутылке.
— Рад быть здесь, ваше превосходительство, — это прозвучало по-солдатски, и генерал принял это с легкой улыбкой.
— Мистер Сондерс, — сказал генерал, — это капрал Иванов.
— Он был в дедушкиной армии, — пояснил Александр.
— А теперь успешный делец по части так называемых ценных бумаг, — добавил генерал, и я понял, что человек в безвкусном костюме был одним из тех спекулянтов, которые делали деньги на шанхайской бирже. Иванов крепко пожал мне руку и как будто с облегчением сказал:
— Рад с вами познакомиться.
Он посторонился и пропустил генерала, который спешил к двери встречать очень старого человека с медалями на груди. Я услышал шорох и увидел баронессу, спускающуюся по лестнице.
Адмирал галантно устремился вперед и предложил баронессе руку.
— Тамара, — сказала она своим звучным голосом, — felicitations[25], и дай Бог нам праздновать твои следующие именины дома.
Она дотронулась до Тамариного бледного лба губами и дала ей маленький пакетик, завернутый в розовую бумагу. В манере, с которой баронесса приветствовала того или другого гостя, была почти незаметная разница; Иванову она протянула только два пальца.
— Я только что говорил мистеру Сондерсу, — сказал адмирал Сурин баронессе, — какая ужасная для Америки трагедия с судном «Пеней» и какие серьезные последствия для будущего.
— А что вы ожидали, mon cher, когда страной управляет народ?
— Да, но его превосходительство президент может потребовать возмещение, не так ли?
— Ах, пока он будет советоваться со всеми гражданами, весь флот будет на дне.
— Ну, все равно, — улыбнулась мне баронесса, — мистер Сондерс работает в английской газете.
Ее замечание имело мало общего с темой, о которой говорил адмирал, но, очевидно, тот факт, что я работал для подданных монарха, был в мою пользу. Решив, что пришло время уходить, я отложил разговор об уроках до более подходящего времени и стал прощаться с генералом.
— Нет, мистер Сондерс, — сказал генерал с почти испуганным выражением лица, — вы не можете уйти, друг мой.
Будет непростительно, если вы не попробуете именинного пирога.
— Это просто оскорбительно! Специальный пирог для именин, как ваш торт для новорожденных в Америке.
Это был Петров. Он оказался около меня неожиданно, улыбаясь и кивая головой. Я не заметил его прихода и не ожидал увидеть его здесь. Он посмотрел с удивлением на две бутылки шампанского в своих руках, как будто бы не зная, как они очутились у него, и поставил их неловко на стол.
— Ваше превосходительство, — сказал он генералу, — разрешите мне показать фотографию, которую прислал Николай.
Он достал фотографию молодого человека с тем умышленно вызывающим выражением лица, которое бывает только в ранней молодости.
— Новое поколение, а? — спросил он, наклоняясь над плечом генерала и глядя на карточку.
— Отличный молодой человек, — генерал показал карточку мне. — Сын Петрова учится в Америке.
Я не знал, что Петров был женат, он выглядел человеком, давно живущим без семьи. Он разговаривал со мной несколько раз, когда подавал мне в Американском клубе, но разговор всегда касался или России, или Штатов.
— Его мать умерла, — сказал Петров, словно читая мои мысли. — Два года тому назад я послал его в Сан-Франциско. Он будет служить России лучше, если у него будет хорошее образование.
— Это возможно только потому, что его отец служит у американцев, — пояснил генерал. — Николай — счастливый сын отца, который посылает ему свое жалование.
— Единственный сын, — сказал Петров, — назван в честь царя. Он не только мой сын, но и будущая надежда России.
Он взял карточку и стал разглядывать ее.
— А что он изучает? — спросил я.
— Историю, как и его отец, — ответил генерал.
Петров посмотрел на меня внимательно, очевидно слово «история» должно было произвести на меня особое впечатление.
— Я готовился быть преподавателем истории, — сказал он. — Я учился в университете два года. Потом пришла революция, все студенты стали солдатами, а теперь…
Он развел руками, как будто прося извинения за настоящее.
— А что если ваш сын полюбит американскую девушку и решит остаться в Америке?
Я сразу же пожалел, что спросил о том, что для меня было только банальным вопросом, а для Петрова оказалось откровением. Лицо его покраснело, глаза умоляли меня отречься от подобного предположения. Он долго теребил галстук, пока, наконец, не нашел подходящих слов, и сказал:
— А что, если вы, мистер Сондерс, полюбите здесь, в Шанхае, иностранку? Что случится тогда?
— Я ее возьму с собой домой, — ответил я. — Но это едва ли случится.
— Так же и с Николаем, — сказал Петров. — Едва ли случится, или возьмет с собой домой.
— Пожалуйста, господа, садитесь, — сказал генерал, взял меня за локоть и подвел к столу.
Александр сел рядом со мной. Я сел напротив Тамары и опять был поражен выражением ее лица. В нем не было прежней меланхолии, оно выглядело много моложе, совсем другим, чем обычно. Отрадное чувство, которое светилось в ее темных глазах, как мне казалось, относилось к чему-то, давно минувшему. Она обращалась ко всем с лучистой улыбкой, но, похоже, замечала только своего отца. Генерал поднес ей на подносе бокал шампанского, все встали и стали петь в ее честь какую-то песню. Тамара ласково засмеялась и, сложив руки, ждала, когда отец поцелует ее в щеку. Она выпила бокал до дна, налила опять и подала его отцу. Адмирал Сурин налил еще бокал шампанского и поднес его баронессе, продолжая петь. По обычаю, нужно было повторять слова «пей до дна», пока каждый гость пил свой бокал. Это продолжалось до тех пор, пока не кончилось шампанское. Когда наступил мой черед, Петров, который протиснулся между мной и Александром, сказал мне, что это значит «вверх дном».
— Это то, что мы желаем Советскому флоту, — сказал адмирал.
— А можно мне тоже? — спросил Александр, но две бутылки были уже пусты. Капрал Иванов был последним, и он получил только полбокала. Тамара взяла свой бокал, налила в него немного чаю и поднесла его на подносе Александру.
Мальчик встал и с серьезным лицом смотрел на мать. Увидев ее улыбку, он стал улыбаться, а потом смеяться. Она взяла его голову руками и поцеловала в лоб.
— За Россию? — спросил Александр.
— Нет, в этот раз за твое здоровье и счастье, — сказал ему дед.
— Чтобы ты вырос большой, сильный и стал морским офицером, — воскликнул адмирал. Я посмотрел на генерала. Его полузакрытый глаз заставил меня снова подмигнуть ему, но он этого не заметил. Казалось, он не слышал возгласа адмирала. Он был отстранен от настоящего и, как Тамара, погружен в свои воспоминания. Это продолжалось короткий миг. Он дотронулся до своего шрама на лице, словно то был амулет, и сказал что-то по-русски баронессе. Та улыбнулась.
Тамара принесла несколько пирогов, нарезала их и стала подавать каждому гостю.
— Пироги, — прошептал Петров. — С мясом, рыбой и капустой.
Я вспомнил, что наша русская прислуга в Сан-Франциско однажды угощала меня таким же мясным пирогом, когда я пил чай в ее комнате. Может быть, она тоже праздновала свои именины в тот день, и я, не зная этого, принимал участие в этом ритуале.
— В Америке вы празднуете день рождения, а в России мы отмечаем день святого, в честь которого мы названы. Так же для нас Пасха более важный праздник, чем Рождество.
Я не видел никакой связи между Пасхой и именинами, просто Петров старался меня развлекать, потому что разговор перешел на русский язык и меня забыли.
Для меня это была непривычная и странная компания. Все, что они говорили, казалось очень важным для каждого из них. Напряженность в их голосах была непохожа на вежливые разговоры на обычных приемах. В то же время искренность их мнений казалась театральной; они были, как актеры, играющие безукоризненно свою роль, и я почти что стал ожидать аплодисментов от невидимых зрителей.
Я посмотрел на Тамару. Занятая своей тайной радостью, она слушала только, когда говорил генерал. Ее самоуглубленность делала мое чувство отчужденности менее чувствительным. Время от времени баронесса и генерал вставляли словечко по-английски, беспокойно и быстро поглядывая в мою сторону. Я предпочел бы в тот момент, чтобы они меня не замечали вовсе.
— Лучше принять помощь от Англии, чем от Японии, — говорил генерал.
— Mon cher, — сказала баронесса, — вы забываете, что Англия первая подписала договоры с большевиками. Ожидаете ли вы, что Англия, с ее коммерческой душой, может понять наши проблемы?
— Я ничего не ожидаю, но ясно, что мы никогда не сможем сделать это сами, одни. Мы должны принять помощь от кого-нибудь.
— Армия никогда не могла сделать ничего без посторонней помощи, — сказал адмирал. — Я говорю, что мы можем сделать это сами. Но нам нужно участие каждого русского в эмиграции. Объединение и кооперация.
Петров нагнулся ко мне и прошептал:
— Адмирал Сурин — глава Комитета освобождения Родины.
— Ваше превосходительство, где вы возьмете корабли и деньги, чтобы послать всех людей обратно в Россию?
— Вы забываете, генерал, что в России миллионы верных людей ждут нас. Все, что им нужно, это руководство. Организация и руководство. А кто поведет народ, если мы будем сидеть здесь и ждать помощи?
— Да, но послушайте, адмирал, — начал генерал, но был перебит громким стуком в дверь.
Александр побежал отворять дверь. Мужчина и женщина стояли в дверях. Человек посмотрел поверх головы Александра на гостей и спросил:
— Кто здесь сторож? — никто не ответил.
— Где сторож этого кладбища? — повторил он недовольным тоном. Генерал поднялся с места, но Тамара его опередила у двери.
— Он не сторож, — воскликнула она. Генерал отодвинул ее и погладил ласково ее руку.
— Я здесь заведующий, — сказал он, — идемте.
Генерал вывел их наружу и закрыл за собой дверь.
Александр шагнул к матери, но когда увидел ее бледное, расстроенное лицо, остановился молча.
— Иди наверх, — сказала она резко, — иди.
Мальчик быстро закрыл лицо руками и побежал наверх, словно от погони.
— Тамара, возьми себя в руки, — сказала баронесса по-французски. — Noblesse oblige[26].
Ее возглас прозвучал, как стрела, направленная прямо в цель. Тамара подошла к столу и села на свое место.
Некоторое время никто не сказал ни слова, а когда стали говорить, то шепотом.
— Мадам Базарова, — спросил я. — Можно мне пойти к Александру?
Она посмотрела на меня, словно удивляясь моему присутствию, и кивнула головой. Я нашел мальчика в спальне, которую он, очевидно, делил с матерью. Он лежал на походной кровати рядом с кроватью побольше, закрыв лицо чьим-то пальто.
— Послушай, — сказал я, — она не хотела тебя обидеть.
У меня не было опыта разговаривать с детьми, особенно с плачущими.
— Я не потому, — сказал он.
— А почему?
— Я не знаю. Сам не знаю.
Над его кроватью была фотография мальчика такого же возраста, как Александр, в матросской форме.
— Это ты? — спросил я, указывая на фотографию.
— О нет! Это сын царя, Алексей.
Я вспомнил, что обещал ему фотографию памятника Пушкину.
— Они его тоже убили, — сказал он неожиданно, — он никогда уже не вырос.
— Знаю. А у меня есть для тебя фотография памятника.
Я надеялся, что она еще есть в моем столе.
— Она есть у вас? Я думал, вы забыли.
— Нет, я не забыл. Я приду опять и принесу ее.
— Вы приедете в вашем автомобиле?
— Ты хочешь прокатиться? — спросил я, и он улыбнулся. — Я приеду, и мы поедем кататься.
— Скоро?
— Да, а теперь помоги мне найти мое пальто.
Когда я спустился вниз, генерал был в комнате. Он открывал бутылку коньяка и говорил подчеркнуто веселым голосом. Я сказал, что я скоро приеду поговорить с Тамарой об уроках русского языка.
— Прекрасно, — сказал он, провожая меня до двери. — Очень рад, что вы зашли, мистер Сондерс.
— До свидания, — сказал я, — спасибо.
И чуть не добавил «ваше превосходительство».
Глава пятая
Ранней весной 1938 года я начал брать уроки у Тамары Базаровой. В это время я не задумывался над тем, что привело меня к решению изучать русский язык, кроме каких-то неопределенных планов работать корреспондентом в Советском Союзе. Оглядываясь назад, я склонен верить, что какое-то предопределение руководило мною. Я не подвержен мистицизму, и под предопределением я понимаю стечения обстоятельств, направляющих человека на определенный путь, который он сам бы никогда не выбрал.
Я ездил на Зикавейское кладбище раз в неделю, за исключением тех дней, когда уезжал из города по заданию или мне просто не хотелось окунаться в учебу. Александр всегда присутствовал на наших уроках, сидел очень тихо, хотя он явно переживал за меня, когда мне не давалось произношение трудных слов. Дважды я приносил ему маленький подарок, но Тамара сказала мне, что она будет вынуждена перестать принимать плату за уроки, если я буду продолжать это делать, и я должен был покориться ее желанию. Когда же я однажды принес бутылку коньяка ее отцу, она промолчала. Я никому из моих коллег-репортеров не говорил, что изучаю русский язык, — осторожность, которая помогла мне избежать многих сомнительных острот.
Тамара была прекрасной учительницей, но даже ее энтузиазм в отношении языка редко нарушал ее сдержанность. И только время от времени она позволяла себе высказать явное одобрение, когда я делал успехи в произношении или осиливал трудное грамматическое правило. Это было скорее удовлетворение своим преподаванием, чем моей способностью воспринимать его.
Время от времени какое-нибудь слово вызывало у нее в памяти что-то из прошлого, и она останавливала урок, чтобы рассказать мне о том, что некогда случилось в России. Ее воспоминания большей частью были связаны с отцом, и в таких случаях ее лицо принимало восторженное выражение. У нее также была манера поднимать подбородок с таким видом, будто она хочет отстранить от себя все, что происходит вокруг в данный момент. Я никак не мог понять ее упорного желания оставаться в мире, в котором жил ее отец. Но, зная по собственным наблюдениям, как опасна такая привязанность, я в то же время не мог решить, что разумнее: жить, как я, в ожидании будущего или в воспоминаниях о прошлом, как она.
Так однажды, год спустя после того, как мы начали с ней заниматься, Тамара рассказала мне о свадьбе своих родителей. От Петрова я знал, что мать умерла, когда Тамаре было едва два года, и что ее воспитала гувернантка, англичанка, которую Тамара не очень любила, потому что она была, как Петров выразился, «очень холодная иностранка».
— Моя мама была очень красивой, — сказала Тамара. Она встала и направилась к лестнице, но Александр опередил ее:
— Сиди, мама, я принесу бабушкину фотографию.
Он побежал наверх и через минуту вернулся с портретом в старинной раме.
— О, замечательно красивая, — сказал я, как можно сказать о мраморном бюсте. Лицо, которое смотрело на меня, было слишком красивое, чтобы возбуждать чувства, слишком гордое, чтобы быть когда-нибудь нежным. Такое лицо не могло принадлежать живому телу или быть искажено какими-нибудь человеческими чувствами. Я попробовал представить себе эту женщину на Зикавейском кладбище и подумал, что иногда и смерть бывает не без милосердия.
— Да, это за ее красоту маму выбрали преподнести цветы моему отцу, когда он вернулся героем с войны.
Я смутно помнил рассказ Петрова в клубе о героизме генерала Федорова в период Русско-японской войны. Очевидно, в связи с этим героическим поступком молодого Федорова чествовал его родной город, и самая красивая девушка подносила цветы. Говоря о прошлом, Тамара часто пропускала фактические данные, из-за своей рассеянности она полагала, что они знакомы всем ее слушателям.
— После был большой бал в честь моего отца. Мама была в белом платье, и они весь вечер танцевали вместе, хотя все другие женщины хотели танцевать с ним.
Я подумал: молодой герой, красивая девушка в белом платье, музыка, все, что столько раз повторялось в бульварных романах, и все же для ребенка, жившего в мире этой несносной романтики, все это стало единственной реальностью.
— Ну, и что же, сделал ли он ей предложение в ту ночь?
Глубокое уважение к отцу сделало Тамару невосприимчивой к моему сарказму. Я не хотел причинять ей боль, но иногда меня возмущало отсутствие в ней желания иметь свою собственную жизнь.
— Нет, — сказала она, принимая мой вопрос за интерес к отцу, — через несколько дней он должен был ехать обратно на фронт, и поэтому он сказал, что он не имеет права просить ее ждать его. Когда он вернулся через год, первым делом он имел разговор с ее родителями, а после он нашел ее в саду, где она ждала его, и сделал предложение. В России, вы знаете, в садах — масса сирени. Они сидели в саду весь вечер и слушали пение соловья. Через семь месяцев они венчались в Исаакиевском соборе в Петербурге.
С этого момента я понял, что для Тамары в изгнании, в Китае, любовь была невозможна. Она никогда не смогла бы примириться с простыми житейскими отношениями, с потом, взъерошенными растрепанными волосами и одеждой, снятой второпях и брошенной на пол. Любовь для нее была: герой, вернувшийся с войны, сирень в цвету и песнь соловья. Я старался представить себе, каким был ее муж. Она никогда о нем не говорила, и Александр тоже.
Хотя Тамара не вызывала во мне никаких чувств как женщина, сам ее отказ от жизни интриговал меня, и иногда я задумывался над тем, могло ли ее красивое лицо когда-нибудь выразить страсть. Правда, совсем не с этим на уме я пригласил ее однажды в кино. Шла «Анна Каренина» в Американском клубе, и я подумал, что ей будет интересно посмотреть этот фильм.
— Я люблю Анну, — сказала она, как будто героиня была не продуктом авторского воображения, а близкой подругой. — Да, я с удовольствием посмотрю этот фильм.
— Мы можем пойти пораньше и пообедать в клубе, — сказал я осторожно, помня, как она раньше отвергала все мои приглашения.
— Американский клуб? — спросила она. — Это там работает Петров, не так ли?
— Да, там.
— Я думаю, что я не могу там обедать.
— Мы можем пойти куда-нибудь в другое место.
— В другое место можем.
Когда я заехал за ней вечером, я заметил, к моему удивлению, что она нисколько не прихорошилась. Ее старомодное платье плохо сидело на ней. Она не употребляла косметики. И, в отличие от других женщин, Тамара не искала на моем лице реакции на то впечатление, которое она производила, и не замечала, как я одет.
— Вы выглядите очень хорошо, — сказал я.
— Мы вернемся не слишком поздно? — спросила она.
— Американцы ложатся спать рано, — сказала баронесса, которая очень прямо сидела у стола, читая вечернюю газету. — Они заботятся о своем здоровье, а ложиться спать поздно вредно для здоровья.
Я сказал:
— Очевидно, я перенял привычку у англичан, ведь уже почти семь лет, как я работаю среди них.
— У англичан? Англичане, мой друг, не беспокоятся о своем здоровье, они ложатся спать от скуки.
— Твой дедушка дома? — спросил я Александра, который тихо сидел рядом с баронессой.
— Он играет в бридж с адмиралом Суриным, они всегда играют бридж по четвергам, а по субботам в вист.
— Я пойду наверх за пальто, — сказала Тамара, и мальчик рассмеялся.
— Что смешного? — спросил я.
— Ничего смешного, только это первый раз, что мама куда-то идет.
— Она ходит в Офицерский клуб.
— Да, но с дедушкой, а это первый раз, что она идет одна.
Когда Тамара вернулась, и мы шли к автомобилю, я заметил, как неуклюжа она была в своих жестах, словно девочка, которая еще не научилась контролировать свои движения. Я открыл дверь машины. На какой-то миг она подняла на меня свои огромные глаза, как бы ожидая инструкции, и, садясь, стукнулась головой о дверь. Мы поехали во французский ресторан, где свет был притушен и три русских музыканта играли грустную музыку.
— Вам нравится здесь? — спросил я Тамару.
— Это мне напоминает, — начала она и остановилась. — Я не знаю, что это мне напоминает, в России я была слишком молода, чтобы ходить в рестораны.
Она смотрела на пианиста, молодого человека с впалыми щеками, который, когда он играл, курил не переставая, наклонив голову вперед, как обреченный на гильотину. Рядом стоял гитарист, качая головой в ритм, он играл, закрыв глаза. Выражение его лица, покрытого глубокими морщинами, напоминающего греческую маску, никогда не менялось.
— Тот молодой человек, что за пианино, — сказала Тамара, — я его знаю. О, нет, не его. Я знаю его отца, он — знакомый баронессы.
— Он здесь давно играет, — сказал я.
Это было место, которое я посещал довольно часто, особенно в первый год в Шанхае. Я особенно любил наблюдать за виолончелистом; он был самым старым из них, и когда он думал, что за ним никто не наблюдает, он пил что-то из стакана, улыбаясь от удовольствия. У него, наверно, был хороший голос в молодости: он все еще пел, иногда с другими музыкантами, иногда соло, и хотя голос его потерял силу, в нем все еще было что-то приятное.
Официант подошел и подал нам список вин.
— Хотите что-нибудь выпить перед обедом? — спросил я Тамару. Она быстро взглянула на лист и потом на меня.
— Я буду пить мартини, — сказал я.
— Вермут? У них есть вермут?
Заученным жестом официант взял список вин, поклонился и сказал:
— Вермут для мадам, и один мартини.
— Маленькую рюмку, — сказала она, — пожалуйста.
— За что будем пить? — спросил я, когда официант вернулся. Я помнил, как русские всегда пили друг за друга или произносили сентиментальные декларации, прежде чем пить.
— За что?
— Не знаю, может быть, за дружбу.
Я употребил это слово легкомысленно, хотя не верил, что такие отношения возможны между мужчиной и женщиной, но Тамара восприняла мое предложение так, будто это было свидетельское показание в суде, и сказала:
— Мы никогда не сможем быть настоящими друзьями.
Я подумал, как утомительно быть с женщиной, которая всегда так серьезна. Неужели она не знает цены светского, незначительного разговора, когда ум отдыхает, и все сказанное тут же забывается.
— Что значит настоящие друзья? — спросил я.
— Это люди, которые похожи. Я не говорю — совсем похожи, но те, кто понимают друг друга, как люди того же крута. Кому ничего не нужно объяснять.
— А кто же все другие?
— Они просто знакомые.
— Выпьем тогда за знакомство.
Она поднесла свой бокал к моему, мы чокнулись и выпили.
Во время обеда Тамара не разговаривала, но все время оглядывалась на окружающих, как это делал Александр, когда я повел его в отель «Палас» есть мороженое. Мы пили вино — я больше не предлагал тосты, — и после третьего бокала ее темные глаза стали блестеть, как будто какое-то спрятанное тепло старалось проявить себя, но не находило выхода.
— Как вы думаете, — спросила она, — могли бы мы попросить их сыграть одну песню?
Она написала название на салфетке, и я послал, приложив деньги, музыкантам. Виолончелист улыбнулся и поклонился. Он положил деньги в карман и сделал сигнал другим двум играть. Тамара наклонилась вперед, подняв подбородок. С первых же звуков я подумал, что она начнет петь, но она только слушала, будто насторожившись в ожидании чего-то особенного. Я посмотрел на пианиста и увидел, что он не сводил глаз с Тамары. Выражение на его лице было не то, какое бывает у мужчин, когда они смотрят на красивую женщину; так смотрят на знакомый предмет, который вызывает болезненные воспоминания. Мне захотелось узнать, насколько хорошо они знали друг друга. Я посмотрел на Тамару. Она, казалось, не замечала его взгляда. Когда виолончелист пропел последний куплет песни, Тамара вдруг повернулась ко мне и сказала:
— Вы знаете, дома, в России, было одно место в саду… — но в это время виолончелист, очевидно решив, что мои чаевые заслуживают особого внимания, начал петь «America, The Beautiful…»[27], и ее голос потонул в громких звуках инструментов. Она смотрела с удивлением на музыканта, стараясь понять слова, которые он пел с тяжелым русским акцентом, совершенно не понятные даже для меня, но когда виолончелист закричал с восторгом: «Америка, Америка», — Тамара улыбнулась мне и подняла свой бокал. Я думаю, она ожидала, что я встану или хотя бы вздохну с ностальгией. И хотя я терпеть не могу любой демонстрации патриотизма, но, зная, что от меня чего-то ждут, сделал жест благодарности в сторону трех музыкантов.
— Расскажите мне, — сказала она, — об Америке. Я не могу представить, какая она.
Я никогда раньше не сталкивался с необходимостью определить мои чувства к родине, и хотя время от времени я думал о ней с нежностью, нужды сформулировать эти чувства никогда не было. Я точно знал, что со стороны Тамары этот вопрос был вежливым жестом, а не искренним вопросом, она просто хотела мне отплатить за приятный вечер.
— О, Америка — великолепная страна, — сказал я и на этом кончил.
— Но почему же вы здесь? Вам надо здесь жить?
— Китай меня интересует, и, кроме того, есть еще другие причины.
— Я понимаю, — сказала она. Я представил себе, как в ее воображении я совершал какой-то благородный поступок на пользу родине, потому что в ее представлении не могло быть человека, жившего исключительно в погоне за удовольствиями. Я увидел в ее глазах выражение симпатии, и на какое-то мгновение мне захотелось, чтобы мое присутствие в Китае было не исключительно моим личным выбором.
— Вы знаете, — сказала она, — мой отец тоже много раз должен был уезжать из России. Я хорошо это помню, потому что он всегда возвращался с подарком для меня. А когда мы должны были бежать из России во время революции, я хотела взять куклу, которую он привез мне из Парижа. Только папа сказал, что я должна оставить ее дома.
— Вы были очень молоды, когда это произошло?
— Мне было десять лет, но я все очень хорошо помню. Я помню, как я шла в гимназию утром и увидела мертвых солдат на снегу и кровь, кровь везде. Я побежала назад домой. Папы не было дома, гувернантка была в истерике, только няня была спокойна. Она велела мне молиться за отца.
Вдруг Тамара замолчала. Она посмотрела через комнату на пианиста. Он только что кончил играть и зажигал сигарету. Гитарист и виолончелист уходили с подмостков. Пианист повернулся и посмотрел на Тамару. Я почувствовал напряженную интимность между ними.
— Мы опоздаем на фильм, — сказал я.
Было похоже, что она меня не слышит. Я заплатил по счету и сказал, трогая ее плечо:
— Нам нужно идти.
Она молча поднялась, и мы ушли. В клубе я увидел двух журналистов, один из них работал в новом агентстве, а другой только что вернулся из Нью-Йорка. Американка, которую я знал, была с ними. Я хотел избежать встречи, но вернувшийся из Нью-Йорка заметил нас и подошел с приветливой улыбкой.
— Мы только что говорили, — сказал он после того, как я кончил представлять Тамаре его и американку, — Шанхай тридцатых годов то же, что Париж был в двадцатых годах, — центр для американских изгоев.
— О, я думаю, Шанхай еще более захватывающий, чем Париж, — сказала женщина. Ее улыбка раздражала меня. Я заметил, как она избегала смотреть на Тамарино жалкое платье, но ее тактичность была еще более оскорбительна.
— Вы тут уже несколько лет? — спросила она меня, и другой корреспондент ответил за меня:
— Восемь.
— Семь, — поправил я.
— Как насчет ланча завтра или послезавтра? — спросил человек из Нью-Йорка.
Я налгал, что меня не будет в городе несколько дней. Пусть он сам собирает свою информацию, подумал я. Не собираюсь поставлять ему ее за цену одного ланча и нескольких мартини.
— Мы можем пойти куда-нибудь выпить после фильма, — сказала женщина, глядя на Тамару.
— Прекрасная идея, но где мы встретимся? — спросил человек из Нью-Йорка.
Я посмотрел на Тамару. Похоже было, что мы говорили на языке, который она не понимала. Я сказал:
— Спасибо большое, но я должен отвезти госпожу Базарову домой сразу после фильма.
Журналисту я сказал:
— Счастливо.
Все они в унисон сказали:
— Рад с вами познакомиться, — Тамаре. Она слегка поклонилась.
По дороге в зал, где показывали фильм, мы встретили Петрова, который нес поднос. Он остановился на минуту, только чтобы сказать нам:
— Интересно, как они поставили «Анну» в Америке.
Я расслабился, сидя в темноте, с приятным чувством довольства, которое обычно приходило после хорошего обеда и вина. Я с удовольствием смотрел на удивительно красивое лицо Гарбо, изображавшую влюбленную женщину. Я всецело погрузился в фильм, в саму фабулу, а главное, был увлечен Гарбо, так что почти забыл, что был не один. Я громко смеялся во время сцены, когда группа офицеров, выпив невероятное количество водки, паясничала, залезая под стол или танцуя друг с другом. Я повернулся к Тамаре, чтобы сказать ей что-то, но выражение ее лица остановило меня. Она сидела тихо и прямо, и я мог чувствовать ее дрожь.
— Идемте, — сказала она и, прежде чем я мог двинуться, встала и пошла к двери. Я за ней. На улице она повернулась ко мне:
— Они не имеют права, — сказала она, — права представлять это так. Это все неправда. Они показали не жизнь в России, а какую-то комедию.
Я думаю, она считала меня ответственным за то, как голливудская студия представила русскую аристократию.
Я начал:
— Гарбо была…
— Я не говорю об Анне, — перебила она. — Они эту картину сделали, чтобы показать всему миру, в то время… в то время как нам нужны помощь и понимание. А они сделали эту нелепость.
Мы дошли до автомобиля в полном молчании, и она не сказала ни слова всю дорогу до кладбища.
Глава шестая
Я теперь плохо помню события моей личной жизни в течение трех лет, следовавших за 1938 годом. Но настроения, которыми жил Шанхай, остались ясно в моей памяти. В то время как Гитлер триумфально маршировал по Европе, весь Шанхай жадно слушал новости по радио, но все переживали их по-разному. Французы и англичане скорбели, американцы им сочувствовали, итальянцы и немцы торжествовали, китайцы оплакивали свои потерянные города.
Преследуемый тревогой, угнетенный японским контролем, Шанхай стал жертвой политических пиратов, бандитов и претендентов на власть. Богатые спрятались за армией охранников, для бедных чашка риса стала постоянной заботой. Французская концессия и Интернациональный сеттльмент продолжали свое изолированное существование в окружении японской оккупации. Но террор не знает границ, и безопасность была иллюзорна.
Япония не признавала тонкостей дипломатии: человек, лояльный Китаю, становился врагом Японии, все враги должны были быть уничтожены. Первой жертвой стала китайская интеллигенция. Многие университеты были закрыты. Один из лучших педагогов, президент Шанхайского университета, был убит. Футанский университет был обращен в штаб японского военного командования. Бомбы и гранаты, брошенные в кабинеты редакторов не коллаборационистских газет, были только предупреждением о дальнейшем. Китайский корреспондент, который писал статьи о поведении японцев в его стране, исчез. Через месяц его отрубленная голова была найдена на улице Французской концессии.
Редактор китайской газеты, получивший образование в Пенсильвании, продолжал писать статьи, критикующие действия Японии в Китае, и нападал на марионеточное правительство в Нанкине. У него была привычка пить кофе каждый день после обеда в одном и том же кафе в Интернациональном сеттльменте. Иногда, когда мне была нужна информация для некоторых политических статей, я приходил в это кафе его повидать. Его китайская вежливость, европейские манеры и спокойное мужество приобрели ему много друзей. Однажды в этом кафе он был убит выстрелом в спину. Его убийцу не нашли.
Но японцы не были единственными, кто использовал террор для своих целей. Секретная полиция генерала Чан Кай Ши нанимала убийц, чтобы отомстить тем, кто сотрудничал с новыми хозяевами. Первый назначенный японцами городской голова Шанхая был убит в его собственном доме. Другие из присоединившихся к новому правительству в Нанкине были или убиты, или похищены. Стало одинаково опасно быть китайским патриотом и японской марионеткой. Некоторым китайцам приходилось использовать политические навыки, полученные в Москве.
На фоне серьезных политических событий, финансовых интриг, преступности и полного беззакония процветала и немецкая нацистская пропаганда. Она распускала слухи об американских и английских империалистических замыслах и распространяла антисемитские памфлеты. В то же время Шанхай был свободным городом и служил убежищем секретным агентам всех национальностей и тысячам еврейских эмигрантов из гитлеровской Германии.
У врагов города был еще один сообщник: Шанхай, переполненный беженцами, был отрезан от Центрального Китая японской армией, и из-за нехватки риса появились тысячи голодающих. Когда я пытаюсь вспомнить эти годы в Китае, я вижу тысячи лиц безмолвных, безнадежных, испуганных людей, стоящих перед рисовыми лавками. Время от времени голод вызывал бунт. Узнав, что запас риса кончился, толпа ломала двери лавки или атаковала грузовик, доставлявший рис. Я не могу сказать, что я смотрел на эти голодные лица равнодушно, но все же это меня трогало не очень глубоко. Это явление было столь постоянным, что оно уже не казалось трагичным. Сама постоянность притупляла остроту. В конце концов, как бы ни переживать общую ситуацию, страдания отдельных личностей оставляют более глубокое впечатление. В те дни я мог не заметить толпу голодных людей и быть потрясенным видом старой китаянки, ползущей за повозкой с рисом в надежде подобрать несколько зерен с дороги.
Однажды в июле 1941 года я шел по Avenue Edward VII[28] в сторону одного из больших отелей, где у меня был назначен деловой завтрак. Я был занят мыслями о том, что мне разумнее сделать: послушать ли совет американского консульства и уехать из Китая домой или, что мне больше хотелось, остаться в Шанхае. Через полтора года у меня должен был быть отпуск, и я хотел использовать его, чтобы написать книгу. Многие из моих коллег приобрели известность, написав книги о своем пребывании в Китае. Шесть месяцев отпуска дали бы мне возможность высказать на бумаге все, что уже сложилось в голове.
Я хотел перейти дорогу, когда какой-то китаец попался мне на пути, он толкнул меня, и я его обругал, потом взглянул на него и понял, что он не видел меня и не слышал моих слов. Он следовал за европейской женщиной средних лет с пухлым лицом, которое говорило о комфорте и сытой жизни. В руке у нее был белый пакет с хлебом. Я хотел ее предупредить, но почему-то, может быть, из любопытства, стал наблюдать молча и ничего не сделал, когда китаец подпрыгнул к ней и пытался вырвать пакет из рук. Она прижала хлеб к груди и не выпускала его. Болезненное лицо китайца стало злым, он выкрутил руку женщины и схватил хлеб. Он не кинулся бежать, а стоял, засовывая большие куски хлеба в рот, проглатывая их не жуя. Когда полицейский ударил его палкой по голове, он упал безмолвно на тротуар. Толпа стояла молча. Женщина закрыла лицо руками.
Я сказал полицейскому:
— Вы его убили, — но полицейский не понимал по-английски и улыбнулся, словно приняв комплимент.
Я выбрался из толпы. «Будь я проклят, если я останусь здесь еще на один год», — подумал я. Во время ланча и все время после обеда, за письменным столом, я обдумывал отъезд из Шанхая. По контракту я обязан был сказать мистеру Эймсу, редактору, об этом за месяц до отъезда. Я думал, как приятно было бы быть дома во время рождественских праздников. Но потом подошел вечер, привычка проводить его в кабаре, где играла музыка и было весело, взяла верх, и я опять не был уверен в своем решении.
Лицом к лицу с опасностью Шанхай погрузился в полную бесшабашность. Стремление, с каким население обреченного города старалось забыться в развлечениях, говорило о скором приближении бедствий. Ночью, когда неоновый свет и возбужденная толпа затушевывали нищету дня, Шанхай игнорировал свои невзгоды и предавался фальшивому веселью. Кабаре и бары оставались открытыми до утра, театры были переполнены, дома терпимости процветали. Не видя спасения от невзгод, толпа искала пьянящей одури.
Было невозможно не поддаться этому ослепительному наваждению, отказаться от поддельных удовольствий. Я окунался в них, даже если день был полон беспокойств. Вечер приносил облегчение. Только теперь, оглядываясь назад, я вижу всю фальшь этого блаженства, а в то время мне и в голову не приходило задуматься об этом серьезно. В Советском Союзе шла жестокая война. Я отложил планы ехать туда, но продолжал брать уроки русского языка. Я не знал, понадобится ли мне это когда-нибудь, но, изучая язык, я получал удовольствие от своих успехов, к тому же я понял, что русская семья нуждается в деньгах. Отношения мои с Тамарой оставались ровными, спокойными, а Александр и генерал выражали такое искреннее удовольствие от моих посещений, что это не могло не питать мое тщеславие. Иногда, когда я смеялся с Александром или слушал рассказы генерала о войне, я замечал, что Тамара следит за мной с каким-то удивленным вниманием. Несколько раз мне казалось, что она была почти готова сказать мне что-то иное, чем в обычных разговорах. Возможно, это была моя фантазия. Я не придавал этому никакого значения. В то время я был вполне доволен своей китайской любовницей и не интересовался другими женщинами.
Мэй Линг (не знаю, было ли это ее настоящее имя или она взяла имя мадам Чан Кай Ши, чтобы понравиться иностранцам) появилась в моей жизни неожиданно и без всяких осложнений. Я проводил время в ночных клубах с приезжим журналистом и однажды в кабаре «Парамаунт» оказался вдруг один, без него. Подождав журналиста минут двадцать, я подумал, что мой гость может обойтись без меня, и решил заплатить по счету и уйти, когда Мэй Линг села за мой стол.
— Ваш друг сейчас не один, — сказала она, — и теперь вы тоже не один.
Ее лукавое лицо было очень привлекательно, и я, заказав еще вина, пригласил ее танцевать. Она сказала, что ей восемнадцать лет. Я подумал, что она моложе, но обычно они придумывают себе биографию, и я уже давно перестал расспрашивать. Я был очарован ее чувством ритма и ленивой грацией — она танцевала, как девушки из Полинезии.
— Пойдем ко мне, — сказал я.
— Как, сейчас? И без рассказов?
— Каких рассказов?
Запах жасмина от ее волос кружил мне голову.
— О'кей, пойдем, — ответила она.
В моей спальне она не торопилась раздеться, а стояла передо мной, ожидая. Она смеялась над моими неловкими стараниями снять ее китайское платье и заставила меня поцеловать ее. Я не люблю целовать проституток, но я получил удовольствие от ее свежего страстного рта.
После она не встала и не ушла, хотя я дал ей деньги и на такси, а продолжала разговаривать мелодичным голосом и задавать вопросы. Я был удивлен и немного раздражен ее поведением, но потом голос в темноте показался мне уютным и успокаивающим, и когда она сказала:
— Я устала, я останусь, о'кей? — я позволил ей остаться.
Утром, когда я проснулся, она была уже одета и сидела в кресле. На минуту на лице ее выразилось опасение, она смотрела на меня с осторожностью, словно на неприятеля, следующий шаг которого важно предвидеть.
— Ты очень хорошенькая, Мэй Линг, — сказал я, и увидел, как улыбка мгновенно превратила ее лицо в маску.
— Я не умею готовить, — сказала она. — У тебя есть слуга?
Мой слуга Сун был сдержанный китаец, который приходил каждое утро готовить мне завтрак и убирать квартиру. Он, наверное, был студентом, образование которого прервала война. В Шанхае было много таких. Он никогда не позволял себе показывать какие-либо эмоции, и его тактичность мне очень подходила. В то утро, приготовив завтрак на двоих, он все-таки делал вид, что не замечает Мэй Линг. Но ее было невозможно игнорировать. Она наполняла комнату своим певучим голосом и смехом, она вскакивала из-за стола подтвердить жестом, что она хотела сказать. Я был удивлен ее наблюдательностью, когда она демонстрировала, как мужчины разных национальностей приглашают девушек из бара на танец.
— И всегда рассказ, — добавила она. — Англичане — короткий рассказ. Американец — большой рассказ. Француз — не любит рассказ.
Я спросил Мэй Линг, был ли Шанхай ее родным городом. Она назвала маленький город около Тяньцзиня.
— Японцы пришли, я — в Пекин. Японцы пришли, я — в Хонькью. Теперь японцы в Хонькью, я — в Шанхай.
Больше я не спрашивал.
— Я вечером приходи? — спросила она, когда мы расставались.
У меня не было никаких планов на вечер, и я ей сказал, чтобы она пришла. Но на третий вечер, когда я вернулся из конторы и нашел Мэй Линг у своей двери, я велел ей уйти. Она не выглядела обиженной и просто быстро ушла.
Через несколько дней я пошел в «Парамаунт». Китайский корреспондент, которого я близко знал, был убит в то утро, и мне нужно было отвлечься от мрачных мыслей. Мэй Линг увидела меня, но не подошла. Я велел официанту позвать ее к столу. Она пришла несколько сдержанная, с тем же вопрошающим взглядом, как и в первое утро у меня. Я хотел поговорить с кем-нибудь и рассказал ей о человеке, которого больше нет, и весь скрытый смысл его гибели. Я знал, что она не поймет, но мне не нужно было ее понимание, мне нужен был кто-нибудь, кто мог слушать, не перебивая меня циничными замечаниями. Выслушав меня, она сказала:
— Мы потанцуем, — и пока мы танцевали, она положила маленькую руку мне на шею и потерла своим лбом мою щеку.
Это было не кокетство, а выражение сочувствия. Я не хотел близости с ней в ту ночь, мне только хотелось ее присутствия в постели.
Я выпил лишнего и заснул сразу, но сон мой был беспокоен, полон кошмаров. Я был рад молчаливому присутствию Мэй Линг, когда просыпался и чувствовал теплоту ее тела. Она спала на спине, вытянув обе руки над головой. Когда я встал утром, она еще спала. После завтрака я пошел на цыпочках в спальню взять часы. Мэй Линг проснулась, быстро села с выражением замешательства на лице, как будто бы не осознавая, где она.
— Я должна иди, — сказала она, сбрасывая покрывало и стоя голой около кровати.
— Нет, Мэй Линг, оставайся.
— Оставайся?
— Да, оставайся.
— Много дней?
— Пока я не вернусь вечером.
Она была там, когда я вернулся ранним вечером, и на следующее утро спросила:
— Я опять оставайся?
После той ночи она уже больше не спрашивала. Мы не делали никаких планов и не говорили о наших отношениях. Я не знаю, что она делала весь день. Она всегда была в квартире, когда я приходил домой из конторы. Принимая подарки и деньги от меня, она не выражала словами благодарность, и хотя я иногда был раздражен тем, что она засоряла мою комнату вещами, видеть ее радость от каждой вещи доставляло мне удовольствие. Я любил выходить с ней; она все еще восхищалась большими отелями, громкой музыкой и элегантными женщинами. Она, наверное, завидовала им. Все модное и изысканное производило на нее сильное впечатление.
Мэй Линг, казалось, никогда не грустила. Она была расстроена только раз, когда я велел ей убрать все стеклянные безделушки, которые она наставила на моем комоде. Может быть, ее веселость была платой за убежище и комфорт. Спустя год мне было приятно находить ее дома каждый вечер, но это было скорее похоже на привычку находить свои вещи на обычном месте. Я никогда всецело не владел Мэй Линг и знал, что она не будет очень грустить, если мы расстанемся, да и я буду скучать без нее не дольше нескольких дней.
— Куда ты пойдешь, когда я уеду? — спросил я однажды Мэй Линг.
Вероятно, она никогда не задумывалась о своем будущем.
— Может быть, в «Парамаунт», — ответила она неопределенно.
— А если японцы возьмут весь Шанхай?
— Они могут взять у англичан?
— Я не думаю, но что, если они возьмут?
— Я пойду в «Парамаунт».
Я думаю, что стены этого ночного клуба казались ей нерушимой защитой. Она, вероятно, чувствовала себя в безопасности под лучами ярких огней клуба, как я себя чувствовал спокойно под защитой своего американского паспорта.
Глава седьмая
В четыре часа утра 8 декабря 1941 года я проснулся от звука взрыва. Мэй Линг, которая спала рядом, только повернулась на другую сторону и закрыла голову подушкой. Я подвинулся ближе к ней, моя щека тронула ее плечо, я положил руку на ее бедро и закрыл глаза. Почти сразу раздался второй взрыв. Я сел. Голова раскалывалась от выпитого накануне. Мы спали не больше двух часов. После еще нескольких взрывов наступила тишина. Я раздумывал, идти или нет на улицу, узнать в чем дело, но усталость и теплота постели победили репортерский инстинкт. Через несколько часов я снова проснулся, на этот раз от легкого толчка в плечо. Мой бой, который никогда не входил в мою спальню, когда я спал, стоял надо мной.
— Японцы, — сказал он, — японцы.
Мэй Линг открыла глаза и посмотрела на него. Он что-то сказал ей по-китайски и вышел. Она выпрыгнула из постели и подбежала к окну.
— Японцы, — сказала она тем же тоном, как он — без страха, но с удивлением.
Я протянул руку к телефону и позвонил в редакцию. Ответа не было. Я включил радио. Взволнованный голос говорил громко по-японски. Я крутил со станции на станцию; французская станция не работала, а на английской и американской передача шла по-японски. Мэй Линг подала мне мою одежду, и через минуту я был уже на улице.
— Японцы пришли, — сказал дворник, которого я чуть не сбил с ног.
Я бежал всю дорогу до редакции. Она была закрыта, и на дверях была печать. Я постоял перед ними несколько минут и пошел в сторону Вангпу. На перекрестке вооруженный японский солдат загородил мне дорогу винтовкой. Он кричал на меня. Я повернулся и пошел по другой улице в сторону набережной, но прежде чем я дошел до конца улицы, я увидел, что она перегорожена японскими солдатами. Двое из них держали молодого китайца. Я подошел, хотя они направили свои штыки на меня. Я мог видеть, что британский броненосец, который стоял в шанхайской гавани много лет, горит. Я посмотрел на китайца. Его презрительный взгляд встретился с моим. Он что-то закричал и получил пощечину от японца. Он плюнул солдату в лицо. Через секунду молодой китаец лежал на земле без сознания. Солдат толкнул меня прикладом винтовки. Я повернулся и пошел, но японец позвал меня назад. Он ткнул пальцем в мой карман. Я понял, что он спрашивает документы. Я показал ему мой корреспондентский пропуск, напечатанный на нескольких языках. Держа штык у моей груди и смеясь, солдат провел меня немного вперед к набережной и показал на реку. Над американским броненосцем «Вэйк» развевался японский флаг.
Только когда я подошел к Американскому клубу, я понял, что больше часа блуждал по улицам, не сознавая, куда я иду. Знакомый репортер бежал через вестибюль, он крикнул мне: «Перл Харбор»[29], — и выбежал на улицу. Я пошел наверх повидать знакомого корреспондента, который много лет жил в Американском клубе. В его комнате был хаос, он складывал чемодан.
— Что вы делаете? — спросил я.
— Они велели всем нам уехать отсюда до полудня. Им нужно это здание.
— Они не могут этого сделать, — сказал я.
Он посмотрел на меня и ничего не ответил.
— Куда же вы пойдете?
Он пожал плечами.
— Похоже, что теперь каждому нужно заботиться только о себе.
Вкратце он рассказал мне о Перл Харбор.
— Кто-нибудь успел послать телеграммы домой? — спросил я.
— Не знаю. Все средства связи в руках японцев. Они их захватили в четыре утра сегодня. Я на ногах с тех пор.
— А наше консульство?
— Оно тоже закрыто. Кто-то сказал, что служащие ждут репатриации в Интернациональном сеттльменте. Я хочу сказать, в японской оккупационной зоне.
Я сказал:
— Если хотите, вы можете пожить в моей квартире. У меня есть большой диван в гостиной.
— Скоро вам тоже придется переезжать. Вы видели Эймса? Что он говорит?
— Он уехал в Гонконг на прошлой неделе.
— Только Бог знает, что там происходит, — он посмотрел на часы. — Без четверти двенадцать. Они могли бы нам дать двадцать четыре часа. Проклятые желтые гибриды.
— Послушайте, — сказал я, — если вы не найдете ничего другого, приходите.
— Спасибо, — он хлопнул меня по плечу. — Возможно, мы все скоро будем сидеть в одной и той же камере.
Я вышел из его комнаты. Несколько штатских японцев бродили по зданию, словно школьное начальство накануне учебного года.
Я искал Петрова и нашел его в коридоре рядом со столовой.
— Мистер Сондерс, — сказал он, — Мистер Сондерс, мой друг, мой дорогой друг.
— Похоже, что всему конец, — сказал я.
Он пожал мою руку.
— Что будет, то будет!
Я посмотрел вокруг, куда бы сесть. На меня вдруг нахлынула тошнота.
— Вы что-нибудь ели сегодня? — спросил меня Петров.
Я покачал головой.
— Идемте, — сказал он, — идемте со мной.
Я пошел за ним на кухню. Петров вежливо поклонился японцу, стоящему у холодильника, и посадил меня за стол. Он налил две кружки кофе, дал одну из них японцу, предложил ему сигарету и подал пепельницу. Пока тот курил, Петров продолжал улыбаться, качать головой нам обоим, открыл холодильник и сделал мне бутерброд.
— Боюсь, что вы теперь будете безработным, — сказал я ему и впервые понял, что это относилось и ко мне.
— Не беспокойтесь, — сказал Петров, — не волнуйтесь.
— Куда же вы пойдете теперь?
— К генералу Федорову, на время. Это не важно. Совсем не важно.
— А что же важно теперь?
— Николай, — сказал он, — мой сын.
— Он, наверно, будет в армии.
— Да, он проявит храбрость. В этом я уверен, — Петров посмотрел на японца и понизил голос. — Он будет храбро воевать, как русский солдат. А все же это очень тяжело.
Некоторое время мы сидели молча. У меня в голове не было ни единой мысли, только какое-то тупое чувство нереальности, но Петров, кажется, продолжал разговор сам с собой.
— Но все-таки, — сказал он, — не так тяжело, как бывает, когда твой сын трус.
— Хотите другой? — спросил Петров, когда я кончил свой бутерброд.
— Нет, спасибо.
— Может быть немного супа, а? Всегда хорошо есть суп.
— Нет, спасибо.
— Нужно есть, нужно жить, несмотря ни на что.
— Да, наверно.
— Историю нельзя остановить, но также нельзя убивать себя из-за нее.
Я увидел, что японец, игнорируя пепельницу, бросил сигарету на пол и начал топтать ее со злостью. Петров тоже смотрел на него.
— Не всем дано образование, — сказал он, — тоже иногда нет матери, которая учит хорошим манерам. И потом, конечно, во время войны…
Слово «война» встало передо мной, как незнакомец, присутствие которого я признавал все время, но которого я не представлял себе до этого момента.
По дороге к выходу мы прошли мимо бара, где четыре японских офицера открывали бутылки с алкоголем; один из них пел, махая саблей, как дирижер палочкой. Я остановился на минуту послушать радио, которое передавало по-английски, и услышал последние несколько слов. «Вы теперь находитесь под японской оккупацией». Передача переключилась на китайский язык, и офицеры встали и чокнулись стаканами. «Банзай!» — закричали они, как будто достигли окончательной победы. Один из них предложил тост. Я не понял, что он кричал дальше, я только услышал «Сан-Франциско», прежде чем они стали аплодировать.
Петров прошел со мной квартал.
— Мне нужно идти обратно, — сказал он, держа мою руку в обеих своих руках. — Я еще не уволен официально. Во всяком случае, вы знаете, где я буду, если смогу вам чем-нибудь помочь…
Я поблагодарил его и еще раз пошел к запечатанным дверям нашей редакции. Наверное, я хотел реально убедиться, что за последние несколько часов не совершилось чуда, которое могло бы изменить ситуацию. На стене я прочел декларацию: «Армия и Флот Японской Империи объявляют, что Японское Императорское Правительство и Правительства Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Голландии находятся в состоянии войны».
Повернув назад, я увидел большие толпы людей, молча двигающихся в оба направления. Изолированный город никак не выражал своего горя. Без протеста он впитал горечь и не показывал злости. Лицо, которое Шанхай повернул к своему победителю, было спокойно и без всякого раболепства. Я не помню теперь, как я провел остаток дня. В пять часов я пошел в бар, куда в этот час обычно люди моей профессии заходили выпить коктейль. Это был тот час, когда деловой день закончен и планы на вечер еще не определены. В это время разговор состоял из обмена новостями, повторения сплетен, описания женских прелестей и тянулся лениво. В тот первый день войны это место было полно людей с тревожными, напряженными лицами. Я пробрался к единственному пустому стулу и сел за стол с двумя корреспондентами и бизнесменом из Коннектикута.
— Это не может очень долго продолжаться, — сказал один из них, как будто он говорил о скучном спектакле, который обязан был смотреть.
— А пока мы как раки на мели…
— Как бы то ни было, наше правительство должно что-то сделать для нас.
— Что?
— Я слышал, что будет репатриация.
— Это относится только к дипломатическому корпусу. Кто будет беспокоиться о представителях прессы?
— Возможно, есть какой-нибудь японский корреспондент для обмена.
— А Перл Харбор! Просто не верится!
— Они уже давно хвастались, что они это сделают.
— Да, но посмотрите на размер их страны.
— Вы читали декларацию?! Население должно продолжать вести себя как обычно.
— Ничего себе юмор.
— Нет сомнения, что нас всех скоро посадят.
— Это не очень-то разумно, им придется нас всех кормить.
— В общем, они могут достигнуть гораздо большего, если они не будут нас интернировать.
— Как это?
— Явно мы не можем уехать из Шанхая. Если они позволят нам опуститься до уровня нищих, подумайте, какой ценной пропагандой это будет. Великий, мощный белый европеец унижен Японией. Они смогут окончательно уничтожить мораль китайцев.
— Возможно, но я все-таки думаю, что нас посадят.
— Хватит ли у них тюрем?
— О, они не будут волноваться об удобствах.
— Как вы думаете, будет ли возможность послать телеграмму домой?
— Я думал о том же.
— Вы думаете, через пару дней они могут разрешить?
— Через пару дней мы будем в тюрьме.
Долго еще после того, как все наши рассуждения были исчерпаны, мы сидели в полутьме в наполненной дымом комнате, наслаждаясь звуком голосов вокруг нас. Позже, много позже, мы начали говорить о будущем.
— Когда это все кончится…
— Когда я приеду домой…
— Следующим для нас назначением должна быть Индия…
И от будущего мы перешли к прошлому, рассказывая, что привело нас в Азию, придумывая побуждения, находя причины полуосознанных желаний и представлений. При этом никто не сожалел о своем пребывании в Китае, никто из нас не горевал о судьбе самого Китая. Я думаю, что мы даже были немного удивлены, увидев мрачное лицо человека из нашего агентства, когда он вдруг появился у нашего стола и сказал:
— Мак-Грегора забрали.
— Кого?
— Мак-Грегора из лондонской «Таймс».
— Забрали куда?
— Японцы забрали. В тюрьму. Они пришли к нему на дом и велели идти с ними. Перевернули и разбросали все в комнате, взяли все его бумаги, письма, даже личные фото.
— Как вы узнали об этом?
— Я только что говорил с Вильямсоном: он был у МакГрегора час тому назад. Там все еще хаос. Ему рассказал бой Мак-Грегора.
Он перешел к другому столу рассказать о случившемся. Я ушел из бара.
В темноте вооруженные японские солдаты, как неловкие сторожа чужого дома, осторожно двигались по улице. Город казался пуст, словно не было китайского населения. Только нищие тихо стояли со своими чашками, облокотясь на стены зданий, облепленных прокламациями.
По дороге домой я встретил ассистента мистера Эймса и рассказал ему о Мак-Грегоре.
— Меня поражают эти чудаки, — сказал он, — такая наглость!
— А что насчет Эймса?
— Он все еще в колонии.
— А Гонконг оккупирован?
— Боже сохрани, нет. Они все еще сражаются там.
— Я видел, как ваш броненосец горел сегодня утром.
— Наши — молодцы, заминировали его до того, как японцы его взяли.
— Они взяли наш.
— Им нужно все, что они могут забрать.
— Думаете, они нас репатриируют?
— Это зависит от тех, дома, они ведут переговоры. Что касается меня лично, я предпочитаю оставаться здесь.
— Зачем?
— Чтобы быть тут, когда все это кончится. Кто-то же должен будет делать газету. И у нас будет о чем писать.
— Вы ожидаете, что это скоро кончится?
— Возможно, несколько месяцев.
— Но посмотрите на Перл Харбор.
— Да, японцы выбили дух из ваших матросов, но они скоро оправятся.
— Ну, это мы еще увидим.
— До скорого, — сказал он, — не унывайте.
Я вдруг почувствовал невероятную усталость и голод. Сторож спал на кресле у лифта; я поднялся по лестнице на четвертый этаж, где была моя квартира. В доме было темно и холодно. Отопление, очевидно, выключено уже несколько часов. Я пошел прямо в спальню и включил свет. Мэй Линг не было. Всех ее вещей тоже. Только в ванной комнате я увидел рассыпанную пудру в умывальнике и пустую бутылку из-под духов на полу. Я пихнул ее под ванну, потушил свет везде и лег на кровать, не раздеваясь. В маленькой коробке за книгами — Мэй Линг это знала, — я держал деньги. Я вспомнил, что два дня назад я разменял шестьдесят долларов и положил их туда вместе с мелочью. Шестьдесят долларов были в коробке, а мелочь исчезла.
— Моя искай другая работа? — спросил мой бой утром, когда он принес мне завтрак в постель.
— Наверно, Сун. Я не знаю, что будет со мной. Похоже, что я сам потерял работу.
— Японский скоро забирай все американ и инглиш.
— Куда?
Он расставил пальцы и поднес их к лицу, чтобы пока-зать тюремную решетку.
— Ты думаешь?
— Китайский люди говори.
— Что еще они говорят?
— Его говори, скоро американский и английский люди одинаково, как китайский.
— Как одинаково?
— Нет работы, нет деньги, скоро нет дома.
— Китайские люди думают, что японцы могут выиграть войну с Америкой?
— Не думай выиграй с Америка; говори о Китай.
— А что насчет Китая, Сун?
— Китай жди много времени, потом вставай.
Мне не удалось расспросить его об азиатской философии — зазвонил телефон и перебил наш разговор. Это был тот человек, который вчера вечером рассказал нам об аресте Мак-Грегора.
— Дик, — сказал он, — все враги Императорской Японии должны зарегистрировать себя и все свое имущество.
— Это мы, я подозреваю.
— Это мы, англичане и голландцы.
— Куда нужно идти?
— Регистрация в Гамильтон-хауз. Увидимся там.
— Куда мы должны идти после этого? — спросил я, но он уже повесил трубку.
— Я думаю, ты лучше начни искать другую службу, — сказал я Суну.
— О'кей, хозяин. Моя искай, а теперь работай здесь, не надо деньги.
Четыре часа я стоял в очереди за анкетой, а когда ее заполнил, я стал официальным врагом Японии. Я еще не научился считать себя пленным, хотя было ясно, что пожилой человек с усталым безразличным лицом, который выдал мне анкету, был врагом моей страны. Требовалось усвоить совершенно новые отношения и новые понятия, все это будоражило соответствующие чувства. Я спросил намеренно громким голосом:
— Послушайте, как скоро мы должны заполнить все это?
Японец ответил небрежно:
— Как можно скорее.
Потом, обратив внимание на мой тон, он закричал:
— Завтра утром.
Я повернулся, чтобы уйти, и увидел Мишима, корреспондента из Токио, которого я знал много лет и с кем я часто выпивал во время его приездов в Шанхай. Инстинктивно я начал улыбаться и сделал шаг в его сторону. Он поднял руку в знак приветствия, и мы оба остановились. Я сказал: «Hi». Он кивнул головой.
Из Гамильтон-хауз я быстро пошел в банк «Нью-Йорк». Я решил забрать ту небольшую сумму денег, которая была на моем счету, и держать ее дома. В большой толпе, которая собралась перед банком, я увидел много знакомых лиц. Они стояли, сурово уставившись в закрытую стеклянную дверь, за которой японцы в синих бизнескостюмах допрашивали американских служащих и проверяли книги. Не зная, чего мы ждем, мы оставались там, на улице, несколько часов, как будто последний выход был нам отрезан и мы не знали, куда и каким путем идти. Под вечер вышел один из директоров. Его моментально окружили, он стоял, как приговоренный за преступление, которого не совершил, не делая никакого усилия, чтобы отвечать на вопросы, которые бросали ему со всех сторон. В конце концов, он сказал:
— Я знаю только одно: никто не может получить деньги в долларах. Когда новая валюта будет выпущена, а я не знаю, когда это будет, вы сможете получить какие-то деньги.
Со стеклянным взглядом он старался выбраться из толпы, но люди продолжали требовать объяснения тому, что он был не в силах объяснить. Кто-то сказал: «Пора пойти выпить», — и некоторые из нас нашли прибежище в соседнем баре.
В течение нескольких дней встречи в ресторанах стали ритуалом. Заранее не планируя, каждый день в определенный час мы могли встретить друг друга. Мы обсуждали меню, медленно заказывали пищу, ели, не чувствуя вкуса, оттягивая окончание обеда, заказывали еще одну чашку кофе и закуривали сигарету. Одна из газет продолжала функционировать под контролем, и ее британскому менеджеру было приказано пока оставаться на посту, чтобы учить новых хозяев процессу оперативности. У него был допуск к новостям, не подлежавшим цензуре, и он нас информировал. Но хотя все мы жаждали узнать новости, мы продолжали питаться сплетнями, слухами и спекуляциями, как будто сама неопределенность обещала появление deus ex machina[30].
Через несколько дней после регистрации врагов Японии у нас забрали автомобили, фотоаппараты и радиоприемники. Послушно, как было приказано, мы привели наши машины в назначенное место, поменяли их на расписки и пошли домой в дождь. «Это все, что они могут забрать у нас», — сказал кто-то в утешение, но это оказалось совсем не так. Мы должны были потерять свою анонимность.
Японцам было недостаточно занести нас в свои списки как враждебный элемент. Они клеймили нас ярко-красными повязками с номером, которые мы должны были всегда носить на рукаве. Официально я стал А-721, американец — враг номер семьсот двадцать один.
Глава восьмая
Через несколько дней после начала оккупации Шанхая японцами один из корреспондентов, который был выдворен из Американского клуба, переселился ко мне. Джим был лет на десять старше меня, он имел репутацию человека, поглощенного одновременно несколькими занятиями, одним из которых были женщины. Его репортажи были всегда выдержаны в драматическом тоне, который нравился читателям, особенно тем, кто никогда не был в Китае. Мы догадывались, что, вероятно, в ближайшем будущем нам прикажут освободить квартиру, но, так как было совершенно невозможно найти комнату в городе, переполненном беженцами со всего Китая, у Джима не было выбора. Он собирался уезжать в отпуск десятого декабря, и за три дня до нападения на Перл Харбор вынул все свои деньги из банка. Он сказал, что намерен, пока возможно, истратить их, и что лучше поддерживать иллюзию, как будто ничего не переменилось, чем удлинять будущие мучения. Он велел Суну продолжать служить; умудрился купить несколько ящиков виски у какого-то бывшего английского чиновника и содержал трех любовниц одновременно. Он положил свои деньги в книгу Рабле, говоря, что книга, особенно такая толстая, никогда не привлечет ничьего внимания.
Хотя большинство из нас не могли больше встречаться, как раньше, в ресторанах и ночных клубах, Джим обедал ежедневно во Французском клубе и редко был трезв после заката солнца. Вместе с тем он всегда старался наполнить наш холодильник. Он редко бывал дома, и когда он приходил, его шумное присутствие мне не мешало, потому что его упрямый отказ видеть и принять реальность действовал успокоительно. Джим никогда не был моим близким другом, и, живя с ним в одном доме, я убедился, что его экспансивность была лишь маской.
С упрямой решимостью Джим отказывался разговаривать о войне, о нашем положении в Китае и о будущем. На некоторых углах улиц и на скамейках парка многие европейцы с красными повязками на рукавах встречались и обсуждали события, но Джима с нами никогда не было. Я ему не сказал, что Мак-Грегор и четверо других американцев посажены в Бридж-хауз; так назывался большой частный дом, который был превращен японцами в политическую тюрьму. Когда мы узнали в первый раз о Бридж-хаузе, это стало главной темой наших разговоров, а с тех пор, как больше и больше людей начало исчезать и слухи о пытках дошли до нас, мы стали называть его шепотом просто — Хауз. Иногда мы видели своих знакомых, которых японские солдаты вели по улице, и мы знали, что в Хаузе будет новый арестант. Говорили, что арестованные должны сидеть на цементном полу часами, поджав под себя ноги особым способом, как знак уважения к императору Японии. Новые хозяева не беспокоились об акустике, или, может быть, в их планы входило, чтобы арестованные в камерах слышали крики пытаемых. Крысы и насекомые делили камеры с арестованными и распространяли болезни, а недостаток питания способствовал развитию заболеваний. Мы узнавали обо всем этом только по слухам. Несколько человек, которые были выпущены из Хауза, были слишком напутаны и молчали. Отчаяние росло в нас, как не дут, и вместе с этим росла способность верить самым неправдоподобным оптимистическим слухам. Я думаю, что половина слухов, которые мы передавали друг другу, была просто продуктом наших бессонных ночей, когда мужество становится только отвлеченным понятием и сердце ищет утешения в фантазиях, чтобы выжить.
В конце лета мы услышали новость: репатриационный пароход скоро прибудет в Китай из Америки с японскими подданными для обмена на американских. И хотя мы знали, что предпочтение будет оказано дипломатическому корпусу, каждый надеялся, что сможет уехать из Шанхая. Джим только замахал руками, когда я попытался рассказать ему о репатриации, и это заставило меня остановиться на полуслове. Но при встрече со знакомыми все наши разговоры были об обмене. Кто-нибудь обязательно объявлял: «По крайней мере, я знаю точно, что у меня нет никакого шанса», — и потом останавливался, отчаянно ожидая, чтобы его оспаривали или убеждали, что есть возможность. Я и сам это делал, и однажды, когда банковский чиновник смог уверить меня, что гораздо логичнее эвакуировать журналистов, чем банковских служащих, я сказал, стараясь скрыть свое облегчение: «Когда вас привезут в Штаты, пожалуйста, отправьте письмо моей матери». Даже маленькая надежда вызывала прилив юмора, храбрости и терпения. В моем случае надежда облегчала бремя признательности, которую я чувствовал по отношению к Джиму, платившему за квартиру и покупавшему еду. Когда поначалу я попросил у него одолжить мне несколько долларов, он передал мне книгу Рабле и сказал: «Ради Бога, бери сколько хочешь! Пожалуйста».
Встречаясь в парке или на улице, мы теперь говорили больше о Штатах, чем о Китае. Ностальгия наполняла наши воспоминания нежностью, освобождала от насмешек и от притворства. Мы пересказывали друг другу случаи из своей жизни по несколько раз, как часто делают влюбленные, чтобы еще раз пережить памятный момент. Вышло из моды утверждение, что жизнь в Китае предпочтительней жизни на родине. Сравнения перестали нас интересовать. Нам просто хотелось вернуться в безопасность.
В конце июня был опубликован список людей, подлежащих репатриации. Моего имени там не было, не было и имени Джима. Но мы об этом не говорили. Две недели спустя я был разбужен среди ночи громким и продолжительным стуком в дверь. Думая, что это Джим, который потерял ключ, я крикнул: «О'кей, о'кей. Одну минутку», — включил свет в гостиной и открыл дверь. Два японских солдата решительно вошли внутрь. «Японская жандармерия». Слова прозвучали в моем мозгу прежде, чем один из них произнес их. Он помахал перед моим лицом бумагой, на которой было написано имя Джима. Я объяснил жестами, что Джима нет дома. Они оттолкнули меня и приступили к обыску. Как воры, они выдвигали и опорожняли ящики шкафов, рылись в бумагах, выбрасывали одежду из комодов на пол, переворачивали матрасы. Пошарив в кухонных шкафах, они налили себе большие стаканы виски и выпили их очень серьезно. Я следовал за ними из комнаты в комнату. Когда они дошли до книг, у меня захватило дыхание. Один из них швырнул книгу Рабле на пол, и деньги Джима выпали из нее. Солдаты быстро сосчитали их и положили себе в карман. Затем они стали проверять каждую книгу, вырывали из них листы и разбрасывали по полу. К рассвету они наконец сели ожидать Джима. Если бы только Сун пришел раньше, чем Джим, он бы нашел способ предупредить его, но без четверти шесть Джим вошел, шатаясь, в дверь. В первый момент у него был вызывающий вид, и я подумал, что он в состоянии убить их обоих, но когда он увидел раскрытый том Рабле на полу, его плечи вдруг опустились, и он, будто обезоруженный, дал увести себя.
Я сидел на стуле перед окном, пока Сун не пришел. Осторожно, двигаясь медленнее, чем обычно, он повесил одежду на место, убрал кухню, поднял книги.
— Японцы приходи? — спросил он, подавая мне кофе.
Я ответил:
— Да, приходили.
— Маета Джим, его больше нет?
— Бридж-хауз, — сказал я.
Его бесстрастное лицо не выразило ничего. Он продолжал класть вещи на место. Я лег на кровать и стал раздумывать о том, когда придет моя очередь.
После обеда я пошел в кухню и налил виски. Сун предложил мне закуску, но я отказался.
— Маета, — сказал он, глядя куда-то поверх моей головы, — моя уходи теперь.
Я качнул головой утвердительно. Он прибавил:
— Моя не приходи опять.
Это звучало, как приговор. Он продолжал стоять в кухне.
— Ты вернешься домой в свою провинцию? — спросил я.
— Дом теперь больше нет.
Он обошел комнаты, постоял в кухне и вышел. Я не знаю, как долго я оставался дома. Когда я вышел на улицу, некоторые магазины были открыты, кафе были полны японцев, и все равно город казался вымершим. Китайчо-нок-нищий следовал за мной целый квартал; он бежал передо мной, скуля свою печальную историю, его протянутая грязная рука почти касалась меня. Проходя мимо парка, я увидел несколько знакомых, сидящих на скамейках. Я наблюдал за ними со стороны некоторое время, потом пошел в сторону Банда[31].
Отдельные части города были огорожены колючей проволокой, и мне пришлось обходить несколько кварталов, чтобы выйти из тупика. Завернув за угол, я увидел небольшую толпу, стоящую около слепого сказочника. Старик, наверное, рассказывал им о прошлой славе Китая, о могучих императорах, о великолепных конкубинках, которые влияли на историю, или о том времени, когда Китай побеждал своих врагов и праздновал победу. На их лицах я читал восторг и просьбу к старику продолжать повествование. Я бросил монетку в его железную кружку, он слегка поклонился в сторону звука металла и продолжал рассказ. Я прошел по набережной; в гавани не было ни единого корабля. Я остановился на несколько минут у подножия статуи Черного ангела. Японка стояла около памятника, глядя озабоченно на лица толпы. Она заметила другую японку в кимоно и с глубоким поклоном подала ей широкую ленту и иголку. Женщина сделала несколько стежков и вернула ленту. Первая японка поклонилась ей опять и стала осматривать толпу. Эта женщина, сын которой был на войне, верила древней легенде, что сеннин-мусуби, пояс, вышитый тысячей разных женщин, защитит и сохранит ее сына от беды.
Я повернул в сторону Французской концессии. Где-то прозвучали звуки цимбалов и заглохли. Наступила абсолютная темнота, как будто бы она пришла с неба и окутала город. Пошел дождь, и я зашел в какой-то маленький бар отдохнуть и переждать грозу. Но дешевый алкоголь только ожег горло и не успокоил. Я вышел на улицу. Девчонка схватила меня за рукав. «Любая цена», — сказала она, предлагая себя. Она не настаивала, когда я покачал головой.
Ночью светло-голубой купол Русского собора выделялся в темноте, как молчаливое обещание забвения. Я вошел. Запах ладана напомнил что-то из детских сказок. Спокойные лица святых на иконах мерцали при свете свечей и смотрели бесстрастно, будто насмехаясь над молящимися и измученным ликом распятого Христа. «Господи, помилуй», — пел хор. Я остался до конца службы, пока все не вышли и священник не задул свечи.
Ту ночь я спал в каком-то парке, и события следующего дня помню очень сбивчиво. Помню только старание скрыться от жгучего солнца, покупку печеного сладкого картофеля у уличного продавца и обмен моей последней монеты на чашку рисового вина. Когда наступила темнота, я обнаружил, что сижу у подножия памятника Пушкину. Полицейский подошел и прогнал меня своей бамбуковой палкой. Я брел по улицам, ни о чем не думая, пока не дошел до канала около Зикавейского кладбища. Рикша, сидевший возле канала, приподнялся, чтобы предложить свои услуги, но, разглядев меня при свете фонаря, отвернулся. Я долго стоял у канала, потом снял красную повязку на рукаве и бросил ее в грязную воду.
Я подошел к серому дому на кладбище, где я не был с тех пор, как началась война. Свет горел только в одном окне. Я посмотрел внутрь: Тамара сидела одна и писала. На минуту она подняла голову и прислушалась.
Через стекло лицо Тамары казалось туманным видением. Я обошел дом и постучался. Она открыла дверь. В ее лице я прочел страх. Она быстро оглядела мое небритое лицо, грязную и мятую рубашку. «Я уйду сейчас», — сказал я, но она показала жестом, чтобы я вошел, и закрыла за мной дверь. Ее глаза сделались теплыми и нежными. Я почувствовал, как ее руки обняли меня, щека прижалась к моему плечу, ее лицо было рядом с моим лицом.
Глава девятая
В Тамарином объятии не было ничего вызывающего страсть. Ее физическая близость не вызвала во мне никаких желаний, а только неожиданное внутреннее спокойствие, похожее на то, которое можно испытать, вернувшись в знакомое место после долгих странствований. И ее глаза, когда она смотрела на меня, выражали узнавание, как будто в моей боли она чувствовала продолжение своей. Она медленно трогала мое лицо, потом ее ладонь легла на минуту на мой лоб как благословение. Я поцеловал ее руку, но мои губы почувствовали только кольца на пальцах. Она подвела меня к дивану, сняла ботинки и положила подушку под голову. Вдруг я почувствовал боль во всем теле. Тамара принесла мне стакан вина; его кислый вкус был последнее, что я ощутил, прежде чем погрузился в сон.
Где-то посреди ночи, а может быть и под утро, генерал Федоров отвел меня в свою комнату. Я смутно помню его голос, доходящий до меня как бы издалека. «Мы должны отвести вас наверх; к тому же, вам там будет удобней», — и его сильные руки, как подпорки, толкающие мое вялое тело вверх по лестнице. Мне казалось, будто я предвидел, что я споткнусь на верхней ступени и генерал мне скажет: «Attention»[32] — по-французски. Я не уверен, действительно ли я знал это до того, как споткнулся, но мне это показалось смешным, я захихикал и ответил: «Есть, ваше благородие».
Утром нестерпимо яркие лучи солнца разбудили меня. Мне не хотелось просыпаться, и я старался продлить сон, накрыв лицо подушкой. В то же время какая-то сила, возможно подспудная мысль, что мне нужно что-то делать, охватила меня, и я бросил подушку на пол и сел. Фотография царя предстала предо мной на столе генерала. Красивое бесхарактерное лицо подходило аккуратной военной форме. У подножья фотографии, на столе рядом с лампой, полузавядшие астры склонялись в стеклянной банке. Кушетка генерала заскрипела, когда я встал. Я открыл окно, но свежий воздух не освободил комнату от запаха старой, треснувшей кожи, нагретой солнцем, и нафталина. Я написал имя Тамары на подоконнике, покрытом пылью, и тут же стер его рукой. Около моего уха жужжала муха. Я подождал, пока она не села на стол, и убил ее старым журналом.
Через открытую дверь я услышал Тамарин голос, раздраженный, почти злой, она говорила что-то, очевидно Александру. Он ответил умоляющим тоном, затем крик генерала заставил обоих замолчать. Я закрыл дверь и стал у окна. Плакучие ивы, которые генерал посадил несколько лет назад, были высоки, и их ветви, как руки безутешной вдовы, висели над рядами белых крестов. Только небольшая часть кладбища была еще не покрыта могилами, и на ней неровными рядами росли подсолнухи, возвышаясь над неполотой травой.
На тенистой тропинке, обрамленной ивами, вдруг появилась какая-то фигура. Сначала я не узнал в ней Александра; он шел очень быстро, почти бежал, затем остановился и облокотился о дерево. Казалось, он смотрел на ряды крестов. Вдруг он оглянулся и посмотрел в сторону дома. Я помахал ему, он или не видел меня, или намеренно отвернулся опять. Какое-то время он оставался под ивами, как будто пойманный ветками, потом побежал в сторону подсолнухов и, наверно, лег в траву, потому что пропал из глаз.
Спустившись вниз, я увидел генерала Федорова, который ходил взад и вперед по комнате. Тамара стояла у открытой двери. Она вздрогнула, когда отец воскликнул:
— А, вы здесь, отдохнули? Теперь в форме?
Я поблагодарил его. Тамара сказала:
— Я принесу чая, — и подошла к большой железной печи.
Сказать по правде, я не знал, что я ожидал увидеть на ее лице; возможно, я надеялся на выражение какого-то чувства, возможно, ждал какого-то приветного жеста, который позже я смог бы истолковать как многозначительный, но был обманут.
— Вы не помните, как мы отвели вас наверх? — спросил генерал. — Моя постель вам, должно быть, неудобна? Она как солдатская койка, а?
Я уверил его, что мне было удобно спать на его узкой постели.
— Петров не пришел вчера ночью домой, — сказал генерал.
— Вы думаете, что что-то случилось?
— Нет, нет. У него много друзей. Это гораздо лучше, чем ходить ночью после комендантского часа, он, наверно, остался ночевать у кого-нибудь из них.
— Так точно, ваше превосходительство, только не из-за комендантского часа, а благодаря прекрасной компании и другим соображениям.
Петров вошел в открытую дверь, улыбаясь и качая головой, с огромным пакетом под мышкой. Увидев меня, он поднял брови и смеясь сказал:
— Мистер Сондерс, дорогой мой, вы все еще свободны?
Его лицо переменилось тут же.
— Многие из ваших соотечественников в беде, — сказал он, переменив тон.
— Мистеру Сондерсу не надо беспокоиться. Здесь его никто не будет искать.
До того, как генерал сказал это, я не сообразил, что я пришел на кладбище вчера ночью, чтобы остаться здесь. И все же я сказал:
— Это может причинить вам много неприятностей. Я думаю, я не должен этого делать.
— Ерунда, — закричал генерал. — Начать с того, что сама жизнь — уже беспокойство.
— И опять же, — как эхо отозвался Петров, — большая благодать Божья.
— Вы не должны думать ни о чем, кроме того, что вы правильно сделали, придя сюда.
— Каждому нужно место, куда он мог бы прийти, — сказала Тамара.
— А что касается неприятностей — так это легко устроить, чтобы избежать их, — вставил Петров.
— Как? — я думаю, мне хотелось, чтобы он уверил меня в этом.
— Во-первых, вы уже прилично говорите по-русски и с каждым днем будете говорить все лучше и лучше. Во-вторых, я вам достану одежду без американских ярлыков, и главное, вы уже не выглядите таким здоровым, как раньше. Вы знаете, все американцы брызжут здоровьем. Это — национальное качество. Как французы выглядят романтично, так американцы — завзятые здоровяки. И затем я достану вам документы. Мой друг работает в Эмигрантском комитете. В нормальное время это было бы непростительно, но во время войны это — о'кей. Он сделает вам великолепные документы.
— Да, но помимо всего этого… — начал я, но он меня перебил:
— Вы слышали, прошлой ночью семь американцев бежали в Чункинг.
Я знал, что группа американцев собиралась бежать, но я не знал, что им это удалось.
— Это правда? Им это удалось?
— По словам некоторых знающих людей, они уже прошли большинство опасных мест. Китайские крестьяне помогли им, и японцы ужасно злятся. В вашем случае это очень подходит.
— Прекрасно, — сказал генерал.
— Потому что…
— Потому что вы бежали с ними. И каждый раз, встречая друзей из Американского клуба, я буду говорить: «Рад, что мистер Сондерс уехал. Надеюсь, ему нравится Чункинг. Возможно, он уже даже в Америке». Таким образом, пойдут слухи, а японцы знают все слухи, которые ходят среди американцев.
— Вот видите, никаких трудностей нет, — сказал генерал.
— Я хочу что-то показать Александру. Он дома? — спросил Петров, как будто тема моего пребывания на кладбище была решена, и больше нечего было обсуждать.
— Где-то томится, — сказал генерал.
— Я хочу показать ему это. Вот еще причина, почему я остался в городе на ночь.
Петров развернул пакет, который он положил на пол, и там оказалась дюжина или больше томов энциклопедии на английском языке.
— Ну как, неплохо? Правда, только от А до W, но все же это большое сокровище. Я принес еще не все, было трудно нести.
— Где вы это достали? — спросила Тамара, поднимая одну из книг с любопытством.
— Один американец, который сейчас без копейки, любезно продал мне.
— Очень хорошая покупка.
— Конечно, у меня не было денег заплатить ему сразу всю сумму, и пока я дал ему задаток, а остальное заплачу постепенно из моего жалования.
— Господин Петров теперь работает для французской полиции, — объяснила Тамара.
— Да, я выдаю людям продуктовые карточки. Между прочим, в следующем месяце паек хлеба будет меньше.
— Но как же насчет этого американца? — спросил генерал. — Что если он окажется в тюрьме к тому времени, как вы получите ваше жалование?
— Мы обсуждали эту возможность и решили, что в таком случае я буду посылать ему продуктовые передачи. Еду я смогу покупать на черном рынке всегда, а энциклопедию за такую цену…
Наверно, у меня был растерянный вид, потому что Петров взял меня под руку и сказал:
— Это дает не только информацию, знания, удовольствие читать, но главное, когда Николай вернется после победы домой, он не будет разочарован, что его отец такой необразованный.
— Давайте посмотрим что-нибудь, — сказала Тамара.
— Посмотрите, что в ней говорится о Петербурге, — попросил генерал.
Все стояли вокруг Петрова, пока он поворачивал страницы осторожно, как священник в церкви перед чтением Евангелия.
— Петрониус, — воскликнул он, — очень похоже на мою фамилию.
— Вы ушли слишком далеко, — сказала Тамара. — Петербург должен быть несколькими страницами прежде.
— Петроний, — продолжал Петров, — римский поэт, автор первого западноевропейского романа. Ему было приказано кончить жизнь самоубийством, когда он был заподозрен в заговоре против императора. Последние часы своей жизни он провел в развлечениях, всевозможных удовольствиях и составлении описания Нероновых оргий.
— Удивительно, — сказал Петров, — я никогда не слышал о таком человеке. Видите, за какие-нибудь три минуты, может быть даже меньше, я узнал столько интересного. Это мне понятно, как мужчине. Кончает самоубийством по приказу императора и проводит последние часы не плача, а с радостью.
— Мне не нравится то, что сказано насчет описания оргий Нерона. Это — не жест верности, как мне кажется, — сказал генерал.
— Тем не менее, это — история.
Петров продолжал читать дальше о Петронии про себя, затем перелистнул страницу назад.
— Вот тут Петербург наконец, но очень короткая колонка.
Он прочитал:
— Петербург, город и порт в Вирджинии, США, стоит на реке Аппоматтокс.
— Не может быть, — сказал генерал и взял книгу из рук Петрова. — Хотя адмиралу Сурину будет интересна такая информация.
— Посмотрите на «Санкт-Петербург», — сказала Тамара, и я подал Петрову нужный том.
— Санкт-Петербург, — читал он, — город в районе Пинеллас, Флорида.
Он опустил книгу и посмотрел на меня.
— Ничего не понимаю. У вас два Петербурга в Америке?
— Наверно. У нас также есть и Москва.
— Удивительно. Называть иностранные города русскими именами не очень умно. Особенно именами, такими известными в России.
— У нас есть еще и другие, например Париж.
— Полное отсутствие воображения, — сказал генерал, — или отсутствие героев, во имя которых можно называть.
— Возможно, отсутствие истории, — сказал Петров.
— Но где же наш Санкт-Петербург в этой знаменитой энциклопедии? — спросил генерал с раздражением.
— Почему вы не посмотрите, где полагается, на «Ленинград»? — это сказал Александр, и все к нему повернулись.
Он, вероятно, стоял у дверей уже несколько минут. Я давно его не видел. И в моем представлении он все еще был прежним мальчиком, хотя мало что мальчишеского оставалось в том бледном лице, которое я теперь увидел. Похоже, ему было неловко, что он так свысока бросил нам это название, но в то же время в его темных глазах блеснул насмешливый вызов.
— Я иду к Евгению сейчас, — сказал Александр в ответ на общее молчание, — вернусь до темноты.
Он повернулся идти, но прежде чем выйти, сказал мне:
— Я рад, что вы здесь.
— Ну что же, будем смотреть на «Ленинград», ваше превосходительство? — генерал кивнул головой.
— Вы можете представить себе, что вы должны были бы называть ваш Вашингтон Маркс-тауном? — сказал мне Петров.
— Он будет опять Петербургом, вы же это знаете, — сказала Тамара. — Мне не нравится этот Евгений. И не нравится, что Александр проводит так много времени с ним. Он, кажется, старше Александра?
— Ему семнадцать, он только на один год старше.
— Кто его родители? — спросил генерал.
— Его отец — учитель.
— Я хочу сказать…
— О, в России он, кажется, тоже был учителем.
— Понятно.
— Ленинград, — читал Петров, — раньше Санкт-Петер-бург, Петроград.
Тамара и генерал заглядывали через плечи Петрова и читали молча.
— Ага, — закричал генерал, — слушайте это: «В архитектурном отношении самый красивый город в мире».
Он подозвал меня и заставил читать эти слова. Петров улыбался.
— Я вам говорил, что в этих книгах самые точные сведения, ваше превосходительство. Очень кстати, что мне повезло купить их теперь. После победы я смогу купить тома после W? Ну, да это все равно, едва ли я дойду до W до конца войны.
— К тому времени, — сказал генерал, — они должны будут писать новое о войне, так что старая W-книга все равно не будет годиться.
— Давайте теперь посмотрим на слово «Москва», — сказал Петров.
Я перебил его.
— Если вы серьезно считаете, что я могу здесь остаться, то давайте поговорим о практических условиях.
— Практических? — закричал генерал. — Уже практично, что вы здесь, нет?
— Я говорю о вознаграждении.
— Вознаграждении? Я вас не понимаю.
— Ну хорошо, как я должен буду платить вам за жилье и еду, ведь еду теперь трудно доставать, пайки, карточки и прочее. И в данный момент у меня нет денег. Может быть, мы можем договориться, что после войны я заплачу вам определенную сумму…
— Вы не должны нас оскорблять, мистер Сондерс, — сказал генерал резко. — Предполагать, что мы будем ждать от вас каких-то денежных вознаграждений, очень, очень нехорошо.
— Я совсем не хотел вас оскорбить, я глубоко благодарен за вашу доброту, генерал, но всякий человек задал бы тот же вопрос, прежде чем принимать вашу помощь.
— В таком случае я не всякий человек, — сказал Петров.
— И разве я человек, который дает убежище и пищу военнопленному, а потом берет за это плату?
— Неужели вы не понимаете? — сказала Тамара.
— Вы будете с Петровым в одной комнате, — сказал генерал, — вы знаете, баронесса переехала, когда началась война. Она теперь у друзей в городе. Эта комната наверху, рядом с моей, той, где вы спали.
— Я привезу складную кровать. Я даже предпочитаю спать на такой, — сказал мне Петров. — Мы поставим ее в нашу комнату, и у вас будет своя постель. И потом, я редко бываю дома. Вы можете читать мою энциклопедию или писать мемуары.
— Нам надо будет достать ему документы как можно скорее, — вставил генерал.
— Самое главное — это найти вам подходящее имя, — сказал Петров. — Придумал! Мы вас сделаем Львом Сердцевым. Лев Сердцев очень подходит, так как вы — Ричард — Львиное Сердце, очень исторически получается!
Я сказал:
— Я очень благодарен и… — но генерал замахал руками на меня и сказал:
— Нет, нет, пожалуйста, мистер Сондерс… — и я замолчал.
Было бесполезно, как я теперь понимаю, навязывать им свои ценности и судить их на основе моих. В отличие от нас, американцев, они не ценили прайвеси[33], и только в постоянном общении с людьми могли выжить в периоды бедствий. Но в тот момент взамен их чистосердечности, болезненной для меня, я мог получить только безличную жестокость врага. И потом, они даже не понимали, отказывая мне хотя бы в обещании заплатить им, что они оскорбляли мое достоинство — так же, впрочем, как и я не мог взять в толк, что, предлагая плату, я оскорблял их.
Глава десятая
Я был совершенно не подготовлен к той изолированной и своеобразной обстановке, в какую я попал, поселившись у генерала. Целые дни проводил я, ощущая лишь голод, одиночество и скуку. Каждый вечер я с нетерпением ожидал прихода Петрова, это был мой единственный контакт с миром вне кладбища. Петров говорил, что реакция моих друзей на известие о моем побеге была различной. Некоторые были рады за меня, другие были удивлены и говорили, что они никогда не ожидали, что я был способен это сделать, — такое мнение показалось мне оскорбительным. Некоторые даже сомневались, что мне удался побег. Они были больше озабочены судьбой Джима, говорили, что ходят слухи, будто он безуспешно пытался покончить с собой в тюрьме. Петров был как барометр настроений, страхов и надежд, и, хотя эти сведения были окрашены его собственными представлениями, я чувствовал, что отчаяние среди моих соотечественников было сильнее их надежд.
На второй день моего пребывания на кладбище Петров вызвался пойти на мою квартиру взять там хоть что-нибудь. Я дал ему ключи, но он вернулся с пустыми руками, сказав, что двери опечатаны, и объявление извещает, что имущество за этой дверью принадлежит властям, и что нет никакой возможности попасть вовнутрь. Затем он прибавил, что «и это к лучшему», так как теперь у меня нет ничего, что выдавало бы во мне американца.
Как и обещал, Петров достал мне подержанную одежду и фальшивые документы. Я теперь стал человеком без родины, родившимся в маленьком городке в России, живущим в Китае с одиннадцати лет.
— Самое важное, мистер Сондерс, — говорил Петров, — держитесь подальше от русских эмигрантов, потому что они сразу услышат, что вы не русский. Генерал вам скажет, кому доверять, а когда другие будут приходить, вы не выходите из вашей комнаты, пожалуйста. Тогда все будет о'кей, как говорят у вас в Америке.
— А что сделают эти другие русские, если они узнают обо мне?
— Они могут донести японцам. Многие теперь работают на японцев. Многие пишут доносы даже на друзей, часто неправду, чтобы угодить или заработать.
— Да, я могу себе представить, очевидно для некоторых это является способом выжить.
— Есть много способов выжить. Можно выжить, поддерживая друг друга. Это лучше, чем доносить.
Мы сидели в нашей комнате, пили очень горячий чай, который Петров всегда пил перед сном, закусывая кусочком конфеты, принесенной им в кармане. Он начал:
— В Америке, когда вы… — но раздумал продолжать. — Нет, не то. Эмиграция делает простые вещи очень трудными и даже опасными.
Я спросил:
— А Русский Эмигрантский комитет, кем он управляется?
— Точно не известно кем. Теперь, вернее всего, — японцами. А военными или штатскими, я не знаю.
Я вспомнил, что около двух лет тому назад, убийство главы Эмигрантского комитета было большой новостью. Японские газеты обвиняли коммунистических агентов, но западная пресса и общественное мнение указывали на японцев. Я сказал Петрову:
— Японцы убили вашего председателя. Почему?
Он понизил голос до шепота и спросил:
— Которого? В 1940 году или в 1941?
Я вспомнил тогда о другом убийстве, происшедшем за несколько месяцев до японской оккупации. В то время тер-pop был обычным явлением, и второе убийство не произвело большого шума.
— А почему они оба были убиты?
— Вы должны понять, мой дорогой мистер Сондерс, что когда мы попали в Шанхай почти двадцать лет тому назад, у нас ничего не было. Мы могли есть только в благотворительных столовых и спать в Гарден Бридж Парк[34].
— Вы приехали вместе с генералом Федоровым?
— Нет, его превосходительство прибыл на русском военном судне. Китайское правительство объявило, что уже слишком много беженцев, и запретило им высадиться. Генерал оставался в трюме парохода много месяцев на голодном пайке. Французский консул, очень добрый человек, ходатайствовал перед китайским правительством о разрешении им высадиться в Шанхае.
Казалось, что Петров был погружен в эти воспоминания, как если бы смотрел альбом с фотографиями; его голос звучал веселей или печальней в зависимости от того, что он вспоминал.
— Постепенно мы нашли работу, деньги, место. Мы построили церкви, школы, Офицерское собрание, госпиталь. Мы не отняли хлеб у китайцев, мы принесли культуру. Русский театр, балет, симфонический оркестр, а также газеты, журналы.
Он сидел в этой жаркой, маленькой комнате, обмахиваясь старой газетой, и улыбался тоскующей улыбкой, которая делала его добродушное лицо еще добрее.
— Вы говорили о газетах и русском театре, — напомнил я ему.
— Да, театры. Уже больше не нищие, а такие же люди, как другие. И каждый год возникала новая организация. Союз русских инвалидов, Русские мушкетеры, Союз казаков, Комитет освобождения Родины и еще, и еще… много…
Я его перебил, спрашивая, не было ли разумнее объединиться, а не разбиваться на различные группы.
— Конечно, разумнее. Только, к сожалению, многие хотят быть главами, возглавлять, а по-другому они не могут. Несколько раз мы объединялись в большие организации, но тут сразу же начинались неприятности. То китайцы хотят влиять, то японцы. То начинают говорить, что организация попала под влияние коммунистов, и начинается раскол и доносы друг на друга. В Маньчжурии это просто, и ни у кого нет сомнения, кто глава. Все русские дети должны учить японский язык, кланяться портрету японского императора, а когда подрастут, идти агентами японской разведки или бедствовать. Многие там исчезают без следа.
— Могут ли они сделать это в Шанхае?
— Уже в 1940 году они прислали нам русского генерала из Маньчжурии. Он сказал, что, так как Япония ненавидит коммунизм, мы должны помочь им и быть их союзниками. Глава русских эмигрантов в Шанхае ответил, да, мы должны объединиться, но не с японцами, а между собой. Потом, как вы помните, в августе 1940 года он садился в автомобиль, и какой-то человек подошел и, выстрелив четыре раза, убил его. Через три дня после этого у нас был новый глава, поставленный японцами.
— А кто был тот человек, которого они убили в прошлом году?
— Тот самый, которого поставили на место первого, потому что он не делал так, как японцы ему предписывали.
— А как это было официально объяснено?
— Убит агентами Гоминдана[35], и японцы прислали массу цветов на его похороны. Но вы помните, ваша газета и некоторые другие написали правдивые статьи.
Годы, проведенные мною в Китае, выработали у меня некоторый иммунитет против свидетельств насилия и жестокости, с помощью которых имеющие власть «разделяли и властвовали», но я не представлял, что численность русской эмиграции в Китае была достаточно велика, чтобы интересовать новых хозяев до такой степени. Потом, когда я захотел узнать мнение генерала об этом, он пробурчал что-то в ответ и переменил разговор. Последнее время он редко принимал участие в наших дискуссиях, и даже если делал какие-нибудь замечания, то отсутствующее выражение не покидало его лица. Зачастую он не разговаривал ни с кем за столом, но не с намеренным пренебрежением, а просто как будто не замечая нас. В ноябре он купил большую карту России, повесил ее на стене гостиной и осторожно проткнул маленькими булавками линию фронта. Вечерами он проводил много часов перед этой картой, передвигая булавки и записывая что-то в тетрадь.
Тамара относилась к отцу по-прежнему с доверием и нежностью и, как и раньше, волновалась, когда он отсутствовал. Но теперь она часто смотрела с беспокойством на Александра. Он стал приходить домой из своей французской школы Реми поздно и на озабоченный вопрос матери отвечал: «Я хожу только к Евгению. Ты же знаешь, что здесь никто никогда не бывает».
Несколько раз я хотел сказать Тамаре, что мальчики в этом возрасте обычно проходят через период разочарований и возбуждений, что это нормальный биологический процесс, но ее «склад ума» не позволял мне обсуждать с ней половые темы. В ее присутствии я иногда чувствовал неловкость, но, когда она уходила в церковь или на свои обычные одинокие прогулки, я ждал ее возвращения с беспокойством.
Часто, сидя у окна в своей комнате, я мог долго наблюдать за Тамарой, двигающейся между белыми крестами могил. Когда она была одна, ее тело теряло обычную застенчивость и неловкость, ее движения становились легкими и порывистыми, как у девочки. Каждый вечер она зажигала лампадку перед иконами в своей комнате, и однажды, когда дверь была полуоткрыта, я видел ее молящейся на коленях. Когда русские священники приходили на кладбище отслужить панихиду по умершим, она всегда приглашала их в дом. Она относилась к ним, как к посланникам Божьим, к которым обычные людские мерки не применяются. Был один священник, которого она особенно почитала. Его изможденное бородатое лицо и неистовые глаза могли бы оттолкнуть большинство людей, однако, когда он появлялся на кладбище, Тамара следовала за ним, как верная ученица, ожидающая откровения. Я думаю, что генерал не разделял ее религиозного пыла. Но он никогда не делал никаких замечаний, и она никогда с ним об этом не говорила. Она также не говорила Александру о христианских обязанностях или о грехе, или о необходимости делать добрые дела — эти слова просто отсутствовали в ее лексиконе. Она говорила: «Божья Матерь тебе поможет», — с убеждением человека, чувствующего присутствие Бога рядом, как одного из членов семьи.
Однажды вечером, после того как я жил в их доме уже несколько месяцев, Тамара спросила меня неожиданно за обеденным столом, не хочу ли я пойти с ней в церковь. Была суббота, и я знал, что она обычно посещала церковь в этот день. Я знал также, что богослужение продолжается несколько часов и что в русских церквах люди стоят всю службу на ногах. Но мысль оказаться на главной улице и увидеть толпу была опьяняющей, и я согласился. С тех пор как я оставил свою квартиру, кроме редких прогулок в темноте около кладбища, я нигде не бывал. А вдобавок перспектива провести весь вечер, ожидая возвращения Тамары, была менее привлекательна, чем стоять рядом с ней, даже в переполненном храме.
— Можно ведь ему пойти со мной в церковь? — спросила она у генерала. Это звучало как просьба. Генерал помолчал некоторое время.
— Я думаю, да, — наконец сказал он, но предупредил нас, чтобы мы вошли в церковь по отдельности. Он объяснил, что многие привыкли видеть Тамару одну, и ее появление с незнакомым мужчиной вызовет любопытство и желание узнать, кто он.
— Ну да, — сказала Тамара, обращаясь к отцу и ко мне, — мы и домой пойдем по отдельности.
Она сказала это, словно ребенок, желающий убедить взрослых, что все их указания будут исполнены.
— А вы знаете, как креститься по-русски? — спросил Александр. Он был молчалив весь вечер, и мне было досадно, что его первые слова были сказаны с сарказмом. Но прежде чем я ответил, он добавил:
— Потому что, если вы не знаете, они сразу подумают, что вы — плохой христианин, и начнут подозревать в вас советского сторонника или, еще хуже, большевика.
Генерал опустил вилку на стол со стуком, и я думал, что он сейчас скажет Александру что-нибудь резкое, но Петров спас положение, сказав быстро:
— Смотрите, мистер Сондерс, вы складываете три пальца вместе во имя Троицы, а другие два вы сгибаете вместе вот так, показать, что Христос — и Бог, и Человек.
— Он не должен креститься, если он не хочет. Это не обязательно, — сказала Тамара.
Она быстро кончила есть, и я почувствовал волнение, когда она сказала нетерпеливо:
— Ну, хорошо, пошли.
Весь день был такой монотонный, и уже много было таких дней, в которых ничего не случалось, и время двигалось так медленно. С утра я чувствовал тупую злость, тягостную, неопределенную и бесцельную. Может быть, это была только скука, но Тамарины слова освободили меня от нее.
По дороге в собор она говорила возбужденно, указывая вокруг, словно я был новоприезжий.
— Посмотрите на эту русскую вывеску, ведь вы можете ее прочесть. Вы знаете, сколько лет она здесь? Около двадцати. Хозяин этого магазина имел такой же магазин в Петербурге, и вывеска была такой же, я ее помню. Видите, что написано внизу. Нет, уже темно, но я ее знаю наизусть.
Она прошла мимо нескольких нищих, но остановилась, увидев женщину с ребенком, и подала ей.
— Посмотрите, какие темные улицы, потому что все обязаны закрывать окна черными занавесками. Но я предпочитаю темноту, а вы? Я не люблю, когда все освещено и ослепительно блестит.
Я отвечал ей коротко, потому что хотел слушать ее. Она вообще говорила редко, и сейчас веселые нотки в ее голосе были новыми и трогательными.
— Вы любите гулять под дождем? — продолжала она. — Не только дождь, но и ветер, так воющий, как будто он просит помощи у неба, и гром отвечает, и молния вспыхивает. Я любила гулять в бурю девочкой и люблю теперь, когда бывает тайфун. Вы идете в темноте, и вдруг молния сверкнет, все вокруг вас как будто бы плачет, а вы себя чувствуете сильной и счастливой, потому что вас ничто не может затронуть, и вы всегда можете побежать домой и спрятаться от бури.
Когда она помолчала некоторое время, я спросил:
— Как вам нравится Китай? — чтобы слышать опять ее голос.
— Китай? — спросила она, немного удивившись, как будто бы Китай не был тем местом, которое могло вызывать определенные эмоции. — Было очень хорошо со стороны Китая дать нам возможность оставаться здесь, пока мы не вернемся в Россию. И я люблю китайский народ. Знаете, до того как мой отец получил работу на кладбище, мы были в долгах, а китайский лавочник продолжал давать нам продукты, хотя мы ему сказали, что не знаем, когда мы сможем заплатить ему. — Через минуту она добавила: — Может быть, я даже буду скучать о Китае, когда мы уедем. Но вы-то, конечно, не будете. Не так ли?
Я сказал:
— Конечно, я буду скучать. Я знаю, что буду. Я прожил десять хороших лет в Китае. Десять лет!
— А мы здесь около двадцати лет.
Я подумал, что это — две трети ее жизни, а для нее это все еще остановка в пути.
Собор был темным. Черные на красной подкладке занавеси, которыми по требованию японских властей должны были быть занавешены все окна в Шанхае, не пропускали свет, и снаружи собор выглядел покинутым и пустым.
Перед тем, как мы подошли к воротам, Тамара спросила:
— Вы волнуетесь? Не надо. Ничего плохого не может случиться с вами в церкви!
Она вошла одна. Я подождал несколько минут, потом медленно поднялся по ступенькам, открыл тяжелую дверь, и меня охватило такое чувство, словно я открыл дверь в фантастический мир. Запах ладана одурманивал голову, а сотни тонких белых свечей, которые светились и отражались в золоте икон, ослепляли меня. В куполе я увидел огромное мозаичное изображение Бога с распростертыми объятиями. Казалось, Он охранял молящихся, как всесильный милостивый монарх. Голос епископа призывал имя Божье, прося о милосердии, и молящиеся становились на колени, склонив головы в молитве.
Я прислонился к стене и, наблюдая, завидовал их вере и утешению, которое они получали от слов молитв. Я не мог даже вспомнить, в какой период моей жизни эти слова потеряли для меня значение. И все-таки мелодичное пение и мерцание свечей действовали на меня, как гипноз, и тот действительный мир за тяжелыми дверями стал терять свою реальность.
Я мог видеть Тамару на коленях перед Распятием. Ее более чем скромное бежевое платье выглядело золотым при свете свечей, ее темные глаза, поднятые на распятого Христа, напоминали взор женщины, смотрящей на любимого. Меня охватило желание дотронуться до ее щеки или взять ее за руку, чтобы напомнить ей о моем существовании.
Я долго смотрел на ее бледное лицо. В ее красоте не было прелести молодости или привлекательности женщины, много пережившей. Нет, это была красота нетронутая, застывшая в своей невинности, не обожженная жизненным огнем. Это было очарование цветущего дерева, не приносящего плодов. Вдруг я почувствовал сильный прилив гнева, который был не к месту здесь, как гнев бедного родственника в богатом доме, но он овладел мною, и я был не в силах побороть его. Мне хотелось встряхнуть хрупкое тело Тамары, сказать ей, что она спряталась от жизни, закричать, что она больше не ребенок, что пришло время расстаться с иллюзиями. «Это глупость, — говорил я ей мысленно, — ты не ягненок для приношения в жертву на каком-то алтаре. Ты — женщина, о чем ты забыла уже давно». Мой гнев прошел так же внезапно, как и появился. Я продолжал смотреть на нее, но уже с чувством покорной усталости.
По окончании службы я ждал Тамару в темном углу около двери. Это была ненужная предосторожность: никто не обращал на меня никакого внимания. Собор опустел быстро, только несколько пожилых женщин остались, чтобы потушить свечи и поправить цветы около икон. Тамара одна стояла перед Распятием, ожидая. Когда епископ вышел из потемневшего алтаря, она подошла к нему. В черной рясе, с крестом и маленькой иконой на тяжелой цепи вокруг шеи, он потерял величие и недоступность священнослужителя в золотой митре, который полчаса тому назад стоял на возвышении перед толпой. Он благословил Тамару, она поцеловала ему руку и медленно вышла из церкви. Я следовал за ней на расстоянии.
Выйдя из теплого собора на улицу, где дул холодный ноябрьский ветер, я опять почувствовал себя изгоем, отверженным. На минуту я пожалел, что не могу даже предложить Тамаре поехать на рикше, но мысль о длинной прогулке на кладбище послужила мне утешением. Тамара шла быстро; она ненадолго остановилась, только когда какой-то знакомый спросил ее о генерале. Даже после того как мы свернули с главной на почти пустую улицу, я все еще оставался на расстоянии от нее. Она не оборачивалась, а мне хотелось побыть с самим собой. Звук ее шагов по тротуару был единственным звуком в ночной тишине, кроме редких хныканий нищих. В тот момент она не выглядела хрупкой, а казалась частью ночи и теней, и холодного безличного ветра.
Мы свернули в узкий проулок. Я увидел худую, сгорбленную фигуру человека, появившегося из темноты, — в один прыжок он оказался около Тамары, рванув ее сумку из-под руки. Она вскрикнула один раз — это был даже не крик, а короткий жалкий плач — и выпустила сумку. Я оказался около нее вовремя, чтобы схватить человека за его потрепанную рубаху; он вывернулся и убежал, оставив кусок рубахи в моей руке.
— Неважно, у меня в сумке ничего не было, — Тамарин голос немного дрожал. Я взял ее руку, обнял ее плечи, и так мы шли дальше всю дорогу молча. Когда мы стали подходить к кладбищу, я заметил, что она замедлила шаги. В воротах я повернул ее и прижал ее тело к моему. Ее покорность, тепло ее кожи подействовали на меня, как дурман. Я целовал ее рот, пока мы оба не задохнулись.
Я открыл ворота и пропустил ее. Она прошептала:
— У меня нет ключа, он был в сумке.
В тот же момент генерал открыл дверь.
— Входите, — сказал он весело. — Вы, наверное, замерзли. У меня чай готов.
— Я хочу еще погулять, — сказал я. — Я скоро вернусь.
В дверях Тамара оглянулась. Я увидел ее только на одно мгновение, прежде чем генерал закрыл дверь. При желтом свете ее лицо было неузнаваемым — так неожиданно было на нем выражение нескрываемой страсти.
Глава одиннадцатая
Когда я вернулся в тот вечер, генерал сидел один за столом и читал газету. Я извинился и поднялся в мою комнату. С облегчением я увидел, что Петрова не было. Он часто оставался ночевать у друзей, и, как школьнику, ему это очень нравилось. Я знал, что у него в комоде была полупустая бутылка коньяка. Он всегда говорил, что это на особый случай. После нескольких минут размышлений я заглянул в ящик, нашел бутылку и выпил большими глотками довольно много. По дороге в ванную я прошел мимо Тамариной комнаты. Дверь была закрыта, наверное заперта. Я постоял, послушал, в комнате было тихо. Лежа в постели в темноте, я старался представить себе ее лицо, полное страсти, которое осветил на мгновение желтый свет. Но это мне не удавалось, хотя память о ее тонких пальцах вокруг моего затылка оставалась со мной в течение всей беспокойной ночи.
Утром я опять старался услышать движение в ее комнате и как только услышал ее шаги, начал одеваться. Когда я спустился вниз, она стояла у окна и смотрела в него, вертя коробку спичек в руках. Ее волосы, заплетенные в длинную косу, спускались по спине. Я произнес ее имя шепотом; она резко повернулась и неловким движением руки провела по волосам. На ее бледном лице не было ни следа страсти; ее глаза, темные и блестящие, смотрели на меня с открытой неприязнью.
Я молчал. Я ожидал начало этого дня с такой радостью! Радостью, которой я не чувствовал уже много лет. Тупая боль неудовлетворенности больше не мучила меня; ее сменила радость ожидания увидеть Тамару и возможности узнать ее лучше. Сам тот факт, что я так хотел узнать ее, был для меня откровением, и я принял его с восторгом. Один ее враждебный взгляд уничтожил эту радость.
Александр сбежал по лестнице: он был взволнован. Он поцеловал мать в щеку и сказал:
— Можно мне позавтракать сейчас, пожалуйста. Я очень тороплюсь.
Она кивнула головой и повернулась к печке. Стоя у печи, с большим побитым со всех сторон чайником в руках, она выглядела, как всякая женщина, занятая хозяйством. Я старался найти что-нибудь отталкивающее в ее неловких движениях, я хотел ухмыльнуться, когда она обожгла руку, разжигая печь, но все, что я мог почувствовать в этот момент, было всеохватывающее желание уберечь, защитить ее. Александр включил радио.
— Говорит «Голос Родины», — объявили по-русски, — после этой песни мы будем передавать последние новости.
Звуки военного марша заполнили комнату.
— Александр, — сказала Тамара. — Выключи.
«Голос Родины» была советская радиостанция, и генерал запретил включать ее в его присутствии. Я знал, что иногда Петров слушал ее, а Александр включал ее, только когда генерала не было дома.
— Это же только новости, — сказал Александр, но послушался и выключил передачу.
Генерал, одетый в синюю форму сторожа, и Петров спустились вместе. Они продолжали разговор, начатый, очевидно, еще наверху.
— Что японцы должны сделать, так это разрешить нам выбрать своего председателя, знаете, голосовать, как в Америке, — говорил Петров.
— Конечно, ведь, в конце концов, нас тридцать пять тысяч.
— Тридцать пять тысяч — это ничто, — сказал Александр. Оба повернулись к нему с неодобрительным выражением на лицах. — Конечно, — продолжал он, — но когда тридцать пять тысяч людей могли иметь какое-то значение?
— В истории бывало, что один единственный человек менял течение событий, — сказал генерал, — как твой Петр Великий.
— У Петра Великого была власть и страна. У вас же нет ни того, ни другого.
— Кто это «вы»? — закричал генерал. — Разве ты не один из нас?
Александр был подчеркнуто спокоен, только движение его губ, когда он говорил, было ненатурально напряженным.
— Все вы, кто живет в прошлом.
— Александр, дорогой мой, — сказал Петров, — мы говорили о японцах и нашем…
— Это совершенно не важно, о чем вы говорили.
— Ну, так объясни яснее, что ты имеешь в виду. — Гене-рал нахмурился.
— Да, вы говорите о Китае, но так, будто Россия, могучая и победоносная, находится позади вас. За вами нет ничего, ничего, кроме воспоминаний.
— Почему же ты исключаешь себя, Александр? Ты разве не то же, что мы?
— Я сказал, что я тоже ничто, я это сказал. — Александр в этот момент начал кричать. — Но я-то это знаю. Я знаю это.
Кулак генерала с треском ударил по столу.
— Перестань, сию же минуту остановись.
Тамара подбежала к отцу и взяла его под руку.
— Папа, папа, он не знает, что он говорит.
— Да, я знаю. Я говорю правду, Вы просто не хотите принять ее.
— Это неправда. Это просто невежество. Чему они вас там в школе учат?
— О, не волнуйся. Они нас учат там тому же, чему ты меня всегда учил. Что Россия была великой страной с древних времен. Что она всегда защищала маленькие страны, такие, как Польша и Венгрия. Что все цари всегда были щедрые и мудрые. И они всегда делают все, чтобы отбить у нас охоту задавать неподобающие вопросы.
— Какое ты имеешь право задавать их?
— Разве это не исторический факт, что когда Венгрия восстала против тирании восемьдесят пять лет тому назад, ваш царь Николай I послал свою армию подавить восстание?
— Это было необходимо.
— А все ваши остальные драгоценные цари?
— Что насчет царей, Александр?
Голос генерала внезапно стал совершенно спокойным. Александр дрожал, и его бледное, исхудалое лицо вдруг стало детским.
— Они не были великодушными, добрыми и мудрыми. Они были жестокие, мелкие и развращенные люди. Николай I, его звали «жандармом Европы». А Александр — соучастник в убийстве отца, который дал всю власть палачу Аракчееву, и даже другой Александр, которого вы называете Освободителем, он…
Генерал был на ногах, его лицо исказилось бешенством. Он дважды ударил Александра по щеке, и тот упал на пол. Тамара вскрикнула. Я подбежал к ней и обнял, она оттолкнула меня и опустилась на колени перед сыном. Александр тряхнул головой, медленно поднялся и вышел из дома.
— Ваше превосходительство, — умолял Петров, — ваше превосходительство, пожалуйста…
— Они его заполучили, — голос генерала прозвучал слабо.
— Папа, это все идет от Евгения. Слушай, папа, я запрещу Александру видеться с ним.
— Может быть, это наша вина, — сказал Петров. — Мы были так заняты своим…. и не смотрели за молодежью.
Генерал вышел из дома, хлопнув дверью.
— Простите меня… — Петров сделал жест рукой. — Я опаздываю на работу.
Когда мы остались одни, я подошел к Тамаре. Я не дотронулся до нее, но всю теплоту чувства, которое я испытывал к ней, вобрал мой голос.
— Я знаю, как трудно приходится мальчику в этом возрасте. У него есть свои идеи о том, каким мир должен быть, а этот мир совсем другой.
Я не осуждал поведение Александра; я просто чувствовал в этот момент необходимость что-нибудь сказать.
— Я совершенно не понимаю. Он же любил все о России. Он понимал. Он мог петь наш национальный гимн, когда ему было пять лет. Мы были так им горды, когда он пошел в школу; он знал нашу историю так хорошо.
Я сказал:
— Вы знаете, я иногда жалею, что я не бунтовал, когда я был в его возрасте. Как… как Базаров.
Тамара улыбнулась:
— Вы знаете Тургенева?
Я сказал ей, что я читал роман «Отцы и дети» в семнадцать лет. И чуть не начал рассказывать ей о нашей русской прислуге.
Но ее улыбка, которая устанавливала связь между нами, исчезла; она сдвинула брови и сказала:
— Я должна пойти и посмотреть… — и не закончила фразы.
Я опять начал говорить, хватаясь за слова, как за струны; но она была уже на дворе и шла быстро по аллее, тенистой от плакучих ив. Я стоял в дверях. На ка-кой-то момент она остановилась и посмотрела вокруг; увидев отца, она пошла к нему. Когда я позже подошел к ним, они не разговаривали. Генерал чинил поломанный крест; Тамара полола траву у могилы рядом. Их общее молчание дало мне почувствовать, что я лишний. Я спросил генерала:
— Не могу ли я вам чем-нибудь помочь?
Он сказал:
— Вы можете покрасить вон те кресты в детской секции. Я держу кисти и краску в подвале. Было бы хорошо, если бы мы смогли покрасить все кресты к Рождеству.
В тот вечер Александр не пришел домой. Если не считать редких замечаний Петрова, мы ужинали молча. Тамара не спускала глаз с входной двери, и когда Петров задал ей прямой вопрос, она вздрогнула. Генерал сказал: «Сегодня четверг», — что значило, что он будет играть в бридж с адмиралом Суриным и вернется домой поздно. Как только он ушел, Тамара поднялась в свою комнату.
Петров шепнул мне:
— Я думаю, мне нужно пойти к Евгению и поговорить с Александром. Нет, нет, не ругать его, а просто сказать, что ему нужно пойти домой, потому что мама очень волнуется.
— Где он живет?
— Ha Route Remi, рядом с французской школой[36]. Его отец там учитель.
— Я сам бы хотел пойти погулять.
— Прекрасная идея. Плохо сидеть все время дома.
Он пошел наверх взять пальто.
— Только, пожалуйста, говорите по-русски, мистер Сондерс. Никогда не знаешь, кто идет сзади в темноте. Хотя для меня хорошая практика говорить с вами по-английски.
Петров начал рассказывать мне о своем сыне, Николае, и еще не кончил, когда мы пришли на Route Remi. В узком переулке Петров останавливался у каждой двери.
— Здесь, — прошептал он наконец и постучал.
Я ожидал, что Евгений окажется меланхоличным юношей с впалыми щеками, но молодой человек, который открыл нам дверь, выглядел очень здоровым и жизнерадостным. Он не проявил никакого восторга, увидев нас, но и не выказал особого раздражения. Просто сказал:
— Хотите войти?
Мы прошли за ним через темную переднюю в его маленькую комнату. Александр не высказал удивления, когда мы вошли. Он сказал: «Хелло, мистер Сондерс», — игнорируя Петрова. Он сидел у стола, покрытого книгами. Пустые стаканы стояли вокруг, как молчаливые свидетели длинных дискуссий.
— Меня никто не посылал, — начал Петров, — а господин Сердцев хотел пройтись…
— И вы случайно оказались здесь, — перебил его Александр.
— Не случайно, а просто пришли сказать тебе, что даже если ты сердит на дедушку… мама это другое дело…
— Пожалуйста, садитесь, — сказал Евгений, снимая книги с кровати.
Его лицо было того бронзового цвета, который похож на загар даже зимой, его глаза, светло-серые и любопытные, казалось, постоянно изучали все, что происходило вокруг.
— Скажите его матери, что Александр будет ночевать у меня. Она не должна беспокоиться.
— Ничего, — сказал Александр, — они должны принять меня таким, какой я есть.
— Все это не так уж драматично, — вставил я.
— Откуда вам знать? Вы что, американец в пятом поколении?
— Я не вижу связи.
— Конечно, нет.
При слове «американец» Петров начал делать Александру знаки.
— Не волнуйтесь, — сказал он. — Евгений все знает о мистере Сондерсе, и это значит, что никто больше не будет знать.
— А, Ленин! — воскликнул Петров, поднимая одну из книг со стола.
— Между прочим, — сказал Александр, — Ленин умер не от сифилиса, как вы всегда говорили.
— Я никогда не говорил о сифилисе.
— Ну, это общее мнение среди вас.
— Какая разница, отчего он умер.
— Важно, что он умер?
— Сначала Ленин, потом Сталин, завтра кто-нибудь другой, — Петров повернулся к Евгению. — А тебе нравится, что Ленин пишет?
— Я его изучаю, — сказал Евгений.
— Изучать можно, но только, если люди об этом узнают, будут неприятности и для тебя, и для твоего отца.
— Вы подразумеваете тех русских, японских стукачей? — спросил Александр.
— У нас своя дорога, господин Петров, — Евгений сказал это спокойным тоном, но с убеждением человека, который пришел к такому заключению после долгих размышлений.
— И эта дорога ведет к… Ленину?
— Этого мы еще не знаем.
— Во всяком случае, не к Русскому Эмигрантскому комитету.
Александр вскочил из-за стола.
— Вы всегда нам говорили, что народ в России ждет случая восстать, что это случится, как только наступит война. Где же это восстание? Все воюют храбро, героически…
— Это не во имя коммунизма.
— Не в этом дело. Все эти годы…
— Александр, ты делаешь большую ошибку… Мы…
— Господин Петров, дайте тогда нам сделать свои собственные ошибки, — Евгений встал.
— Скажите маме, что я скоро буду дома, — сказал Александр.
— В таком случае, я не буду говорить, что мы были здесь. Просто приходи домой.
Всю дорогу до кладбища Петров молчал.
Глава двенадцатая
В тот год Рождество пришло, как забытый друг — неожиданно — и не принесло большой радости. И для меня здесь, на кладбище, оно прошло незаметно. Русское Рождество отмечают на две недели позже. Тамара и генерал готовились к своему празднику. Только Петров поздравил меня с моим Рождеством и спел «Меггу Christmas»[37] на мотив «Happy Birthday»[38] во время завтрака.
— А что, будем ли мы приглашать незнакомца в этом году? — спросила Тамара отца, мельком взглянув на меня.
— Мистер Сондерс будет нашим незнакомцем, — ответил генерал.
— Вы знаете, — сказал Петров, — шестого января, в наш Сочельник, мы постимся и не едим весь день, пока не взойдет первая звезда на небе. Мы накрываем стол и ставим лишний прибор, подложив сено под него. Это символ, вы понимаете. Потом мы все идем в церковь. Из церкви мы всегда приводим незнакомца. Не обязательно человека, которого мы совсем не знаем, но того, кто не принадлежит к нашей семье. И он садится за стол перед прибором с сеном. Как будто бы мы привели Христа, символически, если, конечно, вы понимаете.
— Не совсем Христа, — сказала Тамара, — это то, что Он бы сделал и хотел бы, чтобы мы делали.
— И как же этот человек должен себя вести? — спросил я Петрова.
— Как член семьи: есть и пить, и чувствовать себя как дома. Пятнадцать лет тому назад я был этим незнакомцем, вы помните, ваше превосходительство? Я пришел с Николаем. И с тех пор стал как родственник.
Я провел Рождество в своей комнате, делая вид, что читаю, но на самом деле находя удовольствие в детских воспоминаниях и мечтах, которые принесли с собой нежное и грустное чувство сиротливости. Я сам удивился своему настроению. Вечером пришел Петров, налил мне стакан коньяка из своей бутылки, говоря: «Желаю вам следующее Рождество провести дома», — но сам не пил. На мой вопрос он ответил, что идет с визитом к своим французским друзьям и что коньяк ожидает его там.
— Жена русская, муж француз. Справляют два Рождества и две Пасхи.
Когда он ушел, я налил себе еще один стакан коньяка и выпил его медленно, лежа на кровати в темноте. Коньяк только усилил чувство жалости к себе. Я вспоминал не ка-кой-то определенный год, который оставался в моей памяти ярче других, не ту оторопь, в которую моя мать приводила весь дом перед праздниками своими заботами о подарках и поздравлениях, передо мной теснились отдельные картины — зажженная елка, предвкушение подарков, уменьшавшихся с годами, чья-то девичья улыбка. Моя память сортировала эти картины и, как заботливый родитель, оставляла самые лучшие. Засыпая, я дал себе обещание вернуться домой, как только кончится война.
Шестого января я провел большую часть дня вне дома, наводя порядок на кладбище — этого хотел генерал — и чтобы не мешать Тамаре. Не будучи особенно хорошей хозяйкой, она начала усиленную уборку дома за несколько дней до праздника. Генерал стал собирать старые бутылки, пустые железные банки и газеты. Утром пришел китаец в синем ватном халате. На плечах у него было тяжелое бамбуковое коромысло с двумя круглыми корзинами. Он поставил их осторожно на землю и присел возле. Генерал выставил перед ним бутылки и банки, как батальон, рядом с большой стопкой газет. После минутного осмотра, китаец назначил цену товара. Генерал покачал головой и показал ему восемь пальцев. Издав глубокий вздох, торговец быстро заговорил, сначала ноющим тоном, потом со злостью, указывая на свою голову и на свой рот. Торг продолжался некоторое время. Через полчаса генерал сдался до показа семи пальцев. Это вызвало смех, саркастический и в то же время веселый. Выразив на своем лице полное возмущение, китаец встал, делая вид, что собирается уходить. Генерал убрал в свою корзину бутылки и железные банки и пошел к дому. У двери он приостановился. «Хей!» — крикнул китаец. Когда генерал повернулся, китаец показал шесть пальцев. Генерал покачал головой отрицательно, но продолжал стоять. Подобрав корзины, торговец положил коромысло на плечо и сделал три шага к воротам. Делая вид, что ему безразлично, генерал следил за ним, как за отступающим врагом. Некоторое время оба стояли без движения. Генерал открыл дверь и шагнул внутрь.
«Олай, олай!»[39] закричал китаец и быстро вернулся. Он извлек несколько грязных купюр из глубины внутреннего кармана, плюнул на пальцы, пересчитал несколько раз и отдал генералу семь банкнот. Они покивали друг другу. Генерал наблюдал, как бутылки исчезали в большой корзине. Вдруг он вытянул шею и посмотрел беспокойно в сторону могил, где я работал. Я успел нагнуться над крестом прежде, чем он увидел меня. Успокоившись, он зашагал к дому.
Я кончил свою работу рано, но не вернулся в дом до шести часов, находя удовольствие пребывать в мрачном настроении в тоскливую погоду. Я немного удивился, увидев Александра одетым парадно и готовым идти в церковь со всеми. На его лице отсутствовало то угрюмое выражение, которое я привык видеть в последнее время, и, когда он говорил, его голос звучал возбужденно. Было видно, что он шел, потому что ему хотелось этого. Петров спрашивал меня раньше, хочу ли я пойти с ними. Пока я пытался это решить, генерал сказал, что будет безопаснее, если я не пойду. И я был рад остаться в одиночестве. Это было первый раз за шесть месяцев, что я мог остаться в доме совсем один, но после трех часов ожидания я с нетерпением стал прислушиваться к шагам. Ужин был очень скромным, мы ели какую-то рыбу.
На следующее утро я нашел Александра и генерала одетыми в темные костюмы, Петров был в смокинге. На груди генерала висели его медали. Было видно, что Тамарино платье прежде принадлежало кому-то другому. Она не позаботилась перешить его на себя и явно не замечала, что свежие цветы, приколотые к платью, не подходят к его голубому цвету.
— Никогда не привыкну носить штатскую одежду, — отозвался генерал на мое удивление. Я впервые видел его в штатском. Тамара засмеялась. Она стояла около накрытого стола, уставленного едой и бутылками вина и водки, пытаясь вставить несколько веток елки в вазу.
— Мы идем делать визиты сегодня, — сказал Александр.
— Русский обычай, — добавил генерал.
Петров стал объяснять:
— Все мужчины, нарядно одетые, идут с визитом в каждый знакомый дом, а все женщины остаются дома принимать визитеров. Большая обида, если вы забыли кого-нибудь посетить.
— Так же и на Пасху, но тогда мы целуем каждую даму три раза. А сегодня мы целуем только ее руку.
— Вы должны пить в каждом доме? — спросил я.
— Конечно. Пить и есть. Большая обида, если вы откажетесь.
— Это может быть очень опасно, если у вас много друзей.
— Конечно. Особенно теперь; темные улицы и комендантский час, и затемнение. Поэтому, если его превосходительство и я не вернемся домой ночью, не волнуйтесь. Значит, мы очень хорошо отпраздновали и остались ночевать у друзей.
— А я, наверно, останусь у Евгения.
Стук в дверь прервал Александра. Старый священник вошел с тремя мальчиками, один из которых — самый высокий — нес большую звезду из картона, покрытую блестками.
— С Рождеством Христовым, — сказал священник.
Все в комнате повторили его слова. Он повернулся к иконам в углу и стал петь молитву. Мальчики пели усердно, но нестройно. Когда священник повернулся к нам, Тамара первая подошла под благословение. Она поцеловала большой крест, который он держал, и его руку. Александр последовал за генералом, который осторожным жестом показал мне, что я должен сделать то же.
Тамара повела священника к столу, и пока он клал еду на тарелку, налила ему бокал вина. Дети ели торопливо, шептались между собой и поглядывали с опаской на генерала. Один из них уронил вилку. Я поднял ее, и он спросил меня:
— Как вас зовут?
— Сердцев, — вскрикнул Петров, — Лев Николаевич Сердцев.
Священник перестал жевать и внимательно посмотрел на меня.
— Я вас никогда не видел в церкви.
Это звучало, как обвинение, и я почувствовал себя виноватым.
— Господин Сердцев не ходит в Свято-Николаевекую церковь, — поспешно объяснил Петров. — Он даже в Собор не ходит. Только в церковь Святой Ольги.
— О, — священник снова стал есть. — Да, Господь один и тот же везде, только служба лучше в нашей Николаевской церкви. И храм красивее.
— Я согласен с вами, — сказал я, потому что эту фразу я мог произнести без акцента.
— Зато в Свято-Ольгинской церкви есть монахини, — пошутил Петров.
Священник посмотрел на него с молчаливым упреком.
— Лев Николаевич, — громко сказал мне генерал, — я обещал вам показать некоторые книги. Пойдемте, посмотрим до прихода визитеров. Да и нам тоже пора идти.
Взяв меня крепко за локоть, он повел меня по лестнице наверх. Там он мне сказал:
— Не волнуйтесь, он не очень умен. Я не особенно люблю духовенство. В России они всегда пытались взять власть над царем, но не могли. Вы лучше оставайтесь здесь сегодня. Никогда не знаешь, кто придет, и, кроме того, визитеры часто приводят своих друзей, людей, которых мы не знаем.
Я его уверил, что останусь в своей комнате, пока не уйдет последний визитер.
— Это может быть очень поздно сегодня.
Я оставил дверь полуоткрытой и слышал, как генерал говорил священнику, что я рассматриваю кое-какие книги и скоро приду вниз.
— Хотя, — ответил священник, — это грех заниматься в такой великий праздник.
— Ваше превосходительство, — послышался голос Петрова, — пора начать наши визиты. Уже десять часов.
— Нам тоже пора идти, — сказал священник. — Мы пришли к вам первым, потому что ваш дом самый дальний…
Послышались шаги, слова прощания, и стало тихо.
Я подумал о Тамаре и в тот же момент услышал ее шаги на лестнице. Она вошла с полной тарелкой и бутылкой вина.
— Ричард, — сказала она, — как жаль, что вы должны оставаться здесь в самый радостный день в году.
Мое имя, сказанное ею в первый раз, было для меня, как благословение. Я поцеловал ее руку.
— Ой, — сказала она, — ваша лампадка погасла.
Она ушла и через минуту вернулась с зажженной свечой. Залезая на стул, она чуть не упала. Я держал стул, пока она зажигала лампадку.
— Вы не должны грустить сегодня, — сказала она и тихо села рядом.
Нежность осветила ее лицо, как улыбка. Глаза, которые смотрели на меня, были полны тепла и вызывали знакомое желание, но я не двигался, боясь все испортить.
— Вы не один, — сказала она так тихо, что я не был уверен в услышанном. — Вы не один в этом мире.
Громкий стук в дверь испугал ее. Кто-то кричал:
— С Рождеством Христовым. Кто-нибудь дома?
— Я должна идти, — прошептала она.
Я обнял ее и задержал на минуту.
— Иногда вы заставляете меня чувствовать себя очень одиноким.
— Но не я виной тому. Это не то, что я хотела сказать.
Она ушла. Я открыл дверь и прислушался. Среди громких мужских голосов ее голос звучал приподнято и слегка неестественно.
Я подумал с горечью, что мужчины будут целовать руку Тамары и говорить двусмысленные слова, которых она даже не поймет. Это была не зависть, а просто желание уберечь ее от пошлости. День клонился к вечеру, и я слышал ее голос все реже и реже среди смеха. Я вышел из комнаты, присел на верхней площадке и заглянул в гостиную. Красные лица улыбались, кивали друг другу, рты поглощали еду и выбрасывали слова, руки протягивались, махали в воздухе. Тамара двигалась среди них, как тень, наполняя стаканы, принося еду, слушая. Мне хотелось, чтобы генерал был там.
Открылась дверь, и вошел еще один мужчина, а с ним два японца. Тамара встала перед ними, как будто преграждая им путь.
— Я привел вам двух друзей, очень хороших друзей, — сказал человек пьяным голосом. — Куроки-сан и Канио-сан. Они говорят на прекрасном русском языке.
Он пропел слово «прекрасном».
— Они хотят увидеть, как русские празднуют Рождество, поэтому я их вожу с собой. И я сказал им: «Генерал Федоров — последний из могикан, вы должны посетить его».
— Генерала нет дома, — сказала Тамара.
— Конечно, его нет на Рождество, но все равно, это его дом, — он повернулся к японцам. — Мадам Базарова, дочь генерала.
Тамара кивнула головой.
— Мы очень хорошие друзья белых русских, — сказал один из них, улыбаясь и из вежливости всасывая воздух сквозь зубы. Несмотря на акцент, он говорил по-русски правильно.
— Куроки-сан был даже в церкви вчера вечером, — сказал тот, кто привел японцев.
— Мы очень интересуемся вашей церковью.
Тамара ничего не ответила.
— Проходите и познакомьтесь со всеми, — человек обошел Тамару и стал знакомить японцев с гостями.
Тамара взглянула вверх, на лестницу. Не думаю, что она могла меня видеть. Затем торопливо подошла к столу, наполнила две рюмки водкой и предложила японцам.
— Спасибо, нет, мы пьем редко, — сказал один, — а сегодня мы уже выпили больше, чем нужно. Большое спасибо.
У меня было дикое желание спуститься вниз и встретиться с ними лицом к лицу. Желание было настолько сильно, что я быстро вернулся в свою комнату и запер за собой дверь. Закрытая дверь приглушила их веселые голоса. Теперь был слышен только гул и иногда громкий смех. Я разделся и лег в постель. Вероятно, я заснул сразу же, потому что я больше ничего не слышал. Позже, когда я проснулся, будто издалека до меня донеслись в темноте звуки гитары и песни. Я открыл дверь и посмотрел вниз. Японцев больше не было. Мужчина моих лет сидел на полу и играл на гитаре, несколько человек вокруг него пели. Тамара сидела на стуле в углу. Я узнал песню. Как большинство русских песен, она была грустная. Они пели о птицах, что на зиму улетают в чужие края, но весною могут вернуться домой, и сравнивали свою жизнь с вечной зимой. Я уже слышал эту песню раньше, и ее сентиментальность всегда коробила меня. Но теперь я почувствовал отклик в душе на эти скорбные слова. Я слушал ее несколько минут, прежде чем вернуться назад в свою комнату.
Я не знаю, сколько часов я спал и в какой момент проснулся.
В полусне я почувствовал, что Тамарино голое тело прижалось ко мне. Секунду я лежал без движения, полагая, что мое подсознание меня обманывает, но когда я дотронулся до ее плеч и спины, ее тело задрожало от невыносимого желания, и мой сон исчез. Я почувствовал ее голодный теплый рот на своих губах и напряженную настойчивость ее рук. Я произнес слова любви. Она не ответила на них, но когда я дотронулся до ее груди, ее тело изогнулось, уступая и требуя. Она вскрикнула, когда я взял ее руки и, держа их над головой, целовал ее лицо и шею.
В тот момент, когда я овладел ею, я почувствовал, как никогда раньше, какое-то всеобъемлющее единение; все различия между нами перестали существовать. Мое страстное желание, так долго не удовлетворяемое, было насыщено, и мне хотелось нежной ласки и слов любви. Тамарина страсть, освобожденная от запрета, была неутолимой. Она не почувствовала моего утомления, и вскоре ее настойчивость разожгла мою страсть. В этот раз я овладел ею без нежности, но с необузданным стремлением причинить ей боль, словно это могло утолить мое мучение.
Наконец она лежала спокойно, ее длинные волосы переплетались с моими пальцами.
Я ждал ее слов. Я хотел разделить с ней недавнее прошлое и вернуться к первым мыслям, к первым чувствам, к внезапному рождению любви в тайниках души. Она лежала в моих объятьях, и я никогда не чувствовал такого полного обладания.
И все же все сомнения, надежды и страхи последних месяцев были свежи в моем сознании, и я хотел стереть их словами.
— Тамара, когда мы танцевали тот раз в Офицерском собрании, помнишь? — это было почти пять лет тому назад, — помнишь, я спросил тебя…
Ее рука закрыла мне рот. Она покачала головой, молча прося меня ничего не говорить.
Мы оставались вместе, пока утренний свет не проник в окно, и она ушла без слов.
Глава тринадцатая
Досада из-за моего неопределенного положения и ежедневная скука исчезли в ту ночь, когда впервые Тамара стала моей. Их заменила жизнь, полная резких перемен; дикий экстаз чередовался с депрессией. Много лет я воздерживался от увлечений и никогда не знал такого страстного желания, когда воля парализована одержимостью и не может побороть ее. В момент отчаяния я мечтал о той эмоциональной пустоте, которая в прошлом приносила мне покой, но это было не что иное, как временное сожаление о потерянной невинности.
Не то что Тамара теперь сторонилась меня; но на следующее утро я встретил сияющую женщину, весь облик которой был воплощением спокойствия, и в то же время это была другая женщина, не та, которая всего несколько часов тому назад в моих объятьях плакала от мук восторга. Теперь в ней ощущалась самоуверенность, как будто сам процесс безумной страсти освободил ее от нужды во мне, в то время как моя нужда в ней только увеличилась. В присутствии отца Тамара редко обращалась ко мне. При других она проявляла по отношению ко мне ласковую симпатию и сдержанную нежность. Я даже не мог жаловаться на холодность, но полное отсутствие контакта было хуже пренебрежения. И знание того, что со смерти мужа она не была ни с одним мужчиной, не приносило мне успокоения.
Я жил каким-то неопределенным ожиданием и мукой, которые теперь заполняли все мое существование. В редких случаях, когда мы оставались дома одни ночью, Тамара приходила ко мне, и радость, которую она приносила мне своей пылкой восторженной лаской, награждала меня за каждую минуту муки, причиной которой была ее отчужденность. В течение нескольких дней и в часы ночного одиночества я хранил память о молчаливой и неистовой встрече, и желание узнать наконец эту женщину становилось всепоглощающим. И не потому, что оно было сильнее физического желания, а просто потому, что когда в момент физической близости ее тело принадлежало мне совершенно, сама она находилась где-то далеко-далеко от меня.
Я не могу сказать, замечал ли кто другой в доме мои настроения. Иногда задумчивые глаза генерала останавливались на мне, но если он и читал что-нибудь на моем лице и приходил к какому-либо заключению, он удерживался от замечаний. Александр потерял всякий интерес к тому, что происходило в доме, а Петров был занят известием, которое он получил от сына, — письмо в двадцать пять слов, посланное через Красный Крест: «Дорогой папа, я здоров. Скоро меня пошлют на фронт за море. Две недели тому назад я женился на русской девушке Тане Коробовой. Встретились в университете. Очень счастлив. Люблю. Николай». Несколько дней Петров был занят составлением ответа; выбирал слова, переписывал, переделывал, советуясь с друзьями. В конце концов, отвергая все советы, Петров написал:
«Дорогой сын, рад твоим замечательным новостям и твоей верности. Любовь и благословение от всего сердца тебе и моей дочери. Я вполне здоров. Отец».
— Видите, мой дорогой мистер Сондерс, — повторял он, — а вы думали, что Николай женится на американке. Я же вам говорил.
Я завидовал его вере в свои собственные формулы счастья. Я завидовал и Николаю, у которого был отец, способный любить незнакомку. Само имя Таня он произносил теперь так же натурально и легко, как имя сына.
— Когда они приедут сюда… — начинал он плести невероятный рассказ, составленный из его собственных мечтаний и надежд.
Радостное настроение Петрова ненадолго рассеяло тягостную атмосферу в доме на кладбище. Но вскоре ситуация оккупационного террора, нехватка продуктов и отсутствие угля вернули нас в прежнее угнетенное состояние. Вечером в середине марта генерал пригласил на обед баронессу. Я давно ее не видел, и возбужденный тон ее разговора удивил меня.
— Вы слышали, mon cher, ходят слухи, что адмирал Сурин подал прошение на советское гражданство?
Генерал засмеялся:
— Кто-то, должно быть, придумал это.
— Я тоже так думаю, но слухи ходят упорные. Я что-то давно не видела адмирала, а вы?
— Он отменял нашу игру в бридж в последние две недели, — сказал генерал, — но я думаю, он был нездоров.
— Конечно, теперь, когда столько людей перешло на их сторону, это вполне возможно.
— О, но это же, главным образом, молодежь, которая слушает их радиостанцию. И потом, вы знаете, советские книги приходят сюда тысячами, а также и фильмы. Но это не может повлиять на такого преданного человека, как адмирал.
За столом нас было только трое: Петрова и Александра не было, а Тамара ушла в церковь сразу после обеда, так как это была суббота.
— По случаю вашего присутствия здесь, баронесса, я сварю кофе.
Генерал пошел на кухню, открыл банку кофе, которую Петров купил на черном рынке довольно давно, принес три чашки на подносе и раздал их нам, как медали. Вдруг настойчивый стук во входную дверь испугал нас. Я быстро на цыпочках поднялся наверх. Кто-то сказал:
— Добрый вечер, генерал.
По тону, каким генерал ответил: «Добрый вечер, господин Тарнов», — я понял, что он приветствовал человека постороннего.
— А, баронесса фон Раффе, — продолжал искусственно веселый голос, — очень рад опять видеть вас.
— Мне кажется, я не имела чести…
Я мог себе представить вежливо-снисходительное выражение лица баронессы.
— Мы с вами встречались на приеме в Офицерском собрании. По случаю годовщины коронации императора Николая.
— Ах, да…
— А ваши дочь и внук, ваше превосходительство, здоровы?
— Спасибо, здоровы.
Я встал на колени за перилами и вытянул шею. Я ожидал увидеть пожилого человека, но он был моих лет. Усы и натянутая улыбка, казалось, ему не принадлежали, как будто какие-то озорники подкрались и нарисовали их на его физиономии.
— Я здесь, ваше превосходительство, по той причине, что хочу обсудить с вами некоторые важные темы. Вот уже два года, как Советский Союз воюет…
— Двадцать месяцев.
— Да, и больше двадцати лет народ молился об освобождении Родины. Наконец Бог услышал его молитвы.
— Я не совсем уверена, что Бог принимает участие в войнах, — сказала баронесса.
— Пути Господни неисповедимы, но явно, что теперь Божья воля совершается.
— Господин Тарнов, — перебила его баронесса, — вы что же, присоединились к религиозному движению?
— Я просто высказываю свое мнение и мнение большинства русских эмигрантов.
— Если бы у русских эмигрантов было меньше разных мнений, нам всем было бы лучше.
— Вы правы, баронесса, нам нужно объединиться во главе с одним лидером. Именно поэтому я здесь сейчас. Наш общий долг поддержать те силы, которые сейчас триумфально маршируют по полям Родины.
— Боюсь, я вас не понимаю, господин Тарнов, — сказал генерал.
— Явно, mon cher general[40], господин Тарнов предлагает вам вступить в немецкую армию.
— Нет, я не предлагаю этого, хотя у меня нет никакого сомнения, что германская армия с большим удовольствием примет такого прекрасного солдата, как генерал Федоров. Но я хочу сказать, что генерал может быть очень полезен нам тут, в Шанхае.
— Уточните вашу мысль, — сказал генерал.
— Ваше превосходительство, мы просим вас вступить в нашу организацию. Ваше имя уважаемо всей русской колонией, как вы знаете, и я уверен, что цели нашей партии схожи с вашими чувствами по отношению к Родине.
— Вы говорите о Русской фашистской партии?
— Так точно.
— Расскажите нам об этой очаровательной организации, — произнесла баронесса.
— Наша партия существует с 1931 года и руководствуется тремя принципами: религия, родина, труд. Мы очень выросли за годы войны. У нас теперь есть новый Идеологический центр, где мы учим молодежь. Наш фюрер, который освобождает…
— Господин Тарнов, — генерал сорвался на крик, — от места, где вы стоите, пять шагов до входной двери. Единственно, почему вы их сможете сделать, это потому, что у меня нет револьвера.
После того как дверь хлопнула, я спустился до половины лестницы. Баронесса сидела выпрямившись, на диване и держала в руках чашку, все еще полную кофе. Генерал Федоров стоял, повернувшись к стене. Его руки висели по бокам туловища. Оба они были словно две восковые фигуры, безжизненные и неподвижные, поставленные так, чтобы изобразить какой-то исторический эпизод, и после этого забытые.
Я спустился еще на одну ступень, старая лестница заскрипела, это заставило баронессу вздрогнуть. Она встала и надела пальто. Проходя бесшумно мимо генерала, она остановилась на минуту и вышла из дома.
Мне самому захотелось уйти куда-нибудь, где бы никто не говорил и не думал о России или о войне, увидеть беззаботные лица, услышать смех. Я вернулся в свою комнату. Петров держал деньги в старой банке вместе с карандашами и резинкой. Я написал ему записку: «Дорогой Петров, я взял у Вас немного денег. Объясню позже. Знаю, Вы ничего не будете иметь против этого займа. Спасибо, Сондерс». Мне было стыдно, но я чувствовал, что не могу поступить иначе. Я опять тихо спустился по лестнице. Генерал сидел у радио, наклонившись вперед. По мере того как он медленно поворачивал ручку приемника, голоса врывались в тишину, как выкрики шута. Наконец он облокотился на спинку стула и закрыл глаза. Под радостные звуки песни «Страна моя, страна моя любимая, непобедимая…» я неслышно вышел из дома.
Когда-то сверкающий город был теперь мрачным. Темные улицы вели в никуда; они были только проходом в другие темные улицы. И дома с окнами, занавешенными черным, стояли, как родственники, оплакивающие смерть своего родоначальника. Время от времени разрывали темноту веселые голоса или музыка из открытой двери, как будто бросая вызов тем силам, которые погрузили этот город в ночь.
Почти два часа я добирался до «Парамаунта»; но когда я оказался внутри, в этих стенах, выкрашенных в яркий цвет, мне показалось, что я вернулся туда после очень, очень долгого путешествия. С чувством облегчения и какой-то беззаботности я слушал звуки чокающихся бокалов, музыки и смеха. Я заказал двойной виски.
— Не желаете ли чего-нибудь еще? — спросил официант.
— Да, — сказал я, — видите ту девушку в зеленом платье?
— Которая танцует с мужчиной в коричневом костюме?
— Нет, не ту. А вон ту, которая танцует с японским офицером.
— О, да, вижу.
— Мэй Линг?
— Нет, — сказал он, — больше не Мэй Линг. Я забыл, как она теперь зовет себя.
— Ну, все равно, попросите ее прийти к моему столу.
— Хорошо, если она не занята на весь вечер.
Мэй Линг танцевала, как яркий мотылек, которого подбрасывал и крутил ветер. Ее партнер с трудом старался следовать за ней под быструю музыку и, наконец, грубо притянул ее и прижал к своему квадратному туловищу. Она перестала танцевать, и могла только медленно покачиваться в сковывающих объятиях.
Когда музыка смолкла, офицер пошел к столу, где другие японские офицеры сидели и пили, и Мэй Линг вернулась на свой стул на возвышении. Я начал искать глазами официанта, но его не было видно. Когда оркестр заиграл другой танец, я подошел к ней сзади.
— Потанцуй со мной, Мэй Линг?
Она быстро повернулась: удивление, страх, радость на ее красивом лице в следующую минуту сменились веселой улыбкой, скрывающей все эмоции. Она подала мне руку.
— Ты очень переменился, — сказала она, когда мы начали танцевать.
«Как это похоже на нее, — подумал я, — ни одного вопроса».
— Я постарел.
— Нет, это не то.
— Ты все еще живешь тут, в «Парамаунте»?
— Нет, у меня есть своя комната. Недалеко.
— Как это тебе удалось?
— Один японец.
— Он там живет с тобой?
— Больше нет, но раньше. Он в Токио теперь.
— Он приедет назад?
Она пожала плечами.
— Может быть.
— Могу я пойти туда с тобой сейчас? Я бы очень хотел, Мэй Линг.
Она сказала «да», но если японский офицер не попросит ее. Я заметил, что японец много пил и что разговор его товарищей становился все более громким и невнятным. Я больше не танцевал с Мэй Линг, и японский офицер тоже. После последнего танца она подошла к моему столу.
— Идем, — сказала она.
Войдя в комнату, она стала искать свечку. Было уже после полуночи, а электричество во всем городе выключали в десять часов. Свечи она не нашла, и мы разделись в темноте.
— Ты меня не хочешь? — спросила она. Я лежал без движения, моя рука на ее животе.
— Ты когда-нибудь любила кого-нибудь?
Мэй Линг засмеялась.
— Тебе не мучительно спать с японцами?
— Почему?
— Ну, потому что ведь война. Китай — твоя родина…
— Я люблю Китай, — сказала она.
— И тебя не мучает, что приходится отдаваться японцу?
— Нет, это неважно.
— А что тогда важно?
— Не быть голодной.
— Кто бы ни давал тебе рис?
— Да, — сказала она, — неважно.
Она лежала тихо, ее щека рядом с моим плечом, ее рука на моем локте. Может быть, такова ее профессия; она принимала настроение другого, как одежду, и, может быть, укрывала этим свою наготу.
Свет раннего утра рассеял все, что ночь открыла мне. Я разбудил Мэй Линг и взял ее молодое гибкое тело, теплое ото сна и все еще пахнущее цветком жасмина, который выпал из ее волос и теперь, увядший и мятый, лежал под ее спиной. Сам этот несложный акт, без всякой мысли или эмоции, помог восстановить что-то во мне. Какую-то силу, которую я потерял и которой мне недоставало. Она даже не заметила, когда я ушел; она крепко спала, и в этом безмятежном сне, как и в ее веселой улыбке, была все та же скрытность.
Снаружи, у двери, на тротуаре старый нищий спал рядом со слепым мальчиком. Возможно, это был его внук или бездомный сирота, которого он нашел и которому он выдавил глаза, зная, что в мире больше жалости к детям, а слепой ребенок может принести больше копперов, чем жалость к старику.
Город теперь просыпался, как он это делал всякий день сотни лет. Война не несла никаких перемен для миллионов кули, которые все так же горбились под своей неподъемной ношей, ступая босыми ногами на ледяной асфальт. Я почувствовал всепоглощающее одиночество в этот ранний предрассветный час, когда обтрепанные, полуголодные люди, дети этого огромного и попранного континента, встречали новый день, который не обещал им ничего, кроме продолжения той же скорби. И в этой их скорби, в их поту, в их темном бессмысленном существовании был залог страшнейшей, катастрофической угрозы.
Глава четырнадцатая
В январе 1944 года советская радиостанция торжествующе объявила, что Новгород освобожден советскими войсками, и в тот же день адмирал Сурин подал документы на советское гражданство и визу. Петров принес эту весть и добавил: Сурин сказал, что представляет себе, какой эффект эта новость произведет на его друзей, и хочет, чтобы они знали — это ему совсем безразлично.
— Очень хорошо, — отрезал генерал, и когда Петров заговорил об этом за обедом, генерал строго заметил ему, что он не желает слышать о Сурине и просит не упоминать имя Сурина в его присутствии.
Советская армия теперь двигалась в сторону заблокированного Ленинграда, и генерал проводил большую часть дня, слушая «Голос Родины» или читая газеты на нескольких языках. Так как обычные передачи часто прерывались новостями с фронта, генерал не позволял выключать радио, и скоро я заметил, что я сам стал насвистывать советские армейские песни, работая на кладбище или бреясь.
Прошел почти год с тех пор, как последние американцы и англичане были посажены в лагеря для военнопленных, и хотя единственные сведения о войне на Тихом океане мы получали от японцев, противоречивые слухи ходили по городу. Мы научились расшифровывать официальные заявления, так что, когда японцы объявляли, что враг понес колоссальные потери в людях и технике, захватив стратегически незначительную территорию, мы знали, что американцы достигли серьезного успеха.
В Шанхай война приносила все больше продовольственных карточек и меньше еды, все более длинные очереди перед рисовыми лавками и все меньше часов электрического освещения. На улицах были вырыты траншеи «для обороны», которые заменили аллеи деревьев, комнатные радиаторы отопления были конфискованы как дефицитный металл. Я предпочитал проводить дни, работая на кладбище; я предпочитал усталость холоду в нетопленых комнатах, от которого у всех нас появились припухлости на суставах рук и на пальцах ног.
Теперь, из-за того что генерал проводил столько времени у радиоприемника, Тамаре пришлось заменять его, работая на кладбище. Ее руки, так же, как и мои, были покрыты болячками. Иногда боль в пальцах делала работу невозможной. Тамара со мной никогда не обсуждала войну с Германией, хотя она всегда спрашивала отца о новостях, особенно теперь, когда фронт двигался в сторону Ленинграда. Однажды в феврале, когда мы заканчивали работу на кладбище, генерал показался в конце аллеи. Он шел быстро, и Тамара поднялась ему навстречу, ее лицо напряглось, она старалась узнать, чем он был взволнован.
— Тамара, — вскрикнул он, — Тамара, Санкт-Петербург освобожден.
Я никогда не видел генерала, обнимающего дочь. Она приникла к нему и рыдала, давая волю слезам. Генерал не успокаивал ее, а дал ей выплакаться, прижав ее худенькие дрожащие плечи к своей широкой груди и гладя ее темные волосы рассеянным жестом.
С того дня, и тем более когда открылся Второй фронт в Европе, стало ясно, что Германия проиграет войну. Генерал Федоров приветствовал меня каждое утро радостной вестью. Он вставал раньше всех и, увидев меня спускающимся по лестнице, весело говорил:
— Знаете, где русские войска сегодня? Никогда не догадаетесь. В Румынии, вот где!
Или вздыхал с поддельным сожалением:
— Эх, что же ваши солдаты? Четыре недели они уже на Гуаме, четыре длинных недели, и все еще американский флаг не развевается на этом маленьком островке!
— Не такой уж маленький, — вступился Петров. — Вы же знаете, ваше превосходительство, остров трудно взять.
Это мы помним из истории. Много пещер в каждой горе, и в каждой из них — японский солдат. Им видно приближение американцев, а американцы их не видят. Я также слышал, что часто японцы сидят на деревьях.
— Обезьяны, это уж точно. Но это не резон провести четыре недели на одном острове. Избалованы ваши американцы. Говорят, что они даже едят шоколад во время войны.
— Да, верно, это у них в пайке.
— Ну вот, что же вы можете ожидать после этого? Шоколад для солдат! Ведь это их делает шоколадными солдатами, которые тают от огня.
— Зато питательно, — вставил Петров.
— Питательность не делает солдат храбрыми.
Но за этими шутками, за этой радостью и веселой критикой ощущалось еще что-то новое в генерале. Словно какое-то напряженное ожидание, словно какое-то возбуждение пряталось в его сердце, и он целиком отдавался этому предчувствию.
Он стал проводить больше времени в Офицерском собрании и на различных заседаниях, где, как намекнул Петров, «принимались планы и решения на будущее». Для меня хлопоты других обещали возможность остаться с Тамарой наедине, и каждый вечер я лелеял надежду, что неотложные дела уведут их с кладбища. В те ночи, когда Тамара приходила ко мне, я не испытывал чувства победы, равно как и поражения, мы согласно признавали обоюдность желаний наших тел, и ни во мне, ни в ней не было стремления к превосходству. И все-таки днем, когда я был полон этой близостью, Тамара оставалась отчужденной и отдаленной, как будто физическая страсть была замкнутым крутом и не было нужды ни в чем другом.
Только однажды я приблизился к проникновению в ту недоступную глубину, которую ее страсть одновременно открывала мне и прятала от меня, и даже та Тамара, которую я увидел в это мгновение, осталась для меня чужой.
Была поздняя осень, один из тех неожиданно жарких дней, когда солнце, посылая нам прощальный подарок, насыщает город теплом.
— Вам обоим было бы хорошо поехать за город, — сказал генерал. — К тому же, у нас здесь будет заседание, и, я думаю, лучше, чтобы мистер Сондерс провел это время на свежем воздухе, а не в своей комнате.
Мне было так же трудно представить Тамару на пикнике, лежащей на траве с сэндвичем в руке, как и Мэй Линг в церкви. Но она согласилась сразу, и мы собрались, довольные, как дети, готовые на приключение. Нам пришлось несколько раз пересаживаться из автобуса в автобус, чтобы доехать до Хоньджао. Пыль и толпа, и грязные нищие были забыты, когда мы увидели желтеющие поля и разросшиеся кусты.
Она побежала по полю, уронив корзинку с едой и свою книгу. Я бежал за ней, пока мы оба, утомленные, не упали на траву со смехом. Несколько китайских пар виднелись в поле, но Тамарина способность изолировать себя от окружающей обстановки помогала мне чувствовать себя совсем наедине с ней. Я повернулся на спину и лежал тихо, вдыхая теплый ароматный воздух. Небо надо мной, как нежный покров, благодатный и мирный, гармонировало с мягкой красной землей. Я посмотрел на Тамару. Она лежала на животе и улыбалась, склонив голову над желтым цветком, ее тонкие пальцы ласкали яркие лепестки. Мне до боли хотелось ее ласки, поцелуя нежного и всеобеща-ющего. Я прошептал ее имя. Она взглянула на меня и засмеялась.
— Ты спал, — сказала она.
— Нет, я только закрыл глаза.
Я повернулся и вынул две большие шпильки из ее волос, и две косы упали на плечи. Она опять засмеялась и спрятала лицо в траву.
— Почему запах может принести столько радости? — спросила она. — Например, запах травы.
— Я никогда об этом не думал.
— Когда ты был маленьким, ты когда-нибудь прятался в поле, в высокой траве, где ты один мог бы смотреть в небо?
— Мы жили в городе, — ответил я.
— Разве вы никогда не ездили в деревню?
— Лето мы проводили на берегу моря.
— Море. Однажды мы жили около моря, но я так боялась его шума, что мы уехали оттуда.
Тамара легла на спину и положила руки под голову. Через траву земля ощущалась теплой и сырой. Где-то затрещала цикада, нарушая тишину. Легкий ветерок пролетел над деревьями, листья нежно задрожали. Тамара протянула руки, ее рука дотронулась до моей. Я оперся на локти и взглянул ей в лицо. Она повернулась ко мне.
— У тебя голубые глаза, — сказала она, — почти такие же голубые, как были у Владимира.
Мужское имя прозвучало странно на ее губах.
— Сколько лет ты была за ним замужем?
— Почти три года.
Она ответила без грусти, спокойно, как говорят о далеком прошлом, память о котором вызывает только удовольствие.
— Какой он был? — неожиданное столкновение с призраком разрушило мое спокойствие, но я хотел знать.
— Он был офицером Белой армии. Один из последних прибывших в Китай. Он был разведчик.
— Он, наверно, был много старше тебя?
— Мне было почти восемнадцать, а ему тридцать четыре. Мы венчались в Харбине в маленькой церкви. Отец говорил, что он всегда хотел сына, такого, как Владимир. И Владимир его любил тоже.
— Вы были счастливы?
— Да, я никогда не могла понять, почему он хотел жениться на мне. Он был хороший, храбрый, совсем как отец. А я была девочка, глупая и боялась всего. Знаешь, что меня делало счастливой? Я могла обожать его без боязни, что он обманет меня. Ты понимаешь? Нет, не меня, а что он предаст что-то в самом себе.
— Я думаю, что я понимаю.
— И это постоянное изумление, что он мой муж, это было как… как великий дар, которого я не заслуживала, но была счастлива принять.
— Но как он мог оставить тебя? — в моем голосе слышалась горечь, но она даже не замечала ее.
— Он не оставил меня, он исполнял свой долг.
— Он оставил тебя ради России, — сказал я.
— Кто же знал, что он не вернется? И даже если бы он знал, он все равно бы пошел. Родина прежде всего.
— Глупости. Он прежде всего должен был думать о тебе.
— Я не могла бы тогда любить его.
— Я бы заботился о любимой женщине больше, чем о моей родине. Моя жена всегда была бы важнее всего.
— Как странно, — сказала она, — как странно.
— И что хорошего в его геройском подвиге? Чего он достиг? И ты осталась одна с ребенком.
— Я была не одна. Отец был со мной.
— Ради Бога, да разве ты не была несчастна?
— Конечно, была. Но это было не так важно, как дело Владимира.
— О, Боже! — сказал я. — Я никогда, никогда не пойму всех вас.
— Я это знаю, — сказала она тихо.
Я предполагал провести этот день совсем по-другому, но теперь я почувствовал себя усталым, побежденным какой-то невидимой силой, лишенным нежности и даже злым. Гнев остался где-то у меня в сердце и затаился там, как мстительное животное. Несколько дней я не мог отделаться от чувства неловкости. Как будто бы я следил с подозрением за Тамарой. Постоянная натянутость нарастала, пока наконец однажды, в воскресенье, я не решил поговорить с ней.
Я был один в доме, ожидая ее возвращения из церкви. Когда Тамара пришла, ее спокойное выражение лица разозлило меня, и я стал ходить по комнате молча. Она спокойно сидела с книгой и чашкой чая, не замечая моего раздражения.
— Сегодня холодно, — сказал я.
— Разве? Я не заметила.
— Ты никогда ничего не замечаешь, — Тамара ничего не ответила.
— Если не холодно, пойдем погуляем.
— Я хочу почитать. Я пришла домой пешком.
— Эта книга выглядит такой же старой, как ваша революция. Почему ты всегда читаешь эти старые книги? Почему ты никогда не читаешь ничего нового? Ты когда-нибудь читала хоть один американский роман? Или английский?
Она взглянула на меня, удивленная на моим тоном.
— Почему ты не идешь гулять один?
— Не хочу. Я хочу поговорить с тобой.
— О чем?
— О нас. О тебе и обо мне.
— О нас? — протянула она.
Я понял, что разговора не будет. Я понял, что слова не пробьют стену, которую она воздвигла и за которой жила. Я должен был заставить ее увидеть себя и посмотреть на нашу любовь при дневном свете. Резко подойдя к ней, я притянул ее к себе и наклонил ее голову назад. Я хотел видеть ее раздетой, не укрытой ночью и темнотой, я хотел заставить ее признать свою страсть. Она освободилась от моих объятий и побежала к двери.
— Нет, — закричал я, — на сей раз ты не убежишь от меня.
Если бы я мог понять тогда, почему ее лицо было так искажено страхом, я бы отпустил ее, но стремление уничтожить ту Тамару, которая находилась между мной и ночной Тамарой, было сильнее тоскливого предчувствия сердца. Я загнул ее руки за спину и прижал к стене своим телом.
— Посмотри на меня, — сказал я, когда она мученически уронила голову на грудь.
— Посмотри на меня, Тамара, — закричал я опять. Она медленно подняла глаза, в них не было ничего, кроме ужаса и мольбы. Я стал целовать ее с гневом и страстью, и горечью, и болью.
— Ты моя, моя, моя, — повторял я ей, и каждый раз эти слова ударяли ее, как пощечина.
— Почему ты не хочешь признать, кто ты? Ты не святая, не вдова героя. Подумай о ночах, когда ты приходишь ко мне. Вот это ты, настоящая ты.
Она стала дрожать.
— Я возьму тебя сейчас при свете. Ты сама сможешь увидеть себя.
— Нет, — сказала она, — нет.
Я поднял ее хрупкое тело и понес вверх по лестнице в мою комнату. Она билась, словно я хотел взять у нее жизнь. Я бросил ее на кровать, запер дверь и открыл окно, чтобы солнце и свет наполнили комнату. Я овладел ею без нежности, с напряженным и холодным удовольствием. Она лежала без движения, с закрытыми глазами и сжатыми зубами. Я накрыл ее простыней и вышел.
Глава пятнадцатая
Ваше превосходительство, — сказал Петров, как-то раз вернувшись домой поздно вечером, — невероятное явление. Я только что видел форму генерала Советской амии, выставленную в витрине магазина; вы знаете этот книжный магазин, который между ювелиром и магазином мехов на Avenue Joffre. Я сам это видел и не поверил собственным глазам. Вы понимаете, погоны на плечах, золото и блеск, точно как было у нас до революции.
— Погоны? — сказал генерал. — Вы уверены?
— Абсолютно уверен, видел своими глазами.
— Что же тут особенного для военной формы? — спросил Александр.
— Они убивали раньше наших людей за это, понимаешь? — закричал генерал, — убивали всякого в офицерской форме. Сдирали погоны, раздевали и вырезали их на голых плечах, как клеймо.
— Ну, это было давно, форма же просто символ.
— Да, и они уничтожили этот символ и все, что он означал. Теперь, после всей пролитой крови, они его вернули. Они не имеют на это права!
— Ваше превосходительство, — сказал Петров, — в Офицерском собрании будет срочное совещание в семь тридцать.
— Хорошо, но я на него не пойду, — закричал генерал.
— Не пойдете, ваше превосходительство?
— Не пойду, — крикнул генерал и повернулся ко мне. — Мистер Сондерс, последний раз у нас было собрание как раз после того, как Сталин объявил, что религия приветствуется в России, и все те дураки говорили: «Россия воскресла, мы можем теперь ехать домой», — и некоторые из них побежали в советское консульство, как будто сам царь вернулся.
— Да, — сказал Петров, — теперь можно ходить в церковь в России. И не только это. Даже Константин Симонов, советский поэт, говорит о Боге в своих стихах. И это в официальной поэзии. И не для того, чтобы осмеивать, вы понимаете, не для смеха, а трогательно. «Поезжайте с Богом, — говорит старая женщина в его поэме солдатам, — идите с Богом, а мы будем ждать вас». И другая строчка: как будто наши предки молятся за своих неверующих внуков.
— Что? — закричал генерал. — И вы тоже?
— Нет, нет, ваше превосходительство, я — нет. Совсем нет. Я только цитирую.
— Но религия теперь свободна в Советском Союзе, — сказал Александр.
— Видите, мистер Сондерс? Молодежь так же реагирует, как старые дураки. Александр, ты что, не понимаешь, что им надо было это сделать? Ты думаешь, грузинский жулик не знает, что русский мужик не пойдет проливать кровь за него? Сталин должен был вытащить Николая Чудотворца. Он знает, что русский мужик не пойдет в бой без Бога.
— Святой Николай — наш покровитель, — сказал Петров.
— Вы всегда говорили, что они боролись за матушку-Россию. Разве этого недостаточно? Сталину не нужно было выставлять святого Николая: они воюют прекрасно и без него. — Голос Александра звенел.
— Для русского мужика Бог и мать-Россия одно и то же. Он не может разделить их.
— Ив этом он не ошибается, — сказал Петров.
— И теперь я снова увижу сотни русских эмигрантов, бегущих в советское консульство из-за этой формы.
— Совершенно верно, ваше превосходительство, это как раз то, что они говорили в толпе перед витриной. Большая, огромная толпа стояла там. Говорят, там даже была драка сегодня утром. Один человек говорил, что жизнь в России теперь стала нормальной и, может быть, даже лучше, а другой ударил его кулаком прямо в рот. Но когда я был там, никто никого не бил, но многие кричали друг на друга.
— Боже, — сказал Александр, — Боже мой, как долго это будет продолжаться? Что-то большое, огромное происходит в России, а они продолжают разыгрывать комедию здесь. Неужели они никогда не устанут от всего этого?
— От любви, мой дорогой Александр, все это от любви и боли. Ты не понимаешь по молодости лет.
— Но…
— Вы, конечно, слышали новости, — перебил Петров. — Восьмая советская армия под начальством генерала Чуйкова сейчас подходит к Берлину.
— А что насчет Первого Украинского фронта? — спросил генерал.
Петров не успел ответить. С неожиданным треском открылась входная дверь. Японский офицер с лицом, искаженным злостью, стоял в дверях, размахивая саблей, и кричал на нас.
Он толкнул Александра, который оказался возле двери, и подошел к окну, показывая на небрежно задернутые черные занавески.
Петров подбежал к нему.
— Виноват, очень виноват, я сейчас все исправлю.
Японец ударил его дважды по лицу, и Петров отступил, виноватая улыбка все еще не сходила с его лица. Одним движением сабли офицер сбил лампу с потолка, и темнота принесла облегчение, скрыв его озлобленное лицо. Я протянул руку, зная, что Тамара была где-то близко, и почувствовал пустоту.
Свет ручного фонаря упал на меня. Я закрыл глаза. Когда я опять посмотрел, свет перешел на генерала и дальше на Тамару, которая стояла за его спиной.
— Кандру, — закричал офицер.
— Он хочет свечку, — сказал Петров. Генерал медленно пошел на кухню и зажег свечу, но Тамара взяла ее из его рук и поставила перед японцем.
— Бумагу, — сказал офицер. Он вынул из кармана записную книжку и сел за стол. Генерал подал ему лист бумаги.
— Нет, — офицер бросил бумагу генералу. — Бумаги!
Вы.
— Он хочет наши паспорта, — сказал Петров, — документы. У меня паспорт с собой, так как я сегодня выходил.
Петров показал свой паспорт.
— Я только что вернулся домой, — продолжал он повторять японцу, который его игнорировал. Пока офицер проверял Тамарины документы, я пошел доставать мои.
— Где медару? — закричал офицер, когда я дал ему мои документы. — Но медару.
— Ноу спик инглиш[41], — Петров сказал, показывая на мою грудь, — ноу инглиш.
Офицер ткнул пальцем в документы генерала, на которых была печать, похожая на медаль, и затем в мои, на которых ее не было. Я пожал плечами.
— Говорите с ним по-русски, — сказал генерал.
Я начал что-то говорить, какие-то короткие фразы, которые ничего не значили даже для меня. Японец вопросительно смотрел на Петрова.
— Видите, — сказал Петров по-английски, — мистер Сердцев говорит, что он получил эти документы до новой регистрации, а когда она началась, он… — но, вероятно, знание английского языка у офицера тоже было ограничено только несколькими словами, и он сделал знак Петрову замолчать. Японец скопировал информацию со всех документов в свою тетрадь, вернул их генералу, все, кроме моих, которые он засунул себе в карман, говоря что-то по-японски Петрову. Он встал, чтобы уйти, и тут заметил Александра, который все время стоял в дальнем углу.
— Вы. Бумагу? — Александр не двинулся.
— Пойди, достань свои документы, — сказал генерал.
— Они со мной, — Александр минуту колебался, потом быстро подошел к японцу и подал ему удостоверение. Это была маленькая желтая бумага с печатью большого серпа и молота посередине.
Японец что-то записал и оставил удостоверение личности Александра на столе. Он указал еще раз на занавески, погрозил нам пальцем и вышел. Я избегал смотреть на генерала, но слышал, как он сел и, как по сигналу, Тамара и Петров сели с ним рядом.
— Дедушка, — сказал Александр. — Дедушка, я хотел тебе это раньше сказать, но… — его слова прозвучали среди полной тишины, как мольба.
— Мама, ты можешь это понять, мама…
Александр сделал шаг в сторону Тамары, но остановился посреди комнаты, видя выражение удивления на ее бледном лице. Я хотел подойти к ней и взять за руку. Тамара придвинулась ближе к отцу.
— Дедушка, с первого дня, с самого первого мига, как я себя помню, я слышал от тебя рассказы о России. Мама мне всегда говорила, что когда я родился, ты пришел к ней в госпиталь и принес твое полковое знамя, чтобы повесить его над моей кроватью… Мама, помнишь ту первую поэму, которую ты заставила меня выучить? Когда другие дети моего возраста читали стихи о собаках и лошадях, ты учила со мной поэму о царском сыне, о том, как его убили. На мой шестой день рождения ты подарила мне книгу стихов Пушкина и надписала: «Где бы ты ни был, никогда не забывай, что ты — русский, и гордись этим». И я помнил и гордился. Помните, когда Кирилл умер в Европе и его сын Владимир был объявлен новым наследником российского престола? У нас в соборе была служба, и в конце все пели: «Боже, царя храни», — и вы позже сказали: «Теперь уже недолго!».
Александр стоял перед ними. Он смотрел каждому в лицо, как человек, дающий показания в суде.
— И вот наступила война. В день Перл Харбора нас распустили с уроков. Я, Евгений и еще два мальчика ходили по улицам несколько часов. Мы видели, как японские солдаты ставили заслоны из колючей проволоки и кричали: «Nippon». Мы видели японских офицеров, пьющих за своего императора. Мы видели, как плакали молча китайцы. Американцы говорили об эвакуации и лагерях. У нас же не было ничего, о чем мы могли бы плакать, ничего, чему мы могли бы с гордостью радоваться, ничего, за что воевать. И никто не хотел сажать нас в лагеря. В наших паспортах было сказано: «бесподданный».
Мы начали ходить на советские фильмы. Мы слушали их песни по радио — песни о молодежи, воюющей за свою родину. Потом мы начали ходить в Советский клуб на фильмы, после того, как однажды встретили одного советского человека, — он пригласил нас в клуб. Он был первый человек из Советского Союза, которого мы узнали. Он не говорил об идеологии, но когда он говорил о России, он повторял слово «наша» обо всем тамошнем: «наши реки», «наша Москва», «наш народ». Он дал нам несколько книг. Я не понял многое в них, но это было неважно. Я его не спрашивал, потому что не хотел, чтобы он сказал «ваши», когда он заговорит об эмигрантах.
Александр вдруг остановился и долго смотрел на меня. Повернувшись к генералу, он сказал:
— Может быть, вы хотели бы, чтобы я ушел?
Генерал покачал головой.
Глава шестнадцатая
В оккупированном городе даже орудия разрушения становятся вестниками радости. Когда первые американские аэропланы сбросили бомбы на Шанхай, я почувствовал только счастливое возбуждение.
— Это явно значит, что ваши аэродромы близко, — прошептал Петров. — Теперь недолго ждать.
Все остальное было неважно для нас, мысль о том, что другим это несло смерть или разрушения, быстро пронеслась и исчезла.
Я получил письмо из Русского эмигрантского комитета, предписывающее мне явиться по поводу моих документов, но, по совету Петрова, решил не ходить, чтобы не привлечь к себе опасного внимания. Я написал им письмо, что я болен и приду, как только буду в состоянии. Петров сказал, что пройдет несколько недель, прежде чем они пришлют следующее письмо, и за это время он придумает, что делать.
— Не волнуйтесь, мистер Сондерс, всегда есть выход из положения.
Однако глухое предчувствие опасности, с которым я жил теперь постоянно, было как симптом болезни, но пока я не чувствовал боли. Я не отлучался с кладбища с тех пор, как мои документы были отобраны, и Петров, потерявший службу во французской полиции, потому что он выдавал больше продовольственных карточек, чем полагалось, тоже сидел дома.
Необходимость оставаться на кладбище меня не беспокоила; мне не хотелось видеть город, его серые улицы. И даже было странное утешение в этой скучной рутине и в сознании, что я ничего не могу сделать, чтобы переменить положение. Эта полная невозможность перемены, которая так мучила меня в первый год войны, стала коварным утешением.
Но в то же время эта вынужденная изоляция еще больше увеличила мою одержимость Тамарой. Тамара, каждое ее слово и жест вызывали жгучее волнение. За семь месяцев, прошедших с тех пор, как я овладел ею силой, она ни разу не пришла ко мне, и если ее прежнее отчуждение было лишь следствием того, что она не нуждалась во мне, теперь это отчуждение имело иную причину. Я чувствовал, как вся она напрягалась, когда я подходил близко, и иногда читал в ее глазах затаенный страх. Сначала я был рад перемене — вызывать страх лучше, чем быть проигнорированным. Но когда я наконец понял, что уничтожил что-то в ее представлении о себе, я тоже испугался, — и не только за Тамару, но и за себя. Словно я разрушил что-то в самом себе, что-то, чем ее страсть наградила меня. Ее отчужденность перестала быть болью, но сделалось еще страшнее: она обезличила меня. И все же я продолжал ждать. Но не каких-либо поступков с ее стороны или перемены в собственных чувствах, а каких-то неопределенных и неожиданных событий.
Наконец я решил поговорить с генералом о Тамаре. Это решение пришло ко мне неожиданно, без долгого размышления, в то время, когда мы с ним вдвоем работали в саду, который генерал развел вокруг дома; он стал проводить в нем много времени.
Несколько раз в то утро я мысленно обращался к генералу и так увлекся этим молчаливым разговором, что в какой-то момент удивился, что он не отвечает мне. Затруднение состояло в том, что я знал, что хочу сказать генералу, но совершенно не догадывался — что же он ответит мне, и это смущало меня.
Вдруг я услышал, что он зовет меня. Я повернулся, вздрогнув от звука его голоса. Он стоял, прислонившись к стене, дергая рукой ворот своей униформы.
— Не могу дышать, — сказал он, и страх перекосил его лицо. Я расстегнул ему воротник.
— Я помогу вам дойти до дома.
— Нет, — прошептал он, — принесите мне стул сюда.
Я побежал в дом. Тамара была занята у плиты и не обернулась. Петров читал свою энциклопедию, и я поманил его, чтобы он пошел за мной. Мы вдвоем посадили генерала на стул.
— Ваше превосходительство, я позову доктора.
Генерал покачал головой.
— Ноги, — сказал он.
Петров стал на колени, снял с генерала ботинки и стал массировать его опухшие ноги.
— Вам лучше лечь, ваше превосходительство. Ненадолго, на несколько минут. Отдохнуть.
Генерал не ответил. Петров достал платок и стер пятно грязи с его лба.
— Уже лучше, — сказал генерал, — немножко задохнулся.
— Все равно следует показаться доктору. С некоторых пор у вас опухают ноги.
— Помогите мне, пожалуйста, надеть ботинки, я пойду теперь в свою комнату.
— Конечно. Прекрасно, ваше превосходительство. А я скажу Тамаре, что вы слушаете радио.
— Да, — сказал генерал.
Он медленно пошел домой. Следующие два дня генерал ни на что не жаловался, и когда Петров спрашивал его о здоровье, отвечал, что здоров, хотя оставался дома и не выходил работать на кладбище. Но на третий день генерал Федоров остался в постели. Он, очевидно, простудился, кашлял, у него появился жар. Тамара принесла ему завтрак, но он отказался, говоря, что у него болит горло и ему трудно глотать. Это было восьмого мая. С утра мы собрались в его комнате и слушали радио. Около одиннадцати часов «Голос Родины» объявил, что Германия капитулировала. Генерал слушал с закрытыми глазами, мы не знали, спал ли он, и Петров поманил меня из комнаты.
— Мы должны пойти в город, — сказал он. — Грех оставаться дома в такой день.
Мы дошли пешком до трамвая и поехали на Avenue Joffre. Главная улица Французской концессии, когда-то освещенная и нарядная, как рождественская елка, а во время войны тихая и поблекшая, была опять оживлена. Люди кричали и смеялись. Некоторые плакали, словно с объявлением о поражении Германии какие-то тайные ворота открылись и подавленная славянская экспансивность залила город. Петров потянул меня за руку к толпе, собравшейся перед немецким книжным магазином. Там, в витрине, в течение всей войны огромный портрет Гитлера смотрел с презрением на проходящих. Ведя меня за собой, как ребенка, Петров растолкал толпу локтями, х* я увидел через разбитое стекло, что Гитлер на портрете был без головы. Я повернулся к Петрову, он обнимал высокого худого мужчину. Короткие руки Петрова едва доставали до плеч этого господина, и было похоже, что Петров висит на нем. Чьи-то руки обняли меня за шею. Незнакомая женщина целовала меня в щеку.
— Ах, как хорошо, — сказала она. — Как хорошо, теперь мы можем вернуться домой.
Петров неожиданно появился между нами, и в следующее мгновение эта женщина была уже в его объятиях. Она смеялась, но когда кто-то еще обнял ее, говоря: «Кончилось! Победа!» — она заплакала.
Их радость была заразительна; возбуждение опьянило меня, и я кричал вместе с ними, обняв Петрова и пожимая руки незнакомым.
Мы ходили взад и вперед по Avenue Joffre, махали руками незнакомым и улыбались всем. Время от времени серьезное лицо японца появлялось в толпе, напоминая об опасности, и мы быстро отворачивались.
На углу Route Cardinal Mercier мы встретили Александра и Евгения. Петров кинулся к Александру, но, увидев, что Александр держит за руку молодую девушку-полукровку, остановился.
— Куда вы оба идете? — воскликнул Александр.
— Никуда, просто гуляем. А вы?
— В наш клуб праздновать победу.
— Твой дедушка себя плохо чувствует, — сказал Петров Александру, который уже несколько дней жилу Евгения.
— Что-нибудь серьезное?
— Сильная простуда.
— Мой отец тоже болел инфлюэнцей, — сказал Евгений, — но сегодня ему лучше.
— И знаете что? — сказал Александр. — Он сегодня с нами идет в Советский клуб в первый раз.
— А это Наташа, — Александр представил нам девушку. Она улыбнулась и так взглянула на Александра, что я позавидовал ему.
— Я завтра буду дома. До свидания.
Мы смотрели им вслед, пока они не исчезли в толпе. Какое-то время Петров стоял не двигаясь, разведя руки и приподняв плечи, нагнув голову.
— Николай скоро вернется, — тихо сказал он.
— Петров, дорогой! — голос, который звал его с противоположной стороны улицы, принадлежал солидному, очень высокому господину. Он надвинулся на нас как лавина, красное лицо его сияло на солнце. Петров исчез в его объятиях. Освободившись, он сказал:
— Капитан Дракунов.
Капитан пошарил в карманах и дал Петрову несколько смятых купюр.
— Вот, я вам должен.
— Вы? Мне?
— Да, вам. Я вам отдаю долг. Помните? Шесть месяцев тому назад, может быть, десять, вы мне одолжили деньги. Это — половина.
— Спасибо, спасибо. Я всегда говорю, одалживать деньги — самое лучшее помещение капитала.
— Ну, пока, не пропивайте все.
— Вы придете в Офицерское собрание вечером? — спросил Петров.
— Нет, — ответил капитан, — нет.
Когда он ушел, Петров сказал:
— Блестящая идея. Пойдемте, выпьем. Вот тут в ресторане «Кавказ».
Около «Кавказа» стояла большая толпа, но двери были заперты, и японский жандарм загораживал их.
— Что случилось? — спросил Петров.
— Пьяный русский плюнул в японского офицера и сказал, что они проиграли войну. Его арестовали. Но после этого двое русских подрались. И жандармы закрыли ресторан.
— Если вы пойдете по церквам, — сказал кто-то в толпе, — то увидите, что попы колотят друг друга, потому что один архиерей решил признать советского патриарха, а другой против этого.
— Вы слышали? Кто-то в Русской фашистской партии повесился?
— Им всем следовало бы это сделать.
— Одну минуту. Что вы этим хотите сказать?
— Уйдем отсюда, — сказал Петров. — Лучше давайте купим бутылку хорошего вина и выпьем дома с генералом. Ему это будет полезно.
Я согласился. Возбуждение утомило меня, и я хотел поскорее увидеть Тамару.
Когда мы вернулись, в гостиной никого не было, но в безмолвном доме чувствовалось чье-то присутствие. Мы оба пошли наверх. Дверь в комнату генерала была открыта, и я увидел Тамарин затылок. Она сидела прямо на стуле у кровати. Генерал спал, тяжело дыша. Слышен был свист и хрип. Мы вошли на цыпочках в комнату. Увидев нас, Тамара бросилась к Петрову, спрятала лицо у него на шее, повторяя что-то по-русски, чего я не разобрал. Петров прижал свою щеку к ее голове.
— Дорогая, — прошептал он. — Дорогая, не волнуйтесь. Я сейчас пойду за доктором.
Он побежал вниз, все еще держа бутылку вина в руке. Тамара села опять на стул, сначала она сидела очень прямо, потом ее плечи опустились, казалось, ее тело сжалось в комок. Я сел с другой стороны кровати. Генерал закашлял, открыл глаза и посмотрел на меня пристально и серьезно.
— Все хорошо? — спросил он.
— Хорошо.
— Что вы там видели?
— Много людей, все бегают и кричат, — сказал я, думая, что Тамара зря волнуется, — голос у генерала звучал ясно и энергично.
— Да, — сказал он, — у них должна быть паника. И очень мало продовольствия.
— У кого?
— У них, на той стороне, — он закрыл глаза, через минуту он заговорил опять. — Нам нужен еще один день, чтобы отрезать их. Как мы и думали.
Он повернулся, и подушка упала на пол. Я держал его за плечи, пока Тамара подкладывала подушку. Он опять пристально посмотрел на меня и улыбнулся лукаво.
— У него были голубые глаза, — сказал генерал. — Я не должен был смотреть ему в лицо, когда он прикреплял медаль мне на грудь, но я посмотрел.
Когда Петров вернулся с доктором Кориным, генерал был опять спокоен. Мы все вышли. Пока доктор осматривал отца, Тамара оставалась в своей комнате одна.
— В госпиталь его поместить невозможно? — спросил доктор, спустившись к нам.
— У нас совсем нет денег, — сказал Петров. — А что с его превосходительством?
— Я почти уверен, что это уремия, и плюс вторичная инфекция. Я приду завтра утром. А пока — лекарства в его комнате. Инструкции на бутылках.
— Мы все, все сделаем. Будем заботиться о нем, как в госпитале.
— Хорошо. Давайте ему аспирин, чтобы понизить жар. Я приду утром. Я уже поговорил с его дочерью. Я думаю, что ей нужна чашка крепкого кофе.
— У нас нет кофе. А насчет вашего гонорара… когда его превосходительство поправится…
— Об этом мы будем говорить потом, — сказал доктор.
— А пока, может быть… — Петров протянул ему бутылку с вином.
— Я не пью, благодарю вас. Дайте бокал вина мадам Базаровой.
Мы оставались в комнате генерала до полуночи. Он проснулся только один раз и попросил воды. Температура немного спала, и он лучше дышал. Тамара держала его голову, пока он пил.
— Какая ты странная, — сказал генерал, — я попросил воды, а ты дала мне лимонного соку.
Утром, по совету доктора, мы перенесли генерала на Тамарину кровать. Его сознание колебалось между бредом и явью. Он дважды просил позвать Александра, говоря, что он, наверно, у Евгения, но когда Петров сказал, что пойдет за ним, генерал улыбнулся и сказал:
— Не надо, он все еще на рождественской елке. Я отвез его туда утром. Мой бедный маленький мальчик, он не хотел надевать матроску, потому что его дед служит в армии.
Весть о болезни генерала распространилась быстро, и друзья стали навещать его. Баронесса прибыла первая.
— Скажите Александру, чтобы он спал на диване в гостиной, когда придет, — сказала она мне, — потому что я буду спать у Тамары.
Звук ее голоса был, как желанный гость, который явился неожиданно и рассеял тяжелое молчание. Она опрыскала комнату генерала одеколоном, приказала Тамаре причесаться и взяла на себя обязанность решать, кого из визитеров допускать к больному.
Петров вернулся под вечер. Он сказал, что не нашел Александра, но оставил ему записку.
— Я даже пошел в Советский клуб, да, пошел туда и написал ему записку.
— Вы привели его? — спросил генерал.
— Да. Нет, ваше превосходительство.
— Вы не понимаете, — генерал покачал головой. — Он скоро вернется домой.
Мы услышали шаги внизу. Петров спустился узнать, кто пришел, и быстро вернулся, спрашивая баронессу шепотом, можно ли адмиралу Сурину войти:
— Что мне делать? Он очень расстроен.
Баронесса посмотрела на генерала, который лежал спокойно, закрыв глаза. Она позвала его, но он не ответил.
— Скажите Сурину, что он может войти на минутку, — сказала она Петрову.
Адмирал Сурин долго стоял около кровати генерала. Казалось, он смотрел не на умирающего, а был погружен в совсем другие мысли. Тамара пришла с лекарством для отца. Генерал оттолкнул ее руку, и коричневая жидкость пролилась на простыню.
— Я этого не допущу, — сказал он строго. Его гневный взгляд с Тамары перешел на адмирала.
— Я не мог не прийти, — в голосе адмирала была не просьба, а лишь настойчивость.
Генерал махнул рукой. Было трудно догадаться, был ли это жест недоброжелательства или приветствия, но он явно значил что-то для адмирала. Его щеки вздрогнули, он открыл рот и стал похож на клоуна.
— Я только хотел быть похороненным дома на родине, — сказал он. — Больше ничего.
— Я был на связи со штаб-квартирой, — сказал генерал, — нам необходимо подкрепление.
Адмирал взял его руку и держал ее. Генерал продолжал:
— Вы знаете, есть слухи, что его высочество приедет делать смотр войскам.
Плечи адмирала дрожали.
— Как далеко до Москвы? — спросил генерал. Сурин не ответил, и когда генерал повторил вопрос, он сказал:
— Совсем недалеко.
— Хорошо, я так и знал, что близко.
Генерал вздохнул и закрыл глаза.
Он умер ночью, только Тамара была с ним рядом. Я услышал ее душераздирающий крик и нашел ее распростертой на его груди. Неизвестно, что открылось ему в его последний час в темноте, но на его лице не было умиротворения почившего от земных трудов человека. Как будто он умер от насилия. Предвидение неминуемой опасности отражалось в его полуоткрытых глазах.
Глава семнадцатая
Тело генерала положили в черный гроб и отвезли в собор, где оно оставалось до следующего утра. Чужие люди, а не близкие одевали его в старую военную форму, потому что Тамара начинала рыдать при виде его тела, а Петров был занят хлопотами по устройству похорон. Александр, вернувшись домой и найдя дедушку мертвым, заперся у себя в комнате на весь день. Адмирал Сурин, который приходил несколько раз, говорил о том, что он хотел бы тоже нести гроб, но какой-то старый господин с бородой, чье лицо мне было знакомо, хотя я не мог припомнить, кто он, сказал безапелляционно, что эта честь достанется только тому, кто не продался. Буквально он сказал: «не продал свою душу», и я был поражен тем, что адмирал ему ничего не ответил. Он и бородатый господин только посмотрели на баронессу, а она, поняв, что от нее ждут решения, промолвила:
— Мне бы хотелось, чтобы потомство сказало, что не мы изменили нашей мечте, а мечта обманула нас.
Позже был долгий спор на тему, кто будет произносить речь у могилы; бородатый господин проиграл, потому что у него был чин только подполковника Императорской армии.
Нельзя сказать, что Тамара настаивала на том, чтобы остаться у гроба на ночь в соборе; она просто осталась там, и в ответ на все уговоры только качала головой. В конце концов священник принес ей стул, и когда мы вернулись на следующее утро, она сидела на нем в той же позе, в какой мы ее оставили.
В течение службы Александр стоял рядом с Тамарой, его красные распухшие глаза тщетно искали сочувствия на ее бледном лице. Когда после отпевания присутствующие стали по очереди подходить к гробу, чтобы поцеловать генерала в лоб, Тамара задрожала и наклонилась вперед, Александр обнял ее за плечи и держал, пока все до последнего не подошли к гробу генерала. Я боялся того момента, когда Тамара должна была, по обычаю, последней проститься с умершим. Она сделала это очень спокойно, почти автоматически, но когда двое мужчин закрыли гроб крышкой и начали забивать в нее гвозди, Тамара подбежала и засунула пальцы под крышку. Несколько человек оттащили ее и силой увели из церкви — туда, где она уже не могла слышать звук молотка.
Катафалк с двумя лошадьми, покрытыми черной сеткой, возглавлял похоронную процессию. Перед ним шел мальчик лет десяти и нес на бархатной подушке медали и саблю с георгиевской лентой на темляке. В тот момент мне не пришло в голову, что кто-то должен был заплатить за катафалк, хор и священнику; позже, когда я спросил Петрова, он сказал: «Друзья и знакомые», — и не стал распространяться на эту тему. Мы были около мили от кладбища, когда Петров и пять других мужчин взяли гроб на плечи и медленно понесли его к открытой могиле. День был теплый, но в середине службы пошел веселый весенний дождь, он потушил некоторые свечи, хотя мы старались прикрыть их ладонями. Еще в церкви какая-то доброжелательная дама покрыла Тамарину голову черной шляпой с длинной вуалью; ее лицо теперь было закрыто от меня, и она выглядела как невеста, с которой злой дух в последний момент сорвал белую одежду и заменил черной.
Я не дослушал последней речи. В тот момент мне казалось, что они все находились в заговоре против генерала, обращаясь к нему в прошедшем времени. Я чувствовал, что я был его единственным другом и что я должен спасти его отказом верить, что его больше нет, что я единственный на его стороне против всех. Я посмотрел на Петрова. Его лицо было прикрыто большим грязным носовым платком. Опустили гроб в землю. Священник поднял горсть земли и бросил ее на крышку гроба, говоря: «Земля есть, и в землю отыдеши».
Все сошлись в доме на поминках. Я не знаю, кто приготовил всю эту еду; стол был уставлен разными кушаньями и винами, и традиционное блюдо из риса стояло посредине. Я пошел наверх в комнату генерала, не зная, присоединится ли Тамара к ним. На полпути я посмотрел вниз и увидел, что она сидела во главе стола очень прямо и молча, как гордая жена, которую покинули после венчания и которой нужно присутствовать на пиру одной. Александр ушел с середины поминок; он пришел наверх в дедушкину комнату и лег на диван. Я был рад, что он не начал разговора со мной. Когда он, наконец, заговорил, он сказал:
— Японский жандарм приходил, он спрашивал о вас.
— Под каким именем?
— Под вашим русским.
— И…
— И Петров сказал ему, что вас тут нет. Он хотел сделать обыск, но один из гостей говорит по-японски, он, наверно, работает на них, и он сказал, что это поминки и обыск будет нарушением этикета. — После минуты молчания он добавил: — Он придет завтра утром.
Звук хлопнувшей двери разбудил меня среди ночи. Я ждал, прислушиваясь в темноте. Когда я сел в постели, Петров прошептал:
— Вы тоже это слышали?
— Да, — сказал я. — Кто-то вошел в дом.
— Или вышел, — сказал он. — Между прочим, я все уже решил. Я хотел вам это сказать, но вы уже спали, поэтому я собирался сказать вам утром. Когда жандарм придет вас допрашивать, скажите ему…
— Подождите, — перебил я, — я слышу что-то.
Я подошел к окну и отодвинул черную штору. Минуту я не видел ничего, кроме крестов и плакучих ив. Когда вдруг появилась какая-то белая фигура.
— Боже, — воскликнул я, — что это, привидение?
Петров тотчас появился рядом.
— Господи, Матерь Божья, это же Тамара.
Я попросил его подождать меня в комнате и выбежал из дома. Тамара не стояла, как я ожидал, у могилы отца, она бродила вокруг босиком и пела. Я позвал ее. Она подбежала, опустилась на колени, и, обняв меня вокруг талии, прижалась ко мне. Я поднял ее. Сквозь тонкую материю ночной рубашки я чувствовал ее теплое, гибкое тело. Она стала неистово целовать мои губы. Я почувствовал боль и понял, что она укусила меня, только когда вкус крови появился во рту. Она засмеялась и, освободившись от моих объятий, бросилась бежать. Споткнувшись о крест, Тамара упала на могилу. Когда я подбежал к ней, она сидела смирно, положив руки на колени.
— Тамара, вы могли бы…
— Спасибо, я с удовольствием.
Она грациозно встала, сделала реверанс и подала мне руку.
— Я очень люблю эту музыку. Давайте танцевать.
Она начала кружить меня. Когда я остановился, она продолжала танцевать одна. Я крикнул ее имя, потом нежно повторил его, сказав:
— Умоляю, дайте мне проводить вас домой. Я знаю, вы расстроены. Они дали вам успокоительного?
— О, нет, — вскрикнула она, — я не дам вам обмануть себя. Я не позволю вам отвести меня назад в церковь. Я не хочу туда идти. Я хочу остаться на балу.
Я поймал ее за руку; она отдернула ее и опять упала. Я ждал, когда она встанет, но она продолжала тихо лежать на земле. Опустившись на колени рядом, я гладил ее волосы. Она поцеловала мне руку. Резким движением она села, ее лицо придвинулось к моему. Она прошептала:
— Не давайте им забрать меня. Пожалуйста, не давайте. Они это сделают, если вы не будете обнимать меня.
Я обнял ее крепко.
— Никто не заберет, — прошептал я.
— Да, заберут, они уже здесь.
— Кто? — спросил я.
— Священники.
Холод пробежал по всему моему телу, будто меня настигли видения ее больного разума.
— Ты можешь спасти меня, — очень громко сказала она.
— Как?
— Возьми меня. Возьми меня с собой в постель.
Я ласково поднял ее и повел в дом. Вожделение, которое заставило меня дрожать, когда впервые Тамара прижалась ко мне, теперь сменилось нежностью, много сильнее любой страсти, потому что нежность не то, что сладострастие, ненасытное чувство. Она начала плакать. В саду перед домом я остановился и спросил, не хочет ли она посидеть на ступеньках несколько минут. Я думал, что ей неприятно будет плакать в присутствии Петрова, который, наверно, теперь был на кухне и приготовлял неизбежный чай.
Тамара залезла ко мне на колени, когда я сел. Я сказал:
— Плачь, дорогая, плачь.
— Я тебя не послушалась, — сказала она. — Я пошла в поле одна. Там я увидела бабу с двумя детьми. Они были у нее на коленях, и она ласкала их. Я видела, как она целовала детей.
— И поэтому ты плачешь?
— Да. Они выглядели такими счастливыми все вместе, что мне захотелось плакать.
Несколько минут Тамара молчала. Я думал, что она заснула.
— Расскажи, какой была моя мама?
— Очень красивая, как ты.
— Ты никогда не называл меня красивой раньше.
— Нет?
— Нет. Другие папы часто называют своих дочерей красивыми; ты же никогда этого не делаешь.
— Но ты же красивая.
— Ты заставил меня оставить мою куклу там. Я никогда не любила другой куклы, кроме той, которую ты мне привез.
Вдруг она оттолкнула меня и прижалась к стене. Когда я протянул к ней руки, она завизжала. Петров открыл дверь. Тамара вбежала в дом. Разбуженный ее криком, Александр сбежал по лестнице. Он тоже протянул руки к Тамаре, но, увидев ее глаза, отступил. Тамара сорвала портрет царя со стены и поставила его на стол, подперев стаканом.
— Ему нужна была жертва, — сказала она, — и никто из вас не готов был принести ее.
Петров отозвал Александра и прошептал что-то ему на ухо. Александр кивнул. Он пошел наверх и вернулся одетым.
— Вы послали его за доктором? — прошептал я, когда Александр ушел.
— Нет, за амбулансом.
— Вы думаете, это необходимо?
— Да. Это уже однажды было. Вскоре после рождения Александра.
Я думал, что смерть генерала повлияет на Петрова по-другому. Я ожидал, что он будет потерянным, осиротевшим, но, хотя его скорбь была явной, казалось, что он как-то окреп.
— Тамара, — сказал он, — ляг и отдохни. Ложись на диван.
Она легла, но только на минуту. Снова встала, собрала несколько кастрюль и сковородок и выбросила их в окно.
— Не смейте кормить попов, — сказала она и подбежала к двери, но Петров уже был там и закрыл дверь на задвижку.
— Вы такой вульгарный, — сказала она.
Через минуту портрет царя и стакан были на полу, потому что Тамара выдернула скатерть из-под картины и накинула ее себе на плечи, как шаль. Она начала медленно ходить перед нами, как проститутка, предлагая нам свое тело. Петров закрыл лицо руками.
— А вы? — спросила она меня.
Тамара смеялась, когда прибыл амбуланс, но когда она увидела двух здоровых санитаров в белом, она подбежала ко мне.
В тот момент, когда они надели на нее смирительную рубашку и завязали рукава за спиной, безумие совершенно покинуло ее. Ужас был написан на ее бледном лице; это был ужас человека, который сознает, что происходит, а когда она повернулась ко мне, прежде чем ее увели, на нем было выражение упрека.
Петров уехал с амбулансом, и я сидел один, погрузившись в отупение, безмолвное и тяжелое. И только когда Александр вошел в дом, я понял, что он отсутствовал, пока мать увозили.
— Я был на улице, я не хотел этого видеть, — сказал он, как будто я его в чем-то обвинял. Он поднял портрет царя с пола и повесил его на стену.
— Она…
Я был рад, что он не кончил фразы. Он потушил свечу и сел рядом со мной. Скоро я перестал осознавать его присутствие; и только когда вернулся Петров, я вспомнил о нем. Петров сказал:
— Мы отвезли ее в госпиталь Мунг-Хонг. Это далеко.
Бодрость, которую он проявлял в течение всего дня, покинула его. Он заплакал, и я почувствовал облегчение, разделяя с ним скорбь…
Японский жандарм и его русский переводчик пришли на кладбище утром, около девяти. Петров спал в кресле, а Александр в комнате матери.
— Это обычный допрос, — сказал мне русский намеренно вежливым тоном. — Тут имеются, кажется, какие-то расхождения в ваших документах.
Они сидели за столом, не обращая внимания на Петрова, который проснулся и стал тотчас же предлагать им чай. Японец вытащил записную книжку и какие-то другие бумаги и начал аккуратно раскладывать их на столе. Русский подал ему ручку.
— Ваше имя и адрес? — спросил русский.
— Ричард Сондерс, — сказал я, — Сан-Франциско, Калифорния.
Глава восемнадцатая
Думая об этом теперь, я не в состоянии объяснить, почему я не предпочел или хотя бы не попробовал остаться на свободе. Возможно, что слова, которые привели меня в камеру Бридж-хауза, были единственными, которые пришли мне на ум в тот момент. Очевидно, глубокую скорбь легче переносить, лишившись свободы. Я и теперь не знаю, почему. Были моменты по дороге в тюрьму, когда страх побеждал все другие чувства, и я помню то облегчение, которое я испытал, когда мрачный стражник повернул ключ в двери и ушел. Я также помню, что мне было досадно увидеть двух китайцев в моей камере; мне было бы легче в одиночной.
Несколько раз меня водили на допрос, и я давал им правдивые ответы, кроме тех, что касались помощи Петрова в получении фальшивых документов. И по какой-то странной причине я находил удовлетворение в физической боли, которую они мне причиняли. Удивительно также, что я не чувствовал ненависти к взявшим меня в плен, как иногда не чувствуешь негодования по поводу заслуженного наказания, но в то же время я не чувствовал себя виновным. Только однажды, когда допрашивающий, говоря о генерале и Тамаре, назвал их: «Тот полоумный старик и его сумасшедшая дочь», — у меня возникло сильное желание ударить его. Это была нелогичная реакция, ибо я, конечно, оскорбился бы еще больше, если бы он хвалил генерала.
В те часы, когда меня бросали обратно в камеру после допросов, я находил утешение в присутствии двух других заключенных. Молчаливое сочувствие на их испуганных лицах придавало мне бодрости, хотя я знал, что они были рады разделить между собой мой паек — жидкий рис, который я был не в состоянии проглотить. Несколько раз они пытались как-нибудь объясниться со мной. Я понял только, что один был агентом Гоминдана, а другой — коммунистом и что они сидели в тюрьме уже несколько месяцев. По капризу судьбы они должны были быть врагами до войны, и, возможно, тогда они могли быть награждены за ненависть друг к другу. Позже, когда их вожди посчитали, что выгоднее объединиться против японцев, им, напротив, следовало стать друзьями. А теперь, вдали от тех, кто манипулировал их человеческими отношениями, они были объединены инстинктивным стремлением к взаимопомощи. Только голод еще разделял их. Я видел в их глазах недоверчивое внимание, когда они делили между собой мою порцию риса, но когда входил охранник, они прижимались плечами друг к другу, боясь, что их разлучат. Через несколько недель после того как я попал в тюрьму, когда я лежал на полу не в состоянии двинуться после очередного допроса, они присели на корточки около меня и стали ловить блох на моей одежде и теле. Я думаю, они состязались в том, кто поймает больше паразитов, потому что они вдруг стали спорить и считать на пальцах мертвых блох, которых они давили на стене.
Сначала я был удивлен, что японцы не заставляли меня работать; потом я понял, что это еще один вид наказания. В нашей камере без окон было невозможно различать время дня, и это удручало меня, хотя я не могу объяснить, чем могло помочь в моем положении знание, был ли на дворе полдень или закат. Вначале я много думал о будущем, о дне, когда я вернусь домой, о первых словах матери, о статьях, которые я напишу, и о том, что скажу в них. Сотни раз я представлял себе встречи с друзьями, с друзьями, о которых я не думал годами. Некоторые из них были моими соучениками по колледжу. Я воображал их реакции, изобретал разговоры с ними, и это помогало мне не замечать холодных стен тюрьмы. В какой-то степени этот процесс был похож на писание пьесы: я не заботился о месте действия, лишь бы это было в Америке, но я был погружен в диалог, менял свою роль или награждал героев моей фантазии разными качествами в зависимости от своего меняющегося настроения. Например, сначала я представлял маму после первой радости встречи: она приказывала мне оставаться в постели в течение двух недель и приносила мне еду на подносе три раза в день. Я видел, как она ежедневно наполняла для меня ванну, добавляя пихтовое масло, несмотря на мои протесты. Постепенно, однако, ее роль сестры милосердия сменилась другой, и я видел ее опять любезной хозяйкой во главе стола за ужином в мою честь. Или разговаривающей по телефону с друзьями: «Теперь, когда Ричард вернулся с войны…» Я поймал себя на мысли, что я вижу ее не такой, какой я видел ее в 1937 году, а гораздо моложе. Я пытался представить ее постаревшей и не мог, так же, как я не мог представить ее плачущей или участвующей в жарком споре.
Когда мне приходило на ум, что меня могут вывести из камеры и расстрелять или что я могу не пережить заключения и допросов, я вызывал картины возвращения домой и наслаждался ими. Иногда появление крысы или вопли заключенных разрушали эти картины, и голый страх охватывал меня, и тут мое воображение было бессильно мне помочь. В такие моменты мне хотелось придвинуться к моим товарищам по заключению; и иногда я протягивал руку и трогал их или говорил с ними, зная, что они меня не понимают.
В июле их забрали из камеры; сначала одного, а через два дня другого. После того как первый был уведен, другой оставался в углу, не спуская глаз с решетки двери, обняв колени руками. Я думаю, что он не спал по ночам, и когда охранник приносил пищу, он не хватал ее, как раньше, а ел медленно, безразлично. Удушающая жара не давала мне спать тоже; я предложил ему свою воду (иногда они вдвоем выпивали мою воду, пока я спал), но он вернул мне чашку, не дотронувшись. Когда стражники пришли за ним, они стали пинать его сапогами, потому что он не двигался. Им пришлось вынести его, и не потому, что их жестокость заставила его распластаться на цементном полу, просто его истощенное тело не могло выдержать очередных побоев. Я не знаю, пытали ли их, убили ли их или просто перевели в другие камеры; и я не уверен, смогли бы они сохранить свою дружбу, получив свободу, или по приказу начальства стали бы опять врагами.
Сначала я ожидал их возвращения, потом стал ждать новых сокамерников. Вместо этого меня перевели в одиночную камеру, много меньше прежней. К этому времени я уже больше не думал о будущем; я стал вспоминать малейшие детали своей жизни в Китае, стараясь уложить их в хронологическом порядке, но порядок мне не давался, и воспоминания продолжали оставаться неуловимыми.
Как-то поздно вечером охранники, придя в камеру, приказали следовать за ними. Я не знаю, зачем они надели мне наручники; у меня не было ни сил, ни желания бежать. Они вывели меня наружу и втолкнули в военный грузовик. Меня охватило оцепенение. Я вспомнил, что однажды мальчиком я чувствовал себя так же, когда меня привезли в больницу на срочную операцию. Сидя в грузовике, я ничего не видел, не знал, куда меня везут, и подумал, что лучше было бы оставаться в камере. После двадцатиминутной поездки мне приказали вылезать, и я увидел, что меня привезли на железнодорожную станцию. Поезд, наполненный китайскими беженцами, был похож на встревоженный муравейник; люди спотыкались, толкались, перелезали друг через друга, как будто все выходы были закрыты для них, как будто они были пойманы в этом гибнущем мирке и барахтались, стремясь выжить. Я не мог представить себе, что же они ожидали найти в другой части Китая. Может быть, они были полны иллюзий, ведь неизвестное сулит больше надежд, чем знакомое.
Японские солдаты отвели меня в маленькое отдельное купе. Один из них, — очень молодой и совсем не враждебный, — указал на разбитые окна поезда и сказал мне: «Американцы». Он был более удивлен, чем озлоблен, и в его юном представлении, возможно, война оставалась волнующим приключением. Я пожалел, что не говорил по-японски, и подумал, что он сказал бы мне, куда меня везут. Он смотрел на меня, только когда другого стражника не было в купе, и однажды, когда мы были одни, он дал мне свой окурок сигареты. Я не курил с тех пор, как покинул кладбище, да и там я курил лишь иногда, когда Петров приносил мятые сигареты в кармане; от сигареты мне стало плохо, и я почувствовал тошноту. Я нагнулся и закрыл лицо руками. Когда другой солдат вернулся, он заставил меня сесть прямо и обрызгал мне лицо водой. Открыв свой мешок, он достал и дал мне абрикос, но не так, как молодой солдат дал мне сигарету, а с выражением отвращения. «Ему было приказано доставить меня живым», — подумал я.
Жара, вонь, запах пота и яркое солнце, от которого я отвык, одурманили меня, и я был благодарен дуновению свежего воздуха из разбитого окна, когда мы наконец дви-нудись, хотя каждый поворот колес приближал меня к неизвестному и путающему месту назначения. Серые фабрики остались позади, и на их месте показались бесконечные плоские коричневые и желтые поля, увядающие под неумолимым солнцем. Поезд двигался в сторону низких округленных холмов на горизонте, которые при этом оставались вдалеке, недоступные и убегающие.
Мы ехали на поезде две ночи и один день, когда вдруг загудели сирены и все кинулись к дверям. Один из охранников открыл окно и выпрыгнул в него; другой приказал мне сделать то же самое и после меня выпрыгнул сам. Мы побежали в поле мимо глиняных хижин деревни и кинулись на землю. Перед взрывом я увидел два американских аэроплана В-29 низко над землей. Я почувствовал вдруг, как будто бы жизнь вернулась в мое тело, словно аэропланы прилетели спасать меня лично. Одна бомба упала на деревню, другая рядом с поездом, и звуки пулеметов заглушили стоны и вопли. Я сел, наблюдая, как аэропланы взвились в небо; солдат толкнул меня, приказывая лечь. Мы оставались в поле, пока не прозвучал сигнал вернуться, и медленно пошли в сторону поезда. На рисовых полях крестьяне, забрызганные грязью, с голыми ногами, в огромных соломенных шляпах поднялись и стали продолжать свою работу.
Ночью мы пересели на другой поезд и еще через три дня прибыли, очевидно, к месту назначения. Полутемная станция была мне незнакома, как и все другие, и казалась безымянной и временной. На стене я увидел огромный календарь с изображением восходящего солнца и номер 5 под красным иероглифом. Разве что кто-то просто забыл сорвать листок, а, может быть, это значило, что сегодня 5 августа.
Нам пришлось ждать на станции почти полчаса. Как и поезд, станция была заполнена беженцами. Они стояли или сидели на своих тюках — одни удрученные, другие бодрые, а некоторые — с выражением полного безразличия на усталых лицах. Я услышал детский голос, говорящий по-русски:
— Посмотри, мама, настоящий преступник, — и увидел недалеко от себя двух женщин с маленьким мальчиком.
— Миша, не показывай пальцем, — сказала женщина помоложе. — И кроме того, может быть, он просто военнопленный.
— Но у него на руках цепи. Ты думаешь, он американец или англичанин?
— Он слишком грязный, чтобы быть американцем, — сказала женщина постарше.
— О, мама! — это было все, что сказала молодая женщина.
Я хотел улыбнуться мальчику, но когда я это сделал, он отвернулся, испугавшись. Высокий исхудалый мужчина в рубашке, мокрой от пота, подошел к ним.
— Бесполезно, — сказал он. — Они нас не пускают в Циндао.
— О, нельзя ли поговорить еще с кем-нибудь?
— Нет, я говорил с начальником станции. Что-то не в порядке с нашими документами, и они не пускают беженцев в Циндао. И там тоже нет никакой работы.
— Но мы не можем вернуться в Мукден.
— Нет, туда невозможно.
— Мама, давай поедем в Шанхай, — сказал мальчик. — Все всегда едут в Шанхай. А, папа?
— У нас недостаточно денег, чтобы доехать дотуда, — сказал отец задумчиво.
— Нельзя ли нам остаться здесь? Я так устала, — спросила пожилая женщина.
— Нет. Мы должны ехать дальше.
— А как насчет Тяньцзиня? Что-нибудь да должно быть там.
— Может быть… — начал мужчина. — Да, я думаю, надо попробовать Тяньцзинь.
Они двинулись к билетной кассе. Я пожалел, что они уходят. Когда мальчик подумал, что он отошел на безопасное расстояние, он оглянулся и помахал мне. Я поднял руку, чтобы помахать ему, но один из охранников закричал на меня и ударил меня по лицу. Наконец пришел японский офицер и сказал несколько слов жандармам, которые увели меня со станции к стоявшему поодаль военному грузовику. Там они передали меня трем другим солдатам. Очевидно, их миссия была закончена, потому что они, отдав честь, вернулись на станцию. Мне казалось, что мы ехали очень долго и очень медленно. В темноте я не мог видеть, кто едет со мной, но присутствие спутников ощущалось больше, чем если бы их лица были видны. Время от времени ужас находил на меня, как приступ тошноты, потом чувство беспомощности и неизбежности притупило мой страх, как снотворное.
Грузовик остановился перед огромным мрачным зданием. Меня отвели в какой-то кабинет, где за письменным столом японский офицер проверил бумаги, которые мои конвоиры дали ему. Я заметил, что, когда мы вошли, он слушал радио на английском языке и тут же быстро выключил его.
— Вас будут допрашивать завтра, — сказал он по-английски почти без акцента, — и вы должны давать только правдивые показания.
Он кивнул головой, солдаты меня увели вниз по узкой лестнице, потом по нескольким длинным коридорам, опять вниз по лестнице и привели в крохотную камеру. Камера, наверно, находилась в подвале, потому что, когда кто-нибудь проходил мимо здания, я мог видеть в окно только тяжелые сапоги или босые ноги.
Никто не допрашивал меня ни на другой день, ни в последующие. Постоянно я слышал над моей головой звуки шагов. Иногда я слышал голоса, крики, даже рыдания, но никто не разговаривал со мной, и я не видел никого, кроме охранника, который раз в день приносил мне капусту и лук. Я стал сомневаться, в своем ли я уме. Может быть, думал я, я только воображаю, что прошло много дней, может быть, это все еще тот же самый день и через несколько минут придет кто-нибудь и возьмет меня на допрос. И мое прошлое, и мое будущее словно утрачивали реальность. Я жил в состоянии какого-то бесчувствия. Я не мог ни мечтать, ни помнить. Вдруг я испугался, что я могу забыть свое имя, поэтому я часами повторял его про себя или вслух. Я много спал, не зная, ночь на дворе или день.
Однажды утром, когда я старался не проснуться, я услышал, что кто-то пытается отпереть мою дверь. Через решетку я видел две пары сапог. Я слышал тихий голос, говорящий по-японски, а потом другой громкий голос, который сказал по-английски:
— Подожди минуту, дружище, дай мне это сделать.
Акцент был явно среднезападноамериканский. Прежде чем я это понял, дверь открылась, и я увидел американскую форму. Я говорю «форму» потому, что я сначала увидел форму и только потом человека. Он сказал:
— Господи! Вы живы?
Я не мог ответить.
— Вы можете встать? — спросил он. — А то я могу достать носилки.
Я встал, испугавшись, что он уйдет.
Глава девятнадцатая
— Что, все кончилось? — спросил я, когда меня положили на носилки.
— Все кончилось. Безоговорочная капитуляция. Когда они привезли вас сюда?
— В августе, я думаю. Какое число сегодня?
— Пятое сентября. Что вам сейчас надо, так это хороший бифштекс и долгий отдых. Так что не беспокойтесь ни о чем.
— А где мы?
— Что вы хотите сказать?
— Я хочу сказать, что они мне ничего не объясняли, когда везли меня из Шанхая.
— А, мы около Пекина. Не могу произносить эти китайские названия. Здесь, кроме вас, есть еще несколько человек. Кое-кто из Путунг-лагеря в Шанхае. Японцы рассчитывали употребить вас всех для обмена. Потому они набрали, что называется, политических пленных: журналистов и несколько человек из дипломатического корпуса в Путунг-лагере — и привезли сюда — на сбережение. Наверно, вам немало досталось?
— Когда я могу ехать домой?
— Сначала вас отправят в корабельный лазарет. Потом вы можете ехать домой, когда захотите.
— До этого я должен заехать в Шанхай.
Чувство облегчения и благополучия охватило меня, когда я очутился в госпитальной постели. Я с наслаждением щупал белоснежные простыни, удивляясь тому удовольствию, которое они мне доставляли, радовался виду чистых светло-серых стен и знакомым звукам родного языка.
Даже запах дезинфекции, который я терпеть не мог с детства, казался мне еще одним доказательством свободы.
— Черт возьми, что за великолепная борода! — сказал цирюльник, когда он пришел брить меня. — И не жалко вам с ней расставаться?
Я был так доволен, что кто-то решает за меня, как лучше со мной поступить, что даже не протестовал, когда доктор посоветовал обрить также мою голову. Но силы не зависят от благостного настроения; мое выздоровление шло медленно, и когда после двух недель бездействия мой ум лихорадочно начал искать каких-нибудь занятий, тело, проявляя самостоятельность, требовало покоя.
В октябре я был объявлен здоровым и в тот же вечер уже сидел в самолете, с нетерпением ожидая увидеть очертания Шанхая на фоне горизонта.
Шанхай был неузнаваем. Это было не то старое самодовольное веселье, которым пульсировал город до войны, а новое, лихорадочное, пылкое и интенсивное, почти что на грани неистовства. Темнота, исчезнувшая при свете вновь зажженных неоновых реклам, продолжала таиться в глухих переулках, но центр Шанхая казался блестящим и ярким. Его улицы были полны мужчин в военной форме, которые громко приветствовали друг друга и присвистывали при виде незнакомых женщин, их смех поднимался к небу. Звуки фокстрота и джиттербага[42] разносились в каждом квартале, из каждой двери и каждого окна, из каждой парикмахерской и аптеки, впопыхах переделанных в ночные клубы, из закусочной, которая только вчера была газетным киоском, из кинотеатров.
Было почти невозможно где-нибудь найти комнату, но американский консул, который устроил перевод моих денег из Штатов, позвонил кому-то, и меня поместили на шестом этаже отеля «Палас» с видом на Вангпу-ривер. Утром я взял такси и поехал на Зикавейское кладбище. Было, очевидно, еще очень рано, потому что я долго стучал, пока какой-то мужчина в выцветшем халате не открыл мне ворота. Он был довольно молод, и когда я по глупости поинтересовался, это ли Зикавейское кладбище, почесал свою косматую голову и спросил:
— Вам тут кого?
Я понял, как глупо было приезжать туда; кого я, в конце концов, ожидал там увидеть? Я сказал:
— Тут был генерал Федоров…
— Он умер, — ответил он.
— Я знаю. Но где я могу найти его внука Александра или их друга Петрова, или узнать о его дочери?
— Я ничего не знаю о его дочери и о внуке, — ответил он. — А Петрова я немного знаю…
— Вы не могли бы мне сказать, где я могу найти его.
— Кажется, да. У меня где-то записан его адрес. Хотите войти?
— Нет, — сказал я, — я лучше подожду здесь.
— Я сейчас.
Я посмотрел в сторону аллеи, обсаженной ивами. Мгновенье я раздумывал, пойти ли мне на могилу генерала, но не решился. Когда молодой человек вернулся с листом бумаги в руках, я сказал:
— Похоже, что кладбище совсем заполнено.
— Да, — ответил он. — Мы теперь никого больше здесь не хороним. Но скоро они будут раскапывать старые могилы, чтобы дать место новым. Вот адрес ресторана, где работает Петров. Насколько я знаю, вы можете застать его там в любой день или вечер.
Я поблагодарил его и быстро уехал.
После обеда я пошел в «Старс энд Страйпс клаб»[43] разыскивать Петрова. Я увидел его сразу же, но не окликнул, пока он не отнес тяжелый поднос с посудой на кухню и не вернулся с салфеткой на согнутой руке. Он слегка подпрыгнул и схватил меня за плечи, засмеялся, качая головой.
— Дорогой, дорогой мистер Сондерс. Я так рад, так рад. Садитесь. Нет, постойте, дайте мне еще раз обнять вас. Вы совсем здоровы? Царица Небесная, как чудесно снова вас видеть. Я однажды служил молебен за ваше выздоровление. Вы получали мои передачи?
— Какие передачи?
— Продукты. Продуктовые передачи. Я посылал их вам каждые две недели. Правда, не очень большие — маленькие банки, я доставал их на черном рынке, но лучше, чем тюремный паек, я уверен.
Я сказал ему, что никогда никаких передач не получал. Его лицо переменилось, но в следующую же минуту он улыбнулся, пожал плечами и сказал:
— Ну, может быть у того японца, который принимал эти передачи, были дома маленькие дети. Никогда не знаешь. Как бы то ни было, генерал Федоров всегда говорил, что победитель должен быть великодушным, а вы — победитель. Я хочу сказать, вы и Америка. И теперь можете только жалеть их.
— А Тамара… ей лучше? — спросил я.
Его лицо тотчас же переменило выражение; как у древнегреческого актера, который сменил одну маску другой.
— Нет, мистер Сондерс, Тамара совсем не лучше. Даже много хуже. Так говорят доктора.
— Я хочу ее видеть.
— Да, но, вероятно, это будет вам очень тяжело. Она никого не узнает. Я несколько раз навещал ее. Александр был только один раз. Он так расстроился, что доктора сказали, чтобы он больше не приходил. Она его не узнала, меня тоже. Вам будет очень больно видеть Тамару.
Я внимательно посмотрел на него, желая узнать, насколько правильно он понимает ситуацию, но под моим упорным взглядом его лицо снова приняло насмешливое выражение. Он потупился и, протянув руку, дотронулся до моего плеча. Другой официант, проходя мимо, с укором посмотрел на Петрова.
— Когда вы заканчиваете здесь работу? — спросил я. — Я встречу вас после.
— Сегодня я кончаю в полночь, потому что я начал в одиннадцать утра. Некоторые дни я начинаю работать в два и кончаю в три утра.
— Вы можете прийти в отель «Палас» или хотите, чтобы я пришел сюда?
— Если возможно, приходите сюда за несколько минут до двенадцати.
Когда я вернулся, Петров ждал меня на улице. Он взял меня под руку со словами:
— Вот теперь, мистер Сондерс, дорогой мой, мы можем, наконец, говорить наедине. Хотите, пойдем ко мне. Там тихо, и у меня есть виски.
— Хорошо, — сказал я.
— Мой Николай, вы знаете, здесь.
— Замечательно. Когда он приехал?
— О, это целая история. Я должен вам рассказать: как говорят у вас в стране, это прямо для романа. Во-первых, он — старший сержант, как в вашей армии именуют этот чин, — он военный полицейский. Конечно, я ожидал его, как только кончилась война, но не знал, когда и как он приедет. В общем, война кончилась неожиданно. До нас не доходили никакие вести, никаких вестей, и вдруг — бум! В один прекрасный день все кончилось. Зажегся везде свет, и люди на улицах целовались и кричали. Китайская армия объявила парад по случаю победы, и полиция остановила все движение на главных улицах здесь и в Интернациональном сеттльменте. Конечно, все ждали парада на этих улицах. Все китайцы тоже вышли, и громадные толпы стояли на тротуарах в ожидании. В это время Николай, который накануне прилетел с группой военных полицейских освобождать военнопленных лагеря Путунг, оказался одним из первых американцев на шанхайских улицах, так как он говорит по-китайски, и, закончив свою миссию, решил поискать отца. Он нанял рикшу с целью поехать во Французскую концессию. Конечно, рикша, увидев форму, ленты, револьвер, решив, что Николай — очень важное лицо, был ужасно горд первым американским пассажиром-победителем в его повозке. И так посередине пустой улицы они неслись. Рикша бежал счастливый, с гордо поднятой головой, мой Николай тоже был счастлив попасть в Шанхай. Китайцы и несколько европейцев, простояв много часов на пустых улицах, вдруг увидели этого рикшу и его седока — моего Николая в американской форме. Все стали громко аплодировать, махать флагами и восторженно кричать: «Америка, Америка». Николай был очень горд, хотя, конечно, это было очень смешно, вы понимаете? Рикша не взял никаких денег у него, просто отказался, потому что он был очень горд и счастлив.
— Это же замечательная история, Петров. Я так рад, что он здесь. А его жена тоже приехала?
— Нет, она не приехала. — Он помолчал немного. — Она написала мне письмо. По-английски.
— Я думал, что она тоже русская.
— Да, но она не знает по-русски. Родилась в Сан-Фран-циско в русской семье. Николай сказал, что она маленькой говорила по-русски, а теперь разучилась.
— Николай может ее научить.
— Он очень счастлив, — Петров вздохнул. — Счастлив и скоро едет назад.
— А внуки предвидятся?
— Нет, — он опять вздохнул, — еще нет.
В пансионе, в котором жил Петров, у него была большая комната. Мы сидели в ней до утра и пили виски, которое принес Николай. И чем больше мы пили, тем реже на лице у Петрова появлялось радостное выражение. В какой-то момент, говоря о Николае, он остановился и вытер слезы.
— Извините меня, — сказал он, — старческая слабость.
— А что насчет Александра? — спросил я.
— Александр — славный мальчик, хотя сбитый с толку. Он едет в Россию со многими другими.
— А Тамара?
— Он старается устроить ее через советского консула в какой-то хороший госпиталь там.
— О, Боже, я не думаю, что это разумная идея.
— Нет, но это лучше, чем оставлять ее тут. Вы знаете, сейчас здесь русским эмигрантам приходится трудно. Китайцы очень сердятся на нас, потому что многие работали с японцами. И теперь еще наш архиепископ…
— Что насчет архиепископа?
— Он решил признать советскую церковь, советского патриарха. Сейчас тут большие неприятности, касающиеся церковного имущества. Много ссор, даже арестов. И все-таки, когда он это объявил, вы понимаете… все-таки духовный пастырь… многие последовали его примеру. Ах, да и без него… Между прочим, — добавил он, — баронесса едет к дочери в Англию. Она сказала, что ей стыдно, что многие берут советское гражданство.
— А что, разве действительно многие?
— Тысячи. И потом Сталин объявил амнистию. Развесили везде плакаты, в которых сказано: «Мы вас простили, приезжайте домой». Конечно, русские эмигранты в большинстве думают только о «приезжайте домой», а не о том, что будет дальше…
— Я все же думаю, что для Тамары…
— Ее никогда не впустят в Америку после пребывания в психиатрической больнице.
— Я не о том думаю, — сказал я.
— Нет, я это сам себе говорю.
Я встретился с сыном Петрова, Николаем, на другой день. Это был очень симпатичный молодой человек, блондин, как и отец, и приблизительно того же роста. Он излучал такое душевное здоровье, что было приятно находиться в его компании. Мы говорили об Америке в общих чертах и о Сан-Франциско в особенности. Он предложил отвезти что-нибудь моей матери. Я поблагодарил его и сказал, что, возможно, я буду дома раньше него.
— В таком случае я попрошу вас взять с собой подарок моей жене, — сказал он. — Я думаю, что у отца есть тоже что-то для нее.
Я согласился.
— Это, наверно, мое предубеждение, — сказал Николай, — но я считаю, что Сан-Франциско — самый замечательный город у нас в Америке.
Глава двадцатая
Госпиталь Мунг-Хонг находился на окраине города, где с окончанием войны, казалось, не произошло никаких перемен. Сначала я поговорил с Тамариным доктором. Это был старый усталый человек с грустным типично славянским лицом, потерявший веру не в свою способность помочь больным, а в возможность сделать это в стенах этого госпиталя.
— Вы видите сами, — сказал он, когда мы проходили комнаты, наполненные до отказа пациентами, — если кто-нибудь из них станет чувствовать себя лучше, то предпочтет опять сойти с ума, только чтобы не видеть этого окружения.
Я спросил, нельзя ли перевести Тамару в другой госпиталь.
— Мадам Базаровой это мало поможет. Она не сознает, где она. Кроме того, здесь нет другого госпиталя для душевнобольных. Мы ожидаем, что ее сын сможет устроить что-нибудь другое для нее.
— Есть ли какая-нибудь надежда на выздоровление?
— Никогда не знаешь. В настоящее время она находится в состоянии депрессии. Я подозреваю, что уже в юности она жила в мире своих фантазий. Dementia ргаесох, если хотите знать медицинский термин.
— Ну, а если она поправится?
— Я думаю, что если она даже поправится, это будет только на короткий период. Она совершенно не приспособлена к тому, что называется реальной жизнью.
Я сказал:
— Я хотел бы обеспечить возможность ее выздоровления. Я скоро уезжаю домой в Америку, и в случае если… Я хотел бы, чтобы вы мне сказали, какие практические шаги я могу предпринять.
Доктор посмотрел на меня вопросительно. Я сказал:
— Видите ли, я очень обязан ее отцу. Я в большом долгу перед ним, и теперь, когда он умер, я могу только…
Некоторое время он не отвечал, пристально вглядываясь во что-то за моей спиной со строгим вниманием.
— Мы оба заинтересованы в том, — наконец сказал он, — что будет лучше для пациента. К сожалению, в ее случае выздоровление не зависит от денег. Самое лучшее для мадам Базаровой — это быть там, где находится ее сын, даже если там будут не лучшие условия.
— Все же, очень прошу вас дать мне знать в случае ка-кой-нибудь надобности.
— Хорошо, — ответил он, — оставьте ваше имя и адрес.
У меня было неприятное чувство, что он не одобряет меня, потому что я не сказал ему чего-то, что он ожидал услышать. Он внимательно смотрел на листок бумаги, на котором я написал свой адрес в Сан-Франциско, и, словно поставив диагноз, взял перо и приписал «USA» под адресом. Мы вышли из здания.
— Она, наверно, сейчас в саду, — сказал он. — Это их время для прогулки.
Когда доктор увидел Тамару, он остановился и сказал, что он должен вернуться в свой кабинет. Он ушел, но мне показалось, что он тайно следил за мной некоторое время из окна.
Тамара сидела на траве около ног своей сиделки и чертила что-то на земле маленькой палочкой. Ее остриженные темные волосы падали ей на глаза, и она время от времени откидывала их рукой.
Я стоял и смотрел на ее тонкие пальцы, бледные щеки, на ее длинную шею. Потом я подошел ближе и сел на траву рядом. Она посмотрела на меня. В ее отсутствующем взгляде не было даже попытки узнать меня. Она отбросила палочку и стала стирать свои рисунки руками.
— Тамара, — сказала сиделка, и ее имя, сказанное безразличным тоном, звучало так странно. — Ты опять измажешь руки.
Тамара закусила губу и стала ковырять землю еще глубже.
— Ты должна вести себя прилично, когда у тебя гости. Этот господин пришел тебя навестить.
Я придвинулся ближе к Тамаре, предлагая ей платок; она нагнула голову, так что ее подбородок коснулся груди, и закрыла глаза. Как будто бы вспомнив что-то, она быстро дотронулась до шеи рукой.
— Я хочу его назад, — сказала она и посмотрела вверх на меня. — Отдайте мне его назад.
Ее голос звучал хрипло, и она несколько раз откашливалась.
— Ты же знаешь, что ты не можешь получить его обратно, Тамара, — сказала сиделка, — ты можешь поранить им себя.
Она повернулась ко мне:
— Она хочет свой крест обратно, она его все время просит с тех пор, что она здесь.
— Ты же порвала цепочку, — сказала она Тамаре.
— Это не я, это кто-то другой порвал цепочку.
— Тамара, — сказал я, — когда Александр придет, он тебе принесет крест.
— Нет, — сказала она. — Это неправда.
— Что же правда?
— Они похоронили Александра в очень маленькой могиле. Я думала, что он там не поместится, а он поместился. Он был такой маленький.
Я хотел взять ее за руку, но она отдернула ее и придавила коленом свои пальцы. Все, что я чувствовал в тот момент, было бессильно перед броней ее бреда, и все же я надеялся, что физический контакт вернет ее мне.
— Тамара, — сказал я, — ты знаешь, кто я?
Лукавая улыбка неожиданно появилась на ее лице.
— Вы тот человек, который всегда стоит около дерева, когда я прохожу мимо.
Я спросил:
— Имя Ричард тебе говорит что-нибудь? Ричард Сон-дере?
Она продолжала улыбаться:
— Я не знаю вашего имени.
— Вы здесь побудете некоторое время, я вас оставлю на несколько минут, — сказала сиделка. Я кивнул головой.
— Ты никуда не уходи, пока я не вернусь, — сказала она Тамаре.
— Вы мне принесли цветы? — спросила Тамара, кокетливый тон, как и остриженные волосы, казалось, принадлежал не ей.
Говоря подчеркнуто медленно, я сказал:
— В вашем доме росли олеандры внизу у лестницы, около ступенек.
Она перестала улыбаться и посмотрела на мои руки.
— А где баронесса? — спросила она.
— В Англии, у дочери.
— Она здорова?
— Петров говорит, что да.
— Петров?
— Да, Петров, наш друг, твой и мой. Русский историк.
— Нет, нет. Не историк и не русский. Петров — официант.
— Его сын Николай вернулся из Америки. Он там женился.
Она сидела прямо, сложив руки, как прилежная ученица, отвечающая урок.
— Да, вот уже некоторое время тому назад. Его жена теперь в Сан-Франциско.
— У Петрова никогда не было жены.
— Да, не тут, в Шанхае.
Она качала головой, как ребенок, которого похвалили. Ее выражение переменилось, оно больше не было отсутствующим, она смотрела почти с комической сосредоточенностью на мое лицо, как будто бы с желанием допустить меня в сумрак своего изгнания.
— Ты помнишь, Тамара…
— Да, да, я помню.
— Ты помнишь тот день, когда началась война?
— Я помню, много людей было убито. Мы жили в большом холодном доме с большим садом и деревьями.
— Плакучие ивы.
— Нет, не ивы. Деревья с белыми стволами. Березы. Недалеко была большая река и большой собор.
— Нет, не река, а канал.
— И железные ворота?
— Да, черные ворота.
— Там был кто-то, кто пришел к нам однажды. Кто-то, кто любил меня.
— Да, — сказал я. — Да?
— Я не знаю, зачем он пришел, может быть, кто-то прислал его ко мне. Он был выше, чем я, и у него были сильные руки.
— Аты?
— Я была счастлива. Иногда я долго пряталась от него, потому что я хотела, чтобы он меня искал. Он ходил вокруг и звал меня по имени, негромко, про себя, молча, а я не отвечала, чтобы он сам нашел меня.
— И… нашел?
— Нет, он оставил меня. Он оставил меня, так же, как и все остальные, и никогда не вернулся назад.
Я взял ее руки, она не протестовала и не отодвинулась, а продолжала внимательно вглядываться в мое лицо, желая удержать связавшую нас нить, словно силилась таким образом выйти из своей безнадежной изоляции.
— Ты можешь мне сказать, кто был тот человек. Кто он был?
— Я не помню его имя. Я никогда не могла запомнить его.
— А ты помнишь, как он выглядел?
— У него были сильные руки.
— Алицо?
— Я не помню его лица. Я не могу.
— Он может еще вернуться к тебе.
— Он не вернется. Они его убили. Нет, не убили. Он просто оставил меня и мальчика. Потом они его похоронили в землю и пришли на поминки.
Вдруг она стала рыдать.
— Я не могу молиться за него, я не знаю его имени.
Тамара обвила рукой мою шею и прижала свой лоб к моей щеке. Как часто, лежа рядом с ней в темноте, я жаждал такого момента, лишенного страсти, когда физическая близость является выражением разделенного одиночества.
Несколько раз, кончив плакать, Тамара поднимала голову и смотрела на меня. В ее глазах все еще не было узнавания, но также не было ни страха, ни подозрения, ни желания. И каждый раз, как будто бы успокаиваясь, она придвигалась ближе ко мне. Я не знаю, как долго мы сидели так, обняв друг друга, такие моменты не исчисляются временем, но они продолжают жить, как следы неожиданной вспышки, которая их породила.
— Тамара, — вскрикнул хриплый голос, — где твой демон?
Женщина средних лет стояла перед нами и смеялась. Старая вуаль и цветок были приколоты к ее волосам, и ее лицо было намазано чем-то красным. Белое платье было мало для ее полного тела; оно было разорвано под мышками.
— Где были вы, когда я танцевала ночью? — прошептала она и стала махать увядшим цветком передо мной. Тамара закрыла глаза моей рукой, потом вскочила и затопала ногами на женщину, как будто бы та была только злой призрак, которого можно прогнать.
— Я не могу выносить людей, которые вмешиваются в мои дела, — закричала женщина и толкнула Тамару так, что та ударилась о дерево. Я поймал руки женщины; она оказалась сильнее, чем я предполагал, и я боролся с ней, пока два санитара не пришли и не увели ее.
— Она всегда убегает, — сказал один из них мне.
Я сделал шаг к Тамаре, но она попятилась от меня, пристально глядя на мои руки. Когда пришла сиделка, Тамара отвернулась от меня и спрятала голову на ее плече.
— Ты опять плакала? — спросила сестра милосердия, гладя ее спину. — Теперь ты лучше иди в комнату. Уже поздно, и все уже ушли.
Она весело кивнула мне, и Тамара пошла с ней, держа ее за руку.
Выходя из госпиталя, я прошел мимо кабинета доктора. Я почти уверен, что он видел меня, но когда я подошел ближе, он сделал вид, что он занят бумагами, и я прошел незамеченным. На дороге молодой американский армейский сержант в джипе предложил подвезти меня. Он дал мне сигарету и говорил всю дорогу до города. Я не помню, что он говорил, но звук его оживленного голоса был, как ни странно, успокаивающим. Он довез меня до Банда на берегу реки.
Вангпу-ривер опять стала прибежищем для многих иностранных пароходов, возвышающихся над сампанками и джонками. Я сидел на скамейке, пока не наступила темнота и не зажглись фонари на пароходах. Вокруг меня был опять воспрянувший, шумный, буйный город, в котором я некогда жил так деятельно, но в котором я никогда не жил одной жизнью с Тамарой. Мысленно я вернулся к тому дню в августе, когда я впервые пришел на кладбище. В неясном свете минувших лет лицо Тамары предстало передо мной, сначала скорбное, потом недоступное, серьезное и, наконец, нежное. Я долго удерживал в воображении ее былой образ, прежде чем его заслонила нынешняя Тамара в белой госпитальной одежде с остриженными волосами, и тут я с отчаянием окончательно понял, что она потеряна для меня. Я осознал также, что это был единственный раз в моей жизни, когда я любил женщину не потому, что она была дополнением к моему существованию. И понял, что она останется в моей памяти навсегда.
Глава двадцать первая
Я видел Александра дважды перед тем, как уехать из Китая в середине ноября. Первый раз, когда я устроил обед в ресторане, на который пригласил также Петрова с сыном. В течение всего вечера Александр почти ничего не говорил. Он сделал только несколько кратких односложных замечаний, и мне показалось, что он затаил чувство неприязни к Николаю. Я собирался поговорить с ним о Тамаре, но он ушел тотчас же после того, как мы выпили кофе, сказав, что ему нужно встретиться с кем-то в Советском клубе. Я попросил его позвонить мне в отель; он обещал, но так и не позвонил. Второй раз мы встретились случайно. Я шел в сторону Гарден Бридж после обеда, когда рядом со мной остановился джип и Николай окликнул меня по имени.
— Я везу отца на пристань, а потом смогу отвезти вас куда вам угодно, — сказал он.
— Вы кого-нибудь провожаете? — спросил я Петрова.
— Не кого-нибудь, а многих, советский пароход отходит сегодня в Россию, и много друзей уезжает на нем. Поедемте с нами. Может быть, это будет вам интересно, как корреспонденту.
— Я все еще безработный, Петров, но я поеду с вами.
Петров быстро перелез на заднее сидение, настаивая, чтобы я сел рядом с Николаем.
— Я приеду к половине седьмого, папа, — сказал Николай, когда мы подъезжали к пристани.
— А что, ты не идешь со мной?
— Нет, я обещал встретиться с друзьями.
— Хорошо, увидимся в шесть тридцать. Нет, лучше ты не беспокойся, я сам доберусь домой.
— Ты уверен?
— Конечно, уверен.
Когда мы подъехали ближе к пристани, я сразу же увидел в большой толпе Александра. Он стоял рядом с Евгением, бравая наружность которого являла полный контраст худобе и сутулости Александра. Я обернулся к Петрову, но он уже обнимал адмирала Сурина. Я не хотел его беспокоить и подошел к Александру.
— Вы тоже уезжаете? — спросил я его.
— Да, но не на этом пароходе, а на следующем. Евгений едет сегодня.
— Куда в России вы направляетесь?
— Сначала в Свердловск.
— А потом?
— Куда-нибудь, где лучше, если я заслужу.
Я не был уверен, не иронизирует ли Евгений надо мной или над теми, кто посылал его на Урал.
— Например, в Москву?
Я пожелал ему счастливого пути и спросил Александра, не хочет ли он пообедать со мной, когда пароход отойдет.
— Только мы вдвоем?
— Да, больше никого.
— Тогда с удовольствием.
Кто-то похлопал меня по плечу. Это оказался маленький бородатый господин, вероятно, лет восьмидесяти.
— Сынок, — сказал он мне, — мог бы ты нам помочь с чемоданами, они нам не велели больше нанимать китайских носильщиков.
Он повел меня к месту, где стояла, возле двух чемоданов, его жена, держа в руках клетку с птицами. Она казалась даже старше, чем он, ее лицо превратилось в сеть морщин, когда она мне улыбнулась. Крышка чемодана открылась, как только я его поднял, и из него посыпались старые носки и свитер.
— Я же тебе говорила, что нужно было перевязать веревкой, — сказала она мужу. — Ведь эти чемоданы служат нам уже двадцать восемь лет.
— Где же было взять веревку?
Я сказал, что отнесу чемоданы на борт как они есть, а там мы, может быть, найдем веревку.
— Да храни тебя Бог, — сказал старичок.
Мы должны были ждать на трапе, пока три человека волокли пианино на борт, а когда старик и его жена были уже на корабле, еще одна старая женщина попросила меня помочь ей со швейной машиной.
— Поставьте ее вон туда рядом с теми подушками, тогда она не поцарапается. Она со мной разделила всю эмиграцию, теперь едет домой.
На пристани толпа расступилась, дав дорогу священнику. Он был очень высокий, и золотое одеяние не могло скрыть его могучего тела. Он шел медленно, время от времени останавливаясь и держа золотой крест, как древний патриарх, готовый обратиться к народу.
По окончании службы кто-то подошел к нему с серебряной чашей. И он начал кропить присутствующих водой.
— Да храни и сохрани вас Господь. Да будет ваше путешествие домой радостным.
— Пора всем садиться на пароход, товарищи, — закричал советский матрос.
Толпа, до этого молчаливая, задвигалась, и множество голосов зазвучало в воздухе.
— До свидания, до свидания, пишите…
— Скажите матушке-России, что мы скоро увидимся.
— Постарайтесь найти нашу старую няню.
— Поцелуйте родную землю от нас и березы тоже…
— До скорого свидания.
Когда подняли трап, голоса стали громче.
— Скажите нашей Родине…
— С Богом. Да благослови Господь вас и нашу Россию.
— Передайте привет матушке-Волге.
Во всех этих голосах слышались гордость, надежда, радость ожидания, и то же звучало в голосах, которые им отвечали:
— Приезжайте поскорее.
— Спасибо Китаю.
Вдруг все голоса были заглушены звуками громкой музыки. На пристани играл оркестр — «Страна моя, Москва моя, ты самая любимая…» Пароход начал отчаливать. Оркестр продолжал играть, расстояние между кораблем и пристанью становилось все больше и больше, отдельные фигуры на борту слились в одну безликую толпу, и название парохода на корме, «Победа», уже стало едва различимо.
Александр молчал всю дорогу, пока мы шли к моему отелю. Когда мы пришли, я предложил ему выпить, но он отказался. Он сказал, что он предпочел бы вообще не идти в ресторан. Я заказал обед в комнату и рассказал ему о моем визите в госпиталь Мунг-Хонг. Он слушал, не перебивая, глядя на меня полными муки темными глазами, так похожими на Тамарины, и я понял, к моему удивлению, что я редко думал о нем как о ее сыне.
— Наш консул дал мне слово, что она будет отправлена на первом же госпитальном корабле. Это будет через месяца четыре…
— Я не знаю, узнает ли она тебя, — сказал я.
— Мы были очень близки с ней — в начале нашей жизни на кладбище.
— Когда я встретил тебя впервые, у меня было впечатление, что ты был ближе к дедушке.
— Может быть, я любил его больше, я тоже его боялся, но мама была… Только это было до того, как вы пришли к нам в первый раз. Как она сердилась на меня за то, что я продолжал говорить о вас и расспрашивать об Америке, когда вы ушли. Вы казались мне таким далеким, недоступным, как принц.
На мгновение меня охватило чувство, что он говорит о ком-то другом, а не обо мне, и я слушал с чувством отчуждения, как будто все это мне было совершенно незнакомо.
— Почему недоступным?
— Вы говорили о вашей стране таким небрежным тоном, вернее, вы очень редко о ней вообще говорили. Вы знаете, как богатые, которые так привыкли к своему богатству, что никогда не упоминают о деньгах. Я думаю, что я все это не мог понять в то время, я только знал, что вы были совсем другим, не таким, как мы, что вам не надо было никому ничего доказывать, и я завидовал вам в этом.
— А нужно было что-то доказывать?
— Постоянно. Хотя меня дома учили быть гордым, и я был, а все же существовали некоторые вещи: старая одежда и то, как мама выглядела, когда она приходила в школу, по сравнению с другими матерями, и как молодой француз, муниципальный служащий, который приехал с инспекцией на кладбище, ругал моего деда, и как другие дети звали меня женским именем Александра, потому что я носил пальто для девочек.
— Я помню это пальто. Оно было на тебе, когда мы были на открытии памятника Пушкину.
— А на вас был новый блестящий серый дождевик. Вы обещали мне фотографию памятника…
— Прости меня. Я честно собирался тебе ее дать.
— Ничего, в то время я думал, что вы не могли не сдержать слова.
— Что, я еще не сдержал какого-то обещания?
— Однажды вы обещали взять меня на американский фильм «Волшебник страны Оз».
— И не взял?
— Вы сдержали другие обещания, — продолжал он. — Помните, когда вы меня привели сюда, в отель «Палас», есть мороженое. Я чувствовал, что я совсем не должен быть здесь, что в любой момент кто-нибудь подойдет и попросит меня уйти. Вы помните, кто сидел за соседним столом?
— Нет.
— Семья американцев. Хорошенькая женщина, брюнетка с коротко подстриженными волосами, ее муж и трое детей: две девочки, одинаково одетые, и мальчик. Вы с ними поздоровались и спросили, как им нравится Шанхай. Дети болтали все время; мальчик толкал девочек под столом, будто они были дома. Они ни разу ни посмотрели крутом на высокие колонны и на бархатные занавески, и украшения, и ни разу ни взглянули на официанта в накрахмаленной форме, которого я так боялся.
— Я совсем их не помню. Это были мои знакомые?
— Не знаю. Однажды я вас спросил, когда вы едете домой; вы сказали: «О, я не знаю, в один прекрасный день, когда мне надоест мотаться по свету», — как будто Америка просто ждала вас.
— Да, я никогда не думал, что буду с таким нетерпением ожидать отъезда домой, как сейчас. Но ты тоже скоро едешь.
— Да, но вы знаете, ЧЕМУ ВЫ ПРИЧАСТНЫ по праву.
— А ты нет?
— Я только знаю, ЧЕМУ Я НЕ ПРИЧАСТЕН.
Он вдруг встал, говоря, что хозяйка квартиры, где он живет, рано запирается на ночь. У двери мы пожали друг другу руки.
— Знаешь, я тоже помню некоторые вещи; особенно, как ты меня отчитал за мое отношение к рикшам в тот первый день. Я как сейчас вижу, как ты стоишь на углу улицы с моей записной книжкой под мышкой.
На минуту он остановился, я думал, что он мне что-нибудь еще скажет, но нет, он ничего не сказал.
Только Петров пришел меня провожать, когда я уезжал. Он подал мне бумажный мешок, сказав:
— Домашние пирожки, такие, как вы любите, с мясом, — и, как будто я собирался отказываться, добавил, — Конечно, вас будут хорошо кормить на американском пароходе, но все же домашние…
Он сказал, что ему надо торопиться назад на работу, и, так как до отхода еще было время, я пошел проводить его до трамвая. Он обнял меня и перекрестил:
— Хорошего, хорошего, доброго пути. Я желаю вам, мистер Сондерс, счастья и всего самого лучшего в Америке.
Я стоял и смотрел, как он махал платком из окна трамвая.
На пристани толпа собралась вокруг американского морского пехотинца, который спорил с рикшей. Полицейский слушал нетерпеливо.
— Я ему достаточно дал, я знаю, что достаточно, а он требует еще, — говорил моряк. — Я ехал на нем сюда только с Нанкин-роуд.
Моряк был прав. Плата за проезд, которую мальчик-рикша держал в руке, была в три раза больше, чем то, что он мог ожидать, но он был очень молод, и его старшие братья, наверно, научили его, что у иностранцев слишком много денег и их следует обманывать. Полицейский ругал его и бил по спине бамбуковой палкой. Рикша весело улыбался, зная, что, несмотря на боль, ему все же удалось обмануть белого чужеземца. Он только что собирался уйти, когда полицейский повернулся и взял подушку с пассажирского сидения. А потеря подушки означала штраф, равный двухнедельному заработку, а не то — и вообще запрещение работать. Молодое лицо рикши, минуту до этого такое нахально-веселое, стало беспомощно испуганным. Он сел на край тротуара и заплакал громко, как ребенок.
Первые несколько месяцев мне хотелось просто странствовать по Штатам без каких бы то ни было планов и целей. Пожив три недели в Сан-Франциско у матери, я купил подержанный автомобиль и поехал через Калифорнию в Аризону, а оттуда на восток. Когда я приезжал на какое-нибудь озеро, в деревушку в горах, где все еще сохранялись следы первых переселенцев, я оставался там и жил, пока местность не становилась мне достаточно знакомой, и лишь тогда ехал дальше. Время от времени желание опять писать тянуло меня в большие города, где среди шума и звуков голосов, и высоких зданий я чувствовал свою изолированность больше, чем среди спокойствия в горах.
Я был одержим желанием воспринять что-то, что никогда до этого не было моим. Скоро я понял, что потерял способность писать. Что-то, что мне казалось столь ярко запечатлевшимся в моей памяти, не находило теперь выражения. И чем больше я путешествовал по стране, тем больше начинал осознавать, что все ранние молодецкие мечты переселенцев не были похоронены вместе с их костями — костями тех, кто первым сделал заявку на эту землю, и что эти мечты все еще не исполнились.
Наконец я поехал в Нью-Йорк и устроился на работу в крупной газете. К концу первого года я был всецело поглощен работой, установил четкий режим и не чувствовал никакого разочарования в своем существовании. Мне нравились некоторые из моих сослуживцев, особенно молодые, и время от времени я обедал в клубе, где собирались старые Чайна хэндз[44], и мы вспоминали прошлое.
Я не был несчастлив; наоборот, во всем этом отсутствии каких-либо ожиданий было какое-то спокойствие. Время от времени, когда воспоминание о Китае появлялось в моей памяти, я чувствовал ностальгию, неопределенную и болезненную. Но по мере того как шли годы, все труднее и труднее становилось вспоминать, и часто я сомневался в надежности моей памяти.
В один из моих приездов в Сан-Франциско поздней осенью 1949 года мама сказала мне:
— Несколько месяцев тому назад приходил какой-то странный человек, спрашивал о тебе. Он оставил свой адрес, и я хотела переслать его тебе, но куда-то положила и нашла его только пару дней назад.
Она дала мне листок бумаги, на котором было написано: «1517 Клемент стрит. Дом господина и мадам Кураковых. Спросить Петрова».
Я ждал Петрова почти два часа. Пожилая русская пара, у которых Петров снимал комнату, настаивала, чтобы я с ними пообедал, и я сел во главе стола лицом к улыбающемуся портрету генерала Эйзенхауэра, который висел над портретом царя Николая Второго.
Среди криков и объятий я не заметил, как постарел Петров. Его хозяева удалились в свою спальню, умоляя нас оставаться в гостиной.
— Приехал в вашу страну почти шесть месяцев тому назад, — сказал он. — Уже есть двое внуков и еще ждем одного.
— А как все другие в Китае?
— Еще много наших в Шанхае, но большинство уехали на Самар, остров на Филиппинах. Живут в палатках в очень скудных условиях. А все же это было очень хорошо со стороны филиппинцев позволить им оставаться там теперь, когда прежнего Китая больше нет.
— А Тамара?
— Я вам писал об этом перед самым отъездом из Шанхая.
Я сказал ему, что никаких писем от него не получал.
— Александр уехал в Советский Союз в сорок седьмом. Я продолжал ходить в советское консульство насчет Тамары. Эвакуация больных откладывалась много раз. Потом однажды, месяцев восемь тому назад, доктор из Мунг-Хонга позвонил мне и сказал, что Тамара убежала из госпиталя. Они ее так и не нашли.
Пока он произносил эти слова, образ Тамары встал передо мной с необыкновенной ясностью. Не знаю почему, но Тамара, блуждающая по полям Китая, была более реальна для меня, чем если бы она уехала с Александром. И когда я пошел домой в тот вечер, она опять предстала передо мной живой впервые за все эти годы.
ЭПИЛОГ
1963 год. Гонконг
Я живу в доме, который стоит на крутом холме над узкой улицей, плотно застроенной китайскими домами. Из моего окна виден верх пика Победы, где большие роскошные дома, окруженные садами из тропических растений, возвышаются над городом. Я снимаю квартиру из двух комнат у китайского профессора, который приехал из Пекина в Гонконг незадолго до революции. Он живет внизу со своим четырнадцатилетним сыном и маленькой мохнатой собакой, которую мальчик нашел где-то на улице.
В отличие от других беженцев, профессору повезло, он нашел работу в Гонконгском университете. Он также дает частные уроки. Студенты приходят маленькими группами, и иногда я вижу, как они, уходя, кланяются ему с почтением.
Я ничего не знаю о матери мальчика, потому что профессор никогда не говорит мне о своей личной жизни. Когда у меня бывают какие-нибудь особенные новости о Китае, я захожу к нему рассказать их. Он слушает внимательно, но без замечаний.
В среднем раз в месяц мне приходится уезжать из Гонконга на несколько дней в Таиланд или Лаос. Эти поездки нарушают однообразие моей жизни, но я всегда рад, когда самолет приземляется на Кайтак-аэродроме, и мой китайский ассистент машет мне из окна машины. Мы едем по улицам Каолуна с яркими витринами магазинов и разукрашенными ресторанами, и потом, всегда с удивлением, я любуюсь видом гонконгской гавани, такой спокойной и величественной, под прикрытием которой находят убежище плоскодонные джонки и сампанки с тентовыми палубами. В мои рабочие часы я совершенно отрезан от Гонконга. Сидя за пишущей машинкой у себя в кабинете и глядя в окно, из которого вид — на окно такого же здания и кабинета, как мой, единственно, чем я занят, — это словами, которые передают новости. Но когда я иду домой по улицам, наполненным толпами китайцев и любопытных туристов, или когда я останавливаюсь посмотреть на свадебную процессию, или когда я вижу голого ребенка с протянутой рукой, бегущего за иностранцем, я осознаю, что я — свидетель мимолетных мгновений уходящего мира.
В начале вечера, когда тени спускаются на город и небо еще беззвездное и серое, я люблю сидеть на моей маленькой веранде и ждать ночи. В теплые вечера профессор с сыном выходят в сад посидеть под деревом. Они приносят фарфоровые чашки и чайник, и тарелочку со сластями и пьют чай, разговаривая тихими певучими голосами.
Часто отец читает сыну, но иногда, опустив книгу на колени, он долго что-то рассказывает, показывая в сторону темных холмов, за которыми находится его родина. Когда мальчик уходит, он продолжает сидеть один в темноте.
С приходом ночи невидимое присутствие Китая ощущается сильнее, и в безмерности этого континента Гонконг стоит, как памятник чужестранцу, который однажды забрел в эту землю и на время там остался.
Примечания
1
чернорабочий: грузчик, рикша и т. д. (Здесь и далее примечания переводчика).
(обратно)2
маленькая лодка с одним веслом на корме.
(обратно)3
Фернан Леже (1881–1955) — французский художник (кубист, дадаист, сюрреалист, а позже — ранний абстракционист).
(обратно)4
наемные партнерши на танцах в дансингах (англ.).
(обратно)5
Эмигранты революции и гражданской войны, обычно люди без подданства, без гражданства — в Китае их именовали «бесподдднными».
(обратно)6
связи с общественностью (англ.).
(обратно)7
Шанхай был разделен на три района под управлением разных европейских стран: Интернациональный сеттельмент под управлением комитета, состоящего из представителей нескольких стран во главе с Англией, Французскую концессию и Китайский район.
(обратно)8
медная монета, самая мелкая.
(обратно)9
китайская парусная лодка.
(обратно)10
Известный универсальный магазин в больших городах США.
(обратно)11
кофейный крем (франц.).
(обратно)12
Во Французской концессии все улицы имели французские названия.
(обратно)13
мой дорогой (франц.).
(обратно)14
аскет (франц.).
(обратно)15
дитя мое (франц.).
(обратно)16
«Наш флаг все еще был там» — строка американского гимна.
(обратно)17
Название главной улицы Французской концессии.
(обратно)18
Китайская часть города.
(обратно)19
New World Amusement Park — Новый мир — парк развлечений (англ.).
(обратно)20
порция выпивки.
(обратно)21
машины скорой помощи.
(обратно)22
Район города за устьем речки Сучао, впадающей в Вангпу.
(обратно)23
У отца Лебасанжа была только одна рука, другая была деревянная. По слухам, он бил ею японцев.
(обратно)24
«Оченьжаль, извините» (англ.).
(обратно)25
поздравления (франц.).
(обратно)26
Благородство обязывает (франц.).
(обратно)27
«Америка прекрасная» (англ.) — популярная патриотическая песня.
(обратно)28
Название улицы в Интернациональном сеттльменте.
(обратно)29
Военно-морская база США на Гавайях, после нападения на которую Америка вступила во Вторую мировую войну.
(обратно)30
Буквально: бог из машины (лат.). В античной трагедии — неожиданная развязка неразрешимой коллизии при участии сверхъестественных сил.
(обратно)31
Приморский район Шанхая.
(обратно)32
Внимание, осторожно (франц.).
(обратно)33
privacy — уединенность, личная независимость (англ.).
(обратно)34
Находился в приморском районе Банд, вдоль набережной реки Вангпу.
(обратно)35
Гоминдан — политическая партия, правившая Китаем после падения императорской власти и возглавившая сопротивление японской агрессии.
(обратно)36
Французская школа — школа Реми, в которой учился Александр, принимала русских беженцев. Программа была на французском языке, но там были и русские преподаватели.
(обратно)37
«Счастливого Рождества» (англ.).
(обратно)38
«С днем рождения» (англ.).
(обратно)39
Олай — искаж. all right— хорошо (англ.). В китайском языке звук «р» заменен звуком «л».
(обратно)40
мой дорогой генерал (франц.).
(обратно)41
Не говорит по-английски (искаж. англ.).
(обратно)42
Джиттербаг — jitterbug — нервный жук (англ.) — быстрый американский танец, популярный во время Второй мировой войны и сразу после нее.
(обратно)43
Stars and Stripes — звезды и полоски (англ.) — символы на американском флаге; название американского клуба.
(обратно)44
China hands — «китайские руки» (англ.) — люди, которые долго жили в Китае.
(обратно)




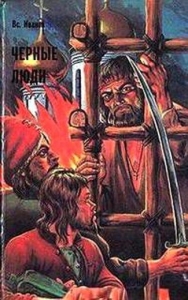

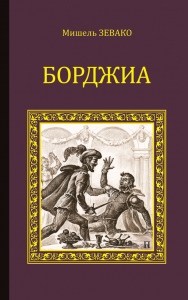
Комментарии к книге «Родиться среди мёртвых. Русский роман с английского», Ирина Кёрк
Всего 0 комментариев