Юрий Когинов Багратион. Бог рати он
Петр Иванович Багратион 1765–1812
Военная энциклопедия,
Т-во Сытина, Спб., 1911.
Багратион Петр Иванович, князь, генерал от инфантерии, любимец Суворова, его сподвижник и герой Отечественной войны, происходил из древнего рода грузинских царей Багратидов, родился в 1765 г. В 1782 г. он был определен Потемкиным в Кавказский мушкетный полк сержантом. С этим полком Багратион принял участие в ряде экспедиций и походов против непокорных горцев в 1783, 1784, 1786, 1790 и 1791 гг.; в одной из стычек с чеченцами Багратион был тяжко ранен, оставлен на поле сражения в груде убитых и раненых, но узнан горцами, перевязан ими и, из признательности к отцу Багратиона, оказавшему им какую-то услугу, доставлен в русский лагерь без выкупа. С Кавказским мушкетным полком Багратион участвовал также в штурме Очакова (1788); за боевые отличия в этих походах и штурмах получил последовательно все офицерские чины до премьер-майора; произведенный в этот чин 26 сентября 1793 г., он был переведен в Софийский карабинерный полк, с которым и выступил в 1794 г. в походе против Польши.
Ряд лихих кавалерийских дел, особенно во время штурма Праги, обратили на Багратиона внимание Суворова. Последний проникся к Багратиону почти отеческой любовью и, ласково называя его всегда «князем Петром», не скрывал особого уважения к нему, доверия и предпочтения. «Князь Петр» платил своему великому учителю теми же чувствами и беззаветной преданностью.
В Итальянском походе 1799 г. генерал-майор Багратион, командуя авангардом армии, взял штурмом цитадель г. Брешиа (10 апреля), атаковал и занял г. Лекко, причем был ранен пулей в ногу, но остался в строю, продолжая руководить боем. 16 апреля армия Моро была развита Суворовым на Адде, Милан был занят, и на очередь встала переправа через р. По. Багратион, составляя авангард, 21 апреля переправился через нее и двинулся к Тортоне.
28 апреля Багратион продвинулся к крепости Алессандрии и этим движением пресек прямое сообщение французов с Генуей. 6 мая, согласно диспозиции Суворова, Багратион спешил к С.-Джулиано, чтобы составить боковой авангард армии при фланговом движении ее к р. Сезин. Услыхав выстрелы у Маренго, Багратион довернул на помощь австрийцам, великодушно уступил общее командование младшему в чине, генералу Лузиньяну, пристроился к нему с обоих флангов и увлек союзников в стремительную атаку с барабанным боем.
Когда одна из французских колонн пыталась обойти правый фланг союзников, Багратион со своим 7-м егерским полком и казаками кинулся ей навстречу и отбил удар. Моро приказал тогда отступать: попытка его прорваться в Геную не удалась.
6 июня утром пришло известие, что Макдональд атаковал австрийцев (генерала Отта) на Тидоне. Суворов тотчас же взял из авангарда казацкие полки, австрийских драгун и вместе с Багратионом повел их к месту боя. В три часа дня он был уже там я лихой кавалерийской атакой задержал натиск французов до подхода пехоты авангарда. Когда она показалась, Багратион подошел к Суворову и, видимо не уясняя себе важности минуты, вполголоса просил его повременить с атакой, пока не подойдут отсталые, ибо в ротах нет и 40 человек Суворов отвечал ему на ухо: «А у Макдональда нет и по 20, атакуй с Богом! Ура!» Багратион повиновался. Войска дружно ударили на неприятеля и отбросили его в большом беспорядке за Тидоне.
Макдональд собрал свою армию на Требию и 7 июня принял на левом ее берегу новую атаку Суворова, во время которой Багратион был ранен. Однако и вторая рана Багратиона в эту кампанию не вывела его из строя.
4 августа у Нови Суворов возложил на Багратиона решительный удар. Затем последовал легендарный поход суворовских войск через Швейцарию. Багратион шел то во главе их, первым принимая на себя все удары противника, первым преодолевая все преграды, которые ставила им дикая природа гор, то в арьергарде — сдерживая натиск французов, и когда наконец наши войска выбрались благополучно из той западни, в которую заманил их не только противник, но и союзник, в полку Багратиона оставалось всего лишь 16 офицеров и 300 нижних чинов. Сам он был в третий раз за эту войну ранен в сражении при Клентале.
По возвращении в Россию Багратион был назначен шефом лейб-егерского батальона, переформированного впоследствии в полк, и оставался им до своей смерти.
С началом первой войны нашей с Наполеоном, в 1805 г., Багратиону вверен был авангард армии Кутузова, но едва войска вступили в пределы Австрии, как, благодаря капитуляции союзной австрийской армии под Ульмом, 40-тысячный русский корпус очутился перед семью французскими корпусами, имея в тылу Дунай. Кутузов начал поспешное отступление к русским границам, и авангард Багратиона обратился в арьергард, который на протяжении 400 верст рядом упорных боев — при Ламбахе, Энее, Амштеттене и Кремсе — сдержал противника и дал нашей армии возможность выбраться из этой западни. Но едва она перешла у Кремса на левый берег Дуная, как Вена сдалась Наполеону, и последний, в свою очередь, перейдя Дунай, бросился к Цнайму наперерез пути отступления Кутузова от Кремса к Брюнну. На этот раз положение русской армии стало еще более критическим. И второй раз она была спасена Багратионом, которому Кутузов приказал во что бы то ни стало задержать французов, хотя бы для этого ему пришлось пожертвовать всем своим отрядом до последнего человека. Прощаясь с Багратионом, Кутузов перекрестил его, как обреченного на смерть; так смотрели на Багратиона и его отряд, и вся армия, зная, что от его стойкости зависит ее участь.
Багратион поклялся Кутузову «аннибаловскаю клятвою» устоять, «не выдать». У Шенграбена (Голлабрюна) он выдержал 4 ноября яростный натиск двух французских корпусов (30 тыс. человек) в течение 8 часов. Он не покинул позиции даже тогда, когда дивизия Леграна зашла ему в тыл… Когда же он получил известие, что Кутузов миновал с главными силами Цнайм и находится вне опасности, Багратион во главе 6-го егерского полка штыками проложил себе путь через кольцо французских войск и горевшие селения Шенграбен и Грунд и присоединился к армии, приведя с собой даже пленных и принеся одно французское знамя.
За этот блистательный подвиг Багратион был произведен в генерал-лейтенанты, а 6-й егерский полк, первый из полков кашей армии, получил в награду серебряные трубы с Георгиевскими лентами.
По соединении Кутузова с корпусом графа Буксгевдена наша армия перешла в наступление и Багратионовский отряд снова стал авангардом. На пути к Аустерлицу 14 ноября Багратион разбил французов у Вишау и Раусница. 20 ноября на Аустерлицком поле авангард Багратиона составил крайний правый фланг боевого расположения союзной армия и, когда колонны ее центра были рассеяны, подвергся жестокому натиску победоносного противника, но устоял и прикрыл отступление разбитой армии, снова став ее арьергардом. За Аустерлиц Багратион был пожаловав орденом Св. Георгия 2-го класса.
В кампанию 1806–1807 гг. Багратион опять является начальником то авангарда, то арьергарда, смотря по тому, наступала или отступала наша армия. Так, с непрерывным в течение 3 дней баем на протяжении 70 верст; он прикрывает отступление нашей армия от Янкова и Прейсиш-Эйлау и принимает участие в сражении, у этого местечка (26 и 27 января), 27-го числа он руководит, действиями не только своего отряда, но и корпуса Дохтурова, контуженного и выбывшего из строя. Получив приказание главнокомандующего генерала Беннигсена во что бы то ни стало выбить французов из Прейсиш-Эйлау, Багратион, спешившись, со знаменем в руке становится во главе 4-й дивизии и овладевает местечком. Однако наша армия все же вынуждена была отступить к Кенигсбергу, и это движение совершается под прикрытием Багратионовского отряда.
Так как Наполеон, не развив своего успеха, также отошел за Пассаргу, то Беннигсен снова переходит в наступление. Багратион, идя в авангарде, занимает Гутштадт и, продолжая марш свой далее, атакует 24 мая неприятельские войска у Альткирхена, сбивает их после шестичасового боя с весьма выгодной позиции, обращает в бегство, преследует и довершает победу новым поражением их на следующий день у села Анкендорф.
Атакованный 28 мая всей неприятельской конницей, Багратион упорно обороняется у Гутштадта, чем задерживает переправу французов через Алле и дает нашей армии время укрепить позиции у Гейльсберга.
Затем Багратион прикрыл как отход ее с них, оставаясь в Гейльсберге до утра 31 мая, так и само отступление ее к Бартенштейну. В сражении у Фридланда отряд Багратиона составлял левый фланг расположения нашей армии. Когда наши войска не выдержали и в расстройстве начали отступать, Багратион со шпагой в руках стал ободрять Московский гренадерский полк, остатки которого окружили его лошадь, напоминая солдатам их подвиги в Италии с Суворовым, но все было напрасно. Даже семеновцы и павловцы дрогнули и осадили назад. Тогда Багратион, желая хоть сколько-нибудь сдержать натиск французов, приказал полковнику. Ермолову (А. П.) привести из резерва какую-нибудь артиллерийскую роту…
16 часов пробыл Багратион в самом пекле этого жестокого боя и затем еще 5 суток сдерживал противника, преследовавшего нашу разбитую армию, шедшую к Тильзиту. За Фридланд Багратион был награжден золотой шпагой, украшенной алмазами, с надписью «За храбрость».
Несмотря на чрезвычайное напряжение своих сил в течение кампании 1805–1807 гг., Багратион, не колеблясь, принял назначение на театр войны со Швецией (1808–1809) и явился деятельным участником и героем этой войны. Назначенный начальником 21-й пехотной дивизии, он разбил в ночь с 15 на 16 февраля генерала Адлеркрейца у Артчио, 28-го — занял Тамерфоре, 4 марта нанес поражение шведскому главнокомандующему генералу Клинтспору у Бьернеборга и, преследуя его в течение 8 дней на протяжении 200 верст по отвратительным дорогам, занял 10 марта Або, 12-го — Христианштадт, 26-го — Вазу, 31 марта — Аландские острова.
Нездоровье, вызванное усиленными непрерывными трудами, вынудило Багратиона покинуть временно армию. Восстановив свои силы, он осенью 1808 г. вернулся в Финляндию и 16 сентября разбил генералов Бойе и Лантинсгаузена у Гельсинга.
Чтобы нанести шведам решительный удар, император Александр составил план зимнего похода нашей армии по льду Ботнического залива к Стокгольму. Не только большинство генералов в армии, но и главнокомандующие, сперва граф Буксгевден, а потом генерал Кнорринг, высказывались против такой операции и медлили с началом ее. И только один Багратион, не рассуждая по существу, ответил графу Аракчееву, присланному государем организовать этот поход: «Прикажите — пойдем».
Назначенный начальником одной из трех колонн, он должен был перейти из Або в Швецию через Аландские острова. Последние были заняты в течение 6 суток, а авангард под командой Кульнева достиг шведского берега и захватил м. Гриссельгам в окрестностях Стокгольма.
В начале августа 1809 г. Багратион был назначен командовать Молдавской армией, действовавшей против Турции. Историк эпохи конца XVIII и начала XIX в. Е. Шумигорский, на основания опубликованных в последнее время документов, полагает, что такое быстрое перемещение Багратиона из Финляндии, где война уже кончилась, в Турцию, где она тянулась безрезультатно уже третий год, было, в сущности, для него почетной ссылкой. Его не желали более видеть в Санкт-Петербурге по Причинам интимного характера.
Среднего роста, худощавый, мускулистый брюнет с типичным грузинским лицом, на котором сильно выдавался орлиный нос, дававший повод к ряду острот, шуток и анекдотов, Багратион был некрасив; но всей своей фигурой производил сильное впечатление: солдаты называли его орлом. Но еще более сильное впечатление производил он на окружающих славой своих подвигов я репутацией суворовского любимца и ученика.
На этой почве, вероятно, произошло увлечение им великой княжны Екатерины Павловны, которой в ту пору было 18–20 лет. Чтобы положить ему конец, великую княжну в апреле 1809 г. выдали замуж за принца Георга Ольденбургского.
Но так как Багратион не хотел примириться с этим фактом, то его произвели в генералы от инфантерии и направили в Молдавию. Прибыв сюда, Багратион повел военные действия с обычной своей суворовской быстротой и решительностью. Имей в армии всего лишь 20 тыс. человек, он, не снимая блокады Измаила, взял 18 августа Мачин, 22-го — Гирсово, 29-го — Кюстенджи, 4 сентября разбил наголову под Россеватом 12-тысячный корпус отборных турецких войск, 11-го — осадил Силистрию, 14-го взял Измаил, 27-го — Браилов. На выручку Силистрии поспешил великий визирь с войсками, численность которых равнялась силе нашего осадного корпуса. Багратион встретил его 10 октября у Татарицы и нанес ему поражение. Но когда стало известно, что к Силистрии спешат остальные войска великого визиря, то Багратион решил снять осаду к 14 октября отвел свои войска на левый берег Дуная, намереваясь возобновить военные действия весной и с более значительными силами. Но в Санкт-Петербурге всем этим остались очень недовольны, и в марте 1810 г. на смену Багратиону был прислан граф Н. М. Каменский.
Награжденный за турецкую войну орденом Св. Андрея Первозванного, Багратион был казначеи главнокомандующим 2-й Западной армией (45 тыс. человек, 216 орудий), расположенной в пределах нынешней. Гродненской губернии, от Белостока до австрийской границы. Когда выяснилась неизбежность повой войны с Наполеоном, Багратион представил государю «план будущей кампании», построенный всецело на идее наступления.
Предпочтение было отдано плану Барклая-де-Толли, и Отечественная война началась отступлением обеих наших Западных армий на соединение у Смоленска. Наполеон прежде всего поставил себе целью отрезать и уничтожить слабейшую армию Багратиона и для этого направил с фронта корпус брата своего, короля вестфальского Иеронима, а наперерез — маршала Даву. Но Багратион пробился; 28 июня у м. Мира он разбил авангард вестфальского короля в составе 6 уланских полков, а 2 июля у Романова снова рассеял его кавалерию, но Даву успел-таки заградить путь Багратиону на Могилев у Салтаковки. Хотя корпусу Раевского, атакованному здесь 10 июля 5 французскими дивизиями в составе 28 тыс. человек, и удалось отразить атаку и даже преследовать французов от Дашковки до Новоселки, но все же Багратион был вынужден повернуть на Новый Быхов; здесь он переправился через Днепр и, идя на Мстиславль, 17 июля соединился с Барклаем вод Смоленском.
Замечательно, что, будучи генералом наступательной тактики, Багратион тем не менее не вступил в решительный бой под Могилевом, а, преследуя правильно поставленную стратегическую цель отступления, вовремя уклонился в сторону и тем спас армию.
Хотя по соединении армий Багратион и подчинился Барклаю, несмотря на то это был старт его в чине, но несогласия, существовавшие между ними до сих пор относительно способа ведения войнам, достигли здесь наибольших размеров. Багратион требовал наступления, хотел сразиться с Наполеоном; Барклай-де-Толли осуществлял свой план заманивания противника в глубь России.
Для характеристики взглядов Багратиона 8 его настроения могут служить следующие строки его писем к Ермолову, состоявшему в штабе Барклая) «…Куда вы бежите? Ей-богу, неприятель места не найдет, куда ретироваться. Они боятся вас, войско ропщет, все недовольны. У вас зад был чист и фланги. Зачем побежали? Надобно наступать; у вас 100 тыс, а я бы тогда помог. А то вы побежали, где я вас найду… Уж истинно еле дышу от досады, огорчения и смущения. Я ежели выдерусь отсюда, тогда ни за что не останусь командовать армией и служить. Стыдно носить мундир. Ей-богу, болен. А ежели наступать будете с первой армией, тогда я здоров…» (3 июля 1812 г.) «Ретироваться трудно и пагубно. Лишается человек духу, субординация и все в расстройку. Ежели вперед не пойдете, я не понимаю ваших мудрых маневров. Мой маневр — искать и бить!..» (7 июля 1812 г.).
Поэтому Багратион настаивал на движении к Рудне, на генеральном сражении под Смоленском. Барклай оставался верным своему плану. «Не смел остаться с 90 тыс. у Смоленска! Ох, грустно, больно», — восклицал Багратион в письме к Аракчееву и заявлял, что «никак вместе с министром быть не можем»…
Решено было объединить начальствование всеми армиями в лице особого главнокомандующего. Избран был Кутузов. Армии отступали и остановились на Бородинском поле, где 26 августа я разыгралась знаменитая битва. Она была последним днем долгой и славной боевой деятельности Багратиона, насчитывавшей 20 походов и войн, 150 сражений, боев и стычек.
На долю Багратиона выпала оборона слабейшего тактически — в смысле как местности и ее приспособления, так и занятия войсками — участка всей позиции; центр бородинской позиции составляли две высоты на расстоянии 1 версты одна от другой: первая — между р. Колочей, ручьем Стох и речкой Семеновной, вторая — к юго-западу от д. Семеновской; на первой была построена батарея Раевского, на второй — Багратионовы флеши — 3 батареи; участок этот занимали 2 пехотных и 1 кавалерийский корпус, а за Багратионовыми флешами стояла дивизия Неверовского. Наполеон назначил для атаки флешей Нея с 5 дивизиями с фронта и 2 — с фланга, при поддержке 3 резервных кавалерийских корпусов; 120 орудий должны были действовать по батарее Раевского и флешам.
В 7 часов утра 26 августа Ней начал атаку, в 8 часов, утра овладел флешами и готовился уже атаковать д. Семеновскую; в 9 часов Багратион взял флеши обратно, но в 10 часов опять их потерял; в 11 часов дня, поддержанный дивизией Коновницына и 4 кавалерийскими полками, Багратион снова выбил французов, но во время этой блестящей атаки, которая должна была послужить началом перехода в решительное наступление, он был тяжело ранен. Но он не хотел оставлять поле сражения, пока ему не донесут о результатах только что начавшейся атаки кирасир, и продолжал распоряжаться под огнем. Однако потеря крови и вследствие этого слабость усиливались, и Багратиона унесли с поля сражения и отправили в Москву.
Слух о ранении и даже смерти Багратиона быстро распространился между солдатами и, по словам Ермолова, привел их в полное отчаяние, так что в рядах их обнаружилось замешательство, ввиду которого Коновницын, заступивший место Багратиона, не признал возможным дальнейшую борьбу за флеши и отошел за Семеновский овраг.
В Москве лечение Багратиона пошло сперва относительно успешно, но переезд из Москвы в имение его друга, князя Б. Голицына, Симы Владимирской губернии по тряской дороге, дурная осенняя погода и скорбь от потери Москвы повлекли осложнение болезни, опасное для изнуренного беспрерывной походной боевой жизнью организма героя. Предложение врачей ампутировать ногу «повлекло гнев князя» — и 12 сентября он скончался в Симах в страшных мучениях.
27 лет спустя император Николай I повелел воздвигнуть памятник на Бородинском поле, приказал перенести к подножию его и останки Багратиона. Император Александр III увековечил память героя наименованием 104-го пехотного Устюжского полка его именем.
Багратион — редкий тип народного и солдатского героя, по единому слову и знаку которого войска готовы были умирать и все переносить. Вообще Багратион был скромного и относительно спокойного характера, но иногда очень вспыльчив, хотя гнев его проходил быстро; зла не помнил и никогда не мстил. Стоял всегда на страже интересов своих офицеров и солдат, входя в их быт и деля с ними все тягости боевой жизни, он пользовался замечательным уважением и любовью своих войск. Своим образом жизни в походе и на войне Багратион напоминал Суворова, подавая пример нетребовательности и выносливости: он спал всегда одетым, не более 3–4 часов в сутки, был неприхотлив в пище и жилье. Как стратег Багратион считается до сих пор ниже многих русских полководцев, однако за всю его долгую боевую деятельность нельзя указать в ней каких-либо стратегических ошибок; наоборот, ему постоянно приходилось искупать своим умением и упорством в бою крупные промахи своих начальников; как главнокомандующий в войну 1809 г. он был вполне на высоте призвания, а как командующий армией в 1812 г, он был связан директивами сперва Барклая, а потом — Кутузова.
Юрий Когинов Бог рати он
Анне — моей жене и другу — с любовью
АвторЧасть I Вровень с вершинами
Князь Багратион — наиотличнейший генерал, достойный высших степеней.
А. В. СуворовГлава первая
Светлейший в своем сером засаленном халате лежал на диване, покрытом роскошным персидским ковром, и предавался нередко посещавшей его лени[1].
Единственный зрячий глаз полузакрыт, круглое лицо выражало полнейшее равнодушие.
Неожиданно веко, темное и набрякшее, дрогнуло, и рука, нашарив на овальном, искусно инкрустированном столике бутылку с квасом, поднесла ее к губам.
— Фу! Во рту — будто ночевала рота солдат… Однако довольно сибаритствовать — дела для меня всегда важнее куртагов… На чем это я давеча остановился?
Потемкин поднялся, отчего половинки халата разъехались в стороны, обнажив волосатую грудь и мощный торс, и, отпихнув локтем питье, подвинул к себе исписанные листы.
Глаз ухватил слова: «…чтобы полуостров Крымский не гнездом разбойников и мятежников на времена грядущие остался, но прямо обращен был на пользу государства нашего в замену и награждение осьмилетнего беспокойства, вопреки миру, нами понесенного, и знатных иждивений, на охранение целости мирных договоров употребленных».
«Сама матушка[2], чаю, отменнее не выразила бы сию наиглавнейшую мысль, — одобрил себя Григорий Александрович. — Ноне закончить рескрипт и тут же — ей на подпись. Однако найдет, ох, непременно найдет, что поправить! Что ж, ум хорошо, а два — надежнее. Ведь бумага не столь мне, генерал-фельдмаршалу и генерал-губернатору Екатеринославскому и Таврическому, будет предназначаться — всем государям европейским. Рескрипт российской императрицы — сиречь манифест о навечном присоединении Крыма к державе нашей. Ну а на мне, когда секретнейший сей манифест апробирует государыня, будет лежать главное — указанное на бумаге обратить в явь. А до той поры рескрипт будет значиться волеизъявлением наисекретнейшим, дабы мне и моей армии развязать руки и предоставить волю неограниченную. Но эта-то воля — и страшная западня: хочу-стражду новых земель для России и немеркнущей в веках славы для себя, а в закладе — собственная голова. Так-то!..»
Еще в 1774 году — аккурат восемь лет тому назад — был сделан первый шаг к присоединению Крыма. Тогда по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору Турция возвратила России прежние завоевания Петра Великого. Но, сверх того, все татарские земли к северу от Черного моря, включая Крымское ханство, получили независимость от Порты.
Передавалась России и древняя Керчь, бывшая издавна «ключом от Крыма». Сие означало, что обеспечен свободный выход из Азовского моря в Черное. А чтобы тверже стоять в Причерноморье, России отходила и крепость Кинбурн близ устья Днепра. Таким образом, на юго-западе граница Российской державы пролегала по Южному Бугу, а на востоке по берегу реки Кубани.
Но что статьи послевоенного договора, коли война в сих новых пределах тлела, как уголья под золою в, казалось бы, уже потухшем костре, а то нет-нет да и прорывалась настоящим пламенем! Войска русские имели власть над сушею и водными пространствами, а душами людей, по-прежнему проживающих в тех краях, управляла власть религиозная, иначе говоря, власть той же Турции. Разве не знак неустранимой сей власти, коли, султан из Стамбула решает, кому, быть ханом в том же Крыму?
Посему и вспыхивали под золою зловещие уголья то в одном, то в другом конце полуострова, а еще тревожнее — перекидывались волнения на Кубань.
Так далее не могло продолжаться. Требовалось и укрепить военную силу в новых землях, и быстрее их осваивать и заселять. Чтобы не оставались сии пространства гуляй-полем, где раздолье для разбоя и набегов, а становились краем новых русских городов и крепостей.
Суворова[3] — вот кого определил Потемкин в начальники Кубанского, а вскоре и Крымского корпуса. Решительный и скорый генерал быстро и твердо установил порядок в Новороссии. И так же бурно заклокотала созидательная силушка самого светлейшего. Первым городом, что он заложил здесь, был Херсон в устье Днепра, названный так в честь первых в здешних местах греческих поселений.
То был вызов — новый город с крепостью, корабельными верфями и Адмиралтейств-коллегией невдалеке от мощного оттоманского форпоста — Очакова. А следом закладывался Севастополь в Крыму. Как сотоварищ Херсона намечался Николаев на Буге и главный оплот всего приращенного юга — Екатеринослав.
Все же по прошествии сих славных деяний ныне, с самого разбега нового, 1782 года, содеянное виделось светлейшему князю, фельдмаршалу и генерал-губернатору Новороссии лишь подступом к тому грандиозному и решительному, что следовало еще свершить.
Дабы Крым и Черное море стали целиком и навсегда российскими, следовало и все Причерноморье сделать российским тоже. А для сего очистить от давнего и коварного врага земли, что лежат и за Южным Бугом и Днестром — земли исконно славянские, греческие, и молдавские, подпавшие измором, истязаниями и разбоем под оттоманское иго.
Не изыдет само сие иго с лика тех земель и не станет прочного и надежного мира на новых русских землях, коли над ними, как зловещая тень, будет простираться десница Порты.
Но как сломать ту силу, как продвинуться хотя бы на шаг далее Херсона, скажем, взяв тот же неприступный Очаков? Тут мало и Суворова и Репнина. Тут даже и он сам, неограниченный властителе всех южных краев, генерал-фельдмаршал и вице-президент Военной коллегии, — не вся надежда и опора. Все должны решить сила и время. Пожалуй, в первую очередь могущественный и всепокоряющий бог Хронос, сиречь время по-русски…
В дверь кто-то робко постучался — раз и другой. И через несколько мгновений в чуть приоткрытую створку просунулась очаровательная, в золотых локонах головка.
— Катенька! Радость моя! Да как же можно, чтобы так вот — с нерешительностью, когда я тебе во всякую минуту несказанно рад? Ну заходи, счастье мое, мое золотце.
— Так я же теперь, любезный дяденька, дама… замужняя. Вроде не принято…
Господи, как она сейчас была хороша — небольшого роста, в белом атласном платье и с высоко взбитой прической, с большими серыми глазами, с ангельским милым личиком, его самая любимая племянница!
— А коли ты замужем, выходит, родному дяде и не рада?
— Ой, да что бы, милейший дяденька, как же можно, что я вдруг и переменилась к вам? Нет, теперь, после свадьбы, я вдруг особенно поняла, что от вас — никуда, что всею душою я — только с вами.
Ее личико с нежной белой кожей внезапно вспыхнуло, и она, подбежав к дяде, обхватила его могучую шею руками и упрятала головку на его широкой раскрытой груди. И он тут же осыпал ее страстными поцелуями.
— Погодите, милый, любимый, только не теперь, — слегка отстранилась она, вся еще трепещущая и взволнованная. — Скавронский намерен явиться к вам, потому и послал меня наперед. Хочет напомнить вашей светлости о месте, которое вы ему обещали, выдавая меня за него.
Потемкин прошелся по кабинету.
— Место, — негромко повторил он. — Помню, сказывал такое. И помню, в каких краях — за границею. Так, выходит, благодетельствуя твоему муженьку, определяя ему карьеру, я в ту же пору лишусь тебя, моего самого дорогого бриллианта, моего сокровища?
Последние слова прозвучали на такой высокой, на такой гневной ноте, что Катенька снова кинулась к нему.
— Нет-нет, и не думайте! Вся моя жизнь — это вы. И я никуда от вас, ни ногою — ни в какие заграницы и ни в какие райские места. Вот как перед Богом…
«А ведь правду говорит, — вскинул голову. Григорий Александрович. — Нежная, ласковая, с виду — самая нерешительная среди всех своих сестер, поскольку самая молодая, а надо же — такая в ней решимость. Видать, неспроста, коли так. Выходит, любит всею душою и всею плотью. И не лукавила, не притворялась, когда шептала в объятьях сердечные слова. Да, не так, как ее же сестрица Варвара, — отдавалась, а сама на уме держала свое: чтобы я быстрее подобрал ей выгодного женишка».
Память хранила ее, Варварины, слова, кои она поверяла своим, казалось, искренним записочкам к нему: «Я никак не думала, что вы, осердясь, ушли вчерась от меня. Хорошо, батюшка, положим, что вам досадила: да ведь вы знаете, когда я разозлюсь, то сама себя не помню; к тому же прежде я получила письмо от бабушки, которое меня взбесило… Душка моя, ангел мой, не взыщи, сокровище мое бесценное… Целую ножки твои — дочка твоя, кошечка Гришенькина…»
И как тут было по такому или иному случаю не ответить, отдавая всю свою душу ей, что и в своенравности была желанной?
«Моя жизнь милая, улыбочка моя милая, Варенька любезная, ты живешь в моем сердце и будешь жить вечно…»
Не вышло, как задумывал. Три года назад настояла, чтобы немедля обвенчал с молодым красавцем князем Голицыным Сергеем, да еще чтобы полк ему дал из самых наилучших и имения в губернии Саратовской.
И тотчас после венчания как отрубила: буду мужу своему женою верною, хозяйкою дома примерною и любящей матерью своих — от него, от мужа — детей.
Словно не было у нее до сего момента иных плодов любви, что дядиной любовью были зачаты и его же, дядиными, стараниями были пристроены где-то на стороне, дабы не оказаться помехой уже законной замужней жизни.
Когда увозил из родовой смоленской глуши в столичный Санкт-Петербург всех четырех девиц, горел только одною мыслию — каждой из них уготовить счастливое будущее. И родной сестре Марфе Александровне Энгельгардт говорил: «Обеспечу всем твоим дочерям, а моим родным племянницам такую судьбу, что лишь в сказке может сказаться».
Матушке государыне сестры сразу же приглянулись, и она их зачислила в штат фрейлин. Одна другой казались краше, и любая — на свой манер, со своим шармом.
Старшая, Александра, Санечка, высокая, стройная, с длинной лебяжьей шеей и грацией королевы, оказалась на редкость умна. И умом этим, врожденным чутьем, что ли, вскоре сумела заполнить пробелы провинциального воспитания. Вторая, Варенька, та покорила взрывным темпераментом, за которым ни Потемкину, ни самой императрице, женщине проницательной и умнейшей, так и не удалось разглядеть холодный расчет. Татьяна и поначалу не скрывала своих устремлений — сразу настроила себя на охоту за женихами. Выскочила за некоего смазливого полковника и вскоре Стала искать новые увлечения.
Кроме Варвары дяденька быстро связал себя с тою, что с царственными повадками, — Санечкой. И не заметил, как она, отдавшись ему телом, без остатка и всерьез отдала свою нежную и добрую душу.
Сия открытость и доброта, лишенные всякого притворства и кокетства, и охладили дядюшку. Ценя ее искреннюю привязанность, все более и более обращавшуюся в верность и преданность, Григорий Александрович в то же время стал охладевать к ней как к женщине.
А может, всему виною, что усмотрел раскрывающиеся другие бутоны — Танюшу, а затем и Катеньку?
Ладно, Танюша — куда ни шло, вешалась на каждого. Но вот Катенька, Катюша, самая младшенькая, тихая и бессловесная, вся с виду точно замороженная ледышка, кою и отогреть-то, казалось, нельзя, как она вошла в его сердце и оказалась самой желанной?
Бывает любовь-страсть, любовь-каприз или коварство. Тут же с ее стороны, наверное, проявилась любовь-жалость. Да, именно так Катенька оценивала свое отношение к дядюшке: любила его за то, что он ее полюбил, и только хотела одного — угодить ему, не сделать ему такого, из-за чего бы он расстроился и стал переживать.
К тому же и по натуре своей она была в отличие от всех ее сестер, можно сказать, ленивой и совершенно лишенной всяческой собственной энергии, собственных расчетов и желаний.
Однако по отношению к младшей, Катеньке, у императрицы были свои планы.
До Екатерины доходило, что амурные отношения ее всемогущего фаворита с собственными племянницами зашли уже слишком далеко.
— У нас с тобою, Гришенька, давний уже, уговор: ни я, ни ты не в претензиях к тому, что у каждого из нас случается на стороне. Видно, что и к племянницам своим ты не чисто родственные чувства питаешь. Об одном молю: Катеньку, тезку мою, не попорть. У меня на нее, ангела, свои виды.
Знал Потемкин: Катька большая мечтала женить на Катеньке Энгельгардт подраставшего графа Бобринского, сына своего от Григория Орлова[4]. Императрице хотелось, чтобы ее кровь и кровь Григория Потемкина объединились. Но государыня опоздала — и младшая оказалась на той же стезе, что и все остальные. Потому и решено было: пока не поздно, двух оставшихся — замуж!
Санечке, подобрал Ксаверия Браницкого. Человека в годах, зато графа и гетмана коронного с богатством неописуемым.
И для Катеньки вышел тоже граф Скавронский. Тоже с состоянием несметным. И надо же такому случиться — царских, так сказать, кровей.
Да, как хотела Екатерина Вторая, так и произошло: кровь светлейшего князя Потемкина соединилась в сем браке с кровями царскими — Екатерины Первой, супруги Петра Великого[5].
Известно было: вторая жена Петра была до их нечаянной встречи Мартой, то ли литовской, то ли курляндской простою крестьянкой, находившейся в услужении у обыкновенного деревенского пастыря. Когда уже Марта стала Екатериною Алексеевною, императрицею русской, разыскали власти и ее двоих братьев и двух сестер, тоже, как и она когда-то, простых крестьян. Так началось возвышение новой графской фамилии — Скавронских.
Особенно обласкала родню, своих двоюродных братьев и сестер, императрица Елизавета Петровна[6]. Они, родичи, от власти стояли как бы в стороне, но почести и богатства их стороною не обходили. Так, граф Павел Мартынович Скавронский оказался наследником преогромнейшего состояния, когда умер его отец, Мартын Карлович, генерал-аншеф, обер-гофмейстер императорского двора и андреевский кавалер.
Юный граф как раз вернулся из Италии, где в последние годы жил со своею матерью Марией Николаевной, по рождению баронессой Строгановой.
Жених был богат, знатен, хотя, следует признаться, с виду очень уж захудалый и болезненный.
Потемкин поморщился, когда узнал, что до молодого графа дошло о порочной молодости Катеньки. Потому сразу пошел ва-банк — пообещал завидное место не ниже чем посланника где-нибудь в италийских краях, так милых сердцу молодого графа. И удивился, когда не скрыл радости жених, заискивающе схватил руку и хотел ее поднести к губам.
— Ни к чему сие, — отдернул руку светлейший. — Сие расположение к вам ради вашего же блага и счастия моей любимой названой дочери, для коей я ничего не пожалею.
— Вижу, вижу, ваша светлость. — Бледное и болезненное лицо графа оживилось. — А уж я, поверьте… За мною Катенька будет жить как принцесса…
Обе свадьбы — Санечкину и Катеньки — играли в один день, двенадцатого ноября 1781 года. Торжества были сначала в Эрмитаже Зимнего дворца в присутствии императрицы и всего двора, затем в потемкинском Аничковом дворце. Потом продолжались на загородной даче Григория Александровича, откуда теперь, в самом начале нового, 1782 года, сразу после Рождества, молодые и гости начали разъезжаться по своим пристанищам.
Самыми первыми упорхнули княгиня Варвара и князь Сергей Голицын. Они были довольны приемом у императрицы и у дяди и, обласканные, направились в свои саратовские края.
С явной неохотой, которую не старалась даже скрыть; уезжала графиня Александра Браницкая, нежная и преданная дяде. Санечка, со своим уже тронутым годами, некрасивым и плешивым гетманом Ксаверием.
Забегая вперед, следует сказать, что в Белой Церкви, под Киевом, у Браницких будет всякий раз останавливаться Григорий Александрович на своем пути в причерноморские края. И ее, Санечку, он подчас станет брать с собою в Херсон и другие новые города, где будут размещаться его походные ставки.
Кстати, Александра Браницкая окажется единственным родным и близким Потемкину существом в его последний, смертный, час. Занемогшего в дороге, его вынесут из кареты и положат, по его же велению, на ковре посреди степи. И Санечка бросится с рыданиями ему на грудь, неутешная в горе, которым завершится ее давняя и тайная любовь…
Теперь же в загородном дворце — только Катенька с мужем.
— Заходи с ним, Скавронским, — запахивая халат и опоясываясь кушаком, промолвил Потемкин.
За половину зимы молодой граф еще более сдал. А что особенно бросилось в глаза, привязалась грудная хворь — надсадный кашель.
— Тебе бы, граф, в теплые края, где горы и море, — встретил его Григорий Александрович.
— И не говорите, ваша светлость, — старался улыбнуться, отчего лицо сразу напомнило сморщенную обезьянью мордашку. — Только предамся мечтам, и вот они, пред моим внутренним взором — величавый Везувий и пронизанный солнцем, весь из белого камня Неаполь.
— С чего ж только в мечтах? — вырвалось у Потемкина. — Что посещает тебя в дремах, может вскоре обернуться и явью. Днями говорил о тебе, граф, с государынею нашею — щедрою и не устающею делать добро другим. Так вот — всемилостиво просила сообщить, что твердо обещает даровать тебе место посланника, сиречь полномочного министра Российской державы в королевстве Неаполитанском.
— Да пребудет в веках матушка наша всемилостнвица! — воскликнул Павел Мартынович и подался вперед, чтобы и на сей раз — к руке.
Только и теперь был остановлен. Пальцы, унизанные перстнями с алмазами и бриллиантами, сами прикоснулись к плечу графа.
— Благодарность свою выразишь ее величеству, когда дело определится и государыня пригласит тебя, новоиспеченного посла, на аудиенцию. Но тут вот с Катенькой как? Пока будешь там, в италийских краях, обустраиваться и обживаться, не пользительнее ли для ее хрупкого здоровья пересидеть под моим отеческим приглядом? Да, собственно говоря, не столь под моим — я-то днями направляюсь к себе в Херсон, а вот государыня-матушка несказанно будет рада, ежели Катенька украсит ее общество.
Тут Павел Мартынович закатил глаза, выражая тем самым неподдельный восторг, и из груди его, прерываемая внезапным кашлем, вырвалась некая вокальная рулада.
— Прощения прошу, кашель замучил, — объяснил он. — Это я взял первые ноты сонаты, которую вознамерился сочинить и преподнести в знак своего величайшего верноподданнического чувства нашей государыне Екатерине Алексеевне. Не правда ли, торжественное начало? Ах, как я счастлив! Как счастливы мы с тобою оба, моя несравненная Катенька!
Он обратил любовный взгляд на юную жену и, взяв давешнюю ноту, счастливый, выбежал из кабинета.
— О, как он успел мне надоесть, любезный дяденька, со своими ариями! — сморщила очаровательный носик Катенька. — Одно дело, что не люб он мне вовсе, а другое — и стыдно за него. Передавали мне, что все в Италии смеялись над ним, когда воображал он там из себя непревзойденного оперного певца и одаренного сочинителя музыки. Срам, да и только! Не знаешь, куда глаза отвести, когда за спиною судачат о муже такое. А это вы славно придумали про общество императрицы. А на самом деле я остануся подле вас, не правда ли?
Потемкин не успел ничего сказать, как вошел камердинер и доложил:
— К вашей светлости княжна Грузинская.
— Которая, говоришь, княжна? — переспросил и сам себе ответил. — Ах, эта, фаворитка князя Александра Михайловича… Проси.
Глава вторая
Ни одна красавица Москвы давно уже не вызывала такого бурного всеобщего восхищения, как княжна Анна Александровна Грузинская. Высокая, притом стройная, как тростник, с большими темными, с поволокою, глазами на чуть смуглом, точнее сказать, слегка матового цвета лице, напоминавшем благородный мрамор, она с первого же взгляда поражала своей необычностью всякого, кто ее видел.
— В кругу даже самых прелестных и милых русских или даже польских, в общем славянских, женских лиц княжна Грузинская поражала именно необычной в северных краях, что называется, восточной изюминкой. Но одного этого экзотического качества, вероятно, оказалось бы недостаточно, чтобы она приводила в оцепенение и заметный душевный трепет все мужское население первопрестольной.
Шарм и очарование сей красавицы заключались именно в соединении, в каком-то тесном и естественном слиянии ее внешнего необычного восточного облика с поразительно глубоким и резким умом, мягкости и доброты с твердостью характера, о чем говорили и выражение ее глаз, и манера вести беседу — легко и приятно и в то же время не избегая прямоты и даже резкости суждений.
В пору, о которой мы ведем речь, княжне шел всего девятнадцатый год, хотя она не то чтобы выглядела старше своего возраста, но производила впечатление самостоятельной, обладающей определенностью и твердостью своих убеждений женщины.
Дом, в котором с самых молодых лет она была принята и, можно сказать, считалась совершенно своею, был всем известный в Москве дом на Девичьем поле знатного еще с елизаветинских времен вельможи князя Александра Михайловича Голицына. Сей князь был когда-то чрезвычайным и полномочным послом России в Париже, а затем в Лондоне, при матушке Екатерине Алексеевне стал вице-канцлером империи, сенатором и обер-камергером. И лишь с недавних пор, выйдя в отставку, поселился в любезной сердцу Белокаменной.
Что свело старого князя с молодою особой? Москва, как и Санкт-Петербург, падкая на сплетни и пересуды, готова была приписать княжне привычную для осьмнадцатого века и в глазах двора будто бы даже вовсе не зазорную роль приживалки и содержанки, то бишь фаворитки. С сей стороны нам многое неизвестно. Посему не пойдем вслед за разнородными догадками и предположениями, а лучше отметим то, что вернее может объяснить, почему молодая грузинская княжна оказалась своею в аристократическом окружении сначала первой, а затем и второй российской столицы.
Еще до елизаветинского управления, в первой четверти восемнадцатого столетия, Вахтанг Шестой, спасаясь от турецкого нашествия, вынужден был покинуть родную Грузию и искать покровительства и защиты у России. С правителем Грузии под надежное русское крыло пришли его сыновья и более тысячи трехсот дворян — вся, можно сказать, знать древнего и гордого народа. Единые по вере православные братья образовали свои поселения близ Астрахани и самую мощную свою колонию в Москве.
Один из сыновей Вахтанга, Бакар, сразу вступил в русскую военную службу и закончил ее генерал-майором. Его сын, Александр Бакарович, тоже пошел по отцовскому пути: будучи, как и отец, грузинским царевичем, стал капитаном русской гвардии и женился на княжне Дарье Александровне Меншиковой. От сего брака и произошла в Москве внучка и дочь царевичей грузинских — Анна Александровна, хотя и стала значиться княжной Грузинской.
Русская знать, как, впрочем, и дворянство во многих иных европейских странах, давно уже связала свои генеалогические древа с ветвями иноземными. Достаточно упомянуть, что самые что ни на есть русские аристократы Голицыны пошли от литовского великокняжеского корня[7]. Естественно, стали соединяться, входить в русскую жизнь, обретя новую по духу и вере родину, лучшие сыны Грузии.
Так частичкою нового отечества стала дочь Грузии, княжна Анна Александровна. Уже, скажем, даже наполовину природно русская — княжна и по отцовской и по материнской линии. Что же было не считать ее своею многим самым знатным домам России, не открывать перед нею широко двери, почитая ее, как в дальнейшем и произошло, самым желанным членом семейства?
На обе свадьбы, что проходили у — светлейшего, куда сошелся весь верх Петербурга, гости прибыл и и из Москвы. Князь Александр Михайлович, понятно, был зван в первую очередь. Но, шестидесятилетний, он не отважился на утомительное путешествие и еще более утомительные торжества у государыни и затем у не звавшего меры в расточительстве и празднествах светлейшего князя-Таврического.
Но Голицыны прибыли: как же без сих столпов русского дворянства, коли через их представителя, князя Сергея Федоровича, род их сплетается с потемкинско-энгельгардтовской ветвью?
Анна Александровна, скорее всего, приехала в столицу в обществе Сергея Федоровича и Варвары Голицыных, которым старый князь, вице-канцлер, и поручил опекать ее и непременно посодействовать ей в одном важном предприятии.
Дело это, собственно говоря, выражено было в письме Александра Михайловича, адресованном его светлости генерал-фельдмаршалу и вице-президенту Военной коллегии Григорию Александровичу Потемкину.
Княжна Грузинская была представлена светлейшему Сергеем Голицыным и передала ему письмо, привезенное ею из Москвы.
Молодая гостья поразила всесильного фаворита в такой степени, что он, как бы забыв на миг привычное свое окружение, всецело подпал под ее очарование. Он отвел ее к кушетке, где сел рядом с нею, и открыл Письмо старого князя.
— Полагаю, оно касается вас, коли вы его мне привезли, — старался улыбнуться он. — Я не ошибаюсь, княжна?
— Простите, ваша светлость, но не в моих правилах прибегать к протекциям, касающимся лично до меня. Но сделать добро другим, кто нуждается в содействии и помощи, — в моем обыкновении. Впрочем, как, безусловно, и в обыкновении вашей светлости.
— Надеюсь, что вы в этом сможете убедиться. Но для этого позвольте мне пробежать послание любезного Александра Михайловича, — произнес Потемкин и через какую-то минуту: — Как понял я из сих строчек, князь и вы, очаровательная княжна, хотели бы обратиться к моему содействию записать вашего только что появившегося на свет дорогого племянника в какой-либо полк? Дабы годам к десяти он стал бы уже капитаном или полковником.
— О нет, ваша светлость, мой племянник уже теперь может стать в строй в качестве настоящего солдата.
— У такой юной княжны и такой взрослый племянник? — выразил искреннее удивление Григорий Александрович. — Я не ошибусь, если скажу: вы моложе моей самой младшей племянницы, нынешней невесты, Катеньки. Надеюсь, вы не станете скрывать вашего возраста, поскольку — такие юные, как ваши, лета могут составлять для любой женщины один лишь предмет гордости.
— Мне пошел девятнадцатый. Моему же племяннику Петру вскоре будет семнадцать.
— Ах, если бы я не был так стар, очаровательная княжна!.. — картинно вздохнул Потемкин. — Для воина, у которого большею частью жизни нет и крыши над головою, мои сорок три — уже старость. Не пожалеете, что любимого племянника отдаете в безжалостные руки Марса? Объятия сего воинственного бога могут не токмо безвременно состарить, но ненароком и бессрочно укоротить саму жизнь.
— Наш с Петром пращур, грузинский царь Вахтанг, — в глубине черных глаз княжны вдруг вспыхнул огонь, — был доблестным и отважным воином. Потому мечта моего племянника — стать таким же мужественным и храбрым, как его прадед, и с честью служить своему отечеству — России.
— Я сделаю для вас все, о чем просите. К тому же всегда буду счастлив видеть вас у себя, милая княжна, — заключил свой первый же разговор с нею Потемкин.
И вот Анна Грузинская вновь перед ним.
— Как кстати! — галантно прикоснулся губами к руке княжны красавец атлет, которого нисколько не портило то, что он был одноглаз. — Если бы вы сию же минуту не прибыли ко мне собственною персоной, я собирался посылать за вами курьера. Фельдъегерь давно уже в карете и только ждет моего сигнала.
Он сделал знак кому-то из многочисленных своих адъютантов, и почти тут же офицер, лихой франт, щелкнул каблуками.
— Скачи на Царицын Луг, в дом, что снимает ее сиятельство княжна Анна Александровна. Тотчас доставишь из дома ко мне князя Багратиона. Кажется, так, княжна, зовут вашего племянника?
— Но, ваша светлость, позвольте!.. Как же это — так внезапно и неожиданно? — возразила княжна.
— Говорите, внезапно и неожиданно? — захохотал Потемкин. — Так каким же солдатом будет князь Багратион, ежели не станет так же внезапно, как снег на голову, атаковать неприятеля? А вы, княжна, подарите мне первый танец, пока мой курьер выполняет наше с вами поручение. У меня сегодня бал. И лучшим украшением его непременно явитесь вы, моя прелестная гостья…
Появление потемкинского курьера в апартаментах княжны Грузинской вызвало сущий переполох. Особенно растерялась прислуга, и вместе с нею конечно же сам князь Петр Багратион.
«Как, куда? К самому князю Таврическому, и немедля? — возникли в его голове пугающие мысли. — Но почему без тети, и к тому же в чем я предстану перед светлейшим?»
Пожалуй, сия последняя причина пугала пуще всего остального. Как только вслед за Анной Александровной юный Багратион прибыл в Санкт-Петербург, первым ее, тетиным, распоряжением было заказать ему выходные пары.
Господи! И надо же было мальчику из своего далекого Кизляра, с самого Кавказа, приехать в каком-то нелепом длиннополом бешмете с каким-то смешным, если не сказать дурацким, башлыком! И все это из грубого верблюжьего сукна, к тому же хранившего запах не то животного пота, не то какого-то сала.
Камзолы, панталоны, чулки — все было заказано у лучших столичных портных. Конечно, зять, Иван Александрович, мог бы пошить приличную одежду для сына дома, в Кизляре, или в ином близлежащем к Кавказу месте. Полковничьего содержания, поди, достало бы. Но в последние годы пристрастился не такой уж и старый князь к дарам Бахуса, а сие могло и весь дом пустить прахом. Потому и отважилась младшая сестра покойной жены князя Ивана вызволить из родного, грозившего лишь бедами очага пытливого, подающего немалые надежды юношу, чтобы уверенно дать ему достойное направление в жизни.
Посыльный, передав наказ светлейшего, выбежал к стоявшей у подъезда карете на санном ходу.
— Жду внизу, ваше сиятельство! — только и крикнул, выбегая.
Что ж было делать? И тогда старший лакей Карелин бросил взгляд на нового своего барчука. Рост, стать — как и у него. А ну долой со своего плеча только что справленный кафтан!
— Ваше сиятельство; не забрезгуйте — примерьте. Как влитой на вас будет сидеть.
И впрямь кафтан оказался впору. Пришлось позаимствовать и лакейские панталоны с камзолом. Все чин чином пришлось. И как в одно мгновение изменился пришелец с далекого Кавказа! То был худ, черен, щупл. Теперь же — ловок, благообразен, хотя взгляд из-под густых бровей и из-под непокорной шапки вьющихся, черных как смоль волос по-прежнему насторожен и диковат.
Возок с ходу взял бег. Трое сытых лошадей, морды в пене, на козлах — кучер в ливрее да на боках кареты — потемкинский герб! Боже праведный, да думал ли он когда-либо, что так — с ветерком, вскачь, когда все встречные — в стороны, — он, сын Кавказских гор, будет мчать по улицам царской столицы!
Не углядел, как кончился город. Замелькали по сторонам верстовые столбы, и вместо дворцов — каменных, отделанных мрамором и гранитом — стали мелькать деревянные дома, тоже не простые, богатые, скорее даже затейливые.
Дачи. Здесь летом живут большею частью те, кто сейчас заполняет те самые дворцы, что остались позади их кареты.
А вот дворец, да еще какой! Слева от дороги — двухэтажное каменное строение с четырехугольными башнями с двух сторон. На башнях — часы. А к дому ведет широкая терраса, по которой они въехали.
Как только вступил в первый же зал — зажмурил глаза от неожиданного света и блеска. Люстры — в сотни свечей, блеск от расшитых золотом мундиров, сверкание бриллиантов на платьях дам.
Его родная тетя решительно и в то же время величаво шла навстречу ему через весь зал. И на лице ее — ни тени изумления по поводу того, как вырядился он, племянник. Взяла за руку и подвела к гигантскому человеку.
— Ваша светлость, князь Петр Багратион.
Глаз Потемкина мгновенно обежал щуплую фигурку, толстые губы готовы были выказать то ли удивление, то ли откровенное разочарование. Но тут взгляд словно натолкнулся на что-то неприступное, точна сталь, — так, не мигая, смотрели на светлейшего два больших черных глаза из-под курчавой, чуть ниспадавшей на высокий чистый лоб шевелюры.
Маленькая, изящная ладонь юноши провалилась в глубине потемкинской ладони. Однако, к удивлению своему, Григорий Александрович тотчас ощутил, как тонкие, длинные и гибкие пальцы юного князя сильно и крепко сжали его собственную руку.
«Однако же!» — отметил про себя Потемкин, в его грубо вылепленная физиономия осветилась дружескою улыбкою.
— Надеюсь, что милая княжна не будет обойдена вниманием моих любезных гостей, если мы с вами, любезный князь, подымемся в мой кабинет? А вот в кавалеры… — Григорий Александрович сделал широкий жест рукою, показывая, как сразу несколько кавалергардов и молодой гусарский полковник бросились к Анне Александровне.
В кабинете Потемкин тотчас сбросил мундир и накинул на плечи свой халатный затрапез.
— Глядите сюда, князь. Одному из первых намерен вам показать.
Снятые откуда-то с высоких полок, на длинном столе у стены выстроились наклеенные на картон цветные рисунки.
— Что это? — Голос светлейшего был резок.
— Солдаты иноземных войск? — неуверенно произнес Багратион.
— Дудки! Сие — воины будущей в скором времени российской армии. Видите: светло-зеленая форма — инфантерия, синяя — кавалерия. Красный цвет — у артиллеристов, белый — флот. Но и цвета — не весь фокус!
Рядом, на столе, лежал чистый лист, и Потемкин, схватив уголек, резкими и четкими штрихами начертал абрис мужской головы.
— Каковы нынче украшения сей капители? — произнес светлейший, чуть отпрянув от стола и пристально, как бы с вызовом, всмотрелся в Багратиона.
Юноша быстро перенял у Потемкина уголек и короткими движениями руки пририсовал на листе под висками завитые букли и сзади длинную косу.
— Ого! — восхитился Григорий Александрович. — Учились рисованию, у кого?
— Я сам, — неохотно признался Петр.
— Однако отменно способны. И главное, видна манера. Похвально, похвально, князь! Но — к делу. Итак, сия коса, или — по-ихнему, по-прусски, откуда мы переняли сей причиндал, — гарбейтель. А по-нашему, по-русски рассадник вшей. Далее — пукли. Нашто в полках развели парикмахерские? Нашто пукли в бумажки, яки конфеты, завертывать, будто солдат — курва старая? Завиваться да пудриться — воинов ли дело? А ведь у солдат да офицеров ни времени; ни кауферов нету, чтобы голову по парикмахерским правилам содержать.
Он снова схватил пальцами уголек и ловко отсек на рисунке косу, букли и парик.
— Голову полезно только мыть и чесать, нежели отягощать пудрою, салом, мукою и шпильками. Туалет солдатский должен быть таков: встал — и готов! А еще — другой резон…
Рука Григория Александровича потянулась к противоположному краю стола, где громоздились стопками какие-то книги. Перебрав верхние, выудил из-под них листки и ткнул в них пальцем.
— Тут, князь, я на досуге вывел интересную и многозначительную для государственной казны цифирь. Фунт муки мелкого помола — вместо пудры — стоит четыре копейки. Дальше: сало для напомаживания голов да еще ленточки в косы — один рубль и пять копеек. А чулки возьми, от коих никакого проку?.. Коротко, копеечки обращаются в рублики, те — в сотни и тысячи… Кто платит за все сии игрушки и украшательства? Мужик, что солдата и так должен кормить, поить и одевать. Так что одевать — с умом. И не токмо чтоб дешево. То — особ статья. Главное — чтоб удобно и целесообразно.
Пошарив на верхней полке, светлейший достал еще три-четыре рисунка.
— Не закончил еще — сам ведь малюю. Другому на словах не передашь, что держишь в голове, что зародилось в рассуждении. Я тут как раз удобство хочу отразить.
На пашпортах — короткие куртки, шаровары, удобные башмаки.
— Ну да, зачем же солдату камзолы до колен? — Князь Петр показал на собственное, то есть взятое напрокат, одеяние, отчего возглас его приобрел непритворную убедительность. — Короткая куртка — и бежать и прыгать сподручнее. То шаровары. А чулки? И впрямь только дамам…
— Спасибо, князь. То и хотел от тебя услышать, — вдруг перешел на «ты» светлейший. — Рад, что, еще не став в строй, обнаружил трезвые и умные резоны. Хочешь у меня служить? В Херсон с собою возьму. Рисовать — способен. А как с другими науками?
Краска смущения залила лицо Багратиона.
— Да я только дома и учился — где сам по книгам, где у соседей.
Губы светлейшего скорчились в нескрываемую гримасу.
— Н-да, не густо. А языки? Иноземные или, к примеру, звучные эллинский и латинский?
— В Кизляре у нас и вокруг — армяне, чеченцы, другие горцы. По-ихнему могу. Французскому начал учиться нынче у тети, в Москве. Где ж было сыскать хороших наставников в наших глухих краях?
Глушь. Окраина. Коли бы не случай — из смоленских, тоже, почитай, глухих мест отроком попасть в Москву, остался бы и он, Гришка Потемкин, неучем. В Белокаменной же дядя, взявший от отца на воспитание, отдал мальчонку в пансион. А тут и первый набор в только что открывшийся по велению императрицы Елизаветы Петровны Московский университет. Не все в нем пришлось по душе и нраву, потому вскоре и вышел из него. Но одно вынес из той учебы — мог по трое суток, не емши и не спамши, читать книгу за книгой… Геометрию полюбил, рисование — тоже. И по-французски стал болтать бойко, хотя более всего по душе пришлась речь эллинская… Жаль, что княжна Грузинская, вернее, ее отец и мать не выписали сего, видно, даровитого юнца ранее в Белокаменную. Нет слов, славно бы преуспел в науках сей молодой князь. А ныне…
— При своей персоне намерение имею держать людей, во многих науках зело сведущих, — произнес вслух Потемкин. — А посему…
— Осмелюсь заметить вашей светлости, — твердо заявил Багратион, — я не устремлен к искательству места. Все, что мне надобно, — солдатская лямка. Чтобы всю единственно любезную мне с детства военную науку — с самых азов. Так что, если на то будет ваше благословение, определите в любой полк.
Генерал-фельдмаршал обратил снова взор на хрупкую, тонкую фигурку, хотел, как и давеча в зале, что-то такое ответствовать, выражая явное неудовольствие, но вновь встретился с твердым взглядом черных глаз.
— Что ж, быть по-твоему, князь. Волею, данной мне государыней императрицей как вице-президенту Военной, коллегии, повелю зачислить тебя на штатное место сержанта в Кавказский мушкетерский полк.
Глава третья
— Слушай сюда, парень! Вот гляди, как делаю я, и все артикулы повторяй за мною.
Подтянутый, хотя уже в летах, капрал перенял у мушкетера ружье и взял его на изготовку.
— Таперича что следует произвести в первый черед?
Молодой солдат округло выкатил зенки и выпалил по заученному:
— Значится, скусить патрон так, чтобы в зубах остался чуток пороху, чтоб потом ентот порох — на полку, а сам патрон опорожнить в дуло.
— Так, — крякнул нетерпеливо капрал. — А следом какой прием ты упустил?
— Шомпол! Ентим шомполом и затолочь порох во внутрях.
Руки — за спину, и капрал лениво, явно блюдя собственное достоинство, прошелся вокруг новобранца. Иные солдаты, перетаптываясь в строю с ноги на ногу, весело следили за происходящим, зная наперед, чем окончится обучение неумехи.
— Говоришь, во внутрях. Енто что же — толкать, как крупу в ступе? Ты мне так казенное имущество враз спортишь, и тебе, неразумному, все пальцы оторвет. Прибивай шомполом одним махом! И енто не вся наука. Чего еще, самое главное, позабыл, допрежь курок нажать?
— Тою шомполу назад вытягнугь, — поспешно выпалил парень.
— Дура! А пулю, что должна поразить неприятеля, куда дел? Проглотил вместе со своим глупым языком? У-у, неумеха! Помни: забудешь пулю, либо, разиня, уронишь патрон, али два раза случится осечка — палок всыплю!
— Так бают здеся, Потемкин наказал: солдат не бить.
— Наказал! А каждый офицер — сам себе Потемкин. Вон наш ротный был — из шлепанцев и халата не вылезал. Выходит с трубкою на плац и — зырк, зырк — кого бы ему нонче в жертву взять. У того — пукля помялась, когда спал, у другого крысы ночью косу отгрызли — салом ведь смазана… Таперича — другое. Видел уже нашего чернявого? Ентот в науках — зверь: и себя до пота загоняет, и солдата до бессилия доведет. А чего для? Чтобы таперя, выбившись из сил, солдат в сражении, жизнь свою сохранив, супостата сподручен был намертво сразить. И пулею и штыком — всем, на что способен и чему обучен. Так-то. Да вот он и сам — легок на помине.
От палатки, что стояла недалече, шагах в полутораста, легко и споро шел стройный офицер. Был он молод, а фигурою — словно совсем уж отрок, так тонок и гибок.
— Здорово, молодцы!
— Здравия желаем, ваше благородь…
— Как ночевали? Кашу поели? Тогда — равняй строй… Смир-на! Чем занимались с новобранцами, капрал? Ага, спасибо. Теперь сам проверю.
Петр Багратион подошел к новичку:
— Вчера был занят, с тобою не успел познакомиться. Откуда и за что направлен к нам?
— Так меня, ваш бродь, полковник обменял на какого-то мушкетера. Бают, был он цирюльником. Так вот, другому полковнику оказался нужным брадобрей, а вашему, значится, я. Чтоб сапоги ладил.
— Сапоги — важная вещь. Без них что солдат, что офицер, считай, без ног. Но сапожник ты или пахарь, а встал в строй под знамя — солдат! А ну, вскинь ружье. Заря-жай!
Все сразу заладилось у солдата. Но в какой-то момент дрожь вошла в пальцы, и порох — мимо дула.
— И-эх, растяпа, твою под корень!.. — подскочил капрал. — Ваш бродь, его бы за провинность — на сутки под ружье и — с полной выкладкой!
В бездонной черноте Багратионовых глаз проскочили молнией искорки.
— Учить! До тех пор учить, Тихоныч, пока не станет он, новичок, как и ты сам, капрал, знающ и сноровист… А сейчас слушай меня: к атаке изготовьсь! В штыки! Руби, коли!
Не заметил, как, увлеченный, оказался вместе со своими солдатами чуть ли не в полуверсте от палаточного городка, как раз на дороге, уже изрядно намеченной в степи десятками и сотнями воинских повозок. В правой руке — шпага, в левой — снятый с пояса офицерский шарф, словно бы знамя. На смуглых скулах — румянец, глаза пылают, в курчавых волосах на голове черт-те как оказавшиеся стебельки ковыля.
— Кто таков? С чего беготня? — услышал голос фальцетом.
Перед ним на дрожках с вожжами в руке человек в белой нижней рубахе. Лицо худющее — кожа да кости, на голове седой кок.
«Да это же он, Суворов!» Кровь туго ударила в виски. И тут же — ощущение радости и счастья, кои так и вырвались в ответе:
— Подпоручик князь Петр Багратион, ваше высокопревосходительство! Полуротою — атака в штыки.
— Готовишь орлов к штурму, князь Петр?
— За тем и прибыли в сю степь с кавказской линии, чтобы Очаков брать!
— Молодец, подпоручик. И вы все, орлы, — выше похвал. — Суворов выскочил из дрожек и заходил быстрыми шагами перед шеренгой. — На штурм — бегом! Поспешай вперед — отставших не ждут. Стреляй редко, да метко. Пуля обмишулится, зато штык — никогда. Посему — как, изловчившись, вернее победить?
Как внезапно сорвался с дрожек и стал стремительно мерить свой шаг, так же неожиданно замер как вкопанный.
— Ну, кто у тебя, князь Петр, самый смышленый?
Багратион выкликнул:
— Тихоныч, ответствуй их высокопревосходительству.
— Маневр таков, ваше высокопревосходительство: беречь пулю в дуле на особ случай, а сам орудуй штыком, коли сошлись уже в лоб с неприятелем.
— Верно! — вновь побежал вприпрыжку вдоль строя генерал-аншеф. — Трое наскачут: первого заколи, второго застрели, а третьему опять же штыком карачун. А там — ломи через волчьи ямы, прыгай через палисады, спускайся в ров, ставь лестницы — и на стены. Ура! Крепость наша!
— Так и Очаков будем брать? — сам удивился своей смелости сапожник, обмененный на цирюльника.
— Только так — штурм, штурм, штурм! — подбежал к солдату Суворов и, быстро стиснув его за плечи, стремительно отошел. — Иначе зачем мы здесь? Осада изнурительная скорее нас изнурит, а не турок. Штурм — да, там будет кровь. Но ежели сиднем сидеть под очаковскими стенами, ожидая, когда турки передохнут, сами от болезней и от их бусурманских вылазок потеряем в два, три, если не в десяток раз более, нежели при решительной атаке.
Последние слова Суворова заглушили солдатские возгласы:
— Верно, отец родной!
— Кой черт нам здеся, в степу, ждать у моря погоды?
— Таперича — весна. А зачнет степь летом зноем дышать? А ежели и в зиму войдем? Лошадей от голода пожрем, все повозки на костры порастащим…
Довольный, Суворов петухом глянул на солдат и их командира.
— Спасибо, князь Петр, за твоих солдат. У нас с вами единый выбор — Очаков брать, и немедля! Остается мне, дураку, своим лбом стену там прошибать. — Суворов оборотился в сторону лагеря, где выделялись большущими своими размерами и пестротою раскраски шатры Потемкина и его многочисленной свиты. — А сии бастионы, видать, покрепче очаковских. Ну да и я не лыком шит. Не первый год в сражениях — не такие цитадели Суворову покорялись.
Двенадцатого августа 1787 года Турция первой начала войну против России — которую уж по счету за всю историю соперничества двух держав в землях причерноморских и придунайских. И главный удар пришелся в места, только недавно отошедшие к России, еще не совсем освоенные и укрепленные.
Все же русские встретили извечных врагов своих достойно. К той поре уже были созданы две армии, действия которых предусматривали самый широкий военный театр. Одна, под водительством Румянцева[8], называемая Украинскою, обеспечивала надежность границ с Польшею и напрямую связывалась с Австриею, что в столкновении с Портою обещалась быть союзницей и немалым подспорьем в баталиях.
Армия вторая, Екатеринославская, была непосредственно под началом Потемкина. Цели перед нею стояли наиважнейшие: перейти Днепр, взять Очаков и очистить от вероломного и никак не унимающегося неприятеля все пространство до реки Прут. А затем, соединившись с австрийцами и войсками Румянцева, выйти аж к самому Дунаю.
Особая роль в потемкинской армии отводилась отряду под началом Суворова — бдение о Херсоне и Кинбурне.
Не зря с турецкого сие последнее название правильнее писалось «Кылбурун», что означает «острый нос». А и верно — длинная и тонкая коса далеко выдвигалась в Черное море, запирая устье Днепра, а отточенным своим концом подходила к недремлющей турецкой крепости Очаков.
И в Херсоне — потемкинской столице Причерноморья, и в самом Санкт-Петербурге сим местам уделялось самое первейшее внимание.
— Кинбурн — наш южный Кронштадт, — метко Определила Екатерина, когда весною 1787 года собственною персоною посетила причерноморские края. Секретный рескрипт о навечном присоединении Крыма к России уже был скреплен собственноручным монаршим росчерком. В новых городах ею же торжественно заложены соборы, в ее высочайшем присутствии освящены верфи. И на новые подвиги была вдохновлена ею, государыней, уже не раз закаленная в боях русская армия, к той поре уже по-новому, по-потемкински переодетая и экипированная.
Удобные короткие куртки, вместо негнущихся и холодных лосин — мягкие суконные шаровары. Заместо шляп, что сдувало ветром, — удобные каски. И — никаких кос и старушечьих буклей на головах — солдаты подстрижены в кружок, как и ходили всегда в своих деревнях. Бород лишь не было, усы же — пожалуйста.
Однако воинство — не для машкерадов с переодеваниями. Екатерине продемонстрировали вершину достигнутого в предыдущих боях ратного искусства. Отряд генерал-аншефа Суворова, состоящий из легкоконных полков, показал так называемую сквозную атаку. Это когда две колонны — пешие и конные — шли друг на друга и, сблизившись на сто шагов, сшибались в жестокой схватке. Треск ружей, гром пушек, клубы черного дыма… И по сигналу трубачей — вновь рассыпной строй образовал два исходных построения.
— Честь имею доложить вашему императорскому величеству, — очутился рядом и ловко отсалютовал маленький, щуплый Суворов, — сей воинский прием пробуждает в каждом воине сметку, находчивость и ловкость. Конный — на пешего, пеший — на конного. И каждый поворачивайся как сумеешь. Не то что на парадах; а как случается на войне: со стороны — суматоха и Каша, а в гуще сражения — своя, расчисленная каждой головою цель — прорваться вперед сквозь строй неприятельский.
Императрица была женщиною, но ум у нее был далеко не дамский, и разбиралась она не только в одной стати мужчин, облаченных в строгую воинскую форму.
— Я ведала до сих пор, что русский воин храбр, — произнесла она. — Теперь же убедилась в том, что он умен и сметлив. Каждый воин должен знать свой маневр. Так вы выразились, любезный Александр Васильевич? Сие зело важно. Это означает: не жди команды на каждый шаг, а действуй самостоятельно, сообразуясь с общею для всех перспективой, сиречь — целью. Сего хотела бы я достичь во всем нашем государстве. Я — там, в Петербурге. Вы, мои генералы и первейшие помощники, — здесь. Я развязываю вам руки — у каждого в голове должен быть свой царь. Посему, коль зачнется здесь война, хочу лишь изречь: пущай Суворов, геройством славен, Кинбурн, южный наш Кронштадт, не сдаст, а светлейшему — Очаков брать. Хотя бы на сие нам в первую пору изловчиться. Вот мое пожелание. А как сего достичь — у каждого моего генерала, как и у солдата, должен быть свой маневр…
Екатерина и ее помощники-генералы, что стояли ногою у Черного моря, зрили в корень: турки могли вернуть свое могущество, лишь забрав назад Кинбурнскую косу. Какой же янычар, воин Аллаха, коли в его руках нет сего острого, тонкого и чуть искривленного, словно ятаган, кинбурнского ножа?
Порта объявила войну в середине августа, а ровно через месяц, тринадцатого сентября, двинула свои десантные корабли к Кинбурнской косе.
Потемкин дал команду флоту из Севастополя выйти навстречу и разбить противника еще в море. Но суда попали в шторм, погибли.
Светлейший впал в панику: крепость в Кинбурне не выдержит натиска, стены ее тонки, рвы — неглубокие, сухие, артиллерии на косе — кот наплакал. В отчаянии даже написал Екатерине о намерении своем передать командование Румянцеву, а самому ретироваться в Петербург: «Моя карьера кончена… Я почти с ума сошел… Ей-богу, я не знаю, что делать, болезни угнетают, ума нет».
Лишь. Суворов, как всегда, не терял свой маневр. Заградил пушечным огнем с косы одну и другую попытки высадиться десантом. К началу октября — третья бомбардировка косы с турецких судов и со стен Очакова, и первые уже турецкие стрелки появились средь кинбурнских дюн.
Суворов был в церкви по случаю праздника Покрова. Ему доложили об успехе наступающих.
— Не мешайте им. Пусть все вылезут на берег, — ответил он, продолжая молиться.
Меж тем на косе начался ад. Черные тучи порохового дыма затмили небо. Залпы орудий с той и другой стороны, схватки врукопашную, стрельба и резня…
Пять тысяч турецких отборных янычар высадились и пытались укрепиться на косе. А чтобы не осталось у них пути к отступлению, их флот ушел. Они — смертники, значит.
Суворовские резервы подходили, но они по-настоящему не могли пополнить убыль обороняющихся. Впрочем, командующий и не об обороне Думал. Выхватив шпагу, он бросился в самую гущу атакующих, и за ним с криками: «Спасай Суворова!» — ринулись казаки.
Девять часов кипело сражение. Сам Суворов получил три раны, не раз падал в обморок. Горы трупов выросли на косе — и наших и пришельцев. Но маневр, задуманный Суворовым, блестяще удался — выманить десант с кораблей и истребить на суше.
Из пяти тысяч янычар удалось вплавь кое-как вернуться в Очаков лишь семи сотням человек.
Второго октября израненный, еле стоящий на ногах Суворов принимал на косе парад победителей — его видели с крепостных стен Очакова. А в турецкой столице султан приказал отрубить головы одиннадцати военачальникам — виновникам неслыханного поражения.
— Теперь — даешь Очаков! Без передыху, пока они не опомнились, — штурм! — убеждал Суворов светлейшего.
Со всех южных мест подходили и подходили русские войска. И ставка Потемкина переместилась к Очакову: вон она, крепость, на расстоянии выстрела пушки. Но светлейший отбивался от героя Кинбурна:
— За подвиг твой матушка пожаловала тебе, Александр Васильевич, знаки и ленту Андрея Первозванного. Сей высшей российской награды не имеют генералы, что старее тебя по чину. Гордись! А меня под руку не толкай. Сколь ты положил ратников на косе? Я ж возьму Очаков измором. Вишь, полки стянул и с Кубани и с Кавказа.
С Кавказским мушкетерским прибыл под очаковские бастионы и подпоручик Багратион. Легко ли и быстро пробежал путь от сержанта ко второму офицерскому чину? Более пяти лет ушло на обретение звания, а главное военной науки. И пороха изрядно успел понюхать. А со смертью ходил рядом, считай, все эти пять годков. Война в горах была не масштабной, не полк на полк и рота на роту. Схватывались на горных тропках и в ущельях горстка на горстку, а то — один на один.
Из всех немирных кавказских племен, промышлявших разбоем и захватом заложников на кавказской пограничной линии, особенно досаждали чеченцы. Промышляли они набегами, выкупом за пленных, грабежом и разорением близлежащих к ним селений русских, грузинских, дагестанских и осетинских, ни во что не ставя не только чужую, но, что самое дикое и страшное, — свою собственную жизнь.
Под Очаковом Багратиона ждала другая война — десятки полков включились в ее круговорот. Воспоминания участников сражения за Кинбурн захватывали дух и воображение двадцатидвухлетнего офицера. А встреча с Суворовым завладела без остатка всеми его помыслами: скорее бы в бой!
После кинбурнской победы миновало уже более полугода, а подготовкой к штурму Очакова и не пахло. Более походило на то, что Потемкин делает вид, будто предпринимает решительные меры. Над самим городом изо дня в день вился густой дым — то по приказу светлейшего охотники выжигали сады, что подступали к окраинам, то разрывались на очаковских бастионах ядра, пушенные русскими артиллеристами. В расписных же шатрах гремела музыка итальянских, привезенных в обозах, квартетов, давали балетные спектакли из Петербурга же танцовщицы, в спальнях самого светлейшего и окружавших его вельмож курились ароматные смолы.
В сей поход взял с собою Потемкин и двух своих племянниц. Санечка Браницкая находилась в свите как бы вместе с супругом. Только супруг имел свою, отдельную, палатку, Санечка же все время пропадала в дядином шатре.
Там же, все дни проводя в приятной лени, валялась на кушетке и Катенька. Ее муж, граф Скавронский, был отсель далече — в Неаполе, при месте чрезвычайного и полномочного посла, даже для пущей важности имеющего звание министра.
Катенька не то чтобы оставила супруга. Родив в первый же год после свадьбы дочь, которую тоже назвали Катенькой, она после назначения мужа побывала у него в Италии. Но вскоре заскучала по Санкт-Петербургу, многочисленным знакомым и родне. А в первую очередь — по любимому дяде.
Знала: благодеяния дяди в ответ на ее ласки — безмерны. Так, еще в Петербурге, встав однажды поутру в спальне дяди, она кокетливо подошла к зеркалу и прицепила к своему платью портрет императрицы с многочисленными бриллиантами, что лежал на туалетном столике. Заметив, что дядя увидел ее жест, тут же поспешила снять с себя медальон.
— Не спеши, — остановил ее дядя. — Оставь все как есть и так поднимись по этой вот лестнице в покои императрицы.
А дело было в Зимнем дворце. Покои Потемкина как раз были подо спальнею государыни.
— Куда, зачем? — перетрусила Катенька. — И с этим алмазным изображением, которое подарено вам?
— Вернешься статс-дамою. И портрет точь-в-точь такой же тебе подарит матушка. Подашь ей записку.
И дядя, тотчас набросав несколько строк, вручил листок Катеньке.
Произошло все так, как и предрекал Потемкин. Екатерина Вторая, прочтя послание, сначала нахмурилась: требование светлейшего было невиданно дерзким. В таких молодых летах самые-приближенные к царице дамы не смели и заикнуться о подобном благодеянии. Но делать было нечего: отказать такому могущественному фавориту не могла даже, она, самая властная императрица российская…
Налаженное житье очаковского лагеря однажды оказалось взбудораженным до крайности. Всех точно громом поразило известие: Суворов, не спросись, не получив приказа, самовольно повел войска на штурм и чуть не погубил всю армию!
То действительно приключилось двадцать седьмого июля 1788 года, в самый разгар сидения под очаковскими стенами.
В два часа пополудни казачьи дозоры доложили Суворову: полсотни всадников и до двух тысяч человек пехоты вышли из ворот крепости и, скрываясь в лощинах, движутся вдоль лимана к русскому лагерю.
Что было делать? Суворов приказал выстроить четыре каре из двух гренадерских батальонов и принять бой.
Турецкая орава дрогнула и откатилась назад, к земляной насыпи перед крепостным рвом. Тогда гренадеры ударили в штыки и на плечах отступающих ворвались на одну из стен бастиона.
К Потемкину полетела просьба: необходимо подкрепление! Но светлейший приказал передать: отходить, немедленно отходить!
Приказ с военной точки зрения — наиглупейший. Победа — вот она! Еще усилие — и штурм увенчается успехом. Мог ли Суворов бросить на полдороге так внезапно заладившееся дело? Он только отмахнулся на одно, второе и даже третье требование светлейшего. И в голову ему не могло прийти, что в помощи откажут, что горстку храбрецов готовая к бою армия оставит без поддержки.
Ядром из крепости под Суворовым убило лошадь. Его самого, еще не оправившегося как следует от кинбурнских ран, пулею садануло в плечо. Гренадеры стали отходить. Тогда залитый кровью командующий повалился на землю с криком:
— Орлы! Вас не отбили, а меня убили… Неужто не отомстите? Стойте! Поднимите меня и, с Богом, вместе со мною — вперед.
Он вскочил на ноги:
— Оживили! Оживили!
А в это время из ворот — новые сотни и тысячи янычар. Впереди же атакующих — громадные собаки. Голодные. Злые. Специально содержавшиеся для травли на людей…
Следовало спасать обреченных. В ставке князь Репнин стоял перед Потемкиным.
— Ваше сиятельство, момент наитрагичный! Коли вы не дали подмоги, не берите на душу грех до конца — выручайте Суворова и его смельчаков. Не себя же ради генерал-аншеф пошел на сие предприятие.
— Этот сумасброд и ослушник? Нет, он меня пред государынею решился посрамить, всю славу победы себе одному забрать. Мало ему Кинбурна! Но я не дурак. Я не дам ему отличиться.
Репнин терял терпение.
— Не минуты — секунды ускользают, сыплются, как песок в песочных часах. Еще промедление — и некого будет выручать; Прикажите взять кирасирский полк.
Ценою своих жизней кирасиры остановили гибель и зверские расправы над смельчаками. В сей последней схватке Суворов получил вторую рану… А после боя — гневное послание Потемкина.
Светлейший решился на штурм лишь шестого декабря 1788 года, когда уже в армии не осталось, сил ждать. Начались болезни, голод. Чтобы спастись в степи от стужи, на кострах жгли телеги. А на очаковских стенах каждый день появлялись новые и новые отрубленные головы русских солдат. Так янычары отмечали каждую свою вылазку из городских ворот, забирая в плен тех, кто в русских окопах и так умирал от истощения, ран и жгучих морозов.
Подпоручик Багратион с солдатами своего Кавказского мушкетерского полка оказался в первой линии идущих на штурм.
Собственно говоря, мало было полков, что не участвовали в деле в самых первых рядах. Так, где-то рядом с кавказцами шла пехота ярославцев. Они прибыли под Очаков недавно, и вел их полковник с нерусской вроде бы фамилией де Лицын.
Александр Александрович — так звали этого офицера — в первый же день разыскал князя Багратиона и отрекомендовался мужем Анны Александровны.
Господи, тетя писала, что вышла замуж и что муж ее — побочный сын князя Александра Михайловича. Отсюда и такая странная фамилия Лицын, сокращенно от Голицына.
Встретились. Обещали после штурма увидеться вновь и уж тогда наговориться всласть о близком обоим.
Крепость огрызалась ожесточенно — пулями, ядрами. Летели из-за стен даже огромные каменья, выливались на головы атакующих котлы кипятка и нечистот. Однако и натиск штурмующих был неистов — в бой вели гнев и отчаяние.
Подготовились к схватке основательно. Смельчаки охотники, прикрываемые стрелками, подбирались под стены, закладывали заряды, делали проходы и лазы.
В один из проходов и прорвались мушкетеры Багратиона. Сам он — впереди со шпагою. За ним, не отставая, — вся рота.
Дым ест глаза, огонь прожигает дыры в мундирах, уши ловят громкие хлопки гранат и свист пролетающих пуль.
Кто-то падает рядом, кто-то пошатнулся впереди. Неужели Тихоныч?
— Прощевайте, вашбродь… Не поминайте лихом.
Склонившись над капралом, князь Петр не слышит, а скорее разбирает по движению синеющих губ прощальные слова.
— Прощай, друг капрал. Мы не забудем тебя, — крестит его князь и целует в лоб.
И — снова вперед. А это чья же смерть? У ног — отрок. В груди — острый нож. Кто же его и за что?
— Она, она! — выкрикивают рядом солдаты, цепко ухватив под руки женщину. У нее безумные, налитые страхом и отчаянной решимостью глаза. Кивком головы женщина показывает чуть в сторону, где еще один мальчик и одна девочка в луже крови.
— Это она их сама, мать,-— объясняет один из солдат.— Я разбираю по-ихнему…
Осада… Вот она, осада. Когда смерть настигает одних — от пули, других — от голода. Этих вот — от безумия.
К Багратиону подводят старца. Изрезанное морщинами лицо, грязная на голове чалма.
— Священный имам? — спрашивает у него по-тюркски Багратион.
— Слуга Аллаха, — отвечает старец. — Веди меня к вашему главному паше. Пусть велит остановить кровопролитие. Мы отдаем вам наш город и нашу крепость. Себя же и свои жизни поручаем Аллаху. Аллах акбар — Аллах велик!..
Сколько дней подряд на морозе, до потери сил русские и мусульмане только и делали, что разыскивали и раскапывали в завалах трупы, раскладывая их штабелями во рвах — на своих и чужих, на «праведных» и «неверных». А из чудом уцелевших солдат заново формировались поредевшие роты и полки.
В этой суматошной, изматывающей страде дежурный адъютант с трудом разыскал Багратиона.
— Ваше сиятельство — к их светлости!
Потемкин сидел за столом. На плечах — небрежно наброшенный парадный фельдмаршальский мундир.
Князь Петр невольно скосил глаза на бурые пятна от чужой крови и гари на своих рукавах.
— Наслышан о твоей удали. Первым ворвался в крепость — за мною награда не пропадет. Поздравляю тебя капитаном, князь. Так сказать, через один чин — поручика. Но доброе — всегда в обнимку с горем. В прошедшей баталии — ты знаешь — тяжело ранен полковник Лицын. Я тотчас отпишу его отцу князю Александру Михайловичу и княжне Анне Александровне. Надеюсь, она непременно приедет к мужу. А разрешат лекари везти его в Москву, предоставлю тебе отпуск. Твоя помощь будет им, Голицыным, крайне потребна. Случится худшее — рядом окажешься, утешишь. По себе знаю, что такое родная кровь, — и несподручно бывает, а племянниц все ж иногда при себе держу…
Уже перед прощанием Потемкин встал:
— Где хотел бы далее служить?
— Ежели позволено вашею светлостью самому мне выбирать — у Суворова.
Всею силою громадный кулак опустился на столешницу.
— К нему, самоуправцу? Не стану потакать! — И, снова опустившись на стул, уже спокойнее: — Что сие в тебе: родовое, кавказское — тяга к вольнице?
— Метода вести бой — вот что прельщает у генерал-аншефа, — не мигая, ответствовал Багратион. — Не ждать, а нападать.
Шандал со свечами стоял на дальнем углу стола. А то бы князь Петр углядел, как резко скривились губы светлейшего.
— Не ждать, говоришь, ни от кого приказу, совершать маневр по своему лишь усмотрению? Тогда лучше подойдет тебе, князь, уже знакомая кавказская линия. Там более применима сия вольная тактика — как хочешь, так и действуй в горах, где ты сам себе и исполнитель, и самый высокий начальник.
Глава четвертая
От службы не бегай, но и на службу не напрашивайся.
В любое время в любом государстве человек то ли с мечом, то ли с ружьем в руках — существо подневольное. Так было неполон веков, и так будет до тех пор, пока существуют войны, с помощью которых правители и народы решают самые важные для их жизни и славы проблемы.
А солдат что ж, присягнул на верность отечеству — значит, связал себя до смертного своего часа нерушимым долгом и беспрекословным подчинением приказу.
После Очакова вернулся Багратион на уже привычную «малую» кавказскую войну. То неделями затишье, то нежданно, как лавина в горах, — набег в самом неподходящем месте и в час, когда его никак уж не ждешь. И тогда не пушки, которые тут не развернешь, а так называемое белое оружие — сабля и кинжал — выявляют победителей и побежденных.
Однажды близ аула Алда, весь израненный в такой искрометной схватке, потерявший сознание и много крови, Багратион был схвачен чеченцами. Командира полка полковника Пьери, у кого князь Петр служил в адъютантах, они убили. Не жить бы ему, если бы чеченцы не признали в нем сына того, кто когда-то, проживая в Моздоке, в трудные дни междоусобиц оказывал помощь каждому, независимо от того, кто чеченец, кто грузин или осетин. А обычаи Кавказа святы: ни один волос не должен упасть с головы того, с кем ты когда-то как бы породнился.
Кавказская служба, которой князь Петр отдал в общей сложности двенадцать лет, завершилась пребыванием в Киевском конно-егерском полку. И только в мае 1794 года оказался вдруг в самом главном гарнизоне империи — Санкт-петербургском. Там, уже в чине секунд-майора, получил под свое начало эскадрон, считай, в почти придворном Софийском карабинерном полку.
Однако даже не осмотрелся как следует в столице, как полковая труба сыграла поход на новую, уже в западных, европейских пределах, войну. Двадцать пятого июня только что назначенный командиром эскадрона князь Багратион вступал со своими молодцами в первый польский город — Брест-Литовск.
Тогда она еще не знала ни братьев Орловых, ни Потемкина, когда весь жар ее любвеобильного сердца был отдан молодому красавцу, выходцу из Варшавы Станиславу Понятовскому. Великой княгине Екатерине Алексеевне еще далеко было до императрицы. Она лишь только-только строила планы на то, как бы одолеть постылого муженька и, одолев, получить полную свободу для своих амурных утех, а заодно и трон Российской империи.
И не связывала будущая императрица, наверное, никаких далеко идущих надежд с обольстительным, умеющим ловко овладеть женским сердцем молодым поляком.
Лишь два года спустя, после того как сама взошла на престол, осчастливила и предмет своей былой страсти — сделала Станислава-Августа королем Польского государства[9].
Нет, это был не любовный подарок. Это был дальновидный поступок главы Российской империи, в первую очередь пекущейся об интересах не какого-то, пусть даже недавно еще милого ей человека, а об интересах собственных — своего государства, а значит, и своих личных.
В ту пору Речь Посполита простиралась от Балтики до Карпат и от Днепра до междуречья Вислы и Одера. Но жили на сих немалых пространствах не одни поляки, а издавна коренные жители российских; земель — белорусы, украинцы да литовцы с латышами, со времен Петра уже включенные в орбиту русской жизни. Взрывоопасной оказалась такая смесь языков; а главное — вероисповеданий, чреватая всегда беспокойствами для соседней России. И для России же — весьма соблазнительной: там, на польских землях наши единокровные и православные братья, каково им, притесняемым, под властью религии католической?
Но пребывали там и немцы — соседи ведь. Потому волновалась и Пруссия от соблазнительной близости.
Вот тогда-то российская императрица и предприняла меры, чтобы на варшавском престоле оказался свой, надежный человек, который будет вести политику, России угодную.
Меж тем и другая соседка Польши — Австрия — заявила свои права на близлежащие земли. Тогда-то все три великие державы, что окружали Речь Посполиту, полюбовно договорились отщипнуть от соседки по вожделенным кусочкам[10] и на том как бы успокоиться.
Россия по этому, первому, разделу Польши вернула себе какую-то часть белорусских и украинских земель, австрийцы получили земли прикарпатские, пруссаки — побережье прибалтийское.
Лиха беда — начало. Года не прошло, как руки соседей совсем раскромсали польский пирог. Пруссаки завладели Познанью и Гданьском. Россия же вернула себе давние, издревле принадлежавшие ей города Минск, Слуцк, Пинск, что в самом центре Белоруссии, и те, что были на правом берегу Днепра, — Житомир, Каменец-Подольский, Брацлав и Звенигородку.
А в оставшейся части Польши продолжал «править» король Станислав-Август. Екатерина Вторая даже навязала ему конституцию, которую одобрил спешно собравшийся сейм. Только новым порядкам не подчинилась большая часть поляков и взялась за оружие.
В марте 1794 года на Висле вспыхнуло восстание, во главе которого встал Тадеуш Костюшко. Он был одним из тех, кто с первых же устремлений соседних государств расчленить его отчизну выступил на стороне недовольных. Пришлось бежать за океан, где сражался за независимость Соединенных Штатов. Вернувшись домой, он поднял и здесь знамя независимости.
Повстанческая армия освободила Краков, Варшаву, повсюду на коренных польских землях и на тех, что недавно возвращены были под российскую корону, поднимались крупные и мелкие шляхтичи, городские низы и косинеры — вооруженные простыми косами крестьяне.
Всего каких-нибудь два десятка лет назад на Волге, в восточных — если не сказать, почти центральных губерниях России уже полыхал пожар гигантского народного восстания. Память о реках крови, о спаленных селениях и взятых с бою мирных городах, о виселицах, что, словно лес, еще недавно возвышались по всей Волге, еще жила в русских людях.
Наверное, самый обездоленный люд и теперь сочувствовал Пугачеву[11]. Но страх беспощадного бунта; ужасал многих, что были участниками, жертвами и просто свидетелями тех кровавых событий.
Ныне призрак бунта вставал на западных границах — державы. А что это был разлив злобы, жестокости и беспредельной, подчас слепой мести, говорили страшные сообщения, которые леденили душу.
Шестого апреля 1794 года, на Страстной неделе, набатный звон колоколов в костелах разбудил варшавян. Жители столицы вооружались всем, что было под руками В узких улицах началась настоящая охота за русскими солдатами, что размещались здесь гарнизоном. Их убивали жестоко, зверски, а вид несчастных жертв все более возбуждал злобу.
Тех поляков, кто разделял пророссийские настроения, выволакивали из домов, на глазах толпы истязали, а затем лишали жизни.
Особенно жестокой оказалась расправа над одним из известнейших в Польше магнатов, князем Антонием Станиславом Четвертинским. Происходивший из династии Рюриковичей[12], он являл собою как бы воплощенное единство двух славянских народов. Но в глазах соотечественников он стал в ту пору предателем, потому как в сложном противостоянии пытался найти какой-либо путь к разумному примирению.
На глазах тысяч варшавян его вместе с детьми — дочерьми Марией и Жаннет, которым было пятнадцать и четырнадцать лет, и десятилетним сыном Борисом — приволокли на тюремный двор.
— Смерть! Смерть предателю и его семени! — неслось со всех сторон.
В руках окруживших — ружья, сабли, каменья, даже кухонные ножи. Рев сотрясал воздух, и казалось, от него содрогаются сами древние стены цитадели.
На глазах у рыдающих детей отца заставляют стать на колени, а затем волоком, как уже не человека, а какое-то животное, подтаскивают под дерево, с которого свисает веревочная петля.
Команда предводителей беснующейся толпы, и князь повисает бездыханным телом над площадью.
Месть и страх. Кровь и ослепление. Будет ли этому предел?
Ненависть легко разжечь, но как остановить убийства, какими бы священными призывами они ни оправдывались?
Король Станислав-Август сидел в замке, боясь даже подать знак о себе — тише воды и ниже травы. Одно заботило его — только бы не вспомнили о нем те, кому сейчас в столице принадлежит власть, — возбужденная чернь.
Родной брат Станислава-Августа, прима польской церкви Михаил Понятовский, опасаясь за свою собственную жизнь, судьбу брата и жизнь их семьи, написал письмо прусскому королю с просьбой ввести войска в Варшаву, чтобы остановить безумство. Между прочим, в своем письме Михаил сообщал, где находятся слабые места в обороне, через которые легче всего проникнуть в город, чтобы быстрее навести и нем порядок.
Человек с письмом пробрался через кладбище, дошел до леса, за которым он мог уже быть в безопасности, как неожиданно его задержал часовой из отряда князя Юзефа Понятовского, племянника короля и одного из вожаков повстанцев.
Письмо тотчас было обнаружено и пошло по рукам. — Брат нашего короля — предатель! Смерть ему! — от жолнера к жолнеру пронесся по войскам клич.
Юзеф в волнении помчался в королевский замок. А там, под окнами, — толпа, требующая немедленной расправы уже с самим королем и всем его корнем.
Племянник взял со стола перо и протянул его дяде:
— Пишите, ваше величество, немедленно письмо вашему брату. Иного выхода у вас нет.
«Если все это правда, о чем передали мне, и ты действительно виноват, — стал писать король, — прими яд, который я посылаю тебе вместе с этим письмом. Это единственный способ избежать позорной смерти».
Получив послание брата-короля, примас тотчас исполнил, его приказ и, бездыханный, упал на пол в комнате, где его содержали под стражей.
Приговор короля и толпы был исполнен. Об этом в те же минуты объявили народу, что вызвало бурю одобрения и восторга. Король же в оцепенении, забился в самые дальние покои замка и в течение нескольких дней не хотел видеть никого, даже из самых близких людей, не ел и не пил.
И в Санкт-Петербурге в эти дни императрица также не спала и нервно ходила из угла в угол.
— Трус, тряпка, рохля! — говорила она о человеке, которым восторгалась в молодости. — И это тот, кого я боготворила. Что ж, он не пощадил своего брата, дал черни растоптать собственную честь и королевское достоинство. Тем самым дал мне право поступить с ним и его подданными так, как подобает монарху с решительной волей и твердым характером. Я не стану мешкать и ждать, пока пожар с Вислы перекинется на берег Днепра. Я погашу пламя там, где злоумышленники его разожгли, и велю затоптать все до последнего уголька, чтобы никогда уже не возникла ни единая искра. О, этому когда-то научили меня вы, «маркиз Пугачев»!
Императрица вспомнила, какой ужас пережила она, когда узнала о появлении самозванца, за которым — тьма разбойников.
Тень Петра Третьего, ее убиенного мужа, — вот Что заставило ее содрогнуться! Когда возникает бунт, где кровь затмевает людской разум, имя законного наследника престола — что священная Божья хоругвь.
А ежели ныне кому-то из преступников явится мысль ее трон — да в пользу законного наследника, сыночка покойного Петра Третьего — Павла[13]?
«Что это я, право, как настоящая баба? — остановила она себя. — В страхе любое пригрезится, только страхи — прочь! Это он, польский король, баба — я всегда была мужиком. И при Потемкине — царство ему небесное — мужиком оставалась. Он тешил себя тем, что мною управлял, а делал только то, что нужно было мне. Я же всего-навсего потакала его капризам. Я и теперь — уже три года после Гриши — справляюсь одна. Мне бы только решительного генерала сыскать, которого послать брать Варшаву.
Не один год связан с польскими делами князь Репнин, ныне генерал-губернатор литовский. Только много ли проку в нем? Хотя, каюсь, была у меня задумка сделать его фельдмаршалом. Однако много ли он побед одержал? Вельможную пани, княгиню Чарторыйскую когда-то, право, «взял». Судачат, Адам Чарторыйский — точная копия его, князя Николая Васильевича, и в его доме принят как сын… А что до маршальского звания, то вручить его надобно уже давно бы тому, кто не одну крепость у турок отбил, прославив русское оружие на всю Европу. Опричь того, и с восстаниями имеет опыт отменно расправляться. Стоило его против Пугачева послать, быстро утихомирил бунтовщиков. Не сомневаюсь — враз покончит с Варшавой…»
Так Суворов, к той поре уже граф Рымникский, получил приказ: сниматься с турецкого театра войны и идти штурмовать Варшаву.
Недавний покоритель днестровских и дунайских крепостей в белом летнем колете и коротком холщовом плаще поверх старческих острых и узких плеч, на приземистой казачьей лошадке нагнал русские войска, когда те подходили к Брест-Литовску.
В ту летнюю ночь Софийский карабинерный вместе с другими полками в час пополуночи при лунном свете перешел речку Мухавец и достиг Буга. Из Бреста и Тересполя русских заметили. Поляки выкатили на горушки три четырехпушечные батареи и открыли огонь.
Суворов, решил: в центр неприятеля ударит пехота, с флангов — конница.
Кони и пехота вязнут в песке, всюду рытвины и ямы, а чуть поднимешься выше — кустарник, а за ним лес.
Дважды наши атаки захлебывались. И тогда один из софийских эскадронов на нашем левом фланге взял еще, левее, да так круто повернул, что ударил оборонявшимся в тыл. Это был Багратион и его конники.
Одна из польских колонн почти вся полегла под острыми русскими саблями. Та же участь постигла и вторую цепь, и третью, когда в боевые неприятельские порядки врубились наступавшие в центре и справа.
Чудом уцелевшие стали уходить, оставляя победителям Брест и Тересполь. Но в том ли победа, что занять города, а противнику, хотя понесшему, изрядный урон, дать уйти? Бегущие переведут дух, соберутся вновь вместе, и — что же? — начинай с ними бой заново, опять теряя своих людей?
Багратион уже усвоил с Кавказа — так воевать можно без конца, ежели считать, что ты прогнал врага с какого-то места и сам туда вступил. А он, противник, из-за скалы, с вершины горы, откуда ты даже его не ожидаешь, бах-бах! И ты, считавший себя уже победителем, или оказался в окружении, или понес невосполнимый урон.
— Вперед! Не дай бегущим уйти! — скомандовал князь Петр.
Нет, бегущих не пытались непременно поразить острою сталью. Кто сам кидался на тебя с клинком или пытался сразить пулей, тот получал свое. Но бросавших оружие и поднимавших руки тут же отправляли в тыл, где собирали пленных.
Пятнадцать верст преследовали конники отступавших. Зато знали: впереди на немалые расстояния теперь не встретят серьезного сопротивления.
И все же драться приходилось часто. Седьмого июля, при Седлицах эскадрон Багратиона разбил выходивших из лесов и собиравшихся в боевую колонну повстанцев, взяв несколько десятков пленных.
Двадцать шестого июля с полусотней солдат был командирован в район Деречан, чтобы забрать там оставленный неприятелем фураж. Но неожиданно навстречу — полторы сотни всадников из так называемой народовой кавалерии. Перевес — один к трем! Но Багратион дает команду «За мной!» и врезается в середину колонны. Атака была столь ошеломляющей, что на месте осталось лежать до сотни поляков, а поручика, хорунжего и двух нижних чинов захватили в плен.
Сентябрь, двадцать первое число. Одним своим эскадроном бросился преследовать неприятеля, пытавшегося ударить под селением Татаровка. Гнался около десятка верст, пока не встретил свежие неприятельские силы. Они состояли из одного пехотного батальона и роты коронной литовской гвардии. И снова — атака вихрем. Враг разбит, в плен сдалось семьдесят человек.
Так, в схватках, прошел конец сентября и первая половина октября. И все — по лесным дорогам, прочесывая самые, казалось бы, непроходимые лесные чащи.
Как кстати здесь сошлись опыт великого Суворова с мыслями тридцатилетнего подполковника — не допускать того, чтобы противник, опамятовавшись и вновь собравшись с силами, бил в спину.
Сия мысль была главною в суворовских наставлениях, коим он учил своих подчиненных: бить неприятеля до конца, а не довольствоваться тем, что он, убегая, оставляет тебе территорию.
Уж коли атакуешь молниеносно — так же молниеносно стремись закончить и всю войну. А закончить ее можно лишь одним способом: если у противника не останется армии.
Но в Польше проявилась одна немаловажная особенность, с которою Суворов здесь сталкивался и ранее, в первом своем Польском походе, и особенно в приволжских и оренбургских степях, когда гонялся за остатками армии Пугачева. Милосердие к тем, кто сам складывает оружие.
Если ты отдал наступающему на тебя противнику саблю или ружье, не хочешь ни своей, ни его смерти, — значит, можно простить. А цель все равно достигнута: армия, стоявшая против тебя, не существует. И лучше, что цель сия достигнута не огромною кровью, а милосердием.
Вот почему подполковнику Багратиону, заслужившему сей чин в этой походе, Суворов поручил:
— Походи, походи по лесам, не бойся залезать, если сможешь, в дикие трущобы. А больше сдадутся тебе в плен — меньше и ихней, и нашей крови прольется. Хоть большею частью они не православные, но все же — христиане.
Условились: армия спешным шагом идет к Варшаве, а те, кто очищает леса от заблудших и напрасно рискующих жизнью, соединятся с главными силами в Праге.
Прага — это место на правом берегу Вислы, супротив самой столицы, а на самом деле — часть Варшавы. Но та ее часть, что вся — бастион, вся — неприступная крепость.
Суворов предложил сдаться. Прага еще более ощетинилась пушками.
Кто-то из старослужащих вспомнил язвительный стишок, пущенный Суворовым про Потемкина, когда тот на год затянул осаду Очакова: «Я на камушке сижу, на Очаков все гляжу».
— Нет! — тряхнул седым хохолком на голове Суворов. — Три дня учиться, в день — овладеть штурмом!
Там, в крепости, тридцатитысячный гарнизон, более ста пушек. А перед цитаделью — высокие валы с глубокими рвами, тройные заграждения — палисады, из камня сложенные; дополнительные башни, построенные на горах; наконец, волчьи ямы со вкопанными на дне тонкими, словно бы спицы, бревнами остриями вверх.
Как пройти сии преграды, как овладеть замком, который открывает путь в саму Варшаву?
Полки, батальоны, роты разбились на команды. Одни сооружают деревянные лестницы, по которым — вверх, на гребень крепостных стен, другие вяжут плетни, что надо бросать поверх волчьих ям, третьи учатся плетни сноровисто подносить, не боясь встречной ружейной и пушечной пальбы. У четвертых задача — первыми по этим плетням, фашинам и лестницам вскарабкаться на бастионы и с них — на головы врага уже по ту, неприятельскую сторону крепости.
То здесь, то там вдруг появляется он сам, Суворов:
— Все усвоили, все понятно? Тогда повторяй за мной, как сказано в моей памятке, что я назвал наукою побеждать. Итак, бросай плетни через волчьи ямы, быстро беги по ним, прыгай через палисады, кидай фашины, спускайся в ров.
Переход к другой группе — и прямо с ходу:
— Стрелки-стреляй по головам, лети через стену.
Неприятель бежит в город. Его пушки обороти по нем, бегущему. Коли неприятеля на улицах штыком. Конница — руби. В дома не ходи. Обывателя не обижай — солдат не разбойник. Ставь гауптвахт, расставляй вмиг пикеты к воротам, погребам, магазинам…
Двадцать четвертого октября ровно в пять утра — штурм. Гул, грохот, залпы с обеих сторон. Первые десятки шагов отвоеванного у неприятеля пространства. Вот и первый ров. Накрыли волчьи ямы плетнями, закидали ров фашинами, связанными в огромные пучки прутьями — и перебрались на вал.
Сшиблись в штыки. Первая оборона прорвана, вторая, следом — третья… «Ура!» не смолкает, перекатывается волнами все далее вперед и вперед.
Все укрепления — наши! И тут взрыв огромнейшей силы потрясает все вокруг. Камни — в воздух, от неприступных стен остаются искромсанные зубцы. То наши артиллеристы меткими выстрелами взорвали неприятельские запасы пороха…
Чуть свет на следующий день от варшавского берега — лодки. С белым флагом. Депутация с ключами от столицы.
Суворов принял посланцев:
— Больно смотреть на погибших и на остатки крепостных стен? Много мы положили здесь, в Праге, ваших сынов-поляков. Но разве вы не видели, что мы не щадили и своих жизней? И все для того, чтобы окончилось кровопролитие, которое вы развязали. Да, иногда случается так — войною надо кончать войну. А условия мои такие…
Депутация не поверила своим ушам — русский полководец просит: исправить мост через Вислу, свезти, из Праги все пушки за город и там их побросать. И еще: оказать тотчас всеподобающую честь своему королю.
— Всем сдавшимся — волю. И никто не пострадает от произвола русских солдат, ибо мы — принесли вам мир…
Багратион ходил возле крепостных стен. Думал, высматривал, что-то про себя отмечал.
Лучшим ли маневром действовали наступающие? Сам он со своим эскадроном врубился в драку, когда, поставленный Суворовым в резерв, вдруг заметил, как конница противника вырвалась из ворот, чтобы ударить штурмующим во фланг.
Сей замысел князь Петр угадал сразу. И, выждав, когда все всадники выйдут из ворот и окажутся на открытой местности, бросился им наперерез. Замысел врага был сорван, весь отряд уничтожен.
После штурма, уже в Варшаве, Суворов вызвал к себе Багратиона. И в присутствии многочисленного окружения произнес:
— Знал, что ты отважен и храбр. Не ведал другого: что терпелив, холоден как лед в опасности.
Многие переглянулись, не совсем понимая смысла сказанного. Только сам Багратион еле заметно усмехнулся.
— Ага, догадался, князь Петр, о чем я? В любой схватке есть момент, как ахиллесова пята, известный одному Господу. Вот его и надо выждать! Выждать, как бы ни разрывались: нервы и как бы коварная мысль тебя ни убеждала пора, не теряй время! Ты же, как Господь, ведаешь сам, когда и куда ударить. И ты — как лед! Будто это не война вовсе, а, положим, прогулка. Но пришел момент, только тебе известный, — и победа! Так ведь, князь Петр? Я тогда смотрел на тебя: выдержит ли, сумеет схватить себя за руку, — не поддаться соблазну? Сумел! Сумел! Дай я тебя обниму…
Глава пятая
Возвратившийся из польских краев Софийский полк расположили за городом. Коли был бы простой поход, маневры в Царском Селе, и тогда бы немало потребовалось времени и сил для приведения полка в порядок. Тут же — возвращение с войны. Сие предполагает убыль людей и амуниции, недобор лошадей, расстройство всего хозяйства.
Санкт-Петербург — рядом. А ни полковой командир князь Голицын, ни старшие и младшие офицеры, что также жительствуют в столице, по-настоящему и не бывают в своих домах.
Зимой же, аккурат на Новый, 1796 год, когда уж и роты с эскадронами пополнили, и конское поголовье привели к норме, и учения начались в соответствии со всеми требованиями, пришла весть: готовиться к высочайшему смотру.
Это же по какому поводу, что за причина? Оказалось, намечено бракосочетание второго внука Екатерины — великого князя Константина Павловича с принцессою Саксен-Кобургской.
Заботы навалились такие, что к коротким зимним дням стали прихватывать и сумеречные, а то и ночные часы.
Двойная же упряжка выпала на долю Багратиона: к нему, эскадронному командиру, перешли и обязанности командира полкового.
И все потому, что в самый пик суматохи полковник князь Борис Александрович Голицын по высочайшему повелению был отозван в Мраморный-дворец, в распоряжение августейшего жениха.
— Князь Петр, ты уж по-родственному услужи мне — временно прими регимент, — обратился к Багратиону Борис Андреевич. — Пока для других секрет, но то ли самим Константином Павловичем, то ли цесаревичем Александром высказана мысль — произвести меня в гофмаршалы нового молодого двора. И ее величество матушка императрица, говорят, выразила одобрение сему прожекту. Так что еду к ней. А засим, полагаю, и приступлю к исправлению новой должности. Так что, пока определят мне замену в полку, хочу передать хозяйство в твои руки. Знаю: по душе тебе мое поручение и в полку обрадуются.
— Спасибо, Борис Андреевич. Буду стараться оправдать твое доверие. Авось и не осрамлюсь.
— Ну-ну, не прибедняйся, — улыбнулся Голицын и тут же, чуть понизив голос, со значением, которое не скрыл: — Постараюсь употребить свое влияние, чтобы на брачных торжествах обязательно участвовал наш полк. Так что явится случай представить тебя и Константину с Александром, и самой матушке царице. Полагаю, тебе вскоре и свой полк получать. Разве не заслужил ревностным исполнением долга и отменною храбростью?
Под смуглою кожею — краска и смущения и радости как бы одновременно.
— Сие — в руках Божиих, — попытался ответить коротко.
— То верно. Но более — в руках тех, что боги на земле. Вот представить тебя сим выразителям судеб — мой и Анны Александровны долг. Мы тебе многим обязаны.
— Что вы, дядя? — смешался Багратион. — И тетя, и вы… Ты мне не раз это высказывал, — перешел он опять с «вы» на обретенное уже на ратной службе «ты». — Но, право, в чем может быть твой и тетин долг, коли мы — свои…
— Будет, будет тебе. — Голицын обнял племянника. — Родня — одно. Душа у тебя по чистоте устремлений и человеческой доброте мне ближе и роднее многих иных… Вот что хочу тебе заявить, коли затронули мы наши родственные связи, что я ставлю на первый ряд. А Анна Александровна ждет тебя. Я ж тебе говорил: сняли новую квартиру на Миллионной… Вот что, завтра велю тебя подменить — на целый день к нам приедешь. Она, представляешь, серчает на меня: совсем забыл, пеняет она мне, что Петр — наша семья…
В ту, после Очакова, зиму траур долго не снимали ни в доме князя Александра Михайловича, ни у Дарьи Александровны, куда после смерти мужа вернулась ее дочь Анна Александровна.
Не по летам еще стройный вице-канцлер, хотя и опирался на палку, старался не дать горю себя сломить. Молча ходил по комнатам — глаза сухие, должно быть, уже выплаканные долгими бессонными ночами.
Единственного сына дал ему Господь. Не торопился, но имел намерение обратиться к государыне, чтобы повелела дать ему, незаконнорожденному его отпрыску, не какую-то нарочито выдуманную, укороченную от подлинной — Лицын, а их родовую фамилию: Голицын.
Мало ли таких прозвищ, что давали прижитым на стороне младенцам, все ж не бросая их на произвол? От князей Репниных пошли Пнины, дщерь Потемкина от государыни обратилась в Темкину, сын Румянцева стал Умянцевым. А то, как у Безбородко, дочь побочная — по имени первой же пожалованной ему деревеньки — Верецкая… Да стоит ли вспоминать? Кроме того — чужие то дела, чужие заботы. Его, вице-канцлера, иная воля: сын, родная кровь, пусть и роду даст законное продолжение.
Других, законных, не было. Впрочем, как родные, жили в доме дети брата Андрея, рано почившего, — Михаил, Борис и Алексей.
К той поре, когда случилось горе, Михаил, старший, был уже женат на графине Шуваловой. Выбор пал на Бориса, Мишиного погодка и еще холостого, — пусть сочетается со вдовою, все же родной племянник.
Свадьба состоялась на третий год после смерти Лицына. Петр Багратион тогда уже был снова на войне, на кавказской своей линии. Но, провожая его перед тем в полк, вице-канцлер произнес в присутствии бывшей своей невестки и молодой вдовы:
— Мы, Голицыны, многим будем обязаны, вам, князь Петр.
Имелось, скорее всего, в виду, что чрез всю Россию привез к ним, в Белокаменную, смертельно израненного сына и мужа, а спустя месяц разделил их семейное горе.
Позже случился поворот и в его, Багратионовой, судьбе. И несомненно, теперь уже с помощью Бориса Андреевича — вытребовал к себе в полк, как только введен был в должность полкового командира.
Однако и нынче припомнились в разговоре те же, когда-то сказанные старым князем Голицыным слова. И с новым как будто обещанием: мы о тебе помним, не забудем.
Сразу как-то кольнуло в сердце: «Разве не я сам до сей, петербургской, поры стоил свою судьбу? И не искательством, не с помощью протекций, а собственною отвагою, умом и радением по службе, какой бы она — легкою или тяжелою — ни была, творил свой путь»..
Тетиной радости не было границ, когда он появился в новой квартире на Миллионной.
— Теперь я тебя не отпущу, пока ты всем сердцем не разделишь со мною моего счастья. Смотри, какая просторная, светлая и удобная у нас квартира! Нет-нет, Петр, ты не делай вежливое и нарочито довольное лицо — ты радуйся со мною! Гляди, вот это — детская. Она — для наших старших мальчиков.
Изящная, легкая, вся — сгусток энергии, Анна Александровна провела племянника в просторную, с двумя большими окнами квадратную комнату. Навстречу маме и гостю выбежал пятилетний Андрюша, а за ним — его погодок Саша.
— Мальчики, мальчики, что надо сказать вашему дяде, которого вы давно уже не видели и, верю, по которому ужасно соскучились?
Андрюша с Сашей с восторженными криками бросились к князю Петру и повисли у него на шее, для чего он нарочно пригнулся.
— Здравствуйте, дядя Петя!
— Как же они выросли! — воскликнул Багратион. — Особенно Саша. Он скоро догонит Андрея.
— Ладно, мальчики, идите к Иоганну Ивановичу — у вас сейчас классы.
Князь Петр перевел взгляд на Анну Александровну: Боже, как подлинно счастлива и как хороша его тетя! Лицо ее светилось, глаза, всегда такие живые, будто они вобрали в себя всю ее огромную душу, были особенно лучезарны.
— Ну вот, теперь — комната Коленьки. Хочешь на него посмотреть, моего самого младшенького?
— Ему уже, должно быть, около года?
— Что ты, Петенька! Второй уже пошел! Мои сыновья растут. Тут ты прав — один обгоняет другого…
Из комнаты в дальнем конце слышались звуки клавесина.
— Не будем мешать Лизаньке — у нее уроки. Только третьего дня она начала их брать. Здесь, в Петербурге, несравненно удобнее, чем в Москве, дать детям образование. Учителей всякого рода — не оберешься. Вот почему я так счастлива переезду. Но дети, ух учеба и развитие — одна причина, которая делает меня счастливой. Другая — возможности, которые столичная жизнь открывает мне самой. И что — скажу прямо — льстит моему самолюбию.
Они прошли в гостиную и сели на кушетку.
— Ты знаешь меня: никогда и ни у кого я не искала для себя никакой протекции. Я жила в Москве, где у меня и так была масса знакомых и очень близких мне людей, которых любила я и которые отвечали мне теми же искренними чувствами. Вот за что я так любила и продолжаю любить родную Москву. Но здесь, в Петербурге, я открыла для себя такую сторону жизни, которую до сих пор не знала.
— И в чем же эта новая сторона? — поинтересовался Петр.
— В том, мой друг, что я по-новому увидела себя самое.
— Сие необыкновенно.
— Вот именно! Я увидела, Петр, что я на самом деле стою и что я — мой ум, мое воспитание и образованность, наконец, мое очарование, что для женщины немаловажно, — все это ни в коей мере не уступает перед теми, кто здесь — столичные круги и высший свет.
— Высший свет это, конечно, двор. Увы, мне сие трудно представить. Давний мой визит вместе с вами, тетенька, во дворец князя Потемкина — моя единственная встреча с теми, кто хотя бы приближенно мог относить себя к свету. А что касается императорского двора — его совершенно не представляю.
— И я до сих пор никогда не была при дворе. В том-то все и дело, что оказалась впервые на вечере в Эрмитаже, в присутствии самой императрицы. И нашла, что я достойна того, чтобы пользоваться вниманием, которого многие в том, высшем, кругу добиваются по десяти и пятнадцати лет.
Анна Александровна просто, но так, что за каждым ее словом чувствовалась гордость собой, поведала племяннику, как была представлена государыне и как ее величество удостоила ее ласковыми словами.
— А ведь я, мой друг, повторю еще раз, никак и ничем не добивалась высочайшего внимания к своей особе.
Князь Петр тотчас поведал тете о своем разговоре с ее мужем Борисом Андреевичем. И о сомнениях, которые вызвал у него тот разговор.
Петр сходился с тетею в том, что должно высоко нести свое достоинство, никогда не заискивая пред сильными мира сего. Но стоит ли в таком случае находить достойным твоего восхищения их, стоящих высоко над тобою, внимания к твоей персоне? И более того — считать сие мерилом твоей собственной значимости.
— Ты служишь чему и кому? — Царственная повадка княжны Грузинской вдруг явно проявилась в том, как Анна Александровна вскинула свою красивую голову. — Жизнь свою ты, князь Багратион, готов отдать отечеству и монарху, что блестяще уже успел доказать не раз. В таком случае разве государыня, великие князья не вправе знать о твоих поступках? Разве сие не их обязанность — отдать должное твоей одаренности, твоему искусному и достойному похвал поведению на поле боя, наконец, твоей преданности престолу?
— Награды не выпрашивают. Разве не вы, тетя, только что говорили о презрении к искательству? — остановил ее племянник.
— Друг мой! — Анна Александровна взяла его руку. — Верно и в свое время оценить содеянное означает поощрить к свершениям новым. Как бы одарить крыльями того, кто только и ждет, чтобы подняться еще выше. А свершения подданных — могущество и слава монархов. Разве твои ратные подвиги не к сим великим понятиям устремлены? Всею душою я чувствую: ты — горный орел. И ты обязательно обретешь крылья, с помощью которых непременно поднимешься в такие выси, которых до тебя еще никто не достигал. И тебе вовек будет благодарна Россия.
При последних словах тети в гостиную стремительною походкой вошла средних лет дама и, приветливо улыбаясь, произнесла по-французски:
— Я вам не помешала?
— О, как я вам рада, мадам Лебрен! Представьте, я только что собиралась рассказать о вас моему племяннику. Горю желанием представить вас друг другу.
Анна Александровна сказала, что Виже Лебрен — самая превосходная, самая известная в Петербурге парижская художница. Князя же Петра отрекомендовала как героя недавней войны.
— Будь добр, не смущайся, — обратилась она к нему по-русски, — ты ведь довольно знаешь французский, чтобы не только понять наш разговор, но и принять в нем участие.
Петр и вправду вначале смутился. Когда-то, впервые приехав в Москву, он по настоянию тети стал брать уроки французского, которого до той поры не знал.
Учителем оказался старый француз, живший в доме Дарьи Александровны. Изо дня в день застенчивый, но упорный юноша постигал тайны чуждой речи, которая все более и более его завораживала. Вскоре он стал хотя и с ошибками, но говорить уже бойко. А читать — даже успешнее, потому что здесь его никто не мог смутить тем, что он в чем-то ошибся.
Однако сколько с той поры воды утекло? Лишь изредка ему попадалась случайная французская книжка да иногда встречался кто-то из говоривших на сем языке.
Со знающими отменно он не решался говорить, но понимал почти все, что при нем произносилось. Так вышло и на сей раз: он понял разговор, но сам предпочел говорить по-русски, надеясь, что тетя переведет его ответы, а гостья извинит.
Виже Лебрен и впрямь оказалась художницей, которой в Петербурге, как сказала Анна Александровна, не было прохода — каждый приличный дом старался ее заманить, чтобы заказать портреты. Особенно преуспевали дамы из высшего света.
— Мадам Лебрен обладает одной удивительной способностью, — с милой улыбкой объяснила Анна Александровна Петру, — она нас, свои модели, делает более очаровательными, чем мы есть в жизни.
— О нет! — не согласилась Виже. — Князь Петр может подумать, что я таким образом всем вам льщу. Ничуть не бывало! Просто в каждом лице я отыскиваю ту черточку, что составляет главное существо характера моей, как выразилась княгиня Анна, модели. Не правда ли, любой человек, особенно если это женщина, — превосходен, если в лице его выражается все то лучшее, что в нем самом заключено?
— Ах, как вы правы, мадам! — вырвалось у Багратиона, и он покраснел, заметив, что сказал это по-французски.
В комнате, которая временно была отведена под мастерскую, на мольберте стоял холст в подрамнике. Голова Анны Александровны была уже вчерне прорисована. Но лицо еще не было окончено.
— Угадайте, князь, над чем я бьюсь, чтобы выявить главную сущность княгини? — обратилась художница к Багратиону.
— Душа. А душа — эфемерна, ее не отобразишь на полотне. Не так ли?
— Браво! — воскликнула мадам Лебрен. — Вы угадали, князь. Но глаза, глаза! Разве они не зеркало души?
Глава шестая
Пятого ноября 1796 года, где-то в середине дня, великий князь Павел Петрович сидел в одной из беседок своей любимой Гатчины и пил кофе. Неожиданно ему доложили: прибыл граф Зубов.
Павел страшно побледнел. Как, этот негодяй и развратник, очередной фаворит его матери? Да как он посмел! И тут же новая мысль едва не разбила его в параличе: а вдруг по приказу маменьки ее любимчик приехал его арестовать?
Ходили ведь слухи: не его, сына и законного наследника, а своего внука Александра[14] императрица назвала в завещании своим преемником.
От испуга почти лишенный дара речи, он ничего не успел указать камердинеру, как увидел на дорожке парка спешащего к нему генерала.
Да, это был Зубов. Но не Платон, а его родной брат. Тут же отлегло! Выходило: по всей вероятности, какое-либо сообщение от матушки.
А может, она дала коварный приказ — не просто арестовать, а убить?
С них может статься — что матушка, что ее любовники.
Оба Гришки — сначала Орлов, а затем Потемкин, — никого не стыдясь, открыто насмехались над ним, великим князем. Этот же, самый молодой и самый, должно быть, наглый из них, что на целых сорок лет был моложе царицы, вовсе лишился всякой совести. Однажды его, сына императрицы, целый час продержал пред дверьми своего кабинета, так и не приняв.
Николай Зубов еле перевел дух от быстрой ходьбы и, сняв шляпу, поклонился:
— Спешил, ваше высочество! Чтобы, значит, опередить, первым сообщить: вам следует пожаловать в Зимний дворец. Императрица… ваша матушка… Надеюсь, ваше в-в-высочество, вы еще поспеете… Лошади уже ждут…
Во дворце перед Павлом все почтительно расступались. Он же, даже не заглянув в спальню, где кончалась его мать, бросился в комнату рядом.
Вот и бумаги ее! Павел оглядел сановников, что находились здесь же, и понял: они что-то искали. Он пристально вгляделся в лицо каждого и, с трудом скрывая волнение, спросил:
— Вы ничего не обнаружили, касающегося до меня?
— Ничего, ваше…
Слава Всевышнему! Все сорок два года, как появился на свет, он ждал этого дня. Сейчас, сейчас все должно свершиться — он станет императором.
А завещание? — вдруг содрогнулся он. Враки. Его не могло быть. А если оно и существовало, то эти, стоящие сейчас перед ним, бумагу сию уже уничтожили или, найдя, сегодня же сожгут в его присутствии. Ведь как лебезят, как затрепетали!
Что ж, от страха до преданности — один шаг. «Мне теперь будут нужны те, кого унижала матушка, и те, кто теперь уже предвкушает мое величие».
Он бросил взгляд на Николая Зубова. «Отчего он спешил ко мне первым? Хотел поступком своим спасти брата, а может, и самого себя? Его, его — братца! Сам, конечно, был также в фаворе, всегда на глазах у матушки. И место хорошее, и дуру в жены ему подобрала сама — дочь фельдмаршала Суворова.
Ладно, с каждым сам разберусь. Но матушкин разврат и ее порядки, дух потемкинский и в армии и в государстве истреблю начисто!..»
Как привечал бессовестных карьеристов и как злопамятно мстил своим врагам, вскоре поведает судьба братьев Зубовых. Платону, чтобы сделать больнее, сначала, обняв, скажет:
— Все я забыл. Кто старое помянет… Так вроде бы говорится?..
А затем отправит в отставку, предаст суду и вышлет за границу.
Николая же сделает обер-гофмаршалом своего двора.
Но верх окажется за братьями — и Платон и Николай примут самое рьяное участие и в заговоре против Павла, и в его убийстве. А пока…
На другой день, к вечеру, все было окончено — матушки не стало. Новый император, взяв за руки двоих своих сыновей, появился перед толпою придворных, уже готовых к принятию присяги.
Он был в узком, стеснявшем фигуру мундире прусского образца. В такую же военную форму, в которую недавно одевалась лишь личная гатчинская гвардия Павла Петровича, были облачены Александр и Константин. Они напоминали собою старые портреты немецких офицеров, выскочивших из своих рамок, как полушепотом высказался кто-то из острословов после сей церемонии.
Сии ехидные слова могла бы произнести и Анна Александровна Голицына, к тому времени совершенно уверовавшая в явное превосходство своего острого ума над сонмом заискивающих посредственностей. И вела она себя, можно сказать, иногда даже вызывающе независимо. Не случайно однажды Павел, выведенный из себя неучтивостью княгини по отношению к порядкам при его дворе, приказал «намылить ей голову».
Сказана было, безусловно, в том смысле, чтобы строго ее отчитать. Но такая уж наступила пора — исполнители стали проявлять старания, в которых наряду с подчеркнутой исполнительностью сквозила и неприкрытая насмешка.
Да и как, с другой стороны, возможно было определить, где буквальное указание, а где — некий словесный оборот, если именно за точное следование приказам люди получали поощрения самым немыслимым образом?
Получив указание императора, петербургский военный губернатор граф Пален, приехав в дом княгини, спросил таз, мыла, горячей воды и самым почтительным образом выполнил предписанное ему поручение.
Вот происшествие, похожее скорее на анекдот. Но в нем очень точно схвачена логика крайних требований императорской воли, которые любое самое здравое дело могли довести до абсурда и ужаса.
В одной деревне, где остановился полк, к командиру эскадрона, сидевшему за приятным обедом, явился вахмистр.
— Ну что?
— Ваше благородие, все благополучно, только жид не хочет отдать сено по той цене, которую вы назначили.
— А у других жидов разве нет?
— Никак нет-с.
— Ну, делать нечего. Дай жиду сколько спрашивает да повесь его!
Через некоторое время вахмистр возвратился.
— Ну что еще?
— Все сполнил, вашбродь. Сено принял и жида, как вы изволили приказать, повесил.
По свидетельству современника, Павел, узнав о случившемся, разжаловал офицера в рядовые за соучастие в убийстве, но тут же произвел его в следующий чин за введение отличной дисциплины и субординации во вверенной команде.
Однако вернемся к общей картине тех новаций, что в одночасье привели к невероятным переменам всей российской жизни.
Столица внезапно, по существу в первую же ночь царствования нового императора, приняла вид немецкого города. В такую же форму, как государь и его сыновья, оказался одетым весь петербургский гарнизон — букли, косы, узкий мундир и узкие же штиблеты… Было бы в какой-то степени внешне не так трагикомично, ежели бы форма сия оказалась современной, в которую в ту пору была облачена и немецкая армия. Так нет же! Хуже и придумать было нельзя: гвардию и армию переодели по тому образцу, который существовал в немецких государствах чуть ли не сто лет назад.
В полках еще помнили слова Потемкина: «Завиваться, пудриться, заплетать косы — разве это дело солдат? У них нет камердинеров!»
Но вон, вон из голов эту придумку «кривого»! Все должно быть так, как у Фридриха Великого[15]. Солдат — автомат, инструмент для беспрекословного исполнения приказов, не допускающего никаких собственных размышлений и маневров. Солдат — атрибут государства и императора. Вещь, предмет неодушевленный. А коли он — атрибут, знак государства, то и весь его вид обязан соответствовать представлению об этом государстве — один к одному, у всех одно, им, императором, заданное лицо.
Павел достиг, чего хотел, — ни один солдат не отличался от другого в роте, батальоне, полку. Но какими мучениями сие достигалось! За день до развода или учений солдаты проводили над буклями и косами целую ночь. Парикмахеры — по два на эскадрон или батальон должны были употребить нечеловеческие усилия, чтобы справиться с обязанностями.
Делалось сие таким образом. Кауфер, то бишь парикмахер, пропитывал волосы своего пациента смесью муки и сала, смоченных квасом. Для этого они набирали предварительно в рот квас и прыскали им на солдатскую голову, скручивая нещадно волосы и втирая в них что есть силы сию дурацкую смесь. Операция производилась так грубо, пальцы кауфера так сдавливали головы, что многие лишались чувств, как под пыткой.
Впрочем, пытка продолжалась и после завивки. Нельзя было прилечь, чтобы не испортить прическу, и солдат остаток ночи проводил без сна, торча как какой-нибудь оловянный солдатик или попросту чурбан.
Мундиры настолько были узки, что в них трудно было дышать. Узкие штиблеты жали ноги. А с рассвета, уже на плацу, муштра продолжалась с еще более изуверскими ухищрениями. За оторванную пуговицу солдата ждала палка, офицера и даже генерала — отставка. Ежели не в порядке полк, не так исполняет предписанные артикулы, могла последовать команда самого императора:
— Левое плечо — вперед! В Сибирь — шагом марш!..
Вся столица стала казармой. Под строгие требования государя подпали не одни только военные. Было объявлено, чтобы «торгующие фраками, жилетами, стянутыми шнурками и с отворотами сапогами или башмаками с лентами их отнюдь не продавали, под опасением жестокого наказания».
Полицейские чины стали сновать по всему Петербургу с палками, которыми сшибали с прохожих круглые шляпы французского образца, кои были, так же как фраки, жилеты и обужа с лентами, строжайше запрещены.
Разрешалось носить только «немецкое платье с одинаковым стоячим воротником». Вводились немецкие же камзолы, башмаки только с пряжками, отменялись галстуки, косынки и платки, коими увертывали шею. Шея, говорилось в объявлении полиции, обязана быть без «излишней толстоты», для чего, кроме галстуков и платков, брались, так сказать, под арест и жабо, успевшие к тому времени войти в моду.
Все офицеры, гражданские чины, дворяне и иные сословия, надевающие немецкое платье, обязаны были пудрить головы. У Павла Петровича вызывало гнев одно упоминание о французских нарядах. Он говорил, что терпит в столице семь модных парижских магазинов лишь по числу семи смертных грехов.
К подобным «грехам» были отнесены вальсы, которые отныне нельзя было танцевать, и русские наряды, в которых до сей поры, по повелению Екатерины, появлялись на балах даже самые знатные дамы.
К своей персоне новый государь требовал особого поклонения. При представлении ему следовало не просто стать на колено, но ударить этим коленом об пол так громко, как будто ружейным прикладом. Протянутую государем руку надо было целовать, громко чмокая, чтобы звук поцелуя слышали все окружающие.
Мимо императорского дворца полагалось проходить не иначе как сняв шляпы. Гуляющие же в Летнем саду, считавшемся государевым, вовсе должны были прохаживаться без шляп.
Что же оставалось делать кучеру, когда карета приближалась к царской резиденции? Он брал вожжи двумя руками — это тоже стало обычаем в Павловом Петербурге, а шляпу тем временем схватывал зубами.
Кстати, о едущих в каретах. При встрече с императором им следовало останавливаться и проворно выходить. И не важно, кто они — вельможи или дамы уже преклонных лет, молодые актрисы, едущие из театра в бальных туфельках, — все вон! В любую погоду — в снег, грязь по колено, в слякоть и даже в оказавшуюся у подножки огромную лужу…
Только после того, как несколько дам иностранного происхождения таким образом в дурную погоду промочили ноги и продрогли под проливным дождем, делая реверансы проезжавшему мимо Павлу, он сделал для некоторых иноземок исключение. Разрешил в плохую погоду, выйдя из дверцы, оставаться на подножке кареты.
Такое позволение, кстати, получила мадам Виже Лебрен, чем несказанно гордилась. На подданных и иностранцев мужского пола, невзирая на их заслуги и даже преклонный возраст, сие исключение не распространялось. Они обязаны были проворно вылезать из экипажей и, вытянувшись по стойке «смирно», снимать шляпы и кланяться монарху.
Но не дай Бог, если кто не остановится или не покинет вовремя мягкого и уютного сиденья. В подобном случае карету задерживали и конфисковывали, а кучера и лакеи подвергались немедленной порке.
Неимоверные строгости вскоре привели к тому, что улицы Петербурга, особенно в самом центре и примыкающих к нему местах, постепенно пустели. Только всюду торчали, вызывая страх и самые неприятные мысли, полосатые — белое с черным — будки часовых. А рядом с ними — такие же полосатые шлагбаумы. К ночи они запирались, при них выставлялись усиленные караулы, в домах же, как по команде, гасли огни.
Все в городе — Зимний дворец и сам Петербург — превратилось в огромную казарму. А казармы строились и там, где их не было. Для этого сносились на окраинах старые дома, расчищались поляны, на которых размечались новые плацы для обучения войск.
В разных местах столицы в течение целого дня слышались пальба и барабанный бой, под который экзерцировали мушкетеры и гренадеры, егеря, гусары, уланы я кирасиры…
Люди острого ума и язвительного языка в своих семьях или в кругу близких друзей отводили душу, высмеивая причуды нового государя. Боже упаси высказаться где-нибудь в общественном месте! Тут не то что целые выражения — каждое слово следовало тщательно подбирать.
Мало сказать, что как из ушата полились на русские головы немецкие слова, во многих случаях заменившие русские команды в войсках. Даже некоторые природно-отечественные речения, не имеющие никакого отношения к высшим государственным нововведениям, оказались под строжайшим запретом. К примеру, слово «курносый». Попробовал кто-нибудь внятно и громко его произнести где-нибудь на улице — тут же его под микитки и в полицейский участок.
— Вы это почему так непочтительно и запанибратски о его величестве государе всероссийском?..
Княгиня Анна Александровна не раз говаривала знакомым:
— Благодарение Богу, мы сие запретное слово у себя никогда не употребляем. У меня самой и особенно у моего племянника — носы другие…
А как же те, кому так просто не отшутиться, у кого обязанность — всякий день пред его оловянными очами и этим самым императорским носом пуговкой? Приходилось смиряться. Однако находились и такие, что бросали вызов императору-сумасброду и с гордо поднятой головой подавали в отставку.
Кончанское — в новгородских землях, за почти непроходимыми лесами и болотными топями.
— Прошка, ты какой подаешь мне пакет? На нем — адрес: «Фельдмаршалу графу Суворову». Таких здесь нет. Фельдмаршал обязан находиться при войсках, я же — только при тебе, своем камердинере, дурья твоя башка. Так и ответствуй тому курьеру из Петербурга: нетути здесь таких, кому император Павел отписал… К тому же сегодня я на похоронах. Доставай мой парадный мундир и бери лопату.
Фельдъегерь, только что прибывший из столицы, вытянулся в струнку, пропуская в дверях Суворова. Седой хохолок — торчком, кроме белой рубахи и белых же исподних, на Александре Васильевиче ничего нет.
Встречные мужики почтительно снимают шайки:
— Здравия желаем, Лександра Василич!
Ребятня за ним ватагой: старый барин опять что-нибудь учудит. Айда за ним!
На околице остановились.
— Рой, Прохор, здесь. А я зачну с другого конца. Землица рыхлая, мягкая, пусть она станет для покойника пухом.
— Да окститесь вы, Лександра Василии! Нешто видано это — заживо себя хоронить? — Прохор отбросил заступ.
— Ты вот что, Прохор, мне не перечь. Совсем ты меня Замордовал: этого нельзя, то — под запретом. Ты что — императором Павлом при мне заделался? Я должен раз и навсегда похоронить в земле то, что давно умерло, — славу Суворова.
Яма вышла не глубокой. Суворов взял с травы мундир — перезвоном отозвались брызнувшие вдруг под солнцем алмазы и золото орденов.
— Зарывай! Вот и конец фельдмаршалу. Ты здесь, императоров гонец? Скачи назад. Так и передай тому, кто тебя сюда направил: нету в Кончанском такого…
С первых же дней нововведений Павла Суворов их не принял:
— Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, я не немец — природный русак.
В нескольких словах — вся оценка того, что внедрял в войсках государь.
А по поводу нового военного устава — еще хлеще:
— Сие сочинительство — перевод манускрипта, на три четверти изъеденного мышами и найденного в руинах старого замка. Чему мне учиться у пруссаков, которых я сам, в молодости еще, нещадно бивал? А вот на моей, суворовской, тактике учились французы и их молодой генерал Бонапарт[16]. Глядите, как широко и твердо шагает сей мальчик. Пора бы унять! Но чем — пудрой и буклями?
Он передал Павлу прошение:
— Мне поздно переменяться, ваше императорское величество. Я хорош только для войны, а, простите, не для плац-парадов.
Шестого февраля 1797 года, после развода войск, Павел отдал приказ: «Фельдмаршал граф Суворов, отнесясь его императорскому величеству, что так как войны нет — ему нечего делать, за подобный отзыв отставляется от службы».
Были в его жизни раньше случаи, когда он обязан был отстоять свою честь и собственное достоинство?
Екатерина, еще до того, как за Польский поход и взятие Варшавы удостоила Суворова звания фельдмаршала, щедро его награждала за громкие победы. Только за Очаков он, единственный из участников штурма, ничего не получил. Князь Таврический, желая проучить самоуправца, не внес его имя в наградные бумаги.
Однако потемкинский гнев остыл, и награды вновь находили героя. Через год после Очакова за победу под Рымником императрица возвела полководца в графское достоинство с титулом «Рымникский». А также наградила бриллиантовыми знаками Андреевского ордена, шпагою с бриллиантами и надписью: «Победителю визиря», бриллиантовым же эполетом и орденом Святого Георгия, первого, самого высшего класса.
Потемкину она написала: «Хотя целая тележка с бриллиантами уже накладена, однако кавалерию Егорья большого креста посылаю по твоей просьбе, он того достоин».
Да, он, Потемкин, просил высший знак военной доблести для человека, с которым не раз скрещивал копья.
А выражать свою обиду на светлейшего Суворов не боялся. После Очакова, когда гнев Потемкина достиг небывалого предела, оскорбленный полководец с горечью ему отписал: «Моя честь мне дороже всего. Бог ее защитник… Я не спичка. Моя рана?.. Она была смертельна, и, кажется, мне еще придется с нею повозиться до будущей недели. Вы знаете, что врачи существуют, чтобы скрывать от нас правду… Я чувствую в настоящую минуту и прежние мои раны, но я хочу служить, пока я жив».
Раны, наносимые Потемкиным, заживали быстро. Оба по-своему больших человека, они умели смирять свои самолюбия. Амбиции и оскорбленное самолюбие, капризы и прочие личные слабости — все прочь, все побоку, когда дело шло о славе России.
И матушке императрице он мог сказать в глаза такое, на что немногие бы отважились.
Его любимую дочь Наташеньку государыня решила взять под свою опеку — сделать своею фрейлиной.
— Не надо, матушка, ради Бога, откажись от сей затеи. Средь фрейлин — один разврат.
— Да ты, Александр Васильевич, не беспокойся. Я ее от себя никуда не отпущу — будет жить в моей спальне.
— Вот этого-то я, государыня, пуще всего и боюсь…
В случае с Павлом Первым — не просто упрямство на упрямство. Или же дерзость, когда не сказать правду в лицо — значит себя не уважать. Тут обрыв всей прошлой и настоящей жизни. Впрямь могила, над которою — крест.
Обида жгла. Неспроста ведь — похороны мундира, скакание на палочке с детворою по всей деревне. А то — приезд к соседу на дрожках, в которые впряжен чуть ли не табун лошадей.
Но сказал Прошке, а значит, в первую очередь себе: в Петербург не вернусь.
Только следом за курьером — из столицы Андрейка Горчаков, племянник. Двадцать первый год ему, а царский флигель-адъютант.
— Что, князь Андрей, главный барин наш погнал из дворца, сказал, чтобы один, без меня, не возвращался? Знать, приспичило ему. Не война ли, прости Господи, на его носу? Тогда, выходит, близко: уже слышу — трубы трубят, пушки заговорили, а пехота — в штыки!
— Война не война, — пожал плечами флигель-адъютант, — а по всему, любезный дядюшка, видать: наши союзники австрияки готовятся дать окорот французам. Больно уж шибко пошли они на захват в Европе. Но зовет вас государь на иной предмет: поглядеть, как хороши его войска.
Суворов нахохлился:
— У меня что — дел здесь своих нет, чтобы я еще в чужие вникал? Вон видишь, где мы с Прошкой живем — избушка на курьих ножках. Там, за перегородкою, — гостиная, спальная и мой кабинет. Всего на каких-нибудь десяти метрах. А Прошка — за печкой. Дом еще отцовской постройки, вишь, сгнил. Ноне его перестраиваю. Так что переночуй, князь Горчаков, на лавке в сенцах да поутру и двигай назад. Скажи: строиться изволил бывший генерал-фельдмаршал. У вас — парады. У меня — плотничья страда. Время, выходит, делу, а вашей потехе — час. Или еще лучше ему передай, коли не оробеешь: гусь свинье — не товарищ.
За перегородкою было слышно: ворочается сам, не спит. Кряхтит и Прохор, жалуясь молодому князю:
— Чего он ломается? В толк не возьму. Царь ведь сам — на колени пред ним. Или вся у вас такая, прости Господи, суворовская порода? Матушка ваша — Лександре Васильичу родная сестра. Да нет, вы — гляжу — покладистый, службу знаете.
Утром приказал:
— Собирайся, Прохор. Едем к царю. Только ты всю ночь спать мне мешал. Чего меня моей суворовской породой корил? Или в Праге, в Кинбурне, Очакове и Рымнике не моя, суворовская, фамилия побеждала, когда у иных кишка была тонка?
Одно осталось в памяти от той встречи с царем — учения на плацу. Павел даже командование ему передал:
— Парад, слушай генерал-фельдмаршала!
Хотел ответить: «Не фельдмаршал я — помещик, дом у себя вот строю. А еще — птиц в комнатах держу. Как поют, сердешные!»
Но глянул в солдатские лица — они, служивые, чем виноваты? И — провел учения, показав, как надо идти в штыковую атаку.
Тут же и заторопился домой. Был при шпаге. К тому же, как и требовал павловский, «мышиный», устав, нацепил ее сзади, между фалдами мундира, наискосок.
Прыг в карету на глазах у всех, а шпага возьми и застрянь в проеме двери. Разогнался снова — и опять шпага поперек. Развел руками: мол, вот что такое прусская форма и ваш устав. Не с противником — с собственною шпагою только солдату и воевать…
И потекли по-прежнему дни в Кончанском, пока в самом начале 1799 года не объявился новый курьер с государевым рескриптом:
«Сейчас получил я, граф Александр Васильевич, известие о настоятельном желании Венского двора, чтобы вы предводительствовали армиями его в Италии, куда и мои корпуса Розенберга и Германа идут. И так посему и при теперешних европейских обстоятельствах долгом почитаю не от своего только лица, но и от лица других предложить вам взять дело и команду на себя и прибыть сюда для въезда в Вену».
И в другом, как бы частном, письме:
«Теперь нам не время рассчитываться. Виноватого Бог простит. Римский император требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии. Мое дело на сие согласиться, а ваше спасти их. Поспешите приездом сюда, и не отнимайте у славы вашей времени, а у меня удовольствия вас видеть».
— Так-то, — довольно пробурчал себе под нос Суворов и крикнул — Прошка! Где ты, дурья башка? Или не ведаешь, что царь меня у себя ждет. На войну идем! Так что беги к старосте и попроси в долг двадцать пять Рублев. Да лошадей приготовь. А по дороге отцу Иоанну накажи, пусть открывает храм. Молебен будем служить!
Глава седьмая
Русские солдаты шли по Европе строем, иначе — походным порядком.
— Ать-два! Ать-два!.. Запе-вай!
Где-то в голове колонны высокий, чистый, сразу берущий за душу звонкий голос затянул:
На утренней на заре, На солнечном восходе Распрощались два дружка В пустом огороде. Распрощались два дружка На вечные веки…И тотчас слева, справа от запевалы и по всему строю подхватили:
Разошлися навсегда За моря и реки…Прямая, очищенная от снега, без ям и ухабов дорога только что, казалось, вывела из аккуратного немецкого городка, как впереди — за каменною оградою — новая кирха, красные черепичные крыши, деревья с подстриженными кронами.
Эхма! Где ты, Россия?.. Неужто воистину, как поется в песне, — разошлися навсегда за моря и реки…
Только недавно, считай, были Брест-Литовск, за ним — Варшава… Многие еще помнили, как пяток лет назад гремели здесь бои с поляками, теперь же впереди, бают, другой противник — француз.
Но где те края, населенные хранцами, как сразу на свой лад русский солдат окрестил еще не виданных в глаза врагов? Поляков и турок знали. Старики помнили пруссаков и взятие Берлина. А вот хранцы — те кто? Доходило лишь: басурманы. Кто же, как не нехристи, взялись рушить троны, рубить головы своим и соседским царям, прозываемым королями?
Чтобы наказать басурманское племя и идем мы, православные христиане, с именем Господа по чужим странам и городам.
Идем спасать народы, божеские троны, самим Творцом освященные.
Вот что — с первой же команды «марш!» от самой границы у Брест-Литовска — вошло в голову и сердце каждого воина и вело их теперь через Вислу к незнакомой реке Рейну.
А там, за Рейном, говорили знающие, и лежит та земля хранцев.
— Париж. Будем воевать Париж — их главный басурманский город…
Только вдруг в налаженном ходе — сбой. Первая весть, что доставили фельдъегеря из Санкт-Петербурга: император Павел Петрович повелел остановиться. Следом — другая: воротить войска назад! А через какое-то время — новый приказ: повернуть на Вену!
Тут не только солдаты — офицеры и генералы развели руками: что у них там, в Петербурге, — семь пятниц на неделе?
Боялись называть вслух того, у кого на неделе и пятниц, и понедельников, и сред — семь раз по семи. Но войска ведь не на плацу — в чужих уже краях, за много сотен верст от дома. И не какие-нибудь два или три батальона — целый армейский корпус. А в нем — семнадцать тысяч штыков да сабель и еще тысячи три казаков. Армия!
Однако первая заповедь войны, от нижнего чина до генерала: не рассуждать, а исполнять. И — из германских краев повернули почти под прямым углом в Австрию.
В начале прошлого, 1798 года Багратион был произведен в полковники. Ныне, в феврале 1799-го, спустя всего год, уже на походе, получил чин генерал-майора. Производство коснулось и других офицеров в корпусе. Сие означало: русский император посылал в помощь союзникам не первые попавшиеся под руку военные силы, а части отборные, где генералы — во главе полков, как, к примеру, в тех частях, что у него маршируют на плацу.
А полки, посланные против «якобинской заразы», были действительно из лучших. Но не только по меркам императорских вахтпарадов. Расположенные в основном вдоль западной границы, они готовились не к смотрам — к войне. Среди них был и Шестой егерский полк князя Багратиона, дислоцированный в Волковыске, между Гродно и Брестом.
К осени прошлого года, когда еще только начались переговоры между Австрией, Пруссией и Россией о том, чтобы совместными усилиями выгнать французов из захваченных ими чужих земель и уничтожить якобинцев в их логове, Россия пообещала выделить два пехотных корпуса.
Деньги на ведение войны давала Англия. А деньги, как всегда, предмет раздора. Еще не двинув свои войска, даже толком не определив, где и как станут действовать, австрийцы вдруг потребовали, чтобы русские шли на подмогу не к пруссакам, а к ним. Из Вены, через Северную Италию и Швейцарию, — самая прямая дорога во Францию, а, дескать, не с севера, через Рейн.
Тогда Павел Петрович и ударил своим ботфортом в пол: остановить войска! Ишь, хитрецы, хотят русскою кровью вернуть свое господство в италийских королевствах, отнятых у них французами. Ни разговоров с австрияками, ни помощи им — воротить войска!..
Но и австрийцев не так легко провести, коли они твердо стояли на своем. Их император Франц, считавший себя ни много ни мало наследником правителей Римской империи, решил подсластить пилюлю. Единственный полководец, кто может возглавить союзные войска, это русский Суворов. Просим прислать к нам вашего гения. Мол, не так нас изволили понять. Не просто солдатиков ваших желаем, чтобы ими, сердешными, прорехи затыкать, всю славу предстоящей войны отдаем в русские руки.
Это мгновенно переменило решение Павла: если уж сам римский император признает верховенство России — сие величайшая честь!..
Корпус Андрея Григорьевича Розенберга, в который вошел и Шестой егерский полк Багратиона, двигался к Вене ускоренным маршем. Идти так поспешно полкам и казакам было с руки, потому что маршировали, в полном смысле слова, налегке. Не было полевой артиллерии, обозов с провиантом на много недель и даже месяцев вперед. Вся поклажа пехоты — ружья и ранцы у солдат да шпаги у офицеров. Даже интендантских служб не было. Фураж и сено для лошадей, хлеб, мясо и другую провизию для своих солдат сами эскадронные и батальонные командиры закупали у местного населения по пути следования колонн.
Продовольствием, пушками, порохом, понтонами для перехода через реки — всем, коротко говоря, что необходимо для действующих войск, обеспечит Австрия, уверяли себя и солдат старшие офицеры и генералы.
Так, налегке, не обремененные лишними тяжестями, русские воины, вступив в Австрию, в марте уже оказались в Северной Италии и расположились лагерем, вокруг города Вероны.
Сюда к ним спешил и их почти уже семидесятилетний полководец.
— Андрей Григорьевич! — Суворов не скрыл радости, увидев Розенберга. — Сколько лет прошло после Крыма, а помню, помню вас. Как славно мы там турок бивали. А ныне вот надо французишек проучить. Как полагаете, осилим?
— Без сомнения, ваше сиятельство. — Розенберг щелкнул каблуками.
Седой хохолок Суворова вскинулся вверх, и полководец отступил в глубину зала.
— Атаковать! — донеслось до генералов. — Холодное оружие, штыки, сабли… Не терять ни минуты, брать, преодолевать все препоны на пути, даже те, что брать сверх наших сил! А догонишь бегущих — уничтожай каждого, коли не бросят оружия. Помни: быстрота, натиск — матерь и отец победы. Согласны?
— Так точно, ваше сиятельство, — ответил Андрей Григорьевич, когда Суворов стремительно, как и отбежал, вернулся к строю генералов.
— В бою, в бою буду рад увидеть, кто согласен со мною, — вновь завертелся как волчок Александр Васильевич. — А вот они, французы, — моей, суворовской, школы. Как воюют пруссаки и те, у кого мы нынче в гостях, — австрийцы? У них кордонная тактика: наступает первая линия, за нею — вторая, третья. Как действую я, а теперь и французы? Строя нет — всяк идет — в атаку, имея свой маневр. Столкнулся с неприятелем — первого заколи, второго срази пулей, третьего — вновь штыком или прикладом. Ты — один. Но ты — жив. Их же — трое, но они уже не встанут. Виктория? Виктория, да еще какая!.. Только Господь за что-то прогневался на меня — лишил возможности стать победителен самого Бонапарта, услал его в Египет. Что ж, и генералы его не плохи, хвала Богу и за сей подарок. Ну а наши, русские военачальники каковы? Познакомьте меня с вашими, Андрей Григорьевич, помощниками.
— Позвольте представить… — начал командир корпуса и назвал стоявшего на правом фланге шеренги.
Маленькие глазки полководца почему-то вдруг заслезились, и он смахнул слезу руками.
— Рад, рад, — произнес он, так, кажется, и не разобрав фамилии представляемого.
И другой не остановил внимания.
— Первый раз слышу, — отозвался о третьем и потер глаза, теперь уже ладонью. — Но — рад знакомству.
— Генерал-майор Меллер-Закомельский! — Розенберг подвел фельдмаршала к следующему в строю.
— А-а, помню, — встрепенулся Александр Васильевич. — Не Иван ли?
— Точно так, ваше сиятельство! — отрапортовал генерал.
Суворов поклонился:
— Послужим, побьем французов. Нам честь и слава!
Следующим был назван генерал-майор Милорадович.
— Ты ли, Миша? — Суворов сделал к нему несколько шагов. — Теперь вижу: ты. Ну, здравствуй! Сколько же тебе годков? Двадцать восемь! Помилуй Бог, как вырос. Я же тебя помню верхом на палочке, когда в доме твоего батюшки угощался я пирогами. Какие они сладкие были — до сих пор не могу забыть. Ну, давай, Михаил Андреич, поцелуемся. Ты будешь героем! Ура, ура тебе!..
Перестал смахивать слезу, когда подошел почти к крайнему, среднего роста, ловко сбитому, мускулистому генералу. Выразительное лицо. Большой, с горбинкою, нос и черные живые глаза.
— Никак, князь Петр? — Суворов опередил Розенберга и обнял Багратиона. — Конечно же это ты, орел! Помнишь Очаков? А Прагу? Здесь, говорят, что ни город, то крепость. Вот тебе их и брать! Дай я тебя поцелую — в глаза, в лоб, в губы.
Багратион зарделся:
— С вами, ваше сиятельство, я готов штурмовать небо. Только прикажите!
— Хочешь, чтобы приказывал? Приказывать — моя обязанность как главнокомандующего. На тебя же, князь Петр, у меня иной расчет: ты и без приказа будешь у меня впереди всех. Разве не так?
От лица Багратиона враз отлила кровь — так он взволновался. Но скулы вновь порозовели:
— Спасибо, от души спасибо, ваше сиятельство, за эти слова. За доверие. Это — как получить благословение отца.
Теперь почему-то вновь у Суворова покраснели веки, и на впалую, желтую щеку скатилась слеза.
— Я стар. Слаб. А замена — вот она. — Смахнув слезу, бросился в крайний угол зала — и оттуда Розенбергу: — Ваше превосходительство! Мне бы два полчка пехоты и два полчка казачков. А?
Командир корпуса недоуменно втянул голову в плечи. Потом попытался улыбнуться:
— Так ведь в воле вашего сиятельства все войска. Которым прикажете?
Фельдмаршал снова приблизился, повторив:
— Только два пехотных полчка и два — казачьих.
Розенберг, продолжая улыбаться, развел руками:
— Готов вместе с вами просмотреть роспись всех полков и батальонов. Смотря какую цель имеете в виду, ваше сиятельство. Коли цель — разведка, можно, с вашего позволения, и с меньшими силами…
Суворов нетерпеливо перебил:
— Далеко ли противник? Кто им командует?
— Шерер.
— А-а, этот генерал-квартирмейстер? Чего же ждать? Пока он, каптенармус, все солдатские пуговицы перечистит?
Розенберг уже перестал улыбаться:
— План операции, как известно вашему сиятельству, составляет гофкригсрат. Река Адда, по его указанию, — наш рубеж…
— Гоф-кригс-рат! — раздельно, по слогам повторил Суворов. — Немогузнайки, канцелярские, штабные крысы!.. Что ж, коли война — будем и с ними драться…
Рано утром следующего дня Суворов объехал войска и вновь собрал генералов.
— Так как же, милейший Андрей Григорьевич, — фельдмаршал снизу вверх заглянул в лицо генерала, — надумали насчет двух полчков?
К Суворову подошел Багратион:
— Мой полк готов, ваше сиятельство!
— Так ты понял меня, князь Петр? Понял? А кто еще с тобой?
— Вызвался командир сводного гренадерского батальона подполковник Ломоносов и майор Поздеев с полком донских казаков.
— Тогда — с Богом! Иди и готовь их. Завтра тебе с ними — в бой. Твой отряд — авангард. А за тобою — я. Со всеми нашими и австрийскими войсками. Но ты — сам себе голова. Только — вперед. И помни: голова хвоста не ждет.
Глава восьмая
В две недели армия Суворова разметала передовые отряды французов. Шерер потерял семь тысяч человек. То был разгром почти всей французской группы войск в Северной Италии. Старого, дряхлого генерала, которого вот-вот мог хватить апоплексический удар, сняли с должности и заменили молодым генералом Жаном Виктором Моро. О нем ходила слава как о первом сопернике самого Бонапарта.
Русские и австрийцы к этому времени были уже на противоположном берегу реки Адды. Дорога к столице Ломбардии — Милану — была полностью открыта.
Моро, как Бонапарт, как другие лучшие генералы Директории, считал главной основой победы молниеносное нападение. Так он и Бонапарт действовали до сих пор, и так они совсем недавно, три года назад, завоевали Италию и поставили на колени Австрию. Но теперь с тою же быстротою победители обратились в побежденных.
Лавры одного из блистательнейших генералов Франции Моро мог безвозвратно потерять, и потому он призвал к себе корпус Макдональда с юга Италии. Этим маневром должно было спасти не только сами французские войска, но закрыть путь к Парижу через Швейцарию, до которой было рукою подать. Туда — знали французы — шел из России на помощь Суворову корпус Корсакова.
Суворов не был бы гением, если бы не понял опасности соединения Моро и Макдональда. Он тут же выдвинул план: отрезать Моро от дороги на Геную через Нови и Бокетту и разбить эти оба корпуса по частям.
В армии Суворова было восемьдесят шесть тысяч человек. Причем русские силы составляли лишь третью часть. Две трети — австрийцы. И хотя император Франц присвоил русскому фельдмаршалу звание фельдмаршала Австрии, он все же обязан был выполнять решения гофкригсрата — высшего военного совета союзников.
Ему докладывали из Вены: не беспокойтесь, скоро мы вышлем «Орд де батайли» — в соответствии с ним вы и продолжите военные операции.
Меж тем в середине апреля казаки авангардного отряда Багратиона окружили Милан. Узнав, что следом, в двадцати верстах, и вся суворовская армия, гарнизон бежал. Казаки гнали французов, пока те не попадали под острыми саблями или, обезумев, не разбежались кто куда.
Русский фельдмаршал не сразу въехал в ломбардскую столицу, а приурочил сие торжество к светлому дню Пасхи.
Три года назад в Милан с триумфом въезжал молодой, с длинными, до плеч, жгучими черными волосами и желтым неподвижным лицом угрюмый генерал. То был Бонапарт. Его ждали. Но весь его вид, небольшой к тому же рост, совершенно не соответствующий ореолу победителя, скоро охладили пыл горожан.
Русского фельдмаршала ожидали увидеть под стать его казакам — бородатым капуцинам в черных длиннополых кафтанах. И вдруг увидели неряшливо Одетого тощего старичка на низенькой, неказистой лошаденке. Чулки его были приспущены на невысокие, давно не чищенные сапоги, пуговицы на панталонах расстегнуты. К тому же он как-то нелепо размахивал руками и что-то выкрикивал на своем варварском языке.
Перед собором он слез с лошади и пал ниц, прокричав:
— Пособи мне, Пресвятая Дева, покарать цареубийц и врагов Бога!
Из дворца, где он должен был остановиться, уже вынесли почти всю богатую мебель и зеркала и нанесли в его опочивальню сена.
Чуть в стороне от свиты находился Багратион, на лицо которого иногда набегала небольшая тучка.
— Знаю, князь Петр, о твоей ране. Ноет нога? Велю Прошке сменить тебе повязку да промыть настоем трав. Меня он не раз так выхаживал. А пока не затянется рана, будешь жить у меня. Сам рвусь с орлами далее, да проклятый гофкригсрат велит погодить до получения диспозиции.
В самой большой комнате дворца собрались русские и австрийские генералы. Среди них — француз, генерал Серюрье. Он поклонился Суворову:
— Ваша атака Адды была бесподобной, ваше сиятельство маршал Суворов! Однако — слишком уж смелой, если не сказать рискованной.
— Что делать? — не скрывая иронии, произнес полководец. — Мы, русские, воюем как умеем — без правил и без тактики. Я еще из лучших. А вон князь Багратион, которому вы отдали свою шпагу… Помилуй Бог, у него — ни планов, ни проектов заранее. Воюет, словно маэстро музыку слагает — как Господь на душу положит. А вот с одним полком и горсткою казаков расколошматил целую дивизию, коею вы, генерал, предводительствовали.
Быстро, с благословения Суворова, сколотив авангардный отряд, Багратион начал свой первый бой в Италии атакою крепости Брешиа. Двенадцать: часов он штурмовал стены замка и взял город в штыки. Более тысячи французов попали в плен, среди них оказались полковник и тридцать четыре других штаб- и обер-офицеров. Среди же боевых трофеев — сорок шесть пушек. И совсем уж чудо: с русской Стороны — ни одного раненого и убитого!
Но голова, не поджидая хвоста, двигалась все вперед. Князь Петр уже был у Бергамо, преследуя неприятеля, в панике оставлявшего свои позиции.
В самом деле, он, русский генерал, принимал решения на ходу. Так, чтобы упредить бегущих и перерезать им путь к отступлению, Багратион повелел казакам взять к себе на лошадей по одному егерю-стрелку. Расстояние было небольшое, лошадей не загнали двойною ношею, а поспели к делу вовремя.
Но и дивизия Серюрье то и дело останавливала свою ретираду, чтобы ощетиниться штыками и свинцом. Крепким орешком оказался город Лекко. Багратион уже ворвался в его стены, но французы, собрав вокруг до трех тысяч солдат, решили окружить город. Они установили пушки на склонах гор, там же рассыпали стрелков.
И через Адду рвались к Лекко французы. Их остановил, а затем и рассеял артиллерийский огонь Багратиона.
Третья или четвертая началась атака, когда остатки своей дивизии возглавил сам Серюрье. Французы двинулись с юга и севера и с северной стороны ворвались в Лекко.
Тут к осажденным в четыре часа дня подоспел гренадерский батальон, который привел Милорадович. Он окружил ворвавшихся на окраину французов и бросился на них в штыки.
Генерал Милорадович проявил себя рыцарем:
— Ты, князь Петр Иванович, блестяще начал бой, тебе его достойно и завершать. Вон видишь, к тебе среди пленных направляется сам генерал Серюрье. Тебе, победителю, и принять у него шпагу.
— Переправа через реку Адду, взятие Брешиа, а затем Лекко оказались и впрямь огромною победой. Получив донесение Багратиона, Суворов ему отписал: «Надлежит начинать солидно, а кончать блистательно. Ты, князь Петр, помог мне блистательно начать Италийский поход…»
Сам Багратион в том бою получил ранение пулей в правую ногу, в мякоть, выше колена, но ни в бою, ни после него не захотел покинуть строя. Лишь теперь с радостью согласился подлечиться и отдохнуть, когда ему предложил сие Суворов…
— Еще первый наш император Петр Великий учил нас воздавать должное мужеству и отваге своих врагов. — Суворов обратился к генералу Серюрье, а затем быстро повернул голову в сторону Багратиона. — Князь Петр, я полагаю, это сделает вам честь, если вы, победитель, возвратите достойному вас противнику его шпагу.
И когда Багратион вручил оружие побежденному, фельдмаршал произнес:
— Я отпускаю вас, генерал, в Париж. Но хочу взять с вас слово, что в сей кампании вы не станете более воевать с нами и нашими союзниками.
Серюрье переменился в лице, но, взглянув на золотой эфес своего оружия, выдавил из себя:
— Слово офицера. Однако, отпуская меня, ваше сиятельство могли бы поступить так же великодушно и по отношению к моим солдатам.
— Сия забота о подчиненных делает честь вам, — усмехнулся фельдмаршал. — Но война, увы, еще далеко не окончена. Посему пленных нельзя отпускать. Одно могу обещать: с солдатами, сложившими оружие, у нас будет хорошее обращение. Теперь же, господин Серюрье и господа русские и австрийские генералы, разрешите откланяться. Князю Петру следует отдохнуть — рана. Да и мне, старику, не мешало бы погреть свое тело, несчетно такоже ранами изъязвленное и умученное…
— А дух-то какой! Чуешь, князь Петр, как вдруг родным, нашим русским духом потянуло в древней хоромине миланских герцогов. Сено! — Ноздри Суворова жадно втягивали воздух в комнате, куда они прошли после ухода генералов.
Лукаво подмигивая, Александр Васильевич рассказал, как приехал в Вену. Сначала — к нашему послу Андрею Кирилловичу Разумовскому, затем — аудиенция у императора Франца. Так себе, лет тридцати, видать, не острого ума господин. Зато манеры, этикет у него на первом месте: вокруг гофмаршалы, камергеры, пажи… Одним словом, цирлих-манирлих.
— Ну, сразу мне звание ихнего фельдмаршала. Будто я эрцгерцог какой. У меня же, слава Богу, свой, русский фельдмаршальский чин, еще матушкою царицею Екатериною, светлая ей память, даденный. Но дальше, дальше, князь Петр, что случилось на том приеме! — Маленькие, голубенького раскраса суворовские глазки задорно заблестели.
Оказалось, ему, как важной особе, выделен в Вене дворец. Какие будут его, фельдмаршала, пожелания по убранству покоев, есть ли у него какие-нибудь особые вкусы?
— Имеются, говорю, ваше императорское величество, пристрастия и вкусы: всю мебель — кровати, шкафы разные, комоды и зеркала — вон. На пол же в спальне настелить свежего сена. И желательно — с лугов, самого, значит, духовитого…
Засмеялся и захлопал в ладоши, как ребенок. И вдруг прямо на глазах Петра Ивановича помрачнел. Щеки — впалые, острая кость на скулах — прорезались глубокими морщинами, идущими от ноздрей ко рту, лоб собрался гармошкой.
— Таким вот макаром я в первую же брачную ночь и свою жену удивил. Она, значится, на кровати, а я тут же, в опочивальне, только на полу, на охапке сена. «Ты что же, вроде бы в генералах ходишь, а беден? На соломе спишь?» Ответил ей: для закалки характера начал спартанскую жизнь с малых лет, еще отроком. Вот, дескать, до сорока трех лет дожил — никакая простуда и иная хворь не берет. Иди, мол, ко мне, женушка, спробуем на сене, как оно мило и приятно в связях с матерью-природою себя находить… Да только, знать, против природного естества обернулась женитьба — был бобылем до пятого, считай, десятка, бобылем и кончаю свою жизнь. Ты, князь Петр, чаю, еще не женатый?
— Тоже уже не первой молодости жених, ваше сиятельство, тридцать четыре года имею от роду, — ответил Багратион. — А время, когда бы семью заводить, растрачено на походы. Впрочем, почему же растрачено? Так говорить, коли походы и вся военная жизнь — в тягость. А ежели походы и сражения — желанная моя судьба? Тогда полк — вот она, моя планида. И выходит, как в солдатской припевке, «наши жены — ружья заряжены, вот где наши жены».
Суворов положил желтую, всю в синих жилах руку на Багратионово плечо.
— Вот что я в тебе сразу, с первой же встречи под Очаковым, углядел — военную кость! Таких Господь производит на заказ, поштучно. Иного с пеленочного возраста записывают в сержанты, и сам он, повзрослев, вытягивается на всяческих вахтпарадах — и, глядишь, в царевых уже адъютантах. А — тонка кишка! Не тот, брат, калибр. Мы же с тобою начали прямо с нижних чинов. Зато каждый закоулочек солдатского житья-бытья высмотрели, всю тонкость службы нелегкой вынесли на собственных плечах. И это уж точно: нашими женами, видать, до конца наших дней останутся ружья заряжены… Только, князь Петр, все же существует на свете счастье, что ни полком, ни ружьями не заменить. Для меня такая радость — моя Суворочка, Наташенька, доченька моя…
Нелепо, считай, с самой той брачной охапки сена сложилась семейная жизнь Александра Васильевича. Самому недосуг было — все войны и войны, так что невесту сыну подыскал отец, Василий Иванович. Красавица русского типа — статная, кровь с молоком, лишь умом ограниченна и избалованна. Мать — из рода Галицких князей, родня — тоже князей Куракиных, графов Паниных. Отец — отставной генерал-аншеф Иван Андреевич Прозоровский, тоже князь.
Варваре шел двадцать четвертый год, жених оказался мало того что на двадцать лет старее — некрасив, малорослый, весь кожа да кости. И пошла молодая женушка заглядывать по сторонам, на рослых да пригожих.
Как такую дома оставить, когда сам — в поход? Возил с собою по палаткам да чужим хатам, где становился на постой. Но и там Варюта находила утеху — офицеров вокруг полно. Раз даже чуть ли не с поличным поймал. Разрыдалась, сказав, что нахал ею силой овладел. Стыд и срам! Одно твердо решил: разводиться и Дочь от нее, развратной, забрать!
Взялась мирить сама императрица. Он же — ни в какую. «Коль хочешь, матушка, сделать добро, определи Суворочку в Смольный институт. А после и жениха хорошего подберем. Станешь ей, моей доченьке, посаженой матерью».
Так, собственно, в конце концов и произошло. Надо правду сказать: государыня не оставляла вниманием девушку. Частенько в Эрмитаже зачитывала вслух письма, что писал дочери отец с военного театра. А письма те — воплощение безмерной любви и ласки.
«Суворочка, душа моя, здравствуй!.. У нас стрепеты поют, зайцы летят, скворцы прыгают на воздух по возрастам: я одного поймал из гнезда, кормили из роту, а он и ушел домой. Поспели в лесу грецкие волоцкие орехи. Пиши ко мне изредка. Хоть мне недосуг, да я буду твои письма читать. Молись Богу, чтоб мы с тобой увиделись. Я пишу тебе орлиным пером; у меня один живет, ест из рук. Помнишь, после того уж я ни разу не танцевал. Прыгаем на коньках, играем такими большими кеглями железными, насилу подымаешь, да свинцовым горохом: коли в глаз попадет, так и лоб прошибет. Послал бы к тебе полевых цветов, очень хороши, да дорогой высохнут. Прости голубушка сестрица, Христос Спаситель с тобою. Отец твой Александр Суворов».
Писалось сие с войны. И об игре большими кеглями железными да свинцовым горохом — невзирая на девический возраст и нежную душу.
«Любезная Наташа! Ты меня порадовала письмом… Больше порадуешь, как на тебя наденут белое платье, и того больше, как будем жить вместе. Будь благочестива, благонравна, почитай матушку Софью Ивановну, или она тебя выдерет за уши да посадит на сухарик с водицей. Желаю тебе благополучно препроводить святки… У нас все были драки сильнее, нежели вы деретесь за волосы; а как вправду потанцевали, то я с балету вышел: в боку пушечная картечь, в левой руке от пули дырочка, да подо мною лошади мордочку отстрелили; насилу часов через восемь отпустили с театру в камеру. Я теперь только что поворотился, ездил близ пятисот верст верхом в шесть дней, а не ночью. Как же весело на Черном море, на лимане! Везде поют лебеди, утки, кулики, по полям жаворонки, синички, лисички, а в воде стерлядки, осетры — пропасть! Прости, мой друг Наташа; я чаю, ты знаешь, что моя матушка государыня пожаловала Андреевскую ленту за веру и верность…»
Наташенька давно уже замужем, у нее свой дети. А так обрадует одно лишь воспоминание о ней, любимой!
— Моментами посещает меня, князь Петр, одна мысль: приносили бы нам по воле Господа детей наших птицы-аисты. А жены… Такая, как у меня, зачем она? Разошелся — как отрезало. Когда уж в Кончанском обитал, вдруг прорезалось: стала права на какое-то имущество предъявлять… Я ж все ей, что было мое, оставил! Такая вот она. Не приведи Господи другому похожую на нее. А в первую очередь — тебя от такой вот обереги…
И вдруг, изменившись враз, заходил фертом — руки в боки. И закричал, раскрывая дверь:
— Прохор, окаянная твоя душа! Не пора ли кашу к столу подавать?
За столом совсем уж взбодрился, когда взялся за графинчик тминной водки.
— Грешен: за обедом рюмку-другую всегда с удовольствием пропущу. Красное не пью.
Хотел плеснуть из графинчика гостю, но тот смутился и отказался.
— Ах, забыл, на Кавказе — вино. Эй, Прошка, сыщи для князя ихнего, италийского.
И когда появилась какая-то замшелая бутылка, Багратион повертел ее в руках и, прицокнув языком, плеснул на донышко бокала. Пригубил и закатил выразительно вверх очи.
— Дивная лоза! Простите, Александр Васильевич, лозою у нас на юге называют виноград. А он здесь — отменный. — Он вновь бережно взял бутылку в руки и прочитал: — «Асти». Не знал сей сорт. Но не уступит нашим — киндзмараули и хванчкаре. Однако какой настоящий сын Кавказа станет порицать собственные напитки? Ай-вай, нехорошо, нехорошо я поступил! А с другой стороны…
— А с другой — вы, князь грузинский, нынче гость Италии, — засмеялся Суворов. — Разве не в обычаях кавказских хвалить дары хозяев?
— Благодарность — первейший наш обычай. За гостеприимство. А пуще того — коли кто тебе как бы родным отцом или матерью стал. А мне Россия — вторая родина, что до конца моих дней матерью стала. Вот за нее, нашу с вами Россию, я с великою благодарностью и подниму сей бокал. А за Италию и ее гостеприимство — вдругорядь, — пылко произнес Багратион.
Лицо Суворова порозовело.
— А ты ведь душою — русский. Тебя так и солдаты принимают: наш, православный, хотя и кавказских кровей. Но за слова в честь единого для нас отечества — спасибо. Я вот тоже среди этих гор иду, а знаю: честь России отстаиваю.
Налил себе тминной еще полрюмки. Тут же велел Прохору убрать в шкаф с глаз долой. Сказал:
— А вот что, князь Петр, родимой нашей не жалуешь — трезвость твою ценю. Ты и в бою, не раз говорили мне, когда сама кровь кипит, — холоден и трезв, как стекло. А я — горяч. И честно признаюсь: кипение страстей мне частенько мешает. Тебе не грех позавидовать: кровь южная, горячая, а начал сражение — кровь хладная уже, как вода в ключе. Но то как бы обман: родник, что бьет из-под земли, хотя с виду и на вкус ледяной, только сила в нем такая, что пробивает толщу скал. Вот и у тебя так — умение себя взять в руки тогда, когда, кажется, все клокочет внутри. Редкая, редкая то черта. Однако без нее — полководец не полный!..
Уже кончали обед, в двери объявился адъютант. Андрей Горчаков, племянник, упросивший государя послать его с дядюшкою в поход.
— Небось эстафет монарший из Санкт-Петербурха? — на странный манер произнес фельдмаршал.
— Эстафет, да баронский. Из Вены от Иоганна Амадея Тугута.
— Вскрывай, Андрей, да читай, переводя с их немецкого на наш русский вслух, — нетерпеливо распорядился Суворов.
То был долгожданный «Орд де батайли», иначе — план военных действий, составленный гофкригсратом и скрепленный подписью австрийского министра иностранных дел Тугута, Суворову предписывалось идти и брать неприступную крепость Мантую.
Фельдмаршал вскочил на ноги.
— Слышали: не-при-ступную! — передразнил он. — У страха глаза велики. Так ее хвастливо величал Бонапарт, когда три года назад брал у тех же австрийцев. Вот они с тех пор и повторяют, как очумелые: неприступная, неприступная!.. Это — чтобы себе славы прибавите, хотя и задним числом. А там неприступного — один бастион. Да шлюзы. Подними их — и рвы осушишь. Это он, Бонапарт, осаждал ее месяц и двадцать дней. Мы бы с тобою, князь Петр, в два счета с Мантуей сладили. Но мы займемся тем, что нам и в самом деле по плечу, — крепостью Тортона. Мантую же я отдам австрийцу Краю — пусть практикуется на том, что по силам. А возьмет — ему честь и слава: неприступная ведь!
Крепость Тортона действительно была и мощнее и неприступнее. Считалось, что король Сардинии извел на ее постройку пятнадцать миллионов. Ни тяжелые гаубицы, ни бомбы ей нипочем. Но у Суворова уже был план, как ее взять. Причем с ходу, не прибегая к осаде. А после Тортоны — скорым маршем, через реки Тичино и По — навстречу Макдональду. Разбив же его — обратиться в сторону Турина и взяться за разгром Моро.
— Только тогда можно думать о Париже! — заключил Суворов рассказ о своем замысле.
— Простите, ваше сиятельство, — вставил Багратион, — но сей поход, сдается мне, как раз и не входит в расчеты наших союзников.
— Истина, истина, князь Петр! Ты прав: им бы все крепости, города да земли, что захватил у них еще Бонапарт, быстрее вернуть нашею, русскою кровью. А затем — выставить нас из своих пределов!
— Об этом и я, — подхватил Багратион. — Посему считаю: разделить войска на две части. Одна, по предписаниям венских тактиков, берет крепости. Другая — в основном наши, русские войска — идет бить Макдональда. Резон прост: пока мы не разобьем и его, и войска Моро, какое же это будет завершение кампании? Сейчас — лето. Упустим же время — уходить на зимние квартиры? То ж — что осада Очакова, растянувшаяся на целый год и угодившая в самую макушку зимы — с морозами и гладом…
— И у меня сие на уме: сейчас в их диспозициях — глупость, обернутся же эти «Орд де батайли» — не приведи Господь — сущим предательством. Посему надо спешить. Уходим, уходим, из Милана! Хороший город и храм у них великолепный. А сено-то, сено — дух луговой! Только солдату залеживаться — грех. Это им, австриякам, быстрота в наступлении — неведомая наука. Я днями их генералам письмо отослал. Андрюша, зачти-ка князю копию.
«До сведения моего, — значилось в письме, — доходят жалобы на то, что пехота ваша промочила на марше ноги. Виною тому погода… За хорошею погодою гоняются женщины, щеголи да ленивцы. Большой говорун, который жалуется на службу, будет, как эгоист, отрешен — от должности… У кого здоровье плохо, тот пусть и остается назади… Глазомер, быстрота, стремительность! — на сей раз довольно».
— Сие — верно: кто на войне печется об удобствах и уюте, — усмехнулся Багратион, — пускай дома сидит. А тех, кто наукою военною хочет овладеть, тех должно обучать. Коли выпадет время, я, ваше сиятельство, намерение имею: показать австрийцам сквозную атаку. Убедился уже в бою бок о бок с ними — боятся штыка. Не то что французы — с ними наши считают за честь сойтись на штыках. Так бы и союзников подтянуть.
Сие — мудро, князь Петр. А нога? Мне говоришь: в поход. А сможешь? Сейчас велю за лекарем послать. Про Прошку это я тебе так — чтобы к себе заманить, отдых какой-никакой тебе дать.
Глава девятая
Полковник граф Романов ехал в Италию к русской армии. На всем пути следования, от Санкт-Петербурга до Вены и далее, ему оказывались поистине царские почести. В польских, а затем и в австрийских городах навстречу выезжала местная знать, в его честь давались обеды и балы, а на подставах и почтовых станциях всегда ожидали сильные и сытые лошади.
Поезд необычного путешественника состоял из нескольких огромных, украшенных российскими гербами карет. В одной из них ехал он сам с двумя генералами, назначенными к нему вроде дядек-воспитателей, в других — его адъютанты, пажи, секретари и слуги. А впереди кавалькады скакала чуть ли не рота личного конвоя.
Почет и радушие, которые проявлялись на всем пути следования, его радовали. Высокий, атлетически сложенный, со светло-голубыми глазами, он не скрывал значения своей персоны и еле заметною, но довольною улыбкою отвечал на подобострастно-почтительное к нему отношение.
Полковник был молод: через несколько дней там, в Италии, куда он направлял свой путь, ему исполнится ровно двадцать лет. Потому все в нем бурлило и кипело, подчас прорываясь наружу не просто подчеркнутым проявлением значимости собственной персоны, но в отдельных случаях даже бурными проявлениями крутого нрава, хотя, в сущности, в душе он был добр и незлопамятен.
Полковничий чин, как и положение, которое он должен был занять в армии — волонтер, были для Него наскоро придуманы в Санкт-Петербурге. Дело, собственно говоря, было в том, что великий князь Константин Павлович уже несколько лет находился на генеральских Должностях. Сначала, по вступлении на трон его отца, Павла Первого, он был назначен шефом лейб-гвардии Измайловского полка, затем инспектором всей кавалерии.
Великий князь с детских лет мечтал о военном поприще. Занятия за книгою он презирал. Потому на уроках или засыпал, или под тем или иным предлогом норовил их пропустить. Зато уже на плацу он преображался — овладение ружейными приемами, построениями, парадным шагом поглощало его целиком и полностью.
Старший брат Александр тоже с детства был привержен военной науке. Но разница сказывалась в том, что наследником престола более занималась бабушка, императрица Екатерина Великая, желавшая видеть в своем любимце в первую очередь утонченную натуру.
Предметом для подражания Константин выбрал отца, более всего на свете любившего вахтпарады и маневры. Потом в распоряжение отрока Константина отец отдал полтора десятка настоящих, живых гренадеров, как иным мальчикам в том возрасте дарят, положим, оловянных солдатиков. И как те, иные, строят где-нибудь в своей комнате игрушечное воинство и отдают им, бесчувственным, приказания, иногда за непослушание подвергая их наказанию, — так отрок Константин поступал с солдатами одухотворенными, гоняя их без устали и сострадания с утра до ночи по плацу, ставя в караулы у собственных покоев и на всех тропинках Царского Села.
Великий князь проявил себя крайне усердным служакою. К своим подчиненным он был требовательным в каждой мелочи. Как и его отец, он мог впасть в немилосердный гнев, обнаружив у солдата или офицера неверно прилаженную буклю или косу. Тогда, в ярости, он мог вырвать у фельдфебеля усы, что называется, с мясом, велеть прогнать солдата сквозь строй, а поручика посадить на гауптвахту.
От него не раз во время учений можно было услышать:
— Офицер и унтер-офицер есть не что иное, как машины. Все, что высший командир приказывает своему подчиненному, должно быть в точности исполнено, хотя бы сие была жестокость.
В ту пору, когда по приказу Павла русский экспедиционный корпус Розенберга отправлялся в заграничный поход, великий князь высказал горячее желание принять участие в сем предприятии.
— Мне очень приятно иметь сына с такими чувствами, как ваши, — не скрыл своей радости император.
Однако он заявил, что корпус Розенберга состоит на жалованье у Австрии и он, император России, не хочет, чтобы русский великий князь отправлялся в поход на чужой счет. Когда же во главе всех войск в Италии стал Суворов, положение изменилось: деньги деньгами, но хозяйкою положения, так сказать первою Скрипкою, отныне становилась Россия. Приглашая Суворова в качестве защитника своего собственного трона, Австрия отныне сама оказывалась в зависимости от русской армии и русского военного гения. И подчеркнуть эту изменявшуюся роль державы, послав к Суворову своего сына, Павел теперь нашел не только возможным, но даже в определенном смысле необходимым.
Двигало Павлом Петровичем и другое чувство — хотя и запоздалая, но все же отместка его родной матери. Когда-то, еще во время турецкой войны, он просил у нее позволения отправиться в армию Потемкина в скромном звании волонтера. Но Екатерина не дозволила ему этого под предлогом скорого разрешения от бремени его супруги и выразила к тому же опасение, что Южный климат может повредить его здоровью. То же повторилось и во время шведской войны.
— Что скажет Европа, видя бездействие наследника престола в военное время? — вскипел Павел.
— Она скажет, что ты послушный сын, — спокойно и холодно возразила ему императрица.
Но какое же горькое чувство обиды пережил он, когда вслед за этим она, его мать, сочинила комедию под названием «Горе-Богатырь» и приказала ее разыграть в Эрмитаже. В пьесе был выставлен неразумный сын-царевич, просившийся у матери-царицы на войну. Мать отпустила его неохотно. Он же, вместо того, чтобы проявить в бою образцы мужества и отваги, только смешил всех своими чудачествами и неумными забавами.
Говорили, что своим насмешливым произведением Екатерина хотела высмеять шведского короля Густава Третьего, затеявшего неудачную войну с русской державой. Но более прозорливые тут же без труда догадались, что мишенью, в которую императрица направляла свои стрелы, был ее собственный сын. «Горе-Богатырь» был как бы еще одним подтверждением того решения, что она давно уже вынашивала: не сыну Павлу, который суть слабоумное существо, а ее внуку Александру следовало передать трон.
Теперь Павел мог доказать всем, как чудовищно жестока была к сыну почившая в Бозе императрица и как справедлив к сыну собственному и по-государственному дальновиден он.
Меж тем сражения — не смотры пред окнами дворца. И солдафон не значит солдат. Сии различия до Павла вряд ли могли дойти. Однако о них знал австрийский император Франц, который с распростертыми объятиями принял августейшего гостя, кстати говоря, своего будущего родственника. В те дни как раз уже был подписан договор о браке великой княжны Александры Павловны, старшей сестры Константина, с братом австрийского императора — эрцгерцогом Иосифом.
Великому князю были приготовлены апартаменты в Бурге, императорском дворце, где он и расположился. Обедал постоянно с его величеством, а свита его — за гофмаршальским столом. И почти каждый день — парады и смотры войск. Голова шла кругом у великого князя от такого гостеприимства. И если бы не напоминания Дерфельдена о том, что Суворов в Италии одерживает победу за победой, неизвестно, сколько бы еще дней длилось пребывание в Вене.
Генерал от инфантерии Вильгельм Христофорович Дерфельден был давним сподвижником Суворова, хорошо знал его натуру и близкую ему по духу «науку побеждать». Отправляя его в Италию в свите собственного сына, Павел даже полагал, что старый генерал, коли что случится с самим главнокомандующим, сможет его заменить.
Настойчивость Вильгельма Христофоровича наконец дошла до великого князя, и он заторопился.
— Ваше величество, как ни чудесно у вас в Вене, но долг повелевает мною, — Константин стал прощаться.
— Мой долг сделать все, чтобы воспоминания о Вене и венцах стали самыми приятными в вашей жизни, — произнес император. — Однако долг у нас, августейших особ, всегда должен быть на первом месте… Кстати; а почему бы вашему высочеству вместо Италии не отправиться на Рейн? Ваш будущий зять эрцгерцог Иосиф как раз назначен мною главнокомандующим моею армиею, действующей там против Франции.
«Действующая армия» — то сказано было с некоторым преувеличением. Армия скорее стояла на биваке, не прибегая к активным действиям, ожидая лишь подхода корпуса Корсакова да стремительного прорыва Суворова через север Италии и Швейцарские Альпы.
Что же было в тех словах? Умысел: а вдруг что-либо непредвиденное случится с великим князем там, где войска не просто маршируют, а где льется кровь? И не уберечь, а благословить сына императора-союзника на возможную смерть — сия мысль не могла не беспокоить австрийского императора.
Справедливости же ради следует сказать, что великий князь хотя и начал службу с солдафонства, оказался не робкого десятка. И в дальнейшем Суворову не раз приходилось хвататься за голову и причитать:
— Господи, не дай случиться непоправимому. Коли что произойдет с великим князем, я его не переживу.
Впрочем, подчас отвага ходит об руку с безрассудством. Второе качество даже перевешивает первое. И тогда не знаешь, чего же пуще остерегаться в таком, с позволения сказать, смельчаке.
Выступив из Милана, союзная армия двадцать первого апреля достигла берегов По. А через пять дней уже перешла реку.
Этим стремительным наступлением Суворов спешил вбить клин между войсками Моро и Макдональда. Сейчас же крайней точкою клина, его острием оказался отряд Багратиона, укрепившийся в Вогерах. Сюда, на самый ответственный участок, прибыл фельдмаршал, а следом за ним и полковник граф Романов, иначе — великий князь Константин.
— Какая досада, милейший Александр Васильевич, — обратился к фельдмаршалу сын Павла, — я только что узнал: пала крепость Пескиера. И такой успех союзных войск: взято девяносто орудий и восемнадцать канонерских лодок. Прав был отменно знающий вас Вильгельм Христофорович: мы явились к шапочному разбору.
— После взятия Пескиеры — мы господа на озере Ди-Гарде и над коммуникациями с Тиролем и Швейцарией. Сего мы и добивались, — пропустив похвалу мимо ушей, ответствовал Суворов великому князю. — Хорошо на сей раз дрались австрийцы. После Пескиеры у генерала Края выросли крылья — вон как устремился брать следующую крепость — Мантую. Так пойдет — куда с добром! Я ему и Тортону уступлю. А нам с князем Багратионом отсюда вперед и вперед надобно спешить.
Константин Павлович обратился к Багратиону:
— Еще в Петербурге был наслышан о ваших, князь, успехах. Полагаю, это не будет секретом, если скажу, что в первых же донесениях из сих италийских краев его величеству фельдмаршал Суворов назвал вас, князь, наиотличнейшим генералом, достойным самых высших степеней. От души, как солдат солдата, поздравляю вас, — протянул он свою руку и пожал Багратионову.
— Внимание вашего высочества ко мне — огромная честь, — произнес князь Петр.
— Как же, я хорошо помню вас, — продолжил Константин. — Мы с вами и с вашим зятем князем Голицыным чуть ли не в один день были удостоены новых назначений. Я — инспектора кавалерии, князь Борис получил полк конной гвардии и чин генерал-майора. Вы же были произведены в полковники и стали командиром Шестого егерского полка. Говорят, отличный стал полк.
— В боевых качествах Шестого егерского вы можете лично убедиться, ваше императорское высочество. Полк вот он, на этих позициях. Именно им, моим егерям, да еще приданным мне казакам я обязан всеми успехами.
— О нет, князь Борис рассказывал мне, что в самом наилучшем виде вы проявили себя еще до сего Италийского похода. Не так ли, любезнейший граф Александр Васильевич?
— Все, что известно его императорскому величеству и вашему высочеству о князе Петре, — то истина, — подтвердил Суворов. — Ныне же вы сможете и сами найти подтверждение сим справедливым свидетельствам. Верю: громкие победы Багратиона — впереди. И то, что ваше высочество изволили прибыть именно в авангардный отряд, делает честь вашей прозорливости. Именно отряду князя Петра предстоят наитруднейшие и в то же время самые славные дела. Но развивать наступление предстоит нашим главным силам, руководимым Андреем Григорьевичем.
Услышав о главных силах, великий князь выразил нетерпение:
— Если вы, граф Александр Васильевич, не имеете возражений, я, пожалуй, съезжу к Розенбергу.
Когда Константин, окруженный конвоем, ускакал, Суворов с облегчением вздохнул:
— Я уж и не чаял, как бы его от тебя, князь Петр, спровадить. Далеко ль до беды, когда бы он у тебя остался? Известно ведь: дурная голова не дает и ногам покоя. Вот и кинулся бы, необстрелянный, в огонь. За это — и мне б головы не снести. А ежели плен? Не миновать тогда позора и постыдного мира с супостатами. Вот что может наделать сей августейший пострел, не так ли, князь?
Багратион ответил не сразу. Видно, какая-то мысль пришла и ему. Потом неожиданно сказал:
— Строгостью августейшее высочество не одернешь. Запретительные приказы его лишь более распетушат. Тут, ваше сиятельство, хитростью надо воздействовать.
— Это же как? — вздернулся Суворов. — Назвать наше наступление ретирадою, чтобы упрятать его в обоз?
— Иногда, чтобы унять, следует не унизить, а, напротив, возвысить. Возвысить хотя бы в его же собственных глазах, — уклончиво ответил Багратион.
— Понял, — выкрикнул фельдмаршал. — Сунуть дитяти в руки игрушку. Погремушку какую, так? Токмо у меня здесь — война. Вон мы с тобою, князь, генералы, а не раз уже продырявлены. Оловянные же солдатики, они там, в Санкт-Петербурге и Царском Селе, остались, чтобы ими играться…
Войска Розенберга стояли как раз супротив Валенцы — города на противоположном берегу По. По ночам казаки вплавь переправлялись через реку и гарцевали под носом у французов. По ним постреливали, но не так чтобы сильно. Не уходит ли противник? Вдруг он, чтобы удержать крепость в Тортоне, решился бросить туда свои главные силы во главе с самим Моро?
Великий князь со своею свитою, к которой присоединился и генерал Милорадович, только что проехал на виду Валенцы и подтвердил: там, на высоком противоположном берегу, одни пикеты.
— Выходит, Моро и вправду покинул город, — нерешительно стал размышлять Розенберг. — Но для атаки все же у нас мало сил: я только что отдал приказ моим полкам подтянуться.
Молодцеватый, с красиво посаженной головой и широко развернутыми плечами, Милорадович произнес:
— Ждать — потерять время! Чему учит Суворов? Атака, натиск, штурм…
— От Александра Васильевича я только сей час получил повеление: отойти от Валенцы. Выходит, фельдмаршалу виднее: отошел или не отошел с главными силами Моро.
Повеление Суворова гласило: «Ваше высокопревосходительство Андрей Григорьевич! Жребий Валенцы предоставим будущему времени… Пока все ко мне переправятся, оставить обвещательный казачий пикет. Вы же наивозможнейше спешите денно и нощно российские дивизии переправлять через реку По для соединения в стороне Тортоны, собирая из всех прилежащих к месту наибольшее количество судов».
— Вот же перед нами, у Бассиньяны, переправа через По! Зачем, оставляя ее, искать переход в другом месте? — пожал плечами Милорадович. — Я бы, дорогой Андрей Григорьевич, не стал размышлять. И переправимся по мосту здесь, у Бассиньяны, и Валенцу с ходу возьмем. А соединившись с Суворовым…
— Я первый пойду под суд! — не сдержался Розенберг.
— Ну, в таком случае я умываю руки, — усмехнулся Милорадович. — Разве не того же Суворова наука: смелостью города берут?
Услышав слово «суд», великий князь мгновенно втянул голову в плечи. Он с младенческих лет знал, как беспощаден суд за военные преступления, и никогда за время своей хотя и короткой, но ревностной службы не забывал того зловещего смысла, который таит в себе это слово — суд. Но великий князь страшился суда, который над ним мог учинить лишь император. Императорского суда стоит бояться каждому смертному на земле, каждому генералу, независимо от его прежних заслуг и ослепительной славы. Другой же страх и иная боязнь, от чего бы они ни происходили, были в глазах сына императора только проявлением страха и трусости, тех человеческих качеств, кои он презирал.
Константин распрямил плечи и выпятил грудь. Его нежно-голубые глаза чуть сузились, словно прицелились прямо в лицо, продолговатое и бледное, Розенберга.
— Я понимаю ваше превосходительство, — насмешливо выдавил из себя великий князь, — вы привыкли служить в Крыму. Там было покойно, и неприятеля в глаза не видели.
— Что? — поперхнулся генерал, — Ваше высочество соизволили меня подозревать… И в чем? В трусости, коя меня никогда не посещала…
Он резко выдернул шпагу из ножен.
— Я докажу, что я не трус! — повысил он голос и, обернувшись в сторону, где стояли его солдаты, крикнул: — За мною, на переправу!
Три батальона и казачий полк вихрем сорвались с места и понеслись к Валенце, захватив на пути деревню Ничетто. Но со склонов гор артиллерия и стрелки противника не давали возможности продвинуться далее. Тогда великий князь поднял в ружье две свежие гренадерские роты и повел их в бой. Они сбили стрелков с их удобных позиций, а против орудий французов Константин приказал выкатить свои пушки. Великий князь их так искусно расположил, что французская артиллерия вскоре замолчала.
Но со стороны Валенцы, словно туча, двигались полки. То был сам Моро и другой прославленный французский генерал Виктор.
Худшее свершилось — ни наступать на город, ни укрыться от перешедших в атаку французов не было ни малейшей возможности.
Константин вскочил на коня и бросился за подмогой. Только откуда было ее взять, если полки еще не подошли?
На какое-то время задержал наступавших Милорадович. С одним батальоном он бросился вперед. За ним поднялась пехота, что залегла перед тем под огнем неприятельской артиллерии.
В руках у Милорадовича — знамя. Он оглядел своих гренадеров и воскликнула:
— Вспомним атаку в Лекко, ребята! Как вы тогда опрокинули французов… В штыки!
Под ним ранило двух лошадей, он сломал саблю, врубаясь в ряды французов.
Восемь часов горстка русских сдерживала более двух дивизий неприятеля. Но чтобы не лечь всем замертво, надо было отступить.
Наступила ночь. Жители, которые до этого приветствовали русских, теперь стреляли им в спину. Они же перерезали канат парома и пустили его вниз по течению.
На переправе чуть не погиб и сам великий князь. Его лошадь, испугавшись, бросилась в реку. Подоспевший казак кинулся ей наперерез и, схватив под уздцы, вывел на берег.
Лишь маленький островок посреди реки стал теперь убежищем и спасением. Сбившись на нем в плотную и единую кучку, оставшиеся в живых русские солдаты и офицеры всю ночь не позволяли французам перейти протоку.
Утром, когда группа смельчаков возвратила паром, остатки храбрецов переправились на другой берег. Из двух тысяч солдат передового отряда наших главных сил, сражавшихся с противником, превосходившим в десять раз, осталась едва половина.
Это было первое поражение армии Суворова в Италии. Причем поражение, которое понесли не союзники, а русские войска, до сих пор считавшиеся непобедимыми. И что уж совсем непереносимо обидно — крах по нелепости, по вопиющей самоуверенности. И кого же? Сына российского императора, великого князя, кто, прибыв к армии, мог стать хоругвью, знаменем войска, а стал, выходило, его позором.
Суворов тотчас написал письмо Павлу о происшедшем у Бассиньяны и послал его с курьером. Но вскоре, одумавшись, другим курьером его вернул и попросил самого виновника несчастья явиться к нему.
В комнате было темно, только мерцал язычок лампадки. Возле иконы, пав ниц, истово молился фельдмаршал.
Великий князь, растерявшись, намерился тихонько уйти и подождать за дверью, пока Суворов не окончит молитвы. Но его остановил голос Александра Васильевича:
— Моя молитва — об убиенных. О безвременно лишенных жизни… Сколько их было там, вместе с вами, ваше императорское высочество?.. Я — один. А их, доложили мне, оказалось одна тысяча и две сотни человек… Да, и каждого надо отмолить. А я — один, ваше императорское высочество, кто за них в ответе… Разве не я ответствен за них перед Богом? Так что прошу прощения, не изволит ли ваше высочество подождать, пока я совершу то, что начал.
Суворов вновь бухнулся на колени и почувствовал, как рядом с ним опустился Константин. Он сложил персты и осенил себя крестом. Лицо его было мертвенной белизны. Губы шептали слова, смысл которых было не разобрать. Великого князя душили слезы.
Глава десятая
— Вы послали за гражданином Жубером?
— Так точно, мой генерал!
— Кто еще ожидает в моей приемной?
— Два поставщика конской сбруи и один фабрикант железных осей для пушечных лафетов.
— Сначала пригласите ко мне того, кто обещает новые оси.
— Слушаюсь, гражданин военный министр!
Молодой адъютант щеголевато вытянулся, а затем направился к двери.
— Вот еще что… — остановил его министр. — Нет ли свежих сведений из Египетской армии от генерала Бонапарта?
— Армия генерала Бонапарта, как хорошо известно моему генералу, находится в ведении морского министерства и департамента колоний. Таким образом…
Министр резко перебил, не дав адъютанту закончить фразу:
— Я знаю, черт возьми, что войска, находящиеся в Египте, нам не подчинены. Но от этого только хуже французским солдатам, которые вовлечены Бонапартом в преступную авантюру вдали от родных берегов. Да-да, молодой человек! Будь они в моем ведений, я тотчас протянул бы им свою руку помощи. Но, слава Богу, теперь я могу остаться в стороне и посмотреть, как выпутается этот хваленый генерал из западни, в которую он загнал и себя, и храбрых французских парней. У меня же есть заботы поважнее — спасать не Бонапарта, а Францию!.. Но сведения о положении Египетской армии, гражданин адъютант, должны тем не менее лежать на моем столе, хотя бы для этого вам пришлось их выкрасть у самой Директории!
Жан Батист Бернадот — так звали военного министра — был высок, строен, с черными локонами вьющихся волос, спускавшихся на самые плечи. Если бы не слишком крупный, орлиной формы нос на мужественном лице, его можно было бы определить как красавца. Но коль этот человек с юных лет посвятил себя служению Марсу, его внешность как раз и отвечала требованиям бога войны. Впрочем, когда он без малого через двадцать лет станет законным королем одного из самых северных государств Европы, внешность его найдут не столько воинственной, сколько, наоборот, очень привлекательной и в высшей степени миролюбивой.
Однако не станем выходить за пределы военного министерства Франции и покидать Бернадота в том качестве, в коем он пока состоит. Ибо между министерским креслом и королевским троном будет не одно кавалерийское седло, а в руках вместо скипетра — жезл маршала Франции. А маршал — значит участие не в одном сражении, в том числе и в сражениях с главным героем этой книги.
Теперь же — к делам, к делам…
— Выходит, армия может надеяться получить от вас потребное количество осей, в которых нуждается? И — даже лафетов! Так вы сказали, гражданин, как, кстати, ваше имя?..
Лафеты, оси, сбруя, конское поголовье, ружья, госпитали, артиллерия, пенсии инвалидам и снова — ружья, пушки, обозы… А хлеб, а вино, которые обязательно должны входить в довольствие солдата? Только прежде чем все это заказать, надо иметь полный комплект людей в батальонах, полках, бригадах и дивизиях…
Десять лет назад Франция, восстав против власти короля и кучки аристократов, написала на своих знаменах: «Свобода», «Равенство», «Братство». На деле эти священные понятия вскоре обернулись неумолимым терроризмом добравшихся до власти изуверов, бесправием и отношением к народу как к живому инвентарю.
И минула пора, когда Франция, свергнув собственный абсолютизм, в едином порыве поднялась против тиранов внешних. Защищая себя, она не заметила, как сама стала завоевательницей и грабительницей.
Еще три года назад, захватывая один итальянский город за другим, молодой и везучий генерал Бонапарт хвастливо заявлял, что он не требует от правительства на войну ни одного су. Солдаты, как бесчисленные стада овец на богатейших пастбищах, добывали все средства для своего существования «из-под копыт». Трофеи, контрибуции, новые непосильные налоги на побежденных помогали существовать не только тем, кто пришел в чужую страну как завоеватель, но обогащали Париж, Марсель, Лион.
Однако чужое — всегда враг собственному. Грабя на стороне, перестаешь замечать, как пустеют свои поля, падает производство в городах, замирает торговля. И — тает армия. Иссякает ее боевой дух, потому что она уже не защитница, а захватчица, становится нечем ее вооружать, не во что одеть…
В довершение же всех бед — мощный отпор коалиции европейских держав на широком фронте от Адриатики до Северного моря.
Генерал Бернадот принял пост военного министра в тот момент, когда вожаки Директории в отчаянии хватались за головы; как избежать военного поражения?
Предшественник Бернадота Шерер оставил на столе и в сейфах ворох бумаг. Но все они оказались дутыми, не только приукрашивавшими действительное положение дел, но покрывающими казнокрадов и воров. В отчетах значилось под ружьем более миллиона солдат, но в действительности — чуть более четырехсот тысяч. Договоры с поставщиками оказались чистейшей липой, финансовые документы — подделкой.
Его бы, Шерера, — под суд. Но почему бы не укрыться за пышной патриотической фразой и с гордо поднятой головой не уйти в дым и огонь сражений? За щитом словоблудия и громких фраз скрывали свою корысть и сами члены Директории, как называлось очередное правительство республиканцев. Потому и Шерера как героя отправили на войну, на самый ее основной участок — в Италию.
Но вот разразилось несчастье: на помощь австрийцам, которых французские войска вроде уже наловчились бить, пришли «северные варвары» — русские с непобедимым Суворовым. И то, что они — страшная сила, скоро дошло до Парижа. Генерал Шерер, еще недавно пересчитывавший в своем министерстве несуществующее количество солдатских сапог и мундиров, дутые сметы субсидий на довольствие и вооружение войск, допустил свой главный в жизни просчет — недооценил противника — и был смещен.
Всегда выгодно принимать пост у обанкротившегося предшественника. Ну а если преемник к тому же полон энергии и отваги, уже проявил себя в настоящих сражениях и к тому же не лишен ума и, главное, непомерных амбиций?
Всеми этими качествами обладал новый военный министр, которому, кстати, исполнилось тридцать пять лет и следовало уже по-настоящему сделать карьеру.
Революция застала Жана Бернадота молодым человеком, готовившимся, как и его отец, к адвокатской практике. Но к чему сильному и с детства мечтавшему о славе парню корпеть над книгами и примерять судейскую мантию, когда кругом огонь, грохот и рушатся троны? Он записался сержантом в морскую пехоту и так начал свое восхождение к военным вершинам.
Очень быстро он достигнет и генеральского чина. И сам Бонапарт, отправляя его после итальянских побед в Париж, к членам Директории с многочисленными трофейными знаменами, снабдит его такою рекомендациею: «Этот отличный офицер, ознаменовавший себя славою на берегах Рейна, находится теперь в числе генералов, наиболее способствовавших славе Итальянской армии. Он начальствует над тремя дивизиями… Прошу вас с возможною поспешностью отправить его обратно в армию… Вы зрите в генерале Бернадоте одного из надежнейших друзей ваших…»
Три года назад Париж встречал Бонапарта как покорителя Италии, победителя Австрии и спасителя Франции! Но счастье переменчиво. Маленький корсиканец, показавший себя героем, провалился в Египте. А его самые ближайшие боевые сподвижники вот-вот приволокут в Париж на хвосте своих отступающих армий русских казаков и австрийских егерей. Но нет, у него, Бернадота, твердая рука и ясная голова, каких, наверно, не сыщешь и во всей Франции.
Сражения выигрываются на полях? Бесспорно. И Бернадот сам доказал это не раз. Но те армии истинно непобедимы, которые имеют крепкий тыл. Вот почему нужны оси, лафеты, пушки, сбруи, госпитали и, как награда, пенсии тем, кто возвратится без ног или рук. Но и в каждой армии должны быть люди, на которых он, военный министр, а не какая-то там Директория, может всегда положиться.
Шерер сменен генералом Моро? Неплохой выбор. Но зачем Бернадоту держать на посту главнокомандующего основной французской армией человека, о котором говорят, что он соперник Бонапарта? Затмить славу маленького корсиканца способен один только человек — он, Бернадот. Посему Моро следует убрать подалее с главного фронта. Куда? Хотя бы на Рейн, где только еще начинается формирование новой армии. Потом из Италии следует переместить и Макдональда: воинская слава такая же вещь, как и лекарства, — избыток ее может повредить и вскружить голову.
Бернадот взял со стола формулярный список Бертелеми Жубера. Самый молодой генерал республики — нет еще и тридцати. Как и сам Бернадот, проделал в армии Бонапарта Итальянскую кампанию, за четыре года прошел путь от рядового до бригадного генерала. После битвы при Риволи Бонапарт о нем, еще только офицере, сказал: «Жубер — гренадер по храбрости и уже генерал по военному искусству». Далее поход в Тироль, названный походом исполинов, дела в Голландии, на Рейне, занятие Пьемонта в прошлом году… А еще, наверное, не в последнюю очередь в выборе сыграло роль совпадение: как и сам Бернадот, Жубер происходил из семьи адвоката, готовился стать юристом. Впрочем, так ли уж важно последнее обстоятельство, если, назначив Жубера главнокомандующим, военный министр тем самым сделает его своим человеком.
— Здравствуй, старый мой товарищ, — встретил военный министр Жубера, — видишь, я тебя не забыл.
Жан Бернадот происходил из департамента Южных Пиренеев и, как большинство южан, во многом обладал чертами, свойственными беарнцам и гасконцам. Во всяком случае, он любил театральность, пышность и велеречивость. Так, торжественно, с чувством, он объявил Жуберу, что назначает его главнокомандующим всех находящихся в Италии французских войск.
— Я долго перебирал — кого! И лучше тебя не сыскал! — Бернадот обнял Жубера и поцеловал. — Верю: ты вновь покроешь себя славою, которая затмит славу того, кто еще совсем недавно слыл героем Итальянской кампании…
Он картинно отстранился от Жубера и повторил еще раз:
— Да, мы все, кто обеспечил славу Бонапарту, должны получить и свою долю лавров. И еще вопрос, чей вклад в победу превысит: его или любого из тех, кто тогда был с ним рядом? Не подумай, мой старый друг, что я — о себе. Я вовсе не нуждаюсь в том, чтобы делить с кем-либо лавры. Я имею и собственные заслуги, за которые уже вознаградила и еще вознаградит меня любимая Франция.
Бернадот наконец высказал то, что беспокоило его последнее время. Год назад он взял в жены мадемуазель Дезире Клари — младшую дочь марсельского шелкового фабриканта. Все в Париже знали, что совсем недавно эта милая девица была невестою Бонапарта. На ее старшей сестре, Жюли, до этого женился Бонапарт Жозеф, брат генерала. Сам же Наполеон считался обрученным с Дезире. Но он оставил ее, увлекшись женщиной более опытной, креолкой Жозефиной.
Говорили: Наполеон Бонапарт тяжело переживал, что нанес обиду своей невесте. И чтобы устроить ее жизнь, познакомил ее со своим сослуживцем — генералом Бернадотом.
Если бы не искренние чувства, которые возникли между Жаном и Дезире, Бернадот мог бы и оскорбиться: он ни с кем не хотел делить ни славу, ни любовь! Но как он мог заглушить людские толки по поводу собственной женитьбы и якобы возникшему на этой почве соперничеству?
Вот почему теперь, коснувшись в разговоре с новым главнокомандующим Итальянской кампании, военный министр нашел необходимым подчеркнуть, что на самом деле разделяло и разделяет его с Бонапартом.
— Личное мужество и верность отечеству — вот что ныне ставит каждого из нас, истинных сынов Франции, в ряды ее самых первых героев! — Военный министр снова заключил в объятия главнокомандующего. — Верю: Франция скоро узнает о вас, Жубер!
— Не сомневайтесь, мой генерал, я не обману ваших надежд и вашего доверия. Только неделю назад я обручился с любимым и нежным существом. И я сегодня же скажу моей будущей жене, в чем готов поклясться и вам, гражданин министр: вы будете встречать меня героем или я останусь на поле боя бездыханным.
Глава одиннадцатая
Неудача при Бассиньяне не выходила у Суворова из головы. Обида жгла, как когда-то под Очаковом. Тогда конфуз приключился из-за упрямства и, скажем, растерянности светлейшего, ныне — из-за незрелости и самонадеянности сына Павла.
«Хорош государь, — распалял себя Суворов, бегая из угла в угол в просторной комнате какого-то особняка на Большой Миланской дороге. — Посылал меня в Вену — чуть ли не рыдал на моем плече: «Воюй, Александр Васильич, как умеешь, не по моим — по своим правилам». А вот прислал своего сынка, чтобы сковать мне руки и ноги да еще по его младенческому недомыслию ввергнуть меня в беду и позор! Нет, спустить ему раз и другой — он и на голову сядет».
— Андрей! — позвал Горчакова. — Пиши приказ по армии о бассиньянском конфузе. Потерь не уменьшай. Я сам Господу намедни доложил: одна тысяча и две сотни безвинно сложивших головы. И чтобы в рескрипте причина сего конфуза ясно и недвусмысленно была обозначена: запальчивость и неопытность юности. И вывод: молодо-зелено, и не в свое дело прошу не вмешиваться! Закончишь — я тотчас подпишу.
Не заметил, как в дверях оказался Багратион.
— Ну, убедился, князь Петр, чем обернулась игра в солдатики? На его, на его мальчишеской совести сей грех! Потому Андрейке я так и велю: невзирая на лица…
Багратион пожал плечами:
— А стоит ли так, ваше сиятельство, да еще в приказе по всей армии? Кто командовал корпусом, в коем случился конфуз? Генерал Розенберг. С него, стало быть, у главнокомандующего и его императорского величества и спрос. А полковника графа Романова — такого ни в формулярах каких, ни в приказах по армии не сыскать. Так кого послушался корпусной командир? Да к тому же имел ли он право допустить начальствовать хотя бы над ротой вольноопределяющегося со стороны? Я, ваше сиятельство, не токмо сими словами Андрея Григорьевича обличаю — уважение мое к нему безмерно, как и сочувствие тоже. С вашего позволения, я лишь о том, что давеча вам осмелился говорить: к делу великого князя следует прикомандировать. Тогда в ответе и впрямь станет он сам, а никто иной.
Суворов подбежал к Багратиону и, глянув ему в лицо, залился скрипучим смешком:
— Знал, что ты не столько умен, как хитер. А теперь в твоих глазах сущих бесенят углядел. Обошел, обошел ты меня, старика, ловкостью мысли. В самом деле, каков, а! Это же как, — может, ему, императорскому сынку, армию мою препоручить? С него, шалопая, станется. Небось всю дорогу, что ехал к нам, о сей фортуне мечтал втайне.
— Зачем армию, ваше сиятельство? — возразил Петр Иванович, а глаза еще продолжали лукаво искриться. — Чтобы армию передать, на то государев рескрипт потребен. Дело же, о коем я осмелился вам намекнуть, всецело в вашей собственной власти. К примеру, поручить великому князю значиться шефом моего авангардного отряда. Я — командир оного, он — как бы инспектор надо мною, что ему уже, кстати, по его прошлой должности ведомо. А вместе мы — в связке. Я стану поручать ему лишь то, в чем не усмотрю урона, а только одну подмогу. Меня же он вряд ли с толку собьет. Почудилось мне: мы с ним уже как бы пришлись по духу друг другу…
Знать, сразу после Бассиньяны Александр Васильевич не сдержался и, видно, после моления сурово отчитал виновника конфуза.
Окружающие слышали лишь, как главнокомандующий коршуном налетел на адъютантов великого князя:
— Велю сковать всех вас цепью и так, в кандалах, отправлю в Петербург, к нашему всемогущему императору Павлу Петровичу за то, что плохо блюли обязанности и не уберегли сына государя от возможной погибели в сражении. Не я, не я — вы все будете перед Богом и нашим великосердным императором первыми ответчиками за священную жизнь государева сына!
Выкрикивал им, челяди, а метил гневом в саму августейшую персону, что стояла рядом с поникшею головой. И потом — два дня кряду — на докладах у главнокомандующего Константин Павлович из независимого и громкого, каким приехал к армии, обернулся ниже травы и тише воды. Входил, когда уже все сидели, и бочком, бочком — в уголок. И — ни словечка при обсуждениях на военном совете.
Вот тогда-то Петр Иванович решился предстать пред его высочеством и напомнить об их первом разговоре в канун злополучного сражения.
— Все ж напрасно, князь, я тогда не остался в вашем полку. Полагаю, многое потерял, — признался Багратиону Константин.
— И я, осмелюсь сказать, многого лишился, — с готовностью отозвался князь Петр. — И вашего общества, и конечно же ваших проницательных советов, кои помогли бы мне еще выше поднять боевой дух вверенного мне полка. А я, признаться, уже возмечтал: наш авангардный отряд — впереди армии, и в его рядах, к неописуемому счастию всех воинов, — ваше императорское высочество.
Лицо великого князя преобразилось — взор запылал, со лба сошла тень опечаленности.
— Вы, князь, не поверите, что словно прочитали мои мысли! Кто же, оказавшись на войне среди самых первых ее героев, не захотел бы стать в один ряд с вами? — воскликнул он. — Я тотчас обращусь к фельдмаршалу…
«Первый ход я сделал верно, — отметил про себя Багратион. — Теперь следует в том же духе свершить и второй, самый главный шаг».
— Осмелюсь заметить, ваше высочество, что нет нужды обращаться к главнокомандующему именно вашей императорской особе, — остановил великого князя Багратион. — Я совершенно уверен, что граф Александр Васильевич сам уже соизволил принять должное решение. Я же только могу еще раз выразить чувства, которые меня обуревают: я буду несказанно польщен!..
Услышав рассказ Петра Ивановича о его разговоре с великим князем, Суворов воздел руки и упал на колени:
— Спаситель! Избавитель ты мой, князюшка Петр! Ну как бы я без твоей уловки выпутался из сих злополучных сетей, в кои угодил попасть, аки Глупый карась? А ежели со всею сурьезностью — так в приказе и отдам: принять его императорскому высочеству высшее покровительство над лучшею частию моей армии — авангардным геройским отрядом! Нет, не так: покровительство и ответственность. Ты где, Андрей? Рви к чертовой бабушке ту, первую бумагу и давай писать новую. А ты, князь, все же бестия! Да-с! Так ловко все просчитать… Выходит, у одних — высокомудрый ум, у других — хитрость. Что ж, и неприятеля бить, и карьер собственный делать — без сего искусства как обойдешься? Твоя же планида только восходит! Зато — какое начало для нее ты определил…
И — уже про себя, не вслух — закончил: «А сам я, при всей моей колючести и ершистости, разве бегал прочь от царевых очей? С Павлом сцепился — то ж я сам уже силу свою имел. И — пересилил его. Начинать же следует, когда ты — на глазах, когда те, от коих зависят твои успехи, — вот они, рядом… Только надобно будет как-нибудь князя Петра и от другого упредить: ближе к трону — ближе и к царскому гневу, не токмо к одной любви и благоволению. И — ближе к твоим завистникам и соперникам. Царский гнев и зависть доброхотов у трона ой как отменно я сам познал на собственном горбу!..»
Между тем война уже опять звала в седло.
Вперед! Вперед! Все, что предсказывал Суворов, сбывалось. Макдональд, спешно снимая свои войска с насиженных мест в Неаполе и Риме, двигался на север. Здесь, за Апеннинами, его ждал изрядно потрепанный Моро.
Собственно говоря, поражение при Бассиньяне в стратегическом смысле никак не повлияло на ход всей кампании. Конечно же, напрасная гибель солдат всегда оставляла на сердце Суворова незаживающие зарубки. Однако Бассиньяна для него как полководца была и ударом по самолюбию — проигранное сражение. Но для того и существуют победы, чтобы в их триумфе меркли горести неудач. А победы являлись одна за другой.
Пятого мая Моро, ободренный временным успехом, двинул вперед дивизию Виктора. Но французы столкнулись с авангардом Багратиона и еле унесли ноги, переправившись через реку Бормиду. Дивизию можно было бы полностью истребить, если бы австрийцы, которым Суворов поручил преследование неприятеля, выполнили его приказ. Но они доскакали до моста, по которому удирали французы, и повернули назад.
— Вот она, старая кордонная наука, — вышел из себя фельдмаршал. — Согнать неприятеля с какой-либо территории и считать, что ты — победитель! А враг — целехонек. Он тебя, своего противника, сердешно благодарит за то, что ты его живым-здоровым отпустил. Теперь-то он, оглядевшись и перестав дрожать от страха, отъестся, пополнит поредевшие полки — и на тебя в том месте и тогда, где и когда ты его не ждешь! И — по второму разу зачнется сражение, которое ты, наступавший, еще по первому разу мог кончить викторией. Но для сей виктории тогда нужна была малость — гнать и рубить врага, пока от него ничего не останется.;
«Прав, прав был князь Петр, когда в Милане мне говорил: боятся австрийцы штыка и сквозной атаки. Посему сию науку следует им преподать — научить еще до боя, на плацу, — вспомнил теперь Суворов. — А ну-ка я ему отпишу». И он, схватив перо, быстро набросал на листке записку, которую велел тотчас доставить по назначению.
«Князь Петр Иванович! — значилось в записке. — Графа Бельгарда войска из Тироля придут под Алессандрию необученные, чуждые действия штыка и сабли. Ваше сиятельство, как прибудете в Асти, повидайтесь со мною и отправьтесь немедля к Алессандрии, где вы таинство побиения неприятеля холодным оружием Бельгардовым войскам откроете и их к сей победительной атаке прилежно направите. Для обучения всех частей довольно 2–3-х раз, и, коли время будет, могут больше сами учиться, а от ратирад отучите».
Войска стремительно шли вперед. Австрийские генералы, и особенно члены этого чудища, как называл про себя Суворов гофкригсрат, хватались за голову: у русских ни в бою, ни на марше — никаких правил. Удивлялись: в Санкт-Петербурге — строгий регламент в каждом батальоне и каждом полку. Строгая дисциплина. Строгая форма, за малейшее отступление от коей — наказание. Здесь же, в Италии, выживший из ума старик все враз поломал! Мало того что исчезли косы и букли, алебарды у офицеров, поменялись штиблеты на сапоги, так он, этот тронутый головою фельдмаршал, поменял местами в сутках день и ночь!
А и в самом деле, он спал днем, ночью же бодрствовал. По такому регламенту в походе, между боями, жила и вся его армия, преимущественно, конечно, русские полки. Потому они совершали длинные и быстрые переходы, приходя к пункту назначения, нисколько не выбившись из сил. Фельдмаршал отправлял кашеваров в полночь. Через три часа за ними поднимались в поход солдаты. Они шли так: через каждые семь верст — отдых по часу. А в восемь утра, после двадцати пяти, а то и тридцати верст, — обед, приготовленный высланным загодя вперед десантом кашеваров.
После обеда — спать. Как и их фельдмаршал. И только к вечеру — подготовка к новому броску. Опять — кашевары вперед! Вперед палаточники и все те, от кого зависит обустройство лагеря. Чтобы пришел солдат на место — у него и брезент над головою, и в котелке — сытное варево. А в Италии в мае, не говоря уже о разгаре лета, — несусветная жара, пекло! Сколько людей потерял бы Суворов на своих стремительных переходах! Разве не стоило для этого забыть о глупых павловских уставах и наставлениях, тем более что и сам император, отправляя фельдмаршала на войну, махнул рукою: поступай там как сам знаешь и умеешь…
Май месяц стал истинно победным. Пала Валенца. Вскоре суворовские войска вступили в столицу Пьемонта — Турин. И в тот же день, пятнадцатого числа, была освобождена Алессандрия. Моро был загнан за Апеннины, и, по существу, вся Северная Италия оказалась освобожденной.
Но в том-то и дело, что по суворовской военной науке война не могла считаться законченной, пока армии противника не были до конца разбиты. А Моро как бы притаился, запрятался за скалами, выжидая лишь момента, чтобы, оклемавшись, вновь броситься на обидчика. В помощь же ему движется со своею Неаполитанскою армиею Макдональд.
Расчет французов прост: зажать союзные войска между молотом и наковальнею и враз их размозжить, оставив лишь мокрое место. Для этого у неприятеля имеются все возможности. Только под началом одного Макдональда тридцать шесть тысяч штыков и сабель. Под рукою же Суворова из его восьмидесяти — лишь двадцать восемь тысяч. Все остальные силы по строжайшему повелению гофкригсрата распылены заняты осадою шести крепостей. На крепости же теперь не следовало бы тратить силы: они сдадутся и без боя, если главные французские армии окажутся разбитыми.
И все же Суворов, несмотря на явный перевес неприятеля, решил его атаковать. Иначе говоря, разбить по частям. И сначала — самого грозного, еще не потрепанного противника — армию Макдональда, спешащего с юга.
У Жака Стефана Макдональда, тридцатичетырехлетнего генерала, сделавшего карьеру в армии Наполеона Бонапарта, не было сомнения в том, что он без особого труда опрокинет неприятеля.
В самом начале июня его войска подошли к реке По и, двигаясь вдоль нее, прямо с ходу выбили из Пьяченцы малочисленный австрийский отряд. Путь далее был открыт. И полки французов, не встречая препятствий, подошли к новому водному рубежу — реке Требии — и спокойно переправились через него.
Уверенность в успехе была настолько прочной, что сам главнокомандующий даже счел возможным пока что не идти во главе армии. У него разболелись раны, и он счел за благо отдохнуть и подлечиться в Пьяченце — первом городе, который они взяли. На всякий случай Жак Макдональд формально передал командование генералу Виктору, дивизия которого подошла к нему по приказу Моро. Однако и Виктор, не предвидя опасности, самонадеянно отнесся к поручению и тоже остался в городе. Так что полки и дивизии Неаполитанской армии двигались вперед как бы сами по себе, без единого управления.
Меж тем попавшие под удар австрийцы пришли в себя. К тому же к ним поспешили и свежие батальоны под водительством самого командующего австрийскою частью союзной армии барона Меласа.
Пока не подойдут основные силы во главе с Суворовым, барон Мелас должен был остановить и задержать наступающих. Для этого у деревни Сармато была выставлена батарея из восьми орудий. Как только показалась головная французская колонна, батарея осыпала ее картечью.
Наступающие дрогнули. Первым рассыпался строй дивизии Шарпентье. Казалось, начнется всеобщее замешательство. Но шедшая следом дивизия генерала Рюска, и особенно батальоны польских стрелков из дивизии Домбровского бросились вперед, увлекая за собою тех, кого поначалу охватила паника.
Австрийская батарея была взята. Французская и польская кавалерия лихой атакой прорвала цепи обороняющихся и вместе с пехотою стала теснить полки Меласа.
Весть о том, что Мелас едва держится, Суворов получил в тот момент, когда начал свой марш. Но теперь было ясно, что он не успеет поддержать уже вступившие в бой австрийские войска, даже если станет двигаться ускоренным порядком.
Выход был один: бросить вперед кавалерию. Пехоте же приказать следовать форсированным маршем, готовясь к встрече не только с авангардом французов, но и со всею армиею Макдональда.
Но как разделить командование, если Суворов уже отдал приказ: он сам вместе с князем Багратионом поведет четыре казачьих полка и полк австрийских драгун. Кому поручить пехоту? И тогда фельдмаршал, быстро глянув на князя Петра, подъехал к великому князю Константину Павловичу:
— Вверяю вам, ваше императорское высочество, главные силы моей армии. Не сомневаюсь в том, что войска под вашим командованием вовремя и в полном боевом порядке поспеют на театр войны. С Богом! — и, поворотив коня, вновь всмотрелся в лицо князя Петра.
«Ну как, князь Петр, по-твоему я поступил? Доверие и вправду, брат, окрыляет. Даже из самого плохого, нерадивого солдата доверие начальства может сделать героя. А что, совсем уж у сына императора нет разума и сердца, чтобы почувствовать то, что чувствует солдат, когда на поле боя офицер ему говорит: «От тебя, братец, теперь все зависит, ежели поднимешься из окопа, подползешь невидимо и снимешь вон того часового. А уж мы — следом за тобою — все разом…»
Багратион сам подъехал к Суворову и чуть слышно произнес:
— Спасибо, ваше сиятельство. Преобразили человека — враз другим станет. А польза — и ему и войску.
— Будет, будет тебе… Знаешь, цыплят по осени… А тут — целый индюк! — И — уже теплее: — Отличится — первым прилюдно отмечу и в донесении отцу его найду достойные слова…
С теми конниками, что привел Суворов, нечего было и думать одержать победу. Но фельдмаршал на такой исход и не надеялся. Расчет был на то, чтобы выиграть время.
Прискакав к позициям Меласа, Суворов послал на левый фланг Горчакова с двумя казачьими полками, а на правый — Багратиона, дав ему тоже два казачьих и один полк австрийских драгун. Момент был выбран отменный: французские драгуны увлеклись преследованием теснимых ими солдат Меласа, потеряли строй и не смогли выдержать атаки Багратиона. Смятые ударом, они в панике бросились врассыпную в собственный тыл и врезались с маху в ряды польских стрелков.
Конники Багратиона уже оказались в гуще схватки. Единственным спасением для поляков было построиться в каре. Но разве успеешь! Взмахи острых сабель, удары беспощадными пиками — и батальона стрелков как не бывало.
К Багратиону подвели польского офицера.
— Подполковник Ясиньский. Честь имею. Командовал батальоном дивизии генерала Домбровского, — доложил офицер.
Поляки; Вторая встреча с давним противником, и где — среди олив Италии.
— Значит, пан подполковник, вы снова взялись за оружие. А где же слово, что вы вместе с Домбровским давали фельдмаршалу Суворову?
— То было там, в нашей Варшаве. Вы разбили нас, сровняли с землею нашу Прагу. Что оставалось нам — смерть или позорный плен в вашей Сибири? У нас, поляков, есть клятва, которую мы дали не вам, своим врагам, а собственному народу: «Еще Польска не сгинела, пуки мы жиемы!»
— Но ваш бой, пан подполковник, вновь окончился, — сказал Багратион. — На сей раз мы не возвратим вам оружие. Отдайте его мне.
Пан Ясиньский отстегнул с пояса саблю, поцеловал клинок и протянул русскому генералу.
— Я могу умереть в вашем плену. Но здесь, в армии Макдональда, шесть тысяч моих товарищей. И — генерал Ян Хенрик Домбровский. Они отомстят и за меня, и за мою несчастную отчизну.
— Отечество ваше — там, за этими горами. — Багратион показал рукою на вершины Апеннин, что высились вдали. — Против нас же вы сражаетесь в рядах наших противников. И спор ныне не из-за вашей земли, не из-за Праги и Варшавы. Ваши польские легионеры — наемники у Франции. Она же — разорительница чужих земель и сеятельница мировой смуты…
А пехота уже подошла. Багратион, подъезжая к Суворову, увидел рядом с ним великого князя. Мундир его был расстегнут, весь в серой пыли, но лицо пылало возбуждением. Он был горд: весь путь вместе с солдатами он проделал пешком, ни разу не сев на лошадь.
— Благодарю ваше высочество, — обнял его Суворов. — Позвольте мне так и отписать благословенному нашему монарху: благоверный государь великий князь, из усердия к пользе общего блага внушая войскам храбрость и расторопность, командовал вверенными ему войсками с великим мужеством и умением. Сочту за честь, если ваше высочество соблаговолите остаться при мне.
— Ваше сиятельство, удостойте высшей для меня чести — позвольте находиться при первой колонне…
Тем временем с главными силами подошел сам Макдональд. Он с удовольствием принял известие, что перед ним — вся армия Суворова. Но сколько в ней сил, он не знал. Потому, не вступая в бой, решил подтянуть отставшие на один переход резервные дивизии.
Суворов подозвал своего племянника генерал-майора князя Андрея Горчакова:
— Ты и князь Петр нанесли отменный удар по авангарду Шарпентье, Рюска и Домбровского. Нынче надо кончать со всею армиею Макдональда, Ты пойдешь в обхват, князь Петр — в лоб. А за вами — двумя колоннами пехота.
Он оборотился в сторону великого князя:
— Полагаю, откроете путь его императорскому высочеству — ему вести первую колонну.
Багратион вполголоса произнес:
— Ваше сиятельство, вчера весь день кавалерия и подошедшая пехота были в деле. Я подсчитал: в ротах не наберется и по сорока человек.
Фельдмаршал поманил его пальцем и, делая вид, что говорит ему на ушко, произнес, чтобы услышали все:
— Говоришь, в наших ротах нет и по четыре десятка? А у Макдональда и по двадцати солдат не наберется. Атакуй, князь Петр, с Богом!..
И — с места, с гиком и свистом — понеслись казаки. За ними со знаменами, с музыкою развернутою цепью, двинулась пехота…
Три дня, с семнадцатого по двадцатое июня, шла схватка с превосходящим по силе неприятелем. Особенно отчаянно дрались польские легионеры.
Врезавшись с ходу в их строй, князь Петр заметил, как в самом центре схватки казаки окружили могучего всадника. Багратион тотчас повернул лошадь к нему, узнав в кавалеристе Домбровского. Когда-то в Варшаве Суворов разговаривал с этим отважным польским генералом. Тогда он последним из повстанцев сложил оружие. Теперь снова, как и сотни других бывших повстанцев, покинув родину, решил продолжать борьбу.
До генерала Домбровского оставалось шагов пятьдесят, не более, когда Багратион увидел поразившую его картину. Генерал был в крови, под ним была убита лошадь, но он, стоя на земле, пробивал себе путь саблей. Кто-то из казаков ударил его пикой, но он устоял. И вдруг, схватив чью-то свободную лошадь, он вскочил в седло и ускакал от своих преследователей, которые полагали уже генерала своим пленником…
К девяти вечера последнее сражение с армией Макдональда завершилось. Противник был отброшен на всех пунктах, и остатки разгромленной армии перешли за речку Треббию. Поутру Суворов бросил свои войска вдогон. Казаки окружили сначала остатки дивизии Рюска, затем — легионеров Домбровского, который и во второй раз чудом избежал плена. Армия же Макдональда потеряла шесть тысяч убитыми, пять — пленными и семь тысяч ранеными, оставленными в госпиталях на попечение победителей.
Глава двенадцатая
Заседаний военных советов Суворов не любил, сочинять подробные диспозиции — тоже. Решение о том, как действовать, он принимал, когда прояснялась вся расстановка сил, и решение это было, как правило, единственно верным в сложившихся условиях.
И получалось: не сами события, не обстоятельства вынуждали его отдавать тот или иной приказ, а его собственная воля подчиняла все вокруг и вынуждала события как бы идти тем путем, какой был выгоден ему.
За три месяца армия Суворова вытеснила французов из всех владений Венецианской республики, Ломбардии и Пьемонта. И почти каждое сражение было проявлением стремительного марша и неслыханного маневра. Так, полностью подчиняя себе обстоятельства, прославленному русскому фельдмаршалу и его самому первому помощнику в сей Итальянской кампании князю Багратиону предстояло действовать и далее.
Из окна небольшого домика, который притулился почти на склоне гор, на самой окраине города Нови, в ясное июльское утро хорошо были видны узкие, точно тропки, дороги, что серпантином поднимались ввысь. Туда через увеличительные линзы подзорной трубы направлял свой взгляд старый фельдмаршал.
Разъезды уже доложили, что там, за горным перевалом, вся армия Моро, к которой из Парижа прибыл новый главнокомандующий Жубер.
— Говорят, Жубер — самый юный французский генерал. — Суворов обернулся от подзорной трубы к Багратиону. — Что ж, коли пришел поучиться — дадим ему урок. Только как к нему подобраться? Ты, князь Петр, горный орел: на Кавказе родился, там же оставил и свою боевую молодость. Что скажешь?
— В горах, ваше сиятельство, каждый, кто хочет верх одержать, скорее не орлом, а ужом обязан оборотиться. А ужи, известное дело, внизу, в долинах и на склонах, живут.
— Так, так! — вскочил на ноги и Александр Васильевич. На нем, как всегда, одна полотняная рубашка, и та раскрыта, точно расхристана, на впалой груди. — Значит, говоришь, на равнине сподручнее?
— А как же иначе? — Большой, с горбиною, Багратионов нос уперся в окуляр трубы. — Глядите, Александр Васильевич: где развернуться на сих тропинках батальонам и ротам? Я уж не говорю о такой махине, как полк, еще пуще — дивизия. Иное дело, ежели ты — в патруле. Офицер или, к примеру, капрал да два нижних чина. Даже больше — возьмите взвод. С такою малостью, знамо дело, карабкайся выше и выше. Укройся за камнем, за выступом скалы — ты невидим. А заметил врага — кубарем ему на голову! Целая армия — иное дело. Зачем ей самой с ровного места да лезть в гору, прямо в раскрытую пасть войска французского?
— Помилуй Бог! Крамолу, крамолу ты произносишь, князь! — завертелся волчком фельдмаршал и, подбежав к Багратиону, уставился на него, замахав руками. — Изыди, изыди! Не дай Господь, до гофкригсрата дойдет, а там и до всемилостивейшего императора нашего Павла Петровича: Суворов не вперед идет, а… на камушке сидит да на Жубера все глядит. — И тут же: — Аль ты другое что удумал, а?
— Так точно, ваше сиятельство. Не сидеть, а — идти. — И, так же как Суворов, Багратион хитро прищурился. — Отойти чуть назад, чтобы Жубера с гор вот сюда, на равнину, выманить.
Хитрил, хитрил Суворов! По всему было видать, что наводил князя Петра на сей ответ, чтобы на нем, ведающем о горной войне, проверить свою задумку. Да, только так, выманив французов из-за перевала, можно будет их полностью разбить. Но как их заставить спуститься?
— Город Нови я буду сдавать у них на глазах, — еще более оживился Багратион, обрадовавшись тому, что так удачно сошлось решение главнокомандующего с его собственными мыслями. — Посмотрите, Александр Васильевич, вон там, повыше серпантина, — французские патрули: стрелки и даже две пушки. Слева и справа — снова дозоры. Пусть увидят нашу ретираду и заволнуются: куда это мы, не в обход ли? Бьюсь об заклад — клюнут!
— Ох, как бы хотелось, князь Петр, чтобы сии твои слова оказались вещими! Ты брал Нови — тебе его теперь и сдавать. Не жалко? — И, перебив самого себя, Суворов отрезал: — Верю: ты все рассчитал верно. Даю тебе добро на ретираду. Но прикинь, князь: Жубер — не дурак. Неужто он нас глупее и прямо головою кинется в расставленную нами западню? Да делать нечего — трус в карты не играет!..
Для Моро приезд Жубера к армии явился полной неожиданностью. А когда он вскрыл пакет, лицо его побледнело: его, заслуженного генерала, снимают с должности и предлагают выехать на запад, где сформировать новое войсковое соединение. Что же произошло, отчего такая немилость?
Новый военный министр объяснял свое решение военной целесообразностью: вместо двух армий, Макдональда и Моро, отныне в Италии остается одна, объединенная под командованием Жубера. Его же, Жана Виктора Моро, переводят на Рейн в видах еще большего укрепления важного оборонительного рубежа.
Однако ясно: это немилость. Вернее, расплата за последние поражения. Но как назвать поступок министра, который тому, кто выдержал самые тяжелые бои, прописывает розги, как нерадивому школяру, другому же предназначает лавры?
Что ж, так всегда: свой тянет своего. С Бернадотом Моро не был близким другом. Скорее, каждый из них был сам по себе, независим и горд. И у каждого был общий соперник — Наполеон Бонапарт. Но Моро не какой-нибудь выскочка и хитрец, как тот же Жан Бернадот. Он не покинет солдатскую службу сначала ради посольского кресла в Вене, ныне же — ради кабинета военного министра. Даже теперь, обиженный и оскорбленный, он не хлопнет дверью, оставив своих сослуживцев в трудный момент. Он не себялюбец и карьерист, как тот же Бонапарт и его почти что родственник Бернадот. Судьба тех, с кем он делил все тяготы и опасности походов и сражений, для Жана Виктора Моро важнее собственного благополучия.
— Вы не стали бы, гражданин генерал, возражать, если мы не будем спешить с передачею дел? — пересилив обиду, обратился вчерашний командующий уже к сегодняшнему. — Тем более к этому обязывает серьезность сложившейся обстановки. Перед нами — вся армия Суворова.
— О, я буду несказанно благодарен вам за те дни, что проведу в вашем обществе! Уверен, ваш исключительный опыт, ваш талант и ваши советы для меня, начинающего командующего, обернутся целой школой. Итак, что вы хотели сказать о Суворове?
— Что можно сказать о генерале, который обладает стойкостью выше человеческой? — произнес Моро. — Мне кажется, он скорее погибнет и уложит свою армию до последнего солдата, нежели отступит на один шаг.
Заметим здесь как бы в скобках. Через несколько лет человек, который и сам в душе считал Моро своим соперником, Наполеон Бонапарт, вышлет его из Франции. А еще какое-то время спустя Моро с нынешними своими противниками, русскими, примет участие в борьбе против своего главного обидчика и врага — Наполеона. И его, павшего на поле боя в Битве народов у Лейпцига, предадут земле в городе, где до этого похоронят Суворова, — в Санкт-Петербурге. Теперь же…
— Вы в самом деле такого высокого мнения о русском генерале? — удивился Жубер. — Но посмотрите: он как раз сейчас от нас и уходит!
— Уходит, — повторил Моро, — именно уходит, но не отступает. Вот что, признаться, меня озадачивает. А что вы думаете об этом маневре, генерал? Иначе говоря, что вы сами собираетесь предпринять?
Он вдруг почувствовал облегчение и одновременно неожиданное удовлетворение. Жубер ехал сюда, будто летел на крыльях за славою, а тут тебе первый орешек — разгрызи-ка! Конечно, если новым командующим будет принято совершенно глупое решение, которое повлечет бессмысленные жертвы, Моро попробует его остановить. Но каким может быть правильное решение?
Выражение лица Жубера, еще минуту назад несколько заносчивое, если не сказать самодовольное, изменилось. Из мальчика, которому нежданно выпал жребий учителя, он снова стал школяром. Мало того, что маневр Суворова его ввел в определенную растерянность. Он вдруг испытал ненависть к тому, кого с такою радостью и чувством явного превосходства ехал сменить.
«Ты рад, ты умываешь руки! — подумал он, стараясь не встречаться взглядом со своим собеседником. — Но я не доставлю тебе возможности в первый же день ткнуть меня носом в дерьмо, как какого-то напаскудившего щенка».
Однако прилив злобы, как понял вдруг Жубер, у него вызвал не Моро, а он сам. Разве не он всего несколько дней назад с пафосом заявил военному министру о том, что непременно станет героем или погибнет в бою? Вот же эта возможность: спуститься с гор на голову врага и разбить его целиком и полностью.
Конечно, у Суворова перевес в силах. К нему после Треббии подошли завершившие взятие крепостей полки, и армия его насчитывает более пятидесяти тысяч солдат. У Жубера только тридцать пять тысяч. Но разве не подобное соотношение было в сражении Суворова с Макдональдом? Только тогда меньше было русских. Тем не менее именно он, Суворов, вышел победителем.
«Что ни говори, а само Провидение дарит мне поистине небывалый поворот в судьбе — стать победителем победителя! И — именно в первом же сражении. С этой битвы я начну свой блестящий поход по всей Италии, и зарвавшийся враг побежит от меня, покрыв свои знамена позором».
Теперь красивое лицо Жубера вновь обрело черты уверенности: и превосходства. Однако он пригласил к себе генералов Сен-Сира и Периньона. Первый командовал правым, второй — левым крылом войск.
Оба они неожиданно отвергли мнение командующего; следует не атаковать, а, напротив, возвратиться к Генуе, чтобы соединиться с остатками армии Макдональда.
Жубер быстро взглянул на карту.
— Уходить? А вдруг, прознав об отступлении, Суворов развернется и начнет преследование? Здесь, в горах, недостаточное количество дорог, по которым можно увести армию под натиском противника. Нет, это гибель! — презрительно повел он плечом, оставляя про себя фразу, которую он хотел высказать не столько своим генералам, но главное — себе: «Гибель не только армии, но гибель всей моей блестящей карьеры».
Начальник штаба Сюше попытался найти компромисс:
— Наши позиции в горах неприступны. Суворов же, пока внизу, как на ладони — только успевай выбирать цели, как в стрельбе по мишеням. К тому же у русского фельдмаршала — немало австрийцев. Их-то чего бояться? Чуть сунутся — и назад, только пятками засверкают.
Поднять глаза на Моро Жубер не решался. К чему? Что бы ни сказал теперь Моро, с ним как раз и не следует соглашаться. Он, снятый с должности, обязательно натолкнет на неверный шаг. Разве не видно по его отсутствующему, блуждающему взгляду, что вся душа бывшего командующего ликует: «Что, испугался западни, в которую угодил, как только принял армию? Теперь выбирайся сам из дерьма. А мы поглядим, на что ты, выскочка и зазнайка, способен».
— Я приму решение к утру, — закончил Жубер совещание. — Спасибо вам, граждане генералы, за ваши искренние и честные слова.
Но только прилег, в памяти возникла Николь, теперь уже не невеста — жена. Он задержался в Париже с отъездом на неделю, чтобы сочетаться браком с любимым существом. Это прибавит уверенности и сил — обещать не просто обрученной, а жене вернуться героем.
Но ведь то, в чем он ей и военному министру поклялся, имело и другое значение: не пощадить себя, не вернуться домой трусом.
«Да, мои генералы правы, — мучительно искал теперь решение Жубер, — наступление губительно». Или отходить к Генуе, а там ожидать подкреплений, или укрыться в горах, не давая противнику ни малейшего шанса самому атаковать. Но, Святые Отцы, это же и есть жалкое поведение труса, думающего не о победе и славе, а лишь о том, как сохранить свою жизнь! Как же встретит его гордая Николь, что он расскажет ей о первом же своем сражении и первом подвиге, которых, не было и которых он, в ее глазах рыцарь без страха и упрека, позорно испугался?
Еще до рассвета его разбудил адъютант:
— В русском лагере мало костров. Всю ночь они их гасили один за другим.
«Нет, меня не оставило Провидение!» У Жубера исчезли остатки сомнения, и он вслух произнес:
— Значит, Суворов уходит!
— Определенно, русские и австрийцы снимаются со своих позиций, — укрепил решимость командующего адъютант. — Ночью, мой генерал, с их стороны слышался скрип телег — они снимаются. Хотя их боевое охранение — прямо перед нами, цепи стрелков залегли на равнине в кустах.
— Все верно! — Жубер окончательно укрепился в решении. — Стрелки — боевое охранение. Они снимутся последними. Мы их к тому ж еще поторопим. Передайте командирам левого и правого крыла — спускаться со склонов. Сам я поведу центр.
Суворов тоже провел ночь без сна. К вечеру он велел во всех полках и батальонах сварить кашу и затем, через одно-два кострища, начать гасить огни. Потом приказал патронным фурам произвести движение по кругу — взад-вперед до самого рассвета. Войска же с обозом отвел несколько назад, оставив впереди цепи егерей.
Перед тем как отдать окончательный приказ на начавшийся день, он с Багратионом, Вильгельмом Христофоровичем Дерфельденом, Андреем Горчаковым, бароном Михаилом Фридрихом Меласом, Розенбергом, Милорадовичем и другими, генералами выехал вперед, к егерям. Неожиданно откуда-то из засады, наперерез свите бросились драгуны числом до двух взводов.
«Свои, австрийцы!» — отлегло от сердца, когда всадники подъехали ближе и великий князь Константин Павлович обратился к Суворову:
— Далее, ваше сиятельство, я бы не рекомендовал вам направляться — французы, смотрите, колоннами движутся к Нови, а от города — сюда, на равнину.
— Благодарю ваше высочество за доклад и совет, — ответил фельдмаршал и, обернувшись к сопровождающим: — Ну, что я обещал? Выкурил, выкурил их на ровное место! Теперь только одного я боюсь: как бы сей мальчик Жубер не одумался и не стал бы уходить. А для того чтобы его ретирады не произошло, пора по нему и ударить. Ввяжутся в дело его передовые роты — тогда и остальные резко и споро станут спускаться ко мне, навстречу своей гибели. А тогда уж мы встретим их, желанных!
— А встретить у нас есть чем! — воскликнул великий князь. — По вашему, Александр Васильевич, указанию я уже успел расставить артиллерию в передовой цепи. Все батареи — в укрытиях! Вон, видите? Одна батарея — там, за рощицею, другая — подалее, в лощине. Потом — третья, четвертая…
Сморщенный, изжеванный ночными бдениями лик Суворова оживился. «Ловок, ловок оказался государев сынок! Верно подталкивал меня своими советами князь Петр — дать ему, бездельнику, дело. Чтобы у других из-под руки не хватал, а свою ношу нес. Силы-то в нем, августейшем, на таких, как князь Петр, или на тех, кто постарее летами, хватит на двоих и троих. Только что в голове, что в сердце — пустоты немало. Шефом хотел князь Петр его к себе определить. А вот должности такой у меня нет. Коли понадобится мне князь Багратион на какое самое важное спешное дело, в коем никто иной его не заменит, пожалуйте, ваше высочество, окажите честь, примите начало над Багратионовыми полками. Но — на время. И более — когда они не в сражении, а на марше… Однако он, Константин Павлович, не робок, верно мне передавали: в бою пуле не кланяется. И вот теперь с этими пушками правильно распорядился — и быстро и выгодно их расставил. Пущай же при них тут и остается — в самое пекло все ж не пущу»:
— Хвалю сноровку и воинскую грамотность вашего высочества, — обратился к сыну государя Суворов. — Полагаю, что лучшего начальника артиллерии мне и не сыскать: дело важнейшее, от коего и урон неприятелю будет отменный, и дух у своих наступающих колонн поднимем… А двинем мы теперь на них так. На тебя, князь Петр, главная у меня надежда. Иди вперед первым. Ввяжись в дело — и терпи до последнего. А я ударю, ударю, дорогой, когда увижу: самый момент. Ну с Богом, князь!
Лошадь под Багратионом, почувствовав волю всадника, взяла с места в карьер. За ним, командиром, двинулись его войска — казаки и гренадеры. Проворно выскочили из засад и бросились вперед егеря его собственного шестого полка.
— Ур-ра! — разнесся громкий клич наступающих, я они — сначала всадники, затем стрелки — набежали с ходу на синемундирную колонну французов.
Впереди французской колонны, размахивая саблей, на целых, наверное, четыре конских корпуса опережая остальных, скакал генерал. Он был безус, высок и сравнительно молод. Он что-то выкрикивал, иногда поворачивая голову назад, к скакавшим за ним, очевидно одобряя их в атаке. И они, летящие следом, отвечали ему дружными кликами, несясь вперед во весь дух.
Багратион подозвал Андрея Горчакова, скакавшего поодаль, и приказал ему взять егерей и два батальона гренадер полковника Ломоносова и подполковника Санаева, чтобы обойти французскую колонну слева. Сам же он со своим Шестым егерским, двумя батальонами гренадер подполковника Денбригина и майора Калемина решил ударить в середину французской колонны.
Но только успел князь Горчаков отъехать со своим отрядом, как первые наступающие, и среди них молодой генерал, были сражены ружейным огнем.
Скакавшие за генералом, выпрыгнув из седел, склонились над упавшим.
— Жубер! Сам Жубер! — донеслось до Багратиона и его товарищей.
«Их главнокомандующий убит? Неужели!» — пронеслось в голове князя Петра, и он увидел, как французская пехота перестроилась в каре, а несколько офицеров и солдат быстро унесли генерала, накрыв его чьим-то плащом.
— Убит! Жубер убит! Видите, они его накрыли, чтобы уберечь войска от паники, — громко прокричал в ухо Багратиону кто-то из подоспевших офицеров.
Это оказался штабс-капитан Львов.
— Голубчик, — приказал ему Багратион, — бери свою роту и останови их кавалерию. Я же с остальными пойду на прорыв.
Под рукою штабс-капитана оказалось, не более трех десятков егерей, но они смело бросились со своим командиром на всадников. Схватка была отчаянной — пало двадцать гусаров от штыковых ударов и ружейного огня. Сам Львов достал саблею генерала Горо. Он обернулся к своим, возбужденный и схваткою, и такою для него самого удачею:
— Давай, ребята! Наша берет! Гляди, князь Петр уже к Нови подходит! А я генерала завалил…
И только успел сказать, почувствовал сильный удар в грудь. В глазах враз померк свет, а голова загудела. Более он уже ничего не почувствовал: упал на руки своих солдат.
Нет, князь Петр не смог с ходу пробиться к Нови. И князь Андрей Горчаков лишь потеснил часть синих Колонн к склонам, где шпалерами тянулись фруктовые сады. А из них шли и шли новые цепи наступающих.
— Ну что, батюшка князь, придет ли к нам подкрепа, аль тут нам с тобою и головы сложить? Нам что ж, нам свои не жалко. Твоей смерти, сердешный, не хотим. Другого такого, как ты, отродясь у нас не было и не будет… — подполз к своему командиру залегший рядом в ложбине фельдфебель Мурашкин.
Мундир на Багратионе расстегнут. На лице — ошметки грязи. Губы сведены. Только голос не выдает и намека на волнение:
— Рано, Мурашкин, и тебе и мне помирать. Мне вот недавно наш Дивный говорил: жениться тебе, князь, пора. Вот у него, сказал, дочь. Наташей зовут, а он ее так: Суворочкой.
— Знать, больно уж любит, души не чает в своем дите, — подхватил фельдфебель и достал кисет с трубкою и табаком. — А уж вашему сиятельству мы такую бы пожелали жену — первую красавицу и дивной души. Дай Бог вам счастья и всего самого доброго. Редкой души вы человек…
Багратион быстро обернулся назад, заслышав, как кто-то бежит во всю прыть. Но нет, не корнет Дирин, которого он послал к главнокомандующему с запиской.
«Что ж предпринять? — думал Багратион. — Второй уже адъютант ушел с тревожною просьбою о помощи, а ответа нет. Бросить ребят еще в одну атаку? Негоже даже за пятьдесят или целых сто лишних сажен людские жизни терять. Вот подойдет подмога, тогда уже наверняка и город возьмем, и их, французов, расколошматим. А мне, видать, надо самому к Александру Васильевичу. Сказал ведь: «На тебя, князь Петр, у меня вся надежда». Теперь у меня — только на него, нашего Дивного…»
Еще издали увидал свиту главнокомандующего. Вон Вильгельм Христофорович Дерфельден, Розенберг и Мелас… Так им же по диспозиции предписано уже вести свои колонны на штурм! Что же случилось, где сам фельдмаршал? Вот тут князь Петр вышел из себя:
— Где, где Александр Васильевич? Меня там вот-вот сомнут!..
— Кричите громче, ваше сиятельство, — выкатился навстречу Дерфельден. — Александру Васильевичу пора вставать. Он спит. Нам, видите ли, приказал его ни при каких обстоятельствах не будить, а то, пригрозил, накажет. Вы же — из самого пекла. К вам — встанет.
Только теперь Багратион рассмотрел: прямо на земле, завернувшись в старый плащ, спит фельдмаршал. Но, заслышав разговор, Суворов вскочил на ноги.
— Что у тебя там, князь Петр? Говоришь, пора твой почин поддержать? Полагаю, теперь вот — в самый аккурат. А еще час и полчаса назад было рано. Как князь Андрей там, под твоею рукой, как сам ты?.. Ну, о Богом, генералы. Выводите свои колонны, как и условились. А я с тобою, князь Петр, тоже на конь… Погляжу, как там юный Жубер постигает мою науку.
— Убит. На моих глазах, — произнес Багратион, вскакивая в седло.
— Царство ему небесное, — перекрестился Суворов, садясь на свою неказистую казачью лошаденку. — Жаль: на одного ученика у меня сделалось менее.
Глава тринадцатая
На раскаленной докрасна плите стоял большой медный чан. Из-под крышки с бульканьем вырывался парок, расточая по всему дому запах вареного овечьего мяса, гороха, чеснока и каких-то душистых и острых приправ, совершенно неведомых русскому вкусу. А за окном лил и лил холодный дождь. Порывы ветра иногда с такою силою обрушивались на стены жилища, что казалось, еще один напор, и дом не выдержит.
Но дом был крепок, поскольку стены его были сложены из огромных валунов, скрепленных между собою известью, как принято строить в этих краях.
Как только суворовские войска вошли в деревню Таверно, хозяин дома Антонио Гамма попросил фельдмаршала считать себя его гостем.
Переход из Алессандрии, Асти и Риволи сюда, к подножию Западных Альп, был несложен и не очень утомил воинов. Солдаты шли налегке — на плече ружье, за спиною ранец, в котором «шильце, мыльце» и все такое прочее для немудреного в походе солдатского быта; У офицеров же вообще на плече одна шинельная скатка. И жара не очень уж угнетала — август уже переваливал на вторую половину, да к тому же марш был по суворовскому обычаю: днем — отдых, поход — с полуночи.
Здесь, в Таверно, фельдмаршал совершенно не рассчитывал делать длительный привал. По его планам следовало быстро, так сказать на ходу, перегрузить на мулов провиант, патроны к ружьям и заряды к орудиям, а сам обоз отправить вперед кружным путем — через Милан, Киавену и Энгадин туда, куда он наметил свой маршрут — к Цюриху, в Швейцарию. С обозом Суворов направлял и тяжелую артиллерию, оставив при своем двадцатитысячном войске лишь двадцать пять орудий малого калибра.
День стоял, теплый, солнце не обжигало, как в середине лета в Италии, когда днем не хватало даже воздуха. Потому фельдмаршал поначалу вежливо отказался от гостеприимства улыбчивого и веселого таможенного офицера. Но оказалось: никакие мулы в деревню не приходили.
— Может быть, герр русский главнокомандующий все же зайдет в дом? А вдруг мулов не пригонят сегодня, а лишь на второй или третий день?
— Ну вот, привет всем нам от гофкригерата! — Суворов обернулся к своим спутникам-генералам. — Этого я и страшился; Ни мулов, ни провианта — ничего, кроме скал и пропастей. Но я — не живописец!
Впереди стеною возвышался Альпийский хребет — горы, каких солдаты не видели даже в Северной Италии. Они были сумрачны и неприветливы, заслоняя собью, казалось, впереди все небо. Неожиданно, как случается часто в горах, с вершины донесся порыв ветра, темная туча нависла над деревушкой, и ударил такой ливень — холодный, как позднею осенью в России.
— В это время года Сен-Готард — самые лучшие ворота в Швейцарию. Только перевал сильно охраняется французами, — продолжал разговор Антонио, Гамма, направляясь с гостями к своему большому, в два этажа, дому. Как и его жилище, все дома в Таверно были из валунов, но более низкие, с плоскими крышами, на которые были навалены камни, чтобы кровлю не снесло порывом бури.
Внутри сразу дохнуло теплом, уютом, и Суворов, сбросив кафтан и разувшись, подошел к хозяйке дома.
— Обеда на всех хватит? Я — не едок: кожа да кости. А вот о них надо бы позаботиться, — показал на Горчакова, Багратиона и Дерфельдена, что вошли в дом за ним следом.
Говорил Суворов на какой-то чудовищной смеси итальянского, немецкого и французского, хотя сам был уверен, что в чем-чем, а в языках он силен. И впрямь, в свободные минуты на каком-то одном из иноземных наречий брался даже сочинять стихи. Впрочем, Антонио и его жена речь Суворова понимали. Хозяйка — дородная, под стать своему мужу, улыбчивая, лет сорока женщина — обрадованно рассмеялась:
— О, до чего же понятный русский язык! Он так похож на мой родной немецкий.
Хозяин же перешел на французский, быстро догадавшись, что гости так его лучше поймут.
— Первое дыхание осени. — Антонио показал на оконное стекло, сплошь залитое потоками воды. — После такого дождя дороги не сделаются сразу непроходимыми. Но поспешить нужно.
Этих слов, наверное, только и не хватало Суворову.
— Не мешкать, поспешать? — повторил он. — Но как, позвольте спросить, это сделать? Через два дня меня должны ждать там, за перевалом. А крыльев у меня нет. И нет сапогов-скороходов. Гофкригсрат забыл меня оными снабдить. Как, впрочем, и этими чертовыми лошадками, без коих нам — зарез! Позор, позор на мои седины! Как же я позволил союзникам так меня обвести — направить в этот каменный мешок, когда у меня был свой блестящий план действий?
После разгрома Макдональда, а затем и Моро Суворов был, что называется, на коне. Остатки войск, разбитых под Нови, бежали к Генуе. Разгромить их там уже не составляло труда. А из Генуи открывался путь по побережью Генуэзского залива к Ницце. И вот она, южная часть Франции, могла оказаться в руках союзный войск.
Но выходило: Вене сей победный марш ни к чему. Гофкригсрат и император Франц лишь на словах стращали Париж. Цель их была значительно проще — с помощью главной ударной силы, русских войск, заполучить в свою собственность Северную Италию.
А как же вспомогательный русский корпус Корсакова, посланный в обход? И как же все-таки с тем, чтобы раздавить якобинцев?
Ах да, сделали в Вене вид, что об этих мелочах и забыли. Корсаков пришел уже в Швейцарию? Вот к нему и направить русскую часть союзной армии во главе с Суворовым. Объединившись, они разобьют войска Массены — и путь на Париж им открыт. А мы поглядим: получится ли у них.
Позвольте, не согласились русские дипломаты. Эрцгерцогу Карлу лишь стоит перейти в Швейцарии речку Ааром шириною в две сотни шагов, чтобы соединиться с Корсаковым и навалиться на французскую армию. А Суворову что ж, лезть через Альпы? Да это же неприступная преграда, коя отделяет фельдмаршала от Карла и Корсакова! Да и зачем против Массены столько сил, когда и теперь он может быть уничтожен?
А мы как раз уже приняли решение, возразили в гофкригсрате. Армия эрцгерцога выводится из Швейцарии на Нижний Рейн. Она уже снялась и уходит. Так что Суворову следует поспешать, коли он не желает стать причиною гибели корсаковского корпуса.
Вот чем окончились переговоры и бесплодные препирательства Петербурга с Веною. Как головою в каменный колодезь, сунули австрийцы русские войска Суворова в суровые Альпы.
А в довершение — мулы, которых не оказалось на месте! Суворов был в отчаянии. Бесполезно истекал один, затем другой и третий день. Только на пятый он мог собраться в путь — пришли вьючные животные. И хотя их оказалось не полторы тысячи, как требовалось, а гораздо меньше, поход можно было продолжать.
День ото дня покидала природная веселость и уже пожилого таможенного офицера. Там, на Сен-Готардском перевале, дивизия Лекурба. Она уже обрела искусство жить и сражаться в горах. А они, русские?
Большинство в пехоте никогда не встречали тех ущелий и теснин, что ждут их впереди. А казаки — как они думают гарцевать на своих лошадях в тех местах, где и одному человеку бывает трудно ступить, рискуя сорваться в пропасть? И еще: кто поведет эти тысячи людей по неизведанным тропам? Как не прислали необходимого числа мулов, так, видно, забыли союзники и о провожатых.
— Вести войну в горах надо уметь, — в один из вечеров осторожно начал разговор таможенный офицер. — Я бы взялся, к примеру, рассказать вашему генералу об особенностях Сен-Готарда, да есть ли кто сведущий в горных уловках?
— Уверен, Антонио, что все мы ни к чему не гожи? — задиристо спросил Суворов. — А вот на этого чернявого генерала погляди. Разве не горный орел?
— О, итальяно? — воскликнул Антонио, обратившись к самому молчаливому гостю — Багратиону.
— Да нет, он — наш. Что ни на есть чистый природный русский, — засмеялся Суворов. — Только с Кавказских гор. Не слыхал? Там он и родился, вырос и там воевал. Он меня уже кое-чему из горной войны научил. Так что давай объясни ему на французском наречии. А о чем не докумекаете, я встряну: князю Петру по-нашему, по-русски растолкую.
— Вы, сказали: он — принц? Настоящий?
— А что? Да, принц, а по-нашему князь, — подтвердил Александр Васильевич. — Я с недавних пор тож в князьях обретаюсь. Мне сюда уж, после Нови и Мантуи, государев указ пришел: за ратные мои труды впредь именоваться мне князем Италийским. Також и всем потомкам моим — мужеского и женского рода. Но то, видишь, — дарованное. У Багратиона сие прозвание природное. Он не просто князь, а — царского рода! И с отцовской и с материнской стороны.
Антонио, не мигая, смотрел на русского чернявого генерала, очень похожего на итальянца. Теперь, когда фельдмаршал заявил, что этот генерал даже не просто принц, а происходит из цесарского рода, он растерялся.
Как же так? — спешно разводил он руками, то оборачиваясь к Суворову, то снова обращая свой взгляд на скромно сидящего рядом за большим обеденным столом черноглазого гостя. Цесарский сын? Но вот же здесь, в их Таверно, в соседнем доме у кума стал на постой человек, о котором все в войске говорят: сын русского императора.
Молод. Высок. Могуч. Только лицом не совсем вышел. У чернявого нос огромный, а у того — пуговкой. И взглянет на тебя ненароком — застынет кровь. Иногда лишь мелькнет что-то доброе в небесно-голубых глазах. Но если что ему не понравится, глаза тут же делаются водянистые, стекленеют.
По утрам, когда он приходит сюда, к фельдмаршалу, где все другие генералы давно уже в сборе, они перед ним разом встают и кланяются. И сам русский главнокомандующий смешно так подбегает к императорскому сыну и чуть не переламывается в поклоне.
Восседает вот за этим столом, иногда развалясь в кресле. Если кто из других генералов к нему обращается, подчас даже не повернет головы. Только перед одним главнокомандующим сбрасывает свою холодность и спесь. Видно, одного его он здесь и уважает. Да нет, с чернявым принцем всегда обходителен. За столом наклонится к нему и что-то скажет на ушко, отчего сам и засмеется громко. Иногда, входя или, наоборот, прощаясь, положит чернявому руку на плечо и даже обнимет. И он, чернявый, с императорским сыном прост, как и со всеми другими, скромен, но ни намека на заискивание.
— Князь Петр — то сущая правда — цесарского происхождения, — вернулся фельдмаршал к разговору с Антонио. — Только другого корня и другой ветви — грузинской.
Не так давно в Милане Багратион поведал ему, как попал в военную службу по протекции светлейшего князя Потемкина. И о своем происхождении рассказал.
Был такой грузинский царь Вахтанг Шестой. Так вот царю тому князь Петр доводится праправнуком. Это по материнской линии. По отцу же род Багратионов идет от карлийского — так звалась одна из провинций Грузии — царя Иессея. Царь тот был женат на царевне Елене — дочери государя другой грузинской земли Кахетии. Их брак дал четырех сыновей, из которых второй сын, Александр, стал русской службы подполковником и родоначальником уже русского рода князей Багратионов. Этот Александр Иессеевич Багратион оставил двоих сыновей, старший из которых, Иван, стал отцом Петра Ивановича Багратиона.
Однако рассказывать подробно об истории Багратионова рода фельдмаршалу было сейчас ни к чему. Вспомнил он о сем генеалогическом древе не вслух, а лишь про себя. Вслух же доброму таможенному служащему сказал совсем о другом.
— Следи, Антонио, за тем, что делают мои руки, — произнес Суворов, отковырнув от виноградной грозди одну ягодку, оставил ее на столешнице. — Это и есть та страна, где родился князь Петр и где царствовали его прадеды. Они, как и весь грузинский народ, более всего дорожили свободой. Но у них — плохие соседи. Завидущие, злые и безжалостные. Готовы всех истребить, чтобы только им больше чужой земли досталось. А главная и самая алчная среди них — Турция, иначе — Оттоманская империя.
Александр Васильевич схватил с блюда яблоко и поставил его рядом с виноградинкой, сказав, что так он хочет, для ясности, обозначить неравные силы.
— Но у яблочка, Турции, есть и другой давний соперник — Россия. — Появилось на столе яблоко покрупнее — все красное, сочное, не в пример первому, даже на вид кислому, набивающему оскомину.
— Россия пришла на помощь Грузии? — догадался Антонио.
— У тебя живой ум. Ты верно схватил мою мысль, — обрадовался Суворов. — Но в рассказе моем есть главное зерно: добрые цари и добрые народы всегда должны объединяться, чтобы сокрушить зло! Россия когда-то защитила Грузию от гибели и взяла ее, единоверную, под свое могучее широкое крыло.
— И отныне — мы вместе. Навсегда. И по вере и по крови, — произнес до сей поры не прерывавший разговора Багратион. И, обратившись к Суворову, с улыбкою добавил: — Я ведь по бабке — матери моей матери — русский, от корней князя Меншикова, сподвижника Великого Петра. С сего бы и начинать, дорогой Александр Васильевич, мою генеалогию.
Теперь почему-то замолк Антонио, такой словоохотливый, веселый. Лицо его, продубленное нещадным солнцем и злыми ветрами в горах, стало похожим на кору дуба — глубокие борозды морщин легли на лоб и скулы. Но как случилось третьего дня здесь, за окном, когда после ливня опять засияло солнце, так просияло и лицо Антонио.
— Короли должны помогать королям, добрый и справедливый народ — другому доброму и справедливому народу, если тот попадает в беду. Так ты хотел сказать, мой русский друг? — нашел он нужные слова, чтобы высказать мысль, которая только что пришла к нему в голову.
Старый Антонио Гамма сказал, что он никогда не видел своих королей — ни генуэзского, ни сардинского, ни другого какого. И незнаком, конечно, с австрийским императором Францем. Он, Антонио, здесь, в Таверно, родился и вырос. Вот в этих горах, как принц Пьетро — на своем Кавказе. И Сен-Готард — его, можно сказать, собственное королевство, его империя. В ней каждая тропка знакома, каждый валун родной с детства, и там, где для других не бывает дороги, для него она есть всегда.
Но если к твоим королям и герцогам, к твоему народу пришли из дальней страны добрые люди, посланные их королем, их цесарем, значит, они протянули руку дружбы и тебе, сыну Альп?
Он оглядел столешницу, на которой — яблоки и виноград. Взял в одну руку то, розовое, медовое яблоко, что было Россией, другою рукою схватил с блюда тоже сочное, спелое. И, глянув на главного русского генерала, а затем на принца Петра, заулыбался, отчего с лица тут же исчезли признаки уже далеко не молодых лет.
— Вы — руссо, я — итальяно, — положил он рядом друг к другу оба яблока. — Три года назад к нам сюда, в горы, явились незваные гости — солдаты из соседней страны — Франции. Мы их не звали к себе. Они явились, чтобы нас покорить и завоевать, забрать у нас все, что мы создавали своим трудом. Теперь на нашей земле оказались вы, русские, совсем уже из далекой державы. Но вы явились не завоевателями, а освободителями и друзьями. Так?
— Ты, Антонио, верно понял то, что я хотел объяснить! — обрадовался Суворов.
— И вы, руссо, ничего не пожалели, чтобы принести нам свободу, — продолжил Антонио. — Ваш император прислал даже своего родного сына на эту справедливую войну. И ваши князья, русские принцы — вы, Алессандро, и вы, принц Пьетро, восприняли нашу боль как боль вашу? Так как же мне, хозяину сих мест, не помочь вам?
Антонио обратился к жене, что-то быстро ей наказав.
Жена вышла в сени и вернулась с тяжелыми ботинками мужа и плотной и теплой курткою с накидкою-капюшоном.
— Я не стану рисовать на бумаге и объяснять принцу Пьетро, где заветные тропы, одному мне известные, — сказал Антонио. — Я сам пойду вместе с вами. До того места, куда вам нужно.
Выступать решено было задолго до рассвета. Аккурат как зачнут блекнуть, а затем гаснуть крупные звезды на черном, по-южному бархатном небе.
Но Багратион встал и того раньше. Ему хватило на сон три, а то и два часа. Ополоснулся в сенях, боясь потревожить фельдмаршала, хотя знал наверняка: Суворов не спит.
В окнах домов, где разместились генералы и офицеры, огни не виднелись. Лишь кое-где на площади и по околицам догорали костры.
Сначала князь Петр обошел расположение своего Шестого егерского, затем двух своих же теперь гренадерских и двух казацких полков. Его авангардный отряд спал. Лишь бодрствовали у огней караульные, что, заслышав шаги, вздрагивали, подхватывали быстро ружья и вытягивались во фрунт, узнавая своего командира.
Собираясь уже вновь подойти к главной площади, где высился дом Антонио Гаммы, он вдруг услышал слегка приглушенные, но все же ясные голоса. То было расположение гренадерского батальона Ломоносова.
— У-у, морда! Счас как двину, чтобы мать родная тебя не узнала. Вор, злодей поганый! — расходился кто-то в гневе.
— Постой, Николушкин, не бери на себя грех. Счас за его благородием подполковником Ломоносовым побегу. Он пропишет ему наказание — палки, — рассудительно остановил драку другой голос, по которому Багратион узнал фельдфебеля Мурашкина, с кем недавно укрывался в одном окопе у Нови.
— Мурашкин! Что случилось, доложи!
— Куренка, ваше сиятельство, вон энтот, Лукин, уворовал. Я проснулся, а он — голову тому куренку долой — и в котелок.
Все трое — Мурашкин, Николушкин и Лукин стояли по стойке «смирно». Но если двое первых «ели глазами» своего генерала, то третий, провинившийся, стоял понуря голову.
— Украл? — обратился к нему Багратион. — У кого?
— Вон у того хозяина, что за углом, — произнес уличенный.
Багратион поднял головню, чтобы лучше рассмотреть Лукина. Молодой, четвертого, наверное, года службы.
— Приказ мой знаешь? За воровство, сиречь мародерство, — арест. Но то было, когда только перешли пределы Российской империи. Здесь же — война. И по военным законам — вплоть до расстреляния! — Голос Багратиона был готов сорваться.
— Ваше высокоблагородь… ваше сиятельство, дозвольте, — вступил Мурашкин. — Я ж ему так и говорил. Таперя что? Разрешите, значится, подполковнику Ломоносову доложить.
Чтобы разгорелась головня, Багратион резко взмахнул ею, отчего Лукин в страхе отпрянул и тут же упал на колени.
— Не губите, ваше сиятельство! С голодухи я. Сухари, что дадены были, съел. Вот бес и попутал. А тут все едино — от своей или чужой пули с жизнью проститься. Что там, за горами, — матка родная?
Тени прыгали по лицу Лукина, искаженному страхом:
— Жизнь свою подлым делом не покупают, — разделяя слова, произнес Багратион. — Всех нас ждет там, за хребтом, одно — пуще жизни своей честь русского солдата сберечь. Если не отличишься в сражении, придем на место — быть тебе, Лукин, под судом. Я своих слов в приказах на ветер не бросаю! А проявишь геройство — сам прощу и другим велю забыть. А теперь, до построения, пойдешь и отдашь хозяину вот это.
Багратион вынул из кошелька, похожего на кисет, монету и подал ее Лукину. И — Мурашкину с Николушкиным:
— Подполковнику не докладывать. Я — начальник, и я распорядился. А вам и всем товарищам вашим запомнить: у жителей самоуправно и стебелек сена не должен быть уворован или уведен силою. За все — платить! Далее будет хуже — кончатся сухари. Раздадим остатки муки — по ложке иль две. Все! Более — неоткуда! А чтобы не пропасть — вот тебе, Мурашкин, считай, артельные деньги. Убьют тебя — Николушкин будет знать, где казна на харчи. Тебя же не станет Лукин в ответе за общее добро. Тут — половина моего жалованья за три месяца. Другую половину отдам в Шестой свой егерский полк.
— А как же вы, ваше сиятельство? — растерянно произнес Мурашкин.
— Мне много не надо — ложку затирухи да кружку кипятка из вашего же котла. Чаю, не прогоните? — Багратион повернулся и заспешил к дому Антонио.
Тот уже появился в дверях. За ним — Суворов.
— У тебя, князь Петр, порядок отменный? — спросил фельдмаршал и сам себе ответил, довольный: — А чего мне, старому дурню, глупые вопросы задавать? У тебя и солдаты сыты, и никаких конфузов в баталионах.
— Так точно, ваше сиятельство, — согласился Багратион. — Какие будут ваши распоряжения, Александр Васильевич? Идти первым?
Суворов усмехнулся, подтолкнув в бок, по-дружески, Антонио, уже облаченного во все походное.
— Видишь, Антонио, каков твой принц, — все норовит первым, как говорят у нас в России, наперед батьки в пекло! — И — Багратиону: — По дороге, французскому генералу Лекурбу в лоб, я сам поведу колонну. В обход слева пойдет Розенберг. Дам ему тысяч шесть штыков. Тебе же, князь, с отрядом твоим карабкаться вместе с Антонио аж на самый пик Сен-Готарда. Чтобы оттуда, когда я встречу Лекурба, ты — ему на загривок сверху, словно лесная рысь.
Глава четырнадцатая
Главное — это половчее поставить одну ногу. Чтобы, не дай Бог, не попала она на глину или на какой-нибудь округлый камешек-окатыш. Затем, ухватившись рукою за выступ скалы, подтянуть другой сапог.
Нет выступа в скале — упрись штыком. Но помни: ни мелкого крошева камней, ни тем более ошметка глины не должно оказаться под подошвой.
Коли не углядел и случилось такое — хана! Тогда сапог соскользнет, и только единое чудо может тебя спасти, — если грохнешься всем прикладом на тропку, по которой за тобою гуськом такие же, как ты, солдаты.
То ли подхватит кто тебя, бедолагу, то ли ты сам, раскровенив при падении локти и лоб, удержишь себя от неминучей погибели. А не успеет сосед или сам ты в последний момент не ухватишься, не зацепишься за что ни попало — гибель! Ухнешь вниз, в теснину, и только эхо на сто ладов вознесет над ущельем твой предсмертный крик.
— Держись, сердешный. Вон за тот валун хватайся.
— Сам с головой! Знаю, за что хвататься. Коль вниз понесет, первым делом за твой огрызок ухвачусь.
— Ну балагуры! Ну насмешники! — стараясь остановить хохот, пригрозил фельдфебель Мурашкин. — Вам бы все хиханьки да хаханьки. А помочь товарищу — первейшее дело. Вон, Николушкин, назади тебя неловкий такой ковыляет. Кто таков? А-а, Семенов? Ты что ж, так-растак тебя, опять мокрые подвертки в сапоги сунул? Остановимся — я т-т-тебе покажу, как портянки беречь, чтоб всегда пару сухую в запас иметь.
— Ти-ха! В голос не шуметь — опасно! — вдруг от одного к другому, уже в шепот, передавалась команда от головы колонны. И сразу громкий говор и смех стихли. Только — шелест шагов да шелест каменьев из-под ног. И через каждую, должно быть, сотню иль полторы шагов — этот вот самый раздирающий душу предсмертный человеческий вскрик.
— Стой! Вон видишь? Еще один пошел вниз — душа распростилась с телом.
— А как закричал! Я сам чуть от страха не грохнулся за ним следом…
— Опять смешки? Человек с жизнью расстался, а вы… Царство ему небесное!.. — Опять фельдфебельский строгий голос. — Смотреть в оба. Друг друга — страховать!.. Скоро дойдем до места…
Чем выше поднимались, тем меньше оставалось сил. И тут не то чтобы острым, ядреным словом поддержать дух, даже просто перекинуться словом с соседом не хотелось. Когда же кончится эта мука? И куда идем — не прямиком ли в ад, в урочище Сатаны?
Нет, никто в целом войске не представлял себе такого похода, чтобы час от часу — к самому небу. А чем выше ступает нога, тем дальше и дальше до неба. Кругом — космы тумана, и сверху — вновь холодные струи дождя.
Откуда и как заполз тот туман и полил дождь? Теперь и не скажешь себе: гляди в оба. Только как слепец, пробуй дорогу ощупью, смиряй шаг. А как смирять, коли сказано самим князем Багратионом: «Поспешай, ребята! Сил не беречь, себя не жалеть, а чтоб на самой вершине быть к сроку…»
Князь Петр знает горную войну. Там, на Кавказе, и в самом деле немало исходил по горам. Но нынче особенно очевидно, что те горы, по сути дела, просто склоны Кавказского хребта. И не горы — горушки, если сравнить их с тем, что следует сегодня взять штурмом, — главный Альпийский хребет.
Не ведала тетушка, княгиня Анна Александровна, когда пророчила своему родному племяннику судьбу орла, достигшего самых поднебесных вершин. Они же теперь вот — под подошвами его ботфортов. А вниз посмотреть — дух захватит, кругом пойдет голова…
Одолели! Забрались на самую седловину, откуда все пути теперь — лишь вниз. Выше уж некуда — светлеет, как чистый хрусталь, купол неба. Туман уже внизу и уж сплошной пеленою, что мешает разглядеть ту узкую козью тропку, что привела их сюда, в поднебесные выси.
Нет, гляди, и пелена сия пошла враздрызг, стала расползаться, как старое одеяло. И открылись постепенно внизу, как какие-то игрушки, — каменные дома и церковь.
Багратион собрал командиров, указал место на карте:
— Госпис. Монастырь капуцинов. Пришли куда требовалось. Теперь Лекурб аккурат промеж нас и главными нашими силами. Там вот французы, обочь, как раз на сен-готардской дороге. Ударим сейчас на них и очистим путь Суворову. И самое верное — в штыки!..
Нет, спускаться не легче, чем карабкаться вверх! А все же ближе к привычной земле, где, кажется, все тебе помогает…
Не ждали, не ведали французские горные стрелки, что окажутся русские у них в тылу, за спиною. Точно порывом бури смело их пикет и бросило на дорогу, к их главным отрядам. А на них уже насели русские егеря и гренадеры, спешенные казаки. И пошла рубка — штыками, пиками, саблями…
Гнаться за неприятелем, чтобы до конца его извести, как привыкли всегда, здесь несподручно. В самом деле, куда в теснины нестись, чтобы на дно очертя голову? Главное дело теперь — сбить неприятеля с дороги, очистить ее для прохода собственных главных сил.
А вот и они! Впереди, на косматой лошаденке, — фельдмаршал. Два казака норовят удержать его в седле.
— Пустите! Я сам, — отбивается от них Суворов.
— Сиди, отец родной, — успокаивает его казак, что и сам в летах. — Аль забыл, сколь по дороге сюда сбилось наших солдатушек с ног, полегло да сорвалось в теснины? Сдадим вас настоятелю монастыря — будем спокойны. Вон и приор навстречу. Легок на помине. А с ним — и князь Багратион. Ловок, ловок князь! То ж надо — в обход, под самое поднебесье, и ему, хранцу, на загривок — раз!
— Теперя легче пойдут дела! — отозвался другой казак, что держал под уздцы лошадь.
Со всех сторон бежали солдаты, крича «ура!». Суворов сорвал с головы каску:
— Слава! Слава вам, герои! Лиха беда начало. А мы, русские, — уже в Альпах!
Таков закон войны, а может, любого трудного предприятия: собрать все мыслимые и немыслимые силы будто для последнего дела. Дальше, мол, все! Далее ничего похожего по сложности и жертвам не будет.
Да только в жизни как раз наоборот. И, разумеется, в первую очередь на войне. Превозмог, преодолел препятствие, что виделось неимоверно огромным, и перед тобою — уже новое, которое с тем, пройденным, по тяжести и не сравнить.
Встав рано поутру и пройдя всего какую-нибудь версту, гренадеры Багратиона вдруг услышали впереди себя необычный грохот. Словно невидимый отсюда богатырь враз накренил огромную скалу и столкнул ее вниз, в ущелье.
Грохот усиливался с каждым шагом. И вот идущим впереди открылось зрелище, от которого захватило дух и, казалось, кровь застыла в жилах. Внизу, в глубокой теснине, с неистовым ревом мчался горный поток. А над этим бурлящим потоком на головокружительной высоте виделся узкий двухарочный мост. Однако дорога к нему упиралась в отвесную скалу.
— Река на дне ущелья — Рейса. А мост над нею зовется Чертовым, — показал рукою вдаль Антонио. — По нему проходят лишь редкие местные жители и охотники. Да Иногда и мы, таможенники, когда выслеживаем контрабандистов.
— Там, где проходят охотники, пройдет и русский солдат. — ответил Багратион. — А что в скале — туннель?
— Урнер-Лох. Урненская дыра, — разъяснил Антонио. — Примерно сто лет назад его пробили в скале, чтобы соединить два края ущелья. Длина туннеля — восемьдесят шагов. По ширине — как раз чтобы прошли плечом к плечу два человека. А за Урнер-Лохом до Чертова моста еще шагов четыреста — сначала краем пропасти, затем круто вниз. Только теперь, принц Пьетро, видите…
Багратион поднес к глазам подзорную трубу и увидел, как у входа в туннель сменился караул. Двое французских солдат в длиннополых синих шинелях ушли в глубину туннеля, двое других, вышедших из темной дыры, заняли место на посту рядом с небольшой пушкой.
Решение созрело мгновенно: послать сотни три смельчаков в обход, над туннелем, и ударить по французам там, где они пока не ожидают, — возле Чертова моста.
— В обход я поведу людей сам, — произнес Багратион и велел своему адъютанту корнету Дирину перевести его слова провожатому, чтобы в разговоре не случилось ошибки. — Над туннелем можно пройти, есть там хоть какой-либо след?
— О да, принц Пьетро, — охотно подхватил Антонио. — Есть след — козий. Но вы же сказали: там, где пройдет охотник за оленем или дикой козой, пройдет и русский солдат. Я провожу вас. И дальше вместе с вами пойду — до самого Люцернского озера, что будет вскоре за Чертовым мостом. А дойдете до озера — вы уж внизу, на равнине. И — все позади.
Под ногами вновь острые камни, глина. И словно в горло забился кол — с каждым шагом вверх перехватывает дыхание. Но вот уж и спуск. А там, внизу, — синекафтанники. Их не менее двух батальонов! Но куда отступать? Только вперед, в штыки!
В правой руке у Багратиона — шпага, в левой пистолет. Он стреляет в бегущего к нему, тоже со шпагою в руке, французского офицера и вонзает клинок в прицелившегося в него солдата.
— Ваше сиятельство, возьмите мой пистолет, — слышит он голос Дирина. — У меня — два.
Нет, лучше — клинком. Вот так, как орудует штыком гренадер, что впереди, в самой круговерти схватки.
После боя надо его отметить. А теперь — вперед, вперед, к Чертову мосту!
А сзади, сквозь туннель, уже ломятся свои. Ура! Молодцы ребята!
Князь Петр обернулся к ним и помахал шпагой. И тут громкий и резкий вскрик заставил его вновь посмотреть вперед.
— Ваше сиятельство, ложись! Граната! — услышал он в самое ухо, и какая-то тяжесть придавила его к земле.
Взрыв рванул рядом, да так звонко, что заложило уши и потемнело в глазах. И тяжесть, которая придавила его сверху, стала еще тяжелее.
«Человек! На мне — человек. И потому он тяжелый и обмякший, что его убило. Убило гранатой, о которой он мне кричал».
Багратион сдвинул с себя тело. Спина и грудь у солдата — сплошное месиво. Пальцы Багратиона слиплись от чужой крови. Он повернул солдата навзничь и тотчас его узнал: Лукин!
Господи! Да это же он, Лукин, минуту назад храбро врубился в колонну французов.
«Да-да, — пронеслось в его голове. — Надо его отметить. — И тут же: — Так он же своею смертью провинность свою искупить хотел! Но нет, не нужна была никому его смерть. Господь видел, как смело дрался сей солдат. Герой! Однако смертию своею он отвел смерть от меня. Чем я, генерал, искуплю теперь гибель рядового солдата Лукина? И чем — смерть других, целой, должно быть, тысячи, что случилась уже здесь, в Альпах, за каких-нибудь два дня?»
Его подхватили под руки, помогая встать.
— Не меня… Поднимите его, Лукина. И всех других, как он, предать земле, когда перейдем мост.
— Ваше сиятельство! Вот уж воистину — мост чертов, — дошли до него слова. — Францы его повредили — подожгли малую арку. Слава Богу, большая цела.
Немедля — на тот берег! Переброшены бревна, связанные тем, что попалось под руки, — обрывками веревок и даже чьим-то офицерским шарфом. Перескочил один, второй солдат. Кто-то следом, не рассчитав, поскользнулся и рухнул в бездонную пропасть.
Вперед, вперед! Не ждать — за ними, первыми, — вся суворовская армия. Если не зацепиться там, за мостом, не пробить дорогу к Люцерне, — погибнут все, идущие следом.
Но на том берегу — подмога. Это Архангелогородский полк генерал-майора Каменского. Сын знаменитого фельдмаршала, он прибыл к Суворову всего несколько дней назад. И хотя молодой, всего двадцать три года, хорошо себя показал. Посланный еще с вечера в обход долины Рейсы, он успел к штурму туннеля в самый раз — французы попали меж двух огней, с того и этого края ущелья.
Как и Каменский, в обход идут отряды Дерфельдена, Розенберга и Ребиндера Максима, Михаила Милорадовича… Лекурб бежит. Он побросал даже свои пушки, чтобы быть налегке. Но, убегая, появляется преградою на пути русских. Вот почему на кольца, которые Лекурб делает, чтобы накинуть их на шею неприятелю и так его задушить, Суворов набрасывает свои петли. Только Лекурб встал на дороге, а у него за спиною уже Розенбергов авангардный отряд под командованием Михайлы Милорадовича!
Так и движутся русские полки и батальоны: впереди, как таран, отряд Багратиона, за ним — Суворов, а по краям, в обхват, — войска других генералов.
Пятнадцатого сентября. Багратион уже в Альтдорфе. Вот оно, Люцернское озеро. Но что за напасть — на озере ни одной лодки, чтобы, переправившись, оказаться у Швица, в расположении корпуса Корсакова! Меж тем гофкригсрат обещал и переправу, и наличие дорог вокруг озера. Ни того, ни другого!
— Принц Пьетро, чтобы выйти на север, в нужную вам долину, и притом обойти французов, остался один путь. — Антонио посмотрел в лицо Багратиону.
— Снова в горы? Вверх, ближе к Богу?
— Всего один подъем через хребет Росшток. А за ним — Муттенская долина. Там, внизу, в Муттене — и харч. А у солдат — уже ни сухарей, ни ложки муки.
Снова — глина и голые скользкие камни. И Дождь. Уже со снегом. Одна радость — нет глухих и бездонных ущелий. Но если не на дне каменного мешка, то здесь, на узких охотничьих тропах, оставляют солдаты тела своих выбившихся из сил товарищей.
В пять утра шестнадцатого сентября Багратион начал подъем на Росшток. В пять вечера стал спускаться. А там, внизу, обнаружился французский пикет. Как доложила разведка, около ста пятидесяти солдат.
Если сразу отрезать им путь к отходу в долину, французы сами окажутся в мешке. Вокруг горы, которые перестанут быть для них защитой, а обернутся западней.
Багратион приказал гренадерам с казаками, прячась за леском на склонах, обойти пикет и ударить с тыла и флангов. Сам с егерями пошел на противника в лоб.
Более ста солдат после короткой схватки подняли руки вверх. С ними — и офицеры.
Но страшная весть обрушилась на головы Суворова, Багратиона и всех других подошедших войск: корпус Корсакова, к коему они спешили, разбит.
Никто вначале не поверил в это. А более всех — Суворов. Как может случиться такое, ежели у Корсакова не менее штыков и сабель, чем у Массены?
— Нет, такого не может произойти! — Суворов даже вскричал и велел привести к нему местного жителя, который только что прибыл из Цюриха и сам видел русских солдат, которых французы толпами гнали в плен.
— Клянусь пресвятою Девой Марией, — осенил себя крестом вошедший. — Я делаю сыр и сам отвожу его на продажу в долину. Так вот, в тот, говорят, день, когда вы, ваше высокопревосходительство, штурмовали Урнер-Лох и переходили Чертов мост, французский генерал Массена напал на русского генерала Корсакова. Я сам слышал: Корсаков разбит наголову. Это говорили и французские солдаты, и ваши русские офицеры, кто знает языки, на которых мы говорим.
Мертвенная бледность покрыла лицо фельдмаршала. На лбу выступили капельки пота.
— Проклятый гофкригсрат и проклятые мулы! Из-за них я подарил Массене целых пять дней. Не будь моей задержки — мы бы успели. Но Корсаков, Корсаков!.. Как угораздило его против равного ему числа солдат — и так опозориться, так проиграть?
Он остановил свой гнев, глянув в лицо сыродела:
— Ты все мне сказал? — И увидев, что тот мнется, что-то недоговаривая, приказал: — Говори как на духу, ничего не утаивая!
— Да я как пред Господом, ваше высокопревосходительство… Разве только, слышал я, Массена бахвалится. Через несколько дней, обещает он своим солдатам, к тем сотням и тысячам русских пленных у него в руках окажется сам фельдмаршал Суворов и сын русского императора, что идет вместе с Вами…
На заседание военного совета Багратион явился перовым. Суворов, вопреки обыкновению, был при полном параде-в фельдмаршальском мундире со всеми регалиями. Однако странное дело: Александр Васильевич даже не повернул головы в сторону вошедшего, словно не только не узнал в нем своего любимца, но вовсе его не заметил.
Да и как было заметить, коли взгляд — куда-то в сторону, а сам — из угла в угол, быстро выговаривая отдельные слова. Багратион едва сумел разобрать.
— Парады!.. Разводы!.. Превеликое к собственной персоне уважение… Выйдет из дворца — шляпы долой… Помилуй Бог, и это нужно, да вовремя… А нужнее знать, как вести войну. И сие умение требовать с подчиненных — от генерала до нижнего чина. Наипервейше — только это! Уметь бить, знать местность, уметь расчесть, уметь не дать ввести себя в обман. А битому быть — искусства и мудрости не надо. Да они, плац-парадные генералы, к сему привыкли — их всегда били. Я ж не бит и привыкать к сему не хочу!..
Не было случая, чтобы вот так — лицом к лицу — и не обратился! И Петр Иванович, стараясь не помешать, вышел.
У дверей — добрый круглолицый Дерфельден.
— Знать, еще почивает?
— Какое, Вильгельм Христофорович! Мечется из угла в угол и говорит сам с собою.
— То — беседа с Богом, любезный князь Петр Иванович. Еще с турецких войн знаю за ним такое: когда все ставится на кон, особливо самое наиглавнейшее — честь и достоинство державы и монарха, к нему, нашему Создателю, — его первые слова. Они — обращение за поддержкою и укреплением сил. А нынче…
— Нынче Александр Васильевич всех нас созвал. С Господом — совет, а главная надежда все же на нас. На тех, кто поклялся идти с ним, нашим фельдмаршалом, до конца, — горячо произнес Багратион.
— Святые чувства вы, князь, изволили выразить, — поддержал его Вильгельм Христофорович. — Не было у Суворова еще такого трудного, ежели не сказать, безвыходного положения, в кое его поставила глупость и чистое предательство союзников. Вокруг — горная непролазь. А единый выход на равнину перекрыл Массена. Сердце подсказывает — только назад, по уже пройденному пути! Но разве Суворов ведал когда-либо позор ретирады? Тогда — гибель всей армии? Упаси Боже, такое ему и в голову никогда не придет.
— Никогда и ни за что на свете! — воскликнул Багратион. — Что ж это — под закат своей доблестной жизни, осененной славою громких побед, — да вдруг разгром? Скорее я и все мы умрем, закрыв своими телами знамена наших полков, чем дозволим обесчестить седины нашего любимого военачальника! Но знаю: он собрался явиться пред нами тем, кем был в наших глазах всегда, — несокрушимым, знающим путь лишь к победе.
Суворов встретил своих сподвижников поклоном. Но — молча. Не проронили ни слова и военачальники.
— Корсаков разбит и прогнан за Цюрих, — заговорил Суворов, — австрийские генералы, коих мы также надеялись встретить в Швейцарии, рассеяны, прогнаны или сами ушли. Итак, весь операционный план изгнания французов из Швейцарии — исчез!.. Отчего сие произошло? — задал вопрос Суворов и сам на него ответил, перечислив причины страшного конфуза: — Первая из них — хитроумие, а по-русски — предательство Австрии, которой русские войска нужны были лишь для того, чтобы вернуть под свое владычество герцогства в Северной Италии. Предательство сие послужило и причиною задержки нашего похода через Альпы — не было ни вьючных животных, ни продовольствия, ни зарядов в должном количестве. И уж наша, русская вина — самонадеянность, чванство, зазнайство и неумение воевать генерала Корсакова. Он, сей бездарный генерал, погубил себя и поставил нас, спешивших к нему с помощью, на край неминучей гибели.
Суворов остановился и оглядел своих сподвижников. Прямота его слов взволновала всех. Но особенно потрясло генералов, когда фельдмаршал вдруг упал на колени и обратил свой взор на Константина Павловича, воздев к нему руки:
— Спасите же честь России и государя! Спасите сына нашего императора!
Первым бросился к фельдмаршалу великий князь и, красный от смущения, со слезами на глазах, поднял его и стал обнимать.
На глаза присутствующих навернулись слезы. Багратион почувствовал, как закипела в нем кровь и сердце готово было вырваться из груди. Все поняли вдруг, как предельно серьезна трагедия, которая всех их постигла, и что отныне каждый должен взять на себя груз высочайшей ответственности. Поистине, слава и честь, жизнь и смерть сплелись воедино. И теперь от тех, кто находился в маленьком доме в Муттентале рядом со своим главнокомандующим, действительно зависело настоящее и будущее России, ее государя, их самих, а также жизни сотен и тысяч русских людей с ружьями в руках, вверивших им, генералам, свою судьбу.
И каждый из собравшихся понимал: не чудо, а их собственные усилия, их подвиги должны сотворить невероятное. Но что же скажет Суворов, какое он сам принял решение?
— Теперь идти нам к Швицу, куда выводит дорога, нельзя, — произнес Суворов. — Там ждет нас Массена. У него — более шестидесяти тысяч солдат, у нас нет полных и двадцати. Один путь — к северо-востоку, на Гларис. Там, в долине озера Кленталь, — конец горам и конец испытаниям. Там — провиант, там — дрова, чтобы обсушиться, там найдем все свежее и теплое, чтобы переодеться. Но чтобы достигнуть желанного, потребен еще один, но последний переход через гору Брагель. И определенно — не один еще бой с преследователями. Готовы ли вы, мои товарищи, к сим трудностям, в кои я вас поставил?
Дружные возгласы одобрения были ответом.
— С тобою, отец, мы хоть в ад!
— Нет, не в преисподнюю — я поведу вас к новой славе! — воскликнул Суворов. — Русский штык прошел сквозь Альпы. Верю вам и всем нашим солдатам: орлы русские облетят орлов римских! Кто там у меня сегодня в дежурных? Велю писать диспозицию.
Первым в путь на Гларис Суворов назначил идти Ауфенбергу с бригадою австрийцев. Его задача — выгнать французов с горы и ущелья при озере Кленталь и, если сможет, взять Гларис.
— Ты, князь Петр, со своими выступаешь завтра. Даешь пособие Ауфенбергу и гонишь врага за Гларис. За князем Багратионом идет Вильгельм Христофорович — и я с ним. Корпус Розенберга остается здесь. К нему в помощь полк Ферстера. Зачем, спросишь, Андрей Григорьевич? Когда передние части Массены начнут атаковать — гнать их до Швица, не далее! Все вьюки, все тягости Розенберга отправить с нами, под прикрытием. Тяжко раненных везти не на чем: собрать всех, оставить здесь с прислугою, лекарями и офицером, знающим по-французски. Он смотрит за ранеными, как отец за детьми. Снабдить оставленных деньгами на первое содержание. А Массене написать: тяжко раненные, поручаются по человечеству покровительству французского правительства.
Фельдмаршал остановился и глянул на Милорадовича.
— Тебе, Михайло, в корпусе Андрея Григорьевича быть впереди, лицом к врагу!
И, переведя взгляд на Ребиндера:
— Тебе, Максим, слава! Все, все вы русские! Не давать врагу верха! Бить и гнать его по-прежнему. С Богом! Идите и делайте свое дело.
И вновь — поход и бои. Семитысячный отряд встретил у Глариса Багратиона. Подошвы ботфортов разбиты вдребезги, ноги его обернуты обрезанными полами мундира. Но — в штыки, в штыки! И в одной из атак — рана в бедро левой ноги.
И все же Гларис взят! Но сей марш — не последний. Сил драться более нет. И выбран маршрут дальний, но безопасный — через последний горный хребет Панике, где на вершинах уже снег и лед. Но за ним — долина Рейна. Там — и пища, и дрова, и во что переобуться…
А Милорадович и Розенберг держались против войск самого Массены все четыре первых дня октября. Последний бой был особенно жестоким. И в том бою чуть не попал в плен сам французский главнокомандующий.
Когда соединились с Суворовым, Андрей Григорьевич передал золотой эполет.
— Чей? — спросил Суворов.
— Унтер-офицер Махонин выбил французского офицера из седла, — объяснил Розенберг. — Но тот в свалке изловчился и все ж удрал. А эполет остался. Видать, генеральский.
— А это мы проверим. Пригласите Лекурба!
Генерал Клод Жак Лекурб, взятый в плен после разгрома его дивизий, всмотрелся в трофей.
— Эполет Массены, — твердо сказал он.
— Вот! — воскликнул Суворов. — Вам, генералам Франции, следовало бы выучить русские слова, прежде чем вступать с нами в сражения. У нас есть поговорка: не скажи гоп, пока не перепрыгнешь. А Массена уже видел меня у себя в плену. Как бы не так! У меня в плену вы, Лекурб. И в моих руках — сей знак отличия главнокомандующего целой вашей армии, который он потерял на поле брани. Ну да теперь спор окончен — я свершил все, что мог. А смог, что и человеческим силам не поддавалось…
Глава пятнадцатая
В Чехии, под ее столицею Прагою, Суворов сделал смотр войскам.
— Помилуй Бог! — объезжая полки, с полудетским восторгом говорил он своим офицерам. — Солдаты побывали в преисподней, а какими молодцами видятся!
«Молодцы» было, конечно, преувеличением. Любой придирчивый взгляд, особенно отточенный на парадах в Гатчине и Санкт-Петербурге, мгновенно усмотрел бы уйму нарушений, особенно во внешнем виде войска. Прожженные у костров, изорванные о камни, а то и не раз простреленные пулями и осколками ядер мундиры, разбитые в пути и кое у кого подвязанные шнурками подошвы сапог, обрезанные косы и, как при Потемкине, у многих постриженные в кружок кудри… Фельдмаршал знал, что все это обернется ему монаршим укором и он вновь поплатится суровой опалой. Но никакой царский гнев не мог хотя б на йоту остудить его непосредственной восторженности, величайшей любви к русскому солдату, который в сей кампании показал такую силу духа, коей не знала, наверное, ни одна армия во всей всемирной истории!
Не изъеденные мышами старые прусские уставы, с коих брал пример для русской армии император Павел, но сама жизнь ныне утверждала, каким следовало быть русскому солдату и по каким правилам ему вести войну.
— Спаси, Господи! — ворчал себе под нос Суворов. — Я там, в Италии, начал поход, имея под ружьем людей, по виду чистых немцев. Теперь веду домой толпу оборванцев. Но и тогда, в начале кампании, и особенно теперь, в ее конце, предо мною один и тот же русский солдат. Храбрый, выносливый, ловкий и смекалистый, коему на марше и в сражении сам черт не брат! И сие моя главная радость: я завершаю свой долгий военный путь вместе с ним, русским солдатом. Совершив небывалый поход, в коем не ведаешь, чему отдать предпочтение — беззаветной отваге или же беззаветному терпению и стойкости. Однако имеются и такие, кто сего не поймет, у кого иная мерка и иное понятие высшей воинской доблести.
На днях генерал Дерфельден подал рапорт об отставке. Вручая бумагу, милейший Вильгельм Христофорович так и выразился:
— Не могу предводительствовать более шайкою воров и разбойников.
Благо бы фыркнула какая-нибудь девица из Смольного института. Тут же раздухарился храбрый генерал, и в прошлом и ныне проявивший немало ратной доблести.
Что ж, чем ближе к ответу пред царскими очами, тем лучше к нему надобно каждому себя подготовить.
— Князь Петр, в твоих полках воруют? — фельдмаршал неожиданно обратился к Багратиону.
— Не замечал, ваше сиятельство, — тут же ответил он.
— Вот и я, — прикрыв ладонью глаза, продолжил Суворов, — стараюсь не замечать. А мне суют под нос газеты: русские варвары свалились с Альпов на головы мирных швейцарцев, германских и чешских жителей. Дескать, грабят дома, истоптали виноградники, извели сады… Мы знаем с тобою, князь Петр, на войне в любом войске случается всякое. Потому и первые меры командиров — противу мародерства. Но как назвать тех, сердобольствующих теперь, особенно в Вене, кои этих вот живых людей бросили среди скал без пропитания и без последнего прутика, дабы развести огонек?
Багратион вспомнил случай с Лукиным, и горькая судорога пробежала по лицу, что не ускользнуло от взгляда фельдмаршала.
— Деньги свои все извел на солдат? — спросил вроде бы между делом. — Знаю, все роздал. А по твоему, князь, примеру императорский отпрыск тож проявил щедрость — артельную солдатскую казну поддержал своим золотишком.
— Можно, любезный Александр Васильевич, подумать, что вас сие не коснулось, — усмехнулся Петр Иванович. — Послушать старшие возраста — явится полный реестр ваших субсидий на солдатский кошт сначала из полковничьего, потом генеральского, фельдмаршальского, а ныне вот из жалованья генералиссимуса.
— Так ведь чины-то эти хотя и по императорскому указу дадены, но как бы солдатскими руками мне врученные! — подхватил Суворов. — Однако движение твоей души, князь Петр, — то поступок как бы особый. Тут — не пополам с солдатом, а все ему, без остатка ты отдал. Признайся, так ведь?
Только на какое-то мгновение Багратион смутился и тут же быстро нашелся:
— Налегке — веселее шагается!
— Вот она, правда, что каждому нашему военачальнику следовало усвоить! — подхватил Суворов. — А то как барышня-институтка… Нет уж, коли стоишь во главе их — все с ними пополам: и смерть и славу. А коль солдат голоден — отдай свое. Тогда он ни у соседа, ни у обывателя брать не станет.
И — без перехода:
— Вот с этими «разбойниками», как назвал наших с тобою чудо-богатырей Вильгельм Христофорович. Бог ему судья, я и хочу прибыть в Санкт-Петербург. Дабы предстать пред государем. Пусть узнает, что есть на кажинный день парады, а что — раз за все века переход с боями через Альпы! Но чую, сердце подсказывает: не дотяну, слягу. Там, в Альпах, вместе с невиданною славою оставил я последние крохи моего здравия.
— Слава вас, милейший Александр Васильевич, ждет впереди. Слух идет: назначена встреча по высочайшему разряду, — успокоил главнокомандующего Багратион.
— Нет, князь Петр, моя слава — не для дворцов и плац-парадов. Она от солдатской никак не отделима, — настойчиво повторил Суворов. — Третью часть русского войска оставил я на вершинах и в теснинах Альпов. Там и моей славе пребывать — вместе с душами моих солдат. Там, князь, как ты сам видел, — ближе к нашему Творцу: протянул руку — и вот оно, небо, обиталище Святого Духа. А подвиги мои ныне уже вечности предназначены. Одно мне следует поспешить — передать тем, кому дело мое суждено продолжить, плоды своих раздумий и свершения ума своего. Посему, генерал-майор князь Багратион, — повелеваю тебе сдать по старшинству свой Шестой егерский полк и явиться отныне в полное мое распоряжение.
Перо плохо повиновалось, царапало бумагу.
«12 суток не ем, а последние 6 ничего, без лекаря. Сухопутье меня качало больше, нетели на море. Сверх того, тело мое расцвело: сыпь и пузыри, особливо в згибах… Я спешил из Кракова сюда, чтоб быть на своей стороне, в обмороке, уже не на стуле, но на целом ложе».
Вершина зимы, начало года 1800-го, открывающего новое столетие, для него — начало конца. Страх как не хотелось из теплых покоев богемских, а потом и немецких вельмож, где его принимали чуть не по-царски, а иногда, скажем, и королю вровень: воитель, каких еще не знал мир! Но чем обворожительнее и затяжнее были приемы, тем ознобистее застывала душа: не помереть бы здесь, в чужих землях… Потому держался из последних сил и даже надевал мундир генералиссимуса, что доставили ему курьеры вместе с государевым рескриптом: «…Ставя вас на высшую степень почестей, уверен, что возвожу на нее первого полководца нашего и всех веков».
Только проехав Брест, а за ним вскоре увидев свой Кобрин, понял: теперь бояться нечего, теперь коли помрет на своей земле. И — занемог уже по-настоящему. Но все ж и здесь, в горячке и от нее — в расслаблении, не забыл о том, зачем снял с полка князя Багратиона и поставил на последний переход к своей особе.
До этого в Италийском и недавнем Швейцарском походе выставлял его впереди войск как пробойную силу: пройдет Багратион — за ним вся армия. На последнем марше, уже от Глариса, держал его заместо щита, в арьергарде.
— Прошка, — привстал из-за стола, зябко поправляя на плече вязаную фуфайку, — покличь князя Петра.
И когда явился Багратион, усадил его пред собою, прямо насупротив окна, чтобы лучше видно было его необыкновенное, орлиного абриса восточное лицо.
— Может, видимся в последний раз, — быстро проговорил и смахнул пальцами слезу. — Не перечь, не перечь, князь Петр! Мне лучше знать, что и как может произойти. Я ведь всякий раз, посылая тебя вперед, прощался с тобою. Только тебе не говорил, а посылал тебя на смерть! А ты, гляди, кажинный раз изворачивался, и путь твой лежал к славе, минуя смерть. Ныне выполни мою последнюю волю — хочу вновь послать твою персону наперед собственной особы.
— В Санкт-Петербург, где вас давно ждут? — не скрыл догадки генерал. — И — к кому, с какою целью?
— К императору России. А с целию — передать, что занемог и, ежели Бог пошлет здоровья, вскоре объявлюсь, — пояснил Суворов. — Вот письмо графу Ростопчину, моему ангелу-хранителю, закончил. Сейчас напишу Павлу Петровичу. Главное же передашь на словах: хотел бы спешить на крыльях, да не отпускают недуги!
Взгляд Багратиона полыхнул огнем.
— Все сделаю для вас, дорогой Александр Васильевич, — вскочил он с места и прижал руку к сердцу. — Клянусь: всю любовь армии к вашему сиятельству, все мои чувства к вам, моему отцу, сложу к монаршим стопам! И — лучших лекарей императорского двора — сюда, к вам! Все свершу, только бы вы здравствовали долгие годы.
— Что ж, князь Петр, спасибо за сии слова, — вздохнул Суворов. — В твоих чувствах ко мне я никогда не сомневался. И на сей раз не столь твой, сколько мой настал черед отплатить за твои труды. Посылаю тебя к императору, дабы он увидел перед собою первого героя беспримерного русского похода и воздал этому герою должное. Что же касается меня…
С этими словами Суворов с натугою поднялся со стула и, подойдя к двери, позвал Прохора.
Тот знал, зачем зван, и объявился тотчас, держа на вытянутых руках шпагу.
— Моя. За храбрость. С бриллиантами от императрицы Катерины Великой, — провозгласил Суворов. — Передаю тебе — самому достойному после меня — сию награду носить. Мои войны закончились, твои главные — впереди. Помни заветы мои и крепко держи в руках шпагу, что была суворовскою.
Багратион упал на колени и, взяв оружие, осыпал поцелуями его эфес, а затем руки великого полководца. И слезы, коих никто и никогда не видел в его глазах, потекли по щекам.
«Ну вот, одно из главных дел моих свершилось, — с радостью подумал Суворов, когда затворилась дверь за Багратионом и от крыльца раздался колокольчик тройки, увозившей князя Петра на Петербургскую дорогу. — Мы все ходим под Богом. Но наперед его — под волею императора. Не он, в отличие от Господа, дает нам способности, таланты и силы. Но только от него в сей юдоли земной зависит, кем и когда окажется любой из нас в длинном ряду тех, кто служит Богу и его наместнику на земле верой и правдою. Для одних могут пройти годы, чтобы его вдруг заметили и оценили. Другие же объявляются на театре жизни, еще ничего не свершив.
Генералиссимус всех русских войск! — еле заметно усмехнулся он, глянув в угол комнаты, где на спинке стула красовался его новый мундир. — Семь десятков лет надо было прожить, из коих более пятидесяти — в солдатском строю. Сколько ран получить, сколько раз умирать и вновь воскресать, чтобы судьба увенчала высшею степенью ратного отличия!
На Руси сколь до меня оказались удостоенными сего почетного звания? Лишь первый из них, Шеин, был полководцем[17]. Понюхал пороху, хотя выдающихся баталий не выигрывал, Александр Данилович Меншиков[18]. Последний же мой предшественник по сему величайшему званию, принц Антон-Ульрих, отец малолетнего императора Иоанна Антоновича, и вовсе не слыхал выстрелов — отнял это звание, можно сказать, у фельдмаршала Миниха[19]. Тот себе его припас за переворот на троне. Тьфу, воители в дамских будуарах… А генералиссимус — токмо первый солдат. И судьба его от солдатской неотделима».
Вспомнился разговор с князем Петром о денежном его жаловании, что все до копейки в Альпийском походе — солдатам. А разве не так шла и вся его жизнь до сей поры? Праправнук грузинских царей — и ни кола ни двора. Душа — чиста, а мошна — пуста…
Особенно остро подумалось о случайностях судеб здесь, в Кобрине. Имение сие — дар Екатерины за польскую войну. Спешил, мчался сюда из последнего похода, зная, где есть голову приклонить. У князя Петра — ничего, ни дома, ни двора. А можно ли так, чтобы генерал милостью Божией — и так, бедолагою, до конца своих дней?
Ведал: рядом с ним люди, на коих давно положил глаз и кои храбростью и отвагою не раз доказали свою Преданность и верность отечеству и престолу. Но те, кого тоже любил как подававших немалые надежды, могли и сами не упустить случая. Князь Андрей Горчаков ходил уже в генерал-адъютантах, Михайло Милорадович, громкий и напористый, и сам, без сомнения, пробьет себе дорогу.
Кому же следовало оказать услугу, так это ему, Петру. И не просто в смысле воздаяния за уже свершенное. Праведна плата за старое. Но еще дороже та награда, что помогает быстрее достичь высот, предназначенных тебе Господом.
Почти все, кто вел свои полки в Италийском и Альпийском походах, были искусные военачальники. И только один из них, князь Петр, показал себя командиром, способным выполнять не просто приказы со стороны, но всегда, во всех без исключения сражениях, решать задачи самостоятельно, на свой страх и риск.
Чем был в сих боях его авангард? Малою, но совершенно самостоятельною армиею, коя пробивала собою путь вперед, зная, что за нею — армия главная. Но не она, идущая сзади сила, а твои собственные полки должны начать и завершить сражение, чтобы идущим следом открылся простор.
Сии качества командующего авангардным отрядом — уже зачатки будущего полководца. Причем полководца нового по своей военной природе, вся удача которого — в быстроте, натиске, в праве ударить первым, именно тогда и именно в том месте, где тебя, атакующего, никто не ждет.
Так что ж, для того необходима близость к трону? Нет, дворцовый паркет не для князя Петра. Внимание монаршей власти — начало твоей собственной власти над твоею собственною родною стихией — войском.
И пока будет так — таланты от Господа, а должности — от монарха, мы не станем обходить эту данность.
А в это время по Петербургскому тракту, заметаемому февральскими сугробами, летел и летел к столице разбитый, стонущий на каждом ухабе возок.
«Быстрее! Быстрее! — стучала в висках Багратиона тревога. — Лишь бы успеть, лишь бы не дать Суворову умереть!»
На почтовых станциях не спал. Не помнит даже, ел ли. В возке лишь проваливался в дрему и тут же открывал веки, удивляясь, что прошло минут пять, а казалось — вечность.
А вот и город. Невский проспект, Зимний. Но нет, не сюда. В Летний сад, к Михайловскому замку!
Парадная лестница с гранитными ступенями. Направо от нее — апартаменты императора. Военный Губернатор Санкт-Петербурга граф фон дер Пален растворяет дверь приемной, в которой книжные шкафы красного дерева с бронзой. И откуда-то из глубины — самодержец.
— Я немало наслышан о вас, князь Багратион. — Павел Петрович подошел совсем близко, высоко вскидывая ноги в ботфортах. На плечах — узкий мундир. Лицо с коротким носом вздернуто вверх. — Великий князь, мой сын и сподвижник генералиссимуса Суворова, — самых лестных о вас отзывов.
Багратион еще раз поклонился:
— Мнение о моей особе вашего императорского величества и его императорского высочества для меня — высшая награда. Что же касается его высочества… Цесаревич всю прошедшую многотрудную кампанию изволил преподать образцы совершенного мужества, отваги и великодушия.
— Да-да, — перебил его император, — о храбрости моего сына мне не раз писал любезный Александр Васильевич. И о том, как советы великого князя, своевременные и смелые, помогали избежать поражений в беспримерных баталиях. Но вы, князь, еще один, причем самый непосредственный, свидетель доблестей моего сына. Он, насколько я знаю, большую часть времени провел при авангардном деташементе, коим вы, князь Багратион, предводительствовали.
— Так точно, ваше величество, — произнес Багратион. — Но вернее было бы сказать, в те дни, когда великий князь был при авангарде, все, от меня до нижнего чина, знали: вот кто наш настоящий шеф, наш ангел, несущий нам всем победу.
Голова императора чуть склонилась набок, носик сморщился, отчего сделалось впечатление, что Павел Петрович будто принюхивается к гостю, словно хочет выведать, насколько гость правдив и искренен. Но слова о сыне были так приятны, что он тут же отбросил всякую подозрительность.
— Я польщен вашими словами, князь, и если не возражаете, передам их Константину.
Имя вырвалось неожиданно, и сие показало, как он, монарх, любит своего отпрыска.
Эти чувства в конце прошедшей осени он выразил в своем рескрипте, когда, вопреки здравому смыслу и собственному же указу, присвоил второму своему сыну титул цесаревича. В рескрипте, говорилось: «Видя с сердечным наслаждением, яко государь и отец, отличные подвиги храбрости и примерное мужество, которые во все продолжение нынешней кампании против врагов царств и веры оказывал любезнейший сын наш, его императорское высочество великий князь Константин Павлович, во мзду и вящее отличие жалуем ему титул Цесаревича».
И вот теперь — ласковые слова о Багратионе.
— Не нахожу выражений, ваше величество, чтобы оценить вашу доброту ко мне, кою я вряд ли в такой мере мог заслужить, — вырвалось у Петра Ивановича.
— Нет таких наград, коих я, император, пожалел бы для тех, кто верен мне и престолу. И первый пример — князь Италийский и граф Рымникский Суворов. Генералиссимус! Иные при дворе, не скрою, готовы сказать: не много ли для одного? Отвечу: другому было бы много, ему, Суворову, — мало. Он — ангел! Так когда же его ждать с почетом и триумфом в Санкт-Петербурге? Что, он выслал вас, как всегда, авангардом? Сам — следом?
И помрачнел, услыхав о болезни.
— Граф фон дер Пален, граф Кутайсов, вы тут? Немедля в Кобрин — моего лейб-хирурга Вейкарта. И вы, Кутайсов, — с ним. Да-с, поднять, поставить на ноги! А вам, князь, велю остаться при мне. Вы что-то произнесли о шефстве великого князя… Так вот, приказываю вам, князь, сегодня же стать шефом лейб-гвардии егерского батальона…
Уже вошел в свои права март — первый предвестник природных перемен. И в Михайловском замке, главной столичной резиденции императора, неожиданно стали рождаться свои, дворцовые, перемены.
— Надеюсь, указания вашего величества о встрече Суворова по-прежнему остаются в силе? — однажды в конце обычной аудиенции спросил граф фон дер Пален.
Павел Петрович резко обернулся:
— У вас родились сомнения?
— Никаких, ваше величество. Просто, как военный губернатор столицы, я хотел бы быть всегда в полной готовности, ежели воспоследуют какие-либо хотя бы отдельные дополнения…
Возбудить настороженность Павла было, как все ведали, делом простым, не требующим никаких ухищрений. Достаточно было посеять в его голове сомнения, не слишком заботясь об их даже малейшей правдоподобности.
— Так вы о подписанном мною регламенте по встрече генералиссимуса? — впился глазами в непроницаемое лицо военного губернатора самодержец. — Быть так, как я повелел!
— М-да, — протянул граф Пален. — Страшусь, ваше величество, не случилось бы смуты.
— Это какой же? — возмутился император. — Отдать почести герою — крамола?
— Ежели бы так! — вздохнул военный губернатор. — Но почести сии — вровень с царскими! И жить вы повелели Суворову в половине Зимнего дворца. И принимать там парады вверенных ему войск. А он, как значится в высочайшем рескрипте, — генералиссимус войск. Кто же в таком случае окажется выше — особа императорская или он, герой войны? Вот что может нежданно возникнуть в неких буйных головах! Что меня, ваше величество, и страшит. А еще… — Пален склонился к императорскому уху. — А еще, ваше величество, страшно и вымолвить: вдруг этому герою в голову ударит повернуть войска против, скажем, вашей священной особы?
Все внутри Павла Петровича похолодело: вот, вот угроза, о которой, видно, говорит уже весь Петербург! Не о Суворове идет речь как о заговорщике — о ненависти к нему, императору, в кругах даже придворных. А он, фельдмаршал-генералиссимус, разве не недавний смутьян и затейщик в неповиновении и дерзостном неуважении ко всему тому, что начал в России император? Пален — старая лиса. Но разве в словах его нет резону?
— Ты, Петр Алексеевич, особо меня не стращай предположениями своими. Не с той стороны чую себе угрозу, не с той! Но для смуты любая искра — начало пожара. Так что обещаю подумать. Может, в слишком помпезном масштабе встрече и не бывать, ты прав. Особливо — ему навстречу в карете, из которой я, император, сам первым выхожу. Тут нарушение этикета, мною введенного: не я перед кем бы то ни было, а все другие передо мною — ниц!..
Двадцатого апреля, в десять часов пополудни, «герой всех веков» прибыл в столицу без всяких торжеств. Он разместился в доме своего племянника Хвостова и вскоре впал в беспамятство. В таких случаях ему терли виски спиртом, давали нюхать нашатырь, и он на какое-то время приходил в сознание.
Кутайсова, графа, бывшего государева брадобрея, а ныне главного шталмейстера двора; не узнал. Вернее, как часто делал, разыграл из себя дурачка.
— Вот, Прошка, — сказал, указывая на графа, — человек, коей примерною службою с самых низов достиг недосягаемых вершин. Перестанешь и ты пить, воровать и сквернословить — тож выйдешь в люди.
На вопрос Кутайсова, когда предстанет Суворов пред государем, уже серьезно ответил:
— Меня ныне к себе призвала особа более священная — я готовлюсь отдать отчет о содеянном самому Господу. На иное у меня уже, боюсь, недостанет сил…
Еще раз попытался вступить в разговор, когда объявили о новом посланце императора.
— Это ты, князь Петр! — тихо, но вполне внятно проговорил Александр Васильевич и захотел что-то еще обрадованно добавить, но силы оставили его.
«Князь, видать, обласкан государем, — успел отметить про себя. — Дай ему Бог удачи! Только об одном хотел бы его предупредить: не запутаться в заговоре. Знаю: плетется он всерьез. А во главе сего отвратного дела — мой славный зятек Николай Зубов да его братец Платон совместно с генералами Паленом и Беннигсеном… Мелкие души и крупные мерзавцы! Имя мое намерены были замарать своею затеей. Зятя ко мне подсылали… Да только мы с тобою, князь Петр, солдаты — не душегубы и не убийцы. Кем бы ни был монарх, но никогда рука защитника отечества не должна подняться на него. Никогда! Вот о чем бы я хотел теперь сказать князю Багратиону. Однако, полагаю, он и сам не сделает шага, не угодного Богу. Слава тебе, князь Петр! И теперь уж — прощай навсегда. Далее Тебе идти без меня…»
Девятого мая гроб с телом генералиссимуса гренадеры Итальянской армии внесли в Александро-Невскую лавру. Проход, ведущий к последнему пристанищу великого полководца, оказался слишком узким. Но тут из сотен уст вдруг раздалось: «Суворов должен пройти всюду!» И, подняв гроб на руки, суворовские чудо-богатыри пронесли его до могилы.
Среди тех, кто на руках нес гроб покойного, был и Багратион. В процессии не оказалось лишь императора. Говорили, что Павел Петрович будто бы поклонился гробу, стоя скрытно на углу одной из улиц.
Часть II По образу и подобию Суворова
Из русских генералов лучше всех Багратион,
НаполеонГлава первая
Гатчинское лето, как повелось уже в течение последних четырех лет, завершилось большими маневрами и парадом войск. Вечером предстоял фейерверк и бал прямо в парке, под открытым небом.
Настроение у Павла Петровича с утра было восхитительным. Он первым появился на просторной лужайке у дворца, когда полки еще не подошли, и на линейке, вдоль которой должен был состояться церемониальный марш, находились лишь солдаты лейб-егерского батальона. Все как на подбор — стройные, рослые, одетые в зеленые двубортные кафтаны, из-под которых выглядывали камзолы такого же цвета.
Пуговицы на мундирах — желтые. На головах егерей — треугольные шляпы без обшивки, но с кистями желтого же цвета на углах. На правом плече каждого — желтые гарусные аксельбанты.
Но нет, император оказался на плацу не первым — вдоль линии быстро шел ему навстречу в сопровождении двух офицеров шеф батальона князь Багратион. На нем, генерале, как и на подпоручике и прапорщике, что вышагивали чуть поодаль, была та же форма, но аксельбанты и широкие позументы на шляпе золотого шитья.
Князь и офицеры вышагивали, высоко поднимая носки и твердо припечатывая землю каблуками. Лики их были неподвижны, но в то же время исполнены того высочайшего вдохновения, что, в представлении императора, должно было выражать неколебимый воинский дух.
— Раз-два, раз-два! Левой-правой, левой-правой, раз-два! Ноги прямо, носки вон! Раз-два… — не удержался государь и сам, повинуясь собственной команде, двинулся навстречу шефу своего главного в Гатчине и Павловске охранного батальона.
Павел наконец высоко вскинул трость и дал команду остановиться.
— Князь Багратион! — произнес он. — Я восхищен выправкою и внешним видом моего батальона. Прикажите от моего имени выдать нижним чинам по чарке водки и по фунту говядины. Я видел: вчерашний день егеря на маневрах показали образцы в атаке колонною, а также и в рассыпном строю. Как вы знаете, князь, рассыпной строй не введен мною в новый устав войск. Но для егерей — метких охотников, долженствующих действовать подчас в условиях пересеченной местности и нередко в одиночку, — я повелел сделать исключение. Вернее, вменить в правило: действовать расчетливо, проявляя личную сметку и отвагу. А под вашим, князь, предводительством маневр сей доведен до совершенства!
— В том — не токмо моя заслуга, но, смею заметить вашему величеству, опыт недавнего Италийского и особенно Швейцарского похода, — произнес Багратион. — Горы, теснины. И солдат — на узкой тропинке, окруженный скалами, за каждой из которых — неприятель. Тут не на строй надежда — лишь у каждого на самого себя.
Взор императора обратился в сторону парка, аккуратно расчерченные аллеи которого уходили далеко в глубь лесов.
— Там, на войне, мне докладывали, проявлялось немало вольностей, — неожиданно произнес Павел. — Вы знаете, я многое, порушенное самоуправством, вновь ввел в караульную и боевую службу. Одно нарушение внешнего вида солдат сколько испортило мне крови! Но то, что окажется необходимым применить здесь, в условиях летней лагерной жизни, я не стану запрещать. Рассыпной строй — не знаю, как в бою, но для охраны территории, на коей проживает императорское семейство, — самая наивыгоднейшая форма несения караула. Дворцовый парк — это деревья, беседки, впадины и горки. Разве не трудно злоумышленнику сие преодолеть, за ухищрениями природы запрятаться и невидимым объявиться во дворце? Но я — хитрее: за каждым стволом и увалом — мои славные егеря, моя неусыпная стража! Не так ли, любезный князь?
— Совершенно правильно ваше величество изволили определить основную тактику поведения батальона в условиях боевой тревоги, — подтвердил Багратион. — Именно этому я постоянно обучаю солдат: действовать смело, неожиданно, сообразуясь не токмо с общею командою, но в первую очередь исходя из того, кто перед тобою в данный момент неприятель и как его ловчее поразить.
— Спасибо, князь. Преданность мне — главное, что я верно в вас определил. И рад, что не ошибся. Ах, если бы все генералы были так же безгранично верны мне и в повседневной выучке солдат видели лишь одну главную цель — не жалея своих жизней, защитить меня, своего государя и самодержца!..
Меж тем луг перед дворцом уже заполнился полками. Прозвучали команды, и начался парад войск.
— Раз-два, раз-два! Левой-правой, левой-правой! Ноги прямо, носки вон! Штык равняй, штык равняй! Раз-два, раз-два!.. — Павел резко вскидывал вверх, в такт барабанам и флейтам, свою трость.
Хорошее настроение, вызванное выправкою егерей его личного лейб-гвардейского батальона и беседою с исполнительнейшим князем Багратионом, обещало от государя передаться и всем участникам парада.
Генералы — шефы и командиры полков и батальонов, штаб- и обер-офицеры уже предвкушали изъявление монаршей благодарности и, может быть, как ее следствие и продолжение, — краткосрочный отпуск в Санкт-Петербург, по которому они уже соскучились за лето. Однако вдруг все сломалось и на глазах пошло кувырком и наперекосяк.
— Командира конной гвардии — сюда! — разом обрывая визг флейт и дробь барабанов, раздался возвысившийся до крика голос Павла Петровича. И, когда подскакал князь Борис Андреевич Голицын, — к нему: — Это кто у вас там, в третьем ряду, соизволил скомандовать «дирекция — направо», вместо «дирекция — налево»? Кто, я спрашиваю вас, князь Голицын, сбил строй?
— Простите, недоразумение, ваше величество, — смутился командир. — Корнет Игнатьев сбился, но тут же поправился. Он, видите ли, накануне…
— Молчать! — Лицо императора обрело свекольный цвет. — Когда я говорю, извольте, сударь, не умничать, а слушать. Я не должен и не хочу знать, кому сделалось в строю дурно, как кисейной барышне, а кто бражничал всю ночь и не может держаться в седле. У вас в полку, князь, — вольница. Да-с, сударь! Почему подкладки кафтанов — не по уставу? Вон у того всадника? Где великий князь, инспектор кавалерии?
Великий князь Константин предстал перед отцом.
— Приказываю вашему высочеству сегодня же отправиться с конногвардейским полком на его постоянную стоянку — в Царское Село, — смиряя клокотавший в нем гнев, приказал Павел. — Отныне на вас, цесаревич, возлагается непосредственное начальство, над сим полком до тех пор, пока полк не будет доведен до желаемого совершенства. А посему вашему высочеству предписывается иметь местом своего пребывания — оное Царское Село, из коего ни под каким видом не отлучаться без моего на то высочайшего повеления!
Император взмахнул тростью, и оркестр грянул походный марш, под который полки точно ветром сдуло с плаца. Но еще ранее полков, ни на кого не глядя, спешно покинул поляну сам император.
— Костя, что он сегодня, точно сорвался с цепи? — оглянувшись на окна дворца, обратился великий князь Александр к брату, когда они остались одни. — Ведь он же так тебя любит! Еще недавно иначе как героем и своим первым любимцем и не величал. Признаться, меня подчас начинала беспокоить ревность. Сегодня Же — точно муха какая укусила. Не ведаешь, с чего сия перемена?
— Не ко мне, Саша, перемена, — ответил брат. — Видит, чувствует: недовольство вокруг него. Даже нам с тобою не верит — шагу не дает вольно, без его пригляда, ступить, полагая, что и мы, его сыновья, можем оказаться супротив его воли. Но я, Саша, жизнь свою отдам за него отца и императора нашего. И ты таков, брат.
Одинаково рослые, почти погодки, они тем не менее разнились между собою. Александр имел более нежное и скорее более благообразное выражение лица и в повадках был сама мягкость, предупредительность и даже некая украдчивость. Константин же — суров, резок, но за сими качествами угадывалась пылкая и открытая душа, лишенная коварства, которое кое-кто мог, по первому взгляду, охотно в нем предположить.
— Ладно! — вдруг сказал Константин. — Не переживай из-за меня. Я сам давно имел намерение заняться с конногвардейцами, и князь Голицын об этом меня просил. Да и пожить одному — милое дело! Так что не было бы счастья, да несчастье, как говорится, помогло.
— Не смейся! — остановил его брат. — А мне вот не по себе. Я, знаешь, Костя, с тобою был бы рад укрыться в Царском! Не поверишь — мерзко и гадко у меня на душе, так муторно, что впору руки на себя наложить…
— Это с чего так? Аль совесть в чем нечиста? Не перед ним ли, отцом? — Константин пристально вгляделся в глаза брата. — Но ты ж — сущий ангел, Сашенька! Откуда такая боль в душе? Не верю, не верю, брат. То — испуг, то мягкая и чистая твоя душа не вынесла резкой выходки его величества. Но власть — она должна быть и сурова. Тебе бы, брат, следовало сие постигать — у тебя первое право на престол. Когда-нибудь и тебе быть императором. Это мне в государях не ходить — не по праву и, сознаюсь, не по нутру. Терпения и постоянства недостанет. Ты ж — мягок, но внутри тебя — стержень из стали. Недаром любимый внук бабушки.
Что-то переменилось в лице старшего брата.
— О каком троне ты говоришь? — судорожно, почти с испугом вцепился Александр в рукав брата. — Побойся Бога, Костя, при живом отце… Да у меня и в мыслях, во сне подобное никогда не возникнет!.. Или слышал что, а? Признайся, брат, говори…
Но Константин, завидев проходившего мимо князя Багратиона, отошел от брата, спешно бросив ему: «Прости».
— Как я рад видеть вас, князь Петр Иванович, — неподдельно приветливо произнес Константин Павлович. — Всем и всегда говорю: берите пример с лейб-егерского батальона! Право, и вчера и нынче лучше ваших — никого. А вот мне и князю Борису, слыхали, влетело. «Кругом, марш — в Сибирь!» — весело передразнил бытующий в войсках анекдот. — Ну, не в Сибирь — в Царское Село все ж угодили! А как праздник, как сегодняшний карнавал? Все уже готово?
— Как комендант сих мест, могу доложить вашему императорскому высочеству — полный ажур, — улыбнулся Багратион. — По сему поводу как раз спешу к ее императорскому величеству Марии Федоровне — все до крайности рассказать, как будет устроен праздник. А Гостей, гостей сколько ожидается из Петербурга! Надеюсь, ваше высочество не покинет нас в самый канун долгожданного бала?
— Если вы, князь, как всегда, размягчите сердце его императорского величества, — не пряча улыбки, ответил Константин Павлович. — В самом деле, замолвите за меня словечко — отец только вам и доверяет.
Первое свое загородное владение сын Екатерины Великой получил в 1777 году по случаю рождения собственного сына Александра. Тогда великодержавная матушка и бабушка выделила в качестве презента пустынную, но в высшей степени живописную местность, лежащую в четырех верстах от Царского Села и в двадцати пяти от Санкт-Петербурга.
Местность сия, где была возведена скромная дача, получила название Павловска. Однако уже через пять лет владения опального сына значительно обогатились. Желая попрочнее удалить его с глаз своих, императрица подарила ему невдалеке от незатейливого и плохо освоенного Павловска целый город — Гатчину.
Гатчина лежала у пересечения больших дорог из Петербурга в Москву и Варшаву и насчитывала около двух тысяч душ населения. Но главной достопримечательностью ее был роскошный дворец, построенный знаменитым итальянским архитектором Ринальди для екатерининского фаворита Григория Орлова. После его кончины матушка не нашла ничего лучше, как презентовать имение сыну.
Дворец сразу полюбился Павлу Петровичу. Громадное здание сие было возведено сплошь из темного камня в духе старинного замка с двумя высокими башнями по углам. Строительство велось прежним владельцем в течение пятнадцати лет и стоило несметных сумм. Зато сооружение сразу же обрело славу самого великолепного частного имения в окрестностях северной русской столицы.
Собственно говоря, это был настоящий царский дворец. Роскошная меблировка его комнат, собрание картин, статуй, древностей и различных редкостей покоряли воображение каждого, кто хоть раз появлялся в этом замке.
Под стать интерьеру дворца был и роскошный парк, наполненный развесистыми дубами. Среди них вился ручей, до такой степени прозрачный и чистый, что, когда его обратили в обширные пруды, то на дне их, на двухсаженной глубине, можно было разглядеть каждый камешек.
Гатчина стала постоянным местом пребывания Павла и его семьи. Здесь, под предлогом охраны семейства от разбойников, промышлявших в окрестных лесах, наследник престола обзавелся сначала батальоном пехоты и эскадроном кирасир. Вскоре же отряд сей вырос чуть ли не до размеров регулярной армии, насчитывающей несколько тысяч человек, даже с собственною артиллериею. И все войско было экипировано, снабжено и обучаемо по прусскому образцу.
С воцарением Павла Гатчина сохранила роль главной его резиденции вплоть до поздней осени 1800 года. В то время в Санкт-Петербурге было завершено сооружение Михайловского замка. Он был построен в Летнем саду, на том месте, где когда-то стоял дворец императрицы Елизаветы, в котором Павел и родился.
Туда, в Михайловский замок, императорская семья должна была переехать на зиму. Но все лето, с весны до осени, августейшее семейство и ее многочисленный двор по-прежнему намерены были проводить в Гатчине и Павловске.
Однако и хрупкие строения Павловска с его дачными ротондами и беседками, воздвигаемыми по указанию Марии Федоровны, и каменная громада гатчинского дворца-замка с тяжелыми чугунными изваяниями на дорожках парка — все было пропитано духом огромной солдатской казармы. С утра, до вечера здесь, под непосредственным приглядом самого императора, под грохот барабанов и визг флейт, без устали строились, разводились и маршировали полки.
На все лето войска к Гатчине и Павловску стягивались из всей округи и конечно же приходили из самого Петербурга. Они располагались в специально разбиваемых лагерях в самых красивых местах. С привилегированными полками, особенно с гвардиею, прибывали генеральские и офицерские жены, иногда даже со всеми чадами и многочисленною прислугою. И тогда летний отдых петербургских дам и шумный армейский быт их мужей и кавалеров составлял картину, в коей причудливо смешивалось все — мундиры и дамские наряды, офицерские аксельбанты и девичьи ленты, поцелуи в укромных беседках и грохот пушек в лесах и на лугах.
Лейб-егерскому батальону князя Багратиона вверена была караульная служба. И он, в силу этого обстоятельства, значился комендантом обеих главных царских резиденций — Гатчины и Павловска.
Таким образом, князь Петр Иванович даже в глазах императорского семейства являлся самым главным лицом, которое якобы и распоряжалось течением всей жизни в сих благословенных местах. Однажды императрица Мария Федоровна, совершенно сбитая с толку маневрами войск под окнами дворца, оглушенная вконец барабанами и полковою музыкой, обратилась к Багратиону:
— Любезный князь, будьте так добры — прикажите производить смену караулов без музыки. Иначе дети, услышав барабан или рожок, бросают свои занятия и бегут к окну. После того они в течение всего дня не хотят заниматься ничем другим.
Но по снисходительной улыбке генерала императрица поняла, что Обратилась не по адресу. Парадами и разводом войск всецело занимался ее супруг-император, а любезный князь — лишь один из многочисленных исполнителей, в особенности которого входило четкое и беспрекословное исполнение приказов государя.
Тогда же князь Багратион открылся Марии Федоровне с неожиданной стороны. Разговор происходил в ее рабочем кабинете, где она любила заниматься гравированием. На столе лежали отливки гипса и отшлифованные пластины мрамора, на которые императрица наносила рисунки и затем собственноручно резцом придавала им рельефные формы.
— О, как восхитительно это у вас выходит, ваше величество! — не сдержался Багратион. — Надеюсь, вы брали уроки у больших мастеров?
— Да, училась у известных французских и немецких художников, в том числе у мадам Виже Лебрен, — произнесла Мария Федоровна. — А вас, любезный князь, с какой стороны интересует сей предмет?
— С Виже Лебрен, ваше величество, меня однажды познакомила моя тетя — княгиня Голицына. А рисование — моя страсть.
— Вы, князь, рисуете? — услышал он вдруг голос девочки, которая сидела рядом с матерью у мольберта и выводила углем какой-то затейливый орнамент. — Но когда же и где вам удается брать в руки карандаш? На войне или, как теперь, на плацу и маневрах?
Взгляд девочки был ироничен, о чем говорили слегка приподнявшиеся бровки и чуть искривившиеся губки. Но выражение лица было открытым и приветливым. И все же Мария Федоровна остановила дочь:
— Катиша, ты не находишь, что твое обращение к князю не совсем любезно?
— О, что вы, ваше величество, — привстала дочь с места, — я была так приятно удивлена признанием князя, что в моем вопросе не было ничего иного, кроме восхищения! Вы разве обиделись на меня, князь Петр Иванович?
— Ни в коем случае, ваше императорское высочество! — поспешил заверить Багратион. — У меня и правда нет времени упражняться в рисунке и живописи. Но если оказывается в пальцах карандаш, я готов забыть обо всем.
— Надеюсь, вы доставите и мне и великой княжне Екатерине удовольствие полюбоваться вашими работами, не так ли?
— Право, ваше величество, вы ввели меня в крайнее смущение. Разве я могу сравниться с вами или великой княжной? Но тем не менее обещаю наперед: если удастся что-либо создать достойное внимания, вы станете первыми моими судьями…
Через какое-то время Петр Иванович принес императрице два карандашных рисунка с натуры, сделанных в гатчинском парке, и несколько узорчатых восточных орнаментов, сделанных его же рукою.
Мария Федоровна тотчас ухватилась за орнаменты.
— Великолепно! Это ваша фантазия, князь, или нечто существующее в природе? — спросила она. — Если вы оставите рисунки у меня, я попробую перенести их на слоновую кость.
— Сие кубачинская чеканка — червленое серебро, если говорить об оригиналах, вдохновивших мою работу, — объяснил Багратион. — Но слоновая кость, этот благороднейший материал, в самом деле может придать особую изысканнейшую жизнь кавказской вязи. В этом ваше величество совершенно правы.
Так неожиданно в коменданте Гатчины императрица Мария Федоровна и ее дочь великая княжна Екатерина Павловна обрели человека, с которым было интересно говорить о деле, занимавшем не только мужчин, но и их, женщин. Катиша, эта двенадцатилетняя, не по летам умная и развитая девица, несколько раз приглашала князя Багратиона на пленэр. Она с гувернанткою брала с собою мольберт и краски и забиралась куда-нибудь на берег пруда, где наносила на бумагу все, что перед нею открывалось: стену замка, увитую плющом, или камешки на дне хрустального ручья, лист земляники со спелыми ягодами или упавшую сверху, с высокой ели, чешуйчатую шишку. У Багратиона не всегда хватало времени. Но такие минуты в обществе милой художницы были для него настоящим подарком судьбы.
Теперь, в самый канун праздника, Мария Федоровна и Катиша знали, что князь обязательно забежит к ним, чтобы подробнейшим образом рассказать, как и где будут расположены костры в парке, какая возжжена иллюминация, какой фейерверк озарит ночное небо.
Все было, конечно, предопределено императором, все расчислено пиротехниками и специальными людьми, отвечающими за церемониал, но Марии Федоровне и Катите было приятно, что в числе самых посвященных оказывались они. И, как им казалось, их советы и пожелания внимательно выслушивает любезный князь и они обязательно будут учтены.
Праздник набирал силу час от часу. После стольких лет походной жизни, когда редко в доме, а большею частью — охапка сена или соломы под бок, жизнь императорского двора казалась Багратиону сказкой. Нынешнее же торжество и вовсе напоминало феерию, где каждый ее участник казался пришельцем волшебного мира.
Особенно поражало общество дам, среди которого лучшим украшением вечера выглядели появляющиеся то здесь, то там юные и свежие лица девиц, не достигших, наверное, и полных своих двадцати лет, но по всей стати являющихся истинными царицами бала. Многие из них были с мамами и даже бабушками, и потому молодость, свежесть и красота их, не знающая еще искусственных румян и белил, восхищали своей естественностью и прелестью.
Однако и эта самая молодая поросль высшего петербургского света тоже была по-своему неоднородна. Одни прелестницы стояли с мамами и тетями чинно и скромно где-нибудь в уголке зала или у окна. Другие же, более бойкие; самостоятельные и уже не раз испытавшие действия своих неотразимых чар на самых изысканных вечерах, выделялись именно своею полною независимостью от взрослых опекунов и, наоборот, держались от них отдельно, уже окруженные целыми стайками кавалеров.
Одна такая красавица, на вид лет восемнадцати, если даже не меньше, с чудным цветом лица, напоминающим чистейший мрамор, и с золотистыми волосами, стояла в окружении нескольких офицеров и громко С ними о чем-то разговаривала. Изредка оттуда раздавался ее колокольчатый, заливистый смех, сопровождаемый восторженными возгласами поклонников.
— И вы полагаете, господа, что я не осмелюсь этого сделать? — донеслись до Багратиона ее слова, когда он проходил по зале шагах, наверное, в двадцати от веселой компании.
И тотчас молодая фея оказалась перед ним, преградив ему дорогу.
— Ваше сиятельство, — незнакомка сделала перед Багратионом книксен, приподняв щепоткою пальцев край греческой туники, украшавшей ее тонкий изящный стан, — простите мою отвагу, но никто из моего окружения не осмелился представить мне вас, храбрейшего нашего генерала. Вот почему я, презрев мнение света, сама решилась представиться герою, одно имя которого сводит меня с ума.
От неожиданного поведения гостьи Багратион побледнел, затем краска смущения залила его лицо.
— Простите, сударыня, но я не имею чести вас знать, — все еще не приходя в себя, произнес он, намереваясь обойти незнакомку, чтобы направиться дальше.
— Нет, постойте, князь, и не отвергайте меня. — Она вновь преградила ему дорогу. — Я поклялась себе и другим, что вы обязательно обратите на меня внимание. Поверьте, я так мечтаю, чтобы именно вы, герой и краса русского воинства, оказали мне внимание. Вы не откажете мне, генерал?
С этими словами молодая фея взяла Багратиона под руку и под взглядами десятков, нет, сотен изумленных глаз повела в глубь зала, к окну, где расступившиеся в одно мгновение ее бесчисленные кавалеры и подруги уступили им кресла и тотчас сами исчезли.
— Князь Багратион, — продолжила молодая красавица, — я назову себя. Я — графиня Скавронская. Мой папа долгое время был российским полномочным министром в Неаполе, и я, можно сказать, с самого раннего детства жила в тех краях. Там теперь проживает моя бабушка, мама покойного моего отца. Когда я узнала, что вы в числе доблестных суворовских войск были в Италии, мое итальянское детство стало как бы и другою причиною, по которой мне захотелось с вами познакомиться. Но первая, поверьте, — это безмерное восхищение вашей, князь, беспредельной храбростью воина; Таким, как вы, должен быть в моем представлении каждый истинный мужчина. И какое женское сердце устоит пред таким человеком, как вы, мой милый отважный герой!..
Звонкий голосок ее давно уже перешел в шепот. Он лился и журчал теперь как чистый хрустальный ручей, и взор Багратиона теплел от ее признаний.
«Господи! — вздрагивало все его существо, когда он слушал ее речи. — Неужели ее слова — от самого сердца, из глубины ее ангельской непорочной души?» И разве ее поступок — суть предосудительное поведение, за которое он, неопытный ухажер, человек, начисто лишенный женского внимания, мог принять поначалу смелый порыв ее открытой натуры? Нет, так безыскусно, так непосредственно могла объясниться лишь чистая и нежеманная девушка, лишенная одновременно и кокетства и предрассудков.
«Так что же я, никогда не знавший женщин высшего общества, даже не подозревавший о существовании вот такого ангельского создания, чем могу я ответить На порыв чувств милой моей незнакомки?»
— Право, графиня, я не заслуживаю всего того, что вы произнесли в мой адрес, — наконец нашелся он. — И мой возраст, и моя походная жизнь вряд ли могут служить в глазах такой молодой и прелестной особы предметом сердечного внимания. С другой же стороны, сие могло бы явиться для меня идеалом самого немыслимого, самого неимоверного счастия…
— Гм! — Глаза молоденькой графини приняли вдруг загадочно-таинственное выражение. — Видите ли, милый князь, между теми чувствами, на которые вы изволили только что намекнуть, и тем, что возникло в моем сердце при первой же встрече с вами, я считаю, существует, вероятно, немалая разница. И вряд ли вы, закаленный непростою жизнию человек, можете, подобно мне, юной и ветреной, делать далеко идущие предположения. Не лучше ли нам с вами, князь, остаться добрыми друзьями, как мы могли бы быть и до сегодняшней нашей встречи?
— Простите, графиня, но как же тогда ваши слова? — вновь стушевался генерал. — У меня ведь до ваших признаний ничего подобного не было и в мыслях. Иль ваши откровения — кокетство и даже простая уловка, так сказать, выигранное вами пари, которое вы заключили давеча с друзьями?
Юная дама загадочно-тягуче посмотрела в черные, восхитительного рисунка глаза Багратиона и слегка дотронулась кончиками пальцев до его нервно вздрогнувшей руки.
— Как вы могли так дурно подумать обо мне, милый мой герой? Разве каждое мое слово, сказанное вам, не есть слово моего искреннего восхищения, моего подлинного чувства к вам?..
Глава вторая
Перемену в племяннике тетя обнаружила сразу, как только он переступил порог ее дома. Привычная оживленность и импульсивность в движениях сменились некоей сдержанностью, быстрота реакции — раздумчивостью, скорее смахивающей на меланхолию, Багратиону никак не свойственную.
— Теперь и я убедилась в том, что о тебе говорит уже весь Петербург: ты, Петр, влюблен, — без обиняков заявила Анна Александровна, чем окончательно смутила племянника.
— А что, неужели молва дошла и до вас? — только и нашелся он о чем спросить. — Но поверьте, милая тетя, между нами ничего не произошло. Так, сначала один, затем и второй разговор. Неужто кому из досужих доброхотов могла прийти эта ужасная мысль?
Анна Александровна засмеялась и обняла племянника.
— Ну почему же ужасная, Петр? — произнесла она. — Любовь — чувство, возвышающее человека. Разве ты сам не ощущаешь, какие перемены принесла тебе встреча с молодой графиней Скавронской?
— Скажите, тетя, вы и правда не смеетесь надо мною? Ведь я к вам — как к самому родному мне существу. С кем я еще могу вот так серьезно говорить о предмете, который, вы правы, перевернул все мои мысли и чувства, все представления о себе и собственной моей жизни. Поэтому я не хотел, чтобы наш разговор принял не совсем серьезный, по крайней мере для меня самого, характер.
— Я — вся внимание. Я слушаю тебя, как бы выслушала тебя теперь твоя мать, хотя ты уже, прости, далеко не юноша, — успокоила его тетя. — Итак, о чем ты хотел бы меня прежде всего спросить, в чем получить совет?
Было видно, что Багратиону трудно начать — таким непривычным и таким далеким от уклада всей его жизни оказалось происшедшее с ним. Ладно было бы в двадцать, двадцать пять лет. А то — в целых тридцать пять от роду. Но что поделать, коль все злоключилось именно так, а не иначе, и именно с ним — по возрасту давно уже старым холостяком, а по опыту жизни — совершенным юнцом.
Да начать хотя бы с того: кто она, эта нежданная красавица, так в одночасье вскружившая ему голову? Фамилия ее ничего не говорила ему, а самому попытаться выведать что-либо о незнакомке значило выдать себя с головою, поставить в смешное положение, чего никак не могла допустить его самолюбивая и гордая натура. Только тут, в разговоре с тетей, он и мог получить ответы на все те вопросы, что вдруг захлестнули его с головою, привели, если уж говорить откровенно, в подлинное смятение, в каком он не находил себя даже в самых жестоких сражениях.
— Итак, кто же такая Скавронская? — Анна Александровна повторила вопрос и, чуть улыбаясь, посмотрела в лицо племянника. — Ты помнишь, князь Петр, ту зиму, когда мы с тобою оказались впервые на загородной даче Потемкина? Не умолкая гремела музыка в залах. Торжества, казалось, длились с утра до ночи и с рассвета до темна. И все по причине того, что дядюшка, светлейший князь, выдавал замуж двух любимых своих племянниц. Так вот одна из них, младшая, Катерина, была тогда повенчана с графом Скавронским, вскоре назначенным полномочным российским министром в Неаполитанское королевство. И та очаровательная красавица, во власти которой ты, Петр, так неожиданно оказался, — их дочь, как и ее мама, тоже — Екатерина.
Испарина выступила на лбу Багратиона. Ах да, Скавронская что-то говорила ему о своем детстве в Италии, назвала и отца, полномочного посланника…
Ныне же, поведала тетя, мама Скавронская — уже графиня Литти. Обе же ее дочери — старшая Екатерина и младшая Мария — невесты на выданье. Причем невесты — одни из самых богатых в Санкт-Петербурге.
— Кстати, их дом — рядом с нами: на углу Большой Миллионной, рядом с Мраморным дворцом, — сказала тетя. — Видишь, как все оказалось просто. Впрочем…
Вот так всегда случается. Вокруг тебя люди знают многое из того, что должен знать именно ты сам. Однако ты — в неведении, они же сообщают тебе лишь то, что сами считают для тебя полезным. Да как можно, коли от того, что ты должен знать о предмете собственного чувства, зависит и твоя судьба, и твое счастье?
— Не томите меня, тетя, вы же убедились в том, что мною руководит не простое любопытство, — взмолился Багратион. — Представьте, пожалуйста, хотя бы на одно мгновение: вы что-то скроете от меня, но впоследствии это, утаенное, может обернуться причиною очень сложных обстоятельств.
— Князь Петр, ты же не мальчик. Сколько самых различных судеб вверяла тебе твоя военная планида, — издалека начала Анна Александровна. — И, я уверена, ты безошибочно определял в человеке главные его черты — трус он или безгранично отважен, пустой фанфарон или товарищ, всегда верный понятиям чести и верности долгу. Сбрось пелену с глаз, и ты, мой милый, без труда разглядишь все недостатки и, скажем условно, достоинства существа, тебя так сильно заинтересовавшего. Зачем, родной, ты вынуждаешь меня, близкого тебе человека, говорить то, что может самому тебе крайне не понравиться?
«Да-да, я знаю, о чем моей тете не хочется сказать мне прямо и откровенно, что, собственно говоря, вижу и я сам в предмете моего увлечения. Скавронская молода. Коли она родилась, скажем, в том тысяча семьсот восемьдесят втором году, когда я уже был зачислен на военную службу, ей теперь восемнадцать лет. Она без малого вдвое меня моложе. Но главное не это. Она — легкомысленна, избалованна, своенравна, постоянно озабочена лишь собственными удовольствиями и наслаждениями. Но разве сии качества — неискоренимые, разве они — врожденные пороки, а не черты молодости, веселого и беззаботного нрава, свойственного юности?»
Последнюю мысль князь Петр и высказал тете, дабы облегчить ее положение. Да, он сам видит то, что, может быть, смущает ее, проницательную «принцессу Борис», как с недавнего времени стали называть Анну Александровну Голицыну в высших кругах. «Принцесса» да с прибавлением мужского, мужнего, имени — дань очаровательной даме, обладающей вдобавок к своим совершенным женским качествам еще и острым, сильным и глубоким умом.
Что ж, от тетиного ума не ускользнуло именно то, о чем он сам теперь ей сказал. Но если, повторил он, сие не признак ветрености, эгоизма, крайней избалованности, а свидетельство лишь молодости и легкости нрава, так идущей к ее очаровательному ангельскому облику?
— Как была бы я счастлива, Петр, окажись рядом с тобою открытая и чистая душа! — произнесла Анна Александровна. — Могу вообразить: ты со своим широким и честным сердцем и она, твоя подруга, с устремлениями чистыми, с представлениями нравственными. Сии девичьи качества видны тотчас. И младые лета, неопытность жизни и веселость нрава, о коем ты говоришь, вовсе не помеха, чтобы отличить себялюбие от сердобольности, каприз от милосердия и сострадания, стремление к собственным удовольствиям от готовности оказать помощь ближнему. Однако прости меня, милый, может быть, я слишком строго сужу и во мне самой расчет холодного, эгоистичного ума преобладает над чувством, коим и должно жить всякому любящему сердцу? Чтобы познать другого человека, потребно время. Надеюсь, у тебя впереди будет еще немало дней, если не месяцев, чтобы лучше понять свойства молодой графини. А уже после этого и определиться в своих намерениях. Не так ли, мой друг?
— Конечно, конечно, милая тетя! — подхватил ее слова Багратион, сразу почувствовав облегчение от разговора. — Вот видите, я услышал ваши бесценные советы и словно проверил собственные решения: время скажет свое, последнее, слово. И все же, наверное, существует такое понятие — первое впечатление. А оно, впечатление сие, меня все более и более убеждает: она полюбит меня, это неискушенное дитя. Вы говорите: избалованность? А что ж в том предосудительного, коли росло сие существо в окружении неги и любви, с младенческих лет познало тепло и щедрость сердец, ее любивших? Значит, все то, что получила сама по рождению и воспитанию, она непременно захочет отдать теперь тому, кто станет ее первым другом. Именно так стал бы рассуждать я сам, коли имел бы в избытке доброты и ласки. Но именно я был всего этого лишен. Потребность же в сих свойствах я ощущаю неизбывную. Потому знаю верно: стремление мое к счастью и ласке утолит именно она, с лихвою изведавшая довольства собственной жизни.
«Принцесса Борис» как-то загадочно усмехнулась и ответила, что у них еще будет немало времени, чтобы вернуться к сему разговору не раз. Теперь же она должна собраться в дорогу — едет в Москву, давно не видела мама и Александра Михайловича. Теперь же возможности для поездки лучше не сыщешь: муж, можно сказать, под арестом в Царском Селе вместе со своим другом великим князем и, вероятно, не скоро оттуда выберется. Появляться же в петербургских кругах или, того хуже, в Гатчине значило бы давать пищу пересудам. Да тут еще и новая тема для сплетен — роман ее племянника с этой, прости Господи, взбалмошной и самовлюбленной до глупости молодой графиней Скавронской. Нет уж, в Москву, в Москву — подалее от разговоров-пересудов, от которых у нее давно уже неприятная оскомина! Будет время найти повод, чтобы Петра попробовать отрезвить — напрямик сказать, что думает сама о сей кокетке.
Однако не зря говорится: человек предполагает, а Бог располагает. Правду сказать, при данном стечении обстоятельств роль Господа принял на себя его помазанник на земле — император всероссийский Павел Первый.
— Иван Павлович, — заметил как-то император главному распорядителю своего двора Кутайсову, — в последнее время я не узнаю князя Багратиона. Моментами он — словно в воду опущенный. Не знаешь, что с ним?
Влюблен, ваше императорское величество.
— Что-о? И в кого же?
— Ходят разговоры, в юную графиню Скавронскую.
Брови Павла Петровича — белесые, еле даже видные — поднялись вверх.
— А Скавронская что ж?
— Известное дело, ваше величество, кокетка и себялюбка. Для нее сие что кошке поиграться с мышкой.
Тут лицо императора вновь разгладилось, и голос его взвился до крайности:
— Это ж какая такая игра при моем дворе? Выходит, отрыжка потемкинского семени — блуд вводить заместо нравов семейных… Да Скавронская-мать — племянница Кривого! Я сие не забыл, хотя произвел ее в кавалерственные дамы и дал свое волеизъявление на брак ее с Мальтийского ордена рыцарем Литтой. Правда, и тут сия пара мне изрядно попортила крови. Ну так я покажу этому потемкинскому семени, кто кошка и кто мышка. Под венец! Завтра же чтоб была свадьба!
— Это же как, ваше величество? — осмелился спросить Кутайсов.
— А самым обыкновенным образом, любезный Иван Павлович. Сей же секунд велю тебе объявить графине Литте и ее дочери: завтра поутру быть здесь, в гатчинском дворце, в приличествующих торжеству нарядах. Молодой графине Скавронской — в подвенечном платье. Князю же Багратиону утром, после развода, остаться при мне…
Решение императора произвело на мать и дочь впечатление грома средь ясного неба.
— Ну что, доигралась? — только и смогла произнести кавалерственная дама. — И было бы перед кем раскрывать чары! Разве недостаточны мои связи, чтобы составить тебе достойную партию? Теперь остается лишь молиться, чтобы пронесло. Еду к самой императрице.
Никогда Мария Федоровна не решалась не только влиять на уже высказанные решения мужа, но даже давать советы в предприятиях, только еще зарождавшихся в его голове. Тут же — и вовсе приказ, не подлежащий обсуждению. К тому же касающийся особы, коя уже год назад вместе с новым своим супругом подпала под тяжелую руку императора. Суть в том, что некогда любимец Павла, посланник ордена мальтийских рыцарей при Петербургском дворе граф Джулио Литта оказался в немилости. Причина была в охлаждении Павла к бывшим своим пристрастиям и союзникам. Потому он и приказал Палену выслать Литту в село Кимры, имение его жены Катерины Васильевны, до недавнего времени вдовы графини Скавронской.
Мария Федоровна приняла кавалерственную даму с настороженностью. О намеченной свадьбе сказала уклончиво:
— Разве не вы, сударыня, уже испытали на самой себе монаршее волеизъявление относительно вашей собственной судьбы? Ежели бы не участие императора, не быть бы вам женою Литты. Монарх же соизволил благословить вас на сей брак, и вы, как я полагаю, весьма счастливы. Такое же намерение у императора относительно вашей дочери — выбрать ей в спутники жизни человека порядочного и весьма достойного.
— Да, безусловно, вы правы, ваше императорское величество, — произнесла Катерина Васильевна. — Но не меньшее значение в браке должна иметь обоюдная любовь.
Мария Федоровна недовольно поджала губки.
— Многие добропорядочные семьи, насколько мне известно, создаются на взаимном доверии и согласии. А уж затем возникают и цепи Амура. Не так ли сложилось в первом вашем браке, сударыня, когда ваш дядюшка определил для вас, неискушенной и мало знающей жизнь, добропорядочного жениха, что дал вам все — положение в свете, богатство, наконец, имя? Я имею в виду графское достоинство.
Катерине Васильевне было от роду чуть более сорока. Но она выглядела значительно моложе. Однако, в отличие от дочери, она была флегматична, редко зажигалась каким-либо увлечением, кроме, пожалуй, неожиданно вспыхнувшей недавней любви к красавцу Литте. Но теперь, услышав от императрицы слова о богатстве, положении в свете и имени, что принес ей некогда граф Скавронский, она откликнулась на них с живостью, ей обычно не свойственной.
— Скавронские? Да, это богатый и, может быть, один из самых знатных родов русских, — воскликнула она. — Смею напомнить о том, что довольно хорошо известно вашему императорскому величеству: Скавронские — самая близкая родня императрицы Екатерины Первой и дочери Петра Великого — императрицы Елизаветы Петровны. А какие достоинства, богатства и имя у сего генерала Багратиона, за которого моя дочь, связанная кровно с российским императорским домом, вынуждена выходить замуж?
Тонкие губы Марии Федоровны презрительно искривились, и в уголках их возникла еле уловимая усмешка.
«Господи! Только бы сия сударыня не в моем присутствии выражала эту непростительную ересь! — подумала императрица. — Кровная связь с русскою царицею! Да с простою крестьянкою, сударыня, которая по капризу случая оказалась супругою великого Петра, а затем — и на троне. Марта, мариенбургская пленница, — вот как звали ту девку, от которой якобы пошел ваш, Скавронских, род. Сколько мужиков она переменила, пока не оказалась в постели первого российского императора? Ну а братья и сестры ее так долгое время и прозябали в нищете и тяготах, пока их не разыскали и не привезли ко двору».
Можно было бы выдать за анекдот, да случай, говорят, оказался достоверным. Однажды, еще при Петре Великом, одно важное лицо, состоящее на царской службе, проезжало по Лифляндии. То ли дорога была плоха, то ли возница ехал лениво, но царев посланец стал возницу того колотить. Тот возмутился:
— Если бы ты, барин, знал, какая у меня в Петербурге родня, то пальцем бы не посмел меня тронуть.
— Что же за важная родня у тебя в столице? Небось брат или дядька служит в гвардии капралом? Так, что ли?
— Родная сестра моя — русская императрица, — ответил крестьянин, отчего приезжий разинул рот и долго не мог вымолвить в ответ ни слова.
Так и оказалось: у русской императрицы было два родных брата — Федор и Карл, которых вскоре она возвела в графское достоинство и дала им фамилию Скавронских. Скавронок — по-польски жаворонок. Сию почему-то приглянувшуюся птицу императрица приказала нарисовать и в фамильном гербе братьев. Мужья сестер ее стали Тендряковыми и Ефимовскими, тоже графских званий.
Федор, что первым признался проезжему в высоком своем родстве, умер бездетным. От Карла же пошел сын Мартын, ставший при Елизавете Петровне генерал-аншефом и обер-гофмейстером двора. Его же единственный сын Павел, унаследовавший огромное состояние, и явился мужем Катерины Васильевны, потемкинской племянницы, при Екатерине Великой — статс-дамы, при Павле Первом — дамы кавалерственной, столь же приближенной ко двору.
«Вот так, сударыня, из грязи — да в князи!» — хотелось теперь бросить Марии Федоровне зарвавшейся гостье. Но она сдержала себя и вернулась к разговору о Багратионе.
— Князь Петр Иванович, — произнесла она, — не просто достойная, но во всех отношениях превосходная партия для вашей дочери. Вот кто уж точно — подлинных царских кровей и по отцовской и по материнской линии. Так что касается знатности, вы, несомненно, сочтете за честь породниться с таким славным и древним родом. А душа, чтобы вы, сударыня, знали, у Петра Ивановича — ангельская, честности и добропорядочности самой высочайшей! Что же касается имущества — небогат. Тут я не погрешу против истины. Однако у государя он на лучшем счету — ему дана должность шефа лейб-егерского батальона, что, как правило, является привилегией лишь великих князей. И деревни ему уже предназначены в Подольской губернии — за верную военную службу. Так что готовьтесь, сударыня, к свадьбе вашей любезной дочери. Сам его величество император соизволил осчастливить обряд бракосочетания своим присутствием.
Женским чутьем графиня Литта поняла: дальнейшее упорство может обернуться не просто императорским неудовольствием — ссылкой. Да не в Кимры, а в Сибирь. И — со всем семейством, если только старшую и младшую дочь не постригут в монастырь.
И только вышла из апартаментов Марии Федоровны, как ее окружили знатные дамы:
— Пора, пора! Вашу дочь сейчас поведут к императрице — убрать к венцу. Знаете, ее величество распорядились — в волосы невесты бриллиантовые наколки. Ах, как молодая графиня будет выглядеть — чистым ангелом!
Уже были по высочайшему указанию определены со стороны невесты посаженым отцом граф Строганов, посаженою матерью — княгиня Гагарина. Сторону жениха представляли генерал-прокурор Обольянинов и графиня Кутайсова, жена императорского шталмейстера.
Багратиону император самолично объяснил, что свадьбу он решил объявить по суворовскому обычаю, который, без сомнения, придется по душе храброму генералу: быстрота, решительность, натиск!
Сказано было с долею шутки, но невеста-то, невеста, разве она не согласна, если давно уже прибыла с мама и ее наряжают в покоях самой императрицы! Значит, он напрасно мучил себя сомнениями, коли все так быстро сладилось, и целый сонм знатных персон, во главе с императором и императрицей, с радостью их благословляют!
Итак, второго сентября к пяти часам пополудни все было готово к началу торжества, и процессия прошла через Чесменскую галерею во дворцовую церковь. Туда же прибыла и императорская чета. Дежурный просвитер Стефанов тут же совершил обряд. Венцы над головами жениха и невесты держали генерал-адъютант Долгоруков и кавалергард Давыдов.
Сразу же после обряда распахнулись двери Картинной комнаты, где был подан кофей с десертом. Огромный стол был убран белоснежною накрахмаленною скатертью и уставлен саксонским сервизом, хрусталем, золотом и серебром из личной императорской коллекции. Десятки вышколенных дворцовых лакеев обслуживали торжество.
К ночи графиня Литта с дочерью отбыли к себе домой на Миллионную, он же, князь Багратион, бросился в Санкт-Петербург подыскивать дом для себя и жены.
— Конечно, князь, вы все обязаны сделать, чтобы жену ввести в ваш собственный дом. Не правда ли, моя дорогая дочь? — так теща распрощалась у экипажей с новоявленным зятем.
Особняк решено было снять в самом центре столицы, невдалеке от Зимнего дворца. Таким жилищем оказался большой каменный дом в семьдесят девять комнат, принадлежащий графине Мусиной-Пушкиной-Брюс к находящийся на Адмиралтейском проспекте. Дом сдавался по частям, и каждый этаж в нем стоил пятьсот рублей в месяц.
Долг Багратиона сразу вырос до восьмидесяти тысяч рублей. И это — при жалованье шефа лейб-егерского батальона в две тысячи двести восемьдесят рублей в год! Оставалось одно — заложить деревни, подаренные ему императором. Казна оценила их в семьдесят с небольшим тысяч, но каких унижений стоило обращаться к главному казначею барону Васильеву, чтобы заполучить требуемую сумму!
Из крепостных, дарованных ему, Багратион выкупил за свои же деньги шестерых юношей и девушек в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет и определил их на службу в своем доме.
Пока он занимался доставанием денег и уплатою долгов, молодая княгиня обосновалась в новой квартире. Но каково было его изумление, когда она разделила этаж на две половины и большую объявила своею. Там она обустроила свою спальню, гостиную, кабинет и прочие помещения, для обслуживания которых набрала собственный штат.
Оказалось, что он, муж, прежде чем зайти на половину жены, обязан был доложить о том дежурному при ней офицеру. «Как, почему? — пронзила его ужасная мысль. — Неужели наш брак — одна видимость?»
Только огромным напряжением воли он подавил обиду и возмущение.
— Так вы, княгиня, решили вести со мною раздельную жизнь? Тогда к чему же была наша свадьба? Разве я принуждал вас к браку?
Она посмотрела на него своим загадочным взглядом и еле заметно усмехнулась:
— Вы сами знаете, князь, кто был виною нашей с вами так называемой совместной жизни. Но, видит Бог, я не считаю себя жертвой. И воля императора для меня, бывшей фрейлины двора, — высокая честь. Однако я — слабая женщина, у которой хрупкое здоровье. Разве вы не чувствуете, князь, как я болею и как мне необходимо лечение, вернее, пребывание в теплых заморских краях? Да-да, это — роковая наследственность, полученная мною от отца. О, бедный папа, он умер, когда ему не исполнилось полных тридцати шести! Что ж, вы, мой муж, хотите, чтобы и моя жизнь оборвалась непозволительно рано?
— Так вы… вы больны? Что же, дорогая, вы не сказали мне сразу? Ах да, вы говорили об Италии, о ее теплом и лучезарном солнце. Как же я не догадался сам? — всполошился Багратион. — Неаполь, Рим — куда только захотите! Вы немедленно должны ехать, чтобы поправить ваше здоровье. Я достану средства — столько, сколько вам, моя радость, будет необходимо. Только простите, простите мою невнимательность.
Глава третья
Почта из Петербурга в Вену доставлялась на вторую неделю. А случалось, что путешественник привозил вести скорее, чем доходили письма и газеты. Так, от проезжающих через австрийскую столицу полномочный посол Разумовский узнал о главной новости в России ранее, чем получил шифрованную депешу.
Сказать, что сразу будто бы и не поверил, было бы натяжкой. Конечно, весть оказалась неожиданной, но то, что сие могло и должно было произойти, в том граф Андрей Кириллович ничего неожиданного не усмотрел. Должен, обязательно должен был так неминуче и, как говорится, скоропостижно закончить свое земное существование всероссийский император Павел Первый.
К тому все шло, можно сказать, с самого первого дня его царствования. Как кость поперек горла стал он всему его окружению, да и, считай, всему русскому дворянству. И, как когда-то его отца, Петра Третьего, его свергли с престола и помогли переправиться в мир иной.
Да, вот так повелось в России — сменяться властителям на троне — со времени Анны Иоанновны. После нее дщерь Петрова с помощью гвардии сбросила с трона малолетнего царя Иоанна Антоновича с его матерью, регентшей Анною Леопольдовною[20].
Следом, лишив жизни муженька, Петра Третьего, уселась на троне Екатерина Вторая.
И в сей раз внучек ее и сын Павла Первого, Александр, с помощью заговорщиков отправил своего отца по тому же, уже ставшему привычным, пути.
О том, что без согласия великого князя переворот оказался бы невозможен, говорили шепотом даже в Вене. А уж убивцем нового императора, тем более вслух, не называли. Но и в Вене, и в других столицах, не исключая самого Санкт-Петербурга, умным людям было ясно: свершилось цареубийство, да еще с помощью родного сына.
Когда до Андрея Кирилловича дошла сия весть — сначала в виде слушка, а следом и в виде официальной депеши, — она его зело опечалила. И это при том, что много уж лет тому назад между ним и покойным теперь императором открылась распря, положившая конец их когда-то очень близким отношениям.
Дело было в следующем. Почти ровесники, наследник престола и сын малороссийского гетмана и президента Петербургской академии наук, они с отроческих лет стали самыми преданными друзьями. И когда Павлу пришла пора обручиться с Гессен-Дармштадтской принцессой Вильгельминой, он сам, наследник престола, в его мать, императрица Екатерина Великая, не нашли никого иного, кроме Андрея Разумовского, чтобы послать за невестою в далекую Германию.
К той поре Андрей Разумовский успел окончить университет в Страсбурге и командовал военным фрегатом. Сей фрегат и отправился в вояж за будущей великой княгиней. Но произошло невероятное: только вступив по трапу на борт корабля, невеста цесаревича страстно влюбилась в красавца морского офицера. И, прежде чем стать женою наследника российского престола, стала любовницею его первого друга.
Роман втроем продолжался до того времени, когда великая княгиня Наталья Алексеевна не выдержала родов и умерла. Стараясь досадить нелюбимому сыну, императрица вызвала его к себе и выложила перед ним свидетельства неверности его жены — письма к ней ее любовника и самого близкого друга наследника — Андрея Разумовского. Так цесаревич получил от матери урок, наложивший печать на всю его последующую жизнь: какие коварные люди окружают его высочество и какое, в сущности, он сам ничтожество, ежели, обманывая его почем зря, они еще насмехаются над его глупою доверчивостью.
Измена другу, хотя и цесаревичу, не равнялась измене государственной. Потому императрица поначалу сослала разоблаченного любовника в Ревель, где в гавани заперла его фрегат, затем в город Батурин — малороссийское имение его отца-гетмана. Но ловкость, с коею красавец граф обольстил супругу наследника престола, вскоре в глазах императрицы обратилась в достоинство, которое она не прочь была использовать в собственную пользу. Поприщем, где умение обольщать весьма необходимо, издавна слыла дипломатическая служба. И вскоре Разумовский получил пост посланника в Неаполе, затем в Копенгагене и Стокгольме и наконец в Вене.
Здесь, в австрийской столице, он оставался и при Павле. Сказалась, видно, позиция самого императора: он воевал не супротив своих личных обидчиков, к коим относилась в первую очередь и его собственная мать, но против порядков в ее царствование, якобы губивших Россию.
Что же касается коварства жены и ее любовника, сие само по себе не оказало никакого влияния на дальнейшую личную жизнь Павла Петровича. Напротив, не прошло и трех месяцев после смерти первой жены, как на предложение матери о новом браке он отозвался с радостью:
— Блондинка? Брюнетка? Маленькая? Высокая?..
В невесты на сей раз выбрали Софию Доротею Вюртембергскую. Сия принцесса и имя носила — София, как некогда сама Екатерина, и, как она же, родилась в Штеттине.
Однако не это в первую очередь остановило на ней внимание, а ее, так сказать, внешние и внутренние качества, изобличавшие в ней будущую плодовитую мать и послушную жену. Была она статная, свежая блондинка, не склонная к полноте, деятельная и увлекающаяся такими добродетельными занятиями, как рукоделие и рисование. К тому же, как всякая немка, с детства воспитанная в преданности к собственному дому и собственной семье, она была расчетлива и бережлива. Так, отдавая должное богатству, пышности и блеску русского императорского двора и сама неравнодушная к дорогим украшениям, она тем не менее без всякой брезгливости в целях экономии донашивала платья и башмаки покойной жены Павла. Что же касается семейства, то София Доротея, получившая в православии имя Марии Федоровны, чуть ли не каждый год дарила российскому престолу по ребенку.
Итак, время стерло острые углы, личная обида со стороны наследника, а затем и императора сошла на нет. А чего, собственно, было мстить бывшему другу, коли он как бы избавил его от неверной жены, а судьба дала ему взамен жену, одарившую его многочисленным потомством?
И у него, графа Разумовского, не поселилось в душе обиды на друга-соперника, тем более что в конце концов с его согласия он прочно обосновался в столице Австрии, милой и дорогой его сердцу изысканного и образованного европейца.
Оставаясь российским посланником, Андрей Кириллович в немалой степени способствовал развитию дружественных отношений между Россиею и Австриек), а в суворовскую кампанию, как мог, сглаживал сложности и препятствия между союзниками. И что очень уж важно для любого представителя чужой державы — он сам пользовался при союзническом дворе и у всех венцев не просто уважением, но и любовью.
С австрийским императором Францем Разумовский был в самых близких отношениях — он запросто обедал у него, император частенько был гостем посла.
Эрцгерцог Андреас — так вскоре стали называть в Вене представителя российского двора за его, несомненно, величественную осанку, за строгое соблюдение этикета и за необыкновенно роскошный образ жизни. А она, эта роскошная, поражающая воображение бережливого и скромного австрийского бюргера жизнь, была, как говорится, вся на виду.
Немалая и самая, кстати, лучшая часть Вены считалась собственностью баснословно богатого русского вельможи. Ему принадлежал не только великолепный дворец, но целая улица и мост через Дунай, носившие его имя. Венцы передавали друг другу с благоговением и нескрываемым преклонением перед богатством, а значит, и пред могуществом русского графа, как он, чтобы построить собственный дворец, скупил двадцать семь больших домов и затем их снес, предоставляя для собственной постройки огромную площадь. И каменный мост через Дунай он, дескать, соорудил на собственный счет лишь затем, чтобы не тратить времени на дальний объезд.
А какие приемы, балы и карнавалы устраивал эрцгерцог Андреас в своем дворце, куда с не меньшим пиететом, чем к самому императору, съезжалась вся аристократическая Вена! Говорили, что в иной вечер на его торжествах сжигали одних свечей не менее чем на двадцать тысяч. Да что там свечи! В его галерее находились самые ценные, наверное, во всей Европе картины и скульптуры, в его гостиных звучала музыка Бетховена и Гайдна, которую исполняли сами авторы.
Кто бы ни приезжал в Вену — из Петербурга или Берлина, Дрездена или даже, скажем, из Лондона, — не могли обойти дворец Разумовского, окна которого приветливо манили к себе радугою немеркнущих огней, не затухающих до самого рассвета. И, если бы в те годы Вена не была одною из главных европейских столиц, как любили с гордостью говорить сами венцы, герцог Андреас, несомненно, сделал бы ее таковою.
Молодая княгиня Багратион всего какую-нибудь неделю-другую погостила у своей бабушки, Марии Николаевны Скавронской, урожденной баронессы Строгановой, как ей тут же наскучил Неаполь.
— Мне уже лучше. Мой сплин — не от нездоровья, а от затхлости гатчинской и петербургской жизни. И что мне теперь крайне необходимо — свобода, свобода и свобода! А сие окружение может предоставить только столица всех столиц — Вена, — откровенно объяснила бабушке состояние своей души очаровательная притворщица и направилась в Австрию.
— Като, в Вене ты непременно должна появиться у графа Андрея Разумовского, — напутствовала Мария Николаевна внучку. — Ты, вероятно, не помнишь по молодости лет этого прекрасного мужчину и моего давнего друга еще по петербургским годам. Твой отец в аккурат приехал в Неаполь, чтобы сменить здесь в качестве российского полномочного министра прелестнейшего Андрея Кирилловича. Сколько же было тогда тебе, Като? Три годика, уже пошел как раз четвертый. И я, помнится, представила тогда тебя еще очень молодому, тридцатидвухлетнему красавцу графу Андрею. Так что кланяйся от меня, некогда известной ему графини Скавронской, а того ранее — и юной баронессы Строгановой.
Герцог Андреас принял молодую княгиню Багратион и впрямь как дорогую и желанную гостью. Господи, как в самом деле неумолимо бежит время, если совсем недавно перед его глазами была прелестная жена графа Скавронского со своей маленькой дочерью, и вот эта дочь уже сама — блестящая красавица!
Конечно же он помнит ее малюткою у мамы и у бабушки на руках в их богатом неаполитанском доме. Но дом тот прежде всего запомнился не множеством комнат, не собранием картин, золота, бронзы, хрусталя, и фарфора, а необычною музыкальною атмосферою, которая в нем царила. Человек, впервые переступавший порог сего обиталища, ощущал себя попавшим в оперный театр.
Начать хотя, бы с того, что гостя у дверей встречал лакей и не просто приглашал войти, а произносил сию фразу нараспев. Далее гость оказывался перед метрдотелем, и тот также приятным тенором сообщал, что тотчас доложит хозяину дома. Выходил граф Павел Мартынович. Поклон в сторону гостя — и целый речитатив звучал из его уст, сопровождаемый обворожительною улыбкою.
В гостиной за обеденным столом и в кабинете Скавронский если не с самим гостем, то с прислугою всегда объяснялся ариями. И прислуга отвечала ему в такой же манере. Например, граф приказывал заложить экипаж и объяснял, куда он намерен ехать. Сие произносилось нараспев. И слуга, исполнивший распоряжение, докладывал:
— Ваше сиятельство, каре-ета, ка-ак изво-ли-ли при-ка-зать, по-о-да-на!
Каждому, кто попадал в графский особняк в Неаполе, было ясно, что представление это — не экспромт, а самая настоящая опера, сочиненная самим графом заранее и тщательно, по его настоянию и под его управлением, разученная всем домом.
Но как мерзко звучали мелодии, какое положительное отсутствие всякого слуха демонстрировал всякий раз своим гостям незадачливый граф-меломан!
Увы, он был уверен, что обладает выдающимся музыкальным талантом, а искусство его серьезно не принимают в местных театрах и известных в городе салонах лишь потому, что неаполитанцы сами ничего не понимают в вокале и, как все бездарности, отчаянно завидуют его способностям.
При первом же визите к Скавронскому Разумовский, сдававший ему посольские дела, был в буквальном смысле ошеломлен какофонией, которой встретил его граф. Мало того, что сие представление изобличало в сочинителе недалекость ума, но и свидетельствовало о том, что на его ухо, несомненно, с самого, должно быть, рождения наступил массивный слон. А уж Андрей Кириллович, получивший неплохое образование, за годы жизни в Неаполе конечно же сумел хорошо познакомиться с вокальным искусством неаполитанцев, и у негр дома чуть ли не каждый день проходили концерты лучших певцов и музыкантов.
Андрей Кириллович не мог не заметить, какое мучение и стыд доставляли матери и молодой жене Скавронского его домашние экзерсисы. Жена, та вообще, насколько помнил Разумовский, затворяла дверь своей комнаты и почти целые дни проводила на кушетке, завернувшись в длиннополую русскую шубу, даже в самую дикую, неаполитанскую жару. Мария Николаевна же демонстративно отрывала гостя от чудака сына и уводила к себе, где предавалась петербургским воспоминаниям.
Вот уже минуло почти десять лет, как ушел в мир иной посредственный дипломат Павел Мартынович Скавронский, дослуживший тем не менее до чина тайного советника.
Эрцгерцогу Андреасу приятно было узнать от молодой княгини Багратион, что бабушка ее, Мария Николаевна, все еще здравствует, проживая то в Санкт-Петербурге, то в милом ее сердцу Неаполе, и, оказывается, хранит память о нем, графе Андрее Кирилловиче.
— А что ж ваша прелестная матушка? Слыхал, что она теперь — графиня Литта. И, говорите, восхитительно выглядит? Я так рад за нее… Но вы-то, вы, милая душка! Как вы прекрасны, княгиня! Право, именно превосходному человеку и беспримерному воину-герою и должна принадлежать такая прелесть, какою являетесь вы, славное дитя! Это правда, что император с императрицею благословили ваш брак с князем Багратионом и свадьбу вашу устроили в своем дворце в Гатчине?
— Да, граф, то было незабываемое торжество, — приняла заданный Андреем Кирилловичем тон княгиня. — Я знаю, как вы, любезный Андрей Кириллович, были в свое время близки с покойным государем и какою дружбою вы одаряли друг друга. И я, казалось бы, обычная фрейлина, каких при дворе немало, тем не менее оказалась удостоенной особого императорского благословения. Вечная ему память, нашему незабвенному государю. Облик его в моем сердце я буду хранить вечно, как и благодарность за то, что он соединил мою судьбу, как вы изволили произнести, с беспримерным героем-воином.
— О да! — воскликнул эрцгерцог Андреас. — Князь Багратион в недавней кампании на Италианском и Швейцарском театрах войны покрыл себя громкою и неувядаемою славой, коя может сравниться со славою, может быть, лишь самого незабвенного Суворова. А что ж, князь Петр Иванович, ваш милейший супруг, был во всех недавних сражениях первым сподвижником Александра Васильевича! Уж кто-кто, а я, милая княгиня, знаю о том доподлинно. Мне, российскому посланнику в Вене, облеченному полномочным доверием незабвенного нашего императора, было доверено осуществлять сношение фельдмаршала Суворова с австрийским двором. И мне известно, с каким бесподобным мужеством и отвагою добивались неслыханных побед суворовские чудо-богатыри и ваш дражайший, княгиня, супруг. Однако, поверьте мне, старому дипломату, минувшая война с Франциею — лишь начало неминучих будущих схваток. Французская республика, рожденная под знаменами пресловутых свобод, сама стала на наших глазах империей зла. И остановить ее хищные вожделения суждено лишь нам, русским…
Андрей Кириллович как бравурно начал, так почти внезапно оборвал свою речь, заметив, что юной даме и в самом деле ни к чему его воззрения о войне, в том числе и предстоящей.
Разве затем она, юная красавица, выходила замуж за генерала, чтобы вскоре он снова оставил ее одну, а сам направился туда, где кровь, страдания и смерть?
Да и теперь она не потому ли приехала в Вену, чтобы почувствовать себя поистине счастливой? А он, князь Багратион, когда прибудет в Вену? Однако обо всем — потом, еще придет время поговорить и о ее счастье, и о далеком и славном Петербурге — обо всем, что одинаково должно быть близким и дорогим и ей, только вступившей в жизнь, и ему, уже приближающемуся к шестидесятилетнему возрасту вальяжному графу. Теперь же самая изумительная возможность ввести молодую княгиню в общество его, эрцгерцога Андреаса, любезных гостей.
— У меня сегодня, милая княгиня, небольшой концерт, — сказал Андрей Кириллович. — Гостей соберется не много, но все — мой самый близкий круг. Я буду несказанно счастлив представить сему избранному обществу вас, мой милый друг.
Когда княгиня Багратион вошла в зал, она невольно растерялась — все дамы были в вечерних платьях с глубокими декольте, а не в тех наглухо укрывавших плечи туниках, что носили на вечерах в Петербурге. И мужчины, сопровождавшие дам, были непривычно раскованны и свободны, а в зале звучали не скучные менуэты, а вальсы, в которых не чопорно, а легко и плавно скользили нары.
Хорошо, что она заранее проведала о вкусах и манерах венского общества и сама появилась так, как были одеты другие дамы. И хотя в самый первый момент она несколько оторопела, но тут же поняла, что именно она, молодая гостья эрцгерцога Андреаса, станет сегодня королевою вечера.
И в самом деле, Андрей Кириллович тут же представил петербургскую красавицу нескольким дамам и кавалерам, и по выражению их лиц — женских с завистью, мужских восхищенных — княгиня еще раз уверилась, как она неотразима И каким вниманием будет окружена здесь, в доме русского посланника.
Однако последовало приглашение в концертный зал. Там за роялем у Нее сидел какой-то неряшливо одетый в старомодный потертый сюртук человек. Голова у него была огромна, а лицо грубое, как у мастерового. Но вот его тоже грубые и неуклюжие пальцы коснулись клавиш, и огромное пространство наполнили резкие и громкие звуки.
Екатерина Павловна вздрогнула: Господи, неужели вернулось ее детство, все пронизанное глупою игрою ее чудака отца в оперные представления? Так же крикливо звучал когда-то на хорах оркестр, которым дирижировал ее отец, так же невпопад вырывались, точно из тесных оков, режущие ухо звуки фортепиано.
Но что это? Первые бурно возникшие аккорды уступили место плавным звукам, они сложились в стройную, берущую за душу мелодию. Мало сказать, что музыка стала стройнее и приятнее, она вдруг овладела чувствами слушателей, подняла высоко-высоко над миром, к тем невиданным высотам, в коих пребывает Дух, властвующий над всеми.
Правду сказать, Екатерина Павловна, скорее всего, почувствовала власть музыки как бы не через себя, а через ощущение тех, кто сидел с нею рядом или не так от нее далеко. Граф Андрей Кириллович уронил голову, обхватив ее руками. Он был где-то уже далеко-далеко, куда позвал его музыкант. И другие, сидящие невдалеке дамы и господа, казалось, уже были полностью во власти музыки. И молодая княгиня, наверное, как и ее отец. Лишенная слуха, по лицам соседей поняла, что перед нею, должно быть, выдающийся музыкант, и, как и другие, приняла выражение человека, отдавшего все свое существо божественной симфонии.
— Хочу представить вам, дорогой маэстро Бетховен, княгиню Багратион, которая недавно прибыла из Петербурга. — Андрей Кириллович подвел к Екатерине Павловне пианиста и все слова не просто проговорил, а громко прокричал ему в ухо.
«Фи! Да он же глух, этот музыкант», — едва заметно усмехнулась княгиня Багратион и подала музыканту руку. Брови Бетховена были кустистыми и резко сдвинутыми, лоб шишкообразен и огромен, а глаза, небольшие, но необыкновенно выразительные, покоились в глубоких впадинах.
«Несчастное существо, — еще раз отметила про себя княгиня. — Неужели этот маэстро, как и мой отец, свихнулся на любви к искусству, которое он к тому же сам не может даже слышать?»
— Хочу заметить, княгиня, что маэстро Людвиг ван Бетховен — гениальный композитор, — произнес Андрей Кириллович. — То, что он теперь исполнил, — Десятая Героическая симфония. Он ее посвятил великому человеку!
— И кому же? — поинтересовалась гостья.
— Наполеону Бонапарту, — пояснил Андрей Кириллович. — Я с ним спорил, но он, видите ли, упрям и считает этого узурпатора гением, который принесет свободу всем людям Европы. Не стану продолжать с ним спора, ибо уверен, что маэстро вскоре убедится, что это за чудовище — его сегодняшний кумир.
«Да он сам, этот композитор, нелепое и жалкое существо, — произнесла про себя княгиня, продолжая тем не менее улыбаться. — Подумать только — сочинять симфонии и притом не слышать ни одного звука!»
— А музыку вы слышите? По крайней мере, свою собственную? — перестав вдруг улыбаться, неожиданно прокричала она в ухо сочинителю.
Брови Бетховена сошлись к переносью, глаза, казалось, запали еще глубже. Он приложил руку ко лбу, а затем к сердцу и произнес:
— Музыка, ваше сиятельство, у меня здесь и здесь. Однако я слышу музыку не только собственную, но и когда кто-то другой играет свои сочинения. Я смотрю на руки музыканта и вижу, какие звуки он исторгает из инструмента.
Меж тем взгляд княгини уже блуждал где-то далеко от маэстро. Она была близорука, и потому ее взгляд производил впечатление таинственности.
Может быть, как раз этот слегка рассеянный и загадочный взгляд привлек внимание гостя, который, проходя мимо, вдруг остановился возле нее.
Был он высок, строен, лицом приятен, с пышною шевелюрою блондин. Но что особенно бросалось в глаза, так это его плащ мальтийского рыцаря с красным верхом и черной подкладкой.
«Господи! — успела произнести про себя княгиня Багратион. — Неужели и мне выпадет такая же судьба, как и моей мама?»
— Милейший эрцгерцог Андреас, — услышала она голос незнакомца, — не будете ли вы так любезны, чтобы представить вашу гостью.
— Ах да! — с готовностью отозвался Андрей Кириллович. — Княгиня Багратион — граф Меттерних[21].
Глава четвертая
На ком она впервые увидела такое необычное сочетание красных и черных цветов? Конечно же на Юлии Помпеевиче Литте, своем отчиме. И случилось это в Неаполе — более десяти лет назад, когда ей самой исполнилось не то восемь, но то девять лет.
Тогда, помнится, все в их доме заговорили о том, что на неаполитанском рейде бросил якорь военный корвет под названием «Пеллегрино», на корме которого — красный с белым крестом флаг. А вскоре к ним пожаловал и сам командир корвета.
Граф Джулио Литта сразу поразил всех своею внешностью. Был он красавец моряк, лет двадцати восьми, высокого роста, с тонкими и правильными чертами лица итальянского типа.
Как потом оказалось, он и в самом деле принадлежал к одному из знатнейших итальянских родов. За Свою молодую жизнь он успел уже многое повидать. Семнадцатилетним юношей он вступил в ряды рыцарей Мальтийского ордена и стал служить на флоте Острова Мальты, оберегая его границы на Средиземном море.
Однако через несколько лет Екатерина Великая обратилась к магистру Мальтийского ордена с просьбой прислать к ней в Санкт-Петербург лицо, сведущее в морском деле, для реформы Балтийского флота. Так граф Литта связал свою судьбу с Россией.
В ту пору, когда он появился в доме российского посла в Неаполе, сей рыцарь и граф не был еще русским подданным, хотя, служа в Петербурге, получил чин капитана первого ранга. В те дни Джулио Литта находился как бы на распутье — принять ли ему российское подданство и дослужиться в северной столице, скажем, до адмирала или же вернуться насовсем под знамена мальтийского рыцарства.
Как оказалось, в тот свой приход с мальтийским корветом «Пеллегрино» в Неаполь, именно в доме российского посла Литта неожиданно для себя нашел определение своей судьбы. Не оставляя рыцарского ордена, он станет и далее служить России. И толчком для сего решения, определившего его дальнейшую судьбу, послужило знакомство с милой и очаровательной женою посла — Катериною Скавронской.
Еще никогда в своей жизни молодая графиня не встречала такого изумительного красавца мужчину, в котором яркая его внешность и непохожая на других, таинственная и загадочная душа так гармонично слились в одно целое.
Право, что видела и что знала Катенька Энгельгардт, уездная смоленская барышня, с младых и тогда-еще невинных своих лет? Затхлый мир провинции, неотесанных и грубых деревенских помещиков, все занятия которых сводились к охоте, пьянству и дикому барскому разврату. Уже при дяденьке, светлейшем князе Потемкине, открылась ей вроде бы новая жизнь в блистательной столице, при дворе ее императорского величества. Но сия жизнь обернулась тою же непролазною скукою, что и дома, в смоленской глуши, несмотря на то что в мир сладострастия окунулась и она сама, молодая барышня.
Любовь к дяденьке? А что за чувство такое — любовь? Конечно, когда дяденька ласкал ее в своих объятиях, ей было приятно, а моментами, в самой что ни на есть их плотской близости, казалось: нет и не должно быть у человека счастия, ею только что пережитого.
Но проходил экстаз, и оставалось в душе чувство, похоже скорее на родственную благодарность дяде за то, что вызволил ее из мрака совсем уж кромешной жизни. И вместе с сим чувством — женская жалость к немолодому уже мужчине, что хотя и владеет несметными земными утехами, сказочными богатствами и неслыханною властью, а в сущности, душа его одинока и неприкаянна. Отсюда еще пуще хотелось сделать так, чтобы забылся он у нее на груди, как дите малое и жалкое своей обездоленностью.
Что же касается графа Павла Мартыновича Скавронского, к нему и подобия жалости она не испытала за все десять лет брачного союза. Забивалась на свою половину в доме, куталась в шубу, чтобы только уйти в тот единственный мир, который один и оставался тогда ей, существу совершенно необразованному и от природы ленивому и недеятельному, а потому и эгоистичному, — в мир грез и мечтаний.
Среди женщин встречаются такие характеры — спящая красавица. Дремлют в ней чувства, словно в летаргическом сне, вся она — как какая-нибудь ледышка. Но вот появляется сказочный царевич, и все ее существо, пребывавшее до сего времени в непробудной спячке, просыпается, со всеми заложенными на самом дне его женскими склонностями, добродетелями и конечно же пороками. А куда без них подлинной женской натуре?
Итак, с первого же взгляда молодой граф Джулио Литта перевернул все существо Катерины Скавронской. Иными словами, враз растопил, хлад ее ледяной души. Да и какая из женщин смогла бы устоять перед эдаким красавцем!
Повторим здесь: тонкие и правильные черты его южного лица носили одновременно печать высокого вдохновения и высокого же мужества. Большие черные, то блестящие, то задумчивые, глаза и очаровательная улыбка придавали молодому человеку чрезвычайную привлекательность. И самый разборчивый художник вряд ли бы отказался взять его за образец красоты.
Однако сию замечательную, природою созданную наружность прекрасно дополнял наряд мальтийского рыцаря, который он носил: красный кафтан французского покроя на черной подкладке и белый мальтийский крест на груди, повешенный на широкой, черного же цвета ленте.
Только тогда, при первой же встрече с необычным итальянским графом и мальтийским рыцарем, молодая графиня Скавронская, должно быть, впервые осознала, что же такое настоящая любовь, что соединяет не только тела, но главным образом души мужчины и женщины.
Впрочем, поначалу разговор моряка-рыцаря не отличался ни живостью, ни игривостью и бойкостью, что было характерно для романов того времени. Литта, хотя и был человек весьма развитой, умный и тонкий, вел себя сдержанно, никак не выдавая возникших и в нем самом сердечных чувств. Он лишь рассказывал жене русского посла о далеких странствиях, и она любила подолгу слушать эти рассказы. И ни один самый чуткий и зоркий наблюдатель не уловил бы в их беседе никакого намека на взаимное влечение друг к другу.
Чувство вдруг вспыхнуло вновь, когда после смерти мужа вдова оказалась в Санкт-Петербурге с двумя дочерьми и здесь, уже при дворе Павла Первого, встретилась со своим экстравагантным поклонником.
К той поре между Российскою империею и Мальтийским орденом уже возникли самые тесные отношения. Российский император увидел в рыцарстве древнего, но далекого от русского православия ордена средство духовного преобразования родного общества. Более того, государь на глазах всей Европы взял Мальтийский орден под свою защиту и принял на себя сан великого магистра. Торжественный обряд над императором и всем его семейством Мальтийский орден поручил исполнить своему полномочному представителю в Санкт-Петербурге графу Джулио Литте.
Но у Литты оказалась и своя потаенная мечта, которую он решил осуществить в России, — обвенчаться с вдовствующей графинею Скавронской. Он готов был принять подданство приютившей его державы. Но как было избавиться от обета безбрачия, что дал он в день своего вступления в рыцарство? Помочь ему в сем предприятии взялся российский император, он же и великий магистр ордена. Так наконец соединились два любящих, внезапно открывшихся друг другу сердца.
Теперь в Вене дочь бывшей графини Скавронской, встретив в салоне Андрея Кирилловича импозантного незнакомца в костюме мальтийских цветов, невольно вспомнила историю знакомства своей мама и своего нынешнего отчима. И тут же содрогнулась: не свяжет ли и ее, нынешнюю княгиню Багратион, судьба с этим незнакомцем в благородном и загадочном облике мальтийского рыцаря?
Нельзя сказать, что Меттерних был писаный красавец, хотя, безусловно, черты лица его были привлекательны: большие голубые глаза, прямой нос, чувственные губы. Однако скорее не внешность, но нечто иное с первой же встречи притягивало к этому человеку всех, с кем он входил в какие-либо отношения, особенно, и в первую очередь, женщин.
Достоинства сии, казалось, состояли в остром уме и добродушии этого человека. Но добродушие, открытость были показными, он не давал глубоко затаенной мысли прорваться наружу, не впускал в свое сердце ни одно существо человеческое, сколь ни оказывалось оно ему приятным.
Это происходило оттого, что Клеменс Венцель Непомук Лотар граф Меттерних был дипломатом. И хотя он в свои неполных тридцать лет достиг только первой дипломатической должности — посланника Австрии в Саксонии, он ощущал себя недюжинной личностью, коей предстоит совершить немало славного и поистине великого. И этим качеством превосходства перед другими в первую очередь пленялись многие женщины, до которых Меттерних был большой охотник.
Вероятнее всего, и красный мальтийский плащ на черной подкладке был из тех тонко рассчитанных аксессуаров, что необходимы личности неординарной, чтобы с первой же встречи оставить о себе неизгладимое впечатление.
— Так вы, очаровательная княгиня, только что из Санкт-Петербурга? — Голубые, чуть навыкате лучистые глаза Меттерниха источали не просто любопытство, но подчеркнутое восхищение только что представленной ему русской красавицей. — И надолго в наши края? Или вы держите путь куда-нибудь в иные пределы?
— Обычно я довольствуюсь тем местом, где в данный момент нахожусь, — с долей таинственности, которая так шла ей, ответила княгиня.
— О, насколько я понял, вы решили сделать свое отечество из собственной кареты? — улыбнулся Меттерних вдруг пришедшему ему в голову каламбуру. — В таком случае, милая княгиня, вы в любом месте будете чувствовать себя счастливой — счастие вы возите с собой. В отличие от вас я, увы, с некоторых пор не могу позволить себе разнообразия, поскольку привязан к постоянному месту службы. И обречен разделять судьбу с таким унылым и скучным субъектом, что находится теперь перед вами.
— Вы так недовольны и собою, и собственной планидой, граф? — произнесла она. — По вам я бы этого не сказала.
— О, это особенность дипломата: скрывать истинное положение вещей. В моем случае это означает: за наигранным благодушием прятать пустоту, с неких пор поселившуюся в собственном сердце. А разве сердцу, как вместилищу радости и счастья, положено быть не наполненному до самых краев?
Произошел как бы обычный светский разговор. Но за этим, казалось бы, привычным флиртом и она и он вдруг почувствовали, что между ними пробежал какой-то электрический заряд.
— Как жаль, что мой вызов в Вену кончается через два дня и мне надо будет следовать в скучный и серый Дрезден, — стараясь не отводить свой взгляд от ее свежего, вдруг озарившегося нежным румянцем лица, вздохнул он. — Ах, почему мы не встретились с вами там, в Дрездене, где одно ваше пребывание могло оживить краски этого города — моего теперешнего пристанища?
Княгиня Багратион чуть потупила взор:
— А разве моей карете, моему отечеству, как вы ее назвали, заказано переместиться в ваш Дрезден?
Рука Меттерниха коснулась ее руки и поднесла ее к своим губам.
— Ваше сиятельство! Княгиня! — произнес он дрожащим от волнения голосом. — Как вы великодушны: возить с собою счастье, чтобы не только пользоваться им самою, но и делиться им с ближним!
Два оставшихся дня пролетели как один миг. Утром он посылал ей в гостиницу букеты цветов, затем являлся сам к кофею. Потом они вместе обедали, а вечером вновь встречались во дворце Разумовского.
— Так когда же вы намереваетесь перенести свое отечество в Дрезден? — спросил он ее, уже садясь в экипаж.
— Когда? — засмеялась она. — Человек становится эмигрантом не вдруг. Для того чтобы решение окончательно созрело, что-то внутри должно перегореть. Но обещаю: о моем приезде вы будете заранее оповещены:
«Господи! Неужели ты услышал мои молитвы и наконец послал мне того, кто так понял мою душу! — сказала она себе, оставшись одна. — Мой удел — свобода, мой удел — я сама, моя собственная судьба. И нет мне совершенно дела до тех, кто был когда-то рядом со мною, кто готов был оставаться у моих ног, думая о том, что тем самым принесет мне счастье. Сердце мое алчет большего и чудодейственного, оно алчет любви. И не той, что связывает накрепко и навечно, а любви, готовой сжечь и испепелить. Человек, который способен дать мне такое чувство, — это Клеменс. Да-да, Клеменс Меттерних, избранник своей собственной и в то же время моей судьбы».
Ежегодно во вторник, перед первой средой Великого поста, при дворе саксонского курфюрста устраивался бал. Приглашения рассылались ста семидесяти четырем гостям — поровну дамам и господам из самых приближенных к трону кругов. А в воскресенье, еще до открытия бала, в пять часов пополудни, во дворце проходило нечто подобное жеребьевке, определявшей партнеров для первого танца.
Жребий, как водится, всегда находится в руках Божьих или, иначе говоря, зависит от воли случая. Но тогда, в 1802 году, в Дрездене графу Клеменсу Меттерниху выпало танцевать именно с княгиней Багратион.
Карета княгини вот уже много месяцев привычно рисовалась у подъезда самого фешенебельного дрезденского отеля. И сие означало — ныне отечеством ее стал город на берегах сонной красавицы Эльбы.
Надолго ли? Не станем забегать вперед, если и они сами, влюбленные, не задаются пока подобным вопросом. Они счастливы и ни о чем друг друга пока не спрашивают.
Только однажды, нежась в постели и сощурив, по своему обыкновению, прелестные глаза, княгиня, указав на красно-черный плащ своего возлюбленного, спросила:
— Скажи, Клеменс, твой плащ — это наряд или обет?
— Ах, ты о Мальтийском ордене? — понял он ее. — Нет, я не рыцарь сего сообщества, а скорее рыцарь собственной чести. Той чести, которая превыше всего полагает мой собственный успех и мое собственное счастье. Разве не так, Катрин, ты думаешь и о самой себе?
Она благодарно посмотрела на него и страстно привлекла к себе.
Глава пятая
Генерал от инфантерии Голенищев-Кутузов[22] только что разменял свой седьмой десяток. Израненный на турецких войнах несчетное число раз, в том числе дважды смертельно пораженный в голову, еще года три-четыре назад он полагал, что ратная жизнь его отныне благополучно завершилась. Да и куда более, ежели тело — как дырявый мешок? А тут как раз, после отставки Петра фон дер Палена, с воцарением Александра, — предложенная ему весьма почетная должность санкт-петербургского военного губернатора.
Однако молодой царь приближал к себе генералов с громким боевым прошлым не для того, чтобы толпились они с ежедневными докладами в императорской приемной. Царь готовился к решительной войне с обнаглевшею Францией, снова, с возвращением из Египта прославленного генерала Бонапарта, бросившей вызов Европе.
Пугала якобинская революционная зараза? На сей раз дело принимало иной оборот. На развалинах империи Бурбонов, на безвинно пролитой королевской крови созидалась империя разбойная. И вовсе не республиканская, а держава под диктатом личности сильной, алчной, беспощадной.
Вот как стремительно шел к власти сей уроженец Корсики, недавно еще малоизвестный капитан революционных войск, ставший враз прославленным бригадным генералом, а затем главнокомандующим в Итальянском и Египетском походах. Совершив в Париже переворот и став первым консулом Франции, Наполеон Бонапарт вдруг летом 1802 года провел всенародный плебисцит. В итоге голосования ему, герою нации, было даровано пожизненное консульство. Однако и этого оказалось мало. Через два года он объявляет себя императором Франции. И открыто, на глазах всей Европы, готовится к вторжению в Англию.
— Мне нужны только три дня туманной погоды, и я стану господином Лондона, парламента, Английского банка!
Он готовился стать господином всей Европы.
И Европа вновь ощетинилась штыками. К концу 1804 года побуждаемые русским императором Александром Первым Россия, Австрия и Англия объединились в новую, третью по счету, коалицию. Англия по договору выделяла на борьбу с тираном более пяти миллионов фунтов стерлингов, чтобы на эти деньги собрать под ружье пятьсот тысяч солдат. Из них Австрия обязывалась поставить более двухсот пятидесяти тысяч человек, Россия — более ста тысяч, Пруссия, Швеция, Дания и другие — все вместе еще сто пятьдесят тысяч.
Первой открыла кампанию против Наполеона восьмидесятитысячная австрийская армия фельдмаршала Карла фон Мака, чтобы сорвать возможную высадку французов на Туманном Альбионе. А из России уже выступили две армии, каждая по пятьдесят тысяч солдат. Командование одною Александр Первый поручил Федору Федоровичу Буксгевдену, второю — Кутузову. Оба русских генерала со своими войсками должны были соединиться с австрийцами и совместными усилиями разгромить французскую армию, названную к тому времени самим Наполеоном «Великою».
Не пришлось стареющему Кутузову остаться паркетным генералом, и он, превозмогая болячки возраста и старых ран, двигался со своею армиею через австрийскую Галицию к городу Браунау.
Октябрь был уже на исходе. Он нес с собою с каждым днем усиливающиеся холода и слякоть, гнал по мокрому, слезящемуся небу темные тучи, вот-вот грозившие разразиться снежными зарядами.
Зябко кутая опухшие больные ноги солдатским одеялом, Кутузов изучал по карте маршрут до Ульма. Там, в добротно укрепленной крепости, Карл фон Мак занял позицию для встречи французских сил. К нему на подмогу держал свой путь Кутузов.
Но почему от Мака нет никаких сообщений? Ах, эти заносчивые австрияки, что не раз осложняли маневры и Суворову в недавних Итальянском и Швейцарском походах и мешали своею путаницею ему, Михаилу Илларионовичу, в операциях против турок. Хорошо помнит Кутузов по концу восьмидесятых годов своего союзника генерала Мака под Белградом. Действовал храбро, но постоянно почему-то стремился прибрать лавры победы в свои руки.
Так только успел Михаил Илларионович подумать, как на пороге появился адъютант:
— Там, в приемной, какой-то человек настоятельно требует свидания с вашим высокопревосходительством. Однако отказывается себя назвать. Только твердит по-немецки: весьма важное конфиденциальное сообщение…
Вошедший был высок, в цивильном платье, с головою, повязанной белым платком. Фельдмаршал Карл фон Мак! Откуда же и почему в таком виде?
— Вы не ошиблись. Перед вами — несчастный Мак. Я разбит, и моей армии более не существует. Она разгромлена и большею частью пленена. Я единственный, кого Наполеон Бонапарт отпустил, взяв с меня слово более не участвовать в войне.
— Вы опасно ранены? — подался к нему Кутузов.
— Не извольте беспокоиться, ваше высокопревосходительство, — фельдмаршал даже не старался скрыть на лице печать позора и стыда. — То не боевая рана. Я велел так гнать свою карету, что она опрокинулась в дороге и я ударился сильно головою. Впрочем, зачем мне теперь моя голова?
Сообщение австрийского фельдмаршала поразило русского генерала. Как же все быстро произошло, если побежденный сам, собственною персоной, привез в штаб союзному генералу скорбную весть, опережая молву и слухи, которые обычно распространяются быстрее официальных вестей?
То, что узнал Кутузов, его не просто ошеломило. Он вдруг впервые отчетливо понял, против какого противника определила его выступить судьба и как теперь он должен действовать, чтобы, не дай Господь, не повторить жребий Мака.
Еще два месяца назад «Великая армия», изготовившаяся к прыжку через Ла-Манш, стояла в Булонском лагере. Это-то и подвигло австрийцев, стремившихся первыми пожать лавры победы, двинуть свои войска в наступление. Их стратеги с линейками в руках подсчитали, что для переброски войск Наполеону потребуется шестьдесят четыре дня. Не около двух месяцев, а ровно шестьдесят и еще четыре дня!
Вот какою скрупулезностью отличались расчеты австрийского гофкригсрата, печально известного еще с суворовской поры своими никчемными выкладками. Что ж, на сей раз они, кабинетные стратеги, подвели самих себя, а с ними и русских союзников.
— Ровно через месяц я разобью австрийскую армию и к середине ноября буду в Вене! — заявил Наполеон и отдал приказ корпусам сниматься с мест и двигаться на восток. В главном Наполеоновом штабе тоже любили и умели делать точные расчеты. Каждому из семи корпусов, с точностью до самого малого населенного пункта, был определен маршрут, место и срок сбора. Так через тридцать пять дней вся почти двухсоттысячная «Великая армия» оказалась у стен крепости Ульм, занятой войсками Мака.
Великими преимуществами Наполеона пред всеми современными ему военачальниками, как совсем недавно у Суворова, были быстрота и натиск. И — еще другое свойство, которое во многих армиях, в первую очередь в австрийской, значилось только на бумаге. Это свойство — умение все, что задумывалось, со скрупулезной точностью претворять в жизнь.
Как легко Наполеон Бонапарт передвигал флажки на полевой карте, так же легко в натуре, на любой местности, перемещал он многотысячные корпуса.
Подойдя к Ульму, Наполеон разрезал армию Мака надвое. Одну ее часть он тут же отбросил к югу, подставив ее под огонь заранее выдвинутых сюда своих корпусов. Другую половину австрийской армии, возглавляемую самим Маком, он запер в Ульме. Для этого французский полководец обложил крепость со всех сторон пехотою, занял артиллерией господствующие над нею высоты и предложил Маку капитуляцию, угрожая неминуемым штурмом крепости и гибелью всех ее защитников.
Двадцатого октября 1805 года фельдмаршал Мак, его семнадцать генералов и более тридцати тысяч солдат выбросили белый флаг. Все пленные были отправлены во Францию, а горе-фельдмаршал с позором отпущен, чтобы следовать на мирное жительство в собственное имение.
Чтобы взорвать заряд, к пороху следует поднести горящий фитиль. Таким фитилем оказался разгром армии Мака. А следом уже разразилась настоящая катастрофа.
Как Наполеон и обещал, ровно день в день, пятнадцатого ноября он вступил в Вену, которая до того никогда не сдавалась неприятелю. Император Франц едва успел убежать из столицы на север, в Оломоуц. Сюда должен был прибыть из Берлина и Александр Первый. И сюда же, через Германию, двигалась вторая русская армия генерала от инфантерии Буксгевдена.
Катастрофа с Маком оставляла Кутузову ныне единственный путь — к Оломоуцу. Однако после занятия Вены Наполеон не только отрезал кутузовской армии наикратчайший путь, но и начал его преследование вчетверо превосходящими силами.
Гибель всей армии оказывалась неизбежной. Обозы, тяжелая артиллерия, госпитали, шедшие с армией по размытым дождями и разбитым сотнями колес дорогам, сулили крах, равный участи Мака.
Одно могло спасти кутузовскую армию — первыми подойти в район Цнайма. Но как? Путь французов от Вены до Цнайма был короче и лучше, чем дорога русских до этого пункта от Кремса, куда они уже вступили.
Значит, следовало Наполеона задержать, помешать ему перерезать путь нашей армии. Но какою же силою остановить победительный марш французских войск, коли они вчетверо перевешивают силы русских?
Какой заслон ни поставь на Венско-Цнаймской дороге, Наполеонов авангард мгновенно отбросит его прочь, если не уничтожит до последнего солдата. И все же следовало попытаться даже ценою неминуемой гибели малой части войска спасти всю остальную часть армии.
Кутузов пригласил к себе Багратиона и, полузакрыв единственный зрячий глаз, ткнул коротким пальцем в полевую карту:
— Вот город Голлабрун. Он — на Венско-Цнаймской дороге. От сего места, где мы теперь находимся, до него никак не менее сорока пяти верст. И то ежели идти без дорог, по холмам и горкам. Зато можно оказаться у Голлабруна на несколько часов раньше французов.
Смуглое восточное лицо Багратиона оставалось на удивление спокойным. Только голос, каким он отозвался, выдал волнение, означавшее, что он все понял и, как всегда, готов выполнить приказ.
— Получается, ваше высокопревосходительство, выступать мне следует немедленно. И — двигаться всю ночь. Только так можно выиграть у французов те несколько часов, о коих вы изволили упомянуть. Но выиграть следует более — самое малое сутки, чтобы дать всей армии оторваться от преследования. Так я понял ваш замысел?
Главнокомандующий привстал и потянулся к Багратиону.
— Я много был наслышан, князь, о твоей доблести в суворовских походах. И тут уже, в нашем переходе, дивился твоей храбрости в сражении при Ламбахе и Амштеттене, когда мы начали нынешнюю нашу ретираду после разгрома Мака. Потому не стану скрывать опасности предстоящего дела. Прикинь сам: в твоем корпусе не наберется и полных шести тысяч. А у маршала Мюрата, с коим тебе, как с главным Бонапартовым авангардом, предстоит сразиться, — все тридцать тысяч сабель и штыков.
И вновь ни один мускул не дрогнул на лице Багратиона.
— Можно отправляться, ваше высокопревосходительство? — только и спросил.
— Христос с тобою, князь Петр Иванович. Ступай, — перекрестил Кутузов генерала, когда тот уже почти скрылся в дверях.
Глава шестая
Порывы ветра сбивали солдат с ног. Подошвы сапог предательски скользили в топкой глине. А главное, валила усталость предыдущего, чуть ли не суточного, перехода из Кремса. Почти треть корпуса отстала, и уже к утру, когда передние подходили к Голлабруну, только-только из лесов, подступавших к Венской дороге, появлялись измученные солдаты.
Сам Багратион тоже не спал уже вторую, если не третью ночь. Теперь не было времени и на короткий отдых. Весь путь он проделал пешим ходом, вместе с солдатами бывшего своего Шестого егерского полка, с кем воевал в Италии и в Альпах. Ныне, подбадривал он солдат, не то, что довелось хлебнуть там, на Сен-Готарде и у Чертова моста. Здесь — гуляй, наслаждайся походом себе на радость!
На нем — шапка из смушки в форме каски с коротким козырьком, на плечах — любимая бурка, в руках — казацкая нагайка. Да еще на боку — шпага. Та самая, подарок Суворова.
Собираясь на эту войну, Петр Иванович приехал к Александро-Невской лавре, подошел к могиле Суворова и там совершил у дорогого ему праха молитву. То была дань памяти великому полководцу и учителю и клятва не посрамить звания русского воина.
Местность вокруг Голлабруна не показалась Багратиону годной для обороны, и он приказал отвести войска чуть севернее, за деревню Шенграбен. Здесь, решил он, будет сподручнее встретить неприятельскую атаку.
Он повелел принять такой боевой порядок. В центре обороны — Киевский гренадерский, Подольский и Азовский мушкетерские полки. На правом фланге — Черниговский драгунский полк. На левом — Павлодарский гусарский. В самой деревне Шенграбен он оставался сам с Шестым егерским, впереди которого, на дороге, он поставил артиллерийскую роту.
Но и это было не все. Два казачьих полка и Гессен-Гомбургский полк австрийцев составляли авангард и были выдвинуты к Голлабруну. В резерве же Багратион определил находиться батальонам Новгородского и Нарвского мушкетерских полков.
И еще. Деревня Грунт, находившаяся за Шенграбеном, в тылу русских войск, была заранее подготовлена в качестве запасного рубежа на случай, если французы прорвут фронт.
Вот такую блестяще продуманную, глубокую оборону подготовил Багратион для того, чтобы остановить, задержать и, если возможно будет, сломить наступательный дух передовых французских войск.
А неприятельские войска не заставили себя долго ждать. В тот же день кавалерийские дозоры Мюрата объявились на виду Голлабруна, и, как показалось Багратиону, авангард, высланный им вперед, пришел в определенное замешательство. Вернее, Гессен-Гомбургский полк вдруг снялся со своего места и начал зачем-то уходить в сторону.
— Князь Четвертинский, — обратился Багратион к своему адъютанту, — сделайте одолжение, скачите к графу Ностицу и осведомитесь о причине его странных маневров.
Штабс-ротмистр Борис Четвертинский вернулся на взмыленной лошади, сам еле переводя дух.
— Ваше сиятельство, австрийцы снимаются с указанных вами позиций, — доложил он. — Пред их порядками объявился парламентер Мюрата и объявил, что между Австрией и Францией — мир.
— Что? — воскликнул Багратион. — На одну приманку взять два улова? Да это уж было днями, когда тот же Мюрат обманул охрану Таборского моста и перешел через него в Вене на другой берег Дуная. Разве не вследствие того обмана мы, русские, из-за преступного головотяпства австрийцев вынуждены теперь отступать?
В самом деле, совсем недавно Мюрат провел австрийцев как малых детей. Взяв Вену, Мюрат с несколькими другими маршалами и генералами, с белыми платками в руках, подъехал к Таборскому мосту. Французы знали: мост заминирован и, коли случится опасность, будет немедленно взорван.
— Но разве вы не знаете, — обратился к охране Мюрат, — что мы приехали на переговоры с вашим доблестным генералом князем Ауэрспергом фон Маутерном? Наш император Наполеон и ваш император Франц уже решили: зачем проливать кровь, если все можно кончить мирным согласием?
Охрана оживилась. Австрийских офицеров стали обнимать французские офицеры и генералы. Вскоре прибыл и сам Ауэрсперг, и горячие объятия начались снова. А в это время французские егеря оказались уже на мосту. Они быстро разоружили охрану, заклепали дула пушек, и по настилу на тот берег двинулись их войска.
— Так дать себя обмануть! — вырвалось у Петра Ивановича. — Впрочем, а разве не гадили нам австрийские союзники в ту, суворовскую, кампанию? Из-за их выкрутасов, подлости и явного предательства мы, русские, не раз могли сложить свои кости в ущелиях Альп. А ныне? Мой фронт по милости генерала графа Ностица открыт, мои аванпосты оголены! Князь Четвертинский, скачите, голубчик, к казакам — вот мой им приказ…
Багратион быстро набросал в записной книжке несколько строк и, вырвав листок, протянул его штабс-ротмистру. По новой диспозиции Багратион переводил казачьи полки от Голлабруна на фланги боевых порядков, а Шестой егерский и артиллерию передвинул от Шенграбена к правому крылу.
Наконец передовые дозоры донесли: авангард корпуса Мюрата объявился на главной дороге.
— Пусть подойдут ближе, — оказался среди артиллеристов Багратион. — Первый залп — по взмаху моей нагайки.
Меж тем французы остановились. Подскакавший к своему начальнику Борис Четвертинский произнес:
— Мюратов парламентер с предложением о перемирии к вашему сиятельству. Вот их условия. Русская армия должна уйти к своим границам, французская же остается на месте и ведет дальнейшие переговоры с австрийским правительством, которое якобы на это согласно. Ратифицировать условия перемирия должны генерал Кутузов и император Наполеон. В случае, ежели какая-либо из сторон отвергнет условия перемирия, военные действия не должны начинаться ранее чем через четыре часа после уведомления друг друга.
«Да это же — подарок судьбы! — обрадованно произнес про себя Багратион. — Пока курьеры поскачут в оба конца, а генерал и император ознакомятся с соглашением, наша армия уйдет далеко вперед. Тут выигрыш уже не в часах, а, даст Бог, в нескольких днях». И вслух сказал, обращаясь к своему адъютанту:
— На сей раз хитрый и хвастливый гасконец Мюрат обманул не своего противника, а вырвал победу из рук Наполеона. Наша армия, благодарение Господу, будет спасена сей глупой Мюратовой затеей. Да еще мы здесь, у Шенграбена, собьем его спесь. Снарядите, князь, курьера к его высокопревосходительству Голенищеву-Кутузову. Пусть пришлет кого-нибудь чином повыше для переговоров, сиречь — для оттяжки времени. Чует мое сердце, маршала Мюрата подвели нервишки. Он наверняка принял мой отряд за главные наши силы. Иначе зачем же было давать нам фору?
Как говорил Багратион, так все и происходило. Мюрат действительно принял Багратионов корпус за всю русскую армию. И, чтобы задержать ее на позициях и не дать отойти, а затем ударить наверняка всеми силами во главе с императором Наполеоном, затеял игру с перемирием. Храброму в общем-то рубаке, но недалекому политику и никудышному дипломату, ему и впрямь пришлась по душе уловка с мостом, и он, хвастун и задира, решил ее повторить, но уже применительно к русским.
Вести переговоры с нашей стороны был прислан генерал-адъютант барон Винценгероде. Прибыв к Шенграбену, он встретился с маршалом Мюратом. Они подписали соглашение заключить перемирие до четырех часов пополудни, пока не придет повеление от французского императора, к коему был послан фельдъегерский офицер.
Гневу Наполеона не было предела. Получив послание от своего слишком пылкого зятя, французский император немедленно послал к нему собственного генерал-адъютанта Рене Савари с грозным письмом:
«Принцу Мюрату. Шенбрюнн.
25 брюмера 1805 года, 8 часов утра.
Я не могу найти слов, чтоб выразить вам мое неудовольствие. Вы командуете только моим авангардом и не имеете права делать перемирие без моего приказания. Вы заставляете меня потерять плоды целой кампании. Немедленно разорвите перемирие и идите против неприятеля. Вы объявите ему, что генерал, подписавший эту капитуляцию, не имел на это права, и никто не имеет, исключая лишь российского императора.
Впрочем, если российский император согласится на упомянутое условие, я тоже соглашусь, но это не что иное, как хитрость. Идите, уничтожьте русскую армию… Вы можете взять ее обозы и ее артиллерию.
Генерал-адъютант российского императора обманщик… Офицеры ничего не значат, когда не имеют полномочия; он также не имеет его… Австрийцы дали себя обмануть при переходе венского моста, а вы даете себя обмануть адъютантам императора.
Наполеон».
Генерал-адъютант французского императора летел из Шенбрюнна, еще недавней резиденции австрийских императоров. Его подгоняли гневные слова, брошенные вдогонку:
— Передайте принцу Мюрату на словах: или немедленное сражение, или я сниму его с командования корпусом! Мой зять попал в ловушку. Пред ним арьергард принца Багратиона. Он там, у Шенграбена, — щит Кутузова, как был во все время похода сперва к Ульму, а теперь к Оломоуцу. И пусть принц Багратион — лучший из русских генералов, но он не Бог свершить нечто невероятное — оставить мою Великую армию и спастись самому. Итак, немедленно ввязываться в драку — окружить и отрезать Багратиона от главных русских сил! Я же тотчас снимаюсь с гвардией и иду к полю битвы, чтобы уже пойманную и общипанную дичь бросить в кипящий котел.
Меж тем в русском лагере у деревни Шенграбен солдаты и в самом деле сидели вокруг костров и впервые за трое голодных и бессонных суток варили себе кашу.
Кое-кто из них успел прикорнуть у пушечных колес или в наспех отрытых ложементах. Во всяком случае, отовсюду слышался веселый говор и даже порою смех.
Бурка Багратиона мелькала то в одной, то в другой роте егерей и мушкетеров, то в эскадронах драгун и гусар, то в казацких порядках. Со стороны могло показаться, что командующий, не зная наверняка, как вести дело, если оно вдруг разгорится, ищет там, среди солдат, ответы на мучающие его вопросы.
Однако все было как раз наоборот. Продумав четкую расстановку сил в обороне и указав каждому полку и батальону их задачи, он теперь, разъезжая по расположению частей, зорким орлиным взором оглядывал поле будущего сражения и, представляя, как все может произойти в действительности, пытался еще и еще раз упредить возможные накладки и прорехи.
И конечно же он, находясь теперь в самой гуще солдатской массы, хотел увидеть своих будущих героев и лишний раз уверить их в том, что он, как всегда, с ними. А ежели он с ними — в каждой роте, в каждом батальоне и в каждом полку, то и в сражении будет рядом, будет в их самых первых рядах.
Теперь, когда ночь предоставила всем им долгожданную передышку, каждый понимал: как бы ни оказался страшен наступивший день, они этот день обязательно выстоят перед лицом врага и, даст Бог, нанесут французам ощутимый урон.
С высоток, на которых расположились русские артиллерийские батареи, открывался вид на деревню Шенграбен и французские войска, растянувшиеся цепью, уходившей за горизонт. Никто не стрелял — ни с русской, ни с их, французской, стороны. Но каждый, уже изготовившись к бою, всем существом своим ощущал: вот Сейчас, сейчас все начнется.
И правда, оттуда, с французской стороны, вдруг взвился белый султан дыма, и воздух разорвался выстрелом пушки и затем свистом летящего ядра. За первым султаном и первым хлопком появились уже новые клубы дыма и послышались новые и новые хлопки. А в ответ им, оглушая все вокруг близким грохотом, заговорили и наши батареи.
Лошадь Багратиона понесла его на правый фланг, где по новой диспозиции находились Киевский гренадерский и Подольский егерский полки. Они должны были здесь стойко обороняться и удерживать свои позиции, пока к ним не подойдут резервы центра. Ну а ежели атака — на центр? Тогда необходимо стянуть левый фланг и под прикрытием своей артиллерии отступать эшелонами до оврага.
Мысль командующего просчитывала каждую возможность, каждый поворот битвы, которой еще только предстояло развернуться. Но как всегда бывает в бою, то, что начало развиваться на глазах, перечеркивало предугаданные решения. И мысль, подстегиваемая новыми неожиданными условиями, как бы разворачиваясь в других, самых непредвиденных направлениях, все более и более взбадривалась, всякий раз ощущая еще не изведанные возможности и радуясь своим превосходством над замыслом противника.
Вот почему на Багратиона в бою снисходило вдруг невероятное спокойствие и, казалось, ничем не объяснимое хладнокровие: каждой клеточкой своего сознания, отбросив даже намек на суетливость и неряшливую поспешность, он должен был, молниеносно перебрав в голове десятки вариантов, найти тот, единственный, что обязательно принесет успех.
То, как стали действовать французы, опрокинуло все до этого момента предполагаемые Багратионом решения. За считанные часы перемирия к Мюрату подошли почти все силы «Великой армии», и она, эта армада, бросилась на русский арьергард со всех направлений. По центру наносили удар войска Мюрата, что двигались вдоль главной дороги, корпус Сульта пошел в обход правого, наиболее укрепленного фланга русских, дивизии Ланна нацелились громить левый фланг.
«Шенграбен! Немедленно зажечь деревню из пушек брандскугелями! — возникло решение в голове Багратиона. — Там у французов порох, зарядные ящики и там — их резервы, которые они готовы в любой момент ввести в дело».
Огонь над домами занялся сразу. И как бы в ответ на залпы наших орудий из деревни — один за другим — раздались взрывы оглушительной силы, и оттуда, из пламени и черного дыма, врассыпную побежали люди в синих шинелях.
— Ага, жарко стало! — послышались возгласы в цепях русских. — А вот мы счас и энтим, что идут на нас в лоб, поддадим горяченького до слез.
Атака Мюрата в центре захлебнулась. Теперь стало ясно, что основные силы его корпуса должны были подойти от Шенграбена — эшелон за эшелоном, как, вероятно, и было предвидено. Но паника в деревне смет шала планы главного удара, и он замедлился.
Зато на флангах завязались жестокие бои. На правое крыло накатывались и накатывались волны французов, стремясь отрезать путь русским к отходу. Две атаки, что следовали здесь одна за другой, были отбиты. Но и оборонявшимся пришлось сменить позицию — отойти к Гунтерсдорфу.
На левом фланге, которым командовал генерал-майор Селихов, французам удалось отрезать от пехоты Павлодарский гусарский полк. И павлодарцам ничего не оставалось, как отойти по Цнаймской дороге к главным кутузовским силам.
Вскоре и на правом фланге создалось угрожающее положение — были окружены Подольский и Азовский полки. Но мушкетеры не сложили оружия. Бросаясь в штыки, они дважды прорывали кольцо окружения, сорвав все усилия французов на безусловную победу.
Наконец войска Мюрата, потеряв на борьбу с пожарами в Шенграбене не менее двух часов, возобновили атаки. Следовало начать отход по все еще удерживаемой русскими дороге, ведущей к Цнайму.
Когда к концу дня, отбиваясь от неотступно следовавшего по пятам неприятеля, остатки войск центра и левого крыла подошли к деревне Грунт, оказалось, что она занята французами.
Князь Багратион в этот момент шел в рядах Шестого егерского полка. Он иногда оглядывался назад, как бы стараясь вобрать взглядом весь полк, и бодро говорил:
— Молодцы, ребята! Ай да молодцы!
И тогда четко по рядам неслось к нему отзвуком:
— Рады стараться, ваше сиятельство!
— Ай да молодцы! — радостно отвечал он своим любимцам. — А теперь, братцы, — в штыки! Одно нам остается — пробиться к своим через деревню Грунт. Другого пути у нас нет. С нами Бог!
Он вновь оглянулся на идущие следом за ним ряды и вытянул из ножен старую суворовскую шпагу.
Уже спустилась ночь, когда Шестой егерский прорвался. Но на правом крыле продолжали драться.
— Князь, — обратился Багратион к своему адъютанту Четвертинскому, — передайте подольчанам и азовцам: отходить через деревню Гунтерсдорф. Только оставить прикрытие. Майора Экономова знаете? Он сделает: пропустит полки, а сам задержит французов, коли они еще не потеряли охоту за нами гнаться…
Но французы, решив, что дело сделано и корпус принца Багратиона разгромлен, посчитали, что в преследовании только сами истощат собственные силы.
В ставке, когда к ней подошел корпус Багратиона, изрядно потрепанный, потерявший за восемь часов боя убитыми, ранеными и пропавшими без вести две тысячи четыреста два человека, многие не поверили своим глазам: неужто более половины людей уцелело? И уж совсем никак не могли взять в толк — не просто выстоять и спастись, но привести с собою в качестве пленных одного подполковника, двоих офицеров и пятьдесят рядовых да в качестве трофея доставить полковое неприятельское знамя!
Кутузов, выехав навстречу, не сделал даже попытки унять слез. Он вспомнил слова в донесении царю, которыми объяснял свое решение заслонить отступление армии арьергардом: «Хотя я видел неминуемую гибель, которой подвергался корпус князя Багратиона, не менее того я должен был щитать себя щастливым спасти пожертвованием оным армию…»
Лицо Кутузова было мокрым, когда он обнял Багратиона.
— Спасибо, князь. Господь и государь тебе воздадут, — только и сумел сказать.
Александр Первый был уже при армии и тотчас пожелал видеть героя.
Двадцативосьмилетний красавец государь был ласков. Он так же, как и Кутузов, пошел навстречу и, подав руку Багратиону, одарил его тою своею восхитительною улыбкою, которую все в придворном окружении называли не иначе как ангельскою.
— Поздравляю вас, князь, генерал-лейтенантом, — произнес он. И, взяв со стола звезду и большой крест ордена Святого Георгия, возложил их на Багратиона. — Сия награда — за беспримерную вашу храбрость.
Не имея орденов Георгия четвертого и третьего класса, князь Багратион награждался сразу Георгием класса второго. Но так велик оказался его подвиг, что ради него император соизволил нарушить начертанный еще Екатериною статус высшего в России военного ордена.
Глава седьмая
В день смотра русская и австрийская армии с самого раннего утра выстроились стройными парадными рядами на оломоуцком поле. В самом первом ряду — кавалерия, за нею — артиллерия, и еще дальше — пехота.
Но и каждая шеренга была в свою очередь поделена на три части. В первой из них находилось Кутузовское войско, уже прошедшее с боями более четырехсот верст, за ним — только что подошедшие из России гвардейские и армейские полки и следом — австрийцы.
Ровно в десять раздалась команда: «Смирно! Равнение на середину!» — и тысячи солдатских, офицерских и генеральских глаз устремились туда, откуда показалась конная кавалькада. То были русский и австрийский императоры, сопровождаемые придворными свитами.
От полка к полку покатилось громкое «ура», по мере того как оба императора проезжали вдоль строя войск.
Багратион стоял во главе своих полков, и его восторженный взгляд был устремлен на превосходно сидевшего на лошади государя. На Александре был конногвардейский мундир темно-зеленого сукна.
В отличие от русского царя, излучающего доброту и очарование молодости, как бы заряжающего всех вокруг спокойной и всепобеждающей уверенностью в собственных силах, австрийский император производил впечатление человека, лишенного всякой энергии, слабого не только телом, но, как говорили, и умом. Даже на смотре войск он робко и неумело сидел в седле. И то было не случайно: он до такой степени был труслив, что, редко садясь в седло, приказывал вести его коня на поводу.
Ко всему прочему, император Франц был удручен двумя тяжелыми утратами. Не так давно он потерял вторую жену, мать своих тринадцати детей, и большую армию, с позором капитулировавшую в ульмской крепости.
Как человека, на которого свалилось сразу столько горя, Багратион мог понять Франца. Но каким духом отваги и мужества сможет он вдохновить воинов, коли сам полностью лишен стойкости и воли?
Впрочем, надежда восьмидесятитысячной союзной армии, что демонстрирует свою несломленную мощь и силу здесь, на оломоуцком поле, на русского императора. Лишь раздастся команда, и армия смело и решительно двинется в сражение. А сражение неминуемо должно грянуть в самые ближайшие дни. В городе Брюнне, всего в каких-нибудь двух переходах, остановилась в ожидании схватки «Великая армия». И передовые ее дозоры уже не раз объявлялись в непосредственной близости от наших авангардных частей.
Скорее бы император Александр отдал приказ наступать и сам встал во главе своей гвардии!
Нельзя без восхищения и гордости смотреть на гвардейские ряды, в которых молодец к молодцу. Здесь, в далекой Моравии, в самом центре Европы, были представлены все ее полки. По два батальона преображенцев, измайловцев и семеновцев, в полном составе кавалергардский и конногвардейский полки, лейб-гвардии гусарский и два эскадрона лейб-гвардии казаков.
Только Багратион не нашел в строю своего лейб-егерского батальона. С недавних пор состав батальона был увеличен с трех до четырех рот и в помощь ему, шефу, командиром назначен граф Эммануил Сен-При. Был он эмигрантом, происходившим из древней и знатной французской фамилии, покинувшим отечество, когда там вспыхнула революция. Новому командиру Багратион успел лишь передать часть положенных обязанностей. Но почему-то сразу определил, что вряд ли когда-нибудь близко с ним сойдется. Теперь генерал-майор Сен-При во главе батальона нес службу в Павловске и Гатчине, откуда ни за что не хотела переезжать в Зимний дворец вдовствующая императрица Мария Федоровна вместе со своими младшими сыновьями и дочерьми.
Гвардия в нынешнем своем составе двинулась из столицы Российской империи десятого августа. Шла она усиленным маршем, делая иногда по сорок и более верст, поскольку в походе все тяжести следовали на подводах. Маршрут был такой: Луга, Витебск, Минск, Брест и далее Краков, после которого они оказались в Моравии, в Оломоуце.
Весь путь с гвардейскими батальонами и полками проделал великий князь Константин Павлович, коему вверено было командование этой привилегированной частью русского воинства.
Считалось, что гвардия вряд ли окажется на сей раз в деле. Во всяком случае, такие ее полки, как, например, кавалергардский, который был всего пять лет назад заново сформирован и еще не принимал участия в военных действиях. Посему с завистью смотрели гвардейцы на кутузовских воинов, и особенно на солдат и офицеров арьергарда князя Багратиона, сумевших в недавних боях проявить мужество и отвагу.
Иные офицеры гвардии с первого же дня обступили главную квартиру с прошениями дать им возможность оказаться в деле, если их полку или батальону не выпадет сей славный и завидный жребий. Особенно было много охотников оказаться под началом Багратиона, которого после Шенграбена называли не иначе как спасителем русской армии.
Стремление быстрее оказаться в деле охватило все русское войско, когда стало известно, что Бонапарт прислал к Александру своего генерал-адъютанта с письмом, в коем, как стали передавать, он предлагает мир.
— Очередная уловка, — пронесся в полках слух. — Коль говорится о мире, — значит, быть войне!
Наполеон писал: «Посылаю моего адъютанта, генерала Савари, поздравить ваше величество с прибытием к армии и выразить все мое уважение к особе вашей и желание найти случай доказать вам, сколь много дорожу я приобретением вашей дружбы. Удостойте принять посланного со свойственною вам благосклонностью и верьте, что более нежели кто другой желал бы я сделать вам угодное. Молю Бога, да сохранит он вас под святым покровительством своим».
Александр ответил тоже посланием: «С признательностью получил я врученное мне генералом Савари письмо и поспешаю выразить вам всю мою благодарность. Все мои желания состоят в восстановлении общего мира на основаниях справедливых. Также хочу иметь случай сделать лично для вас приятное. Примите уверения в том, а равно в моем совершеннейшем уважении».
Русский император и его ближайшее окружение долго не могли решить, кому адресовать письмо. Назвать узурпатора власти императором не поднималась рука. И тогда была найдена, как думалось, самая приемлемая и вроде бы нейтральная форма: «Главе французского правительства».
Глянув на эти слова, император Франции произнес:
— Выходит, будем драться. Ну что ж…
Нет, не случайно Мюрат заговорил о временном замирении, когда подошел к Шенграбену, где надеялся встретить всю русскую армию. Мысль сию, вероятно, первым высказал сам Наполеон.
После разгрома Мака и взятия Вены Австрия оказалась в положении побежденной державы. Другая противница, Пруссия, по всей вероятности, окончательно укрепилась в мысли не посылать свои войска против Франции. Единственным противником, представлявшим достойную силу, оставалась Россия. Но, даже разбив ее армии здесь, в Европе, до нее самой невозможно было дотянуться, а значит, ее нельзя было окончательно победить. Зачем же ломать копья в стычке с нею, когда выгоднее заключить с императором Александром мир, сделав Россию мощной в военном отношении союзницей?
В пользу мирного решения конфликта говорило и ставшее отныне невозможным вторжение на берега Англии. Когда здесь, в австрийских пределах, Наполеон торжествовал свою победу при Ульме, эскадра знаменитого английского адмирала Нельсона у мыса Трафальгар наголову разгромила объединенный французско-испанский флот. Оставалось в борьбе с владычицею морей и европейского капитала использовать иной способ — оторвать от нее, одного за другим, союзников, а сам Альбион задушить блокадой.
Через два года сей путь триумфально откроется перед французским императором. Но тогда, в стылом ноябре 1805 года, будущий главный партнер, Россия, оставалась пока еще его главным и не склонным ни к каким компромиссам противником.
Решения о выборе того или иного политического курса принимают главы держав. Армии лишь вверяется одна-единственная роль: если потребуется, силой подкреплять волю государя, служить ему верой и правдой, не рассуждая. Так было всегда. Как думает государь, так должна думать и действовать армия.
Ответ российского императора Бонапарту был расценен в войсках как свидетельство твердости русского духа, как проявление и государем и армией единой воли и решимости не идти ни на какой сговор с коварным и хитрым врагом.
А то, что сил и умения русским не занимать, показал и недавний успех Шенграбенского сражения и неожиданно открывшееся и окончившееся полной викторией дело в небольшом городке Вишау, как раз вскоре после отбытия генерала Савари.
Чистенький и аккуратный городок Вишау, расположенный как раз между двумя нацеленными друг на друга армиями, был местом, куда не раз наведывались отряды из французского авангарда.
Таким образом, части арьергарда князя Багратиона, тоже не раз наведывавшиеся в Вишау, находились в непосредственном соприкосновении с противником и не раз оказывались с ним в перестрелке.
В тот день наши пикеты донесли, что в город просочились французы. Причем в основном кавалерия, пехоты же мало. Багратион обратился к шефу Мариупольского гусарского полка генерал-майору графу Витгенштейну:
— Петр Христианович, а что, если вам расположить своих гусар на выездах из Вишау, чтобы задержать отход французской кавалерии? Тем временем я приказал бы пехоте атаковать город. Полагаю, вышло бы славное дело.
При разговоре присутствовал генерал-адъютант князь Долгоруков. В тот день он упросил царя отпустить его к Багратиону, чтобы своими глазами увидеть, как ведут себя французы, и определить, что на самом деле собираются предпринять их войска: отходить или же, наоборот, готовиться к наступлению. Услышав о предложении Багратиона, Долгоруков не мог удержать себя от соблазна.
— Любезный Петр Иванович, вы не доверили бы мне начальство над вашею пехотой? Если бы вы, князь, знали, как хочется сейчас самому взять в руки оружие, чтобы сразиться с неприятелем!
Долгоруков был одним из самых любимых в окружении императора. Они были друзья с детских лет. В Петербурге Долгоруков жил в Зимнем дворце, что свидетельствовало об их с царем тесной дружбе.
Багратион конечно же знал о том, кого отрядил в его отряд Александр Павлович и как непредвиденно могут обернуться его собственные отношения с императором, откажи он теперь в просьбе его любимчику. Впрочем, не было почти никакого риску, коли он сам, командующий, будет руководить операцией.
В Витгенштейне Багратион не сомневался. Потому он все внимание уделил атаке пехоты, дабы не дать оконфузиться царскому адъютанту и вовремя, если окажется необходимым, поправить его действия.
Меж тем конфуз произошел как раз с Витгенштейном. Замешкавшись с выходом эскадронов на указанные ему позиции, командир Мариупольского полка упустил время, и французская кавалерия покинула город. Задержался лишь один вражеский эскадрон, который вместе с пехотой принял бой.
Однако натиск нашей пехоты и подоспевших гусар оказался таким мощным, что неприятель прекратил сопротивление. Под ликующие крики «ура» из города выходил целый эскадрон французских драгун, сдавшихся в полном составе в плен. Их, спешившихся, конвоировали наши гусары. Они сидели на своих лошадях и держали в руках поводья трофейных коней.
У русских потерь не оказалось, если не считать легко раненных. Но французы потеряли убитыми несколько человек из кавалеристов и пехотинцев. Трупы их лежали на мостовой, в самом Центре городка, где перестрелка и сеча оказались самыми яростными.
Еще не разошелся пороховой дым, как среди победителей разнеслось:
— Император! Сам, на коне, со своею свитою. Глядите!
Действительно, в дальнем конце главной улицы показались всадники, и впереди них — Александр Павлович. От быстрой скачки, а может быть, от чувства восхищения победой, весть о которой пришла к нему так внезапно, лицо императора было оживленно.
— Поздравляю вас, князь Петр Иванович, с новою викторией, — обратился он к Багратиону. — Признайтесь, вам, дорогой Петр Иванович, не прискучили еще лавры первого воина России? — Улыбка осветила дышащее завидным здоровьем лицо Александра. — Простите, князь, своею шуткою я хотел только еще раз подчеркнуть, как высоко я ставлю ваше ратное искусство.
Багратион чуть заметною улыбкою отозвался на шутку императора, затем перевел взгляд на сидевшего рядом на лошади Долгорукова.
— Осмелюсь возразить вашему императорскому величеству, — произнес он. — На сей раз лавры победителя принадлежат князю Долгорукову. Это он, Петр Петрович, вызвался предводительствовать моею пехотою и совершил блестящую атаку, одержав победу, коя так восхитила ваше величество.
Услышав неожиданную похвалу из уст командира корпуса, Долгоруков горделиво вскинул голову, потом, сняв шляпу, поклонился императору.
— Баше величество, нет таких преград, которые бы не преодолел русский солдат, чтобы в который раз возвысить славу вашего величества! — восторженно воскликнул он. — И я, как ваш преданнейший солдат, совершил лишь то, что повелел мне мой долг.
— Спасибо, князь Петр Петрович. — Голос императора обнаружил нескрываемое удовлетворение. — Я никогда в вас не сомневался. Имея таких верных слуг и таких способных военачальников, моя армия не может не победить Бонапарта.
И, оборотившись к командиру арьергарда:
— Князь Багратион, передайте от моего имени по команде: всем нижним чинам за участие в деле выдать по чарке водки, а господ офицеров представить к наградам.
И государь, вновь одарив окружающих улыбкою, слегка натянул поводья.
Только теперь, тронув лошадь, чтобы проехать далее по улицам города, он заметил невдалеке от себя тело убитого французского солдата.
Поначалу Александру Павловичу показалось, что человек просто подвернул ногу — так нелепо он лежал, подтянув колени к животу и упрятав голову в плечи. И казалось: вот сейчас встанет, отряхнется и пойдет дальше. Но солдат в синем мундире не поднимался. Тогда царь поднес к глазам золотой лорнет и заметил, что рядом с лежащим — кровь.
Мгновенно лицо Александра Павловича стало бледным, похолодели щеки и лоб, а в желудке появилась какая-то металлическая тяжесть и тошнотный комок подкатил к горлу.
«Что со мною? Так ведь нельзя. Кругом люди, солдаты, а я… — в страхе подумал он о себе. — Это пройдет. Так бывает, говорили мне, со всяким, кто впервые видит смерть на поле боя. Надо ведь взять себя в руки. Разве я не затем прибыл к своей армии, чтобы одним своим присутствием поднимать ее боевой дух?»
«Нет-нет, со мною все хорошо», — пытался успокоить себя император на следующий день, когда переехал в Вишау с главной квартирой.
Легкое недомогание, хотелось верить, скоро пройдет. Тем более что победа при Вишау и впрямь поднимала настроение войск. К тому же доложили, что адъютант Бонапарта Савари вновь с белым флагом объявился на русских аванпостах. Его тут же привели к Александру Павловичу.
— Мой император хотел бы предложить вашему величеству личную встречу, — раскланялся французский генерал. — Осмелюсь повторить слова моего императора о том, что даже худой мир лучше доброй ссоры. Между тем у его величества к вашему величеству — самый сердечный респект…
— Пожалуй, я сделаю то же, что предпринял Бонапарт, — был ответ русского императора. — Я велю моему генерал-адъютанту князю Долгорукову продолжить предлагаемые вашею стороною переговоры.
Князь Долгоруков возвратился в отличнейшем расположении духа. А когда вышел от царя, весь прямо-таки сиял от возбуждения, отвечая на задаваемые ему вопросы с не сходящей с лица самодовольною улыбкою.
— Вы спрашиваете, что же Бонапарт? — усмехался он. — Скажу одно: празднует труса.
— Тогда, выходит, мы должны первыми на него напасть и покончить с этим чудовищем одним ударом? Что ж наш император, что решил он?
— А как вы полагаете, господа, пристало ли нам, русским, бояться сего авантюриста? Ежели бы он, мошенник, нас не страшился, не стал бы при мне так униженно заискивать и говорить о мире. Он на протяжении всей беседы со мною, так сказать с глазу на глаз, выражал испуг. Видно, шельма, опасается, как бы мы не отрезали ему пути отступления. Если не сегодня, так завтра он начнет отход всем войском, верьте мне, господа. Так что дело за тем, чтобы подготовить диспозицию. Эту обязанность государь справедливо возложил на генерала Вейротера. Он, как всем вам известно, отменный стратег и тактик, у коего следовало бы поучиться многим нашим военачальникам.
Глава восьмая
Странная вырисовывалась картина. Главнокомандующим союзной армией был назначен Кутузов, генерал, прошедший не одну войну. А план боевых действий разрабатывал не полководец, а генерал-квартирмейстер Франц фон Вейротер, заскорузлый штабной чиновник, нанесший немало вреда Суворову в его Итальянском походе.
Но не только в этом была нелепица. Кутузов, оценив сложившееся положение, высказал государю мысль — отвести армию к Карпатам. Там можно перезимовать и дождаться подкреплений из России. Идти же в наступление теперь, после изнурительного отхода, значило, по его мнению, подвергнуть себя поражению.
Между тем не так думали российский император и австрийские генералы, уверовавшие в немецкую военную науку как в непререкаемую догму. Вейротеру и его штабу виделось: достаточно скрупулезно, во всех деталях нанести на бумагу маршруты Движения войсковых колонн, места их сосредоточения, определить время начала и окончания операций, и остальное совершится само по себе.
И — армия пришла в движение. Войска шли к Брюнну, навстречу Наполеоновым силам, по маршрутам и расписанию, рожденным в австрийских генеральских головах. Только чего стоили все их прожекты и подсчеты; если еще до сражения, на марше хваленая австрийская пунктуальность стала давать сбои. Колонны совершали небольшие переходы, но по таким маршрутам, что теряли напрасно по десять и более часов. В результате пути колонн перерезывались не по одному разу, позиции, что следовало занимать подошедшей колонне, оказывались уже занятыми.
Только война есть война. А на войне чем труднее, тем больше крепнет воля к победе. И только слабый силой и духом может спасовать, испугаться препятствий и опасности. Русская же армия ощущала свои силы не только как равные неприятельским, но намного их превосходящие.
И в самом деле, соотношение сил выглядело так: у французов под ружьем было до семидесяти пяти тысяч человек при двухстах пятидесяти орудиях, у союзников — до восьмидесяти шести тысяч и триста тридцать пушек. Причем из находившихся в строю семьдесят тысяч солдат были русскими, то есть воинами умелыми и отважными, уже здесь, в Австрии, проявившими свою удаль и стойкость.
Но не одно арифметическое превосходство вселяло веру в возможную победу. Все, что предшествовало предстоящему сражению, как бы говорило каждому русскому солдату и офицеру: гарантия успеха — ваша воля и ваша отвага, а вы их уже проявляли не раз.
До Брюнна, где находилась главная квартира французов, оставалось менее тридцати верст, когда союзной армии приказано было остановиться. Местность были болотистая, окаймленная небольшими высотами. А вдали, за полем, виднелась деревушка под названием Аустерлиц. Тотчас по колоннам развезли приказ: занять возвышенную местность, получившую тут же название Праценских высот, и в самых выгодных местах расположить артиллерийские батареи.
«Как счастливо все сложилось!» — обрадовались в полках, когда во тьме быстро опустившейся ночи впереди себя внизу, на топкой равнине, увидели бивачные огни французов. Огней во вражеском лагере было так много; а движение людей такое явственное, ничем, казалось, не скрываемое, что уже ни у кого не осталось более сомнений: неприятель отступает!
Тут же собрался военный совет. Кутузов встретил генералов как-то равнодушно и тут же, сидя за столом, стал дремать. Диспозиция Вейротера была настолько объемистой и подробной, наполненной непривычными названиями селений, озер, рек, долин и возвышенностей, что могла обратить в сон не только главнокомандующего, что был уже в немалых летах, но и многих других военачальников.
Некоторые руководители колонн, правда, пытались не только вникнуть в содержание того, что монотонно читал Вейротер, но и высказать свое мнение. Но все их замечания были как бы не по существу, и автор диспозиции резко прерывал высказывания.
Его особенно раздражали опасения отдельных участников военного совета насчет движения войск в лагере неприятеля. А вдруг это не ретирада, а, напротив, подготовка к решительному наступлению?
Кажется, это опасение первым высказал вслух генерал Ланжерон, но он тут же был остановлен Вейротером:
— Чепуха, герр генерал! Подлинная чепуха. Когда бы такое намерение было в голове Бонапарта, он давно бы уже нас атаковал. Еще в Вишау, к примеру. Вы же знаете, что со своими главными силами он был в тот момент недалеко. Но — не решился!
Милорадович обернулся, надеясь найти Багратиона. Но князя Петра в комнате почему-то не было.
«Ах да, он теперь со своим авангардом, — решил Милорадович. — Он-то как раз, наверное, теперь и старается выяснить, сколь сие возможно: отступает Наполеон иль с его стороны огни и передвижение людей — обман».
Однако опасения серьезны. И Милорадович вслух повторил вопрос Ланжерона.
Вдруг он встретился взглядом с князем Долгоруковым, и генерал-лейтенант Милорадович даже взмок.
— Прошу прощения, меня, верно, не так поняли, — поспешил он как бы взять свои слова назад. — Неуверенность и страх теперь в голове Бонапарта. Сие прозорливо изволил заметить и передать нашему государю князь Петр Петрович, когда встречался один на один с этим, скажем так, авантюристом. Но я что хотел сказать, господа: надобно бы усилить наши аванпосты. Чтобы точно знать, какие силы он снимает и в каком направлений совершает отход. Зная сие, можно было бы и в диспозиции предусмотреть какие-либо оперативные изменения.
Вейротер побагровел так, что даже шея стала свекольного окраса.
— Мое расписание не нуждается ни в чьих дополнениях, герр генерал! Не так ли, ваше сиятельство? — Ища поддержки, генерал-квартирмейстер обратился к князю Долгорукову.
— Его величество поручил мне передать, что он одобряет план, с коим мы сейчас ознакомились, — коротко сказал князь. — Потому, полагаю, всякие замечания и споры и в самом деле неуместны.
— Что вы сказали, ваше сиятельство? — приоткрыл набухшее со сна веко Кутузов. — Ах да, какие могут быть обсуждения, коли завтра, нет, уже нынче, с рассвета нам всем надлежит привести наши колонны в боевой порядок? А сейчас, перед сражением, не худо было бы хорошенько поспать. Не смею вас более задерживать, господа.
Костры и оживление в неприятельском стане, самоуверенно принятое многими союзными генералами за отступление, явились знаками совершенно обратными. «Великая армия» готовилась не к позорному бегству, а к решительному сражению.
В то время как к домику невдалеке от деревни Аустерлиц, занимаемому Кутузовым, стекались члены военного совета, Наполеон объезжал ряды своих войск. Был он в своей старой синей армейской шинели, известной многим солдатам еще по Италии, на голове — шляпа с двумя рожками по бокам, почему-то у нас прозванная треуголкой.
При свете костров и факелов в полках только что было зачитано его обращение к воинам, и они, завидя своего кумира, исступленно выкрикивали; «Да здравствует император!» — и порывались броситься следом за его лошадью.
Как всегда, приказ Наполеона был образцом слога, каждое слово его взывало к сердцу солдата и требовало от него высокого подвига. Составление приказов он не доверял никому из своих адъютантов и секретарей. Он писал их сам или же в крайнем случае диктовал.
Приказы по армии, как и главное дело своей жизни — Гражданский кодекс, он считал предметами особой гордости. «Могут со временем забыться многие мои сражения, — говаривал он, — но основа жизни народа, мой Гражданский кодекс, останется на века». Потому, наверное, думал он, что не пушки и ружья, а мысль, облеченная им в слова, будет диктовать людям законы и правила чести, высокой нравственности и достоинства.
Но пока не умолкли пушки, взывать к самым лучшим человеческим чувствам будут его приказы. Здесь, в обращениях к армии, как и в его кодексе, каждая мысль, облеченная в слово, должна доходить до сердца воина, поднимая его на подвиг чести и славы.
Теперь, при Аустерлице, в обращении Наполеона к войскам говорилось:
«Солдаты! Русская армия выходит против вас, чтоб отомстить за австрийскую, ульмскую армию. Это те же батальоны, которые вы разбили при Голлабруне и которые вы с тех пор преследовали постоянно до этого места. Позиции, которые мы занимаем, — могущественны, и пока они будут идти, чтоб обойти меня справа, они выставят мне фланг! Солдаты! Я сам буду руководить вашими батальонами. Я буду держаться далеко от огня, если вы, с вашею обычною храбростью, внесете в ряды неприятельские беспорядок и смятение; но если победа будет хоть одну минуту сомнительна, вы увидите вашего императора, подвергающегося первым ударам неприятеля, потому что не может быть колебания в победе, особенно в тот день, в который идет речь о чести французской пехоты, которая так необходима для чести своей нации.
Под предлогом увода раненых не расстраивать ряды! Каждый да будет вполне проникнут мыслию, что надо победить этих наемников Англии, воодушевленных такою ненавистью против нашей нации. Эта победа окончит наш поход, и мы сможем возвратиться на зимние квартиры, где застанут нас новые французские войска, которые формируются во Франции; и тогда мир, который я заключу, будет достоин моего народа, вас и меня…»
Удивительная вещь! Слова приказа заносились на бумагу еще задолго до того, как генерал-квартирмейстер Франц фон Вейротер открыл генералам свой великомудрый план. Смысл сего штабного труда заключался как раз в том, чтобы усиленным левым крылом из трех русских колонн обойти правое крыло французов и разбить его ударом во фланг и тыл. Но как же мог Наполеон узнать, что именно так будет построена атака неприятеля, и в своем обращении к армии ясно и четко обозначить направление сего главного удара? И не только предугадать действия русских войск, но загодя их упредить: «Они выставят мне фланг!»
И первый и второй приезд Савари в русский лагерь Наполеон предпринял с одной целью: уж коли они не пойдут на мировую, а в этом он в глубине души не сомневался, то следует разыграть видимость собственных колебаний и опасений. С какою же целью? Чтобы не дать русским повернуть в Венгрию, к Карпатам, дабы усилиться резервами, а заманить их в ловушку здесь, в австрийских пределах.
Сию ловушку, то есть место будущего сражения, Наполеон предусмотрительно выбрал сам. Местность у деревни Аустерлиц показалась ему особенно пригодной для того, чтобы ее одобрили русские и начали с нее атаку. И именно так, как будет им диктовать рельеф, если сам Наполеон расположит свои силы внизу, у подошвы Праценских высот, — с охватом его якобы ослабленного правого фланга.
В мундире рядового капрала император в течение восьми дней — с раннего утра до позднего вечера — обошел, облазил и, где надо, прополз по-пластунски каждый изгиб рельефа, каждую сажень равнины внизу. И — присматривался к направлению ветра, изучал, когда встает и когда рассеивается туман над долиною, что случится, если вдруг в день битвы зарядит дождь?
Грандиозная битва, прежде чем разразиться в этих вдоль и поперек исхоженных им за неделю местах, час за часом, даже минута за минутою проигрывалась в его воображении. Он выстраивал в голове один за другим варианты движения неприятельских колонн и, отбирай наиболее вероятные, тут же противопоставлял им колонны войск собственных. Но это было не главное, чего он хотел достичь. Выстраивая за русских движение их колонн, он хотел увидеть себя не обороняющимся, а, напротив, наступающим! Так родился его собственный план контрудара и определилось его направление — центр.
«Пусть они, наступающие, все свое внимание сосредоточат на моем правом фланге, — окончательно решил он, — я же ударю там, где они не ждут, и разметаю их войска на две части. А затем по частям уничтожу их, ошеломленных и сломленных.
Не они мне, а я им зайду во фланги и тыл и завладею Праценскими высотами. Как же иначе? Эти самые высоты я нарочно теперь оставляю им, чтобы они ими и приманились! Но, развертывая свое наступление, они с сих высот обязательно сойдут в долину, чтобы, по их затее, преследовать мои якобы отступающие войска. Я же тотчас займу Працен, где молниеносно размещу пушки и начну расстреливать в упор, сверху все их людское месиво! И тогда им, зазнавшимся, решившим обмануть мой военный гений, не будет пощады! Гибель и несмываемый позор — вот какая участь ожидает императора Александра и его воинство!»
Наполеон вспомнил приезд к нему на аванпосты личного адъютанта русского императора генерала князя Долгорукова.
«В каких выражениях и каким презрительным тоном говорил со мною этот избалованный придворный хлыщ! — подумал Наполеон. — Начать хотя бы с того, что этот зазнайка ни разу не обратился ко мне как к императору, а с подчеркнутою настойчивостью называл меня генералом Бонапартом. Что ж, не своим братом, как принято среди августейших особ, а главою французского правительства назвал меня император Александр в своем письме.
В самом деле, кто я для них, августейших особ? Солдат, который сам водрузил на себя корону. И пусть эту корону я заставил сиять всем блеском чистого золота и алмазов, они же, престолонаследники, запятнали свои цезарские наряды кровью отцеубийства, грязью междоусобиц, склок и предательства, — они все равно будут еще долго считать меня чужим в своей благородной семье. И чем больше станут меня бояться, тем сильнее будет их отчуждение от меня. Но я заставлю их не только считаться со мной, но и почитать меня в их наследственных августейших семьях самым достойным и самым великим!
Зная за собою силу и ум, я без всяческого лукавства и обиды мог бы сегодня предостеречь Александра вместе с его наглецом принцем Долгоруковым: по-настоящему смеется лишь тот, господа, кто смеется последним!
А как хотелось этому придворному шуту, которого подослал ко мне император Александр, унизить мое достоинство и честь! Право, он говорил со мною как с подневольным боярином, коего ссылают в Сибирь! Надо же, требовал от меня, чтобы я немедленно убирал свои войска из Австрии и изо всех иных пределов, где ныне они имеют место пребывать.
Что ж, хотел бы я посмотреть на лица моих недругов завтра в полдень, когда их армия понесет поражение.
Впрочем, это завтра уже наступило. Вон, окутанное еще легким утренним туманом, над горизонтом встает солнце. Это солнце моей победы, солнце Аустерлица!»
К пяти часам утра второго декабря 1805 года союзная армия изготовилась к бою в заранее определенном диспозициею порядке. Три первые русские колонны генерал-лейтенантов Дохтурова, Ланжерона и Пржибышевского составляли левое крыло под общим командованием генерала от инфантерии Буксгевдена. Четвертая русско-австрийская колонна генерал-лейтенантов Коловрата и Милорадовича означала центр, непосредственно подчиненный Кутузову. На правом крыле находились пятая колонна генерал-лейтенанта Багратиона и австрийского генерала Лихтенштейна. Этим крылом командовал Багратион.
Как и при недавнем следовании на марше, беспорядок и бестолковщина в движении колонн начались сразу после отдачи команд. Полки только что тронулись с места, а уже перепутали свои маршруты и, остановись в ожидании, стали уступать друг другу дорогу. К тому же туман оказался настолько густым, что внизу, под горами, куда двигались полки, ничего нельзя было разглядеть и в десяти шагах.
Но настоящая сумятица произошла, когда первая, вторая и третья колонны все же спустились в долину и услышали впереди себя дружный треск выстрелов.
Кто открыл огонь там, впереди; редкие аванпосты, которые наблюдались со вчерашнего вечера, или же главные силы неприятеля, так и не пожелавшего отступить?
И сами начальники колонн, и их подчиненные пришли в замешательство. Куда следовало наступать, если впереди не видно ни зги, а выстрелы уже раздаются не только впереди, но с флангов и чуть ли не с тыла? И почему центр, коим командует сам Кутузов, медлит вступить в дело, чтобы подкрепить левое крыло, как указывала на то диспозиция?
Меж тем Кутузов и впрямь стоял без движения в самом центре Працена. Здесь, наверху, туман давно рассеялся, и день обещал быть чистым и светлым. И точно предвестником этого ясного дня оказалось вдруг появление императора Александра вместе с австрийским императором Францем и пышной сопровождающей их кавалькадой.
Верно, недомогание, случившееся еще в Вишау, оставило государя. Он выглядел бодрым и совершенно здоровым.
Так, в веселом настроении, он подъехал к Кутузову, сидевшему на лошади, но по-видимому не проявлявшему ни малейшего намерения двигаться со своего места.
— Что же вы, Михаил Ларионович, не начинаете? — обратился император к главнокомандующему.
У Кутузова почему-то задергалась щека, когда он стал отвечать:
— Поджидаю, ваше величество.
Император сделал удивленное лицо, словно не расслышал:
— Поджидаете кого или что? Когда разгорится там, в долине, настоящее дело или когда подтянутся к означенным позициям остальные войска?
— Ваше величество совершенно правильно изволили меня понять — не все колонны еще собрались, — почтительно поклонился через луку седла Кутузов.
— Но мы с вами, Михаил Ларионович, не на Царицыном лугу, где не начинают парада, пока не придут все полки, — возразил Александр Павлович и обернулся к императору Францу, как бы ища у союзника одобрения.
Австрийский император и генералы обеих свит почтительно заулыбались. Лишь Кутузов казался спокойным, хотя щека его задергалась еще заметнее.
— Потому и не начинаю, государь, — громче, чем прежде, произнес Кутузов и повторил: — Потому и не начинаю, ваше величество, что мы не на параде и не на Царицыном лугу.
Лучистые глаза Александра Павловича похолодели. Из-за его спины раздался приглушенный ропот:
— Как он посмел?.. Право, даже в его годы подобная бесцеремонность…
Александр медленно повел красивой головой в сторону, давая понять свите, что он не расслышал ни слов Кутузова, ни замечаний окружающих. Напротив, он заставил себя улыбнуться.
Впрочем, и щека Кутузова, чуть вздрогнув, явила не гримасу, а как бы ответную улыбку. Искусство политеса, выработанное годами придворной жизни вперемешку со службою военной, взяло верх. Но все же Кутузов не смог удержаться, чтобы не уколоть своего августейшего собеседника.
— Однако если вашему величеству будет угодно приказать… — произнес он тоном человека, не только знающего субординацию, но всегда готового к беспрекословному выполнению любой монаршей воли. Но в его словах и смиренном тоне было много больше, чем просто понимание своего места в придворных отношениях.
Он знал, как многоопытный военачальник, что сражение будет проиграно, но до сих пор не сумел, вернее, не решался твердо и определенно высказать свое отношение к плану Вейротера. Да и теперь в его словах не было твердости и настойчивости, какие следовало проявить главнокомандующему накануне битвы, могущей принести столько напрасных жертв.
Он как бы хотел просто оттолкнуть, отстранить от себя возложенную на него тяжелейшую ношу, как бы заранее снять с себя непоправимую вину, переложив ее на другого.
Намерение Кутузова тотчас дошло до императора, и он, будучи сам человеком лукавым, понял, куда клонит генерал, в самом начале битвы решивший вдруг умыть руки. Но нет, допустить сего никак было нельзя.
— Так, выходит, Михаил Ларионович, вы ожидаете от меня приказа? — произнес император уже без улыбки. — Но я, как вам хорошо должно быть известно, здесь только зритель. А командуете — вы.
Глава девятая
Если главнокомандующий только теперь, когда прогремели первые выстрелы в долине и когда ему самому предстояло вести туда, вниз, колонны центра, вдруг отчетливо понял, что план сражения оборачивается катастрофой, то Багратион это увидел еще раньше, когда следом за сумерками наступила ночь.
— Как все командиры колонн, он получил приглашение на военный совет, который должен был состояться в полночь у Кутузова. Вкупе с приглашением была доставлена пухлая, на многих листах, диспозиция на предстоящий день.
Он тотчас присел к столу и, обхватив голову руками, постарался сосредоточиться на присланном из штаба послании. Но вскоре он нетерпеливо отбросил в сторону рукописный фолиант и повелел адъютанту Четвертинскому:
— Если вас, князь, не затруднит, верните сию абракадабру тем, кто над нею корпел. Сие сочинение — не расписание боевых действий, а собрание топографических названий Брюннского округа. Все поименовано с завидным прилежанием и тщанием — озера, реки, селения, ручьи, горки, чуть ли не каждая лужа и каждый валун! А главное, что следует знать колонновожатому, запрятано так, что и не сыщешь: куда идти, где собираться, с какого рубежа начинать атаку. Впрочем, боюсь, что сие и не потребуется. Где это видано, чтобы Бонапарт дал себя разбить за здорово живешь? Я-то с его генералами имел дело еще в Италии — крепкие орешки, с первого прикуса не разгрызть. А тут он сам, Наполеон! Нет, господа, с вашим рескриптом идти не на рать, а… в иное место. Одно неудобно — бумага зело груба.
Впрочем, все, что ему необходимо было извлечь из уже высочайше одобренного предписания, Багратион определил: его правому крылу надлежало стоять на месте и твердо держать исходные позиции, пока левое крыло при поддержке центра будет развивать наступление с выходом неприятелю во фланг, а затем и в тыл.
То — ежели все пойдет по писаному. Но разве одни генералы старой немецкой выучки горазды сочинять пудовые талмуды и, как оракулы, предсказывать, что, на их взгляд, должно произойти? Неужто на той стороне — ни одного, у кого вместо кивера была бы голова на плечах? Небось они тоже сочинили свой рескрипт. Можно побиться об заклад — не хуже австрийского. Только вот какой, кабы знать наперед!
Вручив адъютанту пакет с диспозициею и накинув на плечи бурку, Багратион сказал:
— Я — на позицию. Как возвратитесь, Борис, — сразу ко мне, на правое крыло. А на совет, передайте, я не прибуду. Думаю, мое пребывание сей ночью на передней линии окажется плодотворнее.
Колонной Багратиона, находившейся на самой крайней оконечности правого крыла, заканчивалась линия наших войск. Выходило, как двигалась армия — авангардным отрядом Багратиона в голове и колоннами Буксгевдена назади, — так она и остановилась, лишь повернувшись лицом к противнику. Но при сем то, что было хвостом, становилось теперь передовыми колоннами, авангард же — своеобразным арьергардом.
Впереди Багратионовой пехоты, уже успевшей окопаться на высотках, лагерь Наполеона, точно созведья на небе, был в мерцании огней.
«Нет, так не отходят, коли на биваках — костры, а меж ними — движение людей, — подумал Багратион. — А в Италии, под Нови, разве не подобным образом мы обманули Моро и Жубера? Посему надо бы доподлинно знать. Пока есть время, разошлю казачьи разъезды».
Первый же возвратившийся казачий офицер доложил:
— Ваше сиятельство, где с вечера находились их пикеты, там и теперь стоят. Нас заметили — пальнули. Вон рядовому Кузьмину шапку пробили пулей.
Ближе к утру в расположении колонны объявился князь Долгоруков.
— Ну что, князь Петр Иванович, все уж там снялись? — самоуверенно, не допуская иного положения дел, произнес адъютант царя. — А у нас на военном совете, можете себе представить, Ланжерон с Милорадовичем чуть, простите, в штаны не наложили: а вдруг Бонапарт-де собрался нас обмануть? Вместо отступления останется на месте и по нам, мол, первый ударит. Каково?
— Предполагать — не всегда означает трусить, — пожал плечами Багратион. — Что касается Милорадовича, я за него поручусь: в бою отважен и всегда готов подставить другу плечо.
— О, князь, поверьте, Михаил Андреевич у меня и, смею думать, у самого, государя весьма на высоком счету. Но зачем со своими сомнениями теперь, когда все уже ясно: не примет Бонапарт сражения. Кому же более веры — генералам, что и в глаза не видели Бонапарта, или мне, кто с ним виделся и говорил тет-а-тет!
Цокот копыт прервал тираду Долгорукова. Старший казачьего дозора, свесившись с седла, произнес:
— Прошу прощения у ваших сиятельств, но только обязан вам, князь Петр Иванович, донести. Пикеты ихние на месте. И даже более того — было на дальней горушке их два, теперь же объявился и третий — ближе к склону. Так что сами судите, ваша светлость — уходят они иль остаются.
В голосе генерал-адъютанта появилось неудовольствие:
— Надеюсь, князь Багратион, вы не дадите возможности распространяться паническим слухам?
Словно не заметив раздраженных ноток в голосе Долгорукова и того, о чем он вообще говорил, Багратион, отпустив офицера, предложил своему гостю:
— Не угодно ли, любезнейший Петр Петрович, немного проехать со мною вдоль линии? Я был бы весьма вам обязан, ежели вы найдете необходимым высказать свое мнение о мерах, которые я взял в связи с расположением моих войск и войск князя Лихтенштейна.
Светать стало быстро. Отдельные выстрелы, которые слышались почти в течение всей ночи, словно по чьей-то команде стали гуще и слышнее.
— Никак, началось? — с вызовом произнес Долгоруков, словно продолжая начатый разговор. И это прозвучало как: «Я же вам, князь, говорил — наступать станем мы. Вот только бы он далеко от нас не ушел!»
Отсюда, с правого крыла, из-за густой пелены тумана было еще трудно разглядеть, как вступили в долину колонны Буксгевдена. Лишь по все возрастающей пальбе можно было с определенностью заключить: внизу завязался бой.
Но что сие означает: стрельба не удалялась, а как бы ширилась и разрасталась по всему фронту, местами оказываясь даже в тылу наших наступавших колонн? И лишь когда внезапно рассеялся туман, открылась ужасающая картина. Французская пехота и кавалерия, смяв передние линии, стремительными клиньями врубались в ряды наших колонн и, расчленяя их на части, расстреливали в упор и рубили сплеча.
Еще натиск, еще прорыв — и те, кто уцелел в бешеной вражеской атаке, бросились назад, обращаясь в бегство.
— Не может быть! — закричал Долгоруков. — Где Буксгевден, где вожатые колонн, почему они не восстановят порядок? Нет, это чья-то преступная ошибка! Кто-то позволил себе поддаться панике и бросил строй. Вы согласны со мною, князь Багратион? Или вы предвидели сей афронт, когда перед моим приездом к вам разослали казачьи дозоры вдоль неприятельских линий? — вдруг высказал он страшную догадку.
«Да, я предчувствовал сие давно: Наполеон приготовил нам ловушку, — хотелось крикнуть в лицо царскому адъютанту. — Потому я и выслал вперед разъезды. И Милорадович с Ланжероном не исключали того, что французы решатся атаковать, вопреки глупейшему нашему убеждению, что они ретируются. А в сем убеждении именно ваша, князь Долгоруков, вина! Но что из того, если вдруг сорвусь и выскажу все в глаза? Простите ли вы, а с вами и государь мою дерзость? И поможет чем-либо моя прямота? Тут надо не спорить и рассуждать — делать!»
— Еще не все потеряно, ваше сиятельство, — как можно спокойнее произнес Петр Иванович. — Дело можно поправить, если Кутузов возьмет единственно правильную теперь меру: оставит войска центра у деревни Працен и ни на шаг не сойдет с горы. Не вниз, не вниз надо сейчас посылать батальоны и пушки, а, напротив, стянуть все силы наверх и осадить французов! Вот тогда мы их, голубчиков, остановим.
Теперь при свете утра Багратион хорошо разглядел лицо Долгорукова. Оно, всегда румяное, с выражением самодовольства и высокомерия, стало землистым, серым. Глаза испуганно косили в сторону, речь стала сбивчивой.
— Вы так по-по-полагаете, князь? Но смо-смо-трите, смотрите вниз, П-петр Иванович! Там же побоище и повальное бегство.
Действительно, ряды колонн были смяты. Но что особенно поразило Багратиона, так это довольно большие расстояния, которые отделяли все три колонны друг от друга, а также разделяли полки и батальоны.
— Вот она, цена мудрости гофкригсрата! — позволил себе резко высказаться Багратион. — Как же можно было так, согласно диспозиции, отрывать друг от друга части войска, что теперь, в бою, они никак не могут объединиться? А в сии щели, — пожалуйста, вот они — вламываются французы! И дерутся не полки и батальоны, а отдельные мелкие партии.
Но что это? Громкие возгласы «ура», как прибой, прокатились над людскою массою, заполнившею долину. И стрекот ружейного огня вновь стал усиливаться. Теперь уже султаны порохового дыма стеною встали перед рядами французов, которые вдруг повернули назад и стали отходить.
— Наши, наши теснят! — оживился Долгоруков. — Глядите, да это же апшеронцы и новгородцы Милорадовича! Ура! Наконец-то Кутузов ввел в бой свои колонны.
Сомнений более не оставалось — войска центра действительно спустились с высот и начали теснить цепи французской пехоты. Но натиск русских полков как внезапно начался, так внезапно и захлебнулся. К французским батальонам всюду шло подкрепление. Казалось, прорвало где-то плотину и поток со страшной силой стал смывать все впереди себя. И уже не одиночки, даже не отдельные роты начали поспешно отступать — целые полки повернули назад.
— Чего-чего, а сего самоубийственного маневра я от главнокомандующего не ожидал! — не скрывая своего раздражения, воскликнул Багратион. — Там, внизу — печь. Огромный огненный зев. Так зачем же в пылающий жар — да еще охапками хворост? Тем более когда это вовсе не хворост, а люди! Теперь что ж, ключ не только потерян, но и затоптан так, что под ногами бегущих его не сыскать!
— Вы о к-ключе к победе? — Голос Долгорукова опять стал прерываться.
Багратион уже слез с лошади и кликнул адъютанта. И пока Четвертинский бежал к нему, обернулся к генерал-адъютанту:
— Вы, Петр Петрович, что-то сказали о ключе к победе? Увы, я говорил уже не о нем — утерян ключ не к виктории, а к спасению войск. Это, любезный князь, не отступление. Сие — полный конфуз, разгром, коего русская армия не знала уже целых сто лет!
Пехота, находящаяся в обороне, зашевелилась.
— Теперь на нас двинулись? — встретил Багратион своего адъютанта.
— Так точно, ваше сиятельство! — Борис скорее на польский, чем на русский манер бросил два пальца правой руки к киверу. — Нас атакует корпус Ланна. А Праценские высоты уже заняли дивизии Сульта. Вот донесения вашему сиятельству от центра и левого крыла.
«Корпуса Даву и Бернадота брошены против нашего левого крыла, — отметил про себя Багратион. — Это заранее подготовленная Наполеоном атака по всей линии. Но я не допущу, чтобы дрогнули мои войска».
— Князь Четвертинский, передайте господам командирам полков и князю Лихтенштейну: стоять насмерть, — повелел Багратион адъютанту. — Назад — ни шагу!
Долгоруков всплеснул руками, как бы стараясь задержать уже сорвавшегося с места адъютанта, и вдруг молитвенно сложил их перед Багратионом.
— Одумайтесь, ваше сиятельство! — воскликнул он. — Как же можно теперь оставаться на месте, когда там, в долине, ждут вашей помощи? Только вперед, в сражение! Разве не так диктовала вашему правому крылу диспозиция — после центра успех развиваете вы?
«Господи, и откуда только он свалился на мою голову, сей царский соглядатай! — произнес про себя Багратион. — Прилепился как банный лист… Однако я сам хитер — приваживаю их к себе. Тогда, в Италии, — императорского сына, теперь — императорского адъютанта. За дело под Вишау и Георгия удостоился по моей доброте! Только одного я им никогда не позволю — сесть мне на шею. Потому — и мягко стелю, чтоб им, как ни крути, а при мне доводилось жестко спать».
— Диспозиция, говорите? — спокойно отозвался Багратион. — Простите, милейший князь, но вот оно, еще одно слепое следование плану — провал атаки Кутузова. Отдать французам Працен! Уму непостижимо такое, простите, безрассудство. Теперь с сих высот, глядите, французы начали осыпать ядрами все наше левое крыло. А я, ваше сиятельство, как раз один из всех — диспозицию выполню. Не сдав своих позиций, я, сколь возможно, оттяну на себя силы французов и выстою, а затем пойду вперед. Только так можно будет спасти остатки наших войск в центре и на левом крыле.
Гвардия, как и вся русская кавалерия, располагалась в семи верстах за позициями правого крыла и составляла резерв армии.
Лучше сказать, цвет русских войск должен был включиться в битву, когда вслед за успешным наступлением Буксгевдена и Кутузова вступит в дело и Багратион.
Меж тем все, что предусматривала диспозиция, уже на втором часу боя оказалось никому не нужным. Колонны Кутузова, спустившись с высот, несмотря на отчаянную храбрость солдат и офицеров, действительно оказались как хворост в жерле гигантской топки. Их батальоны, как перед тем колонны левого фланга, Наполеон искусно расчленял на части и нещадно громил.
— В таком хаосе, когда нарушилась связь между батальонами и полками, управление войсками оказалось невозможным. Сам Кутузов был ранен в щеку, но пытался собрать бегущих и бросить их в бой.
— Остановите этих каналий] — изменяя давнему своему доброму отношению к солдатам, кричал он. — Ребята! Я сам дам приказ к отходу назад, только продержитесь хотя бы малость. Помните, с нами государь, спасите его!
В самом деле, царь оказался на поле битвы, правда не в самом ее опасном месте, хотя и вокруг него пули и ядра косили ряды воинов. Император Франц, увлеченный потоком бегущих австрийских солдат, дал шпоры коню и умчался прочь из огненного светопреставления. Александр, бледный, в мундире, заляпанном ошметками грязи, без шляпы, которую он потерял, пытался, как и Кутузов, остановить бегущих:
— Стойте! Я — с вами! Разве вы не узнаете своего императора? Я же здесь, где и вы, и я тоже могу быть убитым или получить рану. Давайте же будем вместе до конца.
Что это? Смелость или отчаяние? По крайней мере, то было не театральной, рассчитанной на эффект, разученной обольстительной улыбкою, которою он привлекал к себе сердца многих. Это было естественное поведение человека, оказавшегося в беде, на краю несчастья и ввергнувшего в эту смертельную беду тысячи и тысячи людей, вверивших ему свои жизни.
Нет, хаос и бегство ничем нельзя было остановить. Все — разум, воля, честь и достоинство, казалось, перестали вообще существовать. Людьми правил один лишь страх.
Да еще теми, кто пока был далеко от боя, — строгие требования неумолимого распорядка, что назывался таким ненавистным словом — диспозиция.
Командующий всеми гвардейскими частями великий князь Константин Павлович, все время с раннего утра прислушивавшийся к раскатам отдаленного боя, взглянул на часы: пора!
Как и предписывала диспозиция, цесаревич подошел к Раусницкому ручью у Валькмюле, пересек его и здесь, у плотины, поставил в две линии свою пехоту. Впереди он расположил батальоны Преображенского, и Семеновского полков, во второй цепи — роты Измайловского полка.
Кавалергардов, лейб-гренадер и лейб-казаков командующий гвардией разместил в арьергарде.
Только успели занять позиции, как в расположение преображенцев плюхнулось ядро. Откуда оно? Там же, впереди, должны уже быть австрийские полки князя Лихтенштейна! Но впереди оказались французы — кавалерия и пехота.
Цесаревич — в белом конногвардейском колете и в каске — выхватил из ножен палаш и обратился к уланскому полку своего имени:
— Ребята, помните, чье имя вы носите! Не выдавайте!
Он даже не оглянулся назад, откуда к нему спешил отряд Лихтенштейна. Он отчаянно повел свой полк в атаку.
Произошла страшная сеча — французские драгуны достойно встретили русских улан. Но подоспели преображенцы, бросившиеся в штыки на неприятельскую пехоту, и она вместе с драгунами стала отступать. Но за ними открылись пушки, которые встречали наступающих картечью.
Оставалось одно — пустить в дело кавалергардов. Восемьсот рослых богатырей, соединенных в пять эскадронов, являвших собою красу и гордость императорской гвардии, бросились в атаку. Зажатые между неприятельскою кавалерией и пехотой уланы, лейб-казаки, преображенцы, семеновцы и измайловцы во главе с великим князем были спасены. Зато картечь безжалостно выкосила кавалергардов. За четверть часа лихой атаки они потеряли более двухсот человек и триста лошадей.
Особенно страшная доля выпала четвертому эскадрону кавалергардов. Он был полностью истреблен. Из него уцелело лишь восемнадцать человек вместе с командиром полковником князем Репниным. Все они, тяжелораненые, оказались во французском плену.
К полудню сражение было почти окончено. Полки центра, вернее, то, что от них осталось, отступили в беспорядке к Аустерлицу. Остатки левого крыла, в панике начавшие отход по льду ручья и прудов, безжалостно расстреливались французской артиллерией, установленной на тех самых возвышенностях, на которых еще несколько часов назад находились русские войска.
Лишь полки Багратиона выдержали все атаки и выступили вперед, чтобы спасти гибнущую гвардию и дать ей отойти.
Ночью после битвы Наполеон обратится к своим войскам с речью, в которой не скроет своего подлинного триумфа:
— Сорок знамен, сорок штандартов царской русской армии, сто двадцать орудий, двадцать генералов, более тысячи пленных…
На самом деле русских потерь окажется больше. Спустя годы Наполеон станет утверждать, что он мог бы, если бы захотел, направить по следам русской армии войска маршала Бернадота и тот обязательно бы взял в плен императора Александра. Однако, также спустя годы, Бернадот поставит под сомнение уверенность Бонапарта:
— Такого приказа он мне не мог бы отдать. Русские, собрав силы, имели все возможности уберечь себя от полного разгрома. У них был сильный арьергард.
Добавим от себя: арьергард, сразу же по выходе из боя составленный из не утративших боевой порядок частей и отданный под команду князя Багратиона.
Глава десятая
В Гатчине, прежде чем вновь принять свой лейб-егерский батальон и приступить к исполнению обязанностей военного коменданта, Багратиону следовало представиться императрице.
С каким трепетом ждал он этой встречи. Гатчина! Здесь он впервые в жизни ощутил себя в окружении большой и ладной семьи, где все, как казалось ему, было непринужденно, любезно и просто и где сердечная теплота, исходившая от главы этой семьи, императрицы Марии Федоровны, передавалась не только ее дочерям и сыновьям, но всем вокруг.
И конечно же эту душевную теплоту особенно чувствовал он, сам, увы, лишенный не только собственной семьи, но просто родственного участия близких в его, в сущности, с самых ранних лет одинокой судьбе. Вот почему эта чужая, обособленная не только от него, но вообще ото всех семья вдруг оказалась ему родною.
Как только экипаж остановился у главного подъезда гатчинского дворца, Багратион тут же растворил дверцу и выпрыгнул наружу, даже не набросив на плечи шинели.
Широкая мраморная лестница, устланная ярким пурпурным ковром, вела наверх. Он не заметил, как, перемахнув единым духом два десятка ступеней, очутился на площадке, откуда открывалась анфилада комнат императрицы. Однако прежде чем направиться в покои ее величества, Багратион был остановлен милым женским голосом, который показался ему знакомым.
— Князь Петр Иванович! Простите, но мне так хотелось первой встретить и поздравить вас, что я не утерпела и вышла навстречу, едва завидев в окне ваш экипаж.
— Ваше высочество! Дорогая Екатерина Павловна, вы ли? — только и сумел произнести Багратион, остановившись перед внезапно возникшей перед ним младшею сестрою императора Александра Павловича. — Боже мой, как я счастлив видеть вас снова!
— А я? Если бы вы, князь, только знали… — произнесла великая княжна и, бросившись к нему, обвила его шею руками. — Вы не представляете, как я хотела… как я ждала вас… Ведь вы… это вы спасли честь и славу отечества… вы, вы один избавили Россию от несчастий и позора, которые могли быть еще большими, еще горшими, кабы не вы… Нет-нет, молчите, не говорите ничего в ответ. Я сама… сама все знаю отличнейшим образом. А вы… вы такой красивый, необыкновенный! Да-да, таким только и должен быть подлинный герой…
Наконец великая княжна разомкнула руки и отошла на шаг, оглядывая Багратиона.
Он был в узком темно-зеленом генеральском мундире с красным воротником, в высоких, до колен, лаковых сапогах со шпорами, широкий шарф опоясывал талию. Лицо его с матовой кожей, освещенное нескрываемым чувством восторга, было и впрямь непередаваемо прекрасно.
Но, Господи, как же она хороша, эта милая фея, так вытянувшаяся, так похорошевшая, излучающая такое неподдельное счастье, еще год назад казавшаяся ему просто приятною девочкой, забавным и милым подростком. И вот только за один год она превратилась в истинную красавицу — белое, правильного овала лицо с открытою улыбкою чуть припухлого яркого рта, нежность и в то же время сосредоточенность умного взгляда, тонкая, точеная шея, красиво посаженная голова, увенчанная локонами червленого золота.
Неужто это она, любимица брата, матери и всей Семьи, мягкая и в то же время предельно самостоятельная, сентиментальная и, однако же, уверенная в себе Катиша, с которой он не раз занимался рисованием и мило беседовал, всегда принимая в расчет, с одной стороны, ее возраст, а с другой — ее пытливость и не по годам развитый ум.
Сколько же ей теперь? Шестнадцать? Да нет, верно, все восемнадцать, — Багратион вдруг поймал себя на мысли о том, что он впервые подумал о ней не как о недавнем еще ребенке, а как о сложившейся молодой женщине, и смущенно покраснел.
Его внезапно проявившуюся застенчивость или, лучше сказать, стыдливость от собственных мыслей великая княжна, как она ни была проницательна, все же расценила по-своему, ибо не могла еще отойти от первого, обуревавшего ее чувства.
— Вы не верите в то, что вы герой, с кем рядом теперь никого не может поставить Россия? — вновь подошла она к нему и заглянула в его глаза. — Но поверьте, я вовсе не хотела смутить вас. Все, что я вам теперь сказала, — правда. И еще я вам другое хочу сказать, то, что я вслух никому еще не говорила, но что, я не сомневаюсь, у всех теперь на уме. И это вот что. В нашем поражении, в нашем позоре виноваты не мы, русские, а те, кто был в сражениях рядом с нами, но — чужой веры, чужого чувства люди. Это они, австрийцы, поляки, эмигранты-французы предали нас. Разве не так, милый князь?
— Боже мой! Да вы же глядите мне прямо в душу, ваше высочество, милая Екатерина Павловна! — вновь зарделся Багратион, но теперь не от растерянности, а от иного, внезапно возникшего сознания единства мыслей и чувств, что нахлынуло на него и так же внезапно его поразило. — Так ведь я… я совсем недавно, прямо вашими же словами творил с вашим братом… цесаревичем Константином Павловичем. И сошлись мы с ним в том, о чем вы, ваше высочество, изволили высказаться передо мною теперь.
Он вспомнил: сразу же после отхода армии с места сражения он встретился с великим князем. Его белый колет, рейтузы, лицо — все было черным от порохового дыма и огня. Азарт схватки и ощущение смертельной опасности, что всегда приходят к человеку уже после того, как он их пережил, не покидали цесаревича.
Багратион знал, что ему, командующему гвардией, не следовало бросать в огонь и подвергать напрасной, гибели десятки и сотни людей именно тогда, когда уже ничем нельзя было переменить исход дела. И это, видимо, понимал сам цесаревич. Но на войне, в разгар схватки, подчас людьми руководит не просто холодный рассудок, а порыв. Надо, не задумываясь, броситься самому в огонь, чтобы хотя бы примером собственной безрассудной отваги отвлечь на себя усилия врага и тем сласти тех, кто оказался в худшей, чем ты сам, беде и опасности.
Разве не так поступил и при Шенграбене, и в том, Аустерлицком, сражении и сам Багратион, когда собою, гибелью своих людей пытался, сколько мог, спасти жизни других? И разве не его полки в самом конце битвы вызволили из огня, спасли остатки гвардейских частей, что оказались в несчастье?
Однако досада жгла сердце после боя не потому, что кто-то повел себя не совсем так, как следовало в тот или иной момент сражения. Боль происходила от того, что с самого начала все пошло кувырком, все было отдано на откуп чужому разуму и расчету.
— Помнишь, князь Петр Иванович, козни гофкригсрата в Италии? — прорвалось после боя у цесаревича. — Не будь с нами тогда Суворова — все могло бы обернуться Аустерлицем и тогда. Но беда, что немцы — и в нашей армии! Засилье! Продыху нет от них! И что особенно страшно — немецкий дух проникает в поры каждого из нас, истинно русских. Не так ли, князь?
Вот тогда прямо и сказал великому князю Багратион:
— Спасибо за верные слова, ваше высочество. Хотел бы сказать самому государю, а теперь говорю вам, как бы видя его пред собою. Бросьте иноверцев, держитесь только истинно подданных. Мы, русские, одни имеем подлинную любовь к государю и всему дому вашему. Пять тысяч было у меня под Шенграбеном против тридцати тысяч французов, а — победили. Почему? Извергом рода православного и христианского следует считать того, кто не пойдет один на шесть и на двенадцать французов. А мы, русские, пошли и всегда пойдем, с кем бы ни сразились.
Вновь обрадованно просияла великая княжна, слушая Багратиона.
— Вот и я, не быв на войне, мыслю так же. Впрочем… — она на мгновенье задумалась, — у меня редко с кем может возникнуть такая схожесть воззрений и чувств, как с вами, милый князь. Даже с моим братом, императором, которого я очень люблю, мы в чем-то расходимся. Вы знаете, я и мама люблю. Но я — как бы сказать? — не во всем подданная ее императорского величества. Внешне я послушная дочь. Но ежели мое собственное убеждение идет вразрез с чьим-то иным, я найду в себе силы остаться при своем.
Как это было похоже на его характер — не позволить себя сломать. А ежели собственное мнение угодливо подменить чужим готовым рецептом — разве можно себя за это уважать? Другое дело — сходство мыслей и чувств, когда главное, чему искренне верен сам, находит отзвук и в другой душе.
«Ах, как этот милый и умный человек, с которым мне так легко и приятно, как он несправедливо, незаслуженно и коварно обижен той, которая не захотела или не смогла его понять! — вдруг подумала великая княжна, и краска смущения залила ее лицо. — Однако зачем я подумала так? Зачем в наших отношениях та, совсем чужая мне женщина, которую я толком не знаю и о которой я лишь наслышана от других? Мне важно то, как я сама понимаю князя Багратиона, что в нем ценю, что в нем созвучно моей собственной душе. А может, все мое отношение к нему из-за того, что он и я так сильно, так преданно любим свое отечество? Правда, в отличие от меня, князь Багратион сие пламенное и святое чувство не раз уже проявил там, где каждую минуту человека может настигнуть смерть. Но разве во мне не поселилась и не живет эта готовность, коли мне тоже довелось бы расстаться с жизнью ради блага моего любимого отечества? Это нас и сближает с князем в первую очередь. Но одно ли это чувство?»
— Вы знаете, князь, как мама уважает и боготворит вас, — неожиданно, казалось бы не в лад своим Мыслям, произнесла великая княжна. — Право, она теперь-с нетерпением ждет вас. Только, Бога ради, не говорите с нею о том, о чем мы теперь с вами… Развейте ее тоску. Одна радость теперь у нее — ее занятия. Вам не удалось порисовать там, в Австрии? Ах, как я глупа — когда же и где это было возможно! Но с нею вы обязательно потолкуйте о рисовании.
Императрица сидела за рабочим столом, когда ей доложили о приходе Багратиона.
— Вы, князь, застали меня за любимым моим занятием — гравюрой. Это только и греет мою одинокую и израненную душу, — пожаловалась Мария Федоровна. — Вам же я рада несказанно. Простите мое минорное настроение, но вы один как яркий луч света на фоне нашего российского траура.
— Не хотелось бы мне, ваше величество, разделить с вами это мрачное настроение, — не согласился Багратион, чтобы не омрачать более императрицу.
— Не успокаивайте меня. Знаю, вы и сами опечалены происшедшим. Слава наших русских войск потерпела самое ужасное крушение. Уверенность в непобедимости, приобретенная в правление покойной императрицы и поддержанная в царствование почившего императора Суворовым, разрушена. Никогда проигранное нами сражение не имело более ужасных последствий. Разве возможно русским с этим смириться?
— Поверьте, ваше величество, россияне не должны простить сего великого конфуза, и сердце каждого из нас исполнится желанием отмщения. — Багратион высказал то, что у него было на душе.
— В вас, как в никого иного, я искренне верю, любезный князь.
Вся Россия — от роскошных царских дворцов до убогих серых изб в самых дальних губерниях — была взволнована и потрясена так печально закончившейся войной. Но наряду с болью вызревала в сердцах людей русских и неистребимая никакими невзгодами гордость за тех, кто проявил в единоборстве с неприятелем невиданную отвагу и храбрость. И более всего и ранее всех других мест сию великую гордость сынами русскими явила всей России Москва — ее первая и древняя столица.
У всех на устах и на слуху — от мала до велика — средь самых первых героев было имя Багратиона. Казалось, каждый дом в Москве готов распахнуть перед ним свои двери. А так в было на самом деле на стыке зимы и весны 1806 года. Приемы, обеды, балы — в самых знатных домах в честь генерала-героя.
Правда, в ту пору в Москву из Петербурга понаехало великое множество гостей, и все именитые, занимавшие самое высокое положение. К тому же и к войне имевшие непосредственное отношение. Достаточно назвать хотя бы Петра Петровича Долгорукова. Сей генерал-адъютант только что вернулся из Берлина, и его прямо распирало от величия той миссии, которая была возложена на его особу Александром Первым в столице Пруссии.
— Господа, могу заверить вас, что Бонапарт вскоре будет горько сожалеть, что решился на войну с Россией, — всем своим напыщенным обликом говорил этот молодой и самоуверенный дворцовый повеса. — Пруссия на сей раз выступит на нашей стороне, и тогда французам несдобровать.
Как бывает среди ребятни, тот, кто более других набедокурил, спешит всех уверить в своей полной невиновности. А ведь не только армия, в обеих столицах уже были наслышаны, чего стоил нам апломб этого царедворца и его уверения в Наполеоновой трусости там, под Аустерлицем.
Впрочем, Москва знала многое о причинах и последствиях катастрофы и судила о происшедшем, невзирая на лица и чьи-то прошлые заслуги.
— Господа, господа! — вдруг кто-то из особо осведомленных появлялся в одном из известных салонов. — Нехорошо, конечно, так о покойнике, но не удержусь: Бог шельму метит. О ком я? Вы разве не слыхали, из Вены пришло известие: скончался Вейротер. Да-да, тот самый, что составлял план разгрома Бонапарта под Аустерлицем. Ушел в мир иной от горя и злости, как выразился генерал Ланжерон.
— Ну уж нашли на кого сослаться! Сам он хорош гусь — показал себя на поле боя с самой, так сказать, наихудшей стороны. Из-за его трусости и неумелости, говорят, тысячи наших погибло. И верно поступил государь, предложив ему подать в отставку. Только он — передавали — уклоняется от сего решения. Вот, господ да, какие у нас генералы! Им, как говорится, плюнь в глаза, а они — Божья роса.
— А генерал Пржибышевский каков! Форменным предателем обернулся. Мало того, что сам перешел на сторону неприятеля, — весь свой корпус французам сдал.
Перебирались и другие имена. Все с тем же осуждением и гневом.
— А Голенищев-Кутузов каков! — вдруг вспоминал кто-то главнокомандующего и, озираясь, переходил на шепот: — Его, идет слух, государь направляет военным губернатором в Киев. Подумать только: с поста петербургского главнокомандующего, случись война в нашу пользу, далеко мог пойти. А тут — хлоп, в провинцию. А ведь вояка. Тут ничего не скажешь…
— Придворною вертушкою Михайла Ларионыч заделался, — подхватывал кто-то рядом. — На войне с турками, бывало, пулям не кланялся. А тут в последние годы матушки царицы — царство ей небесное! — Платону Зубову наш заслуженный генерал кофей в постель подавал. Вот что приближение ко двору может сделать с человеком!
Тут при слове «двор» все смолкали. У каждого на уме возникало то, что просилось на язык, но чтоб высказать вслух — ни-ни, упаси Боже! Лишь самые доверенные, самые близкие между собою, и то если с глазу на глаз, шепотом могли, вздохнув, посетовать: слишком уж молод и неопытен оказался сам государь. К Чему это он, не нюхавший пороха, вдруг объявился в армии, когда сам же назначил над нею главнокомандующего? Он кто, Петр Великий, что водил молодцов в атаку? Слава Господи, сто лет цари после Петра Алексеевича не появлялись на поле боя. Зато генералы преотлично знали свое дело и отвечали за свои действия сполна. И что же? Да ни одного конфуза не терпела за целый век русская армия! А мы, русаки, брали Берлин и Варшаву, да сколько крепостей в Крыму и на Дунае покорились нашей силе…
Багратион на Москве был нарасхват. Кто он, чей протеже и чей любимец? Вообще чей сродственник? Разводили руками и ничего определенного припомнить не могли. Это-то и покоряло: вот человек без протекции, без знакомства, а каких достиг высот! Впрочем, одно припоминали в его пользу — сподвижник Суворова. И мало того — по образу и подобию нашего самого выдающегося полководца!
Сие определение, уверяли доброхоты, слетело с уст графа Ростопчина. Уж он-то самый первейший друг князя Багратиона и не случайно одним из первых принимал прославленного героя в своем особняке на Лубянке.
Кому посчастливилось там побывать, потом передавали, каким пышным оказалось это торжество; Гостиная в доме, говорили, была украшена боевыми трофеями. Посреди едены — портрет Багратиона, вод ним — связка оружия, склоненные полотнища неприятельских знамен с золотыми орлами на древках. И тут же — несколько девиц, одетых в цвета мундира Багратиона и в касках а-ля Багратион, специально заказанных на Кузнецком мосту.
Какими только речами не приветствовали героя. Первым, конечно, вышел на сцену хозяин, граф Федор Васильевич. Был он хотя давно уж в отставке, но тоже в генеральском мундире с лентою через плечо. Сказал, что нет на Руси более храброго героя, более верного и преданного престолу и отечеству воина, чем князь Багратион. Дважды в минувшей войне — под Шенграбеном и Аустерлицем — он явился спасителем нашей армии, сиречь — спасителем чести нашего любимого государя Александра Павловича и спасителем славы русского оружия.
Слезы струились по лицу графа, когда он произносил эти слова. То явно были слезы восторга и счастья отдать почести тому, с кем сошелся коротко еще при покойном императоре Павле Петровиче и в искренность, добропорядочность, честность и дружбу коего поверил с первых же дней.
— Когда-то князь Багратион принадлежал моему лишь сердцу. Теперь он — в сердце всей благодарной России! — патетически воскликнул Ростопчин и, подойдя к месту, где сидел герой, горячо его обнял и трижды расцеловал.
Тут грянул оркестр. Затем появились на сцене две прелестные княжны — Валуева и Нелединская. Красавицы взяли Петра Ивановича за руки и подвели к декорациям на сцене, расписанным трофеями. Декорации раздвинулись, и под звуки торжественной музыки и пение хора за сценою открылась картина. На ней в зелени леса — храм Славы, а пред храмом — статуя Суворова. В вышине — полотнище со словами: «Суворов — отец русской славы, Багратион — сын ее!»
Что тут началось! Зал восторженно хлопал, раздавались возгласы, славящие героя, люди в экстазе вставали со своих мест и устремлялись к сцене.
На подмостках же действие продолжалось. Обе княжны поднесли герою лавровый венок. Он принял его и тут же увенчал им статую своего учителя — великого генералиссимуса, чем вызвал новый взрыв восторга присутствовавших.
Под конец, прежде чем открылся бал, на сцене объявился некий пиит и стал читать стихи, обращенные к Багратиону!
Славь тако Александра век И охраняй нам Тита на престоле. Будь купно страшный вождь и добрый человек, Рифей в отечестве, а Цесарь в бранном поле. Да счастливый Наполеон, Познав чрез опыты, каков Багратион, Не смеет утруждать Алкидов русских боле…Ростопчин ни в какую не хотел отпускать от себя героя.
— Кто ж тебе, князь, первый друг на Москве, коли не я? Вся первопрестольная нынче у твоих ног, имя твое на устах каждого истинного русского. Только у одного меня ты — вот здесь, — говорил Ростопчин, показывая на грудь возле сердца, забыв, верно, что за несколько часов до того он говорил: «Ты, герой, — в сердце всей благодарной России».
Но таков был он, граф Ростопчин, меток на слово, остер на язык, способный, коль надо, объявиться в нескольких лицах.
При Павле он быстро оказался в самых близких ему людях, стал камергером двора. Впрочем, знал цену государю и еще с тех пор, когда тот был великим князем, близким людям говаривал:
— Нельзя без сожаления и ужаса смотреть на все, что делает великий князь-отец.
При Павле он, первый из рода, оказался удостоенным графского Российской империи достоинства. А еще при Иоанне Третьем, любил сам рассказывать, его далекий предок мог быть возведен в достоинство княжеское, кабы умел глядеть далеко вперед, а не довольствоваться тем малым, что необходимо только в сей секунд.
История же впрямь была забавная. Предок его явился к русскому государю из Золотой Орды и попросился на службу. Иоанну тот будто бы приглянулся, и он спросил: «Чего желаешь — княжеское звание или шубу с моего плеча?» А морозы тогда стояли жестокие. И озябший татарин пожелал шубу.
— Мне в свое время Павел Петрович то же предложил: выбери что пожелаешь — должность канцлера, Воробьевы горы в Москве или библиотеку Вольтера, что осталась от его матушки. Но я от всего отказался. Я служил государю, бескорыстно его любя и боготворя…
Бурливая натура, себе на уме, но в чем сошелся с князем Багратионом с первых дней знакомства, так это в любви к отечеству, за которое вставал горой. Потому, будучи одним из первых лиц при взбалмошном государе, как только мог, выгораживал Суворова. И тот состоял с ним в дружбе.
Багратиона же отличил сразу, как только тот оказался приставленным к гатчинскому двору.
— Ты, князь, как и я: сердцем прям, умом упрям, а в деле — молодец!
Придет, придет еще время, когда судьба Москвы для этих двоих, может быть и не совсем похожих друг на друга людей, станет их общей болью. Но теперь, за шесть лет до грозы двенадцатого года, середь Москвы, ликующей, праздничной, они не могли в один вечер всласть наговориться.
— Ах, князь, только на тебя мои надежды тебе умножать славу Суворова! — готов был он говорить и говорить с гостем. — И меня, брат, при дворе вспомнят, даю тебе слово. Еще как, брат, я ему, молодому государю, пригожусь!.. Ну а ты-то как? — спохватывался. — Когда княгиня обещает вернуться?
По лицу друга, враз погрустневшему, понял, что, должно быть, больно задел старую рану. Все — и возникший меж ними так называемый роман, и свадьба, как военный сбор по тревоге, — произошло на его памяти. Да вот как странно потом сложилась семейная жизнь: жена и муж врозь, словно Господь их никогда и не соединял.
— Хотя княгиня и молода, а видишь, как со здоровьем… — нашелся как выйти из неловкости. — Слыхал, на водах она? Да и то представить — один ужас: в Вене, где до этого жила, объявились французы! Граф Разумовский, передавали, чуть ли не в подвале прятался от супостатов, даром что полномочный посол. А тут молодая женщина, красавица.
— Ты прав, Федор Васильевич, душа по ней болит, — высказал то, что давно не давало покоя. — Испрошу у государя отпуск, уеду ее искать. На воды ли, в Вену, еще куда, только сыщу. Без нее, признаюсь тебе, и жизнь не в жизнь. Там, на войне, когда не моя только душевная невзгода, а людские страдания и смерти вокруг, собственную неприкаянность забываешь. А возвращаешься — и снова как перст. Даже вот теперь, среди сих праздников вспомнил ее — и словно клинок в сердце! Нет, следует объясниться, увидеться. Чаю, и ее сердце — не камень.
Глава одиннадцатая
Как ни горьки были слезы русского царя под Аустерлицем, еще более тяжкий жребий выпал на долю австрийского императора Франца.
Александр, бросив армию, летел стремглав в Санкт-Петербург, чтобы там искать утешение не среди приближенных, не в семье и не у жены, а у друга сердца — красавицы Марии Антоновны Нарышкиной.
А в те самые дни, униженный и оскорбленный завоевателями, правитель Австрии вынужден был до дна испить чашу позора и за общее с союзниками поражение поплатиться непосильною контрибуцией и огромными территориальными уступками.
Убежавший с поля боя, Франц вынужден был в ночь позора искать Наполеона, чтобы срочно запросить мира.
Французский император принял его у костра на своем походном биваке.
— Вот дворец, в котором я вынужден жить два месяца по милости вашей и ваших союзников, — раздраженно бросил побежденному победитель. — Мои условия мира будут суровыми, но, видит Бог, не я первым начал Войну.
Менее чем через месяц он продиктовал Австрии пункты мирного договора. Самым тяжелым в нем была потеря Венеции, Истрии, Далмации, Каттаро, Фриуля, где проживала шестая часть всего населения Австрийской Империи. И — отказ императоров Австрии в дальнейшем именоваться наследниками Священной Римской империи, власть которой в течение тысячи лет распространялась над раздробленной Германией. Последним актом отныне, уже как бы юридически, становился властителем Европы и наследником некогда существовавшей империи Карла Великого император Франции.
В сторону же России он не преминул сделать широкий жест: вернул всех пленных и через одного из них, князя Репнина, просил передать царю: «С вами-то, русскими, для чего мы деремся? Нам, двум могучим державам, сам Господь уготовил не ссору, а дружбу». Только он просил прислать для переговоров не пустого хлыща, вроде Долгорукова, а лица рассудительное. Но нет, у оскорбленного Александра были свои взгляды на мир и войну. Он хотел доказать и себе и всей Европе, что так просто не смирится с поражением, как это сделал, к примеру, его бывший союзник Франц.
Но у императора Австрии тоже был свой взгляд на будущее. Он тоже лелеял мечту о реванше, однако как бы постепенном, что называется, ползучем. И первым шагом к нему он считал, сколь возможно, смягчение условий кабального мирного договора.
Для сражений требуются генералы, для успехов переговорных — дипломаты. А для дипломатии, что называется, вкрадчивой, имеющей целью смягчение сердца завоевателя, — посланник особого, вкрадчивого же рода, но твердо и неуклонно идущий к своей цели.
На примете у Франца такой ловкий человек был уже давно. Это — Клеменс Меттерних. Они познакомились, когда будущий император значился еще эрцгерцогом, а его юный друг — студентом, однако сыном известного дипломата и будущим зятем графа Венцеля Коуница, долголетнего канцлера Марии-Терезии.
Уже став императором, Франц оказался доволен тем, как в Дрездене, а затем в Берлине его посланник Клеменс Меттерних путем ловких интриг сделал враждебную Саксонию нейтральной, а Пруссию — твердой союзницей Австрии. Теперь же, после Аустерлица, австрийский двор не без основания вверял собственную свою судьбу подающему надежды обходительному и одновременно жесткому дипломату, назначая его посланником в Париже.
Пятого августа 1806 года, в день приезда в столицу Франции, Меттерних поспешил нанести визит в особняк на улице дю Бак. Посол улыбался, но был скромен. Это сразу заметил проницательный Шарль Морис Талейран[23], французский министр иностранных дел.
«Если молодой человек правильно выражает смиренное положение побежденной Австрии, это понимание соотношения сил делает ему честь. Он не фанфарон и зазнайка, но личность, умеющая правильно оценивать состояние дел, — отметил про себя министр. — Такой человек располагает к себе, и я ему, без сомнения, буду протежировать, поскольку это и моя линия в политической игре: Австрию не следует топить до конца».
Уже на второй день после Аустерлица Талейран заявил Наполеону:
— Мы могли бы легко разрушить габсбургскую монархию, но, сир, лучше будет, если мы ее, наоборот, укрепим и дадим ей под предлогом союзничества широкий простор во французской системе. Австрия, поверьте моему долгому дипломатическому опыту, необходима для будущего блага цивилизованных народов.
В тот момент победитель не послушал разумного совета, но теперь, когда схлынул угар военных побед, его; можно умело склонить к разумным решениям, — не оставлял своих надежд умный и знающий свою выгоду в предстоящей игре старый дипломат.
Улыбки, которыми обменялись посланник и министр, означали многое, как и слова, которые они сказали друг другу.
«Этот старый сатир окажется у меня в кармане, — самодовольно, впрочем не без оснований, решил австрийский посол. — Он, кажется, весьма неравнодушен к золотому тельцу. Недаром ходят слухи, что французский министр международных сношений — самый богатый человек в Париже. Не станем спешить, но сию ахиллесову пяту министра возьмем на учет».
И министр сделал зарубку на память: «Австрия необходима в Европе как одна из опор цивилизации. Однако не менее она потребна и мне, как человеку, от коего зависит, в какую сторону проложить ее будущее. Не будем спешить. Возьмем молодого посланника на прицел: не только со мною, видно по его манерам, он склонен завязать полезные отношения. В первую очередь, несомненно, — с женщинами. О, сей сердцеед виден сразу!»
Талейран, несмотря на приобретенную еще в детстве хромоту и уже далеко не молодой возраст, был неравнодушен к дамскому полу.
Изящно воспитанный и образованный, наделенный проницательным умом, он, чтобы не терять успех у лучшей половины человечества, и в преклонных годах уделял своей внешности постоянное внимание. У него было кукольное, почти женское лицо, в он, как настоящая кокетка, пользовался кремами, чтобы не увядала кожа. Утром же час или два он нежился в ванне, затем столько же времени над его головою трудились парикмахеры.
Он, сам дамский угодник, сразу же подметил подобную склонность у Меттерниха. Молодой человек не был красавцем. Но от него, без сомнения, исходил некий шарм, коего не могут не замечать женщины, особенно те из них, что слывут львицами в большом свете.
И впрямь, появление в Париже нового австрийского посла было отмечено вниманием. И не где-нибудь, а, скажем, в салоне Лауры Жюно. От этой восхитительной женщины, которой не исполнилось еще и двадцати пяти, буквально сходили с ума многие мужчины. Говорили, что когда-то в нее был влюблен и сам Наполеон. Во всяком случае, отдавая должное ее очарованию и умению быстро сходиться с людьми, Наполеон в день ее свадьбы не случайно дал ей мудрый совет:
— Запомните, вы должны все видеть, все слышать и обо всем сразу же забывать. Прикажите вписать эти слова в ваш герб.
Предостережение было не праздным, если принять во внимание, что выходила она замуж за одного из самых известных генералов, а возле нее, в девичестве мадемуазель Пермон, уже крутилась стая сомнительный поклонников, которые могли бы легко скомпрометировать мужа.
Заметим, кстати, что вскоре так и случилось. Генерал Жюно буквально взбесился, когда узнал, что его жена стала любовницей Меттерниха, и потребовал от Наполеона устроить скандал на правительственном уровне.
Тут пришла очередь взорваться императору.
— Послушайте, вы, Жюно! У меня не осталось бы времени заниматься европейскими делами, если бы я брался мстить за каждого рогоносца при своем дворе.
Лауре же на сей раз император дал другой совет:
— Было бы куда лучше, мадам, если бы для собственных удовольствий вы не интересовались иностранцами.
А именно так, на широкую ногу, поставила дело восхитительная Лаура, став генеральшей. Держать открытыми двери своего дома лишь для французов ей вскоре показалось скучным. Она хотела, чтобы о ней говорили во всех столицах Европы. Потому она наняла отель «Реиньер», где начали собираться иностранные дипломаты. Так и оказался Клеменс Меттерних сначала просто в салоне мадам Лауры Жюно, а затем и в ее кровати.
Нет, до скандала было еще далеко. Австрийский посол любовной связью не хвастал, наоборот, он всячески старался ее скрыть. И главным образом потому, что в поле его внимания вскоре оказалась супруга другого генерала, вернее, маршала. То была не менее восхитительная красавица Каролина Мюрат, кроме всего прочего — родная сестра Наполеона.
Вот какие связи легко и быстро установил в Париже ловкий австрийский посол. Конечно, на столь общительного дипломата положила глаз тайная полиция, нити от которой держал в своих руках Талейран. Но гром грянул не с той стороны, откуда его мог ждать Меттерних.
Однажды, в самом начале осени того же 1806 года, возле неприметного, средней руки отеля под названием «У принца Уэльского» остановилась тяжелая дорожная карета, прибывшая, должно быть, издалека. И, по всем приметам, не из какого-либо французского города, а, скорее, из-за границы.
Колеса и задок кареты были заляпаны грязью, крыша и бока ее посерели от толстого слоя пыли. Да и герб на ее дверцах выглядел как-то не по-здешнему: три розы, над которыми парит птица, похожая на жаворонка, а над нею еще одна — орел о двух головах, и каждая из них увенчана короной.
Человек, спрыгнувший с козел, проворно распахнул дверцу кареты, и из нее поспешно выпорхнула молодая дама с превосходным, но несколько бледным, видимо, утомленным с дороги лицом. Она проворно направилась к подъезду отеля, но вдруг в нерешительности остановилась, видимо раздумывая, входить или нет. И надо же такому случиться — в сей момент навстречу ей из дверей показался господин в высоком цилиндре и с тростью в руке.
— Клеменс! Так это ты? Выходит, мне правильно дали адрес, — произнесла приехавшая.
— Катрин? — искренне удивился Меттерних, почему-то быстро оглядевшись по сторонам. — Ваше сиятельство, какая встреча! Нет, право, вы одарили меня таким бесподобным счастьем. Так вы где остановились? Ах да, вы с дороги.
Только теперь Меттерних увидел карету княгини Багратион.
— Так из какого отечества ваше сиятельство изволит держать путь и куда? — улыбаясь продолжил граф, в то же время почему-то бросая взгляд на входивших и выходивших из отеля.
— Вы, граф, забыли свой собственный каламбур, — ответила княгиня. — Мое отечество — это мой экипаж. Я же приехала в Париж, куда и ваше сиятельство прибыли, кажется, тому месяца два назад. Я не ошибаюсь?
— Нисколько, милая княгиня. Но где же вы намерены остановиться? Вот незадача, в этом затрапезном доме для приезжих — ни одного номера, который был бы достоин вас. Ах, я непременно сопроводил бы вас в самую лучшую гостиницу, но, поверьте, я так спешу. От вас у меня нет секретов — аудиенция у министра!
Первым желанием княгини Багратион было резко повернуться и уйти. Но она удержала себя и произнесла как можно дружелюбнее:
— О, не утруждайте себя, граф. Благодарю вас, что избавили меня от того, чтобы искать пристанища у принца Уэльского, коий так любезно уже принял вас. Я же без труда сумею найти приличествующее мне место. Я ведь, как вам известно, опытнейшая путешественница.
Улыбка Меттерниха вновь обласкала княгиню, и он, взяв ее руку, поднес к своим губам.
— Как я рад, Катрин, — почти шепотом произнес он, — что наши пути вновь сошлись. Это — судьба. Так дайте же мне непременно знать, где вас найти.
Фиакр, который он тут же взял на мостовой, стал медленно разворачиваться.
— За ним! — приказала своему кучеру княгиня Багратион, проворно вскочив на подножку кареты.
С полверсты по прямой, затем поворот налево — и вдоль ухоженных особняков к берегу Сены. Здесь фиакр остановился у ворот, за которыми сквозь зелень листвы огромного парка Виднелись очертания загородного замка.
Меттерних вышел из экипажа и, отпустив его, направился через ворота по тенистой аллее к парадным дверям. Здесь он остановился, словно кого-то ожидая.
Через какое-то время роскошная карета, инкрустированная золотом, с ослепительно сверкающими зеркальными стеклами свернула с мостовой к воротам и двинулась по аллее к замку.
Княгине Багратион ничего не оставалось, как осторожно, почти на цыпочках, поспешить за каретою, скрывая себя за деревьями парка. Когда до дверей оставалось не более тридцати шагов, она замерла в тени старого дуба. Меттерних уже был рядом с экипажем и, потянув на себя ручку дверцы, принял в объятия стройную, звонко рассмеявшуюся женщину.
Хорошо, что княгиня догадалась захватить с собою лорнет и теперь могла рассмотреть гостью. Та была красива, как античная богиня, и разодета, наверное, по самой последней парижской моде, что сразу же выдавало в ней даму света.
— О, божественная моя Лаура! — Голос Меттерниха прозвучал трепетно и нежно, в том самом тоне, который хорошо уже изучила княгиня Багратион. — Надеюсь, сегодня в Нейли мы останемся с вами вдвоем?
— Да, мой друг, только до вечера, — вновь зазвенел колокольчиком звонкий смех красотки. — Вы же знаете, что вечером здесь, у Каролины, назначен бал. Интересно, проказник, вы останетесь после танцев с хозяйкою замка или же мы поедем с вами ко мне на улицу Буасси д’Англе? Впрочем, я не буду на вас в обиде, если вы уделите остатки своей страсти моей сопернице. Я, как вы знаете, не терплю сцен ревности, которые одинаково мерзко и безрассудно готовы разыгрывать и мужчины и женщины.
«Каков наглец и лжец! — только и успела произнести про себя княгиня, проводив глазами исчезнувшую в дверях особняка счастливую пару. — Прием у министра! Да разве я заслужила такой наглый обман? А эта кокетка хороша, ничего не скажешь — делить мужчину с такой же развратной великосветской шлюхою, как она сама. Я непременно должна узнать, чей это особняк и кто она, эта презренная обольстительница».
Когда раззолоченная карета отъехала от дверей, княгиня вышла из тени дуба и двинулась по боковой аллее парка. К лакею у дверей она не решилась подойти и потому искала того, у кого бы ее вопросы не вызвали подозрений.
Таким человеком ей показался парень, сгребавший с дорожек уже опавшие листья.
— Я иностранка, — обратилась к нему княгиня, — и мне очень приглянулся этот дом. Если бы он продавался, я бы охотно его купила. Чей он?
— О, мадам, разве вам не известно, что замок — собственность ее императорского высочества Каролины Мюрат?
— Жена маршала? — поджала губки приезжая. — Я сама жена одного из самых известных генералов, и что из того?
— Как? — парень искренне изумился не тому, что мадам тоже супруга знатного генерала, но тому, что мадам совершенно не ведает, кто такая ее высочество. — Как, вы разве не знаете, что Каролина Мюрат — родная сестра императора Наполеона? Вот так так!.. Ах да, вы же сказали, что иностранка.
Незнакомка достала из кармана плаща портмоне и протянула уборщику листьев монету.
— Ну да, я потому и не осведомлена в том, о чем ты мне поведал, что прибыла издалека. Но по своему положению я скоро займу достойное место в парижском обществе. Вот почему мне нелишне будет кое-что заранее узнать о тех, кого я здесь увидела совершенно случайно. Кстати, та дама, которую встречал у дверей красивый мужчина, и есть императорова сестра?
После получения вознаграждения парень стал еще более словоохотлив.
— О нет, любезная дама, — объяснил он. — Приехавшая в карете — Лаура Жюно, как и вы, простите, генеральша. А тот мужчина вовсе не ее муж, а — как вам это объяснить? — ее поклонник. Впрочем, этот господин часто приезжает сюда, в поместье Нейли, к самой хозяйке замка, Каролине, когда она бывает здесь одна.
Более выслушивать о похождениях Меттерниха княгиня уже не могла. Кровь прилила у нее к вискам, губы задрожали, и она, подхватив подол платья, бросилась прочь из парка.
Сестра Бонапарта, жена маршала и смазливая распутница генеральша! Да будь они обе сами императрицы и королевы — для нее они гнусные, вероломные соперницы! Что же это за напасть — не успеет она полюбить, как тут же на ее пути появляются алчные и бесстыжие твари, вырывающие из ее рук уже завоеванное счастье.
Разве не так случилось в Петербурге, когда родная сестра разрушила ее роман с человеком, которого она уже считала избранником своего сердца?
Тогда она, молодая фрейлина императрицы, совершенно потеряла голову, встретив на придворном балу двадцатишестилетнего графа Павла Палена, сына могущественного петербургского военного губернатора.
Нетерпение скорее стать его женою было так велико, что Катрин поддалась искушению и отдалась ему еще до того, как могли объявить о помолвке. И что же произошло после сего страстного доказательства ее безбрежной и безграничной любви? Молодой граф, клявшийся ей в вечной любви, тут же переметнулся к ее младшей сестре Марии.
Жертва коварной измены. Что может быть горше и унизительнее для юной очаровательной девушки, считавшей себя неотразимой? Верно, для того, чтобы вновь обратить на себя внимание и показать всему свету, как она восхитительна и желанна, она, все еще оскорбленная в глубине души, решила на глазах у всей покорить одного из самых известных российских генералов.
Думала ли она о любви? Единственное чувство, что двигало тогда ее поступком, было утверждение себя по-прежнему в роли победительницы и неотразимой красавицы.
Вена и Дрезден вновь убедили ее в том, что наконец-то она нашла человека, который ее боготворит и никогда ни на кого не променяет. И вдруг — снова на пути соперница. Да не одна, а, по всей вероятности, сразу две.
А может, она и впрямь прошла мимо своей судьбы и своего подлинного счастья, когда так высокомерно и бессердечно отвергла любовь Багратиона? Но нет, она не отдаст никаким соперницам своего Клеменса, тем более теперь, когда он стал отцом ее дочери.
Да, в Вене растет маленькое существо, что навек свяжет ее с избранником сердца. Потому свою дочь, родившуюся три года назад, после возвращения из Дрездена, она назвала в память о единственно любимом ею мужчине — Марией Клементиной. Он же, отец ее ребенка, — с другой!.. С другими!.. Но нет, она его так не отдаст. Мало того, что она вынуждена делить свое счастье с женою своего суженого, ныне ей угрожают его любовницы.
Сняв номер в самом богатом отеле, она тут же через посыльного отослала записку Меттерниху с требованием, чтобы он тотчас приехал к ней.
Он появился только на следующий день, как всегда нежный и безгранично влюбленный.
— Вы лжец и обманщик, граф, — решив сразу же положить предел притворству, гневно встретила его княгиня и выложила ему все, что она увидела и услышала в парке поместья Нейли.
«Что за напасть эти женщины! — подумал Меттерних, притворно вздохнув и на всякий случай приняв виновато-обиженное выражение. — Мало мне того, что Каролина и Лаура, как дикие кошки, готовы из ревности вцепиться друг в друга, так теперь к ним добавилась Катрин. То ли дело моя Элеонора. С первых же дней супружества у меня с нею обоюдный договор: каждый из нас, продолжая быть мужем и женою, в то же время должен ощущать себя свободной и вольной личностью. Тем более я, дипломат, у которого столько знакомств и связей, без которых не обойтись. И если к каждой такой связи подходить с вульгарною меркою подозрительности, а не видеть в подобных отношениях высшего смысла — государственных интересов державы, которую я представляю, — можно сойти с ума!»
— Мать Мария и все Святые Отцы! — простонал Меттерних и безвольно опустился на стул. — И это ты, Катрин, кого я считаю женщиной, способной, как никто иной, понимать каждое движение моей души… Прости, но как ты могла даже представить в своих мыслях, что мое поведение — измена? Да, я завоевал доверие сестры Бонапарта, я коротко знаком с женою одного из Наполеоновых генералов. И ты тотчас вообразила: это постель, это сладострастие и измена! И только одной, самой верной догадки ты лишила себя в своем неправедном гневе: это мой Аустерлиц!
Княгиня поднялась с кресла и бросилась на него с воздетыми вверх руками, готовая, как показалось ему, исцарапать в кровь его лицо.
— Да-да, милая Катрин, — остановил он княгиню, — то, что не смогли сделать моя австрийская и твоя русская армии, сделал я. Отныне все тайны, все секреты Французской империи — в моих руках. Разве ты не знаешь, на что способны влюбленные женщины: они предадут не только своих мужей, но и то, что свято для каждого — свое отечество. А разве я не затем направлен ко французскому двору, чтобы быть полезным своей державе? Она, униженная и оскорбленная, жаждет отмщения и реванша. И единственный человек, кто способен свершить невозможное для своего отечества, — это не мой император и не его братья эрцгерцоги, не фельдмаршалы и генералы, а я, Клеменс Меттерних!
— Так, значит, это не любовь? — предчувствуя прилив счастья, выдохнула она. — Вернее, любовь — только к родной стране?
— Вот видишь, как ты верно меня поняла. — Меттерних порывисто обнял княгиню и посадил к себе на колени. — Я люблю только тебя, Катрин. Все другие люди для меня — лишь средство для достижения моих целей.
И он, увлекаясь собственным красноречием, с каждой фразой все более распаляя себя, рассказал ей, как с самых молодых лет дал себе обет быть лучше, удачливее и способнее всех, кто его окружает.
— Будучи молод, — говорил он, — я оказался в положении, когда мог с близкого расстояния наблюдать за ходом великих событий. И тогда я обнаружил удивительную вещь: события могли бы развиваться совершенно иначе, если бы люди, влияющие на них, были умнее и дальновиднее. Да, все зависит только от людей, находящихся у вершины исторических сдвигов и катаклизмов. А они, эти катаклизмы, лишь выражения достоинств, равно как и недостатков людей, их увлечений, ошибок, их пороков и добродетелей. И я понял главное: эти человеческие качества обязан постичь и ими умело воспользоваться тот, кто хочет взойти на самую вершину власти.
У Катрин пошла кругом голова. «Господи, — подумала она, — как же я могла усомниться в Клеменсе и так низко пасть, чтобы следить за ним? Он необыкновенный, великий человек, и в то же время он так похож на меня. Я тоже рождена для того, чтобы не мною правили, а я правила другими, извлекая в отношениях с другими людьми лишь собственную пользу. Откуда это во мне — постоянное выражение превосходства? Наверное, это чувство от той, кто была русской императрицей Екатериной Первой. Недаром и меня назвали именно в ее честь».
— Милый, как я хочу, чтобы ты достиг своей цели! — произнесла она, совершенно млея в его объятиях и осыпая его голову страстными поцелуями.
«Пронесло! — вздохнул он, изображая волнение страсти. — Но скоро я всем докажу, что человек, который вновь возродит Европу Карла Великого, окажется не он, завоеватель Бонапарт, а тот, кого пока не знает мир. Этим человеком стану я с моим умом, моею беспощадною волей и неукротимою страстью».
Глава двенадцатая
И теперь, когда уже стукнуло двадцать два годочка, он не раскаивался в том, что когда-то, в свои шальные девятнадцать, сочинил сию басню:
Уставши бегать ежедневно По грязи, по песку, по жесткой мостовой, Однажды Ноги очень гневно Разговорились с Головой: «За что мы у тебя под властию такой, Что целый век должны тебе одной повиноваться; Днем, ночью, осенью, весной, Лишь вздумалось тебе, изволь бежать, таскаться Туда, сюда, куда велишь… Коль ты имеешь право управлять, Так мы имеем право спотыкаться И можем иногда, споткнувшись — как же быть, — Твое величество о камень расшибить».Знал ведь, сорванец: за такие вирши по головке не погладят, тем более не просто офицера, а гвардейца, поручика-кавалергарда. Но, видно, бродила в крови унаследованная от отца, суворовского бригадира, фрондерская закваска: пренебрегая собственным благополучием, не бояться говорить правды.
А что, разве не в покорности и беспрекословном повиновении норовила «голова» держать всех тех, кто был ее прочной опорою на земле? Только «ноги», несмотря на то что — внизу, вечно как бы в грязи, — тоже с головой! И подчас более разумной и рассудительной.
Вот за сие многомудрие, дерзнувшее поспорить с самою «головой», и был он, Денис Давыдов[24], переведен из Санкт-Петербурга, из блестящей гвардии, в армейский Белорусский гусарский полк, квартировавший в полесском захолустье.
Конечно, было обидно. Но стиснул зубы, благо в гусарах удаль, риск да лихость — те самые качества, за которые тебя сразу же признают за своего.
Однако спустя время заныла, затосковала душа: под Аустерлицем кавалергарды в жестоком бою покрыли себя неувядаемой славой, а он, их бывший однополчанин, торчит как последний, должно быть, трус в проклятой Богом дыре!
Нет, негоже ему, ни в чем не ведающему страха, транжирить время и силы на дружеские пирушки да от тоскливого безделья волочиться за сонными, как осенние мухи, уездными барышнями.
Закружился в хлопотах, мыслимых и немыслимых, все связи, кои счел возможными и непредосудительными, привел в движение — и вновь вернулся в гвардию. Да куда! В лейб-гвардии гусарский полк, что нес службу в столице и в царской резиденции в Павловске.
И совсем уж возликовал, когда оказался под началом давнего своего друга Бориса Четвертинского. От него, эскадронного командира, получившего недавно чин полковника, казалось, так и тянет пороховым дымом войны. И немудрено — участвовал во всех сражениях, в том числе при Шенграбене и Аустерлице. И все — рядом с таким прославленным генералом, как князь Багратион.
Князь Борис оказался не только храбрейшим офицером, но и другом вернейшим. Не спрашивал у него самого, но Денис стороною узнал: в его вызволении из полесской дыры Четвертинский сыграл немалую роль.
Послужить с таким командиром — одно счастье! Только вдруг вновь потянуло порохом, коего, увы, ни разу в жизни еще не нюхал Денис Давыдов. Однако теперь — дудки! Ныне он не останется в стороне. Чем он хуже других, коли ни в чем никогда не ведал боязни и не искал для себя выгоды?
Война же запылала на соседней с Россиею прусской земле нешуточная. Пруссия выступила против Наполеона с отчаянной решимостью, только неожиданно стала терпеть одно поражение за другим. И — точно дым — распалась, рассыпалась прусская армия, а король Фридрих-Вильгельм Третий с королевой Луизою оказались в Мемеле — у самых российских пределов.
Доколе же супостат Бонапарт будет перекраивать Европу, точно она — бумажная карта? У России с Пруссией — договор, и стало быть, надо вступать в войну.
Денис места себе не находил: непременно и во что бы то ни стало любыми путями задумал попасть на войну!
— Ежели полк наш не пошлют в Пруссию, ты, Борис, как намерен поступить? — бросился он к своему командиру. — Верно, опять к Багратиону попадешь? Тогда не забудь обо мне — Богом прошу!
Четвертинский нахмурился.
— Второй раз не выходит в одну воду ступать, — сухо ответил. — В минувшей войне я ни к кому не напрашивался. Меня сам князь к себе пригласил. Коли теперь не позовет, меня уже не раз испытав в деле, мне, брат, достоинство и гордость не позволят напомнить о себе. А кроме всего, без соизволения на то государя никакое назначение состояться не может. К нему же я тем более — ни ногой.
Не рад был Денис, что начал с другом этот разговор. Весь Петербург давно уже знал: сестра Четвертинского, Мария Антоновна Нарышкина, — пассия императора Александра Павловича. Еще будучи цесаревичем и великим князем, он влюбился в молоденькую фрейлину бабушки, дочь казненного в Варшаве известного всей Польше князя Антония Станислава Святополк-Четвертинского. Тогда, ровно десять лет назад, дабы спасти детей-сирот от обезумевшей восставшей толпы, Екатерина приказала вывезти их в Петербург. Сестры — шестнадцатилетняя Мария и двумя годами ее моложе Жаннет — определены были фрейлинами, брат Борис — в кадетский корпус.
Увлечение Александра Павловича оказалось стойким, и Марию решили поскорее выдать замуж. Партия подыскалась весьма достойная — обер-гофмейстер двора Дмитрий Львович Нарышкин. Муж оказался на редкость снисходителен: не замечал ни шепота за его спиной, ни даже колких острот по его адресу. Вроде бы таких, скажем, «шуток»: у Нарышкина при дворе две должности: явная — обер-гофмейстера и тайная — великого магистра масонской ложи рогоносцев.
Однажды, совсем юношей, Борис застал Александра Павловича вдвоем с сестрою. Его чистая натура не могла смириться с тем, что для него и многих других было безнравственно. С тех пор он, уже выпущенный в полк, перестал бывать у сестры. Но особенно мучило: что о нем могут подумать товарищи? Любой успех по службе злые языки могли приписать связи его сестры с государем. Потому вскоре он вышел в отставку. И если бы не приглашение князя Багратиона перед началом похода в Австрию определиться к нему адъютантом, Борис ни за что не вернулся бы в строй.
У Багратиона было свое отношение к детям несчастного польского князя. Он помнил, как их, лишенных отца, увозили из Варшавы. Сердце его сжималось от боли и сострадания, когда он смотрел, как усаживались в карету две испуганные, только что вышедшие из подросткового возраста красавицы девушки и их брат, совсем еще мальчик. Потом, сам оказавшись при дворе Павла Петровича, он находил время, чтобы оказать знаки внимания своим «крестникам», как он в шутку называл брата и сестер, поскольку его эскадрон сопровождал в тот черный день их карету до выезда из польской столицы.
С Марией Антоновной и Жаннет они со временем стали добрыми друзьями, особенно с той поры, когда Петр Иванович остался в Петербурге один. Как хорошо знали сестры Четвертинские Катеньку Скавронскую! С ней, взбалмошной и эгоистичной, никто из фрейлин близко не сходился, все ее избегали, поскольку сердце ее было ледышкой. И многие искренне удивились, когда узнали о ее свадьбе, и тут же пожалели несчастного мужа.
Мария Антоновна имела не только острый ум, но и открытую душу. Связь с императором и близость ко двору ее самой и ее супруга в первую очередь определяли круг знакомств и гостей дома. Но и в этом кругу она старалась находить людей интересных, не пустых. Так, среди тех, кого она с охотою принимала, был и князь Багратион. Но мало того — Мария и Жаннет оказались единственными особами женского пола, которым были открыты Двери Багратионова холостяцкого дома, где собиралось подчеркнуто мужское общество.
Всем было известно — князь Багратион не пил. Иногда лишь за обедом он позволял себе рюмку мадеры, а уж о водке не могло идти речи. Но стол в его квартире по вечерам ломился от закусок и всевозможных напитков. Однако к нему приходили не ради по-восточному щедрого стола, а чтобы оказаться в обществе известнейшего полководца и своих же единомышленников. И подбиралась компания в основном блестящая не только по происхождению — но и по уму и открытости души. Начать хотя бы с обоих князей Борисов — Голицына и Четвертинского, перечислить еще родственника по жене умнейшего барона Строганова, князя Чарторыйского…
Частенько заглядывал сюда и сосед — Мраморный дворец ведь рядом — великий князь Константин Павлович.
В сем случае — чуть заглянем наперед — цесаревича влекла в дом Багратиона не только крепкая, возникшая еще с Италии любовь к бесстрашному и редкостному по душевности человеку, но и неожиданно вспыхнувшее чувство к одной из милых его гостий.
Да, ему, вспыльчивому, непредсказуемому и не знающему ни в чем пределов, вдруг показалась желанной Жаннет. Да и не просто желанною, но тою, на ком он, как объявил в семье, собрался жениться. Правда, в ту пору он не был еще разведен с женою Анною, бывшею Саксен-Кобургскою принцессою.
Нет, не помог Денису Давыдову разговор с другом, лишь обострил его чувство решимости: надо действовать самому и как можно быстрее.
Отчаяние подвигло на поступок прямо-таки немыслимый. Никому не известный, без связей и протекций, поручик бросился прямо к фельдмаршалу графу Каменскому, вызванному из деревни и назначенному начальствовать над армиею, уже направленной в Пруссию. Вызнал, что главнокомандующий остановился в гостинице «Северной», в девятом нумере.
Ни жив ни мертв подошел к двери и столкнулся с маленьким старичком в халате, с повязанною белой тряпицею головою. Увидя мундир офицера, тот осведомился, что за пришелец. Давыдов назвал: себя и сказал о цели своего визита.
— Что это за мучение! — вздохнул старичок, оказавшийся на самом деле фельдмаршалом, когда они прошли в его спальню. — Всякий молокосос лезет проситься в армию, когда я еще и сам не прибыл к месту. Замучили меня просьбами. Да кто вы такой?
Когда проситель назвался вторично, граф вспомнил, что знал и отца и деда его, и согласился:
— Буду просить о тебе у государя. Только имей в виду, расскажу все: как ты ночью — слыхано ли это! — ворвался ко мне, точно хотел меня застрелить. Но знай, смерти я не боюсь и никогда не боялся.
Поутру Давыдов уже был рядом с гостиницею и встретил фельдмаршала, подошедшего к карете.
— Я говорил о тебе, любезный Давыдов, просил тебя в адъютанты, да мне отказано под предлогом, что тебе надо еще послужить в полку, — огорошил его граф и добавил: — Признаюсь тебе, что по словам и по лицу государя я почувствовал невозможность выпросить тебя туда, где тебе быть хотелось.
Меж тем по Петербургу уже пронесся слух о дерзком налете на фельдмаршала настойчивого офицера. Слух достиг дома Нарышкиных. Мария Антоновна, увидев у себя друга своего брата, приветливо его приняла, и заявила, что в душе восхищена его смелостью. Однако тут же сказала:
— Впрочем, зачем вам было рисковать, вы бы меня избрали вашим адвокатом. И, может быть, желание ваше давно уже было исполнено.
Можно вообразить взрыв радости незадачливого офицера. «Но как, какими путями удастся моей защитнице похлопотать за меня?» — замучил себя вопросами нетерпеливый проситель.
А дело обернулось куда просто. И со стороны, о которой тогда и не подумал бедный поручик.
Государь, вызвав к себе князя Багратиона, назначил его командующим авангардом армии и выразил позволение взять с собою гвардейских офицеров, каких он пожелает.
В то же утро Петр Иванович заехал к Нарышкиной спросить, не пожелает ли она, чтобы он взял с собою ее брата. Князю было известно, как не раз Четвертинский говаривал, что он настолько предан Багратиону, что ни с кем другим ни за что не отправится в действующую армию.
Мария Антоновна несказанно обрадовалась предложению князя, сказав, что Борис будет счастлив и что он только этого и ждал, хотя сам ни под каким бы видом не стал себя навязывать человеку, которого он безмерно уважает.
— Но коли вы, дорогой Петр Иванович, пожелали меня одолжить, — прибавила Мария Антоновна, — не будете ли вы настолько любезны, чтобы взять с собою и друга моего брата — поручика гвардии Дениса Давыдова?
На что рассчитывала Нарышкина, когда говорила Денису о своем желании ему помочь? Одного слова ее, сказанного государю, было бы достаточно, чтобы и брата ее, и любого иного, связанного с ним офицера зачислить на любую должность. Император знал об отношении Четвертинского к себе и потому готов был сделать все, чтобы погасить неприязнь. Но простил бы он, Борис, сей поступок сестры? Никогда! Да и прилично было бы ей навязывать свою волю, скажем, тому же Багратиону, действуя через его голову?
Обещая свою помощь Денису, сестра Бориса, безусловно, надеялась на содействие любезного друга Петра Ивановича. И не ошиблась. Она была уверена, что сам князь, питая искреннее уважение к ней и, безусловно, к своему бывшему адъютанту, сам первый приедет с предложением. Но удастся ли ему выручить Дениса? И тут расчет ее был верен: государь не посмеет отказать Багратиону.
Как повелось в последнее время, назавтра Четвертинский с Давыдовым приехали обедать к Нарышкиным, и Мария Антоновна тут же поспешила объявить брату, что он едет вместе с Багратионом.
Дениса бросило в дрожь. Глянув на него, Четвертинский с обидою за друга едва смог вымолвить:
— А как же Денис? Он же первым добивался привилегии — оказаться на войне?
— Увы, опять отказ! — произнесла сестра и, увидев, как Давыдов побледнел, тут же исправилась: — Простите, я неудачно пошутила. Вы, Денис, едете вместе с братом. Князь Багратион все прекрасно уладил: государь дал свое согласие…
За обедом Денис от волнения не мог съесть ни крошки и, едва встал из-за стола, бросился на Дворцовую набережную, к дому Багратиона.
У крыльца уже стояла кибитка, в которую загружался дорожный скарб. Вскоре появился и сам Багратион. Он, заметив поручика, кивнул ему и направился к экипажу.
«Как же так? Неужели обман, на который решилась Нарышкина? — замер на месте Денис. И вместо того чтобы Спросить князя, точно ли он назначен к нему адъютантом и когда он прикажет ему ехать, Давыдов молча проводил глазами Петра Ивановича и не промолвил ни слова. — Да, лучше остаться в неведении, чем удостовериться в истине, может быть опять ужасной!»
Только направившись на всякий случай в военно-походную его величества канцелярию, он узнал о своем назначении к князю Багратиону и что на следующий день будет о том сообщено в приказе.
Третьего января 1807 года, не чуя под собою ног от безмерной радости, поручик Денис Давыдов отправился на войну. И уже в середине месяца представлялся человеку, с которым отныне на целых пять лет свяжет свою судьбу.
Глава тринадцатая
В высшей степени странно вели себя европейские державы, создавая одну за другой антинаполеоновские коалиции и всякий раз позволяя себя разбивать по частям. Казалось бы, сложи воедино силы, и вот он, мощный кулак. Но сложение сил происходило лишь на бумаге. В действительности же каждое государство действовало как бы само по себе, исходя из собственных, а то и сиюминутных, интересов.
Можно с уверенностью утверждать, что результат Аустерлица был бы во многом другим, а скорее всего, и самого Аустерлицкого сражения могло бы не быть, если бы с самого начала той, предыдущей, третьей, коалиции Австрия и Пруссия думали бы не только о своих личных выгодах.
Да вот та же судьба фон Мака. Зачем было Австрии, не дожидаясь русских войск, одной выступать против «Великой армии» Наполеона? Ответ, видимо, ясен: ни с кем не хотелось делить лавры победы и денежный куш, что выделяла Англия для войны.
Пруссия же, напротив, и вовсе устранилась от участия в сражениях. Недоставало сил, как плакался король Фридрих-Вильгельм Третий? Причина была в другом. Не хотелось таскать каштаны из огня для подруг-соперниц — Австрии и России.
А как торжественно выглядела клятва в нерушимой верности! Тогда, перед Аустерлицем, в Потсдаме Александр Первый, Фридрих-Вильгельм и королева Луиза спустились вместе в склеп Фридриха Великого и над его саркофагом соединили руки, провозгласив союз и дружбу для борьбы с Наполеоном.
Но ни один прусский солдат не сделал и шага из казарм. А дипломат прусского короля много дней плутал по австрийским дорогам, выжидая, кому вручить поздравление с победой: русско-австрийским войскам или французским? И когда судьба войны определилась, гонец из Пруссии в лакейской позе предстал пред императором Франции, рассыпаясь в изъявлениях признательности. Даже Наполеона покоробило такое неслыханное вероломство. «Фортуна переменила адрес на ваших поздравлениях? — презрительно оглядел он посланца из Берлина. — Полагали осчастливить с победой одних, да пока размышляли и оглядывались, судьба подсунула другие карты».
Осенью 1806 года в Берлине вдруг возникли анти-французские настроения. Да еще какие — прямо зовущие в бой. Королева Луиза верхом на резвом коне объезжала войска, призывая их выступить против зарвавшегося Наполеона. Ответом ей были дружные возгласы «хох!». А бравые прусские офицеры тут же бросились к французскому посольству и стали картинно точить свои сабли о его ступени.
Дотоле осторожный, трусливый и недалекий Фридрих-Вильгельм и сам подпал под возбужденное состояние своей коронованной супруги и воцарившийся в стране психоз. И очертя голову, высокомерно отбросив даже мысль о том, чтобы посоветоваться с Россией, единственной, можно сказать, верной союзницей, предъявил Наполеону ультиматум. Он требовал: в течение недели вывести за Рейн все французские войска из германских земель, даже вассальных по отношению к Франции.
Первого октября, получив ультиматум Пруссии, Наполеон сказал своим маршалам:
— Нас вызывают к барьеру на восьмое число сего октября месяца. Не будем же мешкать и опередим Прусского короля, этого безмозглого олуха, равного которому по глупости еще никогда не было на троне.
Так шестого октября началась война между Пруссией и Францией. А закончилась она ровно через неделю, когда о ней еще не все пруссаки сумели узнать.
Прусские войска оказались разбитыми наголову одновременно в двух генеральных сражениях — под Иеной, где командовал французами сам Наполеон, и под Ауэрштедтом, где атаковал маршал Даву. Победители вступили в Берлин, наложив на побежденных тяжелейшую контрибуцию. А сам французский император в качестве трофея взял на память из музея шпагу Фридриха Великого. Того самого, над гробом которого король и королева вместе с русским царем совсем недавно клялись в скорейшей победе.
Королевской чете ничего не оставалось, как бежать сначала в Кенигсберг, а затем в Мемель, к самой границе Российской империи.
Прусской армии уже не существовало. И король Фридрих-Вильгельм окончательно потерял голову, если из последнего своего прибежища, оказавшись на самом краю собственной империи, написал Наполеону в Берлин:
«Крайне желаю, чтобы ваше величество были достаточно приняты и угощены в моем дворце. Я старался принять для того все зависящие от меня меры, не знаю, успел ли я?»
Российский император, вскоре выехавший навстречу своему августейшему другу и брату, враз лишенному державы, чести и достоинства, попытался поднять его дух.
— Никто из нас обоих не падет один. Или оба вместе, или ни я и ни вы! — обнимая короля, торжественно произнес Александр Павлович.
Теперь, если не считать Англии, которая была окружена морем как крепостною стеной, один на один против «Великой армии» Бонапарта оказалась Россия. Но Александр и мысли не допускал, чтобы мириться. Да и армию русскую жгла никак не утихающая боль недавнего поражения, вселяя в каждого солдата и офицера надежду на грядущую победу.
Однако не только правители Австрии да Пруссии вели себя в высшей степени неразумно, за что и поплатились. В России, наверху, тоже не очень задумывались о том, как по-умному извлечь уроки из прошлого. Начать хотя бы с назначения на пост главнокомандующего престарелого фельдмаршала Каменского, который, прибыв в армию, сразу запутал все дела. И, убедившись в своей полной непригодности, самовольно уехал в деревню, отдав по войскам более чем странный приказ: «Всем отступать, кто как может, в пределы России».
Армия, уже столкнувшаяся на поле боя с неприятелем, оказалась без единого командования. Более того, она была расколота на две части, коими независимо друг от друга управляли генералы Беннигсен и Буксгевден, являвшиеся давними и непримиримыми врагами.
Вот в какое войско в самом начале 1807 года прибыл князь Багратион, а следом за ним его двадцатидвухлетний адъютант Денис Давыдов, неудержимо рвущийся в бой.
Недавний поручик, по случаю перевода на новую службу произведенный в штабс-ротмистры, первый раз в жизни переезжал через границу державы. Все было для него необыкновенно! Чистые, красивые городки и селения с гладкими дорогами и аккуратные жители, населяющие эти места…
А какой восторг и упоение возникали в груди, когда на дороге встречались первые наши армейские колонны! Они двигались слева и справа, изгибаясь по снежным холмам и равнинам и наполняя все окрест стуком пушечных колес, топотом копыт лошадей, разговорами и хохотом солдат, иногда идущих по колено в снегу. Все в их внешнем виде — простреленные киверы и плащи, оледенелые усы — говорило ему, юноше, еще не видевшему войны, что эти герои за два месяца боев уже хлебнули лиха и знают, что сражения — это не только мужество и отвага, но слезы и горе.
Изнанка войны тут же, в ближайших селениях, бросилась в глаза бравому новобранцу. Он с грустью увидел, как солдаты, которым предстояло провести ночь в поле, разбирали на костры еще целые дома, а жители стояли тут же без ропота, но с немою горестью в глазах.
Как все это оказалось не похоже на маневры гвардии где-нибудь в Гатчине, Павловске или в Красном Селе, где обыватели с восторгом приветствовали проходившие полки! Здесь он впервые увидел злополучия и бедствия простых людей, им, в отличие от солдат, война не приносит ни славы, ни почестей, лишает не только имущества, но последнего куска хлеба, а то и жизни.
Своего начальника Денис Давыдов нашел в красивом доме прусского крестьянина. В большой горнице, отведенной Багратиону, стояла кровать, на которой ему была постлана солома. Пол комнаты также был устлан соломою, должно быть высокий постоялец сам позаботился о том, чтобы не испортить пола. А в течение дня сюда ступали десятки генеральских и офицерских ботфортов, сплошь заляпанных грязью. Все это были ближайшие сподвижники и подчиненные князя, начиная с генерал-майоров Барклая-де-Толли, Раевского и Багговута и кончая полковниками Ермоловым и Кульневым.
В конце декабря корпус Беннигсена при Пултуске выказал стойкость в сражении с одним из лучших наполеоновских маршалов — Данном. Но так велик оказался соблазн взять реванш за недавний Аустерлиц, что командующий корпусом не утерпел и в донесении государю представил сражение как блестящую свою победу.
Генерал от кавалерии барон Леонтий Леонтьевич Беннигсен был от природы интриган и ловкий царедворец. Он и в войне двенадцатого года только и будет занят тем, что станет строчить доносы на Кутузова и других полководцев. А тогда за плечами его была одна устрашающая заслуга — заговор и убийство императора Павла, в коем он играл одну из самых ведущих ролей. Иначе говоря, он был в одной связке с нынешним государем и знал, что Александр Павлович не может ему не угождать. Так и произошло. После Пултуска император назначил Беннигсена главнокомандующим всех русских войск, действующих против французов.
Однако после Пултуска русская армия, как до сей поры при немощном и почти выжившем из ума фельдмаршале Каменском, вынуждена была отступать. Чтобы не оказаться разрезанной и окруженной, она спешным маршем уходила из польских краев в пределы Восточной Пруссии, ближе к Неману и собственной границе.
В арьергард, которым командовал Багратион, входили полки Екатеринославский и Малороссийский гренадерские, Псковский пехотный, Елизаветградский и Александровский гусарские, Курляндский драгунский и еще несколько егерских и казачьих. И, кроме того, до сорока артиллерийских орудий.
Для того чтобы всю эту силу использовать как можно успешнее, Петр Иванович разделил корпус на две части, одну из которых подчинил себе, над другою же поставил Барклая-де-Толли.
Французы преследовали отступающих по пятам, и Багратион употреблял все свое искусство, чтобы дать армии спокойно отойти и занять выгодную позицию.
Горячему, но еще не обстрелянному юнцу, находящемуся рядом с Багратионом, подчас казалось, что командир арьергарда несправедливо вдруг отдает своим частям приказ отойти, когда, ввязавшись в дело, без труда можно выиграть сражение. Нетерпение адъютанта настолько возрастало, что он однажды, думая «исправить» распоряжение князя, едва и в самом деле не нарушил его замысел и не погубил в завязавшемся бою самого себя.
Много лет спустя, изведав не в одном сражении полководческое мастерство Багратиона, Денис Давыдов, уже сам став генералом, известным литератором и одним из первых наших военных писателей, оставит потомкам ценнейшие свидетельства о непревзойденном военном искусстве своего бывшего командира.
«Мудреное дело начальствовать арьергардом армии, горячо преследуемой, — напишет он в своих воспоминаниях, в частности о той, прусской, войне. — Два противоположных предмета составляют основную обязанность арьергардного начальника: охранение спокойствия армии от натисков на нее неприятеля во время отступления и вместе с тем соблюдение сколь можно ближайшей смежности с нею для охранения неразрывных связей и сношений. Как согласить между собой эти две, по-видимому, несогласимые необходимости? Прибегнуть ли к принятию битвы? Но всякая битва требует более или менее продолжительной остановки, во время которой умножается расстояние арьергарда от армии, более и более от него удаляющейся. Обратиться ли к одному соблюдению ближайшей с нею смежности и, следовательно, к совершенному уклонению себя от битвы? Но таковым средством легко можно подвести арьергард к самой армии и принесть неприятеля на своих плечах. Багратион решил эту задачу. Он постиг то правило для арьергардов, которое, четырнадцать лет после, изложил на острове Святой Елены величайший знаток военного дела[25], сказав: «Авангард должен беспрерывно напирать, арьергард должен маневрировать». И на этой аксиоме Багратион основал отступательные действия арьергардов, коими он в разное время командовал. Под начальством его никогда арьергард не оставался долго на месте и притом никогда безостановочно не следовал за армиею. Сущность действия его состояла в одних отступательных перемещениях с одной оборонительной позиции на другую, не вдаваясь в общую битву, но вместе с тем сохраняя грозную осанку частыми отпорами неприятельских покушений, — отпорами, которые он подкреплял сильным и почти всеобщим действием артиллерии. Операция, требующая всего гениального объема обстоятельств, всего хладнокровия, глазомера и чудесной сметливости и сноровки, коими князь Багратион так щедро одарен был природою».
Любая часть войска — будь то корпус, дивизия, полк или даже батальон, осмелимся добавить от себя, — суть подразделение вполне самостоятельное. И подчас оно ведет себя в бою, лишь выполняя приказы своего собственного командира. Но сия самостоятельность, если, конечно, часть не оторвана от остальной армии, — все таки скорее кажущаяся, а не подлинная. Дивизия, полк, батальон находятся в такой непосредственной и постоянной связи с действиями всех частей целого, что их собственная, кажущаяся самостоятельною деятельность чуть ли не до каждого шага вперед и назад увязана с маневрами всех остальных. И в такой взаимосвязи чем четче и слаженнее станет вести себя каждое колесико общего механизма, тем больший будет достигнут успех.
Авангард же и арьергард — это как бы маленькая самостоятельная армия, продвинутая от главной вперед или соответственно назад и действующая в оперативном смысле всецело лишь по воле своего собственного начальника. Цель сему отряду поставлена главнокомандующим армиею только в самом общем виде: разбить впереди стоящего или задержать идущего по следу противника. А уж как командир маленькой армии станет поступать, в каждом случае — всецело лежит на нем одном. Он уже не исполнитель. Он сам главнокомандующий.
Поначалу французы, наседая, все же опасались: не перейдут ли русские в наступление. Наполеон с главным штабом был в Варшаве и оттуда отдавал приказы корпусам, находившимся в непосредственном соприкосновении с противником. Так, он выслал инструкцию, согласно которой в случае русской атаки корпусу Берна дота следует отойти в глубь польских земель, к Торну, а корпусу Нея, отходя, заманивать неприятеля в ловушку, чтобы затем сообща сильнее ударить по его растянувшимся войскам.
Меж тем положение изменилось: русские поспешно уходили и ни о каком заманивании их не могло уже идти речи. Потому Наполеон послал Бернадоту другой приказ: вместе с Неем немедленно отрезать от русских их арьергард, окружить его и уничтожить.
Случилось же так, что французский офицер, везший сей приказ Бернадоту, был взят в плен кавалерийским разъездом Багратиона. Мешкать было нельзя. Князь тут же направил перехваченное донесение главнокомандующему, а сам, не дожидаясь его распоряжений, пустился вспять, на соединение с армиею.
Однако Багратион, в намерении все же обессилить противника, приказал своему передовому отряду атаковать аванпосты Бернадота, создав у того впечатление, что армия наша все же решилась перейти в атаку. Бернадот на сей обман и попался. Памятуя о первом приказе Наполеона — отходить в случае русского наступления, — он снял свой корпус и начал движение назад, к Висле.
Так искусным маневром Багратиона было достигнуто главное: он сам, сближаясь со своею армиею, усиливал ее; маршал Бернадот, уходя, ослаблял ударные французские силы.
Преследование наших войск все же не прекращалось, хотя угроза окружения отпала. Багратион то выставлял для прикрытия отряд Барклая-де-Толли, то, сменяя его, сам принимал на себя натиск. Так, в боях, арьергард отходил в течение трех суток, пока главнокомандующий не принял решение дать неприятелю большое сражение под Прейсиш-Эйлау.
К тому времени Наполеон, узнав об оплошности Бернадота, спешно вернул его корпус назад и сам выступил с остальными своими силами навстречу русской армии.
Теперь полкам Багратиона приходилось вести уже настоящие сражения, а не просто маневренные бои. Так, прикрывая отход армии, арьергард, не доходя до Эйлау, оказался на совершенно открытой местности, и Багратион спешно послал Давыдова к главнокомандующему с требованием подкрепить его кавалерией. Беннигсен дал разрешение присланному адъютанту взять два первых конных полка, которые тот встретит на пути. Ими оказались Санкт-Петербургский драгунский и Литовский уланский. А следом к ним были присланы еще кирасирский его величества и два драгунских — Каргопольский и Ингерманландский — полка.
Все, что было под рукою у Багратиона и что получил он в качестве подкрепления, было брошено в бой, только чтобы дать армейской пехоте и артиллерии обустроить свои позиции для генеральной битвы.
Возвратясь с подмогою, Давыдов нашел своего командира на возвышенности, простреливавшейся насквозь. Он стоял, буквально осыпаемый ядрами и картечью, давая приказания с героическим величием и поразительным хладнокровием.
Колонны неприятеля вел на приступ сам Наполеон.
Ружейный огонь трещал по всей линии и не раз прерывался ударами железа о железо. Это с обеих сторон сходилась в штыки пехота. А Наполеон продолжал посылать вперед свои полки, и одна волна наступающих напирала на другую. И надо всем обширным полем боя тучами летали ядра и картечные пули.
Как вспомнит потом Денис Давыдов, полковник Ермолов, командовавший артиллериею арьергарда, сыпал картечи в густоту наступавших колонн, коих передние ряды ложились лоском, но следующие шагали по трупам их и ломились вперед, не укрощаясь ни в отваге, ни в наглости.
Несмотря на все усилия удержать место боя, арьергард был оттеснен к городу. Там уже укрепился отряд Барклая, и ружейный огонь из передних домов, из-за заборов полетел на подмогу теснимым неприятелем рядам. Но все оказалось тщетным. Французы, усилив натиск свежими войсками, вломились в Эйлау.
Пули посыпались градом из окон, из-за углов, с крыш домов — неприятель уже завладел городом. Приходилось уступать ему каменные строения, на которые так рассчитывали обороняющиеся.
Уже пал, раненный, генерал Барклай. Были убиты или тяжело задеты осколками ядер и пулями многие наши солдаты и офицеры. Улицы сплошь оказались завалены телами русской и вражеской пехоты.
Полки Багратиона, войдя в город, вынуждены были его оставлять шаг за шагом. Но в сей трудный момент на окраине показалась свежая пехотная дивизия, которую привел сам Беннигсен. Он приказал Багратиону вновь во что бы то ни стало овладеть городом.
Князь Багратион, не сказав в ответ ни слова, слез с лошади и, став во главе первой колонны, повел ее обратно в Эйлау. Все Другие колонны пошли за ним спокойно и без шума. Но когда оказались уже на улицах, разразилось громогласное «ура», с которым пехота наша ударила в штыки.
Ночь прекратила битву. Город остался за русскими войсками. Но впереди еще был один день сражения не на жизнь, а на смерть.
Позже Наполеон, вспомнив об этой битве, скажет, что он потому решил считать сражение под Эйлау Своею победою, что утром русские почему-то ушли со своих позиций. На самом же деле возобновить сражение оказалась не в состоянии ни та, ни другая сторона.
Глава четырнадцатая
Какой бы поразительной выдержкой ни обладал Багратион, по нескольку суток почти без сна, не раздеваясь и не заходя в тепло, переносить все неимоверные тяготы долгих переходов и беспрерывных боев, но и он в десятидневных сражениях, которыми в середине июня окончилась война в Восточной Пруссии, казалось, истощил свои силы.
Всегда бодрый, всегда неуемный, всегда выше всяких опасностей и бедствий, как вспоминал неотлучно находившийся при нем его адъютант Денис Давыдов, князь, подобно своим подчиненным, изнемогал от усталости и изнурения. Сподвижники его, тогда только начинавшие знаменитость свою — Раевский, Ермолов, Кульнев и другие, — исполняли обязанности уже через силу: пехота едва тащила ноги, всадники же дремали, шатаясь на конях.
Однако еще зимою, сразу после битвы при Прейсиш-Эйлау, невиданной по своему кровопролитию и удивительному упорству с обеих сторон, будущая летняя кампания виделась как кампания победная. Беннигсен, считая Эйлау своею бесспорною викторией, заранее приглашал царя к весне прибыть в действующую армию, чтобы стать, как казалось главнокомандующему, свидетелем его новых, куда более блистательных свершений.
Мало того, главнокомандующий повелел в честь зимней кампании выбить специальную медаль с собственным изображением и надписью: «Победитель непобедимого». Под «непобедимым» имелся в виду не кто иной, как Наполеон.
Армия знала цену беннигсенскому дарованию. При Пултуске он разбил не самого французского полководца, а одного из его маршалов, Ланна, притом имея более чем двойное преимущество перед ним.
Прейсиш-Эйлау, несмотря на бесподобные мужество и отвагу русских войск, тоже нельзя было зачислить по реестру беспроигрышных сражений. А уж поведение самого главнокомандующего накануне и во время битвы вызывало среди определенного числа генералов и офицеров порицание.
Зачем, к примеру, следовало так долго отступать, выбирая якобы идеальное, без всяких естественных преград место для будущего сражения, недоумевали в окружении главнокомандующего. Как будто за семь лет перед тем, при Суворове, не велись бои в Альпах, где ущелья, пропасти, потоки и даже заоблачные выси не мешали ни оборонительным, ни наступательным действиям. А в итоге, вопреки всем предосторожностям, бой здесь пришлось непредвиденно принимать в тесных уличных стремнинах города, где стрелял каждый дом.
Да и в самом сражении этот военачальник проявил удивительное сочетание безрассудной опрометчивости с беспомощной нерешительностью. Так, в самый разгар боя, уже на второй его день, Беннигсен покинул сражение, решив отправиться за одному ему известными подкреплениями.
Чтобы упредить молву, что могла дойти из армии до Зимнего дворца, и добиться от царя свежих резервов для летней кампаний, главнокомандующий спешно отрядил в Санкт-Петербург Багратиона. Князь был далек от разговоров и пересудов, которые велись в главной квартире, он безвылазно находился в боях. К тому же, зная высочайшую честность и правдивость Багратиона, Беннигсен полагал, что он-то в Зимнем не станет наушничать за его спиною; И, зная к тому же горячность и настойчивость князя, его короткое знакомство с императором и великим князем Константином Павловичем, Леонтий Леонтьевич был убежден: Багратион, ярый сторонник наступления, успешно выполнит свою миссию.
Всего две недели ушло на вояж в столицу, и Багратион возвратился к театру войны во главе своего лейб-гвардии егерского полка — до таких масштабов был теперь доведен его батальон. Следом же за ним вышли из столицы на подкрепление действующих войск и другие полки императорской гвардии во главе с цесаревичем Константином Павловичем.
Казалось, все сделано, все предпринято для грядущих успехов, в том числе выиграно время, необходимое для отдыха и перегруппировки армии. Только и тут, на самом пороге Долгожданной виктории, коей можно было завершить всю войну, беспомощность и нерешительность Беннигсена привела к позорнейшему конфузу, заслонившему собою еще не изжитую страшную тень Аустерлица.
Фридланд — вот имя того места, где главнокомандующий русских войск так губительно расположил все силы и действовал так сверхосторожно и нерешительно, что позволил Наполеону собрать всю его мощь в кулак и оттеснить русских к реке Алле.
А дальше произошло самое страшное — войска были расстреляны в упор артиллерийским и ружейным огнем. Чудом уцелевшие гибли в воде, не находя переправ, о которых заблаговременно не озаботился главнокомандующий.
Победители гнали остатки разбитых полков к Неману — к самой нашей границе. И если бы не арьергард Багратиона, французы так, на плечах бегущих, ворвались бы в пограничный Тильзит.
Войскам князя, как когда-то под Шенграбеном, тоже от безвыходности крайней и отчаяния, было поручено: самим умереть, но выручить из погибели то, что осталось от некогда сильной армии.
Государь, прибывший еще весною к войскам, оказался в страшном смятении. Аустерлиц был позором. Но Фридланд мог означать большее — перенесение войны в российские пределы. В главной квартире уже подсчитали: если не остановить войну, через неделю-полторы Наполеон окажется в Вильне.
«Немедленное перемирие, а затем — и мир! — преодолев стыд и позор, потребовал от царя Беннигсен. — Дайте мне право вступить, в переговоры».
Александр Павлович ответил ему письмом, исполненным нескрываемого раздражения:
«Вверив вам армию прекрасную, явившую столь много опытов храбрости, весьма удивлен я был ожидать известия, какое мне ныне сообщили. Если у вас нет другого средства выйти из затруднительного положения, то разрешаю вам сие, но с условием, чтоб вы договорились от имени вашего… Вы можете посудить, сколь тяжко мне решиться на такой поступок».
Брат царя не был трусом — он не раз доказал свою личную отвагу в походах Суворова и при Аустерлице. Но теперь иного выхода, чем немедленное примирение, он не видел.
— Ваше величество! — бросился к Александру Константин. — Если вы не в силах преодолеть себя и не желаете заключить мира с Францией, то есть один выход. Велите выдать каждому из ваших солдат хорошо заряженный пистолет и прикажите им пустить себе пулю в лоб. В этом случае вы получите тот же результат, какой вам дало бы новое, и последнее в вашей жизни, сражение.
А гонец Беннигсена уже мчался к Багратиону с письменным повелением войти через специально посланного офицера в сношение с французами и предложить им переговоры.
Согласие было получено немедленно от самого Наполеона, но его авангард продолжал теснить Багратноновы полки. Армия, пройдя Тильзит, уже была в безопасности на противоположном правом берегу Немана. Багратион приказал переправить через мост всю свою артиллерию и конные части. В городе, под рукою князя, оставались лишь егерские полки и часть казаков, а мост был приготовлен к тому, чтобы его зажечь.
Неприятельская армия почти в полном составе вплотную подошла к Тильзиту и со своего левого, высокого и холмистого берега как бы нависла и над храбрецами Багратиона, и над всеми русскими войсками, расположившимися вдоль правого, низкого и лугового, берега.
Егеря отходили в полном порядке, прикрываемые несколькими десятками казаков, которые ружейным огнем не давали приблизиться к мосту неприятельским фланкерам. Но вот и казачьим разъездам был отдан приказ князя:
— Отходить! Быстро на мост!
Команда вышла в самый аккурат — со стороны неприятеля через весь город неслись французские драгуны. Казаки скакали во весь дух, не замечая, что передовой из преследователей, с саблею наголо, был сам маршал Мюрат. Но казаки уже успели перескочить на русский берег, когда Мюрат взлетел на мост. И тут мост обнялся пламенем, чуть ли не под самою мордою лошади отчаянного кавалериста.
Мюрат поворотил коня назад и шагом направился в город.
Неман разделил сражавшихся. Но он же, всего через каких-нибудь несколько дней, на целых пять лет объединит их в союзе и мире.
Сохранись в целости мост, Багратиону не пришлось бы сейчас, как, впрочем, и всем, с этого, правого берега добираться на левый в лодке. Но моста более не существовало — над широкою гладью реки устрашающе торчали сгоревшие остатки.
Глядя теперь на спаленные по его же приказу фермы, перила и настил, Петр Иванович с сожалением, в который уже раз, подумал о том, как безжалостна война к человеку и ко всему тому, что на протяжении десятилетий и даже веков создается целыми поколениями людей.
Однако война, как это ни противоречиво, суть защитница всего живого. Взять хотя бы вот этот мост. Разве не затем был он порушен, чтобы ценою его уничтожения остановить здесь, на берегах Немана, ужасающий вал войны, что готов был ворваться в пределы отечества и затем покатиться по его просторам в глубь империи, круша и испепеляя все на своем пути?
Посему — все свершено было правильно. И жертвы, что приносит войн и приносит его отечество, как бы они ни были печальны и непоправимы, полагают прекращение жертв более обильных.
Но где предел этим жертвам? Сколько их следует принести, чтобы навсегда отвратить беду горшую, погибель неминучую?
Лодка, в которой сидел Багратион, как раз проплывала невдалеке от плотов, на которых высились два четырехугольных, обтянутых белым полотном павильона. Спешно сооруженные французскими инженерами, они третьего дня стали пристанищем двух императоров, впервые здесь, на самой середине Немана, подавших друг другу руку дружбы. В тот достопамятный день в лодках они отчалили одновременно — каждый от своего берега — и встретились вот здесь, чтобы отныне утвердить между своими державами мир.
Противоречивое чувство владело тогда Багратионом. С одной стороны, было очевидно, что армия наша проиграла войну и теперь не в состоянии ее возобновить без риска потерпеть еще более жестокое и более унизительное поражение. С другой же стороны, чувство войска побежденного, но дравшегося храбро и отважно, не могло согласиться с поражением, жгло обидою и болью: зачем же тогда были огромные понесенные нами жертвы, коли война не завершена победою? И кто с уверенностью может свидетельствовать, что война вот здесь, на этих берегах, остановилась навечно и России более не будут угрожать орды галлов, под водительством генерала Бонапарта заполнившие собою всю Европу?
В момент первого свидания императоров Багратион стоял на берегу в числе немногочисленной свиты, провожавшей государя. Все были в парадной форме. На Александре Павловиче был Преображенский мундир. Аксельбант — на правом плече. Панталоны белые, лосиные, ботфорты — короткие. Шляпа — высокая, с белым плюмажем по краям и черным султаном на гребне.
А он, каков он, тот человек с громкою славою величайшего полководца, который выехал из Тильзита? Лодка Наполеона причалила к плоту первою на самое короткое, казалось, мгновение, но его оказалось достаточно, чтобы на помост он вскочил первым и подал руку нашему государю.
Сей факт неприятно кольнул. Искус внимательно рассмотреть того, кто оказался первым, пересилил. Багратион навел подзорную трубу и увидел человека небольшого роста в конно-егерском мундире. Императоры тут, же обнялись и прошли в отведенный им шатер, на котором красовались изготовленные в форме золотых вензелей начальные литеры их имен.
Стремнина Немана была избрана территорией нейтральною. Ныне же таким местом стал сам город Тильзит, куда переехал русский император с самым ближайшим своим окружением и частью гвардии в качестве почетного эскорта.
Русские генералы и их адъютанты появлялись в городе лишь в случае надобности по службе. Багратион не был определен участвовать в переговорах — их вели министры и высшие дипломатические чиновники, такие, к примеру, как князь Куракин, вызванный спешно из Вены, куда около года назад он был назначен российским посланником. Его и хотелось теперь повидать Петру Ивановичу. А кроме того, Багратиона потребовал к себе в Тильзит и великий князь Константин Павлович.
Дом, который занимал император Александр, находился на главной улице и отстоял от дома, занятого Наполеоном, саженях в восьмидесяти или в ста. Он был двухэтажный, хотя весьма небольшого объема. Парадное крыльцо его, довольно тесное, все же было украшено четырьмя колоннами. Вход на это крыльцо был прямо с улицы, по трем или четырем ступеням, между, двумя средними колоннами. А уже из сеней внутрь помещения вели три выхода. Один — в правые, другой — в левые комнаты нижнего этажа и третий. — вверх по лестнице. Там, в верхнем этаже, и располагался сам государь, тогда как внизу были помещения дежурных и покои великого князя.
Константин Павлович был у себя не один, а в компании статного и очень красивого французского генерала, к тому же, непривычно для военного, экстравагантно экипированного. Начать хотя бы с того, что его черные волосы великолепными длинными локонами спускались до плеч, придавая лицу торжественную театральность. На нем была небрежно накинутая пурпурная мантия, в то же время дающая возможность разглядеть его вышитый золотом и усыпанный бриллиантами мундир. Генерал сидел на тахте, рядом с цесаревичем, не в позе гостя, а скорее хозяина — свободно откинувшись на спинку и вытянув вперед, чуть ли не на середину комнаты, длинные и стройные ноги, обутые в красные атласные сапоги с золотыми кистями.
— О, князь Петр Иванович, ты очень кстати! — воскликнул цесаревич, встав и протянув руку вошедшему. — Позволь представить тебе одного из самых доблестных французских военачальников маршала Франции Мюрата. — И, обращаясь к гостю, закончил по-французски: — Принц Мюрат — принц Багратион.
Будто за минуту до этого в госте не было никакой вальяжности и позы — так живо, просияв лицом, вскочил он с дивана.
— Багратион? Сам? О, сколько же времени я ждал знакомства с вами, мой дорогой принц и блистательный русский генерал!
Багратион едва успел разобрать потоком устремившиеся восторги по его поводу и, забыв свою осторожность в отношении французского языка, отвечая улыбкою на улыбку, произнес:
— Простите, ваше сиятельство, но мы не просто ждали оба этой встречи, мы все время, насколько помню, стремились навстречу друг другу.
— Отлично сказано! — выражая неподдельный восторг, Мюрат раскрыл объятия и заключил в них своего недавнего и самого непримиримого противника. — Шенграбен! Разве нам с вами его забыть? Не правда ль, мы были достойны друг друга в той жаркой, явившей образцы наивысшей храбрости наших воинов, битве, которая всегда останется в веках. А здесь, в Пруссии! Я хотел бы увидеть того лжеца и хвастуна, кто осмелился бы оспорить, что именно Багратион с Мюратом украсили своею доблестью только что замолкшую битву. Не так ли, мой дорогой принц?
— Ваше императорское высочество, — продолжая улыбаться, Багратион обратился по-русски к цесаревичу. — Мне, право, неудобно от сих похвал. Посему, если не соизволите счесть слишком дерзкой мою просьбу, передайте маршалу Мюрату, что я охотно уступаю ему первенство в нашем с ним ратном соперничестве. Тем более что здесь, в Тильзите, я не был столь галантен, чтобы пойти к нему навстречу, когда он, Мюрат, к сему так пылко стремился.
— Говоришь, пылко? — не сразу уловил суть сказанного Константин Павлович и вдруг, хлопнув себя по лбу, громко захохотал: — Ай да князь, ай да милый друг, удружил: знай наших! — и передал Мюрату слова Багратиона, продолжая смеяться от всей души.
Лицо Мюрата преобразилось и на мгновение приняло недавнее театрально-торжественное выражение. Но даром ли он был по рождению гасконцем, чтобы полезть за словом в карман! Услышав слова великого князя, он вспомнил тот день, когда почти ворвался на мост, вспыхнувший прямо у морды лошади.
— Ах, как удачно сказано, дорогие мои друзья! — отбросив условности этикета, Мюрат обнял за плечи своих новых друзей. — Обещаю, принц Багратион, передать вашу блестящую остроту моему шурину императору Наполеону. Лучшей оценки моей безрассудной храбрости, клянусь, и он не способен был придумать. А ведь это и в самом деле здорово: пылко — значит, в самое пламя!
— Чего не сделаешь, когда стремишься навстречу дружбе, — поддержал Мюрата новым взрывом смеха великий князь и, обернувшись к Багратиону: — Однако ты, князь Петр Иванович, мог бы сию пылкость счесть за пламенное желание маршала увеличить на одного человека число твоих пленных?
— О нет, ваше высочество, на пылкость чувств всегда следует отвечать тою же монетой, — поклонился Багратион.
— Вижу, вы оба довольны, что я так коротко свел вас. Два героя — и два рыцаря. А что, не отправиться ли нам, господа, в какой-нибудь погребок, чтобы отметить сие достославное событие?
С живостью, ему свойственной, маршал Мюрат тут же одобрил предложение. Багратион меж тем уклонился.
— Искренне прошу прощения. Я спешу к князю Александру Борисовичу.
— Знаю тебя, застольника, — произнес цесаревич. — По темпераменту и облику своему — ты чистый француз. Но вот что до бутылки вина, тут ты пас. — И что-то припомнив: Да, князь Петр Иванович, я передал тебе приехать ко мне по делу. Тут тебе, брат, письмо.
«От кого? — пронеслось в голове Багратиона. — И почему через цесаревича?» Но когда увидел конверт, взволновался еще более: от великой княжны Екатерины. Третье за последние две недели! Первое и второе он получил через главную квартиру. И вот теперь — снова от нее весть, только уже через брата.
Смущение русского генерала не укрылось от проницательного гасконца.
— Бьюсь об заклад — письмо от дамы! И к тому же — дамы сердца.
Цесаревич неожиданно произнес:
— Это письмо принцу Багратиону от моей сестры.
Все в одну секунду отразилось на выразительном и живом лице гостя — растерянность и смущение, недоумение и нескрываемое восхищение.
— О ля-ля! — наконец характер француза взял верх. — Простите мою нескромность, с которой я вступил в разговор. Но не могу удержаться, чтобы не высказаться со свойственною мне прямотою: одна лишь строчка этого послания делает вам, храбрейший из храбрых, великую честь. Я вспоминаю те дни, когда я и Каролина безумно влюбились. Тогда Бонапарт не был еще императором. Мы оба с ним были генералами. Но он отдал свою сестру за меня, простого офицера. В вашем же случае… О, я поздравляю, принц…
Великому князю следовало остановить вновь разразившийся поток красноречия. Но он сделал это на редкость учтиво:
— Представляю, принц, как и теперь, по прошествии времени, вы обожаете свою жену.
— О, ваше высочество, обожать — не то слово. Я боготворю мою милую Каролину, — подхватил зять Наполеона. — И она, вне всяких сомнений, заслуживает моего чувства. Нет и не может существовать на свете другой женщины, которая была бы так ослепительно красива и в то же время так безгранично верна тому, кому отдала свое сердце. Но как она тоскует одна без меня, лишенная возможности, всякий раз вспоминая своего горячо любимого мужа, страстно его обнять и прижать к своей груди! Разве могут письма заменить и выразить всю силу страсти? А нам, солдатам, так редко приходится быть рядом с теми, кто только и мечтает о нас.
Глава пятнадцатая
Найти князя Куракина оказалось делом нетрудным — и русские и французы, коим обоими императорами было поручено составление условий мирного соглашения, собирались в доме, что находился совсем невдалеке от императорских резиденций. Так было удобно: в любой момент советники оказывались под рукой.
По счастью, Александр Борисович только что вышел с совещания, на котором обсуждался какой-то важный пункт меморандума императоров, и с оживлением обратился к гостю:
— Как я рад вам, князь Петр Иванович! Будто само небо послало вас ко мне, каторжнику, прикованному к галерам. Вы и представить себе не можете, какое это сущее наказание — сочинять, обсуждать, спорить, доказывать… По мне ли такое в мои пятьдесят пять годков? Да, мой ум, мои знания и опыт — не чета многим и многим, что всегда — на глазах государя. Но как иногда с наслаждением хочется найти себя вдали от суеты, в желанном моему сердцу лучезарном тихонравии!
Как и многие баловни еще того, екатерининского века, Александр Борисович был красив, атлетически сложен. Но тяга к элегически спокойному тихонравию, а ежели выразиться попрямее, — роскошь и сладострастие с годами размягчили его телесную и душевную сущность. И заменили некогда молодую энергию и живой, хотя не очень глубокий ум неким эпикуреизмом, что по-русски вернее было бы выразить другим словом — лень.
Когда-то великая Екатерина выбрала братьев Куракиных, Александра и Алексея, товарищами детских игр своему сыну. Старший, Александр, скоро стал любимцем Павла, всегда готовый во всем с ним согласиться и во всем услужить. Позже, в юности, старший Куракин с охотою даже закладывал родовые свои имения, чтобы ссудить великого князя деньгами, коих тому всегда не хватало. Но при сумасбродном друге-императоре даже и сия верность не давала возможности сделать карьеры — так, шатание из одной комиссии в другую, вроде бы всегда при деле, но — не министр, даже не посол.
Впрочем, не все следует списывать на счет необычных качеств характера несчастного императора — не вина ли в том самого эпикурейца, коий всякому делу — сызмальства предпочитал лучезарное тихонравие?
И еще наложила свой след на его жизнь страсть другая — склонность к пышности.
О, сия черта закрепила за ним в свете даже постоянное прозвище — Бриллиантовый Князь. Чуть ли не все алмазы, золото, дорогие камни, что значились в его состоянии, он постоянно носил на себе. Его камзолы были залиты золотым шитьем, на руках — браслеты, перстни и кольца, каким и цены нет…
Вот и теперь он сидел пред гостем в камзоле, сплошь сверкавшем изумрудами и золотом.
«От одного павлина к другому», — незлобиво отметил про себя Багратион, вспомнив разодетого в пух и прах, так же тщеславно гордящегося своим богатством и положением маршала Мюрата.
— Ну как Вена, как ваш высокий пост, что вверил вам государь? — произнес гость, чтобы скорее приблизиться к предмету, ради которого он приехал сегодня в Тильзит.
Эпикуреец оживился, точно ждал сего вопроса, но тут же по его породистому лицу промелькнула легкая тень.
— Вот где я нынче обязан быть — при австрийском дворе, а не слюнявиться здесь с медоточивыми месье, нашими новыми друзьями, — почему-то оглядываясь на дверь, чуть ли не шепотом произнес Александр Борисович. — Меня вызвал сюда государь. Честь, не спорю, великая. А поручения, кои дала мне императрица Мария Федоровна, как забудешь о них? Вот и маюсь я здесь, плохо сплю, все тревожусь: что подумают обо мне супруга покойного императора, моя благодетельница, и ее дщерь, о коей все мои помыслы и старания.
Еще раз Александр Борисович покосился на дверь и поманил пальцем гостя, чтобы тот переместился со своим креслом ближе к нему.
— Только зная особо доброе к вам отношение императрицы Марии Федоровны и великой княжны Екатерины Павловны, могу довериться: речь идет о сватовстве ее высочества. И посватать я был обязан ее за императора Австрии Франца. Да-с, таково ко мне высочайшее поручение.
«Как? — пронеслось в голове Багратиона. — Екатерина, Катиша должна стать супругою этого безвольного, дурного, плешивого и тщедушного существа? — Он вспомнил Франца под Аустерлицем, и сии воспоминания о трусливом, лишенном всякой энергии человеке повергли Багратиона в уныние и печаль. — Да знает ли сама великая княжна, за кого ее хотят выдать? Это ее-то, полную противоположность суженому, с ее высоким духом и острым умом, с ее независимой силой воли?»
Не скрывая своей досады и ничуть не заботясь о том, что он может каким-то образом выдать и свое чувство к великой княжне, а главное — ее отношение к нему самому, Багратион в нелицеприятных тонах дал характеристику будущему жениху.
— Спасибо, спасибо вам, любезный князь, что вы откровенностью ответили на мою к вам доверительность! — воскликнул эпикуреец, за минуту до того, казалось, впавший в совершенное расстройство чувств. — Должно быть, вы говорили здесь с государем о той августейшей особе, о которой у нас с вами речь? Не случилось? Но поверьте: вашими же выражениями характеризовал ту августейшую особу и наш государь, когда я был вынужден ему признаться о моей роли в сем щепетильном предприятии. Вероятнее всего, дело отпадает. Я так и отпишу Марии Федоровне: и я сам, ее раб, такого же мнения, что и государь, женихов надо искать мне, грешному, в иных землях… Но что сама великая княжна? Каково ее отношение к сему предмету? Представьте, князь, несмотря на мои просьбы, кои я не раз высказывал в письмах Марии Федоровне, чтобы Катерина написала мне, — от нее ни строчки. Уж, не дай Бог, не больна ли?..
— Да нет, любезный князь Александр Борисович, рад заверить вас, что княжна — в добром здравии, — произнес Багратион. — Я, уже будучи здесь, получил от ее высочества три письма.
— Да? — не скрыл удивления Куракин. — Впрочем, у вас с ее высочеством, ходят слухи, весьма — как бы это сказать? — небезразличные друг к другу отношения.
— Совершенно верно, ваше сиятельство, — согласился Багратион, хотя при этом густо покраснел, — между нами отношения понимания и доверительности. Я знаю княжну с ее отрочества. Вот с тех пор и возникла наша дружба, если я вправе так назвать расположение ее высочества к моей особе.
Массивное кресло под грузной фигурою Александра Борисовича грустно скрипнуло — так он резко вышел из полудремы, хотя уловил каждое слово собеседника.
— Ах, эти женщины! Кто разберется в том, что таится на дне их сердец? — вздохнул он. — Кстати, вам кланяется ваша супруга. И как я, старый болтун, заговорил вас, когда вы, верно, только затем ко мне и зашли, чтобы из верных рук узнать о княгине.
Кровь вновь прилила к лицу Багратиона. «Наконец-то не из случайных писем, не из отрывочных разговоров сторонних людей, а вот так — из первых, как говорится, рук, от человека, с которым знаком уже давно. Ну так как же она, когда намерена возвернуться?» — так и рвалось у него изнутри.
— Ах, как это неприятно, всякий раз говорить близким о том состоянии, в коем могут находиться их родственники! — опять вздохнул Александр Борисович, но на сей раз притворнее обычного. — Здоровья, как говорится, не купишь, а у нее, сердешной, княгини Катерины Павловны, — и душа, и субстанция ее покойного отца. Не хотела бы жаловаться, да природа дает о себе знать.
Багратион в тревоге подался вперед:
— Что с нею, моей женой? Крайне нездорова? Так она мне о сем — ни строки…
— В том-то и дело, любезный князь Петр Иванович, кто же отважится лишний раз расстроить сердце любимого мужа своими хворостями. К тому же сердце человека, все время находящегося в войнах, посреди смертей и страданий. Что же проку в том, чтобы лишний раз расстроить вас, кто и так подвергает себя постоянно одним лишь опасностям. Мне, всю жизнь прожившему в одиночестве, бобылем, и то сие бережливое отношение супругов друг к другу весьма и даже очень тонко доступно.
Александр Борисович был старым холостяком. Однако это не мешало ему иметь потомство незаконнорожденное. Как уверяли люди, посвященные в его амурные дела, числилось за ним до семидесяти побочных детей. Из сего опыта, что составляет тайное тайных, выработалось в нем своеобразное отношение к амурным делам посторонних. А попросту говоря — слыть доверенным других, никогда, не выдавая их тайн. Вот и теперь, сидя перед Багратионом, старый, царедворец лукавил как бы за двоих сразу: за себя — дипломата, и себя же — греховода, и с огромным, так сказать, послужным списком.
Пред ним мысленно предстал их недавний с княгинею разговор. Княгиня Багратион только что вернулась из Карлсбада, оживленная и полная впечатлений.
— Представьте, на водах я встретила древнее сокровище — немецкого поэта Гете. Так его, кажется, зовут? — кокетливо щебетала она. — Так он совершенно потерял голову, влюбившись в меня. Он сравнил мои плечи с алебастром или с чем-то другим, уже не помню. Но знаете, все, с кем я встречалась на водах, принимали меня за девочку. Скажем, за одну из дочерей то какого-нибудь немецкого барона, то старого французского маркиза, то какого-нибудь русского графа.
— Так что же передать мне вашему мужу, когда я его встречу в свите государя? — задал Александр Борисович вопрос, заранее зная на него ответ.
— Как что? — Глаза ее широко открылись, излучая свет неба, затем прищурились. — Передайте, что я была на водах. Разве это не красноречивое подтверждение того, что я стараюсь внушить каждому соотечественнику, с кем только встречаюсь: я чахну, жизнь моя истончается, и если бы не солнце Неаполя, куда я наезжаю, и воды Германии, одному Богу известно, как бы я дотянула до сих дней.
— Но вы ведь до сих пор — жена князя, — продолжал свою игру Александр Борисович. — Так что…
— Ах, как кстати вы мне напомнили о моем положении! — подхватила она на лету мячик, ловко направленный в ее руки. — Передайте князю, чтобы он сам не забывал об этом. Я жду от него денег. Вы знаете, сколько уходит их на одни мои поездки! А другие расходы?
Вся Вена уже говорила о роскошном доме, который недавно купила княгиня и где она дает приемы, устраивает маскарады и балы, чуть ли не затмевающие своею пышностью вечера у эрцгерцога Андреаса. Они теперь как бы два притягательных полюса в австрийской столице — красавица русская княгиня и русский граф, не пожелавший отправиться послом в Лондон, так и оставшийся в любимом городе.
Сейчас, рассказывая Багратиону о его жене, новый наш посол старательно обходил то, что могло бы выдать хотя бы намеки на правду. И — только вздохи, только сетования на то, как обидно случается в жизни: красавица жена — и вот такое несчастье.
— Я упрошу государя, чтобы его величество предоставил мне немедленно отпуск. Тотчас — в Вену, к ней! — решительно встал с кресла Багратион.
Куракин вздохнул:
— Ах, как я люблю вас, милейший князь. Поверьте, нет ничего на свете, чего бы я не доверил вам. Мой разговор с вами о моей миссии по воле императрицы в Вене — тому доказательство. Открою же я вам и другую тайну. На сей раз — еще более конфиденциальную: скоро будет война. С ними, французами? О нет. На сей раз — со Швециею: нам нужна ее Финляндия. И Наполеон дал нашему государю в этом смысле карт-бланш. Так что, князь, не сегодня завтра вы вновь обнаружите себя на военном театре. А я уж, поверьте, замолвлю за вас: чтобы поручили вам дело в полном соответствии с вашими блестящими способностями.
— Так, выходит, советуете выслать княгине деньги?
— Вы правильно поняли меня, — обрадовался посол. — И не медлите. Помните о том, что я доверил вам. Во мне вы всегда найдете друга.
Беседа с Багратионом так утомила старого дипломата, что он захотел тут же прилечь и часок-другой соснуть. Однако пересилил себя и подсел к бюро. Взял чистый лист и со всею тщательностью вывел на нем:
«Ваше императорское величество императрица Мария Федоровна! Умоляю вас выразить от меня ее высочеству великой княжне Екатерине Павловне мое крайнее огорчение в том, что она до сих пор не почтила меня ни одной строчкой, между тем как князь Багратион получил от нее, как он мне сам говорил, уже три письма…»
Не правда ли, чем-то напоминает донос?
Но что вы, как можно! Князь Куракин оскорбился бы смертельно, узнай об этом предположении. То ж крайнее выражение преданности и самой что ни на есть верноподданнической любви.
Другой, человеческой, душевной любви сей князь, неженатый, но имевший заместо семьи кучу внебрачных сыновей и дочерей, просто не знал. Не дано было.
Глава шестнадцатая
Финские сани с длинными полозьями остановились возле древнего королевского замка времен Эрика Четырнадцатого. Молодой штабс-ротмистр лейб-гусарского полка, выскочив из них, бросился к дверям.
Гусару было не более двадцати трех лет, и его круглое, с едва пробившимися усиками лицо излучало высшую степень гордости. Еще бы, не прошло и полутора годов, как он зачислился в действующую армию, а уже с двумя крестами на шее и с двумя на красном ментике!
— Простите, — обратился он с ходу к какому-то офицеру, выходившему из замка, — не будете ли вы столь любезны указать мне, где сыскать начальника двадцать первой дивизии?
— Князя Багратиона? — переспросил офицер. — Он в доме губернатора. Нынче там будет бал, потому их сиятельству угодно убедиться самому, все ли приготовлено в должном виде.
«Чепуха какая-то! — вновь уселся в сани гусарский штабс-ротмистр. — Явно поручик принял меня за мальчишку и посмеялся надо мною. Ежели бы я так не спешил, непременно потребовал бы у этого нахала удовлетворения. Князь Багратион — и губернаторский бал! Что может быть нелепее и глупее, когда здесь, среди финских хладных скал, гремит суровая война?»
В обществе двух-трех русских офицеров и губернатора города Або Петр Иванович действительно оказался в зале. Он медленно ходил вдоль стены, на которой были развешаны картины в тяжелых золотых рамах, и останавливался то у одного, то у другого полотна.
Иногда, заинтересовавшись работой художника, он то отходил от холста на несколько шагов, чтобы сразу охватить запечатленный сюжет, то, напротив, приближался вплотную и тогда, верно, силился проникнуть в секреты техники живописца. Так обычно знакомятся с картинами те, кто сам не лишен художнического дара и кто каждую встречу с произведениями искусства воспринимает как возможность обогатить свой собственный опыт.
Неожиданно князь повернул голову с шапкою черных, слегка вьющихся волос в сторону вошедшего:
— Давыдов, ты ли, душа моя?
— Так точно, ваше сиятельство! Вернулся из отпуска и вот — снова в вашем распоряжении. Какие, Петр Иванович, будут ваши приказания?
— Сразу — и приказания? — Глаза Багратиона вспыхнули сотнями искр. — Чай, спешил сюда из Москвы и думал: тут, на берегу Балтийского моря, средь океана диких лесов — невиданные сражения, а я, гусар, дескать, едва расстался с угаром московских увеселений. Разве не так? А приехал — у нас у самих бал за балом. Да-с. Так что первый приказ вам, господин штабс-ротмистр: к вечеру быть в зале в парадной форме.
Весь вечер из головы не выходили беспокойные мысли. В самом деле, зачем было лететь стремглав в край хмурых лесов, топких болот и глубоких снегов, чтобы кружиться в вальсах и мазурках здесь, когда в Москве подобные увеселения — на нашу, русскую, руку — шумны, роскошны и, сверх того, полны поэзиею. А что же здесь, в Або, небольшом финско-шведском городке, застывшем на самом стыке Финского и Ботнического заливов? Неловко прыгающие под музыку раскрасневшиеся от возбуждения и счастья чухоночки, довольно, впрочем, свеженькие и хорошенькие. Но стоят ли они ружейных выстрелов, ради которых он, штабс-ротмистр Денис Давыдов, уже крещенный огнем под Прейсиш-Эйлау и Фридландом в Восточной Пруссии, покинул шумную первопрестольную российскую столицу? Нет, рано поутру — к князю, и обо всех сомнениях ему, как на духу!
За окнами — серый приполярный сумрак, а Багратион, словно и не ложился со вчерашнего вечера, — одет, как всегда, по полной форме. На столе пред князем — ворох бумаг да карта, которую рассматривает, будто вчерашнюю картину.
— Гляди, Денис Васильевич, — встретил генерал своего адъютанта. — Вот здесь — один клок, тут — другой, еще ниже — третий, — рука Багратиона с северного обреза карты переместилась к западному и скользнула к южному. — Это — клочья моей дивизии, разодранной на части. Причем у каждого клока — своя задача. На севере Раевский и еще напереди его Кульнев ведут жаркие бои. Ближе к нам другие мои отряды несут наблюдательную службу: не появятся ли со стороны самой Швеции подкрепления. Ну а сам я — танцую!
От волнения у Дениса пересохло во рту, и он нервно облизнул губы, тоже склонившись к карте.
— Простите, ваше сиятельство, тогда самый верный маневр — ударить всей силою на Улеаборг! Пока ехал — по всему пути только и слышал в войсках: разбитые финны стекаются к Улеаборгу. Вот туда бы — и раз!
— Вот ты, сорванец, прости меня, ты — стратег. А он, генерал от инфантерии Фридрих Вильгельм фон Буксгевден, кто, по-твоему? То-то и оно, душа моя… Я с ним еще в начале кампании, только перешли пограничный мост в Абборфорсе, — до хрипоты схватился: не версты пройденные станут венцом похода, а сколько неприятелей выведем из строя! Чем быстрее не станет у них армии, тем скорее окончим войну. И тогда все версты, что протопали, — наши. И — уже навечно. Так нет же, Денис Васильевич, и теперь сего стратега не убедить в том, что ты, юнец, оценил с ходу. Вот тебе бы и командовать войском, — усмехнулся князь.
В горле совсем пересохло, и Денис сглотнув слюну, решился:
— Петр Иванович, ваше сиятельство, не надо мне командовать войском — сам-один всю жизнь мечтал верхом на коне… Отпустите меня вон туда, где самый дальний ваш клок.
— К Раевскому? — Багратион откинул нависший на лоб смоляной локон. — Обрадовал ты меня, Денис! Я от тебя иного не ждал. Как давеча увидел тебя, угадал: этот не усидит. А и верно, чего на ассамблеях плясать, коли война? Мне, генерал-лейтенанту, командиру дивизии, руки связали, а я тебе, своему адъютанту, их развяжу. Езжай с Богом! А здесь, для танцев, я иного себе помощника сыщу. Вон сколько их, посланных на военный театр по связям да знакомствам — за чинами да адъютантскими аксельбантами с орденами…
Генерал-майор Раевский — черняв, сух телом — удивился, когда увидел пред собою адъютанта Багратиона: — Ты что, Денис, приказ на ретираду привез мне от князя?
— Побойтесь Бога, Николай Николаевич, — засмеялся штабс-ротмистр. — Чтобы Петр Иванович меня с таким донесением да к вам послал? Подмога — другое дело. Принимайте в свои ряды уже обстрелянного и обученного.
Генерал потрепал гусара по плечу:
— Вот это дело — еще один добрый палаш к моим двенадцати пехотным ротам, пяти пушкам и эскадрону конницы!
Денис знал Раевского с детства, как в детстве когда-то получил благословение великого Суворова, сказавшего при всех, указав на мальчугана: «Он выиграет три сражения!» Раевский подобным афоризмом отрока не наградил, хотя, тоже был ласков с ним. А более всего сам Денис, видя в обществе отца таких храбрых воинов, все более укреплялся в своей решимости стать таким же, как они.
Отряд Раевского только что взял Вазу — город на восточном побережье Ботнического залива. Сил для наступления было явно негусто, если бы неприятель вздумал сопротивляться. Но он следовал иной тактике — не нести напрасных потерь в местных боях, а лучше отступить, зато из разрозненных частей сложить увесистый кулак, коим и ударить спустя время по русским.
Однако Раевский так наседал, что, отступая, шведско-финские войска оставляли не только редкие в этих диких местах города, но и несли немалые потери. Так было и здесь, на побережье. Ваза стала большим уроном для врага, и недаром за этот подвиг Раевский получил чин генерал-лейтенанта.
В авангарде доблестного генерала шел отряд Кульнева — четыре роты егерей с одною пушчонкою да парою эскадронов гусар и парою же сотен казаков. Но надо было знать полковника Кульнева, слава о котором уже шла в ту пору по всей русской армии. И Денис Давыдов не сдержался — пустился к нему, на самое острие наступательных действий.
Все говорило о том, что в поселке Калаиоки совсем недавно был бой. Посреди главной площади валялись две или три разбитые конные фуры. В одном месте на снегу сохранились даже черно-бурые следы — там стояло орудие, отложившее на снежном насте пороховую копоть, а рядом остались пятна крови.
Строения, к счастью, не пострадали. В одном из больших домов Давыдов нашел командира отряда.
Кульнев стоял возле плиты и помогал хозяйке что-то готовить.
Росту высокого — никак, наверное, не менее двух аршин и десяти вершков, — он был в мундире, сшитом из солдатского грубого сукна, смешно повязанном по животу женским фартуком, который едва на нем сходился.
Огонь в плите горел весело, на сковороде что-то шипело, пузырилось, и Кульнев, подхватывая со стола то одну, то другую баночку с какими-то специями, сыпал их содержимое на сковородку, к ужасу круглолицей хохотушки-хозяйки.
— Момент, момент! — останавливал он ее галантным жестом, мешая русские и немецкие слова с редкими финскими. — Я не испорчу, фрау. Ах, знали бы вы, какой я мастер маринования и соления грибов и рыбы! В полку, когда выпадают редкие свободные часы, на мои кушанья сходятся все офицеры. О нет, я не хвастаю, фрау. Вы теперь же вместе со мною убедитесь, какой я отменный кулинар. А ну, кликните сына и дочь к столу!
Именно в этот момент в дверях показался штабс-ротмистр, скакавший сюда аж из самого города Або.
Суровое, загрубелое на морозах и ветру лицо Кульнева с длинными висячими усами просияло.
— Вот уж кого не ожидал! — не выпуская из рук перечницу, обнял он друга. И, обернувшись к хозяйке, засмеялся громко и озорно: — Дорогая фрау, я же говорил: когда я готовлю, ко мне слетается весь полк. Представляю вам Дениса Давыдова, моего боевого товарища. За сто, если не более, верст почуял, каков аромат у моего жаркого, и вот он, уже в гостях!
За стол сели так: по левую руку от Кульнева — белобрысая девочка лет десяти, по правую — ее братец годика на два постарше. Дети выглядели скромными и застенчивыми, скорее по своей северной сдержанной натуре. Но видно было, что нисколько не страшились русского полковника. Огромный, с суровым лицом и громким голосом, он их не пугал, а скорее забавлял. Это угадывалось по их детским, исподлобья, взглядам, полным любопытства и восхищения, которыми они одаривали своего русского полковника-постояльца.
— День еще не закатился — всякое может статься в нашей походной беспокойной жизни, посему — только по капочке наливки, — произнес Кульнев, наливая из фляги Давыдову, хозяйке и себе. И тут же — Денису: — Друг любезный, не осталось ли у тебя чего из московских и петербургских сладостей? Конфект каких, а? Очень обяжешь меня, Дениска!
— Есть! Есть пряники.
— Давай неси!
И когда лакомства оказались в больших, грубых пальцах Кульнева, в детских глазах заполыхали такие голубые огоньки счастья, какие, верно, бывают в ночь под Рождество, когда старый и добрый Дед Мороз приносит подарки. А Кульнев теперь за столом и казался таким Дедом Морозом. Только он, как попытался объяснить на своем, смешном для детей, языке, прибыл не из привычной им Лапландии, а из другой далекой, но в то же время близкой страны России.
Скрипнула дверь, и вошел пастор — высокий, средних лет мужчина. Когда подали кофе, он, пользуясь немецким, рассказал только что прибывшему русскому юному офицеру, как дня четыре назад на соседнем хуторе случился переполох. В дом крестьянина вошел русский полковник с грубым, страшным лицом, весь заросший волосами, и резко направился к колыбели ребенка. Сердца у всех, находившихся в помещении, замерли, кровь от ужаса застыла в жилах: что он сделает с малюткою, этот сущий варвар? Но великан склонился над люлькою, и сначала в глазах его, затем на всем лице засияла улыбка. Он нежно погладил ребенка по головке, а затем перекрестил его.
— В моем приходе, — пастор склонился к русскому штабс-ротмистру, зашептав на ухо, — меня просили, чтобы я в своих молитвах непременно поминал добрыми словами вашего Кульнева. И знаете, кто особенно на этом настаивал: пленные, к коим милосердие Кульнева безгранично.
Как было приятно услышать эти слова похвалы о своем друге здесь, в чужой стране, в народе, совершенно иноплеменном и, казалось бы, чуждом! И когда? Середь страшной, жестокой войны! Но таково было обаяние личности Кульнева, что доброта его, открытость и широта сердца одинаково были понятны и дороги не только тем, кто давно его уже знал, но и тем, кто случайно с ним встретился здесь, среди крови и смертей, несчастий и пожарищ войны.
Впервые познакомиться с Кульневым Денису Давыдову довелось в тот печальный год накануне Аустерлица, когда он, разжалованный из кавалергардского полка, оказался в полку Белорусском гусарском. Полк тогда стоял в Сумах, и вот там они встретились — совсем юный поручик и майор, который был старше на двадцать один год.
У поручика, как говорится, молоко на губах не обсохло, майор же участвовал до этого в турецких походах, где был замечен самим Потемкиным, и в Польской кампании, где также удостоился благосклонного внимания великого Суворова.
Но как же несправедливо повернулась позже судьба к блистательно начавшему службу офицеру! Не имей нужных связей, он, уже показавший свою удаль и храбрость, не попал в Итальянский поход, не был я под Аустерлицем. Обделенный, он десять лет прослужил в чине майора, пока не оказался с полком в Восточной Пруссии. Здесь-то, под командою князя Багратиона, Яков Петрович быстро пошел к своей ратной славе, показав чудеса мужества и отваги. И нашли его награды и чины: закончил Прусскую кампанию полковником.
Беспримерная отвага при удивительном хладнокровии — таков был Кульнев в любом сражении.
Но чем этот удивительный человек покорял души людские — так это открытостью своего щедрого и по-детски наивного, безгранично верного сердца.
В Восточной Пруссии между боями Давыдову довелось совсем уж коротко сойтись с Яковом Петровичем, и он узнал о нем много такого, чем нельзя было не восхититься.
Да нет, подобные качества души человеческой требуют не торжественных и чувственных восклицаний, а, скорее, молчаливого преклонения. Достаточно упомянуть, к примеру, как он трепетно заботился о дряхлой своей матери, чтобы понять, какой душевною силою обладал сей муж, казалось сызмальства рожденный гусаром, — иначе говоря, гулякою и рубакой.
Из скудного жалованья майорского, а потом из весьма в то время недостаточных содержаний полковничьего и вскоре же — генерал-майорского он ежегодно и постоянно, до конца своей жизни, уделял треть на содержание матушки, о чем знал весь город Люции в Лифляндии, где она жила.
Другая треть шла у него на необходимые потребности собственной войсковой службы: мундиры, содержание верховых лошадей, конной сбруи и прочее.
Наконец, последняя треть оставалась на пищу, которая, как правило, состояла из щей, гречневой каши, говядины или ветчины. Всего этого готовилось у него ежедневно вдоволь, на несколько человек. «Милости просим, — говаривал он густым и громким своим голосом, — милости просим, только каждого гостя со своим прибором, ибо у меня — один».
Экономия во всем наложила спартанский отпечаток на всю его жизнь. Даже в питейном деле, в коем усердствовал, не роскошествовал. Водку гнал сам и подслащивал ее весьма искусно, изготовляя различного рода наливки.
«Голь на выдумки хитра, — говаривал он, потчуя гостей. — Я, господа, живу по-донкишотски, странствующим рыцарем Печального Образа, без кола и двора. Угощаю вас собственным стряпаньем и чем Бог послал».
От такой донкишотской бедности и скромности — и одежда его, сшитая из солдатского сукна. Но недаром тянулись к нему молодые и пылкие сердца, и не зря коротко сошелся с ним Денис Давыдов, под гусарским доломаном которого жила поэтическая душа. Внешность солдата — одно. Но Кульнев был на редкость образован. Из кадетского корпуса он вышел, отменно усвоив артиллерийскую науку и основательно — полевую фортификацию. Он порядочно изъяснялся на языках французском и немецком, познания его в истории, особенно русской и римской, были на уровне профессорском. Вот почему говорить с ним о событиях древних, о лицах значительных было удовольствием превеликим.
В ту первую ночь под северным холодным небом друзья не могли по-настоящему соснуть. То говорили, как бывает среди самых душевно близких, обо всем, что придет на память, то, задремав, поднимались, разбуженные донесением начальника только что прибывшего казачьего разъезда.
— Прости, Давыдов, что не даю тебе спать, — говорил после ухода офицера Кульнев. — Я не сплю и не отдыхаю для того, чтобы армия спала и отдыхала. Таков уж, брат, удел начальника авангарда!
Очень многим в поведении своем, своим донкишотством и спартанством Кульнев напоминал Давыдову князя Багратиона. И тот и другой, находясь в наступлении в голове армии, а при отходе — в ее хвосте, всю свою жизнь подчиняли не собственным интересам, а интересам войска, которое они заслоняли собою. Потому и тот и другой в любой час ночи были готовы к тому, чтобы в секунду вскочить на ноги, плеснуть на лицо ковшик воды — и в седло.
Как Багратион, так и Кульнев, отмечал про себя Денис Давыдов, можно сказать, надевали на себя походную одежду при начале войны и снимали ее с себя при заключении мира. Все разоблачение их на ночь состояло в снятии с себя сабли. А у дверей куреня или замка, у походной палатки, где доводилось останавливаться, всегда ожидала оседланная лошадь. И все знали их строгий приказ: начальникам разъездов, вернувшимся из дозоров, немедленно входить с докладом в любой час дня и ночи.
Только рано утром — удалось или не удалось сомкнуть глаза — каждый из них обязательно мылся и переменял белье. Пред войском непременно следовало быть чистым, опрятным и свежим. Как можно вести себя иначе, коль на каждом из них — неусыпное попечение о чистоте и здоровье каждого солдата?
— Спасибо, Давыдов, за подарки, — словно боясь лишний раз потревожить дом, полушепотом сказал Кульнев.
— Ты о кисете под табак? — спросил Денис. — Специально для тебя выбирал: расписной, шитый золотом и размером достаточен — сразу несколько пачек табаку войдет.
— Нет, брат, я его заместо ночного колпака на голове буду носить. Во, гляди, как он к моей физиономии идет, — засмеялся Кульнев, при свете свечи примеривая кисет к жесткой своей шевелюре. — А ночные колпаки и рубахи финские для сна мне по душе — иногда, когда тихо, разоблачаюсь совсем и их надеваю. Однажды, брат, по тревоге так и выскочил наружу из дверей — точно привидение. Слава Богу, что неприятель был еще далеко — успел облачиться в боевое снаряжение. А то, представляешь, в этаком виде верхом на коне да с палашом в руке!.. Но спасибо сказал я тебе за подарки, имея в виду не один кисет.
— Ты о пряниках, Кульнев?
— О них, брат. И о том, что ребятишкам они страсть как понравились. Сладкие, медовые. Таких они не едали. Такие только у нас на Москве пекут. Радостно, брат, когда видишь детские рожицы и как они лакомятся сладким. Знаешь, какие у них при сем глаза?.. Эхма, не обзавелся я ни женой, ни чадами. А уж пора — переросток, сорок пять годков уж стукнуло. Только успею ли? — И вздохнув: — Ладно, поспи хоть чуток. Забыл тебе сказать: с утра в бой пойдем…
Рассвет еще как следует не наступил, а Кульнев и Давыдов уже были на конях. Ночные дозоры донесли: от селения Иппери навстречу движется неприятельский передовой отряд. Чтобы упредить его атаку, Кульнев выдвинул вперед три батальона пехоты и шесть пушек — Раевский укрепил авангард, в том числе и орудиями, против того, с чем он выступил из района Або.
Эта сила — в лоб. А в обход, по льду Ботнического залива, двинулись гусары и казаки.
Бой завязался на большой дороге и в лесу, сквозь который эта дорога проходила. Шведская пехота остановилась, задержанная нашим ружейным огнем. И тогда неприятельские драгуны, завидя русскую конницу, сами спустились на лед. Это был их знаменитый Ниландский полк, которым шведы гордились.
— Кульнев, гляди, как дружно понеслись шведы. Не одолели бы наших гусаров! — забеспокоился Давыдов. — А и верно: передовые казаки дрогнули и поворотили вспять.
Яков Петрович отозвался смешком:
— Это одна из моих хитростей. Казачьи фланкеры отъезжают с умыслом, чтобы заманить драгун. Айда, Давыдов, к нашим конникам — сам увидишь, какая сеча сейчас начнется и как дрогнут шведы.
Не успели они доскакать до задних рядов гусар, как передовые наши конные ряды уже врезались в строй драгун. Что это была за величественная картина! Гладкая снежная пустыня морского залива, и на ней врассыпную, спасаясь отчаянным бегством, — ряды еще за минуту до этого, казалось бы, грозной вражеской конницы. А по пятам за ними — казаки и гусары.
Один за другим, поддетые пиками, изрубленные саблями и палашами, сваливаются с седел драгуны. Многие бросают оружие и в страхе поднимают вверх руки.
Но что там впереди, откуда доносятся крики шведов? Кульнев с Давыдовым дали коням своим шпоры и устремились туда, где, окруженная казаками, отчаянно сопротивлялась группа неприятельских всадников.
— Ах так, немчура! — донесся грозный русский выкрик. — Счас изрубим всех до одного, как капусту.
И вдруг, разрывая морозный воздух, раздался отчаянный ответный крик шведов. Чей-то голос на французском языке завопил:
— Кульнев, Кульнев! Спасите нам жизнь!
— Стой, братцы, стой! — теперь закричал Кульнев и врезался в сечу, которая могла завершиться непоправимым, исходом.
Прямо перед ним, окруженный казаками, едва сидел в седле шведский генерал. По лицу его струилась кровь;
— Честь имею представиться вам, полковник. Я — генерал Левенгельм, адъютант короля, — произнес раненный всадник. — Всего несколько дней назад я прибыл на север Финляндии из Стокгольма для исправления должности начальника главного штаба наших войск. Со мною — мой адъютант капитан Клерфельд.
— Вы в безопасности, генерал! — воскликнул Кульнев и, соскочив с лошади, бросился к своему пленнику, которому уже помогли слезть с седла.
Оказалось, генерал ранен пикою в шею, но горло, на счастье, не было повреждено. Несмотря на то что пленник был в крови, Кульнев обнял его, чтобы окончательно успокоить.
— Отныне вы, генерал Левенгельм, не враг мой. Вы будете под моим попечением, как и все ваши соотечественники, которые сложили оружие. — Голос Кульнева был мягок и ласков.
Через несколько дней генерал и его адъютант были препровождены к князю Багратиону, а от него в главную квартиру русских войск. Кульнев же двинулся далее на север, вдоль побережья, и занял город Братештат.
Меж тем не все шло гладко. В Олькноках неожиданно авангард встретил отпор.
Чем ближе было до Улеаборга, тем сильнее становилось сопротивление шведских и финских войск. Здесь уже заканчивалось их беспорядочное бегство, и командир корпуса генерал Клингспор собирал разрозненные силы.
Однако Кульнев увлекся и, изменив свойственной ему осторожности, подставил себя под удар. Это случилось у Сиганокской кирхи. Казалось бы, что осторожничать и медлить, коли финский арьергард, с которым столкнулся Кульнев, сам снимается с позиций и готов бежать? Но тут произошло непредвиденное: на помощь арьергарду Клингспор бросил чуть ли не все силы своего корпуса.
Схватка была молодецкая, но превосходство неприятеля восторжествовало и должно было восторжествовать. Позже вспомнит Денис Давыдов о том сражении:
— Мы уступили место боя. Урон с обеих сторон простирался до тысячи человек. Со стороны нашей был убит двадцать четвертого егерского полка майор Конский, со стороны неприятеля — полковник Флеминг. Кульнева Бог спас: ядро пролетело так близко к нему, что раскаленным жаром обожгло ему ногу.
Так и шли с боями — вперед и вперед, тесня неприятеля. Только иногда на ум приходила мысль: что же такое происходит на этой войне, когда все, считай, главные силы сосредоточены на юге Финляндии, где уже закончились бои, а здесь, куда хлынула ушедшая от окончательного разгрома неприятельская армия, — лишь разрозненные наши войска? Да что там — войска, тут — клок, там — другой, как справедливо возмущался князь Багратион.
Только для военного человека приказ — святое понятие.
— Прикажут, брат, к самому Полярному кругу пойдем, — отшучивался никогда не унывавший Кульнев.
— Вот за это я тебя, Кульнев, и люблю, — признавался ему не раз в минуты откровения его молодой друг штабс-ротмистр Давыдов. А однажды ночью, в какой-то заброшенной халупе, во время перехода к Пигаиокам, предложил: — Я тут для смеху сочинил одни стихи. О тебе, Кульнев. Хочешь прочту?
— Валяй, Давыдов, пока кто-либо из дозора не подъехал.
— Ну тогда внимай, — сказал поэт-гусар.
Поведай подвиги усатого героя, О муза! — расскажи, как Кульнев воевал, Как он среди снегов в рубашке кочевал И в финском колпаке являлся среди боя. Пускай услышит свет Причуды Кульнева и гром его побед. Румяный Левенгельм на бой приготовлялся И, завязав жабо, прическу поправлял, Ниландский полк его на клячах выезжал, За ним и корпус весь Клингспора пресмыкался. О храбрые враги! Куда стремитесь вы? Отвага, говорят, ничто без головы. Наш Кульнев до зари, как сокол, встрепенулся, Он воинов своих ко славе торопил. «Вставайте, — говорил, — вставайте, я проснулся! С охотниками в бой! Бог храбрости и сил! По чарке, да на конь, без холи и затеев; Чем ближе, тем видней, тем легче бить злодеев!» Все вмиг воспрянуло, все двинулось вперед, О муза, расскажи торжественный поход!..Глава семнадцатая
Странное дело: война гремела не где-то за тридевять земель, а, можно сказать, — из Санкт-Петербурга рукой подать. А о ней долго столица не ведала ни слухом ни духом. Что уж говорить об остальной России, до которой любая весть докатывалась спустя чуть ли не годы!
Да нет, царские манифесты об объявлении войны против тех же французов что в Италии, что в Австрии, а затем в Польше и Восточной Пруссии зачитывались с церковных амвонов в самые первые же дни похода супротив неверных. И вся огромная Россия, посылая проклятия ворогу, молилась за успехи своих ратников, желая им скорейшей победы.
Тут же — ни царских манифестов, ни церковных молебствий.
Лишь когда почти вся Южная Финляндия с городами Гельсингфорсом и Або, все побережье Финского и части Ботнического залива были заняты русскими войсками, читателям «Санкт-Петербургских ведомостей» впервые сообщили о сих успехах. А заодно — и о причинах самой войны: «Стокгольмский двор отказался соединиться с Россией и Данией, дабы закрыть Балтийское море Англии…»
А через десять дней после сего сообщения был обнародован и манифест, в коем о начале военных действий говорилось так: «Явная преклонность короля шведского к державе неприязненной, новый союз с ней и, наконец, насильственный и неимоверный поступок с посланником нашим в Стокгольме учиненный сделали войну неизбежной». Под державой неприязненной имелась в виду Англия.
Меж тем при русском дворе шведская война не была тайной. О том, что она разразится, знали с Тильзита. И самая верхушка общества, начиная с императрицы-матери, никак не могла смириться с тем, что император Александр стал плясать под Наполеонову дудку. Это ведь он, французский император, оказавшись не в силах завоевать Великобританию, объявил ей континентальную блокаду. Но ему мало было закрыть собственные порты и гавани Германии. В Тильзите он поставил условие: Россия обязана не только прекратить торговлю с англичанами и объявить им войну, но потребовать от своей северной соседки — Швеции сделать то же самое.
Однако заведомо было известно: король Густав Четвертый Адольф не решится на этот шаг. Его бедная страна только и держится благодаря тому, что получает из Англии все необходимые товары, начиная, к примеру, с соли, без которой она не может вести промысел рыбы, что является главной статьей ее доходов.
Принятие условий блокады больно било и по российской экономике — рвались давние торговые связи с промышленностью Англии, и заменить их было, увы, нечем. Так что не только амбициям и гордости российскому правящему классу наносил удар Тильзит. От кабальных условий союза с наполеоновской Францией страдало купечество, расстройство грозило всей финансовой системе России, что особенно остро проявилось через каких-нибудь пару лет.
В другое время, верно, все общество восприняло бы как великую победу присоединение соседних земель Финляндии и безграничное владение Балтийским морем. Сие означало достойное завершение устремлений Петра Великого сделать Россию европейской державой. А с другой стороны, воспринималось бы как своеобразная и желанная точка в извечном ратном соперничестве с государством, которое еще с полтавского своего поражения не переставало стремиться к реваншу.
Теперь же, после унизительного Тильзита, во мнении высшего общества России, исключая, конечно, самого императора, война со Швецией выглядела как проявление беспрекословной покорности Александра его новоявленному августейшему брату, кровожадному тирану Бонапарту.
Первой открыто выразила свое отношение к государю его собственная семья во главе с императрицей-матерью. Предупредив, что его, царя, уже считают «приказчиком Наполеона» и что от него отвернется вскоре весь русский народ, Мария Федоровна гневно бросила сыну:
— Вы, ваше величество, рискуете вскоре потерять не только империю, но и семью.
Это была угроза, от которой дрожь пронизала государя с головы до пят.
«Что они мне готовят? Неужто судьбу отца и деда? — в невольном страхе подумал император и вспомнил другие гневные слова — брата Константина, требовавшего от него у Тильзита, наоборот, немедленного мира с Наполеоном. — Что ж это, западня? И почему они, самые близкие мне люди, против меня? Костя был прав: Тильзит — необходимость, Тильзит — временная мера. Это передышка, необходимая державе, чтобы собраться с силами и тогда уже окончательно подняться против Наполеона. Почему же этого не хотят понять мама и другие в моей родной семье? И почему мама подстрекает против меня всех моих подданных, почему именно она стала во главе недовольства?»
И что уж совсем повергло молодого императора в отчаяние, так это слухи об уже явленном против него заговоре, во главе которого якобы стоит его родная сестра Екатерина Павловна.
До него доходило: не только такие обиженные им и фрондирующие вельможи, как граф Ростопчин или один из цареубийц восемьсот первого года граф Толстой Петр Александрович, но и менее знатные господа осмелели до того, что открыто его предупреждают:
— Берегитесь, государь! Вы кончите как ваш отец!
Послы же иностранных государств, те сообщают в свои столицы как непреложный факт: «При Петербургском дворе говорят о том, что вся мужская линия царствующего дома должна быть отстранена, а так как императрица-мать и императрица Елизавета Алексеевна не обладают соответствующими данными, то на престол хотят возвести великую княжну Екатерину».
Слухи эти повергали императора в трепет: неужели самая любимая сестра, кою он любил безумно, до сумасшествия, в чем не раз признавался ей, способна греть на своей груди змею, чтобы ужалить его, родного брата?
С другой же стороны, он, как никто другой в семье, знал силу ее ума и мужественного характера, в коем как бы сбились воедино и способности Екатерины Великой, и воля великого Петра. Недаром, он знал, ее чуть ли не открыто стали именовать Екатериною Третьей.
Однако он, Александр Первый, тоже порождение своей великой бабки, сам был не прост и сам, несмотря на кажущуюся внешнюю мягкость и нерешительность, обладал упрямою волей и знал, к чему стремился.
Нет, он не поддастся Наполеону и не испугается тех, кто здесь, в Петербурге, стремится ему помешать. Или, более того, вынашивает мечту отстранить его от власти; Сему не бывать. Войною со шведами, исконными врагами России, он принесет своей армии победу. И после последних обидных поражений войска и русский народ вновь обретут в себе былую уверенность и силу. Но надо сказать народу о войне не тогда, когда он объявит поход. Такое уже бывало и крепко засело в оскорбленной памяти: сначала литавры, за ними — морда в крови. Теперь он поступит по-иному — предстанет перед державою и подданными уверенным в себе царем-победителем.
Когда свершились первые победные шаги, он так и поступил — возвестил на всю страну и всю Европу о своем несомненном триумфе. И поутихли слухи и недовольства: общее торжество всегда объединяет нацию и возвеличивает ее дух.
Меж тем самому ему хотелось войны более молниеносной и поражения Швеции более существенного. Лишь полный разгром врага и свержение с трона короля виделось ему самым достойным завершением кампании. Только почему сия кампания не завершилась с окончанием зимы? И почему ближе к весне, по многим признакам, боевые действия со стороны противника грозят новыми сполохами?
Теперь же близилась распутица, когда война на время приостановится в краю бесчисленных озер, болот и лесов. Это означало, что придет время подумать и пересмотреть кое-что в стратегии.
«Пусть-ка Аракчеев, военный министр, возьмет совет с генералами, начальствующими на финляндском театре, пусть прикинет, что надобно предпринять, дабы Швеция окончательно пала, — пришел к выводу Александр Павлович. — Говорят, князю Багратиону суровый северный климат пришелся не по нраву: всегда выносливый, и то занемог. Охотно предоставлю ему отпуск для лечения и тотчас же приму его по приезде из армии. Резок и прям он, князь Петр, хотя и политес ему ведом. Генерал же — выше всяких похвал. Почему же, однако, я в последнее время к нему не так мил и любезен, как в самое первое время под тем же, к примеру, Аустерлицем? Ревность — вот в чем, должно быть, причина, — не мог солгать себе Александр Павлович. — Не меня, царя, а его, генерала, сделала Россия своим первым героем, что, честно признаться, уязвило. Только не сие одно — вкупе с сердечностью чувств, что открылись вдруг к нему со стороны моей сестры Екатерины. Это уж к чему? И что великой княжне вдруг взбрело в голову — воспылать нежностью, страшно произнести — любовью, к сей персоне? Записочки, письма к нему на театр войны и — только самые восторженные отзывы о нем в разговорах со всеми окружающими, шутка сказать, — с мама и даже со мною, ее родным братом и императором.
Боюсь, ее поведение может быть неприлично истолковано и непременно нанесет вред замужеству. Кстати, с замужеством следует поторопиться. Другого средства избежать молвы и, не дай Бог, пересудов я не вижу. Неужто Катиша, со всем своим умом, не видит, куда могут завести ее отношения с князем Багратионом? Нет, единственная панацея от возможной беды — под венец! Но с кем, где достойная пара? Что ж, о том надо будет думать мне. Его же, князя Багратиона, по прибытии из Финляндии следует настойчиво склонить к отъезду на лечение. Ради сего я предоставлю ему денежный кредит. Только бы с глаз долой и из ее сердца — вон».
И мысли князя Петра были устремлены к той, чей образ постоянно, особенно в последние дни перед отпуском, неотрывно стоял в его воображении. Как она там, о чем хотела бы поведать ему из своих самых тайных мыслей?
Вспомнил ее письма, полные сарказма по поводу ее сватовства, которые получил он в Тильзите. И представить она себе не могла, что мама через князя Куракина станет сватать ее за такое ничтожество, как австрийский император Франц. И лишь когда сему воспротивился брат-император, она, чтобы показать родным, что не позволит ею вертеть как им заблагорассудится, бросила им с улыбкою:
— А вот захочу и выйду за него!
В одном из писем своих к князю Багратиону она так и написала о своем разговоре с братом, чтобы лишний раз и ему и мама доказать: у ней свой разум и своя воля.
«Брат, — сообщила она, — находит императора Франца некрасивым. Я же не придаю значения красоте, которая вовсе не обязательна мужчине. Он, говорят, неопрятен — я его отмою. Он глуп, у него дурной характер — великолепно! Он был таким в восемьсот пятом году, в дальнейшем он изменится. И еще. Ему — около сорока. Но разве в эти годы мужчина стар?»
Каждая строчка дышала сарказмом. Но Петру Ивановичу особенно запала в душу последняя — о возрасте. В ней единственной, казалось, не было насмешки, а были слова, как бы обращенные к нему, адресату. Разница в возрасте, не раз подчеркивала великая княжна в разговоре с Багратионом, ею никогда не замечалась — так они хорошо понимали друг друга, так были близки их мысли.
Что же скажет она ему теперь, после еще одной разлуки?
Сдав свою двадцать первую дивизию генерал-лейтенанту Раевскому, Багратион мчался средь мрачных финских лесов в Петербург.
Мысли его были о великой княжне Екатерине. Но он не мог в то же время не думать о том, что он обязан высказать в военном ведомстве и по возможности царю по поводу настоящей кампании.
По прибытии в Санкт-Петербург князю Багратиону первым делом следовало представиться военному министру, дабы доложиться и получить отпускные для следования на воды, куда его сиятельство пожелает — за границу или в пределах империи, на Кавказ, о чем не раз он говаривал в кругу близких ему друзей. Благо наступил май, я это означало, что в горах, где били серные и иные пользительные для организма подземные ключи, уже теплынь и благодать, такие желанные еще по воспоминаниям детства.
Как и с графом Ростопчиным, с графом Аракчеевым[26] Багратион был коротко знаком еще с павловских времен по совместной службе в Гатчине. Разное говорилось в столице о бывшем императорском любимце.
Находились люди, которые божились, что чуть ли не сами видели, как сей зверь однажды на учениях оторвал солдату ухо. Иные, не оспаривая ревности к службе и даже излишней педантичности и суровости характера павловского фаворита, утверждали, что сии качества у Алексея Андреевича проистекают от исступленной любви к порядку и методичности.
Впрочем, и те, кто презирал эту «обезьяну в мундире», и те, кто автоматическую точность в исполнении поручений объяснял высочайшей преданностью вверенному делу, сходились в одном: у сего царедворца не отнимешь известных способностей администратора, а также поразительной работоспособности. И, как ни странно, исключительной честности, граничащей с совершеннейшей скупостью и аскетизмом в первую очередь по отношению к собственной персоне.
Происходивший из мелкопоместных дворян, Алексей Андреевич был беден и потому скромен. И всему, чего добился в жизни, в том числе графского достоинства, был обязан своим усидчивым трудом.
Особенно отменны были его знания артиллерийского дела. Поначалу за сии способности из преподавателей математики кадетского корпуса, который когда-то окончил и саму где его ненавидели все, начиная с директора, за нетерпимую в общежитействе мелочность и склочность, Аракчеев был назначен в Гатчину именно начальником артиллерии великого князя Павла Петровича. А стал затем главным инспектором его войск.
Казалось, после кончины императора время «свирепого бульдога» уйдет навсегда. Однако Александр Павлович, эдакий либерал и само воплощение гуманности и кротости, вскоре приблизил его к себе. Он даже кому-то признался: чтобы держать в повиновении армию, во многом представляющую сброд негодяев, пьяниц, трусов и казнокрадов, необходим именно такой человек — строгий до безжалостности и честнейший до щепетильности.
Не только не сделал бы карьеры, но попросту не выжил такой любимец армии, как Багратион, не умей он, в силу своих природных дарований, видеть в жизни не просто черное и белое, но, напротив, малейшие оттенки человеческих характеров. Что могло объединить, к примеру, такие диаметрально противоположные натуры, как Багратион и Аракчеев? Смело следует утверждать: конечная цель, к коей они оба стремились. И цель сия была — видеть русскую армию сильной и могучей, самой первой армией в Европе.
Ну а как же с оторванным ухом и выдернутыми с мясом у какого-то капрала усами? На сей счет добродушнейший Петр Иванович мог бы ответить: басни. Зато тут нее припомнил бы, как еще в той же Гатчине Алексей Андреевич был не просто любезен, но проявлял прямо-таки исключительные отеческие чувства к подчиненным. Вечерами, после учений, к нему на чай охотно собирались офицеры. И он за самоваром непринужденно вел с ними интересные разговоры, объясняя тонкости военной теории, вызывая их на расспросы и терпеливо отвечая на десятки и сотни «почему» и «зачем».
В армейских делах не было таких предметов, коих бы не ведал и в кои не вникал бы этот докучливый педант. Нет, он не был боевым офицером и даже не участвовал ни в одном сражении, но все, что касалось до устройства войск, начиная с отливки пушечных стволов и снабжения армии портянками, Аракчеев знал досконально. А главное, знал, сколько стоит каждый пушечный ствол и пара подверток в солдатские сапоги и сколь можно и нужно сэкономить средств, делая сие не во вред армии в целом.
Военное министерство Аракчеев принял и самом начале восемьсот восьмого года, лишь за какой-нибудь месяц до начала шведской войны. И эта война предстала пред ним не только в виде реляций о победном марше войск, но в виде костяшек на простых канцелярских счетах. Сии костяшки он, как добросовестный чиновник-счетовод, поджав узкие губы, со вздохом передвигал ежевечерне, суммируя те огромные расходы, которые несла Россия в Финляндии.
Чуть ли не в день приезда Багратиона в Санкт-Петербурге получили сообщение о взятии Свеаборга. Эта крепость считалась одною из самых неприступных цитаделей Европы, и потому овладение ею воспринято было как подлинная виктория наших войск. Невольно в памяти у многих возникли Очаков потемкинских времен, суворовские Прага, Измаил и Рымник.
Да и было чем возгордиться! Свеаборг, этот северный Гибралтар, являлся ключом ко всему Балтийскому морю. Расположенная на семи островах невдалеке от финляндской столицы Гельсингфорса, крепость имела самую мощную и самую современную фортификацию и защищена была двумя тысячами орудий. Кроме того, в шхерах крепости находился галерный флот из ста десяти судов. Крепостной гарнизон из семи тысяч человек обеспечен был порогом, ядрами и прочим снаряжением, а также запасами продовольствия, которые позволяли выдержать любую осаду.
И нате вам — твердыня пала за каких-нибудь полтора месяца после того, как русские войска подошли к ней вплотную со стороны суши. И капитулировала, притом без малейшего сопротивления!
— А значит, без малейшего, с другой стороны, для нас урона и лишних казенных трат, — звонко скинул круглые колесики костяшек на счетах военный министр, быстро глянув исподлобья на собеседника. — Разве сие не есть главный итог кампании, когда виктория достается без всякого разора для государства? Так что Потемкина с Суворовым вроде бы не к месту мы с тобою припомнили, князь Петр Иванович. Лили они, что ни говори, реки крови. А уж казну опустошали — не приведи Господь!
Произносились вроде бы чувствительные слова, а вот физиономия говорившего при этом словно ничего и не выражала. Еще далеко не стар — в будущем году исполнится лишь сорок. Ростом высок, хотя и сутул. На костлявых плечах поношенный артиллерийский темно-зеленый мундир, на шее, точно образок, — портрет покойного императора Павла Первого. Впалые бритые щеки, тонкие — в ниточку — губы. Мутные, неопределенного цвета, блеклые глаза никогда почти не глядят собеседнику в лицо.
— Изволили, граф Алексей Андреевич, намекнуть на то, что знаменитые наши предшественники по ратному ремеслу брали много из казны на войну, а тут вот — все задешево? — Багратион остановил проницательный, жаркий взгляд на сером лице министра. — Не торопитесь, ваше сиятельство, считать барыши. Вспомните-ка: скупой платит дважды!
— Это же как вас изволите, князь, понимать? — впервые, наверное, не сразу спрятал глаза Аракчеев.
— Да не тут, не тут, любезнейший Алексей Андреевич, скупость, что дерзнул я упомянуть, — указал Багратион рукою на массивный письменный стол военного министра с канцелярскими счетами. — Скупость, о коей веду речь, вовсе даже не скупость, а скудость. Да-с, скудость ума, за которую нам и доведется платить дважды!
Глаза военного министра спрятались за красными набухшими веками. Меж тем Багратион продолжал:
— Свеаборг взяли без крови — куда с добром! Так и следовало делать. Тому нас, своих учеников, Суворов еще в Италии учил. Это я в самом начале кампании Свеаборг обошел стороною, выслав отряд Раевского обложить крепость. А сам — далее вперед и вперед. Потому теперь вся Финляндия с юга — наша. Вот тут бы, по примеру свеаборгской осады, оставить на побережье самые малые силы, а главными — вдогон за отступающим неприятелем. Нет же — главнокомандующий все сделал наоборот: на побережье, где уже окончились бои, оставил две самые сильные дивизии, слабую же отрядил для острастки на север. И вот, собравшись, шведы и финны начали уже нас теснить. А летом непременно станут наступать и вновь брать уже освобожденные нами города и веси. Вот почему я изрек: предстоит платить дважды. И радоваться Свеаборгу — рано!
Круглая костяшка счетов резко стукнула под пальцами Аракчеева.
— Выходит, впереди еще год войны? — покачал он головою.
— Да уж все идет к тому, — развел руками Багратион. — А почему? Суворов учил: пока у противника есть армия, держава не побеждена. Потому считал главным: не довольствоваться захватом территории, а громить врага до полного его уничтожения. Мы же неприятеля лишь отогнали от себя, позволили уйти на север, а там — собраться в кулак. Теперь жди: кулак тот зачнет гулять по нашим же скудоумным головам.
Аракчеев встал из-за стола, старчески, не по годам, шаркая, подошел к стулу Багратиона.
— Верю тебе, князь Петр Иванович, как самому себе верю, — ласково произнес. — Оба мы с тобою радеем об общем деле пуще всяческих личных выгод. Вот почему нам с тобою правда дороже почестей. Одна святая преданность монарху и отечеству, преданность без лести — вот наш с тобою удел. А самим нам, воспитанным в бедности, никаких благ и не надо. Изношенный мундир на плечах, зато — мундир чести.
И, снова пошаркав вокруг стула Багратиона, склонился к его уху:
— Мысли твои, Петр Иванович, весьма дельные, хотя, признаюсь, несколько островаты. Однако о нашем с тобою разговоре я непременно доложу государю.
Говоря строго меж нами, его величество и сам недоволен тем, как повел дело Буксгевден: застрял, понимаешь ли, в краю лесов, шведам же за морем — и подавно никакого урону. А первейшее желание нашего императора — так наказать свейского короля Густава-Адольфа, чтобы упал на колени и запросил пощады. Так что, полагаю, государь непременно захочет тебя видеть. Посему погоди-ка пока ехать на воды. А я тотчас дам знать, когда сам назначит аудиенцию. В Гатчину не заглянешь? Вот-вот, я так и думал: как не повидать матушку-императрицу Марию Федоровну, нашу с тобою благодетельницу!
На другой уже день государь, выслушав Аракчеева, промолвил:
— Быстр, не скрою, и действиями и умом князь Багратион. Сего у него не отнимешь. Только бы к сей резвости да иногда — понимание своего места. Небось направился теперь в Гатчину и Павловск?
— Так точно, ваше величество, — елейным голосом произнес военный министр. — Доложиться ее императорскому величеству Марии Федоровне, полагаю, первейший долг летнего коменданта Павловска.
Намек на тончайшую улыбку чуть тронул губы Александра Павловича.
— Знаю, Алексей Андреевич, природную твою доброту — выгораживаешь товарища. Только что бы ему дождаться аудиенции у меня? — И, стерев с лица подобие улыбки, про себя уже сурово добавил: «Спешил к Екатерине, торопился. — И, хмыкнув, опять про себя: — Екатерина Третья… Нет уж, тому не бывать! Замуж ее — и быстрее». — Сам возьму сие дело в собственные руки.
Последнюю фразу император вдруг произнес вслух, и Аракчеев не сдержался, чтобы не спросить:
— Ваше императорское величество изволили выразиться о ходе Шведской кампании?
— И о ней — не в последнюю очередь, — отозвался император. — Финляндия отныне будет присоединена к империи Российской. Но я не успокоюсь, пока на троне будет оставаться этот зазнайка Густав-Адольф.
И, пройдясь по ковру кабинета, вернулся от окна к столу, возле которого продолжал стоять в ожидании военный министр.
— Ты вот что, Алексей Андреевич, поторопи князя Багратиона с поездкою на воды. К осени ему следует вновь быть на театре войны. Сам ведь он полагает: не все идет как следовало быть. Вот пусть и поправляет дело.
Глава восемнадцатая
Сквозь узкие окна королевского дворца в Стокгольме, расположенные почти под самый потолком, сочился слабый рассеянный свет. Иногда стекла, напоминавшие старую, потускневшую за столетия слюду, становились совсем черными. Это означало, что там, снаружи, бешеные порывы ветра нагоняют с моря мрачные, свинцовые тучи. И тогда сюда, в Тронный зал дворца, доносилась сердитая дробь промозглого осеннего ливня, будто кто-то на дворе палил по замку картечью из огромных крепостных пушек.
Пять или шесть генералов стояли в углу, храня гробовое молчание и не решаясь пройти на середину зала, ближе к парадной двери, из которой должен был выйти король. А порывы ветра становились все неистовее, дробь дождя все сильнее, и генералам казалось, что это плохие предвестники встречи с его королевским величеством. И лучше было бы им всем погибнуть в последнем сражении на побережье, чем позволить этому взбалмошному, грубому и деспотичному королю, не умеющему ценить воинскую доблесть истинных сынов отечества, обрушивать на их поседевшие головы град упреков.
Опасения оказались не напрасными. Густав-Адольф не вошел, а вбежал в зал и, метнув из-под белесых бровей гневный взгляд, разразился криком:
— Свиньи! Мерзавцы! Вот кто они, ваши, господа генералы, воины, что проиграли последние сражения в Финляндии и отдали эту страну русским вандалам! Я спрашиваю вас, генерал Клингспор, как это могло произойти после наших летних успехов?
Тучный, переваливший уже давно за шестидесятилетний возраст, Вильгельм Мориц Клингспор стал иссиня-красен, словно вот-вот его хватит удар.
— Ваше королевское величество, — начал он, с трудом осиливая одышку, — как главнокомандующий, я не раз имел смелость доносить вам о неравенстве сил. С самого начала кампании у меня под ружьем числилось всего двенадцать тысяч солдат, тогда как русские перешли границу с двадцатью четырьмя тысячами. Как изволите видеть, ваше величество, это двойной перевес.
— Что? — взвился голос короля. — С какою наглостью вы, старый солдат, бросаете мне в лицо вашу ложь! А тридцать тысяч добровольцев, в самое короткое время вставших под мои знамена, это, по-вашему, не солдаты? Да каждый из них стоит того…
— Простите, ваше величество, — произнес стоявший рядом с главнокомандующим генерал фон Дебельн. Он был строен, хотя и не молод. На лбу — черная повязка, почти прикрывающая один глаз. — Эти рекруты как воины ничего не стоят. Кто они, сии ополченцы? Вчерашние крестьяне и ремесленники, портовые грузчики, уволенные за пьянство, бывшие рыбаки, потерявшие в море свои баркасы. Да и просто выставленные из дома своими женушками забулдыги и гуляки. Я сам на Аландах, куда ваше величество определили меня в военачальники, набирал сей, прошу прощения, сброд. И что же? В первых же боях их били как мух. А еще того непростительнее и позорнее — эти воины бежали с поля боя, чтобы в тылу, за спиною своих войск, заниматься мародерством.
— Теперь побагровел сам король, как до этого Вильгельм Клингспор.
— Хватит, Дебельн! Я знаю ваш независимый и неуживчивый характер. Если бы вы сами не были отважны в сражениях и если бы не ваша рана в голову, я бы за ваши дерзкие речи отдал бы вас под суд. Да, генерал, настали времена, когда я, король, никого не должен щадить. Или — полная победа над русскими и возвращение Финляндии, или — гибель всего моего королевства. Но прежде чем это случится, каждый из вас ответит мне своими чинами и даже жизнью за каждое проигранное сражение.
Вновь воцарилась мертвая тишина, и только в окнах собралась темень, и порыв дождя забарабанил по стеклам с новою силой. Король сделал два или три шага к генералам.
— Итак, Лантингсгаузен. Почему третьего дня вы позволили русскому генералу Багратиону разгромить два десанта, которыми я приказал командовать вам лично? Именно вам, генерал Лантингсгаузен, была оказана честь первым начать вторжение на занятое врагом южное финское побережье, когда в Срединной и Северной Финляндии уже не осталось наших войск. Что же помешало вам взять реванш за летние наши неуспехи и тем самым начать освободительную войну?
В ясный сентябрьский день из шведских шхер вышел грозный отряд судов и взял курс на Гельсинг, расположенный чуть севернее финского города Або. Здесь, по данным шведского генерального штаба, у Багратиона, принявшего недавно вновь начальство над двадцать первою дивизиею, сил на побережье было не много. Это и окрылило Лантингсгаузена. Подойдя к небольшому хутору Варанпяа, он приказал судам стать на якорь, а солдатам, находящимся на борту, пересесть в лодки и направиться на побережье.
На берегу не было ни орудий, ни войск. Лишь казачий разъезд, несший патрульную службу, был здесь единственной вооруженною силой.
Завидев приближение вражеского флота, казаки во весь карьер устремились к Або и подняли тревогу.
— Какова численность неприятеля? — осведомился Багратион у офицера, начальствующего над патрулем.
— Никак, две или две с половиною тысячи солдат, ваше сиятельство.
— Район высадки? — снова задал вопрос князь. — Хутор Варанпяа и не дальше?
— Если я не ошибаюсь, неприятель, явившись с моря, рассредоточился на побережье от Варанпяа до Лололакса, — уточнил казачий офицер.
Багратион накинул на плечи бурку и приказал подать коня.
— Помоги, Господи, — осенил он себя крестным знамением, — чтобы все они сошли с кораблей и высыпали на сушу. А уж тут, у себя дома, мы их встретим по всем законам гостеприимства.
Он резво подскакал к своему лейб-егерскому полку и остановился у первой же шеренги.
— Жаль, нет даже среди старослужащих тех, кто помнил бы Кинбурн, — орлиным взглядом окинул он солдат. — Тогда в Крыму на узкую косу, отвоеванную Суворовым у турок, басурманы направили свой десант. Черной тучею надвинулся он с моря, со стороны Очакова. Да так грозен был его вид, что в самую пору — только бежать от него во всю прыть. А Суворов — само спокойствие. И знаете, чем в ту пору занялся? В Церковь пошел и обратился с мольбою к Всевышнему, чтобы тот помог неприятелю целиком высыпаться на берег. Тут-то и пришел ворогу конец — редко кто вплавь добрался до своих судов. Вот так, други, и мы с вами поступим с непрошеными гостями, что пожаловали к нашему дому. Не подведете, наследники суворовской славы?
Дружные крики раздались по всей колонне:
— Не подведем! Веди нас, князь, за собою. Ты верно служил Суворову, мы же будем с тобою до конца!..
Впереди егерей в атаку бросилась конница. И поверх голов, в море, ударили ядра пушек, прибывших заодно с кавалериею, чтобы отрезать неприятелю пути к отступлению. А уж штык не подвел подоспевших егерей. И вскоре корабли, подобрав успевших спастись в редких лодчонках, растаяли на горизонте.
Может статься, не так скоро удалось бы разбить неприятеля, коли подоспел бы второй десант. Одновременно с первым отрядом из шведского порта Гефле вышли корабли почти с таким же числом солдат и взяли курс прямо на Або. Но путь их оказался длиннее. Потом, когда с первым десантом было уже покончено, на море поднялась буря и расшвыряла корабли второго отряда. Притом суда, на которых была погружена артиллерия, погибли. Остальные, изведав штормовую трепку, бросились кто куда, заплыв в страхе даже далеко на север от гавани, из которой они вышли. Так бесславно закончилась попытка королевских шведских войск захватить Або и начать освобождение побережья Финского и Ботнического заливов.
Дождь с ветром неустанно барабанил по окнам королевского замка, усиливая гнев Густава-Адольфа, устроившего разнос своему генералитету.
— Теперь я сам, господа, поведу в бой свои войска, — закончив отчитывать Лантингсгаузена, произнес король. — Десант под моим общим командованием пойдет на сей раз к Або с Аландских островов. Потрудитесь, фон Дебельн, отобрать для посадки на суда не сброд, как вы выразились об ополченцах, а самых лучших солдат. Таких, смелых и отважных, мне надо не менее пяти тысяч. И еще я возьму с собой свою королевскую гвардию. Увидите, господа, я воскрешу в каждом моем солдате бессмертный дух моего великого пращура — Карла Двенадцатого[27]. Он бил самого великого Петра. Я же прославлю вновь Швецию тем, что разгромлю армию Александра, этого трусливого и двуличного пигмея на троне, который не смог победить Наполеона и оказался теперь у него на посылках, как последний лакей. Да-да, я задам этим русским, нашим извечным врагам! Им, русским, не будет от меня пощады!
Крутанувшись на каблуках, король бросился к дверям, которые тотчас распахнулись перед ним, и скрылся в узком и длинном коридоре, ведущем в его покои. Но прежде чем войти в свой кабинет, он подошел к рабочей комнате королевы и резко толкнул дверь.
Королева Фридерика сидела у окна за маленьким низким столиком и вышивала. Услышав шаги мужа, она отложила пяльцы с иглою и поднялась.
— Вы, мой друг, никак не можете прийти в себя после неудачи на море? — произнесла она так, чтобы успокоить мужа. — Поверьте, никакая беда не стоит ваших переживаний. Доверьтесь Господу, ваше величество. Он укрепит ваши силы и поможет пережить то, что, увы, уже невозможно вернуть.
Король остановился как вкопанный. Лицо его мгновенно приняло мертвенный цвет, на лбу выступила испарина.
— Вы сказали, невозможно вернуть? — зловеще повторил он, понижая голос. — Что ж, для меня не в диковинку ваши настроения, госпожа шведская королева! Ваши симпатии всецело, с самого начала этой войны — на стороне вашей родной сестры и вашего зятя. Да-да, не отпирайтесь, вы — там, с ними, в проклятом Санкт-Петербурге! И все помыслы ваши — о том, чтобы я быстрее оставил свой трон. Не так ли, королева?
Фридерика схватила со стола платок и поднесла его к лицу. Глаза мгновенно наполнились слезами.
— Это известно всем; моя сестра — русская императрица, как и я сама, — бывшая баденская принцесса. И ее муж, император Александр, доводится мне и вам зятем, — силясь побороть спазмы, душившие ее, произнесла королева. — Но разве родственные связи не дают мне право быть королевою Швеции — моей новой родины — и горячо любить свой народ, который облечил меня таким высоким званием и вверил в мои руки свою судьбу? Вы же, ваше величество, ведете к тому, что наш с вами народ отвернется от вас.
— Что вы сказали? — топнул об пол ногой король и бросился к жене. — Вы — чужестранка, вы — немка, осмеливаетесь еще говорить о народе, который предаете в своих тайных мыслях!
— Я предаю? — выпрямилась королева и отбросила платок, повернув к мужу глаза, в которых уже не было слез. — Да, я родилась не на этой земле, я здесь по крови — чужая. Но я более всего на свете люблю людей и не хочу, чтобы из-за вашего глупого самолюбия, из-за вашей тупой ненависти к императорам Франции и России гибли ваши несчастные подданные. Ваша неуступчивость и ваша слепая озлобленность может привести лишь к одному — полному вашему краху. Чем помогла вам Англия, на которую вы сделали ставку, бросив вызов России и Франции? И не обвиняйте в вашем поражении никого, ваше величество, — ни ваших генералов, ни меня, вашу жену и королеву. Одумайтесь, пока не поздно, прекратите сию бессмысленную войну.
Она сделала движение к нему, протянув руки. Но он с силою оттолкнул ее от себя, и Фридерика, не ожидая этого, не удержалась и упала на пол, потеряв сознание.
Густав-Адольф оторопел, но не бросился к ней, чтобы поднять и оказать помощь. Он только схватил с ее бюро серебряный колокольчик и тряхнул им.
— У ее величества, должно быть, обморок, — сказал он камер-фрау, вбежавшей в комнату. И, возвысив голос. — Чего стоите как истуканша? Бегите за лекарем, живо!
Густав-Адольф вбежал к себе в кабинет и, сев к столу, как помешанный уставился в одну точку.
«Император Александр — мой зять! — Злоба вновь поднялась в нем тяжелой волной, готовой захлестнуть его с головой. — Что же это за рок — Санкт-Петербург и Россия, который преследует меня вот уже более десяти лет? Ведь тогда, в тысяча семьсот девяносто шестом году, я, казалось, уже совсем порвал с российским двором. Но нет, злая судьба все же догнала меня и жестоко мне отомстила».
Что же произошло тогда, в то далекое время, когда Густаву-Адольфу не исполнилось еще восемнадцати лет и он впервые посетил Петербург по приглашению императрицы Екатерины Великой?
Юный король прибыл в столицу соседней Российской империи в середине августа 1796 года. Причина его визита не составляла тайны: императрица еще года четыре назад твердо решила выдать за наследника шведского трона свою старшую внучку — великую княжну Александру. Для этого она подарила ей, совсем девочке, портрет принца и велела обучать ее шведскому языку. Так еще до первой встречи в детской головке возник образ человека, который должен будет стать предметом ее первой любви, а затем, как учила бабушка, и мужем.
Теперь, в год визита заочного суженого, великой княгине шел четырнадцатый год. Она была высока ростом и чрезвычайно стройна. Черты лица ее были правильные, а роскошные локоны пепельного цвета придавали особую прелесть ее необыкновенно свеженькому личику.
Густав не выделялся какой-то особенною красотою, но был миловидный юноша: тоже весьма рослый, прекрасно сложенный, с благородною осанкою. Но несмотря на то что в его фигуре было нечто высокомерное, он тем не менее был естествен и прост в обращении с окружающими. При многочисленном и блестящем дворе Екатерины, как заметили многие, он нисколько не растерялся и не чувствовал себя стесненно. Напротив, чужеземец держал себя гораздо свободнее, был находчивее, нежели его сверстники — великие князья Александр и Константин Павловичи.
Государыня, жившая все лето в Царском Селе, поспешила приехать в столицу, в свой Зимний дворец, чтобы принять там августейшего гостя и давать в Эрмитаже в его честь блестящие балы. При первом же свидании с Густавом она была очарована им и, как признавалась своим приближенным, сама влюбилась в него.
Ну а что же та, с младенческих лет тайно нареченная его невестою? Все с нетерпением ждали их первой встречи, которая, как ожидалось, должна решить их будущее. Но вот они оказались друг перед другом, глаза их встретились, и толпа придворных счастливо и радостно вздохнула: они влюблены, они созданы друг для друга!
И в самом деле, увидев русскую принцессу, король зарделся, а на щеках великой княжны вспыхнул тот жгучий румянец юности, от которого на глазах выступают слезы счастья.
Вскоре после первого свидания молодых будущий жених был приглашен на обед к императрице. После обеда Екатерина вышла в сад и села на скамейку под сенью деревьев. Король тоже пришел туда и присел рядом. Наступила минута, которую все во дворце ждали. Густав после некоторого замешательства произнес, что он счастлив открыть перед русской императрицей свое сердце: он чувствует непреодолимую любовь к великой княжне Александре и желал бы взять ее в жены.
Екатерина ликовала, но не подала виду. Напротив, одобрив его предложение, она тут же сказала, что ему следует теперь же решить, как быть с его прежней помолвкой с принцессой Мекленбургской. Будучи уже обрученным с другою, он не может делать новое предложение.
— О, я согласен со справедливостью замечания вашего величества! — воскликнул влюбленный. — Но Бога ради, могу ли я все же надеяться, что, коль я разорву свои отношения с принцессою Мекленбургской, принцесса Александра станет моею женой?
Императрица сделала вид, что ей надобно несколько дней на размышление и на совет с родителями Александры — ее сыном-наследником Павлом Петровичем и его женою Марией Федоровной. И еще она добавила:
— Ежели дело Сладится и вы будете готовы к объявлению помолвки, следует подумать о том, как обойти другое препятствие: разницу вероисповеданий. Впрочем, как мне известно, покойный король, ваш отец, издал закон, который дозволяет всем, не исключая и короля, вступать в брак с невестой, исповедующей ту религию, которую он найдет подходящею.
— Такой закон существует, — согласился король. — Однако, выполняя его предписания, я должен поступить так, чтобы не оскорбить моих подданных.
— Вашему величеству лучше знать, как следует поступать, — заметила Екатерина не без некоторого раздражения. — И я надеюсь, что вы уже приняли твердое решение в этом смысле — иначе вы, как честный человек и тем более король, не стали бы затевать всю эту историю со сватовством на глазах подданных обеих наших держав и на глазах всей Европы. Посему, ваше величество, я дам вам окончательный ответ, когда вы скажете мне сами о том, что оба препятствия, коих мы теперь с вами коснулись, полностью сняты.
Вопрос о разноверии будущей четы конечно же волновал Екатерину. Но все же ей хотелось думать, что у короля доброе и чувствительное сердце и он, просивший у нее со слезами на глазах руки великой княжны, не станет непременно настаивать на перемене веры невесты, а поступит так, как на то давал ему право закон предыдущего короля.
Впрочем, и сам Густав уверил императрицу, что дело будет улажено таким образом, как пожелает сама великая княжна, и он не станет требовать от нее перехода из греческой, то есть православной веры в лютеранство.
В назначенный для обручения день русский двор собрался в Зимнем дворце. Обстановка была на редкость торжественная — императорская семья и все приглашенные в парадных платьях, на лицах удовлетворение и радость.
Великую княжну обрядили, как и подобает невесте. На ней, как отмечали острые на язык царедворцы, одних бриллиантов в тот вечер было столько, что ценность их далеко могла превысить стоимость всех государственных имуществ шведской державы.
В назначенный час, к семи вечера, прибыла и императрица. Недоставало лишь жениха. Все терялись в догадках, что могло его задержать. Меж тем пробило восемь, пробило и девять, а жених не являлся. К государыне подошел кто-то из придворных и шепнул о чем-то ей на ухо. Она быстро встала, лицо ее побагровело, затем сделалось мертвенно-бледным. Заикаясь, она с трудом проговорила несколько бессвязных слов и без чувств опустилась в кресло — ее поразил апоплексический удар. Первый из тех, что буквально через несколько дней положит предел ее земной жизни.
Оказалось, юный король в самый последний момент изменил решение. Он заявил своим приближенным, что не только не позволит своей жене иметь в своем дворце православную церковь, где бы она могла исповедовать свою веру, но должен ее непременно обязать во всех церемониях следовать лютеранской вере, господствующей в его стране.
Король вправе был поступить в сем деле согласно своей совести и убеждениям. Но зачем было прибегать к коварству, сначала давай понять, что он не станет противиться воле будущей жены, а затем так бессердечно разорвать на глазах всего петербургского двора свои прежние обязательства?
Таков, оказалось, был характер у шведского короля: под напускным благодушием — грубая бесцеремонность и жестокосердие, граничащие со сладострастием палача, наслаждающегося страданиями собственной жертвы.
И теперь, вспоминая происшествие двенадцатилетней давности, случившееся в санкт-петербургском Зимнем дворце благодаря его душевной глухоте и жестокости, он вновь видел в своем поступке лишь проявление своей железной воли и силы. Более того, сейчас к этим чувствам примешивалось еще одно: радость мести, которую он обязан совершить по отношению к ненавистным ему русским.
В день, назначенный для выхода в море, Густав-Адольф, прибывший из Стокгольма на Аланды, вновь созвал своих генералов.
На палубу королевской яхты «Амадис» адъютанты вынесли большой старинный сундук и, отперев запоры, подняли крышку. Там находились доспехи Карла Двенадцатого, специально доставленные из музея.
По знаку короля его адъютанты стали доставать из кованного медью хранилища один экспонат за другим и складывать их на ковре у ног короля.
Указав на большие, похожие на краги перчатки своего великого пращура, Густав-Адольф обратился к военачальникам.
— Генерал Вильгельм Клингспор, — торжественно начал король, — вы совершили немало ошибок в сей военной кампании. Однако я дам вам последнюю возможность их искупить. Приказываю вам надеть на мою правую руку перчатку нашего великого Карла Двенадцатого. Вы же, дерзкий генерал Георг фон Дебельн, натяните перчатку великого шведского короля на левую мою длань. Полагаю, одно прикосновение к доспехам славного воина должно влить в ваши сердца волю к победе, коей вам недоставало. Моя же королевская воля и мои силы неизмеримы. Но и они станут еще большими, когда я облачусь в одежды того, кто не раз приводил нашу Швецию к вершинам славы.
Мечом великого Карла король повелел опоясать себя генералу Бойе, которому был отдан приказ вести десант в Або.
— А теперь, господа, на корабли! Пусть каждый из вас расскажет моим храбрым солдатам о том, что вы видели только что собственными глазами. И пусть вслед за мною, королем, каждый воин проникнется священным стремлением победить или умереть в предстоящем бою с нашими врагами.
А на берегу все уже было готово к встрече нового нашествия.
Багратион знал: после первой провалившейся попытки овладеть побережьем шведы не успокоятся. Потому он повелел стянуть к берегам все свои войска. И когда двадцать шестого сентября на горизонте замаячили паруса неприятельских кораблей, а несколько часов спустя враги стали высаживаться и скапливаться в близлежащем лесу, он, как и в прошлый раз, дал им возможность беспрепятственно сойти на берег.
В первой линии русских находилось девять батальонов пехоты, три эскадрона гусар, полк казаков и семь орудий. Багратион составил из них три колонны. Центром командовал Багговут, правым флангом — Бороздин и левым — Бек. Беку было поручено обойти высадившихся, отрезав их от моря, и ударить им в спину.
Бой закипел жестокий. В течение четырех часов атака следовала за атакой с обеих сторон. Ружейные перестрелки переходили в штыковые схватки.
Шведский генерал Боне оказался неплохим военачальником. Он бросил все силы в стык между центром и правым крылом русских, надеясь разделить своего противника, а затем начать бить его по частям. Но он не рассчитал, что русские под командованием Бека уже обошли его батальоны и начали атаку с тыла. При первых же выстрелах позади шведов Багратион выхватил шпагу и, став во главе своего лейб-гвардии егерского полка, повел его в штыковую атаку.
Шведы бросились назад, по направлению к морю. Но и в сем случае маневр был предусмотрен Багратионом. По его приказу Николай Михайлович Бороздин повернул свой правый фланг в обход и окружил бегущих. Вот тогда в гущу панически отступающих врубились гусары и казаки.
Однако именно в этот момент на виду Гельсингской бухты, где и на сей раз находилось главное место вражеской высадки, показалась королевская яхта. На палубе величественно высилась фигура Густава-Адольфа, облаченная в доспехи Карла Двенадцатого. Король решил самолично убедиться в победе своих доблестных войск. Но картина, которую он увидел с борта своей яхты, его потрясла. Целые роты и батальоны, бросая оружие, панически отходили к берегу, где стояли их лодки. Падая прямо в воду, отталкивая друг друга, солдаты переворачивали баркасы и, увеличивая потери своих войск, погибали уже не от пуль, а идя на дно.
Густав-Адольф не выпускал из рук подзорной трубы. Но теперь и невооруженным глазом можно было на расстоянии мили, в которой находилась его яхта, разглядеть, что делалось, на побережье. Там, на берегу, стоял густой дым, из которого вырывались языки пламени. Это русские поджигали лодки, повозки, лафеты и пороховые заряды шведов.
А к яхте уже приставали шлюпки, из которых на борт поднимались адъютанты и генералы с докладами.
Из донесений складывалось: убито более полутора тысяч человек из пяти тысяч, сошедших на берег. Потеряно пять орудий и полковое знамя. Но донесения, естественно, были неполными. С каждой минутой следовало ожидать увеличения катастрофических потерь.
Наконец на борт поднялся генерал Бойе, весь черный от пороховой копоти, в пятнах крови на мундире.
— Ваше, величество, сто пятьдесят воинов из полка лейб-гвардии сдались в плен. Не уверен, вернутся ли остальные из гвардии вашего королевского величества — они остались на берегу, чтобы сдержать неистовство русских и позволить остальным сесть в лодки.
Король сбросил с рук перчатки Карла и, вцепившись в крест ордена Меча на шее Бойе, сорвал его прочь.
— Вы недостойны этого знака! — прокричал Густав-Адольф.
Генерал Бойе стал белым как полотно.
— Я требую в таком случае отставки, ваше величество, — проговорил он.
— Ах так! — вскричал полностью обезумевший коп роль. — Вы все хотите меня предать. Вы все, кто мне обязан, — мои генералы и даже моя жена-королева. И вы показали сейчас, здесь, на берегу, чего стоите на самом деле. А моя гвардия? Разве достойна она теперь называться королевскою гвардией! Каждый генерал и каждый офицер моей личной гвардии будет отныне понижен в чине и лишен всех привилегий!.. Домой, домой! Поворачивайте от берега корабли…
Глава девятнадцатая
В конце декабря у берегов Ботнического залива стал лед. А уже в начале января следующего, 1809 года ледовый панцирь покрыл все морское пространство вплоть до Аландских островов и, как писали шведские газеты, скованными оказались воды у побережья Стокгольма.
Холода крепчали. Возле города Або высокие сосны трещали от стужи, отчего далеко окрест временами разносились сухие резкие звуки, похожие на выстрелы из ружей. У причалов, точно огромные медведи, спали десятки больших и малых судов. Их реи и снасти покрывал толстый и пушистый слой снега. И только иногда на палубах возникал желтый свет фонарей, говоривший о том, что зима, если выпадали не очень морозные дни, — самая добрая пора для ремонта кораблей, коим и занимались местные жители — рыбаки и матросы.
Однако крепчала не только стужа. С самого начала зимы, скорее даже с поздней осени, над Балтикой стали гулять юго-западные свирепые ветры. Осенью они вздымали крутые волны, безжалостно обрушивая их на застигнутые в море рыбачьи и каботажные суда, зимою же взламывали еще не окрепший лед, оставляя на своем пути торосы и пряча под наметенными сугробами снега коварные полыньи и трещины.
Бури и метели мешали работам в порту и конечно же создавали огромные неудобства местным жителям, которые населяли острова, лежащие в заливе. Но коварная, непостоянная погода в первую очередь пугала русских солдат, которым предстояло с окончательною установкою льда двинуться через залив к Аландскому архипелагу, а через него к столице Швеции — городу Стокгольму.
Марш был рассчитан на восемь — десять суточных переходов. Потому уже с декабря из Петербурга шли и шли в Або обозы, которые везли все необходимое для похода. Сани были гружены теплыми сапогами и валенками, полушубками и рукавицами, продовольствием, в которое входили водка и вино. И даже следовали сани, нагруженные поленьями дров, чтобы было чем развести костры на замерзших морских пространствах, где ни кустика, ни палки.
Приказ о зимнем наступлении к берегам Швеции был высочайше одобрен еще в середине осени. Тогда император решился снять с должности главнокомандующего Буксгевдена, затянувшего кампанию, и заменить его фон Кноррингом. Богдан Федорович, как считалось наверху, знал театр военных действий еще по прошлой со шведами войне, когда к России отошла часть Финляндии, непосредственно примыкающая к Санкт-Петербургской губернии. Но почему-то совершенно не учли, что сей генерал был еще сподвижником Миниха и как стратег явно устарел. А главное, он был по характеру нерешителен и даже труслив.
Вторгнуться на территорию Швеции зимою решили тремя армейскими корпусами. На самом крайнем севере один из корпусов должен был обогнуть Ботнический залив по суше. Другому корпусу предписывалось пересечь залив чуть южнее города Вазы — через самую узкую часть, именуемую проливом Кваркен. И третьему — идти через Аланды прямо к Стокгольму.
Этот основной корпус, наносящий удар непосредственно по главным военным силам Швеции и по ее столице, был вверен князю Багратиону. Выйдя в поход одновременно с ним, когда-то еще остальные два корпуса преодолеют многие сотни верст, чтобы соединиться в самом сердце северной державы. Он же в считанные дни окажется у стен Стокгольма. Потому Багратион, только лишь впервые прослышав о предстоящем предприятии, стал к нему ревностно готовиться.
Еще год назад, перед самым началом войны, Петру Ивановичу, как шефу лейб-гвардии егерского полка, пришлось основательно потрудиться, чтобы по-настоящему подготовить полк к боевому походу.
Разве редко случается такое: как на охоту ехать — так собак кормить? Сие означает: все делать невпопад. Особенно это характерно для порядков в России. И не случайно такая поговорка родилась на нашей земле.
Буквально за две-три недели до объявления кампании Багратиону было приказано заменить в полку форму. Светло-зеленый цвет мундиров и панталон менялся на темно-зеленый. Генералам и офицерам лейб-гвардейского егерского полка отныне вменялось носить золотой эполет на левом плече, а нижним чинам — погоны из оранжевого сукна. Что оставалось делать? Багратион приказал при каждой роте и батальоне открыть собственные швальни, в коих срочно шить мундиры и шинели.
Основной заботою, имея в виду предстоящее участие в боевых действиях, была конечно же подготовка оружия и иного снаряжения. Шеф полка, как уже известно, не вылезал из пламени войны, под его началом были могучие другие полки и эскадроны. Егерским же лейб-гвардейским командовал генерал-майор граф Сен-При, первый и самый главный помощник полкового шефа. Меж тем оказалось, что у Эммануила Францевича до многого не доходили руки. Радея лишь о внешнем виде полка, как повелось еще со времен императора Павла, граф совершенно упустил содержание внутреннее. То есть бдение о всегдашней боевой готовности вверенной ему войсковой части. Потому и оказалось, когда учинил проверку Багратион, что из двух тысяч ружей более четырехсот — не годны к бою. А из трехсот с половиною нарезных винтовок — штуцеров — подлежит ремонту около полусотни.
Изрядной починки требовали обозные повозки, а также сбруя, седла и конские попоны. А уж что говорить о походных котлах для приготовления солдатской пищи! Для Багратиона — первейшая заповедь еще с суворовских, да нет — с потемкинских времен: котлы проверять постоянно и при малейшей порче — тотчас лудить, дабы держать в исправности солдатский желудок.
Еще не минуло и десяти лет с Альпийского похода. Потому те тяготы вставали в памяти во всей яви. И как заметали метели на горных вершинах, и как, оступясь на обледенелых тропках, низвергались вниз, в бездонные ущелья ослабевшие от недоедания и болезней. И как шли уже на последних верстах все — от генерала до солдата — босые, в изорванных мундирах, промокшие до нитки, а взбодрить огонек было не из чего: вокруг не то что бревна — ни хворостинки, ни былинки.
Здесь нет скал, нет горного серпантина. Но не страшнее разве полыньи во льду и мороз с ветром, от которого негде укрыться в белом безмолвии, что раскинулось на много десятков верст вокруг? Только тут можно заранее предусмотреть, что взять с собою в дорогу, чтобы перебороть коварство ледовой пустыни. — И главное, все это не на себе нести.
Ты — в валяных теплых сапогах, поверх шинели — полушубок, а у тех, кто заступает на привалах на посты, — тулуп. И тяжесть за спиною, которая не в тягость: вареное мясо, хлеб, по две фляги водки для сугрева. Провианта с собою на десять дней. А сверх того — дополнительные запасы на ротных санях. На санях же — дровишки, брезент и даже еловый лапник. Он-то зачем? А нагреб во льду снега вокруг себя, как детишки строят игрушечные крепости, настелил снизу лапника, поверх брезент натянул, а у входа в ледяной дом — живительное пламя костра. Да какой еще костер из березовых отборных и звонких полешек!
Не было такого полка, батальона и роты, в которых бы не побывал по нескольку раз с начала зимы князь Багратион и не убедился лично, все ли готово к походу, не оказалось ли какой прорехи в большом и сложном деле. Углядел у солдата руки, на коих шелушится кожа.
— Поморозил, никак? Что, рукавицы не получил?
— Потерял их, ваше сиятельство. Вот Господь меня за мое растяпство и наказал.
— Лекаря! — приказ ротному. И когда прибежал фельдшер, объявил: — Немедленно составить требование мне на подпись: сколь гусиного сала надобно на семнадцать тысяч человек в моем корпусе. Видите, первый помороженный. Слава Богу, не тяжко — смазать салом, и вся недолга. А ежели в походе зачнется такое?
Все в Або, казалось, жили предстоящим маршем. И со дня на день ожидали команды к началу движения из главной квартиры армии, что продвинулась сюда, к Багратиону. Но команды такой не выходило. Более того, Петру Ивановичу чудилось, что ее и вовсе может не последовать.
На редких военных советах главнокомандующий старался обсуждать что угодно, только не то, что велено было государем. А ежели возникала речь о походе, Кнорринг останавливал взгляд на иконах в красном углу и изрекал:
— По морю, как посуху. То ж одному Христу было под силу, как о сем в Библии сказано! А мы что ж, боги? На заливе — торосы, разводья, что твои озера; Это — в местах, нами отсель просматриваемых; А там, у берегов свейских? Приказ государя — дело святое. Однако разве на святое дело можно пойти, не подготовив себя к нему отменно?
— Мой корпус готов, ваше высокопревосходительство. — Всегда в таких случаях Багратион начинал первым.
— Верю тебе, князь Петр Иванович. Находясь рядом с тобою, вижу, как ты ревностно отряжаешь свое войско, — не мог не согласиться Богдан Федорович. — Но вот мне известно: Барклай-де-Толли, коему вверен корпус, долженствующий перейти залив севернее твоего места, к сему походу не готов. И Шувалов тож просит повременить.
— Так доколе отсрочки? Пока лед по весне вскроется? — не унимался Багратион. — Почему они, корпусные генералы, не как я; приказали, следовательно, надо идти!
— Вот здесь ты весь, князь Багратион: горяч, неистов. И думаешь только о себе. Нет чтобы со товарищами быть заодно, так сказать, держаться соборно, как и полагается по православному учению. Тогда бы мы и государю резон привели: не лучше ли миром все завершить, не бросаясь в ледовые Палестины, где мрак и неизвестность на каждом шагу? Нет, солдатиков следует беречь — все ж каждый из них не скот бессловесный, а душа живая, божеская.
Господи, какое бесстыдное словоблудие! Кто ж более бережению солдата и посвящает свои дни и ночи что перед сражением, что в самом бою. Да что ж лучше, выгоднее для того же солдата и для успеха всего дела: теперь, когда наконец стал залив, совершить поход или же, потеряв время, потом брести по колено в воде? Тогда уж точно можно будет изречь: я ж не Иисус Христос, чтобы по морю, как по суше.
Все это не раз говорилось. Да Кноррингу — как об стенку горох. Неужто прав он в том, что, и Барклай с Шуваловым празднуют труса? А в Петербурге разве забыли о своем же указе? Хуже некуда держать войско в неведении и бездействии. Потом ничем не наверстать тот боевой дух и ту решимость, что истончатся, выйдут попусту, снедаемые недоверием и бездельем.
А хуже — и впрямь, проваландав бездарно все сроки, погнать солдат, вот уж истинно, как бессловесный скот, на лед в самую непогодь и весеннюю распутицу. Ведь император Александр. Павлович не отступится от своей заветной решимости: коль победить шведов, так полным разгромом уже не на финской, а на их собственной земле. Тогда почему же не потребовать от нового главнокомандующего и прочих генералов неукоснительного исполнения приказа?
Уже февраль разбуянился метелями, когда из столицы в Або прибыл военный министр. На совет вызвали командующих двух северных корпусов. Аракчеев вслушивался в каждое слово. Граф Шувалов, коему следовало идти вкруг Ботнического залива, сокрушался по поводу суровости местности.
— Кому — полыньи и торосы, а мне — сплошь скалы, тайга да болота, что и зимою — топь, — излагал он свои познания в театре предстоящих действий. — Должно, одному Александру Васильевичу Суворову сие было бы по плечу после его похода через Альпы.
Аракчеев бегло глянул на командующего корпусом и кивнул в сторону Багратиона:
— Слава Богу, Суворов нам князя Петра Ивановича оставил. А разве кто русского солдата подменил? Он таким же, как и при генералиссимусе, остался.
Барклай, уже тож в генерал-лейтенантском чине с прусской кампании, говорил вроде бы о деле: к началу похода во всех полках и баталионах должен быть полный комплект продовольствия и боевых припасов. Все так. Но сквозило: к чему это пал выбор на него?
Аракчеев произнес как можно мягче;
— В сей час, ваше высокопревосходительство, я желал бы не министром быть, а оказаться на вашем, самом почетном месте. Ибо министров много, а переход Кваркена Провидение возложило только на одного генерала — Барклая-де-Толли, в достоинствах коего нет нужды сомневаться.
Багратион на сей раз взял слово последним.
— Я скажу только одно: я люблю службу и повинуюсь свято. Что мне прикажут — исполню. А когда исполню, тут же и донесу, как сие я сделал, — коротко отрапортовал он.
Если через Ботнический залив провести линию — не прямую, а скорее чуть дугообразную — между городами Або на западном побережье Финляндии и Стокгольмом на шведском, восточном побережье, линия сия как раз пройдет через Аланды. Это не один остров, а несколько больших и малых, которые и составляют Аландский архипелаг.
Самая обширная земля в архипелаге — остров Большой Аланд площадью свыше шести квадратных миль. Только на нем проживает двенадцать тысяч человек. В целом же острова и островки составляют примерно одиннадцать миль в квадрате, но постоянного населения на таком пространстве немного.
Когда-то в средние века Аланды являлись перевалочной базой викингов и стоянкою их судов. Позже архипелаг с его многочисленными бухтами и шхерами облюбовали пираты, появлявшиеся на путях многочисленных купеческих кораблей, шедших по Балтике в разные торговые города на севере Европы.
Ныне на островах стояло шеститысячное шведское войско да еще не менее трех тысяч человек ополченцев. Хоть корил ставших под ружье добровольцев генерал фон Дебельн, но вместе с солдатами регулярной Службы они составляли немалую силу. Рыбаки, мореходы, крестьяне и ремесленники, ставшие под ружье, как ни были они неопытны, все ж защищали теперь собственные дома, свои утлые лодчонки, какую-никакую живность и свою землю. Что же касается регулярного войска, оно отдохнуло после стычек на финском побережье, привело и себя в порядок, и кое-чему в ратном смысле обучило ополченцев.
По разного рода сомнительным людишкам, покинувшим строй, генерал Дебельн не горевал. Напротив, был рад, что избавился от сброда. Зато на их место, вернее на должности унтер-офицеров, он своею волею зачислил всех проживающих на островах лоцманов и судовых шкиперов. А когда от них последовала жалоба королю, Дебельн, не убоявшись монаршего гнева, ответил: «Всемилостивейший король! Пока лежит лед, не нужны никакие лоцманы». И поставил под чересчур Коротким посланием имя, которым, несомненно, гордился: «Георг Карл фон Дебельн».
А как было не гордиться собственным честным именем солдата и своею судьбою, кою сотворил он сам! Происходил он из столь древнего рода, что мог, наверное, потягаться знатностью с первыми вельможами, окружавшими королевский трон. Одним лишь не подходил к ним — был беден. И всем, чего достиг, был обязан собственному характеру — упорному в достижении цели и в лучшем смысле честолюбивому.
Смолоду решив посвятить себя военной службе, он отправился во Францию, где записался добровольцем, чтобы ехать в Северную Америку. Но повернулось так, что оказался в Ост-Индии, затем в Италии, где в рядах французов сражался против суворовских солдат. Там он был тяжело ранен и вернулся капитаном.
Имение, полученное по наследству, оказалось в упадке. Пришлось ставить его на ноги. Но таков уж был у него беспокойный и пытливый норов — до всего дойти своим умом, все сделать собственными руками. Стал выводить элитных коров, и вскоре слава о его стаде разнеслась по всей стране. А вместе с нею — и молва о его чудачестве. Оказалось, что своим коровам он давал имена знакомых знатных дам.
Однако военная карьера манила. И он с легким сердцем вернулся в строй и в казарму, теперь уже у себя, в Швеции. Тут у него, не имевшего ни жены, ни семьи, родным домом стал его Бьернеборгский полк, которым в скором времени он стал командовать. С этим полком и вступил год назад в войну с русскими.
Не нюхавшим пороха с первых же дней подавал пример личной отвагой и презрением к опасности. Тех, кто слишком уж пугался, к примеру, разрывов гранат, спокойно, увещевал:
— Не бойтесь, ребята. Это всего лишь еловые шишки. А кто из вас, с детства знающих лес, терял рассудок, коли шишка невзначай стукнет по голове? Небось сами, когда были ребятней, кидались друг в друга этими лесными снарядами.
Одно появление его в самой гуще драки поднимало дух. Завидев его, солдаты ликовали:
— Там, где с нами Черная Повязка, нам не страшен и сам дьявол!
А вот с теми, кто хитрил, норовил спрятаться за спину товарища, а пуще всего с пьянью и нечистыми на руку, был беспощаден. Не дай Бог дезертиру попасть на глаза, — тут же устроит суд, в котором обвинение вынесет не он, полковник, а товарищи по оружию.
Слыхал: в русской армии имеется офицер, уж очень на него похожий. Нет, не лицом, а как бы общею судьбою и отношением к солдатам. Кульневым назывался тот офицер, к концу войны, как и сам Дебельн, получивший звание генерал-майора.
Вся Финляндия, а за нею и Швеция слыхала: Кульнев — русский рыцарь, коего милосердие к пленным и местным мирным жителям безгранично. Свои же солдаты в нем души не чают, зато к отступникам — суров.
Дебельну особенно интересно было узнать, как Кульнев поступал с нерадивыми воинами, которые, уклоняясь от неприятельских выстрелов, покидали свои места якобы затем, чтобы сходить за патронами. Дабы пресечь сию уловку, Кульнев отрядил особые команды, которые стали доставлять патроны и артиллерийские заряды в цепь. И никто уже под страхом наказания не мог, выбросив патроны из подсумка, будто бы их расстреляв, спрятаться в тылу. Напротив, отныне солдат, защищая свою жизнь, обязан был беречь заряды, стрелять экономно: сбежать с поля боя «за патронами» было уже нельзя.
«Вот с таким встретиться бы не в огне войны, а за стаканом доброго джина», — не раз ловил себя на мысли фон Дебельн. Доходило до него, что Кульнев, самый бедный в мире генерал, как он сам о себе говорил, изрядно образован, собирает с любопытством все, что касается истории и военной науки. И в этом, оказывается, они похожи: у Дебельна превосходная библиотека военных трудов.
Что ж, война не дает возможности повести беседу за дружеским столом, так, может быть, сведет, как и подобает рыцарям, в достойном поединке?
Так думал Дебельн, когда и в самом деле в Або с севера вернулся Кульнев, чтобы предводительствовать авангардом корпуса князя Багратиона.
В начале марта корпус Багратиона занял исходное положение на острове Кумлинг, близ Або. Здесь из тридцати батальонов пехоты, полка гродненских гусар, шести сотен казаков и двадцати орудий были составлены пять маршевых и две резервные колонны. Уже второго марта они сошли на лед. Каждая имела свой маршрут и свою конечную цель — Большой Аланд или же расположенный рядом с ним другой, точно указанный на карте, остров сего архипелага.
На первом отрезке пути авангард был составлен из двух отрядов. Одному из них, вверенному генерал-майору Дмитрию Федоровичу Шепелеву, Багратион приказал выдвинуться к островам Биорко, Лаппо, Астергольм, Вартсала и другим, более мелким, расположенным рядом, удерживать их до подхода главных сил корпуса. Другой отряд, Кульнева, выводил к островам Карпо, Нагу, Сант-Терфен, лежащим далее, к западу, чтобы отрезать шведам путь к отходу.
Первая же встреча Шепелева с неприятелем произошла на острове Бене, сразу же за островом Кумлингом. Казаки сотника Солдатова обнаружили там вражеский пикет из пехоты и кавалерии при двух пушках и, окружив шведов, взяли в плен унтер-офицера и тринадцать рядовых. У казаков же был легко ранен урядник Исаев и убита одна лошадь. Так началось долгожданное движение к Аландам.
Попытка Дебельна удержать натиск русских ни к чему не привела: отменно оснащенная всеми видами оружия, прекрасно защищенная от морозов и ветров семнадцатитысячная армада Багратионовых войск готова была разгромить любые силы, вставшие у нее на пути. Сопротивление Дебельна могло лишь привести к гибели всех войск, что находились под его началом. Единственное, на что он решился, это предложить перемирие. Однако момент был упущен: наступающую армаду уже нельзя было остановить. Да и всякую склонность к переговорам теперь, когда берега Швеции были уже в досягаемости, император Александр Павлович мог расценить как ненужную затею.
Собственно, князь Багратион так и ответил парламентерам, которых к нему прислал Дебельн, и ему, главнокомандующему на Аландах, ничего не осталось, как отдать приказ отходить.
Лик войны всегда ужасен. Даже самое огрубелое, не раз встречавшееся со смертью сердце содрогнется при виде поля сражения, усеянного множеством жертв. Но и спешное отступление огромной массы войск, когда по пятам его неуклонно движется неприятель, — картина, могущая потрясти души.
Такой страшный вид открывался отряду Кульнева, что шел впереди, в двух или трех переходах от главных сил корпуса. То здесь, то там на дорогах встречались остановившиеся сани и повозки с загнанными и замерзшими лошадьми. Иногда на санях были солдаты, тоже окоченевшие и уже отдавшие Богу души. А в населенных пунктах полыхали пожары. То отступающие в панике шведы, круша попадавшиеся на их пути склады, растаскивали все, что могли унести с собою, а здания и даже жилые дома предавали огню. Также горели, чтобы не достались врагу, лафеты пушек, воинская амуниция, поджигались и взрывались запасы артиллерийских зарядов, пороха и патронов.
Кульнев выступил в поход с Кумлинга за три часа до рассвета. Но еще в Або он собрал пять сотен своих казаков и три эскадрона гусар и зачитал им приказ, как всегда четкий и ясный:
— С нами Бог! Я пред вами. Князь Багратион за нами. На марше быть бодру и веселу. Уныние свойственно одним старым бабам. По прибытии на Кумлинг — чарка водки, кашица с мясом, щит и ложе из ельнику. Покойная ночь!
Шли с песнями. И, лишь встретив мрачные следы пожарищ и людских бедствий, примолкали. И ни один не бросился к добыче, к разживе на чужом горе. К тому же знали: мародерства Кульнев не простит.
Сигнальскере оказался последним крупным островом в архипелаге, за которым — и шведские берега.
Неприятельских войск уже не оставалось на островах — они отошли через город Грисслехамн в глубь Швеции. И отступление теперь повсюду было обозначено черными холмиками, припорошенными снегом. То были окоченевшие солдаты Дебельна, которых судьба лишила последней возможности — быть погребенным в родной земле, а не в морской пучине, когда растает на заливе ледовый панцирь и они, непохороненные, уйдут на дно.
На шестой или седьмой день впереди замаячил силуэт кирхи. Город Грисслехамн! Берег Швеции!
— Вот мы и дошли до цели — честь и хвала русскому солдату у шведских берегов! — обернулся в седле к своим спутникам генерал Кульнев.
Однако дозоры донесли: в городе скопление войск, лазареты с больными и обмороженными. Впереди же, у прибрежной линии, за валунами и скалами — цепь стрелков.
На снегу всадник — отличная мишень. Кульнев спешил сотню уральских казаков и приказал им идти в обход и выбить из-за каменьев шведских егерей. Более восьмидесяти неприятельских стрелков сдались после первой же короткой перестрелки, остальные из города выслали парламентеров.
Кульнев написал по-немецки на листке из своей записной книжки: «Любезный генерал фон Дебельн! Я уважаю вашу храбрость в бою и похвальную рассудительность, проявленную вами на Аландах, смыслом которой было — не допустить ненужного кровопролития. Вы, генерал, один из самых достойных противников, с коими меня сводила сия кампания среди хладных финских и шведских скал. Я клянусь не нанести никакого, даже малейшего ущерба ни городу Грисслехамну, ни его жителям, ни оставленным на их попечении больным и увечным шведским воинам. Все они будут пребывать под моей личною защитою и покровительством общего для нас всех Господа Бога…»
Проскакав сотню верст до Стокгольма, фон Дебельн уже входил в королевский замок. Увидев его пред собою, Густав-Адольф принял оскорбленный вид.
— Почему вы, генерал, позволяете входить к своему королю, имея на бедре так небрежно надетую шпагу?
— Виноват, ваше величество, — отвечал генерал. — Однако причина, побудившая меня явиться в королевский замок прямо с театра войны, полагаю, важнее следования форме одежды. Русские уже на шведском берегу, мой король!
Густав-Адольф схватился за спинку, стула, сжав кисть руки так крепко, что побелели суставы.
— И это говорите мне вы, сдавший Аланды? — вскричал король. — Прочь! Прочь от меня. Я сам по примеру Карла Двенадцатого возглавлю свои войска, чтобы сбросить в море русских. Я объявлю войну Франции. Пусть не только император Александр, но сам Наполеон узнает мою силу.
— Поздно, — возразил ему фон Дебельн. — Я сам готов заплакать кровавыми слезами. И каждая капля из моих глаз скажет о том, какую боль я испытываю к моим братьям финнам, которых мы не смогли защитить. Но Господь должен внушить ныне всем нам не месть, а благоразумие.
Теперь бледность залила все лицо Густава-Адольфа, сделав его похожим на маску.
— На что намекаете вы, генерал? — едва сумел вымолвить король. — По-вашему, я должен оставить трон? Знаю, некогда преданные мне офицеры гвардии плетут против меня сети заговора.
— Я — солдат, а не заговорщик, — прямо глядя в глаза своему королю, произнес Дебельн. — Однако в трудный для моей родины момент я поступлю так, как найдут нужным поступить истинные сыны Швеции.
Двое суток Кульнев был хозяином города на шведском берегу, откуда открывался прямой и свободный путь к Стокгольму. Он знал, что еще неделя-другая — и залив вскроется ото льда, и переход всей массы войск окажется невозможным. Так подойдут ли полки, уже занявшие Аланды, или поступит приказ отойти?
Кульнев знал, что он совершил то, что был обязан сделать, выполняя приказ князя Багратиона: первым вступить на землю Швеции. Он это сделал, как всегда, без излишней позы, но поистине свершив невозможное, как, впрочем, и все Багратионово войско.
Но Кульнев не знал тогда, пребывая в городе, им доблестно занятом, о том, что шведский король уже несколько часов как низложен.
А вскоре пришел от князя Багратиона приказ — отходить, в нем были и такие слова: «Подвиг ваш останется незабвенным в летописях времен позднейших к бессмертной славе российского оружия».
Подобные слова, между прочим, спустя несколько дней Багратион вставит и в свою докладную записку на имя главнокомандующего. В записке этой, вновь особо отметив заслуги победителей Грисслехамна, не забудет ни одного человека из вверенного ему корпуса.
«Имею честь представить именные списки об отличившихся господах генералах благоразумными распоряжениями, деятельностью и мужеством, штаб- и обер-офицерах, отменным усердием и точным выполнением предписаний высших начальников быв во всем и повсюду примером своим подчиненным, и нижних чинов храбростию, презрением всех опасностей и перенесением неимоверных трудов споспешествовавших мне в столь короткое время с успехом окончить возложенное на меня поручение. К особому же усердию и попечению отношу всех господ шефов, полковых и батальонных командиров примерное сбережение людей: корпус, мне вверенный, делая форсированные марши большею частию по пространным морским заливам и плесам во время вьюг и метелей, в жестокие морозы, не имел ни одного ознобленного человека как в кавалерии, так и в пехоте и артиллерии. При сем долгом поставляю себе покорнейше просить об исходатайствовании у престола всемилостивейшего государя по делам их должного воздаяния и монаршего воззрения…
Князь Багратион».
Глава двадцатая
Итак, Северная война закончилась. И закончилась таким триумфом, о котором вряд ли могли думать всерьез год назад в войсках и, главным образом, тот, по чьей воле сия война началась, — царь Александр Первый.
Да, кампания затянулась, приходилось повторно наступать в лесных и болотистых местах, где русские полки и дивизии уже однажды прошли с успехом. Но, несмотря на бездарность главнокомандующих, жертвы с русской стороны были самые малые. Достаточно упомянуть, что семнадцатитысячный корпус Багратиона в походе на Аландские острова потерял убитым лишь одного казачьего унтер-офицера, ранеными восемнадцать человек, из которых — один обер-офицер Войска Донского, и чуть более полусотни лошадей погибшими и покалеченными.
И — припомним докладную Багратиона — благодаря примерному сбережению людей, что командир корпуса считал для себя и всех подчиненных ему офицеров первейшею заслугою, не оказалось ни одного пострадавшего от губительных морозов, когда шведы и финны в привычных для них условиях замерзали на дорогах до смерти.
Негромкая, незаметная вроде бы была война, а результаты ее оказались неожиданно потрясающими. Швеция потеряла Финляндию и Аланды, иными словами, треть принадлежавшей ей территории, и недавно еще безраздельное свое господство в Балтийском море.
Обретение власти над соседней Финляндией и дополнительными балтийскими портами враз заставило замолчать тех, кто совсем недавно называл царя приказчиком Наполеона и тешил себя надеждами заменить его на троне тем лицом, которое осуществляло бы, как им казалось, независимую политику России. Угрозы заговора, еще как следует не оформившись, разлетелись в прах. Зато потерял свой трон тот, против кого начал войну император всероссийский.
В Санкт-Петербурге с наслаждением передавали друг другу то, что доходило из Стокгольма и кружным путем из других столиц о последних днях шведского короля.
Говорили: все окружение Густава-Адольфа требовало от него немедленного прекращения войны. Кроме русских, которые были уже в сотне верст от Стокгольма, с юга Швеции угрожали французы. Дальнейшее упрямство короля могло привести лишь к полной оккупации страны. Однако в своем безумии Густав-Адольф был невменяем. Тогда несколько гвардейских офицеров решили с помощью силы низложить зарвавшегося правителя.
Король уже прослышал о заговоре и велел запереть все ворота замка и усилить караулы. Войскам же, находившимся в столице, был отдан приказ немедленно выступить в поход на побережье. Тем не менее около полусотни офицеров пробрались в замок, и один из руководителей заговора, барон Адлеркранц, заявил королю:
— Государь! Первые чины королевства и армии, наиболее уважаемые граждане вашей столицы поручили мне заявить вашему величеству, что настоящее прискорбное положение дел чрезвычайно волнует все население.
Густав-Адольф сразу же понял, к чему идет дело, и закричал в припадке бешенства:
— Изменники! Вас всех ждет виселица!
— Нет, ваше величество, мы не изменники, — хладнокровно возразил барон. — Мы честные шведы, которые хотят спасти и отечество и вас, государь.
Король обнажил шпагу, но барон и стоявшие с ним рядом офицеры обезоружили его. На крики и шум явился дворцовый караул, и в суматохе король выбежал из кабинета, сумев закрыть за собою дверь на ключ. Преследователи навалились на дверь и бросились в погоню за королем, которого настигли уже во дворе.
Через несколько дней арестованный безумец отрекся от короны, а герцог Зюдерманландский был провозглашен королем под именем Карла Тринадцатого.
Вскоре Густав-Адольф развелся с женой и, назвавшись полковником Густавсоном, уже как частное лицо выехал на жительство в Швейцарию.
Одержав громогласную победу в войне, Александр Первый доказал собственную силу и несокрушимость. И первыми, кто это почувствовал и испытал на себе, были мать Мария Федоровна и сестра Екатерина, с именами которых недовольные связывали свои сокровенные надежды на изменения в управлении государством.
Еще осенью прошлого, 1808 года, когда Александр Павлович направился в немецкий город Эрфурт на свидание с французским императором, его, точно малое дитя, которому нужна опека, предостерегали:
— Кровожадный корсиканец готовит вам западню. Он похитит вас и убьет.
Подобными измышлениями императора запугивала мать, пытаясь остановить и положить конец союзу России с Францией. Александр Павлович, напротив, вернулся не просто целым и невредимым, но победителем.
В нем все: превосходный вид, улыбка, чувство собственного достоинства — свидетельствовало, что он не только не попался в Наполеоновы сети, но сам всецело овладел им. Во-первых, он уговорил французского императора сократить непосильную контрибуцию с Пруссии. Во-вторых, по сути дела, отказался участвовать в войне французов против своей былой союзницы Австрии. В-третьих, заручился поддержкою всесильного Талейрана, обратив его в своего тайного агента. И в-четвертых, по своей лукавой манере прямо никогда не говорить ни «да», ни «нет», дал понять своему августейшему союзнику, что при определенных условиях их дружба в принципе может быть укреплена не только государственными, но, пожалуй, и родственными связями.
О чем же таком в Эрфурте вдруг зашла речь?
Став императором Франций, Наполеон в последнее время нередко задумывался о том, кто же будет его наследником? Жена Жозефина, увы, не могла подарить ему сына. Потому и возникла мысль о разводе и о новом браке. Но коли выбирать другую жену, следует на сей раз обратиться к одной из самых могущественных династий мира. Выбор был невелик: Австрия или Россия. Наполеон остановился на последней, самой могущественной в военном отношении империи, с коей так крепко уже он наладил союз.
И предмет возможного брачного союза — сестра русского императора двадцатилетняя великая княжна Екатерина. О ней через ловкого Талейрана Наполеон и завел с русским царем речь.
Французский император помнил, как год назад в Тильзите Александр, отчаявшись подобрать своей сестре достойного жениха, высказал мысль: а не женить ли брата Наполеона, только что пожалованного королем Вестфалии, на его августейшей сестре? В тот раз дальше слов дело не пошло. Ныне же с именем Екатерины связывал свои надежды сам французский император; Александр Павлович изрек: он бы счел сие предложение за счастье, но окончательное решение о браке сестры — за их матерью.
С обворожительною улыбкою, смысл которой не всегда были в состоянии угадать даже близкие ему люди, Александр объявил о предложении французского императора в своей семье. Императрица-мать побледнела и не произнесла ни слова. Екатерина же, не сдержавшись, высказала в сердцах:
— Я скорее пойду замуж за последнего истопника, чем за этого корсиканца. Как же могли вы, ваше величество?..
— Вот и прекрасно, моя радость, моя любимая сестра, — воскликнул брат-император, продолжая улыбкой одарять мама и Катишу. — Тогда не станем терять времени даром и объявим о вашей помолвке с Жоржем. Я надеюсь, у вашего императорского величества не будет на сей счет возражений?
Только теперь к императрице-матери вернулся дар речи.
— Сын мой, вы — государь. И благодаря нашему образу правления — неограниченный повелитель вашего народа и вашей семьи, — произнесла Мария Федоровна. — Вы можете располагать судьбой вашей сестры, даже вашей матери. Как подданная, я бы не произнесла ни слова, если бы вы настаивали на согласии с тем предложением, которое вы привезли из Эрфурта. Но как мать, я бы не смогла молчать о судьбе моей дочери и вашей сестры. Однако, слава Богу, у вас достало и государственной мудрости, и кровной к нам любви, чтобы принять единственно правильное решение. И я согласна с вами: Катиша и Жорж — достойная пара.
Дети и их судьба. Их жизнь и семейное счастье. Какой матери безразлично, как сложится оно, это счастье? И будет ли оно вообще у тех, кого когда-то носила под сердцем? Для нее, бывшей немецкой принцессы, воспитанной в преданности дому, ничего не могло быть священнее собственной семьи. Вернее сказать, ее дочерей и сыновей. Но первые же их браки не обрадовали.
Начать хотя бы с Александра. Чистым ангелом величают нынешнюю императрицу Елизавету Алексеевну, а вот поди ж, вместо супружеских отношений — лед. Страшно признаться, но она ныне — единственная женщина, к которой равнодушно его сердце, готовое растаять при виде любой иной обворожительной дамы.
А у Константина что ж? Пылкая юношеская страсть и тут же, через каких-нибудь год или два — полная неприязнь друг к другу. Сын уезжает на войну к Суворову, его жена Анна — к своим родным в германский город Кобург, чтобы оттуда уже никогда не возвращаться к мужу.
Но то судьба сыновей. Горше планида женская, незавидная доля ее дочерей.
Помнится, еще ее покойная свекровь, великая императрица Екатерина, жаловалась: нелегкой окажется судьба внучек. В письме барону Гримму, одному из своих заграничных корреспондентов, она так и писала о женском потомстве своего сына Павла:
«Дочери все будут плохо выданы замуж, потому что ничего не может быть несчастнее российской великой княжны. Они не сумеют ни к чему примениться: все им будет казаться мелочно, это выйдут существа резкие, крикуньи, охулительницы, красивые, непоследовательные, выше предрассудков, приличий и людской молвы. Конечно, у них будут искатели, но это поведет к бесконечным недоумениям, и хуже всех придется той, которая будет называться Екатериною: самое имя доставит ей больше неприятностей сравнительно с сестрами. При всем том может случиться, что женихов не оберешься. Мне бы хотелось помочь этому, назвавши всех их, хотя бы народилось десяток, именем Марии. Тогда, мне кажется, они будут держать себя прямо, заботиться о своем стане и цвете лица, есть за четверых, благоразумно выбирать книги для чтения, и напоследок из них выйдут отличные гражданки для какой хочешь страны».
Как в воду глядела бабка: сие ведь говорилось еще лет за восемь до сватовства Александры, самой старшей из шести ее августейших внучек.
Одно воспоминание о неудавшейся помолвке дочери со взбалмошным шведским королем Густавом-Адольфом и теперь приводит Марию Федоровну в дрожь. Недаром, видно, Господь наказал шельму, лишив его трона. Однако и Сашенькина жизнь не заладилась — отошла в мир иной, будучи уже замужем за австрийским эрцгерцогом.
Так же не насладилась жизнью вторая дочь — Елена, умерев пять лет назад в самом расцвете молодости.
Теперь тревога за Екатерину. Неужто я тут бабка окажется права, сказав когда-то, что само имя доставят ей больше неприятностей сравнительно с сестрами? Но — тьфу, тьфу, — куда уж больше?
Тем не менее выбор женихов не заладился с самого начала. Материнское сердце указало, казалось бы, достойный выбор — императора Австрии. Да запротивился император российский, ее родной сын. Дальше уж пошли сплошные карикатуры, а не суженые — принц Леопольд Кобургский и Баварский наследный принц Вильгельм. Оба заики. Вот уж угодил князь Куракин, коему она, Мария Федоровна, после неудачи с императором Францем отписала в Тильзит: непременно продолжать поиск!
Тогда-то, в Тильзите, впервые и случилась попытка связать имя Екатерины с фамилиею Бонапартов. Нет, не с самим корсиканским чудовищем, а с его младшим братом Жеромом. И кто же высказал первым сию затею? Страшно и вспомнить: опять же ее сын, император. Да оказалось, младший Бонапарт, сей непутевый отпрыск корсиканского семени, чуть ли не мальчишкою обвенчался с одною американкою и заимел от нее сына.
Слава Богу, что старший Бонапарт, не питая уважения к своему непутевому младшему братцу, не одобрил предложения Александра.
А может, тогда уже он, сей изверг рода человеческого, решил приберечь русскую великую княжну Екатерину для брака с собственною персоной? Вот же теперь о том прямо сказал через свое доверенное лицо российскому императору!
«Господи, слава тебе, что пронесло, что не дал ты совершиться невозможному, — перекрестилась на образа Мария Федоровна. — И главное, избавил меня, российскую императрицу, от непереносимого стыда — породниться с чудовищным Минотавром!
Но нет, следует спешить с обручением. Мой племянник Георг Гольштейн-Ольденбургский — достойная партия. И Катиша к нему привыкла, должно, уже с самого детства, как они любят вместе читать Шиллера!
Чего же еще ждать? Как говорится по-русски, от добра добра не ищут. А то ведь есть еще и другая поговорка: не попала бы шлея под хвост. От моей дочери всего можно ожидать: так она строптива и упряма. Теперь у нее на словах снова Багратион. Ничего не скажу дурного о князе Петре Ивановиче. Но он — и Катиша! Мыслимо ли сие?
А ведь коли не брак, то иное что промеж них, не дай Бог, приключится. С ней, моей дочерью, в честь бабки Екатериною названной, всякое может статься».
С театра войны князь Багратион возвратился в новом уже чине — генерала от инфантерии, как было отмечено в царском указе, «за оказанные отличия во всю кампанию».
Такие же звания были пожалованы Барклаю-де-Толли и графу Каменскому второму, сыну фельдмаршала, заменившему Шувалова на посту командующего корпусом, направлявшимся в Швецию в обход Ботнического залива.
Генералы родов войск — инфантерии, то есть пехоты, и кавалерии — считались в России так называемыми полными генералами. И если сравнивать их с французскими коллегами — соответствовали Наполеоновым маршалам.
При императоре Франции генералы разделялись на два класса: на бригадных, что равнялись нашим генерал-майорам, и дивизионных, соответствующих генерал-лейтенантам. Во главе же корпусов стояли маршалы, выше которых никого не было по званию. Ибо верховным главнокомандующим считался сам император Наполеон, впрочем никогда сам формально не обладавший маршальским жезлом.
Однако российская военная табель о рангах вслед за полными генералами предусматривала еще фельдмаршальский чин и звание генералиссимуса. Но оба звания, скорее, воспринимались как почетные.
Гатчина и Павловск, где Петр Иванович вновь обязан был занять свое место летнего коменданта, в сей приезд его уже не притягивали так желанно и сладостно, как в предыдущие годы. И он понял, почему это случилось, лишь только вышел в Гатчине из экипажа: места эти опустели, лишившись главной для него притягательности — великой княжны Екатерины Павловны.
Сразу же после обручения она и ее супруг Георг Ольденбургский отправились в Москву, остановившись на короткое время в Твери. Это было свадебное путешествие, но в то же время и сугубо деловая поездка, касающаяся нового назначения, что получил молодой супруг.
В качестве свадебного подарка от российского императора. Принц Георг Ольденбургский был назначен главноуправляющим путями сообщения всей России, а также генерал-губернатором Тверской, Новгородской и Ярославской губерний с местом пребывания в городе Твери.
Когда-то, в бытность Екатерины Великой, в Твери, на берегу реки Тьмаки, между теперешней Миллионной улицею и набережною Волги, был сооружен путевой царский дворец. Ныне он переходил во владение молодой великокняжеской четы. Однако, как и полагается всяким новым владельцам, дворец решили тут же переделать и благоустроить обширный при нем парк.
Денег великая княгиня решила не жалеть: в качестве приданого от брата-императора она получила более двух миллионов рублей и, главное, наконец-то обрела возможность проявить на деле свой великолепный художественный вкус.
Жаль, очень жаль, что мы так нерадивы и не особенно ценим то, в чем были сильны многие наши предшественники. А ведь те, кто знал близко великую княгиню Екатерину Павловну, утверждали: не будь она дочерью императора, непременно стала бы выдающейся художницею.
И вот места, где некогда царил ее гений, теперь в глазах Багратиона потеряли свою притягательную силу и даже привлекательность.
Однако на что он мог рассчитывать, на что надеяться? Их чувствам не дано было расцвесть.
Они, эти чувства, словно какой-нибудь яркий полевой цветок, невесть откуда занесенный в поле, как в одночасье вспыхнет всею прелестью своих красок, так внезапно отцветет и, поникнув, увянет.
И все же — теперь он это особенно почувствовал остро — сие означало для него огромную и невосполнимую утрату.
Нет, он, должно быть, не мыслил великую княжну рядом с собою, не представлял ее спутницею своей жизни. Ему было бы довольно и того, чтобы знать: она помнит о нем, он всегда в ее сердце, как и она, озарение и свет его жизни, — в его мечтах, в его душе.
Но разве может длиться такое, если жизнь — это постоянное движение и судьба человеческая обязательно должна когда-нибудь обрести свой обетованный берег?
Отныне она сие пристанище обрела. Навсегда. И — без него. К чему же теперь печалиться в том, что ему уже не сыщется даже маленького уголка в ее сердце?
Между тем, как всякая деятельная натура, он не позволил потратить время не то чтобы на уныние, но даже на пустую праздность. Полк его уже прибыл из Санкт-Петербурга в окрестности Павловска и разбил летний лагерь. И размеренная воинская жизнь, как и всегда, целиком и полностью поглотила Багратиона.
Впрочем, не только обязанности шефа полка и коменданта Павловска стали его заботою. Пришла пора взяться за дело, которое он давно уже замыслил, но до которого так и не могли дойти руки. Речь шла о собственном дачном домике, что он решил возвести в Павловске.
Еще в прошлом году, приезжая в отпуск, Багратион приобрел участок между Парадным полем и Белой Березой — чудесный уголок павловского парка. Здесь яркие лесные поляны сменялись тенистыми рощами, что придавало участку на редкость живописный вид.
Землю уступил князь Куракин. Не Александр Борисович, а его младший брат Алексей, министр внутренних Дел. Если о старшем Куракине говорилось как о никчемном, в сущности, дипломате, но падком на почести и богатство царедворце, то у меньшего находили определенные качества государственного человека. Правда, и он, прибавляли, крадет без всякого стыда, и уж коли что близко лежит, того не упустит.
Случилось, что Алексей Борисович тогда только возвратился из Вены, и, разумеется, разговор с ним Петр Иванович сразу начал с расспросов о своей жене.
— Ах, как милая Екатерина Павловна скучает по России! — вздохнул министр. — Когда княгиня узнала, что мне пора возвращаться домой, она, любезный Петр Иванович, чуть ли не разрыдалась у меня на груди. «Будете в Павловске, поклонитесь от меня родным березам» — так, между прочим, и сказала. А я что ж — и сам любуюсь ими, видите, как бы наспех — от одного короткого наезда до другого. Вот и надумал продать свой участок с домишком, что, видите, пришел в негодность — пригляду за ним ведь нет. Но дал себе зарок: Чтобы новому хозяину он стал в радость. Вот как бы так: возвратится когда-нибудь княгиня Екатерина Павловна из своей заграницы, а березки — вон они, пред ее прелестными глазами.
— Так вы, Алексей Борисович, находите… — начал Багратион, но так и не докончил своего вопроса, поскольку его упредил собеседник.
— Сомнений никаких нет, дорогой Петр Иванович, в том, что здоровье княгини идет на поправку. А сие означает окончание затянувшейся вашей разлуки. Так что…
Теперь перебил Багратион:
— Что ж, по рукам. Коли ищете покупателя, участок у вас приобрету я.
Так и закончился тогда отпуск по болезни: все деньги, полученные от государя, ушли на покупку. Нынче же выдалась возможность непременно на месте старого начать постройку нового дома. И деньги появились: государь распорядился выдать кредит в размере девяти тысяч рублей. И подрядчик определился — им оказался расторопный ярославский купец Андрей Полевин, ходок по строительной части. Первоначальный же чертеж будущего дома Петр Иванович изобразил на бумаге сам, а затем нанял архитекторов сделать расчеты.
Все уже сладилось и, главное, затянуло самого заказчика с головою в строительную страду. Да в самый разгар дела, когда уж и лес и кирпич были закуплены, объявился в Павловске такой вертлявый и юркий молодой господин, представившийся поверенным княгини Багратион.
Начал без околичностей и предисловий, а сразу взяв быка за рога:
— Любезный князь, княгиня, ваша супруга, уполномочила меня обратиться к вам с этой вот доверенностью.
Взгляд Багратиона пробежал по строчкам, и разум отказался сразу понять суть. Какие он обязан немедленно заплатить долги и кому? Лишь спустя минуту дошло: ее, ее долги венским и неапольским кредиторам.
— Однако графиня Литта, ее мать… — возразил Багратион. — Насколько мне известно по прошлогодней встрече с ее сиятельством, именно она уполномочена распоряжаться всем достоянием княгини в России.
— Графиня Литта, ваше сиятельство, как бы сие поделикатнее объяснить, — вкрадчиво заметил господин, — изволили произвести с княгинею, вашею супругою, раздел имущества. Так что ее — это ее. И с какой стати, дала мне понять графиня Литта, она обязана покрывать, простите, мотовство дочери.
— Но позвольте, — вырвалось у Багратиона, — к имуществу княгини я вовсе не имею никакого касательства! Может быть, она меня решила сделать распорядителем ее части наследства? Вы привезли на сей счет от нее какую-либо бумагу?
— Никак нет, ваше сиятельство, — ответствовал посланец княгини. — Мне неизвестны намерения вашей жены по поводу ее здешнего имущества и денежных сумм, имеющихся в петербургских банках. Ее сиятельство княгиня адресовала меня прямо к вам. Она, простите, так и выразилась: сообщите моему супругу, что только от него зависит мое здешнее благополучие.
Постройка дачи грозила остановиться: отложенная на нее сумма упорхнула в Вену. Да и как он мог поступить иначе? Однако раздел с матерью его насторожил. Кто же теперь сделается ее, княгини, распорядителем? Ну конечно же она забыла по своей привычной рассеянности выслать доверенность на его имя! Сей молодой господин объяснит ей положение дел, и бумага тотчас придет. А пока с постройкою придется повременить. Это как с отступлением: предприятие не из приятных, но надо уметь переждать, когда того требуют обстоятельства.
Только Полевин не захотел пережидать.
— Тут вот какое дело, ваше сиятельство, — произнес он, комкая в руках картуз. — Не ведаю, как у вас, генералов, но у нас, людей, привыкших считать копейку, прекратить страду — значится потерять свой интерес.
— Так я заплачу неустойку, — пояснил Багратион. — Вот только получу еще мне причитающееся из казны…
— Прошу прощения. Ваше сиятельство не так изволили меня понять, — покраснел Полевин. — Не нужна нам неустойка. Я за то, чтобы, значится, постройки не прекращать. А что касается денег… Так разве же я не поверю вашему сиятельству в долг?
Споро стал расти дом на зеленой, залитой солнцем лужайке. И однажды пришел на площадку Багратион и обрадованно улыбнулся: до чего же красив терем!
А через несколько дней этим исконно русским словом назвала его новую дачу и только что возвратившаяся из своего путешествия великая княгиня Екатерина Павловна.
Ждал: со дня на день молодые обещались возвратиться из Твери. Пришла сначала от них эстафета с известием, а следом — и молодожены.
Со всеми к экипажу не вышел. Спустился в аллею, когда вечером она с мужем после прогулки оказалась в беседке.
Как оживилась она, увидав его! И когда протянула ему руку, он, припав к ней губами, почувствовал, как она взволновалась.
Муж был рядом — какой-то весь невзрачный, болезненный, лицо в прыщах. Петр Иванович с достоинством ему поклонился, высказав слова, приличествующие для официального представления.
Но следовало высказать и поздравления. Принц Георг принял сии слова с внезапно возникшей, как у ребенка, улыбкою. Екатерина Павловна поблагодарила и, не сдержавшись, искренно произнесла:
— Как я рада, князь, видеть вас снова! Каждый ваш приезд — это ведь не возвращение из свадебного вояжа, как теперь у нас с Жоржем. У вас — это всегда избавление от ужасов, а может быть, всякий раз — и от неминуемой смерти. Впрочем, надо ли в такой день о мрачном?
— Она мило улыбнулась и пригласила его сесть подле себя.
— Мне сказали, что вот там, на лужайке, вы строитесь, князь Петр Иванович? Мы с Жоржем специально направились к той поляне, чтобы увидеть ваш терем. Представьте, по-иному я его не могу назвать: так мил этот домик, точно вышел из русской сказки. И я сразу подумала: в облике дачи — идея милого Петра Ивановича. Я права?
И тут же она с радостью сообщила, сколько сама придумала для перестройки дворца в Твери.
— Прямо теперь беру с вас слово, любезный князь: обещайте быть моим… нашим гостем сразу же, как мы переедем в Тверь в конце лета. Мой дворец в Твери станет Меккой для самых близких мне по духу лиц. И знаете, кто обещал посетить меня? Николай Михайлович Карамзин. Представьте, что задумал Николай Михайлович — написать, историю государства Российского! Какой же он умница. С ним меня свел в Москве граф Ростопчин. Так что вы, князь, и Карамзин — уже двое моих будущих самых главных гостей. Двое самых честных, самых искренних и славных сынов России.
— Ах, вот где укрылись наши молодые! — раздался голос императора, и он со своею обворожительною улыбкою на губах появился в беседке. Но вдруг что-то дрогнуло в его лице, и Александр Павлович произнес:
— Однако у вас с князем Багратионом серьезный разговор?
— О нет, ваше величество, — ответила великая княгиня. — Мы с Жоржем пригласили любезного князя навестить нас в Твери, как только закончится перестройка нашего дома.
Улыбка вновь появилась на кончиках губ Александра Павловича, но при этом его небесно-голубые глаза остались холодными.
— О да, конечно, милая сестра, — согласился царь. — У вас должен быть там настоящий праздник и много гостей. Однако боюсь, что князь Петр Иванович вряд ли, как любой истинный военный человек, может твердо кого бы то ни было обязывать даже в самом недалеком будущем. А вдруг — новая война? Не так ли, князь? — повернул император все еще продолжающее улыбаться лицо в сторону Багратиона.
Вряд ли кто другой, кроме Александра Павловича, обладал такой удивительной способностью скрывать истинную свою натуру. Увидев сегодня Багратиона в обществе сестры, он весь как бы заледенел.
«Что же он, разве не понимает, что Катиша уже замужем? И вообще, что это за связь, о которой мне чуть ли не прожужжали все уши? Нет, нет, этому следует сразу же положить конец! Не хватало, чтобы Багратион стал другом тверского двора.
Да и что он вообразил в самом деле и кого выбрал для излияния своих чувств? Смешно и немыслимо даже вообразить — мою сестру, ту, которую я люблю всем сердцем.
Да, именно так! Я люблю ее, Катишу, до сумасшествия, до безумия, как маньяк! И конечно же сильнее, чем это может делать брат по отношению к сестре. Но я умею, как никто, держать себя в руках и скрывать от других свои чувства. Принц Жорж — не в счет. Он — законный муж. Однако других, кому Катиша позволит отдать свое сердце, я рядом с нею не потерплю!»
Платоническая влюбленность. Так в недалеком будущем исследователи жизни императора Александра Первого определят его слабость к женскому полу. Он страстно, не помня себя от счастья, влюблялся в каждую очаровательную женщину, подчас именно платонически. Так, вероятнее всего, он воспылал страстью и по отношению к родной сестре.
Придет время, и через каких-нибудь лет шесть в Вене увидев на балу княгиню Багратион, он совершенно потеряет голову. Однако в пору Венского конгресса он встретит немало красавиц, которых пожелает поместить в своем любвеобильном сердце.
Теперь же царь полагал, что нет и не может быть для него существа дороже, чем его родная сестра.
Тринадцатого июля 1809 года он с облегчением подписал рескрипт, адресованный генералу от инфантерии князю Багратиону, в коем значилось: «Признавая нужным нахождение ваше в Молдавской армии, повелеваю вам по получении сего отправиться к оной и явиться там к главнокомандующему генерал-фельдмаршалу князю Прозоровскому, от коего и имеете ожидать дальнейшего вам назначения».
Однако права народная примета: беда с бедою всегда ходят под руку. Правда, ни указ императора, ни сообщение, что Багратион прочитал случайно в «Санкт-Петербургских ведомостях», он ни в коей мере бедою не счел. Но — все же…
Сообщение же газеты было таким: «Действительный тайный советник, министр внутренних дел князь Алексей Борисович Куракин объявляет, что генеральша княгиня Екатерина Павловна Багратион, урожденная графиня Скавронская, по случаю пребывания ее вне государства, предоставила ему управление и распоряжение всем ее имением и всеми делами, по поводу чего все прежде данные от нее на управление доверенности уничтожила, посему все те, кои имеют какие-либо требования или дела по имению ее, княгини Багратион, равно и те, которым она состоит должною, благоволят относиться к нему, князю Куракину, от последней публикации в продолжение времени, к явке законом постановленного».
Глава двадцать первая
Все самые громкие баталии, в которых когда-то принимал участие князь Прозоровский, давно уже канули в Лету, как безвозвратно ушли в мир иной отцы тех немеркнущих побед — Потемкин, Румянцев, Суворов. Подчас Александра Александровича в силу расстроенного здоровья даже посещали сомнения: а были ли на самом деле те достославные, ратные свершения и имел ли он сам к ним какое-либо прикосновение?
Лишь ночами вопросы сии выглядели зряшными и никчемными. Адская боль от бедра до самой ступни пронизывала ногу, и старый фельдмаршал мгновенно вспоминал: то след тяжелого ранения, полученного в Семилетней войне под Гросс-Егерсдорфом. Не мог пошевелить рукою — сразу возникала Польша, и он, тогда уже полковник, лежит, обливаясь кровью, на краю топкого болота. А то вовсе не подняться, не выпрямить спину — гуляют где-то рядом с позвоночником железные осколки, впившиеся в тело в знойной крымской степи.
Как бы ни тянулись мучительные, подчас без сна, ночные часы, а всех ранений с контузиями было не перечесть. А значит, и всех битв, что отмечены этими увечьями. Но были и такие сражения, что, не оставляя вовсе на теле никаких рубцов, откладывались страдальческими отметинами на сердце.
Последняя такая душевная рана — страшеннейший конфуз под Браиловом. Который уж год пошел, как он принял Молдавскую армию, и она, согласно вероломному вступлению в войну Оттоманской Порты, стала действующею. Завязывались схватки с турками по-над Дунаем, готовился перейти реку, чтобы очистить от войск визиря всю Молдавию с Валахией, а там и освободить от турецкого ига Болгарию с Сербией. Однако настоящею войною, а главное, обещанным победным наступлением так и не пахло. А что поделаешь, если и по комнатам сам передвигался с большим трудом, а чтобы сесть на лошадь — то уж вовсе забыл, как сие делается.
Упросил царя прислать какого-нибудь генерала в помощь. Хотя бы Кутузова. «Буду употреблять его вместо себя. Он почти мой ученик».
Совсем недавно были они соседями по службе: Михаил Илларионович значился военным губернатором в Киеве, Прозоровский начальствовал над милицейскими войсками в Умани. Славное, тишайшее было житье у командующего пограничниками-поселенцами, да вот соблазнился тем, что, вверяя Молдавскую армию, император производил его в вожделенное для каждого генерала фельдмаршальское звание.
Поручив Кутузову начальство над главным корпусом, семидесятисемилетний фельдмаршал полагал, что, не сдавая формально пост главнокомандующего, он тем не менее вовсе освободит себя ото всех обязанностей. Однако, скучая без дела, он нет-нет да вмешивался в распоряжения своего нового помощника.
Кутузов и сам был в летах уже немалых. Да недавнее сибаритское житье в Киеве давало знать — управление армией не налаживалось, а еще более расстраивалось. А когда решились все же начать наступление и осадить Браилов, тут и случился конфуз, что обернулся острою душевною скорбью. Три тысячи солдат напрасно было потеряно в сем предприятии, а главное — утрачена надежда на победоносное продвижение вперед, на котором настаивал царь.
Фельдмаршал переживал поражение как глубочайшую трагедию. Он рыдал, кидался на колени пред образами, рвал на себе остатки седых косм.
Михаил Илларионович, напротив, философски отнесся к неудаче.
— Я проиграл Аустерлицкое сражение, решавшее участь Европы, да и то не отчаивался, — пытался он успокоить своего начальника.
«Нет, Кутузов мне не помощь, а помеха», — решил про себя фельдмаршал и упросил императора отозвать недавнего сотоварища.
Император ответил в том духе, что решить судьбу Кутузова предоставляет ему, главнокомандующему. Коли не справился-де с командованием главного корпуса, вы, любезнейший Александр Александрович, вправе передвинуть сего военачальника в тыл, поручив ему не боевой, а резервный корпус. А будет ваше желание вовсе избавиться от незадачливого, на ваш взгляд, помощника, к письму своему прилагаю подписанный мною указ о назначении Кутузова в должности военного губернатора литовского. В вашей воле, мол, выбрать приемлемое решение: и на то и на другое я даю свое монаршее согласие.
«Хитер, — отметил про себя Прозоровский, думая о поступке царя. — Как всегда, умывает руки. Ну да мне-то что? Вручу Михаилу Илларионычу императорский рескрипт и поздравлю с монаршею милостью и новым назначением в Вильну. Себя же избавлю и от соперника и от стратега, коий, не дай Бог, устроил бы мне здесь второй Аустерлиц, сиречь — полный разгром моего войска. А вот товарища, на которого я смог бы возложить дела в видах расстроенного на государевой службе здоровья, его величество прислать непременно обязан. Однако направить такого, чтобы был скромен и в соперничестве не проявлялся».
Лишь в ночной беспокойной дреме могло пригрезиться то, что вскоре произошло: не кого-нибудь послушного и уважительного, а самого беспокойного и известнейшего, пожалуй, во всей империи генерала князя Багратиона откомандировал к нему на сей раз Александр Павлович!
Духота в мазанке стояла дикая. Пот со лба катился градом, так что фельдмаршал не выпускал из рук полотенца, которое впору было выжимать, как мокрую тряпку. В горле — точно провели наждаком: такая шершавость и сухость. Но пить много — Боже упаси: вода сразу ударяет в ноги, и они делаются тумбами, кои никак не передвинуть.
С трудом, поддерживаемый адъютантом, встал, едва доложили о прибывшем. Багратион — подтянутый, легкий — отсалютовал по всем требованиям воинского артикула, точно оказался не в удушливой знойной степи, а на дворцовом вахтпараде под пристальным императорским оком.
Мгновенно прошиб пот, когда снял восковые печати с царского пакета. Да пот не обычный по жаре — теплый и липкий, а как случается при испуге — холодный, знобящий.
Строчки письма запрыгали пред глазами: «…для вашего же излечения… временно… оставляя за вами должность главнокомандующего…»
«Это же как — сдать ему, Багратиону, армию? Вон и второй пакет рядом на столе. Видно, с указом на сей счет. Но нет, конверт я даже и не подумаю открывать! Сказано же в письме: «на ваше усмотрение». Вот и поступлю в соответствии с волею вашего императорского величества, а лучше сказать — по собственному усмотрению».
И, промокнув лоб свежим полотенцем, услужливо предложенным адъютантом, довершил про себя собственные мысли:
«Ангельский характер у нашего государя — никого не желает обидеть. Мягко стелет. Но жестко случается при том спать. Вот и меня, бедного, загнал в угол — не приказывает, не грозится, а как бы по-товарищески увещевает. Я-де не снимаю вас с командования, а токмо о здравии вашем пекусь. Ну а вы, любезнейший, сами решайте, с достоинством вам уходить или, допустив другие непоправимые конфузы, быть снятым с позором… Нет уж, ваше величество, не поддамся на вашу, простите, уловку. Есть еще порох! А сего претендента я определю на такое место, чтобы польза от него происходила наивысшая, а коль случится виктория, лавры ее обошли бы стороною сего и так заласканного славою военачальника».
Приказ по армии фельдмаршал подписал следующий: «Я определяю генерала от инфантерии князя Багратиона начальником главного корпуса армии и предписываю генерал-лейтенанту Эссену Третьему состоять в команде его, а ему, генералу от инфантерии князю Багратиону, находиться на гауптквартире в рассуждении старости моих лет, а теперь и слабости моего здоровья, от которых я движимого исполнения делать не в состоянии и могу употребить его в надобных случаях для осмотров и прочее…»
По существу, сие было как бы передача армии. Багратиону вменялось находиться в главной квартире и исполнять все обязанности главнокомандующего, включая смотры войск. Но, кроме этого, ему особо вверялось командование главным корпусом и одновременно налагались обязанности и начальника корпуса резервного. То есть тылового, поскольку им формально командовал генерал-лейтенант Эссен третий, теперь переходивший под начало Багратиона.
Один во всех лицах! Так кто же он на самом деле? А это как посмотрит фельдмаршал, когда придется спросить за какую-либо неудачу. Случится туго — послать Багратиона в переднюю линию, где место главного корпуса. А запахнет успехом — тотчас спровадить в тыл: что там у вас, генерал, в резервном корпусе, во всем ли порядок?
Июль месяц был уже на исходе. До сих пор на настоятельные требования царя перейти Дунай и развить решительное наступление в направлении Болгарии князь Прозоровский отвечал: готовим переправу, ждем, когда высохнут дороги. Ныне и переправа оказалась наведенной, и солнце превратило еще недавние топи от разлива реки в твердый наст, по которому во все стороны скачи верхом и тащи за собою многопудовые пушки. Для верности главнокомандующий приказал выслать на противоположный дунайский берег эскадрон кавалерии, чтобы примять там высокий тростник, мешавший переправе.
И вот войска зашевелились. Армия снялась со стоянки и устремилась через Дунай. Каждому нашлось дело. Впереди всех — казаки Платова, за ним пехота Милорадовича, в подкрепу — полки, переданные Ланжерону. Одному Багратиону следовало отправляться прочь от передовой линии, в глубокий тыл, выполняя отнюдь не спешное и в высшей степени какое-то надуманное указание главнокомандующего.
Фельдмаршал князь Прозоровский оказался с передовыми частями уже на том, вражеском, берегу, супротив турецкой крепости Мачин. Но последние силы Александра Александровича были уже на исходе. Далее даже в коляске он ехать не мог, и на третьи сутки его настигла смерть.
Узнав о происшедшем, Багратион возвратился в Голац, где продолжала находиться главная квартира. И как генерал, старший по званию, принял командование армией. Тут же, разбирая бумаги фельдмаршала в поисках плана кампании, Петр Иванович обнаружил царский пакет. Он сам привез этот пакет вкупе с другим, личным письмом императора. Письмо тогда Прозоровский прочел, а вот пакет не вскрыл. Почему же?
Сломав печати, Багратион обнаружил монарший указ о назначении его главнокомандующим Молдавской армией взамен направляющегося на лечение в пределы России фельдмаршала князя Прозоровского. Увы, не пожелал старый воин расстаться с высокою должностью — и расстался с жизнью…
Делать было нечего — приходилось принимать главное командование на марше, хотя Багратион уже буквально за несколько дней успел узнать о плачевном состоянии войск. В полках не хватало обмундирования, фуража и продовольствия, среди солдат было немало больных.
Думал ли предыдущий главнокомандующий о чем-либо важном наперед? Оказалось, нисколько. Плана кампании не существовало ни в законченном виде, ни даже в набросках. Распоряжений о магазинах для снабжения армии, уже оказавшейся на другом берегу Дуная, — никаких. Да и собственную судьбу не сумел по-разумному расчесть сей воитель — мог еще прожить, коли думал бы не о корысти, а лишь о пользе отечества. Да только как не умел беспокоиться о солдате, так бездумно, лишь в рассуждении чиновного престижа, проворонил и собственную жизнь.
Что же теперь досталось ему, Багратиону? В памяти возникли слова государя, которые он произнес, — направляя его в Молдавию:
— Я ожидаю и надеюсь в скором времени получить от вас донесение из-за Дуная.
Взор Александра Павловича был ласков, но при этом, как в большинстве случаев, непроницаемо-загадочен. Хотелось возразить: «Ваше величество, направлять донесения на высочайшее имя — обязанность главнокомандующего. Я же, согласно вашему рескрипту, командируюсь лишь в распоряжение фельдмаршала, коему вами вверена Молдавская армия и от коего зависит моя дальнейшая участь».
Однако ласковая улыбка, не сходившая с губ государя, помешала произнести вслух уже заготовленные слова. Тем более что Александр Павлович, откланявшись, еще раз повторил:
— У меня все надежды на вас, князь Петр Иванович. Так что с Богом!
И вот теперь то напутствие, что прозвучало из уст царя, — в его указе: «Я ожидаю ваших донесений из-за Дуная». И дата: «Тридцатого дня месяца июля…» Выходит, царь рассчитывал на благоразумие старого фельдмаршала, надеялся, что тот добровольно уйдет в отставку и вручит новому командующему уже заранее заготовленный императорский указ. Но даже царь — только предполагает, а располагает людскими замыслами и судьбами Бог…
По всем полкам и батальонам мгновенно распространилась радостная весть: герой и краса всех российских войск князь Багратион — отныне главнокомандующий!
Генерал-лейтенант Милорадович протянул руку:
— Почту за честь, князь, быть под вашим началом. Еще с Италии зародилась наша боевая дружба. Хотя, признаться, не обходилось и без соперничества.
— У нас с вами, Михаил Андреевич, один крестный отец — Суворов, — ответил Багратион. — Сию дружбу, рожденную под его благословенной сенью, он и завещал нам обоим беречь, как честь собственную.
«Ты же, князь, первый меня обскакал, — пронеслось в голове Милорадовича. — Вон только прибыл на молдавский театр — а уже главнокомандующий! И полного генерала ранее меня получил. Я же — старее тебя по чину: ты еще в полковниках ходил, когда я заслужил первый генеральский чин. Кому ж, как не мне, а то, скажем, генерал-лейтенанту Ланжерону, командовать Молдавскою армией? Ты — со стороны. Мы же здесь против турок не один год воюем. Ну ладно, бойкость и прыткость, особливо отмеченные при дворе еще покойным императором Павлом, тебе, князь Петр, еще отрыгнутся. Не знаю, как Ланжерон, а я под тобою долго ходить не собираюсь».
Что-то запало в душу Петра Ивановича, когда он усмотрел, как внезапно потух живой огонек в глазах давнего друга-соперника. «Знаю, самолюбив он, — сказал себе князь. — Но не до такой же степени, чтобы самолюбие сие явилось противником общего блага?»
— Обещаю, Михаил Андреевич, после первого же дела ходатайствовать о вас пред государем, — произнес вслух Багратион. — Ваша редчайшая храбрость всегда была и, надеюсь, будет и впредь выше всяких громких похвал.
Марш Молдавской армии, заданный ей новым главнокомандующим, явился неожиданностью для многих командиров корпусов, полков и батальонов. Войска двигались так стремительно, что не встречали на своем пути сколько-нибудь серьезного сопротивления — янычары визиря спешно отступали. И только единственными очагами сопротивления оказывались крепости — Мачин, Гирсов, Кюстенджи, Силистрия.
Гарнизон Мачина сдался без боя — более трехсот янычар попали в плен, захвачено тринадцать орудий. Корпус Маркова и казаки Платова следом вошли в Гирсов, а затем обложили Кюстенджи.
Багратион, бывший в корпусе Маркова, потребовал через парламентера безоговорочной капитуляции. В ответ — выстрелы со стен цитадели. Тогда главнокомандующий приказал подтянуть тяжелые орудия и открыть огонь. Над бастионом показался белый флаг: сдаемся! Однако турки поставили условие: не хотим в плен, дайте нам возможность уйти в Варну. В ответ требование Багратиона: сложите оружие и ступайте на все четыре стороны, но поклянитесь на Коране, что более не станете воевать против русских.
Громогласная победа ожидала армию Багратиона под Рассеватом, где находились главные силы турок. Здесь казаки Платова и пехота Милорадовича поистине проявили удивительную храбрость. Нещадное в сих местах солнце, голая степь, за которой непроходимые болота, и вдруг — горы… Такие препятствия, когда нечем дышать от зноя, казались непреодолимыми. Но русские воины все одолели и взяли Рассеват.
В донесении императору Багратион сообщил: потери противника — четыре тысячи убитыми, шестьсот плененных. Кроме того, взято семь тяжелых орудий и три знамени. У нас же убитых тридцать человек и сто девять раненых. Все, кто оказался смельчаком, кто сам шел в бой и вел за собою воинство, были перечислены поименно. И первыми среди героев в донесении стояли имена Милорадовича и Платова. Их обоих, по ходатайству Багратиона, государь произвел в полные генералы. Сам главнокомандующий был удостоен высшей награды Российской империи — ордена Святого Андрея Первозванного. Нижним чинам от имени государя было даровано по одному серебряному рублю.
Совсем недавно перед глазами Багратиона расстилалась белая гладь Балтийского моря. Куда ни бросишь взгляд — ни деревца, ни кустика, ни травинки. Лишь мертвое ледяное пространство, припорошенное снегом. И пронизывающий до костей мороз с ветром, берущим разбег на открытом со всех сторон пространстве в сотни и сотни верст.
Здесь — тоже ни деревца, ни кустика. И такое же, на много верст, безлюдье. Только прокаленная и твердая как камень земля дышит не хладом, а зноем. И так же дыхание воздуха отнимает у человека все его силы, от зноя во рту не хватает слюны. В степи же редко где встретишь воду. Оттого и не растет здесь, под, казалось бы, благодатным солнцем, ничего, кроме молочая и колючек, которыми пробавляются редкие стада овец.
Лишь изредка, после утомительного похода, когда вся спина станет липкой от пота и на губах уже выступит горькая соль, глаз человека увидит среди зноя и духоты редкий островок людского быта. То — бедные хутора, состоящие из глинобитных мазанок и камышовых загонов для скота. Изредка встретишь и сады, и даже виноградники. В воздухе дразняще запахнет жареной бараниною, вкусными плациндами — тонко раскатанными лепешками, что выпекают в здешних местах местные жители.
Кого они напоминают Багратиону? Знакомых с детства кавказцев? Может быть, чеченцев или грузин, может быть, армян, осетин и лезгин? Но скорее всего, почему-то итальянцев.
Впрочем, каждый народ — на свой манер, каждое людское племя — с особинкою, только ему и присущею. И они, молдаване и валахцы, — особенные по-своему. Вон медленно шествует по улице старик с длинными черными волосами до плеч. Следом за ним идет красивый черноглазый парень в какой-то расшитой яркою пряжею душегрейке. А за изгородью, в тени, прячется от солнцепека человек в фиолетовом бархатном кафтане, подпоясанном алою шалью, в голубой суконной шапке, похожей на дыню. Кто он — боярин, местный князь? Одно безошибочно можно утверждать: персона богатая и знатная.
Кругом — скрип телег, именуемых здесь каруцами, щелканье кнутов, визг и крики ребятни, снующей здесь и там неугомонными ватагами.
И снова перед колоннами русских солдат — степь и степь без конца и края. Так будет ли когда-нибудь конец этому царству духоты, пекла и зноя?
После взятия Измаила армия Багратиона покончила с крепостями Исакчи и Тульчи и, подойдя к сильно укрепленной крепости Силистрии, обложила ее.
Овладеть этою цитаделью — и откроется путь через Балканские горы к Белграду, будет положен предел покушениям турок не только против Валахии, но и Сербии. Вот тогда и наступит конец тяготам и несчастьям, смертям и кровопролитиям, которые одинаково угрожают и русским и турецким солдатам, а также ни в чем не повинным мирным народам, населяющим эти многострадальные земли.
Однако как преодолеть непреодолимое? Кроме отчаянного сопротивления войск визиря, что становится тем упорнее, чем далее в глубь Балкан стремятся пройти русские войска, есть еще один, вовсе непобедимый враг — время.
Как ни спеши, как ни торопи солдат на марше, но есть предел возможного. И он у природы, увы, более жесткий, нежели у человека. Собрав последние силы, сжав зубы и нервы, человек сможет, если того требует разум, свершить невозможное. Он чудом вырвется из тисков обстоятельств и как бы опередит время, подчинив себе и настоящий и даже будущий его ход.
Природе такое не дано. Ее ход размерен и на века определен Творцом. За весною обязательно следует лето, за летом — осень, за осенью — зима. И нельзя заставить природу-мать совершить некое опережающее движение, чтобы продлить, к примеру, ту пору года, которая сейчас необходима людям.
Армии Багратиона было необходимо, чтобы протянулось лето. Пусть с духотою и зноем, но — лето, а не неумолимо наступающая осень с нудными дождями, которые в одно мгновение сделают непроходимыми дороги, превратят всю степь в чавкающее непролазное месиво. А следом за осенью грянет и зима, когда в степи станет не лучше, чем было на ледяном насте Ботнического залива.
А из Санкт-Петербурга шли и шли требования: ускорить наступление. Только как сего достичь, коли на войне не бывает ничего постоянного? Военные обстоятельства мгновенно переменяются. И будь главнокомандующий хоть семи пядей во лбу, но на маневр ему нужно время, не говоря уже о необходимости иметь под ружьем полный комплект воинов, хорошо экипированных и сытно кормленных. Здесь же, когда ощутилось дыхание осени, армия истощилась и в собственных силах, и в провианте. И не было никакой возможности продолжать штурмовать неприступные стены Силистрии, а затем двигаться дальше.
Выходило даже: продлить успехи войск — значит самих себя погубить. Неумолимо близящиеся холода, бездорожье, пребывание в голой степи, когда ни укрыться под крышею, ни развести костра из-за отсутствия дров, — все эти напасти станут для армии бедствием. И беспощаднее, чем ядра и пули, чем ятаганы янычар, окажутся голод и болезни.
Нет, поход на Аландские острова, что не раз приходил в голову Багратиону, никак не шел в сравнение с тою западней, что открывалась перед ним здесь, в безжизненной степи, которая еще недавно угнетала пеклом, а ныне грозится непогодою и холодами. Тут скорее приходит на ум сравнение с сидением под Очаковом. Но тогда у Потемкина и Суворова в запасе было не два каких-нибудь месяца, а год, если не более. И Потемкин сам, а не кто-то за него, готовил план операции, рассчитывал каждое движение войск, наряжал обозы с добром, нужным армии, что тянулись к Черному морю нескончаемым потоком.
Здесь же, в Молдавии, Багратион словно свалился на голову армии — нечаянно и нежданно. Лучше сказать: армия внезапно свалилась на него самого. Ни планов наступления, ни планов снабжения войск на марше. Да коли оказался бы еще не месяц, хотя бы неделя-другая на то, чтобы, прежде чем дать приказ на переход Дуная, сесть и самому все пересчитать и взвесить!
Он умел выполнять приказы. Беспрекословно. Никогда в минуты опасности их не обсуждая и не оспаривая. Он лишь строго спрашивал с себя самого; что он, как командир, должен сделать, дабы приказание, полученное свыше, исполнить в наилучшем виде.
Мысль идти к берегам Швеции по льду в конце войны, когда неприятель уже оставил Финляндию, и Багратиону, и другим генералам в стратегическом смысле казалась ненужной. То был шаг, вызванный не здравым смыслом, а скорее чувством мести, демонстрацией пред Европою несгибаемой решимости и воли русского царя. Но сия идея была уже облечена в форму приказа, который требовалось исполнить. И когда иные командующие корпусами продолжали не то чтобы обсуждать повеление монарха, а оттягивать его исполнение, Багратион приступил к его выполнению. Прежде всего его энергия была направлена на то, чтобы обеспечить людей всем необходимым в тяжелом зимнем походе. И уж когда подготовка была завершена, он не мог терять более времени на бессмысленные разговоры в главной квартире. Потеря времени в тех условиях могла обернуться непоправимою бедою и, может быть, гибелью всего войска; природа тогда, как и теперь в молдавской степи, была неумолима в своем движении. Тогда, на заснеженных просторах Балтийского моря, она грозила тем, что уже не по льду, а по весенней воде придется совершать марш. Здесь же, в степи, ныне надвигалась угроза стужи и голода.
Нет, не ссылал Александр Первый генерала Багратиона в здешние края, дабы наказать его за дерзость — любить его сестру. Вспышка ревности и вспышка гнева конечно же в какой-то мере имели место в их отношениях. Но имя Багратиона возникло в голове царя сразу же после окончания шведской войны как имя военачальника, способного лучше и скорее других закончить длившуюся уже третий год турецкую войну. Только как все происходит в России, мысль сия зрела медленно. Хотелось, чтобы все обошлось как бы само собою, чтобы не обидеть старого фельдмаршала, которого сам же когда-то ошибочно выбрал в главнокомандующие.
Теперь и ошибочный тот выбор, и проволочка в смене главнокомандующего обернулись бедою, которая страшнее неприступных турецких крепостей вставала на пути русской армии.
Уже в сентябре Багратион с тревогою докладывал императору: «Я воюю в степи. Если армии идти в Балканы, то, по сделанному исчислению, одного продовольствия, кроме фуража, потребуется везти на восьмидесяти тысячах волах, но и тех кормить будет нечем; волы, артиллерийских и конных полков лошади должны будут пасть… В таком положении я едва ли окажусь в состоянии продолжать кампанию до ноября. Для предотвращения погибели армии почитаю нужным, оставя в крепостях и на правом берегу Дуная гарнизоны и снабдя их продовольствием, все прочие войска переправить на левый берег Дуная. Если обрету возможность, всячески стараться стану оставить легкие войска на правой стороне реки, дабы содержать и в продолжение зимы неприятеля в надлежащем почтении… С наступлением ранней весны, то есть во второй половине марта, полагаю я паки с армиею переправиться на правую сторону Дуная и идти к Балканским горам, дабы пройти оные прежде, нежели армия верховного визиря в состоянии будет подоспеть туда. И тогда силою оружия принудить его подписать мир на тех условиях, какие вашему императорскому величеству предначертать благоугодно будет».
Император не замедлил послать ответ, где не скрыл своего раздражения: «Прискорбно мне было получить известие о намерении вашем возвратиться за Дунай… Какое впечатление должен произвести обратный переход ваш над теми самыми турецкими войсками, кои с самого начала командования вашего в разных делах доселе были побеждаемы?.. По свойству сего народа, к кичливости всегда преклонного, возмечтает он, что превосходством сил своих принудил вас к отступлению. Трудно будет дать Порте чувствовать причины продовольствия, генерал-интендантом приводимые. С основанием могут они не верить сему… Таким образом, весь плод предыдущих побед, все последствия сделанных на той стороне усилий я считаю совершенно потерянными, коль скоро переход ваш совершится…»
Была уже середина ноября. Багратион снял бессмысленную осаду Силистрии. Обозы с тяжелоранеными первыми начали уходить за Дунай. Как ни огорчала его непреклонность императора, он продолжал стоять на своем, веря в то, что обстоятельства лучше всякого красноречия должны убедить царя в необходимости одобрить его, Багратиона, единственно правильное решение.
Впрочем, и в красноречии Багратион старался не уступить. «На всем пространстве нет ничего, кроме неба и земли, ни одного обывателя, селения, пристанища, ни способа получить какую-нибудь потребность к существованию людей и скота. Много офицеров и солдат заболевают. Нет батальона даже в половинном комплекте. Болезни должны усилиться от сырых землянок или палаток, так обветшавших, что они едва заслуживают своих названий, особенно принимая в соображение, что шинели, мундиры и обувь изношены. В безлесных местах нельзя устроить порядочных госпиталей… Я принял начальство в августе и не имел времени преобразовать прежний план продовольствия и приблизить запасы к Дунаю… В ноябре выпал снег и показались на Дунае льдины. Доставление фуража сделалось невозможным. Для возки дневной порции надобно 500 пар волов, которые в день делают 15 верст, съедают из возможного сена полтора пуда в сутки… По недостаче дров войску нечем обогреваться и изготовить теплую пищу…»
Багратион не сидел сложа руки — не такой был у него темперамент и не такое понятие о чести и достоинстве человека, коему вверена судьба многих тысяч людей. В Молдавии и Валахии воинские магазины были полны. Он отдал приказ: доставить в расположение войск сорок тысяч пудов муки, три тысячи триста пудов круп, девяносто пять тысяч четвертей овса и три миллиона пудов сена. Но как, на чем?
— Наряжать обывательские каруцы и повозки! По договорам с жителями, под расписку воинских начальников! — распоряжался главнокомандующий, прибегая к крайним мерам.
Но враг всесильный — время — брал свое. Дороги совершенно испортились, ручьи превратились в реки.
Как убедить императора, как доказать крайнюю бедственность положения?
Аракчееву писал, как и привык с ним говорить — прямодушно, по-простецки, только бы его, военного министра, зацепило, а он лишний раз растолковал бы царю.
«Ежели бы умирать старому фельдмаршалу, лучше бы он умер три месяца прежде, и теперь бы, может быть, я вас поздравил с миром. Поздно, боюсь дурной погоды… Цель моя была — возбудить армию и сделать ее храброю… Я сам ничего не жалею — последнею копейкой моих верных и пою и кормлю. Я лучше умру, нежели обижу. Умру честно и голым. Бог знает мою душу».
О последней копейке, что отдавал на солдатское пропитание, — не пустые слова. Пятьдесят тысяч рублей, коими царь одновременно с пожалованием ордена Андрея Первозванного недавно наградил главнокомандующего, до копейки пошли на солдатский кошт. И теперь Багратион испрашивал возможности получить некую сумму в кредит, в счет стоимости пожалованных ему деревень, которые он заложил в казну. Все его помыслы, все заботы неуемной души были о них — голодных и замерзающих, раненых и изведенных болезнями. А там, в столице, какими соображениями руководствовался двор; продолжая держать обреченную армию в местах, где под ногами вся в хлябях чужая земля да над головами чужое стылое небо?
«Весною наши действия могут быть преграждены высадками турков и англичан, и будет более вероятнее, что Наполеон или Венский двор, освободясь от войны, захотят иметь влияние на наши дела», — решился император на откровение со своим генералом.
«Кто ж сего не понимает, кто может возражать, что армия — инструмент политики? Только надобно было в свое время, ваше императорское величество, проявить более решимости и не доводить дело до крайности, когда шаг и другой вперед — напрасная людская погибель на глазах того же Венского двора и друга-соперника Наполеона», — читая послание царя, досадовал Багратион.
Конечно, всего, что накипело в душе, не высказал государю. А вот в ответ на письмо министра иностранных дел графа Николая Петровича Румянцева, полное упреков, объяснился без обиняков:
«Мне кажется, лучше воевать против турок, нежели против. Меня и общего блага… Я здесь ближе всех и лучше знаю… На что вы мне мешаете? Что за польза, зачем раскричались, что я отошел — вот прогулка моя какова: Браилов пал… Лучше дайте мне волю, лицом в грязь не ударю… Что за беда, что хотел перейти Дунай? Военные обстоятельства мгновенно переменяются. Мне надо было так сделать, иначе не могу и будет зер шлехт. Пусть другой сделает в три месяца то, что сделал я.
Я знаю много храбрых издали и после баталии. Почему в Египте не держался Наполеон, а ушел, и погибель, стало, не невозможна была.
Напрасно вас обманывают и льстят для гибели нашей, что турков немного. Неправда, их очень много. Визирь этот самый, который был в Египте и бил Наполеона, он меня уважает.
Армиею ворочать — не батальоном. В одну позицию влюбляться вредно. Прошу одной милости: дать мне волю или вольность, иначе истинно принужден буду, по крайности духа и тела моего, просить избавления. Вот вам, ваше сиятельство, мое чистосердечие.
Весь ваш князь Багратион».
Хотел отправить тотчас курьером, но отложил: утро вечера мудренее. Только ночью, вскочив в своей дырявой палатке с жесткой раскладной кровати, зажег свечу и, схватив перо, решил приписать слова, которые все еще продолжали стоять в голове и мешали заснуть:
«Мне кажется, общее благо должно совестить каждого. Не быть довольным тем завоеванием, что сделал в короткое время, был в поле, шел донельзя, важные крепости взял, мосты построил!.. Теперь занимаюсь к весне построить суда для транспорта. Три года армия здесь стояла неподвижно. Кроме сплетни и побиения от неприятели, ничего не делали. Флота на Черном море я не имею, хотя и должно…
Виноват ли я, что в двадцать четыре часа не мог победить Оттоманскую Порту? Прежние войны длились по нескольку лет, имея притом союзников, и оканчивались почти ни с чем при мире. А ныне я один, и флота нет…
У меня в армии пятьдесят тысяч, имею двадцать тысяч больных. А должно иметь сто тысяч воинов.
С малочисленною армиею, делая быстрые движения, намерен я был показаться неприятелю сильнее, чем я был; но коль скоро превосходные его силы, пребывающие на всех пунктах, дали ему способ открыть истинное мое положение, то почитал я нужным взять все меры осторожности.
Дайте мне пятьдесят тысяч кавалерии и столько же пехоты, я на будущую кампанию заставлю турок подписать мир.
Для великих дел надо великие способы, иначе далеко не уедешь. Я смело и торжественно скажу, что никому не удавалось такой кампании, как нынешняя.
Я не трус. Но безрассудную отвагу признаю большим в полководце пороком.
Если недовольны, я сожалею и охотно отдам армию другому, а сам останусь как прапорщик. Пусть лучший придет, я докажу, что умею повиноваться».
Знал: у письма сего, кроме канцлера Румянцева, будет и другой читатель. Тот, кому в первую очередь имел честь докладывать о бедствиях армии.
«Пусть же вновь через письмо графу Николаю Петровичу император убедится: гнева его не убоюсь. Ибо не о себе пекусь — о солдате, что под моим началом вынужден терпеть нечеловеческие лишения». — Багратион все еще не мог остыть от тех слов, что вылились на бумагу.
В самом деле, как можно было там, в Санкт-Петербурге, в Зимнем дворце, где столы к обеду, завтраку или ужину ломятся от всевозможной снеди, отписать ему, главнокомандующему, такое монаршее повеление: «Я уполномочиваю в случае необходимости уменьшить порции наполовину».
«Так до вас, ваше величество, — как до Господа Бога, — далеко. А я, главнокомандующий, — вот он, пред глазами солдат. И я знаю, что ни половинной, никакой вообще порции нет подчас целыми днями в солдатском котле, поскольку из оного сам питаюсь, не имея отдельного от них, моих нижних чинов, стола. Так что ж, теперь своим приказом я солдатам паек урежу? «Так куда же и зачем ты, князь Багратион, нас завел? Мы же за тобою как за отцом родным шли…»
Откинул полог палатки, вышел наружу. Темень. Ни костров, ни звезд на низком, готовом пролиться дождем, а то и просыпаться снегом небе.
И вновь беспокойно в голове обозначилась мысль, кою хотелось прибавить к письму:
«Вас, ваше сиятельство, министр иностранных дел, а заодно и императорское величество, заботит: как посмотрят турки, коли российская армия сыграет временную ретираду. Я же рассуждаю, что в глазах не только турок, но и всей Европы прискорбнее для нас будет, коли лишимся в продолжение зимы без всякого действия военного людей и лошадей».
Настойчивость Багратиона возымела успех. Нехотя, будто сквозь зубы, император изволил повелевать: «Позволяю перевести армию на левый берег, но хотя бы часть войск осталась там, куда они теперь уже дошли».
Своим распоряжением Багратион оставил на правом берегу пятнадцать батальонов и пять казачьих полков под начальством генерала от инфантерии графа Каменского-второго. Все остальные войска к началу нового, 1810 года переправились через Дунай.
Левый берег в представлении многих был почти домом. Здесь можно было привести себя в порядок, отогреться. Был здесь и харч. Но середина зимы, что застала армию на новом уже постое, оказалась для нее самым горячим временем для подготовки к весеннему наступлению.
Первое, что Багратион задумал предпринять, совершив поездку по всем полкам, это перегруппировать части армии. Так, он решил передать главный корпус, находящийся в Болгарии, под начальство графа Милорадовича. Теперь Михаил Андреевич находился в Бухаресте и, как доходили до Петра Ивановича вести, жил там на широкую ногу. Говорили, что он в тесной дружбе с известным во всей Валахии греком Филипеску, крупным богачом, и даже влюблен в его красавицу дочь.
Имя Филипеску настораживало: через него, как было известно Петру Ивановичу, турки получали немало сведений о передвижениях русских войск. В бумагах покойного главнокомандующего был даже найден проект приказа, по которому князь Прозоровский предлагал выслать сию неблагонадежную личность за пределы Валахии.
В самые тяжелые для армии дни Багратион убедился, что, ко всему прочему, Филипеску нечист на руку. Если из Молдавии в армию доставлялось продовольствие, то из Валахии ничего не приходило, а выплаченные за поставку деньги оседали в карманах сего тайного агента Оттоманской Порты.
Ныне же, приходили к Багратиону донесения, сей проходимец вольготно чувствует себя под покровительством генерала Милорадовича, вообразившего себя наместником Валахии.
Ко всяким слухам князь Багратион относился с недоверием. И, разумеется, не допускал мысли о корыстной дружбе русского генерала с тайным турецким ставленником. Однако, оберегая действия своих войск от козней вражеских лазутчиков и соглядатаев, дал указание проверить, что за личность Филипеску. Милорадовичу же отослал приглашение прибыть в Гирсово — главную квартиру армии, чтобы получить назначение в Болгарский корпус.
Меж тем шли дни и недели, а Милорадович не появлялся. Наконец от него поступил рапорт: «Я был часто болен. Ныне-таки занемог и не могу командовать по слабости моего здоровья, посему прошу ваше сиятельство назначить командование вверенного мне корпуса кому благорассудите».
Багратион понял: далее служить под его началом давнишний соперник не намерен. И все же, стремясь сохранить отношения, главнокомандующий отписал: «Сколько велико сожаление мое лишиться в вас главнейшего моего сотрудника. Предоставляю вам избрать место вашего пребывания в здешних княжествах, коих бы воздух и прочие выгоды могли бы содействовать к подкреплению вашего здоровья».
Но причина была не в состоянии здоровья. Высокомерие и заносчивость — вот качества характера, которые нередко брали верх над другими его свойствами — личным мужеством и отвагой. Посему он даже не счел нужным ответить на дружеское письмо своего начальника и вскоре добился у государя перевода из армии Багратиона.
У самого же главнокомандующего отношения с Санкт-Петербургом никак не входили в нормальное русло. Его план предстоящего весеннего наступления императором так и не был утвержден. И Багратиону ничего другого не оставалось, как самому подать прошение об увольнении его сроком на четыре месяца для излечения болезни.
Часть III Гроза двенадцатого года
О, как велик На-поле-он,
Могуч, и тверд, и храбр во брани;
Но дрогнул, лишь уставил длани
К нему с штыком Бог-рати-он.
Г. Р. ДержавинГлава первая
Париж ликовал. Приход весны — всегда праздник. Но март 1810 года ознаменовался событием, взбудоражившим весь город. Было объявлено, что император Франции решил сочетаться браком с австрийской эрцгерцогиней Марией-Луизой.
Заканчивалась эпоха безродного правителя великой державы, выскочившего чуть ли не из самых низов. Во всяком случае, хотя из дворянской, но бедной и никому не известной провинциальной семьи. Отныне его трон самым прямым и непосредственным образом становится связанным с одной из самых знатных, веками освященных правящих европейских династий. И мало того — с французским королевским домом. Эрцгерцогиня, старшая дочь австрийского императора Франца, одновременно доводилась и племянницей Людовику Шестнадцатому и Марии-Антуанетте — бывшему королю и королеве Франции, правда казненным по воле революционных масс. Но это не мешало Наполеону хотя с долей шутки, но в то же время и с ноткою гордости говорить о Людовике как о своем «дяде».
На улицах Парижа, в кафе и даже в домах знатных особ в эти лучезарные солнечные дни можно было услышать:
— Теперь пусть Россия пеняет на свою незавидную судьбу. Представьте, какая наглость: отказать нашему императору в невесте! Да разве, в самом деле, можно сравнить русскую принцессу сомнительных татарских и немецких кровей с той, в жилах которой течет кровь Карла Великого и законных королей Франции — Бурбонов! Вот увидите: пройдет несколько лет, и у императора появится наследник, который по всем статьям достойно увенчает собою трон нашей великой державы. Ну а с тою страною, что отказала в невесте, непременно в самом скором времени будет война. И поделом им, этим чванливым русским!
После замужества великой княжны Екатерины Павловны Наполеон, разумеется, обиделся, но не подал виду. У императора Александра Первого, он знал, была и другая сестра, возраст которой подходил к невестиному. Он повелел своему послу в Санкт-Петербурге Арману Коленкуру прощупать на сей счет почву и, если не обнаружится явных препятствий, сделать от его, императора, имени официальное предложение.
В письме послу содержалась целая инструкция: что разузнать о молодой русской принцессе и о чем поставить в известность Париж. Посол незамедлительно отозвался депешей. Великой княжне Анне, сообщал в январе восемьсот десятого года Коленкур, пошел шестнадцатый год. Для своих лет она стройна. Ее стан, грудь, осанка — все говорит о том, что вскоре это будет привлекательная во всех отношениях женщина. Характер ее спокойный и ровный, у нее чувствительное и отзывчивое сердце. В общем, Анна совершенно не похожа на свою старшую сестру Екатерину, надменную и своенравную, которая лишь только по сумасбродству своему вышла замуж за болезненного урода Георга Ольденбургского.
Так согласны ли выдать Анну замуж за него, правителя Франции? Посол сообщил, что император Александр, как и прежде, заявил, что последнее слово за их матерью. Сама же Мария Федоровна в принципе возражений якобы не имеет. Однако, как она дала понять, учитывая малолетство дочери, брак возможен не ранее чем через два года.
Это означало отказ. Наполеон так и расценил вторую уже свою попытку породниться с Санкт-Петербургским царствующим домом. И взор его тотчас обратился к Вене. Он не хотел и не мог терять время — развод с первою женою, императрицей Жозефиной, уже состоялся.
Княгиня Багратион в числе многих знатных жителей австрийской столицы была приглашена на торжественную брачную церемонию. Состоялась она одиннадцатого марта в главном католическом храме Вены — кафедральном соборе Святого Стефана. Однако в роли жениха выступал не сам император Франции, а многолетний шеф наполеоновского генерального штаба принц Невшательский и ваграмский маршал Луи Бертье.
Следом за брачной церемонией предстояла поездка в Париж, где ожидалось уже настоящее бракосочетание с женихом, которого, кстати говоря, восемнадцатилетняя эрцгерцогиня не видела еще ни разу, кроме как на портрете в рамке из бриллиантов, что вручил ей накануне венчания маршал Бертье.
Сопровождать в Париж будущую императрицу Франции должна была сестра Наполеона — Каролина Мюрат, сама уже к этому времени вместе со своим мужем получившая от брата-императора неаполитанский трон.
Княгиня Багратион с неподдельным любопытством и в то же время с изрядной долей ревности наблюдала все эти дни, как вертелся перед Неаполитанскою королевою Клеменс Меттерних. С недавних пор он покинул столицу Франции и получил пост министра иностранных дел Австрии.
Император Франц, дважды за последнее время потерпевший поражение от французов, взвалил на плечи своего ловкого дипломата непростую задачу. Следовало, как и после Аустерлица, смягчить условия мира. Для того и был возведен в ранг министра Меттерних.
В бытность свою послом во Франции он, по правде сказать, переоценил свои возможности сердцееда, способного через постели высокопоставленных особ влиять на политические дела. Напротив, его амурные победы так вскружили ему голову, что он потерял чувство реальности. Слабость женщин он, увы, принял за слабость Наполеоновой Франции. В немалой степени благодаря его самонадеянным расчетам Австрия и полезла на рожон, ввязавшись в середине восемьсот девятого года в войну с французами.
Теперь, после второго поражения его страны, Меттерних уверил Франца, что у него на сей раз есть козырь, с помощью которого можно победить Наполеона. И козырь этот — не просто мирный договор с победителем, а брачный союз.
В ход были пущены все парижские связи, чтобы донести до дворца Тюильри возникшую в голове Меттерниха идею. Первую скрипку в сем деле стал играть князь Карл Шварценберг, назначенный на должность парижского посла. Недавний бравый генерал, он быстро сблизился с французским императором и вскоре стал неизменным участником охотничьих выездов Наполеона.
Но мало этого — к интриге ловко подключилась и жена Меттерниха — Элеонора, у которой установились хорошие отношения с императрицей Жозефиной. Продолжая оставаться в Париже, когда муж уже вынужден был отъехать в Вену, Элеонора была частою гостьей в Мальмезоне, где поселилась разведенная императрица. И получилось так, что Жозефина одобрила мысль о женитьбе бывшего своего мужа на австрийской принцессе. Так закрутилось дело, которое и завершилось браком.
Самодовольная улыбка не сходила с лица министра иностранных дел, когда княгиня Багратион бросала на него свои взоры. На лице Клеменса так и читалось: «Помнишь, что я тебе когда-то обещал — взять верх над Наполеоном? Теперь он — у моих ног. Я наконец-таки свалил этого Голиафа. Но ты спросишь, как же она, Мария-Луиза, будет ли она счастлива? К черту подобные рассуждения! Пусть лучше одна эрцгерцогиня станет жертвой этого сатрапа, чем вся австрийская монархия».
От Клеменса княгиня узнала, что поезд с невестой в сопровождении Неаполитанской королевы направится в Париж в составе восьмидесяти трех экипажей, а на половине дороги, у границы Франции, свадебный кортеж встретят Наполеон и Неаполитанский король Мюрат. Там, в Компьенском лесу, французский император впервые заключит в свои объятия будущую жену.
— И вы конечно же будете в том поезде вместе со своею возлюбленной? — не удержалась княгиня Багратион.
— Ах, Катрин, вы опять за свое! — притворился обиженным Меттерних. — Разве вы не видите, каким триумфом обернулись мои парижские связи? В том числе и с Каролиною Мюрат, нынешней Неаполитанскою королевою, которую вы, моя единственная любовь, готовы обвинить чуть ли не в грязном адюльтере! Вернее, меня, кто так чист перед вами и вам одной лишь верен.
Тем не менее вы ведь тоже поедете во французскую столицу?
— Да. Но только как частное лицо. Например, для свидания с собственною семьею, которая, как вам лучше других должно быть известно, продолжает находиться в Париже. Я, Катрин, не люблю громкой славы. Я, кому по праву должны принадлежать лавры победителя, на сем торжестве предпочитаю остаться в тени.
Катрин насмешливо сощурила глаза. Она знала через Андрея Кирилловича Разумовского, что сам французский император не пожелал видеть австрийского министра иностранных дел в качестве официального гостя, дабы не подчеркивать его роли в свадебной истории. Но мог ли Меттерних признаться в этом своем поражении? Напротив, он никак не хотел расставаться со своим положением вершителя судеб мира, правда прибавив к своей роли образ человека, которому чужда всякая слава.
— Что ж, — произнесла Катрин, чуть усмехаясь, — я не стану прощаться в таком случае с вашим сиятельством. Увидимся в Париже.
— Как? — изумился Меттерних. — Вы тоже, княгиня…
— А почему бы к восьмидесяти трем каретам свадебного кортежа не добавить еще одну? Вы же знаете, граф, как удобно я чувствую себя в собственном экипаже. В нем я всегда — в своем отечестве.
Наконец ликующий Париж увидел свою новую императрицу. Первого апреля в Сен-Клу состоялась регистрация гражданского брака, а на следующий день в соборе Парижской Богоматери — венчание. Затем в Лувре был дан прием для иностранных дипломатов и Многочисленных гостей.
Мария-Луиза, которой едва исполнилось восемнадцать, не была красавицей. Но она обладала приятной Наружностью. Особенно бросался в глаза нежный белый цвет лица с румянцем во всю щеку.
Рядом с Наполеоном юная эрцгерцогиня поражала своею статью. Но все в ней — и выражение лица, и манера держаться — выдавало тем не менее провинциалку. Наполеон же, напротив, выглядел триумфатором который наконец-таки получил не просто предмет сердечных влечений, а боевой трофей.
Собственно, так оно и было: Марин-Луизе, своеобразной песчинке в буре политических страстей, выпала роль «проданной невесты», которая должна была спасти честь родной страны. Это потом она то ли свыкнется со своим новым положением, то ли и впрямь, как она признавалась близким, полюбит супруга и станет ему верной женою. Впрочем, не до конца. Новые бури, которые пронесутся над головою Наполеона, вынудят ее вновь поставить интересы родины выше собственных и совершенно беспечально разлучиться с мужем, предпочтя ему другого избранника сердца.
Теперь же она, эрцгерцогиня австрийская, — приз победителю. Когда она впервые узнала, что император Франции намерен просить ее руки, она заявила:
— Когда дело касается интересов империи, во внимание следует принимать именно их, а вовсе не мое желание. Попросите моего отца, чтобы он прислушивался только к своему голосу государя и не подчинял свои обязанности моим личным желаниям.
Однако император Франц никак не мог смириться с тем, что отныне ему суждено породниться с человеком, которого он люто ненавидел. Отправляя дочь в Париж, он не поехал с нею, а ограничился тем, что послал будущему зятю письмо, напоминающее по своему тону не родственное послание, а скорее дипломатическую ноту, коими обмениваются враждующие державы, заключившие между собою даже не мир, а временное прекращение огня.
«Вкладывая в ваши руки, мой господин брат, судьбу моей дорогой дочери, я представляю вашему величеству самое убедительное доказательство доверия и уважения, какое только могу. Бывают моменты, когда святейшие чувства берут верх над любыми иными соображениями…»
Наверное, чувства австрийского императора передались и его подданным. Да иначе и не могло быть: еще не выветрился солдатский дух французских оккупантов из прелестных дворцов Вены, и снова французы объявились в их столице как хозяева, чтобы выбрать, точно на ярмарке, невесту для своего императора и умыкнуть ее к себе в Париж.
Сестра Наполеона, Неаполитанская королева, так себя и вела — точно плантаторша, купившая девку-рабыню. Она осмотрела наряды эрцгерцогини и презрительно хмыкнула:
— Милочка, украшения, что надеты на вас, постыдилась бы носить самая последняя парижская содержанка. Но вам выпал подлинно сказочный жребий: мой брат, французский император, вас озолотит. Впрочем, и в Париж вы приедете в другом виде. Я предусмотрительно привезла с собою наряды, в которые вы непременно переоденетесь, лишь только мы пересечем границу.
Так и произошло: Каролина Мюрат остановила карету у пограничного столба и приказала названой своей сестре сбросить с себя все австрийские тряпки, включая лифчики и подвязки для чулок, и облачиться во все новое, специально заказанное по распоряжению Наполеона у лучших парижских модельеров.
Теперь в Лувре Неаполитанская королева и ее муж, король Иоахим Мюрат, держались как самые первые лица, словно это в их честь был дан торжественный и пышный прием. Кстати, им не уступал и Клеменс Меттерних. В Париже он начисто забыл о своем намерении скромно держаться в тени, дабы не возбудить среди иностранных гостей, в первую очередь дипломатов, нежелательных для французского императора разговоров о подоплеке столь поспешного брака.
Когда гостей обносили шампанским, Меттерних, окруженный стайкою дипломатов, подошел к раскрытому окну. Он поднял бокал и, обратившись к ликующей уличной толпе, громко провозгласил:
— За будущего Римского короля!
Княгиня Багратион оказалась невдалеке. Услышав странный тост, она недоуменно глянула на Клеменса, словно пытаясь задать ему вопрос, что значат его слова.
Однако тост обратил внимание не одной Катрин. Как раз в этот момент мимо проходили Неаполитанский король и королева, и Каролина, остановив мужа, обратилась к министру, лицо которого еще продолжало сиять возбуждением.
— Браво, граф! — сказала она Меттерниху. — Ваши слова я обязательно передам императору Франции. Ведь вы подняли тост за его будущего наследника, которому по праву будет принадлежать не только французская корона, но и корона древней Римской империи. Не так ли?
— О, ваше королевское величество! — устремился к Каролине польщенный австрийский министр. — Вы верно угадали мою мысль. И я несказанно польщен вашим вниманием ко мне, прелестнейшая королева Неаполитанская!
— Да, вы уж не проведете мою жену, — неожиданно громко произнес Мюрат. — Таким умом, как у моей супруги и королевы Неаполитанской, вряд ли способна обладать какая-нибудь иная женщина в мире.
— Ну что вы, ваше величество, вы вводите меня в смущение. Разве в этих залах нет других женщин, которые с не меньшим правом могли бы заслужить ваши комплименты? — кокетливо произнесла Каролина, обратившись к супругу. И тут же — Меттерниху: — Кстати, граф, что это за особа, которая направляется к нам? Я, помнится, встречала ее недавно в Вене, если не ошибаюсь, в вашем обществе. Представьте ее нам. По-моему, она очаровательна. Австриячка, немка?
— Она русская. Княгиня Багратион, — ответил Меттерних.
— О! — воскликнул Неаполитанский король и подал русской принцессе руку. — Как я счастлив быть представленным такой милой и в высшем смысле восхитительной даме, как ваше сиятельство! Тем более что этой встречи я ждал уже давно. Каким образом? — спросите вы. Я и ваш замечательный муж принц Багратион — мы друзья! Да-да, очаровательная принцесса!
И Мюрат с восторгом поведал о встрече в Тильзите с прославленным русским маршалом, как назвал он Багратиона. Тут же он вспомнил и другого своего друга брата русского императора великого принца Константина.
— Ах, какая досада! — снова воскликнул Неаполитанский король. — Я забыл взять с собою в Париж такие огромные красные штаны, которые носят русские казаки. Кажется, называются шаровары? Мне их подарил друг Константин, и я этим подарком весьма дорожу, хотя мой шурин Наполеон называет меня балаганным шутом из-за моего пристрастия к ярким нарядам.
Каролина только и ждала момента, чтобы прервать тираду мужа.
«Княгиня Багратион, — вспомнила про себя Неаполитанская королева. — Так вот какая она, моя давняя соперница. Прелестна, молода — ничего не скажешь. Но разве я хуже? Говорят, эта ловкая русская потаскушка обзавелась от Клеменса ребенком. Неужели княгиня решилась стать матерью бастарда? Фи, как неразборчивы и невоспитанны эти русские. Слава. Богу, что мой брат не женился на их великой принцессе».
Тем не менее Каролина произнесла:
— Мне, как и его величеству королю Неаполя, было приятно познакомиться с вашим сиятельством. И, конечно, приятно вдвойне, что мы с вами являемся женами таких прославленных военачальников. А вы теперь много путешествуете? Кстати, вам никогда не доводилось бывать в полном солнца и лучезарном Неаполе?
— Я там провела много лет, — улыбнулась княгиня. — Вероятно, в те самые годы, когда ваше королевское величество еще… — С языка ее уже готовы были сорваться слова, которые она, конечно, не произнесла, но так хотела высказать вслух.
«Королева! — подумала она презрительно. — Говорят, твой муж, теперешний король, был в трактире мальчиком на побегушках. А ты, сиятельная королева, в детстве обкрадывала на своей Корсике соседские сады, получая за это синяки на улицах и подзатыльники от матери».
— Мой род по отцу, — меж тем вслух произнесла княгиня Багратион с нескрываемым достоинством, — принадлежал к царской линии — к императрице Екатерине Первой, супруге великого Петра. А в Неаполе я жила потому, что в этом городе представлял Российскую империю мой отец граф Скавронский. Он был полномочным российским министром при тамошнем королевском дворе.
— Ну, теперь в Неаполе королевский двор иной, — не удержалась в свою очередь от шпильки соперница-королева. — Однако я всегда буду рада принять ваше сиятельство в своем королевском дворце.
— Да-да, непременно вы и ваш муж, мой дорогой друг принц Багратион, будете у нас самыми желанными гостями, — подхватил приглашение жены Неаполитанский король.
«Однако тут какая-то запутанная связь, — подумал Мюрат. — Принц Багратион находится явно в сердечных отношениях с сестрою царя и моего друга Константина. А с другой стороны, его жена — в обществе австрийского министра. Надо потом расспросить Каролину, что ей известно об их отношениях. Слава Господу за то, что он дал мне такую верную жену. Не хватало, чтобы из-под моей шляпы, украшенной страусовыми перьями, еще торчали бы рога! А что? Хороший каламбур, надо бы его кому-нибудь подарить. Жюно, например. Говорят, его Лаура изменяла ему вовсю с этим смазливым австрийским министром, когда он был здесь, в Париже, еще только полномочным послом».
В планы Меттерниха входило пробыть в Париже не более месяца, от силы два. Но свадебные торжества, взявшие разбег с самых первых чисел апреля, ничуть не стихая, продолжались и летом. Балы, приемы, праздничные концерты как бы переходили из дома в дом. И из одного дома в другой передвигался в непроходящем счастливом настроении и австрийский министр. Впрочем, в эти шесть месяцев он почти не вспоминал о своих венских обязанностях, поскольку дела министерства на время передал отцу.
Вихри балов закружили и княгиню Багратион. Париж совершенно восхитил ее, но и она покорила этот город. Не было салона, куда бы она не была приглашена. И десятки мужских сердец оказались взятыми в плен ее необыкновенною молодостью и красотою.
Однако, помимо увеселений, ее удерживали в Париже дела, связанные с устройством своей дочери. Марию Клементину она привезла с собою, чтобы устроить ее в какой-либо престижный пансион, дабы дать дочери соответствующее воспитание и образование.
И еще была у нее тайная цель: ввести Клементину в круг семьи Меттерниха, чтобы не только ее отец, но и его жена, Элеонора, признали девочку, дали ей фамилию и в дальнейшем — положение в обществе. Так что ошиблась Неаполитанская королева — далеко не такою простушкой оказалась эта русская принцесса царских кровей!
Наступил уже июль, когда очередь удивить весь Париж необыкновенным торжеством дошла до австрийского посла Карла Шварценберга. К этому времени императорская чета возвратилась из свадебного путешествия в Голландию, и Наполеон с Марией-Луизой охотно приняли приглашение австрийского князя.
Шварценберг и Меттерних встречали гостей во дворце, занимаемом самим послом. Сам же праздник должен был проходить в огромном деревянном павильоне, специально построенном наподобие летнего театра. Там намечались сначала живые картины, а затем бал.
Княгиня Багратион, как всегда ослепительно декольтированная, за что вея Вена называла ее не иначе как обнаженным ангелом, вошла в летний театр в сопровождении русского посла князя Куракина. Дородный, он выглядел еще представительнее и массивнее благодаря своему камзолу, сплошь унизанному бриллиантами.
И дородность фигуры князя, и блеск роскошнейшего его наряда, не говоря, разумеется, о несравненной красоте его спутницы, заставили многих почтительно расступиться.
Музыка гремела вовсю, когда они вошли в зал, и Александр Борисович предложил своей спутнице присесть, чтобы дать ему возможность передохнуть, — так было душно и жарко ему в его одеянии, выглядящем наподобие средневековых рыцарских лат.
К княгине тут же подошли сразу несколько кавалеров, и самому ловкому из них, молодому французскому капитану, выпала честь пригласить гостью на танец. Князь Куракин с завистью увидал, как стройный красавец офицер закружил в вальсе его даму и, достав платок и промокнув им изрядно вспотевший лоб, заклевал носом.
От внезапной дремы князь очнулся, когда в зале послышался шум и из конца в конец раздались крики:
— Пожар! Горим! Спасайтесь…
Там, где был устроен помост для живых картин и стояли декорации, сделанные из деревянных щитов, оклеенных разрисованной в разные цвета бумагой, уже полыхал огонь. Должно быть, одна из многочисленных свечей, освещавших декорации, упала и подпалила бумажный щит, который мгновенно вспыхнул.
Огонь перекинулся на другие декорации, и публика, на какую-то долю секунды застыв в оцепенении, ринулась к дверям.
Тотчас образовалась давка. Но чей-то голос, перекрывая крики, остановил панику:
— Дамы и господа, расступитесь! Позвольте пройти императору.
Княгиня Багратион, стоявшая недалеко от выхода, остановилась. К дверям сквозь расступившуюся толпу шел Наполеон, поддерживая под руку Марию-Луизу. Шаг его был тверд и ровен. И он его не ускорял, всем своим поведением вселяя уверенность и спокойствие в тех, кто до этого панически кричал и ломился к дверям.
Меж тем кто-то в глубине зала не выдержал:
— Да быстрее же, быстрее!
Император лишь на короткое время обернулся и ускорил свой шаг. А за императорскою четою, снова толкая и давя друг друга, бросились все, находившиеся в павильоне.
Княгиня Багратион вряд ли потом могла вспомнить, как она выбралась из объятого пламенем строения. Оказавшись вдруг под ночным небом, она жадно вдохнула в себя свежий воздух и, перекрестившись, прошептала благодарственные слова молитвы.
А огонь уже пожирал то, что еще несколько минут назад являлось театром. Из окон, из дверей выскакивали обезумевшие люди. На многих из них дымилась одежда. Женщин, оказавшихся в обмороке, выносили на руках мужчины.
Какой-то офицер высокого роста и хорошо сложенный выбежал из павильона, держа на руках молодую женщину. Платье на ней было растерзано в клочья, голова безжизненно повисла.
— Кто это? Она жива? — подбежала к офицеру княгиня Багратион.
— Мадам Мишель Ней. Жена маршала, — ответил спаситель и громко кликнул доктора. — Побудьте, мадам, рядом с несчастной, а мне надо к императору.
Наполеон никуда не уехал. Он стоял рядом с пожарными колесницами, которые прибыли по сигналу тревоги, и отдавал команды:
— Отсечь водою павильон от дворца! Нельзя, чтобы пламя переметнулось на соседние дома. Две, нет, три водовозки — на улицу!
— Ваше величество, разрешите? — обратился офицер к Наполеону.
— А, это вы, полковник Чернышев. Вы не ранены?
— Это сажа на лице, ваше величество. Я только что оттуда. Я вынес мадам Ней.
— Там, под огнем, еще много жертв?
— Ваше императорское величество, позвольте мне взять нескольких солдат. Людей еще можно спасти.
— Берите, полковник, моих егерей.
Теперь — снова туда, в огонь, под обломки только что рухнувшей крыши. Поднял с пола мальчишку-офицера, похлопал его по щекам. На лице проступил румянец. Передал солдату, чтобы тот помог бедняге выбраться наружу, а сам — вперед.
У стены, что уже объята огнем, — чья-то знакомая фигура. Князь Куракин? Камзол на спине и плечах прогорел, лицо черно.
— Александр Борисович, вы живы?
— Саша! Я теряю последние силы. О Господи, не дай мне умереть. На меня, не поверишь, рухнула пудовая балка. Горела как свеча, зажженная с двух сторон. И если бы не ты… — Голос князя прервался, и он упал в забытьи.
Взвалить князя на плечи — задача не из простых. Однако Чернышев, напрягши силы, вскинул на себя ношу и выбрался наружу.
— Это вы, князь? — услышал он вдруг родную русскую речь и снова увидел перед собою ту юную даму, которой он поручил несчастную мадам Ней.
— Так вы — наша соотечественница? — изумился Чернышев. — Боже, где только не встречаются русские друг с другом!
— А вы — наш? — обрадовалась княгиня. — Тогда почему же вы так запросто обратились к императору Франции?
Куракин, сидя у дерева, тихо застонал и открыл глаза.
— Ой, Катерина, Катенька, я спасен! И знаешь, кто мой спаситель? Ах, вы еще не представились друг другу, тогда позвольте это сделать мне. Княгиня Багратион — флигель-адъютант Чернышев. — И, обернувшись к Чернышеву: — Ах, Сашенька, погляди, мил дружок, что сталось с моими бриллиантами! Одни погибли начисто в огне, другие потерялись в этой давке.
— Не тужите, любезный Александр Борисович, — успокоил его Чернышев. — Золотое шитье да бриллианты на камзоле вас и спасли — укрыли словно кольчугою. Главное — сами целы. С нами, солдатами, то часто случается: вся одежда в клочьях, зато голова цела. Вам, княгиня, сие должно быть хорошо известно — сколько уже ран получил бесстрашный Багратион!
Чернышеву показалось, что княгиня не расслышала его слов — кругом стоял несусветный гвалт. Однако, всмотревшись в ее лицо, он понял, что слова его до нее дошли, но она не захотела на них отозваться. И чтобы как-то прервать минутное замешательство, она быстро отошла в сторону и сказала по-французски:
— Доктора! Здесь пострадавший. Князь Куракин.
А через несколько дней княгиня Багратион уже была в доме Элеоноры Меттерних.
— Позвольте представить вам мою дочь Марию Клементину, — произнесла она, мило улыбаясь.
— Ах, какое прелестное дитя! — проворковал Клеменс, стараясь придать лицу приветливое выражение.
Мадам Элеонора опустилась в кресло и погладила по русой головке девочку, которая спокойно к ней подошла и сделала легкий книксен. В это время из дальнего угла гостиной раздался голос мадам Коуниц, обращенный к Элеоноре:
— Ах, этот прелестный ангел — вылитый Клеменс! Ты не находишь сходства, кузина Элеонора?
«Это сходство прежде всего должен усмотреть тот, кто в самом деле является отцом моей Клементины, — подумала про себя княгиня Багратион и подняла на Меттерниха свои лучистые близорукие глаза. — Ну же, граф, ты мне обещал, что дашь нашей дочери свое имя. Или ты струсил? Тогда мне ничего не остается другого, как устроить и здесь и в Вене скандал, от которого тебе вряд ли поздоровится».
— Да, милая Элеонора, ты помнишь, мы с тобою несколько дней назад говорили о дочери любезной княгини? — раздался голос Меттерниха. — Княгиня Багратион хотела бы отдать дочурку в какой-либо пансион. Так что, надеюсь, она станет желанной в нашем доме.
Элеонора была внучкой бывшего канцлера и дочерью князя Арношта Коуница. Их семья слыла одной из самых аристократических в Австрийской империи и потому, конечно, хорошо воспитанной. К тому же о ней самой говорили как о женщине доброго и отзывчивого сердца, ничуть не очерствевшего, несмотря на постоянные измены мужа, о которых она имела полное представление. Потому она еще раз погладила Клементину по русой головке и, притянув ее к себе, поцеловала в лобик.
— Вы, милая княгиня, можете смело доверить свою дочурку моим заботам, — произнесла она и добавила: — А правда ли, что князя Куракина спас граф Чернышев?
— А вам, графиня, он известен? — спросила Катрин.
— Да кто же в Париже не знает полковника Чернышева? Личный адъютант вашего, княгиня, императора Александра и, как говорят, любимец императора Наполеона.
Глава вторая
И в самом деле, кому в парижском обществе не был известен Александр Чернышев? Пред ним открыты двери всех самых известных домов Франции. Многие генералы, маршалы и министры считали за честь водить с ним дружбу. Сам Наполеон, не говоря уже о членах императорской фамилии, выказывал этому молодому, двадцатишестилетнему русскому офицеру несомненные знаки внимания. Какова же была цель пребывания царского флигель-адъютанта в столице Французской империи?
Сразу же после Тильзита, когда обе державы установили между собою дипломатические отношения и в Париж был направлен послом граф Толстой, а оттуда в Санкт-Петербург с тою же миссией прибыл уже известный нам генерал Савари, у Александра Первого родилась идея включить в штат посольства представителей российского воинства. В их числе был назван и юный кавалергард Чернышев.
Александр Первый в некотором смысле мог считаться крестным этого юноши. Саше шел шестнадцатый год, когда в московском доме князя Александра Борисовича Куракина он был представлен молодому царю. Узнав о пылком стремлении отрока посвятить себя военной службе, Александр Павлович взял его в пажи и затем зачислил в кавалергардский полк.
Юноша был хорошо образован, с детства в совершенстве владел французским и немецким, но главное — вышел статью и приятной наружностью. Молодой Геркулес или Аполлон — неизвестно, как лучше можно было назвать сего молодого человека с широкими плечами и тонкой талией, темными прекрасными миндалевидными глазами и кудрявой головою. К тому же, наверное, немалую роль в приближении ко двору сыграло и то, что его родной дядя, Александр Ланской, некогда был одним из последних и самых любимых фаворитов Екатерины Великой, как она в том сама всех уверяла.
Под Аустерлицем, в первом же своем бою, молодой поручик-кавалергард проявил не только завидную храбрость, но и оказал немалую услугу государю, будучи определен к нему в качестве порученца. По всем этим обстоятельствам не могло не всплыть имя Чернышева в голове царя, когда он составлял список тех, кого хотел послать в Париж, дабы молодые люди представляли силу и мощь его армии, но этому плану не суждено было сбыться.
Зато однажды средь блестящего бала в Зимнем дворце император подозвал к себе Чернышева и, улыбаясь, произнес:
— Наблюдал за тобою с завидным удовольствием — дамы от тебя без ума. Однако не очень ли я расстрою твои забавы, коли дам тебе поручение, которое на время удалит тебя из Петербурга? Впрочем, приходи ко мне завтра.
Утром же в кабинете сразу, без обиняков, объявил:
— Поедешь в Париж. Передашь нашему послу пакет, в котором два письма: одно — графу Толстому и другое — императору Наполеону, которое граф обязан ему тотчас вручить. И с Наполеоновым ответом возвратишься ко мне.
Чернышев никак не мог ожидать, что император Франции пожелает принять не только российского посла, но и офицера, что доставил ему письмо от «любезного брата».
Посланец царя держался просто, не выказывая, с одной стороны, искательства или робости, а с другой — напыщенности и самомнения. Наполеон тотчас вспомнил свою давнюю встречу с наглым и самодовольным царским генерал-адъютантом Долгоруковым и тут же заявил:
— Мне ставят в упрек, что я никогда не принимаю у себя и ничем не отличаю русских офицеров, которых посылает в Париж император Александр. Однако мне о них никто не докладывает! Лишь случайно я нынче узнал от своего министра иностранных дел о вас, господин Чернышев. И, как видите, вы — в моем кабинете. Скажу более: вы произвели приятное впечатление. И я в своем письме к моему августейшему брату выскажу просьбу, чтобы его величество в следующий раз направив в Париж именно вас.
Это оказалось не пустым обещанием. Да и зачем владыке мира, великому Наполеону Бонапарту, было заискивать перед царским курьером, каких немало курсировало между двумя столицами? Император Франции был, вероятно, приятно удивлен, как безбоязненно и в то же время умно Чернышев стал вспоминать сражения под Аустерлицем и Фридландом, в которых он сам участвовал.
Через несколько месяцев французский император с удовольствием вновь принял царского посланца в Байонне, у испанской границы, когда Чернышев привез ему сообщение царя об успешном завершении войны со Швецией. Был он гостем Наполеона и под Ваграмом, в Австрии.
В последнем случае Чернышеву, лишь штабс-ротмистру по званию, выпала честь представлять российское воинство при французском генеральном штабе. Однако ни скромный чин, ни не совсем ясное и определенное положение при союзнических войсках не помешали русскому офицеру немалое время находиться вблизи прославленного полководца и стать непосредственным свидетелем проявления его военного гения. Тогда же сам Наполеон вручил Чернышеву орден Почетного легиона, более всего, наверное, в знак дружбы и военного сотрудничества двух великих держав.
С самого начала восемьсот десятого года Александр Иванович Чернышев получил новый статус — постоянного представителя царя при французском императоре. Австрийская миссия Чернышева окончательно убедила Александра Павловича в завидных дипломатических способностях своего любимца. Тогда, кстати, находясь при Наполеоне, он немало способствовал тому, чтобы при составлении условий мирного договора Австрия, как традиционная союзница России, не потеряла своего лица.
Теперь, в Париже, от Чернышева, по замыслу царя, требовалось проявление всех его талантов. Начиная с роли искусного дипломата и кончая способностями тонкого и умелого кавалера и обольстителя дамских сердец. И сие требовалось от него не случайно. Ибо отныне на него, постоянного представителя царя в Париже, или официально — военного атташе, возлагались и другие, самые главные обязанности: состоять тайным агентом. Иначе говоря, быть ушами и глазами российского императора, дабы все секреты Французской империи переставали оставаться тайною за семью печатями от двора русского.
Слухи о том, что отказ Наполеону от русского дома, то есть отказ выдать за него сестру царя, повлечет войну, оказались слухами вещими: восемьсот десятый год действительно стал переменой в отношениях России и Франции. Но, конечно, не потому, что французский император лишился русской невесты. В тот год особенно наглядно столкнулись национальные интересы двух держав, и разрешить их мирно оставалось все меньше и меньше возможностей.
«Великая армия» Наполеона исподволь, но все ближе и ближе продвигалась к границам России. Под предлогом удаления англичан из северных германских портов французские войска размещались на побережье, превращая северные германские города в свои цитадели. Укреплялся и Данциг, как самый ближайший к России крупный опорный пункт французов. Вот-вот грозилось наполниться французскими силами и Варшавское герцогство — искусственно созданное Наполеоном государство, у которого с Россией были общие границы.
В череде этой экспансии оказался и вовсе оскорбительный эпизод: захват французами Ольденбургского герцогства в Северной Германии, принадлежавшего дяде царя и отцу мужа великой княгини Екатерины Павловны.
Как, почему мог такое совершить монарх, клявшийся в вечной дружбе? Но и Александр Первый почти в эту же пору предпринял бесцеремонный шаг, который вывел из равновесия Наполеона. Русское правительство, не уведомив своего Главного союзника, в одностороннем порядке ввело в действие новый таможенный тариф на товары, «ввозимые по суше». Внешне это выглядело как продолжение мер в русле континентальной блокады Англии. На деле же высокий тариф преграждал путь товарам французским в Россию.
Но то была мера, направленная на спасение русского рубля. Континентальная блокада его изрядно обесценила. Однако «таможенную войну» Наполеон вдруг счел прелюдией войны настоящей.
А коли тень такой войны возникла и замаячила в глазах обоих монархов, само собою, и в той и в другой стране развернулась к ней подготовка.
В самом начале 1810 года военным министром России был назначен генерал от инфантерии Барклай-де-Толли. В марте предыдущего года, когда, по существу, действия против Швеции завершились, Михаил Богданович успел побывать в роли главнокомандующего на том театре войны. Теперь его способности администратора Александр Павлович решил востребовать в новом качестве.
Создание военных атташе при русских дипломатических миссиях стало одной из первых мер, что предпринял новый военный министр совместно с министром иностранных дел Румянцевым. До сих пор ни одна страна не имела подобных служб, Россия первою пришла к этой мысли. И именно в тот момент, когда угроза новой войны стала очевидной. Вот почему из Санкт-Петербурга в Париж была направлена секретнейшая депеша.
«Флигель-адъютанту Чернышеву, — значилось в письме за подписью военного министра. — По случаю пребывания вашего в Париже государь император повелеть изволил возложить на вас особенное поручение доставлять ко мне сведения, в коих военный департамент для потребных соображений крайне нуждается.
Я почитаю для себя приятною обязанностию начертать вашему высокоблагородию цель и правила сего поручения. Благоразумие ваше убеждает меня предварительно, что во всех действиях по возлагаемой на вас обязанности вы сохраните надлежащую скромность и осторожность.
Пользуясь всеми удобностями нахождения вашего в Париже, вы должны прилагать неусыпное старание к приобретению точных познаний статистических и физических о состоянии Французской империи, обращая наиболее на военное состояние оной внимание. Вследствие чего потщитесь собирать достаточные известия о всех, относительно до военного соображения, отношениях Франции к зависимым от ее влияния державам и, рассмотрев оные основательным образом, доставьте ко мне описание о числе войск во Франции, устройстве, образовании и вооружении их, расположении по квартирам, с означением мест главных запасов, о состоянии крепостей, о свойствах, способностях и достоинствах лучших генералов и расположении духа войск.
Не менее потребно еще достаточное иметь известие о числе, благосостоянии и духе народа, о внутренних источниках сей империи, или средствах к продолжению войны».
Далее следовала более конкретная инструкция — какие сведения и каким желательно способом их следует приобретать.
«Государю императору угодно снабдить депо карт всеми полезными и необходимыми воинскими сведениями; почему употребите все способы узнавать о всех важных картах, планах и сочинениях, и присылайте ко мне оные реестры с означением цен, дабы, по мере необходимости, можно было бы на покупку оных доставлять к вам деньги.
Пребывание ваше в Париже открывает вам удобный случай доставать секретные проекты, сочинения и планы к исполнению каких-нибудь по военной части предметов или тайные диспозиции о движении, действии и расположении войск; употребляйте возможные старания к приисканию и доставлению ко мне сих редкостей, какою бы ни было ценою».
Завершалась же сия инструкция следующими словами:
«Как важность сего поручения требует, чтоб все сношения со мною были в непроницаемой тайне, то, для вернейшего ко мне доставления всех сведений, обязаны вы не испрашивать в том посредства господина посла, а Использовать для сих целей курьеров, кои к вам будут приписаны особо».
Первого и пятнадцатого числа каждого месяца на рабочий стол французского императора ложился наисекретнейший документ — роспись войск. Это был отчет генерального штаба о состоянии всех частей и соединений «Великой армии» от роты и батальона до дивизии и корпуса, находящихся в самой империи, а также в других странах.
Важной особенностью сего доклада было то, что в нем отмечались все изменения, произошедшие в течение последних двух недель. Они касались не только передвижения и расквартирования войск, но новых назначений, вплоть до самых младших офицеров, а также указаний на имеющиеся командные вакансии. Там же, в докладе, содержалась подробнейшая информация о состоянии продовольственного снабжения и наличии оружия. Последний пункт перечислял не только укомплектованность ружьями, орудиями, боеприпасами, но даже отмечал, к примеру, сколько в том или ином подразделении имеется запасных осей к пушечным лафетам.
Как считал сам Наполеон, сей доклад за подписью начальника генерального штаба маршала Бертье составлял самую главную тайну империй. И к сему докладу не должна была приближаться ни одна рука и ни одна пара глаз, даже в самом ближайшем окружении императора.
Но именно этот секретнейший документ ровно за день до того, как ложился на императорский стол, становился уже известным Чернышеву. Вернее, он получал точную его копию и тут же специальным курьером отсылал ее в Санкт-Петербург.
Таким образом царь, военный департамент и департамент иностранных дел каждые две недели получали точнейшие сведения о состоянии и движении французских вооруженных сил. Оставалось лишь сложить росписи друг с другом, чтобы получилась подробнейшая картина не только мощи наполеоновской армии, но и того, куда и какие части передвигает император Франции на просторах Европы.
Скрупулезным изучением бесценных сведений, доставляемых тайным агентом русского императора, вплоть до конца зимы восемьсот двенадцатого года серьезно занимались и военное министерство, и сам царь. И безошибочно возникал вывод: армия Наполеона, оккупировавшая побережье Балтики на прусских и польских землях, нацелена на Россию. А все батальоны и полки, еще находящиеся, казалось бы, далеко от российских пределов, на берегах Рейна и Одера, тем не менее, хотя медленно и будто бы незаметно, все же меняют свою дислокацию в направлении востока.
Что же следует предпринять России? Первое предложение русского генералитета было убедить Александра приблизить наши армии к западной границе. Шаг был рискованный: соглядатаи в западных губерниях обязательно сделают эти маневры достоянием Наполеона. И он непременно воспользуется случаем, чтобы обвинить Россию в том, что она первая начала готовиться к войне.
Так, собственно, и произошло. Французский император, узнав о передислокации русских корпусов в приграничные районы, поступил, как поступают бесчестные грабители, дабы отвести подозрение от собственной персоны: «Держи вора!»
На одном из торжественных церемониалов — приеме послов — Наполеон подошел к Куракину.
— Итак, маска сброшена, князь, — сказал он. — Мой брат император Александр обиделся на меня за то, что я аннексировал герцогство Ольденбургское. Но сие — необходимая мера, чтобы закрыть даже малейшую лазейку на немецком побережье для английских кораблей.
Взамен герцогу Петру я выделил Эрфурт — равнозначную во всех смыслах провинцию. Однако Ольденбургское герцогство для императора Александра — предлог, чтобы бросить мне вызов. Но что выиграет Россия, если начнет против меня войну?
И далее император, не давая раскрыть рта российскому послу, чтобы вставить хотя бы слово, продолжал свои угрозы. Он заявил, что, занимая Данциг и другие крепости в нижнем течении Вислы, ничего не замышляет против России.
— После истории с Ольденбургским герцогством, — заявил Наполеон, — у императора Александра возникло подозрение, что я думаю о восстановлении Польши. Интересы моего народа этого не требуют. Но если вы принудите меня к войне, я воспользуюсь Варшавским герцогством как средством против вас. Именно эта территория станет плацдармом и союзницей для меня в моем походе против вашей страны. И тогда вы потеряете все ваши польские провинции, в том числе и Белосток, что я позволил вам присоединить после Тильзита. Впрочем, император Александр не оценил моего расположения к нему. Какое блестящее царствование было бы у него, если бы он больше мне доверял и не таил в своей душа коварных чувств! Что ж, мне ничего другого не остается, как ответить ему на его неблагодарность. Разве не мне обязан ваш император недавними своими приобретениями? Задумайтесь лишь на минуту: Александр, проиграв две войны против меня, вскоре приобрел Финляндию, Молдавию, Валахию и несколько воеводств в Польше.
Князь Александр Борисович поспешил вставить свои слова:
— Ваше величество, смею заметить, что обретение земель, о которых вы изволили упомянуть, — суть последствия свершений российских воинов.
— Не спорю, — поспешно согласился Наполеон. — Но что смог бы сделать император Александр со своими армиями, коли я, император Франции, не дал бы ему на сие свое соизволение? Теперь же, если он порвет со мною, ни турки, ни финны со шведами ему не простят своих обид и поражений! Сии народы окажутся вместе со мною в моем походе против державы, которая не захотела оценить мое к ней благорасположение. Вот, князь, еще одна причина, которую должен иметь в виду ваш император, затевая со мною ссору.
Глава третья
Сквозь ажурную листву сначала промелькнула белая колоннада, и вдруг на следующем повороте аллеи открылся вид всего дома.
Дом был огромен — с высокою крышею и двумя просторными террасами, смотревшими в парк, состоящий из столетних дубов и лип. А перед парадным входом, обрамленным массивными колоннами, расстилалось множество цветочных клумб.
Усидеть в коляске более было невозможно, и Багратион велел кучеру остановиться за несколько сажен от дома, чтобы самому пройтись пешком средь царства жасмина и роз, обступивших его со всех сторон.
День выдался теплый самая макушка лета. И после долгой пыльной и тряской дороги чистый и прозрачный воздух, благоухающий всеми ароматами природы, и поразительная тишина показались нашему путнику волшебной сказкой.
Сколько же самых различных краев успел повидать на земле этот сорокапятилетний генерал, сколько открывалось пред ним самых разнообразных красот — от предгорий Кавказа и неприступных альпийских вершин до необъятных просторов Балтийского моря и выжженных солнцем степей Молдавии! Но, пожалуй, только одна вот эта с виду вроде бы и неброская красота среднерусской земли была способна вселить в человеческую душу чувство умиротворения и покоя.
— Ваше сиятельство, вы ли это? — услышал он голос и, подняв глаза, увидел у мраморной лестницы, ведущей к дверям, худосочного старичка, одетого в ливрейный фрак. — Тому две недели назад голубушка-княгиня Анна Александровна сказывали, что приедут-де князь Петр Иванович: И вот вы собственною персоною!
— Карелин? — откликнулся Багратион. — Ты жив еще, мой крестный отец. А я тебя нет-нет да вспоминаю добрым словом. Помнишь свой кафтан, что надел на меня в Санкт-Петербурге? Вот с того кафтана и до моего сегодняшнего генеральского мундира — весь мой ратный путь. Так что в моей славе — и твоя заслуга!
Багратион протянул дворецкому руку, а другою быстро обнял костистое старческое плечо.
Слезы брызнули из глаз старика.
— Господи! Князенька, Петр Иванович! Да сколько же слез пролила голубушка-княгинюшка, а с нею заодно и я, старый, когда доходили до нас слухи о ваших победах, в которых столько раз вас могла настигнуть неминучая смерть! Но, слава Богу, вот вы, живой и невредимый, и в таком благоуханном раю, как наши Симы.
— Рай! — с наслаждением повторил Багратион. — Попаду ли я, грешный, когда-нибудь в то царство праведников, куда открывает ворота сам Господь? Потому вот и решил хотя бы на время поселиться в сем земном раздолье. Николенька здесь?
— Здесь, здесь он, молодой князь! — радостно растворил двери дворецкий. — Вас с нетерпением дожидались. Так что — милости просим. Ваши комнаты давно уже готовы. Все — чин чином, как вы любите, чтобы просто, но опрятно.
Только успел Карелин договорить, как сверху перепрыгивая с ходу через две, а то и три ступеньки, — сам Николай Голицын.
— Ну, наконец-то! А то я, право, вас… тебя совсем уж заждался, — радостно просиял, обнимая гостя.
— Никак не привыкнешь — то «вы», то «ты»? — засмеялся Багратион. — Да ты ж погляди, как сам вымахал — меня давно перерос, а все в голову не возьмешь, что с тобою мы — двоюродные братья! Это когда бы ты под моим началом в строю был, тогда бы обязан был и «выкать» и, коль надо, сиятельством величать.
— Да я… — Широкое лицо Николая смущенно раскраснелось. — Я, понимаешь ли, из гвардии вышел. Разве мама с папа вам… тебе не говорили?
Они поднялись в комнаты Багратиона, куда уже из коляски были перенесены чемоданы. Багратион присел в кресло, вытянув ноги и расстегнув сюртук.
— Видишь, — продолжил начатый разговор, — у каждого своя планида. Я, как ты знаешь, в твои семнадцать лет уже тянул солдатскую лямку и не ощущал, как сие тяжело. У тебя с малолетства тож своя мечта: жить в мире звуков. Говорили: отменно играешь на виолончели?
— То верно. В Вене у Рейтора значился в первых учениках, — снова зарделся молодой Голицын. — Так что не баловство сие для меня. Потому собираюсь опять в австрийскую столицу, чтобы продолжить занятия по классу виолончели. Вена, ты же знаешь, музыкальный город. Там сам воздух — легок, светел и насквозь пропитан музыкой.
Вена… С каких пор при упоминании этого города точно ком подкатывал к горлу и перехватывало дыхание. С того лета, когда сам оказался с армиею на венских улицах? Но тогда поразило именно ощущение легкости, о чем сейчас сказал Николай. Спазма возникла позже. Вернее, совсем недавно, когда понял: Вена насовсем отняла у него ту, что, как это ни удивительно, продолжала жить в его сердце. Так что какой же это праздник души может быть связан теперь в его представлении с сим городом-разлучником?
И Николай Голицын, уловив на лице брата тень неудовольствия, невольно сокрушился, что задел больную струну.
— Конечно, и в других столицах есть прекрасные школы: фортепьяно, скрипки, той же виолончели, — поспешил он снять неприятное впечатление, которое произвел одним упоминанием своего любимого города.
— Не в том дело — Вена, Берлин или, скажем, Рим, — перебил его Багратион. — Война, Николай, на носу! Вот в чем суть, в чем ключ к нашим настоящим и будущим судьбам. К тому, брат, как каждому из нас определять свою жизнь. Конечно, можно стать венцем. Но оттого в твоих жилах не потечет австрийская кровь. Ты все равно останешься тем, кем ты есть, — русским человеком. И как тогда из того прекрасного далека ты и другие русские венцы будете смотреть, как я, такой же русский, как ты и они, буду драться с супостатами, не жалея своей жизни?
На сей раз спохватился Багратион: а не задел ли он ненароком в душе брата то, что невольно могло его обидеть?
— Прости, Николай, что я так резко и о тебе и о других… — Багратион встал и обнял брата. — У тебя золотое, доброе и чувствительное сердце. Я помню тебя с самого твоего рождения. И потом, когда ты рос и твоя мама учила тебя и твоих братьев и сестер называть меня дядею. А иначе ведь как? Большая разница в возрасте. Но теперь мы — взрослые. И потому равны. И потому я вот так с тобою — прямо и открыто.
— Да-да, брат! — просиял Николай. — Я очень хорошо понимаю тебя. И знаю, как это важно, всегда чувствовать себя русским. Вот граф Разумовский. Уж сколько лет живет в Вене! Казалось бы, и язык родной запамятовал. Ан нет! Там, в Австрии, он собиратель всех наших настроений, всех русских сил и интересов. И с ним — княгиня Багратион… Да-да, брат, уж коли зашла речь, ты должен знать: она истинный патриот! И у нее на устах — одно только твое имя, имя героя. — И, чтобы перевести разговор: — Да что наши, русские… Бетховен — я виделся с ним — последнюю свою симфонию, как известно, поначалу посвятил Наполеону. Но затем с гневом разорвал титульный лист сочинения с посвящением. Да ты и сам лучше меня знаешь: Бонапарта и французов ненавидят во всей Европе. И ты верно сказал: случится война, она заденет всех — и Вену, и Берлин, и Рим. А что, о войне ты с государем говорил?
— Был у него, — произнес Петр Иванович, благодарно оценив про себя сердечную чуткость Николая, который, коснувшись запретного — княгини Багратион, тут Же сменил тему. — Разговор с императором зашел в том числе и об отношениях с Францией — придется ли с нею воевать. Ну, будет. Еще наговоримся с тобою. Я так рад, что все лето пробуду в твоем обществе. И давай условимся: о войне — более ни слова! Отпуск, что предоставил мне государь, следует посвятить одной благой цели — отдохновению тела и души. Это же грех — в сем чудесном раю, как давеча назвал Симы старый Карелин, предаваться чему-либо иному, кроме благостного наслаждения божественною природой!
Легко было произнести: забыть о войне. На самом же деле как можно было забыть о том, что составляло главное занятие всей жизни, даже и того более — саму жизнь?
Представим себе, чем жил, какими событиями и успехами измерял, скажем, тот же Николенька Голицын дни, недели и месяцы, что то медленно тянулись пред его внутренним взором, то неслись вскачь, да так, что даже замирала душа.
Если отбросить в сторону утехи молодости, то главным останутся успехи в занятиях музыкой. Вот этот экзерсис, к примеру, он разучил тогда-то, и это несомненное его достижение было отмечено. Другою такою же победою могло стать разучивание новой симфонии, что еще никто до него не исполнял, а вот он взялся и удивил любимого профессора своею настойчивостью.
Конечно, не все были удачи. Подчас, чтобы чего-то достигнуть, следовало изо дня в день исполнять одни лишь бессмысленные упражнения. Зато каким сладостным оказывался тот долгожданный миг, когда все, что до этого представлялось лишь опостылевшим и нудным трудом, вдруг выливалось в истинное наслаждение.
Что ж сказать о военачальнике, для которого каждая его победа — это не просто личное достижение, но успех всего войска, им предводительствуемого. Даже того более — успех русского оружия и победа отечества. Ну а если представить, как у того же Багратиона, — лишь закончится одна война, так вскоре наступает другая, то и получается: жизнь — это и есть одно беспрерывное сражение, один огромный, с кровью и смертями, никогда не затихающий бой. Как сей бой исключить из жизни, как забыть о том, что и есть главное в его судьбе?
И если уж в самом деле не говорить вслух о сражениях, когда ты хотя бы на время отлучен от войска, то не думать об армии и о войне Петр Иванович никак не мог.
Три месяца минуло с той поры, как князь Багратион покинул должность главнокомандующего Молдавской армией, а все не мог с ней распрощаться.
Речь не о том, что давало знать о себе уязвленное самолюбие: почему так легко государь принял его отставку? Если уж что и раздражало, то другое: неужели царь не понял, что план кампании, предложенный им, главнокомандующим, — единственно приемлемый в создавшихся условиях? А уж коли не понял я не принял, осуществлять иные, чуждые ему цели он, князь Багратион, не намерен и ни в коем случае не станет.
Нет, не обиженным, а с достоинством и гордо поднятой головою уезжал из Молдавской армии вчерашний ее начальник. В ночь на пятнадцатое марта он написал, а утром на построении зачитал свой приказ:
«По именному его императорского величества высочайшему указу, на имя мое последовавшему, государю императору благоугодно было снизойти на всеподданнейшее мое прошение и уволить меня для излечения болезни на четыре месяца; на место же мое возведен наго степень главнокомандующего господин генерал от инфантерии граф Каменский Второй, которому вследствие того и сдал я главное над армиею начальство».
В строю пред ним стояли те, с кем летом в в самом начале осени прошедшего, восемьсот девятого года он одержал поистине громкие победы над неприятелем, которые принесли и пользу отечеству, и честь войскам, и славу оружию его императорского величества.
Можно смело утверждать, что каждый подвиг, каждое предприятие войск, под его начальством состоящих, ознаменованы были счастливыми успехами.
Об этом он в первую очередь и сказал в своем приказе. Но вместе с тем тут же не мог не отметить и другого, чего постоянно добивался в проведении своих операций и что почитал наипервейшей заслугою каждого настоящего военачальника, — бережение людей.
«Более же всего служит мне утешением, — так было сказано в приказе, — что все эти победы над неприятелем в поле, что все осады славные крепостей сопряжены были с весьма малозначащею потерею храбрых воинов наших».
И еще другою священнейшею обязанностью своею почел он необходимость засвидетельствовать торжественную признательность и благодарность как всем господам корпусным и отрядным начальникам и прочим генералам, равно штаб- и обер-офицерам, так и всем и каждому из нижних чинов. Благодарность за строгое исполнение обязанностей перед отечеством и монархом и за полную доверенность и любовь к нему, их бывшему главнокомандующему.
«Эта любовь, — заключил он, — которую во всех случаях обнаруживали ко мне вы, мои боевые товарищи, и которая составляла верховнейшее мое удовольствие в часы сражений, в походах и во всех трудах, нами переносимых, навеки запечатлена в сердце моем неизгладимыми чертами. И я увожу ее с собою, яко отличную награду, которая на всю жизнь мою будет сладчайшим для меня утешением.
С победами встретил я армию при вступлении моем в главное над оною начальство — с победами расстаюсь с нею».
Март в южных краях — самое торжество весны. Не на эту ли пору намечал он новое победоносное наступление? Расчет был на то, чтобы застать врасплох рассеянное по мелким гарнизонам, еще не оправившееся от прошлогодних поражений турецкое воинство. И принудить визиря к тому, во имя чего и возникла сия война, — к миру.
Спокойствие там, в дальнем Причерноморье, было достигнуто задолго до Тильзита. И сие состояние устраивало, казалось бы, обе стороны. Но за год до того, как Россия и Франция вступили в союз, Турция, пользуясь войною в Европе, решила попытать своего счастья. И коварно, в одностороннем порядке разорвала прежний договор, надеясь на то, что русский богатырь будет способен отбиваться одною лишь рукою — другая занята в драке с Наполеоном.
Ныне и сами турки хотели бы вылезти из бойни, в которую они ринулись слишком уж опрометчиво: у богатыря для драки освободилась и другая рука.
Русский богатырь хорошо развернулся — и левою и правою рукою так двинул по оттоманским башкам, что, если бы не угроза зимы, мог бы освободить и земли за Балканами. Но теперь-то зачем точь-в-точь повторять прошлогодние намерения? К чему нам чужие задунайские просторы, когда к своим собственным пределам с западной стороны приближается другая война, что может оказаться более грозной, чем сия турецкая?
Мысль эта и была главною в Багратионовом плане весеннего наступления, что он предоставил царю. Силой оружия, внезапно приставленного к горлу, принудить оттоманских нарушителей спокойствия к миру, который они так вероломно нарушили.
И что же, оставить мысль о Балканском походе? Оставить! И более того, если потребуется, вернуть Молдавию с Валахией. Зато прекратить потери солдат в ненужной теперь войне и вернуть их — а это тысяч пятьдесят — к западным границам, где вот-вот может вспыхнуть война уже не с визирем, а с самим Наполеоном.
На сей точке зрения Багратион продолжал упорно настаивать и когда объявился уже в Санкт-Петербурге и предстал в Зимнем дворце пред государем.
— Рад видеть вас, князь Петр Иванович, — встретил его император своей обворожительною улыбкою. — Однако не скрою: вы доставили мне истинное счастье, если явились бы не с левого, как теперь, а с правого берега Дуная.
— Смею заметить, государь, что я явился с левого берега, оставив там армию здоровую и отменно кормленную, не отдав ее на растерзание голода, холода и болезням. И не взятую потом в полон янычарами.
— Я не узнаю вас, князь Багратион! — Улыбка исчезла с бело-розового лица царя. — Никому иному, кроме вас, в той ситуации, что возникла в Молдавии прошлым летом, я не мог доверить армии. Решительность, быстрота, натиск — сии суворовские заповеди ни в ком другом не находят такого полного отзвука, как в вашем сердце, князь. И что же из сего вышло?
— Вышло, ваше величество, главное: я спас армию, которая теперь явится в состоянии заставить турок подписать мир, — твердо произнес Багратион.
— И даже ценою уступок неприятелю уже завоеванных территорий? — В голосе царя явно обозначились нотки неудовольствия.
Вот тут он и повторил вслух, что последнее время не выходило у него из головы:
— Простите мою дерзость, государь. Однако случаются в истории такие моменты, когда выгоднее вернуть чужое, дабы не потерять свое. Вашему величеству известно, что я не трус. И решительный разгром врага — завещанная мне великим Суворовым манера вести войну, как справедливо вы изволили заметить. Так вот, чтобы как можно сподручнее было встретить врага наисильнейшего — с развязанными руками, не озираясь назад, за спину, — следует помириться с врагом меньшим.
Царь опустил глаза и медленно двинулся к окну, что выходило на Неву.
— Так вы, князь, серьезно полагаете, что войны с Франциею не избежать?
«А разве не из сих соображений исходили вы, ваше императорское величество, когда понуждали меня во что бы то ни стало идти на Балканы, намекая на возможное вмешательство французов на стороне турок?» — хотел произнести Багратион, но остановил себя.
— Пожалуй, сие не тайна. — Император сам ответил на свой же вопрос. — И особенно не тайна от моих генералов. Кому же, как не вам, военачальникам, заблаговременно думать о том, что может ждать нашу армию впереди. Наверное, нам и впрямь не следует забираться на Балканы. Это, в случае нападения французов, значило бы оказаться в западне.
Багратион просиял:
— Ваше величество совершенно верно изволили понять мою мысль, почему следует отказаться от Балканского похода и мириться незамедлительно, но с честью. А в наступление — идти непременно! Только — в другом месте. И — на другого врага.
Александр Павлович был уже у своего письменного стола и взял в руки листок, исписанный чернилами.
— Вот, князь, депеша, что как раз накануне вашего прихода мне принесли из военного министерства. Это донесение одного из самых доверенных мне лиц из Парижа. Послушайте. Не уловите ли вы некие общие с вашими мысли? «Прошло для нас время переговоров. Никакие снисхождения не поколеблют отныне намерения Наполеона напасть на Россию. Он не может терпеть в Европе равного себе и потому ищет нашей погибели. Война неизбежна, ваше величество, посему готовьте войска, спешите миром с турками, заключайте тайный союз с Англией. Спасайте Россию: от ее жребия зависит участь Вселенной».
Багратион подался вперед, чуть ли Не вплотную приблизившись к царю.
— Ах, какой молодец, какой ясный ум и дерзость мысли! — воскликнул он и, несколько отступив, поклонился. — Не могу сдержать себя и не поздравить ваше величество с тем, какими верными помощниками вы окружили себя! И знайте, я буду первым из тех, на кого вы всегда сумеете положиться, коли разразится гроза. Нет, ваше величество, не тогда, когда она грянет и может застигнуть нас врасплох. Теперь, теперь же следует нам, вашим верным слугам, расчислить весь ход событий и, по возможности, дерзновенно его упредить!
— Вы не о том ли, любезный князь, о чем и мой тайный агент? — Улыбка вновь обозначилась в уголках губ императора. — Вот что он, кстати, советует: «Коль нам суждено будет не миновать войны и в нее вступить, мы могли бы, упреждая неприятеля, двинуться к Висле, занять там крепкие позиции, устроить мостовые укрепления, посылать легкую конницу к Одеру, когда основные силы Наполеона будут еще в сравнительном отдалении от наших пределов».
«Я же как раз об этом и думал, когда обмолвился только что о наступлении в ином месте!» — вновь радостное чувство овладело всем существом Багратиона.
— Однако, ваше величество, — вслух произнес он, — для сего предприятия потребен доскональный учет всех условий. Самое первейшее — вслед за Турцией следовало бы перетянуть на свою сторону шведов. Взяли у них Финляндию — могут за то не простить. А ежели задобрить? К примеру, пообещать вернуть Шведскую Померанию на германских землях, что недавно аннексировал Наполеон? Иль чем другим этих шведов подкупить. Но основное — Австрия и Пруссия. Коли их давней непримиримостью к Бонапарту заручимся, встретим его с опережением.
Александр Павлович ласково посмотрел в лицо собеседника.
— Надеюсь, ты, князь, не обиделся, как начал я разговор? — Неожиданно, как, впрочем, часто бывало, когда хотел подчеркнуть особую расположенность, император перешел на «ты», — Непросто найти единственно правильное решение, особо когда рядом с твоим мнением — десяток противоположных. А по тебе я как бы сверил то, что зрело во мне самом, но на что, сознаюсь, окончательно не мог решиться. Тебя же прошу, прежде чем убудешь из столицы, побывай у Михаила Богдановича. Военный министр он недавний, но мнения его собственные и других наших генералов тебе бы небесполезно прознать. В чем-то, верно, сойдетесь, в ином окажетесь по разные стороны. Общему же делу — польза. И — о здоровье похлопочи; Сам ведаешь: Дела ожидают нас серьезные. Так что след быть, как говорится, во всеоружии. Но о разговоре нашем — молчок. Пока сие, о чем толковали, — тайна.
По утрам, входя к князю Петру Ивановичу, старый дворецкий находил его уже за столом, склоненным над бумагою.
— Ключевая водица уже в кувшине. Так что в самый раз после прогулки принять; как вы любите, студеную ванну, — докладывал Карелин и добавлял: — В толк не возьму, ваше сиятельство, зачем вам на отдыхе жизнь казарменную? Простите старика, коли сказал не так. Однако сторожа говорят: в барском доме и в людской еще ни одного огонька, а князь-генерал уже в седло и что есть духу летит в поле.
— Первым, говоришь, встаю? — Багратион вскакивал из-за стола и, хохоча, стягивал с себя рубаху, обнажая до пояса мускулистое тело. — А ведь знаешь, что говорится в народе: кто рано встает — тому сам Господь подает.
— Так то ж про таких, как мы. Вот я хотя и до дворецкого дослужился, а все же — слуга у господ.
— Слуга, говоришь? — поднимал на Карелина мокрую голову Багратион, не смиряя смеха. — Вот, душа моя, верное слово — так и я же слуга! А как же иначе? Слуга царю и отечеству.
— То справедливо изволили заметить, — ответно улыбался дворецкий. — А все ж теперь вы не в войске — чего ж ни свет ни заря да в седло, когда вон князь Николенька в те часы самые лучшие свои сны наблюдает. Да и — что утром, что поздно уж к ночи — от бумаг вас не оторвешь. Слава Богу, что соседские господа, прослышав о вашем приезде, стали чуть ли не в очередь — визит за визитом. Так что и для вас, и для князеньки Николая — развлечения. Вот извольте убедиться: сосед наш, добрый барин, прислал давеча с казачком записку — будет у вас нынче в полдень.
Отбросив полотенце, коим растирал докрасна грудь и спину, Багратион пробежал строчки, нацарапанные вкривь и вкось соседским барином.
— Не принять — нельзя, — сдвинул брови и тут же щелкнул пальцами. — Проследи, чтобы стол — как у меня в Петербурге: все самое лучшее. И — вина лучшие из погреба. Не только столица, но и тут у вас должны узнать: если у князя Багратиона обед, столы должны ломиться! Да вот еще: земляники и фруктов из оранжереи поболе. И — зелени, травки разной. Ведь держит тетя, княгиня Анна Александровна, грузинский стол?
— Как же-с! — обрадованно закивал дворецкий головою в пышном парике на столичный манер. — Как же-с, ваше сиятельство, им забыть то, что обычаем было при ваших дедах и прадедах, хотя вы и княгиня уже наших, русских кровей? Потому князь Борис Андреевич, особливо когда гости, первым делом требует, чтоб была изюминка к столу. Кинза, другая какая приправа. А уж сациви иль лобио — то всенепременно.
— Вот-вот, — одобрил Багратион. — Гостей люблю. И люблю быть хлебосольным хозяином. Посему устрою-ка я на удивление всем соседям днями увеселительное предприятие — настоящий бал, а?
За завтраком, глядя в розовое со сна лицо Николая, Петр Иванович рассказал о своем желании дать соседям большой прием.
— Не удивлюсь, что сие — военная хитрость, — улыбнулся молодой Голицын. — Оказать внимание всем соседям, так сказать, чохом, чтобы потом оставили в покое и не докучали изо дня в день визитами. Угадал, господин генерал от инфантерии, ваш тайный замысел?
Багратион, откинулся на спинку стула и расхохотался:
— В самую точку попал! А еще плакался мне: нет-де в тебе этой самой военной косточки. Есть, брат, есть. Поверь моему слову: вернешься в строй! А маневр мой ты раскусил отменно: люблю гостей, но не люблю праздного гостеприимства, когда стоит дело! А у меня — запарка. Потому и студить надо свои мысли по утрам на свежем ветру, скача по полям и перелескам. А влечет меня нынче долг не к столу гостиному, а к уединенному кабинетному. Бал все ж дадим! Не сочти за труд, душа моя, возьми в свои руки заботы о сем торжестве. Тебе же гости более знакомы, чем мне, случайно залетевшему в чужое гнездо.
После завтрака Багратион вернулся к себе и, присев к бюро, единым духом вывел на чистом листе:
«Вашему императорскому величеству благоугодно было обнаружить мне неоднократно внимание, обращаемое прозорливым оком монаршим и с отеческою о благе подданных попечительностью на настоящее критическое положение России в отношении к Франции. Ободрен будучи таковою высокомонаршею доверенностию и сохраняя все то, как и чин и звание мое того требуют, в самой непроницаемой тайне, я осмеливаюсь повергнуть к священным стопам вашего императорского величества всеподданнейшее мое по сему предмету мнение, уповая, что сие дерзновение мое найдет пред лицом вашим, всемилостивейший государь, оправдание в неограниченном моем усердии к великому моему монарху и в любви к отечеству».
Начало далось легко. Оставалось лишь все дальнейшее, в чем и заключалась главная суть записки на высочайшее имя, изложить так же ясно и вразумительно.
Все пункты, которые предстояло нанести на бумагу, давно уже поместились в голове. Но он вновь и вновь возвращался к ним, чтобы до конца самому убедиться в правоте тех заключений, к которым привело его длительное размышление над тем, что происходило вокруг.
Нет, он не считал себя прежде всего государственным мужем, точнее сказать, человеком, главное занятие которого — политическое состояние дел. Он был боевым генералом. Однако прежде чем обосновать свои чисто военные меры, кои, по его мнению, незамедлительно следует предпринять, он не мог не коснуться обстановки в мире.
Как и подобает военному человеку, его политическое видение дел оказалось в изложении предельно кратким и четким.
«В неприязненном расположении императора французского к России никто, конечно, ныне более не усомнится, — решительно продолжил он изложение своих мыслей. Напротив того, вся Европа есть очным тому свидетелем, с каким заботливым старанием ваше императорское величество тщились с самого заключения Тильзитского трактата сохранить и утвердить мир и дружественную связь между обеими империями; но теперь вся надежда к достижению сей благотворительной цели исчезла, и нет покушения, которого бы от злобы и властолюбия сего завоевателя, алчущего всемирные монархии, не должно быть опасаться. Он выжидает только той минуты, когда с вящею для него пользою возможет водрузить пламенное знамя на пределах империи вашей.
Степень опасности, день ото дня увеличивающейся, определяет также и меры, которые к ограждению себя от оной необходимость предпринять заставляет. Война кажется неизбежною. Участь ее, конечно, первоначально зависит от Бога, но неограниченное усердие верных подданных вашего императорского величества, дух, в народе царствующий, и беспримерная храбрость, неутомимость и преданность воинства вашего преисполняют нас благими упованиями; впрочем, и несчастные в войне приключения, от которых сильное и могущественное государство, как Россия, не теряя даже предпринятого напряжения, оправиться может, кажется, гораздо менее пагубны, нежели бездейственное претерпевание повсечасного нарушений прав и достоинства империи. Известия же, хотя недостоверные, но из уст в уста переходящие, рождают утешительную мысль, что, может статься, не удалена эпоха, где в столпотворении Наполеоновом водворится смешение языков, долженствующее естественно, сильно споспешествовать к восстановлению права народного в Европе. Мысль сия получает еще более вероятия, если принять во уважение, что ни один из побежденных и завоеванных им народов не признает себя счастливым, а, напротив, с трепетом ожидает ежедневного углубления зла».
Главная мысль была высказана: признавая неизбежной войну, Багратион переходил теперь к тому, что было основным, на его взгляд, делом, которое следовало незамедлительно предпринять. И это дело заключалось в том, «чтобы, с одной стороны, оградить себя от внезапного нападения, а с другой — выиграть времени по крайней мере шесть недель, дабы сделать первые удары и вести войну наступательную, а не оборонительную. К достижению сих главных целей почитаю я удобнейшими следующие средства».
«О предварительных мерах к начатию войны» — так он озаглавил раздел своей записки, в коем не оставлял сомнения: да, Россия, дабы обезопасить себя, должна первой выступить против той страны, которая уже бесповоротно решилась на войну.
Что же следовало предпринять? «Без потери времени сообщить французскому двору ноту, в которой, с соблюдением в слоге всего дружественного расположения, но притом с твердостию, достоинству империи приличествующей, изложить, с одной стороны, все средства, употребленные вашим императорским величеством к вящему утверждению, мира и согласия между обеими империями, а с другой — все поступки императора Наполеона, таковому искреннему желанию вашего императорского величества противоборствующие и права народные нарушающие».
Весь ход дипломатических сношений, долженствующий уличить правительство Наполеона в двоедушии, был изложен Багратионом скрупулезно и самым подробнейшим образом. Общение в военном министерстве с Барклаем и особо доверенными чиновниками дали, князю обильную пищу для размышлений, и в первую очередь для того, чтобы прибегнуть к тем выводам, которые он теперь излагал в записке на высочайшее имя.
Там же, в военном департаменте, а также в Министерстве иностранных дел, где он был любезно принят канцлером Румянцевым, он немало почерпнул, чтобы уяснить положение дел в Пруссии и Австрии.
— Сии обе державы — заложницы Бонапарта, — заметил в своем откровенном разговоре канцлер Николай Петрович. — Австрийцы, к примеру, как мне конфиденциально передавал Меттерних по поручению императора Франца, обещают: «Австрия останется в будущей войне тайным другом. России, и никакой Бонапарт не заставит наших солдат стрелять в солдат русских». Король Прусский в отчаянном положении. Он боится Наполеона, потребовавшего от него войска, чтобы выставить их против России. Но он спит и видит, когда же русские освободят его страну от французских оккупантов.
— Ага! — подхватил тогда Багратион. — Фридрих-Вильгельм как бы открывает перед нами ворота Восточной Пруссии! Почему бы нам, кстати, не воспользоваться сим любезным приглашением?
Министр иностранных дел был до мозга костей дипломатом и потому лишь улыбнулся в ответ, давая понять известнейшему, храброму и дерзкому в деле генералу, что кесарю — кесарево, а уж им, генералам, — генералово.
Однако Румянцев не без умысла вел разговор. Он отлично знал, кто перед ним и по чьему повелению к нему пожаловал. Был уверен: князь Багратион, коли берется за какое дело, сумеет его отстоять и доказать свою правоту, не убоясь даже при сем пойти на крайности. Молдавия — тому доказательство. Посему министр, рисуя пред острым на ум генералом картины международных связей, и не стремился высказывать своих рецептов. «В сей кудрявой голове — и своих мыслей целый воз», — с удовлетворением отмечал про себя канцлер, следя за тем, как остро встречал Багратион каждое интересовавшее его сообщение.
Теперь, сидя в уютном голицынском доме в Симах, князь Петр Иванович, сопоставляя все то, чем обогатили его петербургские службы, выстраивал цельную и ясную картину событий, что непременно, по его убеждению, вскоре должны воспоследовать на западных рубежах России.
Меры дипломатические изложены: выясняя позицию Франции, следует все предпринять для достижения, по крайней мере, нейтралитета нынешних вроде бы Наполеоновых сателлитов — Пруссии и Австрии, Турции и Швеции. Самим же на границах осуществить следующее:
«Не медля нимало, усилить корпус Белостокский до 100 000 человек под ружьем, снабдя оный достаточною артиллериею.
На границах Восточной Пруссии собрать корпус не менее как из пяти дивизий, снабженный также не только полевою, но и елико возможно сильнейшею осадною артиллериею, не имеющею недостатка в снарядах.
Во вторую линию собрать, на расстоянии не далее 100 или 150 верст от главной армии, запасной груз из 50 000 человек под ружьем, который бы можно было обратить туда, куда надобность потребует.
Для безостановочного продовольствия сих войск заблаговременно учредить, в приличных местах, достаточные магазейны, которые бы содержали для 250 000 человек провианта и фуража по крайней мере на один год.
Приспособить также фуры для подвижного магазейна, которые бы могли поднять провианта и овса на 150 000 человек войска на один месяц; поелику продовольствие от земли и доставка из магазейнов на наемных или обывательских фурах редко или почти никогда не бывают достоверны.
Иметь на Балтийском море в готовности флот с немалым числом транспортных судов».
У Багратиона нет сомнений: главная забота Бонапарта теперь — выиграть время. Для чего? Чтобы усилиться не только в Германии, но и на границах наших. Зачем же нам терять время, отпущенное судьбою, и не упредить его коварные намерения, могущие принести России непоправимые беды?
Армия, которая ждет удара, — армия, обреченная на пассивную оборону, и потому с каждым днем все далее и далее будет отстранять себя от победы. Только армия наступательная способна остановить изготовившегося к прыжку неприятеля, сломить и победить его. А для этого есть лишь единое средство: команда «Вперед, марш!»
Как совсем недавно Багратион излагал свои приказы на берегах Финского залива и в степях Молдавии, так он теперь писал царю:
«Как от границ белостокских до Варшавы считается только 12 миль, то надлежит тотчас со всею стотысячною армиею, в мае, форсированными маршами, и следовательно не более как в два дни, двинуться к Праге, и, поражая быстро все, что на пути встретиться может, занять как Прагу, так и Варшаву. Первые сильные удары наиболее споспешествуют к тому, чтобы вселить добрый дух в войска наши и, напротив того, внедрить страх в неприятеля; главная же польза от такого внезапного и скорого движения, мною предполагаемая, состоит в том, что театр войны удалится от пределов империи и что мы в состоянии будем занять на реке Висле такую позицию, которая бы преподавала нам возможность с большею твердостью и решительностью действовать противу неприятеля. О прочих же выгодах, от того ожидаемых, ниже упомянуто будет.
Другой корпус, который находиться будет на границе с Восточной Пруссией, должен, в один и тот же день и с тою же быстротою, двинуться вперед к Грауденцу и, перейдя там Вислу, тот же час приступить к сильнейшей осаде Гданьска; но он должен вспомоществуем быть флотом, без которого операция сия едва ли может иметь вскоре желаемый успех. С помощию же флота можно совершенно обложить город и притом гораздо удобнее снабдить сухопутный корпус всеми воинскими и жизненными потребностями. На нейтралитет короля прусского взирать, кажется, нет никакой надобности, поелику все владения его находятся во власти императора французского и его войсками заняты.
Коль же скоро главная армия и другой корпус двинутся вперед, то запасный 50-тысячный корпус должен также быть придвинут либо даже, что еще лучше, введен вовнутрь герцогства Варшавского.
Дальнейшие военные операции могут определены быть только по соображении действий и движений неприятельских; но во всех случаях предпочитаю я войну наступательную войне оборонительной».
Главное было изложено. Но день ото дня мысли забегали вперед — за ту завесу неизвестности, которая встанет, когда раздадутся первые залпы наступления. Потому Петр Иванович вновь и вновь заставлял себя уже теперь продумать, как вести себя войскам на чужой территории, какие меры предпринять для бесперебойного своего снабжения всем необходимым и для того, чтобы полностью обезопасить себя от возможных неприятельских вылазок. Тут были заведомо предусмотренные и четко прописанные меры по развертыванию лазаретов и госпиталей, наблюдению за исправностью почт, дорог, мостов, гатей и переправ, за полицейским порядком в каждом городе или селе. И конечно, же в записке был предусмотрен новый и сильный рекрутский набор, только с помощью коего армия сможет, постоянно обновлять свою мощь.
Листы, исписанные торопливым почерком князя, лежали в специальной для секретных документов сафьяновой папке с секретным же замком. И каждый лист Багратион переписывал собственною рукою, дабы ни одна душа не ведала того, о чем прежде других должен узнать его императорское величество, коему он и осмелился представить свою записку.
Август одарил симские сады обильным урожаем яблок, груш и слив. Благодатная наступила пора, когда природа одаривала человека со всею своею щедростью Божией благодатью.
Однако не избавила «военная хитрость» Багратиона от его охочих до визитов соседей. Бал, увы, лишь раззадорил их любвеобильное внимание к известнейшему всей России генералу, и он, герой войны, сдался. Теперь, что ни день, к парадному подъезду с колоннадой подъезжали коляски, и из них то выпархивала стайка милых барышень, в сопровождении тучной, но молодящейся мамаши, то, пыхтя и отдуваясь, медленно вылезал полноватый, в летах уже, помещик, приехавший звать полководца на охоту, то объявлялась седенькая и согбенная чета, нуждающаяся в каком-либо заступничестве.
Лишь однажды на главной аллее появилась тройка, звон бубенцов которой разбудил, казалось, все окрест. То был фельдъегерь из Санкт-Петербурга.
Багратион, которому царский курьер передал пакет, открыл его и обратился к вошедшему в кабинет Николаю Голицыну:
— Государь вручает мне армию в Подолии.
— Значит, ты был прав — войны не избежать?
— Полагаю, что так, — ответил Багратион и как бы в шутку добавил:-Во всяком случае, без меня она не начнется!
Он отомкнул сафьяновый портфель и вынул оттуда пакет, запечатанный сургучными печатями.
— Господин ротмистр, вручаю вам для передачи его величеству государю в собственные руки сей конверт, — произнес Багратион, подходя к фельдъегерю, все еще стоявшему по стойке «смирно».
После ужина, когда они остались одни, Николай вдруг сказал, слегка покраснев и с заметным волнением в голосе:
— Ты знаешь, я, пожалуй, поеду с тобою. Нет, скорее всего, я прибуду к тебе, когда все определится. То есть если и вправду будет война. Я так решил: никакой русский не смеет уклониться от священного долга — постоять за отечество. А если надо, то отдать за него жизнь.
Глава четвертая
Не терпелось тут же отправиться, чтобы принять армию. Но появился сначала озноб, а следом жар. Знать, простыл где-то на своей, считай, не утренней, а скорее ночной прогулке верхом. Однако махнул рукой на уговоры отлежаться как следует и велел закладывать коляску.
В Москве остановился у графа Ростопчина и отослал письмо государю:
«Высочайший вашего императорского величества рескрипт от августа 7-го дня 1811 года удостоился я получить 13-го сего оке месяца Владимирской губернии в селе Симы. К крайнему прискорбию моему простудная лихорадка не позволила мне тотчас отправиться к месту, мне высочайше назначенному. При всей слабости здоровья моего прибыл я, однако же, в Москву и непременно по отдохновении выеду отсюда через 5 дней в Житомир. Между тем сделал я генералу от инфантерии Дохтурову и всем дивизионным начальникам надлежащие распоряжения. О чем вашему императорскому величеству всеподданнейше щастие имею донести.
Князь Багратион»
Письмо царю из Москвы он направил тридцать первого августа, а уже девятого сентября докладывал о том, что прибыл в Житомир и вступил в командование вверенной ему армией.
Собственно говоря, приказ о своем вступлении в должность главнокомандующего Подольской армией Багратион подписал, проезжая через Киев, где осмотрел крепостные сооружения и арсеналы.
Части и соединения, которые по повелению императора должны были войти в новую армию, располагались в трех губерниях — Киевской, Волынской и Подольской — и были разбросаны на огромном пространстве. Посему новый главнокомандующий решил, не теряя времени, уже по дороге в свою будущую ставку ознакомиться с войсками, что были расквартированы по пути его следования.
Киевские арсеналы он нашел в весьма хорошей исправности, о чем доложил в своем донесении царю. «Амуниции и нужных к тому потребностей находятся весьма избыточно и хорошо оберегаются. В Белой Церкви расположенный Екатеринославский кирасирский полк я нашел в учении и доведенный до лучшей степени совершенства. В городе Махновке Татарский уланский, а в Бердичеве Черниговский драгунский полки также нашел довольно твердыми в учении по точным правилам и прочие части полка в хорошем устройстве.
Через неделю, ежели здоровье мое позволит, я отправлюсь в Дубно к генералу от инфантерии Дохтурову осматривать полки высочайше вверенного ему 4-го корпуса…»
Круг деятельности главнокомандующего ширился день ото дня. И не было таких сторон жизни армии, которые не вызывали бы его самого пристального внимания.
Да что армии! Войска, вверенные ему, находились в крайнем юго-западном регионе Российской империи, который имел самое непосредственное соприкосновение с Варшавским герцогством и владениями Австрии. А это в ту, предвоенную, пору означало, что и Подольская армия и все три примыкающие к границам губернии с их населением и имуществом были на самом главном направлении неприятельского удара, задайся неприятель целью немедленно открыть боевые действия против России. Потому ничто не могло ускользнуть от зоркого взгляда Багратиона. За все ныне — и в войсках, и на территории, где они размещались, — он был в ответе пред государем и, что было для него не менее важно, пред своей совестью.
Стоит лишь вчитаться в приказы, донесения и письма его той поры, чтобы представилось, с какою завидной дотошностью вникал он каждый раз в существо встающих перед ним задач, как в самых, казалось бы, второстепенных делах, на первый взгляд не имеющих к войскам прямого отношения, умел сыскать общую, объединяющую связь и как настойчиво требовал от своих подчиненных такого же тщания в исполнении его указаний и возложенных на них служебных обязанностей.
Вот распоряжение Багратиона генерал-майору Ивану Кристиановичу Сиверсу на второй день по прибытии в Житомир:
«Так как ваше превосходительство находились старшим командиром над всей артиллериею высочайше вверенной мне армии, то с получением сего предписываю подробно мне донести, в каком состоянии находится подведомственная вам артиллерия. Нет ли недостатка в людях и, на случай какого движения, в лошадях? Исправны ли всех калибров орудия? Где находятся запасные парки? Каковы они и другие части, принадлежащие команде вашей, и от которого числа ваше превосходительство производили им последний осмотр?»
А вот — письмо военному министру Михаилу Богдановичу Барклаю-де-Толли. И писано оно на следующий день после приказа начальнику артиллерии. Сравнить сии бумаги, присовокупив к ним третью, адресованную Дмитрию Сергеевичу Дохтурову, и сразу явится пред нами начальник, ничего не оставляющий; вне поля своего зрения, умеющий действовать быстро, решительно и предельно конкретно.
Итак, Барклаю: «На отношение вашего высокопревосходительства за № 785, изъясняющее соизволение государя императора, что не было дозволяемо переселение в чужие края земледельцев, фабрикантов и ремесленников, сделано от меня строгое предписание гг. корпусному и дивизионным начальникам, дабы наблюдения сии усугубили они посредством пограничной стражи, ни под каким видом никого за границу не выпускать без паспорта.
Напротив того, я надеюсь распоряжением своим привлекать с их стороны людей в наши границы. В скором времени я сообщу вашему высокопревосходительству о сем мое мнение».
И — для исполнения Дохтурову: «Для лучшего устройства кордонной пограничной стражи я нашел нужным разделить оную на 3 дистанции и поручить их в непосредственное смотрение гг. дивизионных начальников: генерал-лейтенанту Капцевичу — дистанцию от Устилуг вверх по реке Буг, чрез линию Виж по сухой границе до деревни Бужаны; генерал-майору Мирасову Первому — от селения Бужаны чрез местечко Берестечно, г. Радзивиллов, местечко Новый Алексинец, все по сухой границе до реки Стрины в новоприобретенной Галиции и вниз по ней до деревни Бенявы; остальную дистанцию отдаю генерал-майору Деламберту, которая простирается до деревни Бенявы по реке Стрине до впадения оной в Днестр и далее вниз по Днестру через местечко Усцие Виескупие, город Могилев, Цекиновку до самого устья реки Ягорлык, о чем для сведения дав знать вашему высокопревосходительству, рекомендую сделать предписания гг. дивизионным начальникам иметь бдительное и неусыпное смотрение за кордоном и строгим наблюдением устроенного порядка останавливать все побеги за границу, какого бы ни было рода людей».
Молдавская армия, которой недавно командовал Багратион, теперь являлась самой ближайшею соседкою его новой, Подольской армии. В прошлом году при штурме одной из турецких крепостей сложил голову граф Николай Михайлович Каменский, которому он когда-то сдал войска на Дунае. Ныне их принял Кутузов, до Багратиона начальствовавший над главным молдавским корпусом.
Время еще не изгладило дунайских воспоминаний, и потому все, что происходило ныне у соседей, Петр Иванович воспринимал с живейшим чувством. Однако связывали его с былыми боевыми товарищами не просто воспоминания. Были общие интересы. Об этом, в частности, и письмо Багратиона, адресованное новому главнокомандующему Молдавской армией Михаилу Илларионовичу Кутузову, посланное в первые же дни по приезде в Житомир:
«По случаю, что полки 2-й гвардейской, 12-й и 18-й пехотных дивизий поступили из Молдавии в высочайше мне вверенную армию, я всепокорнейше прошу вас, милостивый государь, приказать своему дежурному генералу сделать выправку по ведомостям, сколько, где, в каких госпиталях находится за болезнию разных воинских чинов, принадлежащих вышеуказанным дивизиям. Есть ли из них которого полка, не находятся ли выздоровевшие и не было ли отправляемо из них к моей армии. Обо веем обстоятельно не оставьте почтить своим меня уведомлением, дабы, имев подробное о всех чинах сведение, лучшее мог сделать в людях свое соображение».
Все, что происходило у соседа, не могло не вызывать живейшего отклика. Да и как иначе, ежели до мельчайших деталей он знал турецкий военный театр и не мог не высказать своего отношения по поводу той или иной операции на берегах Дуная.
Меж тем все дело было как раз в том, что никаких серьезных операций на дунайских берегах не происходило, хотя наступила уже середина сентября. Как же можно было бездарно потерять и прошлый и нынешний год, так и не склонив неприятеля к подписанию мира?
«Милостивый государь Михаил Богданович! — Багратион едва сдерживал себя, начиная письмо к военному министру. — По мнению моему, мы упустили много времени. Теперь, надо думать, «приятель» наш откладывает наступать на нас, дабы дать времени туркам двинуться и перейти сильными корпусами на левую сторону Дуная. Коль скоро они придут прогонять Кутузова, тем паче что его высокопревосходительство имеет особенный талант драться неудачно и войска хорошие ставить на оборонительном положении, посему вселять в них робость, нам надлежит теперь не дремать ни минуты и ни с которой стороны не должно верить нашему союзнику, а помириться с англичанами и упросить их, чтобы они принудили турок заключить с нами мир…»
Господи! Как были еще свежи в его памяти беседы с военным министром и самим государем о том, что следует предпринять, чтобы заблаговременно обезопасить себя от предполагаемого вторжения «приятеля» Наполеона! Так почему же там, на крайнем юго-западе державы, сотни тысяч солдат, которые могли бы закрыть западную границу или, напротив, выступить навстречу неприятелю в герцогство Варшавское или в пределы Восточной Пруссии, все еще отвлечены на противостояние туркам? Нет, он и теперь не устанет повторять то, в чем убежден. И не обида движет им, а боль пламенного патриота и истинного сына России за судьбу отечества, когда он вновь и вновь приходит к необходимой мысли: преступно и расточительно вести ссоры давние и затянувшиеся, когда на носу — ссора куда более страшная. И надо ли так нерачительно использовать войска, вынуждая их терпеть лишения и голод в чужих знойных и безводных степях той же Молдавии, когда в западных губерниях их недобор?
«Как по климату, так и по финансам, а главное по неудачам, должна армия стоять всегда на часах, а когда благословит Бог наше оружие, тогда и обстоятельства переменятся, и тот край от нас не убежит. А теперь силы наши должны быть дома, иначе я полагаю, что Молдавия и Валахия для нас будут хуже Испании по близости наших границ. Милостивый государь, ради Бога, старайтесь о сем, оно важно и нужно… Тогда откроется много полезного, а особенно посуливши шведам Шведскую Померанию; тогда наши войска и шведы могут вместе соединиться и наступать. Ради Бота, успейте отдать цесарцам то, что у них взяли, и дайте еще другое обещание, дабы сидели они дома, а ежели наш «приятель» успеет их обольстить, тогда худо и трудно нам будет, потому что надо оставить по крайней мере 50 тысяч войска надзору».
Писал давнему боевому товарищу, некогда даже бывшему своему подчиненному по войне в Восточной Пруссии, а ныне — его собственному начальнику, но держал в уме: читать, верно, будет и сам государь. Посему как бы напоминал: о сих рассуждениях я уже писал вашему величеству, но, не получив ответа, вынужден еще раз напомнить. То — не воздушные прожекты, что бродят подчас в головах иных стратегов, а план, расчисленный по каждой мелочи. И к тому же за этими словами — готовность самому взяться за выполнение любой задачи, ежели на то воспоследует высочайшее соизволение. Хотя бы касательно молдавских дел.
«Сколько мне известно, визирь нонешний рад мириться, только с уступкою… Можно и должно его позондировать. Мне кажется, время терпит до весны. Ежели угодно, я бы поскакал под предлогом укомплектования армии в Бухарест, поговорил бы с оттоманским правительством. Визирь находится против Рущука, я бы предложил ему повидаться со мною и предложил ему, тайным образом, поразмыслить о мире… Отсутствие мое здесь остановку не причинит, буде обстоятельства терпят несколько месяцев спокойствия. Комиссию мою можно кончить в два месяца».
О том, как наилучше приготовиться к войне и как ее вести, дабы сокрушить главного будущего противника — Наполеона, Багратион уже высказал свое мнение в записке государю. Нынче, когда ознакомился с положением дел в сопредельной земле — герцогстве Варшавском, его убежденность в необходимости наступательных действий не только возросла, но и подкрепилась конкретными знаниями.
«Касательно до герцогства Варшавского, поляки от природы ветрены, непостоянны и одному государю никогда служить верно не могут. Но теперь они принуждены и необходимо должны хорошо против нас драться по той причине, что они почти жалования не получают, а льстят себя грабежом. Я считаю самым лучшим способом объявить королем государя нашего, тогда все — у нас. Буде же не угодно, тогда всем подданным, которые выехали на службу в герцогство Варшавское, секвестрировать их имения в казну без пощады, ибо они, там служа, все доходы из деревень золотом за границу перевозят. Теперь такое положение, что деликатность и кротость не у места… Я уверен, что они станут опять проситься, но не пускать и не давать им имения. Если же явятся, отослать под стражу или в Сибирь. Вот правила для изменников; например, князь Доминик Радзивилл Несвижский и его товарищи большие суммы переводят, а сами против нас служат».
Кто не знал, кто не был наслышан в армии и вообще в России об изумлявшем многих хладнокровии Багратиона, проявлявшемся сим храбрым генералом в самых что ни на есть опасных сражениях! Он слыл человеком, никогда не терявшим головы, умевшим держать себя в руках в самых рисковых положениях. Но знали за ним и другое: коль надобно будет ему отстаивать свою точку зрения в каком-либо споре, он способен идти до конца. Собственно, это было как бы продолжением его упорства на поле боя. С тою, однако, разницею, что, отстаивая свои убеждения, он мог, идя напролом, так закусить удила, что подчас сдержанность и хладнокровие совершенно его оставляли. Мы еще столкнемся с этой особенностью блистательного полководца, теперь же отметим лишь его упорство, с которым он, не страшась ни раздражения, ни более того — гнева властей предержащих, отстаивал и утверждал свое видение будущей войны.
«Оборонительная война, — развивал Багратион свою мысль в письме военному министру, а значит и государю, — по тактике есть самое пагубное и злое положение, ибо, сколько известно, ни один ни великий, ни посредственный генерал еще не выигрывал баталию по тактике, а притом и нация наша не привыкла к сему и трудно будет ее заставить привыкать».
Еще впереди почти целый год, но Багратион словно приподнимает завесу времени и предвидит бесславное начало войны, когда ее оборонительный характер обернулся столь огромными бедами. Но он провидит и другое — поистине всенародный характер схватки с Наполеоном, когда вся Россия, каждый русский человек поднимется на врага, ничего не жалея для освобождения родной земли от наглых захватчиков.
«В рассуждении финансов я уверяю смело, что государю императору стоит только издать милостивый манифест и позвать на помощь всех подданных, они дадут и денег, и все, что у каждого есть, ибо война теперешняя не для союзников, а наша собственная. А как война делает часто такие следствия, что дает и берет корону, следовательно, в таком случае всем надо жертвовать, чтобы наступать и побеждать».
Да, он стоял на своем: есть время, чтобы собрать быстрее силы, собрать все средства, чтобы упредить несчастья и бедствия, грозящие государству. Страшная будет война. И на карту, кроме бесчисленных жертв, может быть поставлена судьба России — судьба царской короны. Так как же можно преступно терять время, как это допускает Кутузов?
С таким же тщанием, как за состоянием собственной Подольской армии, следил Багратион и за положением дел в армии, что располагалась теперь на Дунае. Удастся ли главнокомандующему Кутузову использовать ее решительно и смело, чтобы вырвать мир из рук визиря?
Наконец появилось сообщение о том, что второго октября отряд генерала Маркова отважно напал на турецкий лагерь на правом берегу Дуная у Рущука и занял его, Багратион тут же с удовлетворением отозвался на событие в письме к Барклаю:
«Слава Богу, что дела взяли другой вид. Я всякую минуту ожидаю окончания и на левой стороне. Коль скоро турки сдадутся, по мнению моему, надо генералу Кутузову запереть совершенно визиря в Рущуке, где он, как слышно, находится. А самому, либо усиля корпус Маркова, послать его к Шумле, где, уверен я, никого нет, даже и артиллерия из Шумлы вся должна быть привезена в Рущук и на правую сторону реки, которая уже в наших руках.
Следовательно, оставаясь без войска, без пушек и без визиря, Шумла держаться не может, а тем временем генерал Засс около Виддина должен их содержать в боязни и почтении, что произведет он, конечно, с большим успехом. Таковая экспедиция приведет всех в страх и по делам политическим даст важный и полезный для нас вид.
Порте трудно теперь вскорости подкрепить либо усилить свои войска, а мы можем поправить то, что доселе в разных нерешительных акциях потеряли, и ободрим тем свое войско.
Впрочем, я уверен, что со дня обложения с нашей стороны турецких окопов главнокомандующий предпринимает уже сии необходимые распоряжения, дабы в свое время совершить натиск на Шумлу и на Тырново, где, полагать должно, найдут войска паши и достаточное продовольствие.
Отдаю справедливость туркам — мастера держаться в окопах. Есть ли все это правда, как слышно, что они едят лошадей и столько времени уже без хлеба, не могу понять, как не сдаются поднесь и чем довольствуют лошадей на том острове, где нет ни травы, ни сена.
Есть ли точно визирь в Рущуке, то весьма надо беречь, дабы он тайно не прокрался. Его положение теперь таково, что должен или себя убить, или сдаться. Генерала Маркова экспедиция была блистательна тем, что турки на правой стороне Дуная, не быв укреплены, не ожидали столь нечаянного нападения, иначе бы их из окопов так скоро не прогнали; доказательством служит левая сторона, что они мастера держаться…»
В его краях войны пока не было. Но чтобы не дать ей никаких преимуществ, следовало со всех сторон к ней подготовиться, не упуская ни малейших мелочей.
«Волынской, Киевской и Подольской губерний запасные и расходные магазейны почти все чрезвычайно рассеяны, — сообщает Багратион военному министру. — А в ином месте хлеба сложены по корчмам или сараям, весьма подверженным опасности от огня. Хотя большие отделяются к оным караулы, но Боже сохрани, ежели такое несчастие постигнет, казна великие потерпит убытки. К принятию по сему мер я признал полезным, как для лучшего сбережения их, так и по случаю приближающейся зимы, предписать гг. провиантским комиссионерам поблизости магазейнов построить теплые караульни, где часовые после смены могут обогреваться и лучший иметь за оными надзор.
Представляя о сем вашему высокопревосходительству, покорнейше прошу приказать генерал-провиантмейстеру, чтобы он подтвердил от себя помянутые караульни построить до наступления зимы».
Удивительны распоряжения Багратиона — за каждою мерою, им предлагаемой, видит он живых людей! Да кто иной стал бы думать о том, в тепле ли человек с ружьем, что приставлен к хлебному складу? Тут иному главнокомандующему важно было бы ограничиться тем, что наистрожайшим образом предупредить всех командиров дивизий и полков: пуще глаза беречь хлеб! Для чего, мол, иметь у магазейнов зоркую стражу. А за пожар, что проглядит солдат, спустить с него шкуру! Он же о солдате — будто о родственном человеке!
Ну а касательно населения мирного — жителей городов, где стоят войска, каков его, генерала, вообще интерес? Да получается, для него они тоже живые люди, права которых никак не следует ущемлять, а, более того, всячески заботиться об их личном благополучии.
Из письма генералу Дохтурову: «Получил донесения, что города Дубно и Ковель совершенно потерпели разорение от происшедших там пожаров. При столь постигшем несчастий жителей сих городов, желая доставить им некоторое облегчение в постое воинском, я рекомендую вашему высокопревосходительству приказать господам дивизионным начальникам, чтобы в потерпевших городах оставлены были квартированием одни штабы, а роты выведены в окрестные селения».
Армия и местные жители… Где бы ни располагались полки, надобно постоянно следить за тем, чтобы те, за кем сила, не подвергали унижению тех, кто великодушно предоставил кров гостям с оружием.
Багратион даже в тех городах и селениях, где когда-то с боями проходили его войска, не допускал ни мародерства, ни воровства, ни насилия и мог сурово наказать виновного, невзирая на его боевые заслуги.
Здесь не было войны. Но рядом проходила граница, за которой была чужая земля. С той земли война и угрожала обрушиться на территорию России. Только и в наших приграничных губерниях проживало немало тех, кто был связан с зарубежьем и лелеял надежду на скорейший приход наполеоновских солдат. Можно ли было закрывать глаза на шпионов и лазутчиков, на тех, кто, прикрываясь российским подданством, жил одною лишь мыслию — передаться на ту, противоположную и враждебную России сторону?
Багратион уже имел возможность сообщить о своих тревогах военному министру. И теперь, спустя месяц, он снова писал о том же: «…узнал я, что многие из знатных по достатку своему особ, не приверженных к нам ни наружно, ни внутренне, имеют сильное влияние и между собою сношения как здесь, так и в герцогстве Варшавском. Пребывание их в сем крае я нахожу весьма вредным и в том утверждаюсь мнении, что сего рода людей крайне необходимо удалить во внутренние российские города и тем прервать всю здешнюю и заграничную их связь. Оставя же их без замечания, то число сих коварных и неблагомыслящих со временем умножится, кои, действуя соединенно с другими, и наши дела приведут в расстройство. Имена их мне известны, о коих официально отнестись к вам не могу, ибо легко статься может, что и в самой столице найдутся люди, которые сие опровергнут.
Вот причины, истинно побуждающие меня покорнейше просить ваше высокопревосходительство, пока еще со стороны наших соседей не происходит никакого движения, исходатайствовать высочайшего у государя императора соизволения прибыть мне зимним путем, как удобнейшим для поездки, на самое короткое время в столицу для личного объяснения с его величеством и с вами по некоторым частностям, до армии касающимся, так и равномерно обнаружить качества замеченных мною особ и тем внутреннюю безопасности нашу поставить на основательных и твердых мерах.
Ежели государь император изъявит высочайшую волю на сей краткий отъезд мой, то покорнейше прошу вас, милостивый государь, вместе с оным доставить мне и все бумаги, какие будут к исполнению, дабы я, сделав по ним нужные распоряжения, мог оставить начальство генералу от инфантерии Дохтурову до моего возвращения».
Последнее письмо Багратиона, скорее всего, еще не успело дойти до столицы, а фельдъегеря уже летели с секретными посланиями царя и военного министра к пяти командующим корпусами, расположенными у западных границ России.
Первому секретный приказ был вручен генерал-лейтенанту графу Петру Христиановичу Витгенштейну.
«Года 1811-го октября месяца 12-го дня.
По высочайшему повелению, — в собственноручно написанном письме сообщал Барклай, — предлагаю вашему сиятельству следующее.
Назначение ваше состоит в том, чтобы в случае действительного открытия неприятельских действий французов и их союзников противу короля прусского подкрепить прусские войска, в самой Пруссии находящиеся; к сему назначаются 12 батальонов вверенной вам 5-й дивизии с принадлежащей к ней артиллерийской бригадой, 8 эскадронов Гродненского гусарского полка и два казачьих полка, с коими вы тогда имеете подвинуться через Тильзит и Прегель-реку для защиты Кенигсберга обще с прусскими войсками…
На случай чрезвычайного происшествия командующий на Висле прусский генерал-майор Иорк отправит к вам с сим извещением одного благонадежного офицера прямо через Тильзит и Тауроген в Россияны или Шавли…
Чрезвычайными происшествиями почтить должно:
Все наступательные действия французов и их союзников на Висле… Все неприятельские наступательные или неприязненные движения на Одере-реке…
Как скоро ваше сиятельство известитесь о каком-либо происшествии сего рода, то, немедленно собрав войска, переправьтесь со оными у Тильзита через Неман и следуйте к Прегелю-реке, в самое то время уведомляйте о сем вашем движении через нарочных курьеров корпусных начальников — генерал-лейтенанта Багговута в Вильне, генерал-лейтенанта Эссена 1-го в Слониме, генерала от инфантерии Дохтурова в Дубне и генерала от инфантерии князя Багратиона в Житомире, которые на сей случай имеют повеление собрать войска свои на предписанных пунктах и содействовать к одной цели, по издаваемой диспозиции…».
В приказе, который получил Багратион, также собственноручно написанном Барклаем, ему предлагалось: «Хотя и нет никакой причины ожидать, что может случиться разрыв между нами и французами, но ввиду меры предосторожности предлагается вашему сиятельству под строжайшим непроницаемым секретом: Как скоро получите через нарочитого курьера от графа Витгенштейна известие, что он вступает в Пруссию, то нимало не медля извольте приказать войскам, коим тут в особенном пакете прилагаются маршруты, тотчас выступить и следовать по сим маршрутам к назначенным пунктам. Высочайшая воля есть, чтобы вы пакет сей не иначе бы распечатали, как только тогда, когда получите от графа Витгенштейна вышеизъявленное известие.
Его величество возлагает на личную вашу ответственность, чтобы сие мое предписание оставалось бы в непроницаемой тайне и никто кроме вас о ней не знал бы, буде же вашему сиятельству нужно будет по сему предмету делать какие-либо представления, то изволили бы писать своею рукою, впрочем ни с генерал-лейтенантом графом Витгенштейном, ни с кем другим по сему предмету в переписке не быть. Дабы не сделать прежде времени напрасной тревоги, то не предписывать войскам формально, чтобы были готовы к походу, но содержать их в готовности к оному частыми смотрами».
Пакет, что строжайше предписывалось пока не открывать, содержал наименования частей и соединений Багратионовой армии и маршруты их движения. «При сем препровождаю к вашему сиятельству, — сообщал военный министр, — маршруты полкам 2-й гренадерской, 26-й пехотной с их артиллерийскими бригадами, 2-й кирасирской, 4-й кавалерийской дивизиям, исключая Ахтырского полка, и Татарскому уланскому полку — в Луцк. 12-й и 18-й пехотным дивизиям со своими артиллерийскими бригадами, 5-й кавалерийской дивизии — в Дубно. Резервной артиллерии 3-й бригады — в Луцк, 4-й — в Дубно.
Прочим войскам вверенной вам армии доставлены маршруты к генералу от инфантерии Дохтурову, который соберет их у Ковеля».
Итак, уже осенью 1811 года Россия не просто ждала неприятеля. Она сама готовилась выступить в поход против Наполеона, коли он только вступит на землю соседней Пруссии. Знал ли об этих тайных приготовлениях Наполеон и чем он сам был озабочен в ту грозную пору?
Глава пятая
Чернышев чувствовал, что за ним следят. Нет, он по-прежнему был желанным гостем в самых известных домах Парижа, как всегда, с ним любезно разговаривал Наполеон и приглашал его на свою охоту в Булонский лес. А очаровательная принцесса Полина Боргезе, родная сестра французского императора, могла закатить русскому полковнику бешеную сцену ревности, если он две или три ночи подряд проводил не в ее постели.
Однако, возвращаясь в свой гостиничный номер, Чернышев вдруг замечал, что кто-то рылся в его бумагах. Иногда он видел за собою «хвост» — секретные агенты министра тайной полиции Савари сопровождали его во всех его передвижениях.
Уж кто-кто, а Рене Савари чуть ли не с первого приезда Чернышева в Париж оказался в числе самых первых и, можно сказать, самых близких друзей нашего героя. Во всяком случае, так говорил сам Савари. Помните генерал-адъютанта Наполеона, которого он прислал к императору Александру накануне Аустерлицкого сражения? Так вот сей генерал после Тильзита оказался в Санкт-Петербурге в качестве временного посла Наполеона. Еще тогда в русской столице он познакомился с юным русским гвардейским офицером.
Чернышев был частым гостем Савари, но как ни приближал министр полиции к себе молодого русского полковника, как тайно ни следил за ним, а напасть на след ему пока не удавалось.
Однако Чернышев понимал: Савари может разоблачить тех, кто снабжает его святая святых — сведениями из генерального штаба, и тогда — провал.
Опасаясь не только за себя, но в первую очередь, наверное, за репутацию российского императора, которая может сильно пострадать, если разразится скандал, Чернышев не раз уже намекал в своих письмах в Петербург о необходимости его отозвать. Последний раз он так и написал канцлеру Румянцеву: «Благоволите, ваше сиятельство, повергнуть мои неизменные верноподданнические чувства к стопам его императорского величества и примите участие, чтобы было исполнено мое желание и мне дозволено было бы теперь, когда император Наполеон не имеет никаких поводов удерживать меня, возвратиться в Санкт-Петербург, под видом ли вызова меня, или отпуска, или по каким-либо другим причинам, которые сочтут более приличными…»
Меж тем однажды зимним февральским днем 1812 года Чернышева вызвал к себе Наполеон.
— Я пригласил вас, чтобы попросить доставить в Петербург мое письмо императору Александру, — встретил французский император русского офицера.
Сердце Чернышева учащенно забилось: вот он, выход, который сам дается в руки и лучше которого вряд ли что иное можно было придумать. Отзыв из Петербурга мог бы навлечь подозрение. Теперь же сам Наполеон, не ведая о благодеянии, которое совершает, выпускает птицу из клетки на волю.
— Всегда рад оказать услугу вашему величеству 1 — Голос Чернышева был искренне восторжен.
— Мое письмо короткое, всего две-три фразы, — меж тем продолжил Наполеон. — Монархи не должны писать много, если не имеют сказать что-либо приятное. Да вот, собственно, мои слова: «Я остановился на решении поговорить с полковником Чернышевым о прискорбных делах последних пятнадцати месяцев. Только от вашего величества зависит положить всему конец. Прошу ваше величество никогда не сомневаться в моем желании доказать вам мое глубокое к вам уважение».
Оставалось задать вопрос:
— Ваше величество предлагает начать переговоры?
— Именно их я и ждал в течение целых пятнадцати месяцев! — раздраженно произнес Наполеон. — Не так давно я прямо спросил князя Куракина, почему его не наделили полномочиями, чтобы враз снять все недоразумения? Как я узнал, будто бы для этой цели намеревались прислать Нессельроде, где же он? Или вот вы… Император Александр два года назад прислал вас в Париж в качестве своего постоянного атташе при моей особе. Почему же царь, если он не доверяет Куракину или еще кому-либо вести официальные переговоры с моим кабинетом, не уполномочил на это именно вас? Как раз вы, полковник, подходите для этой роли более других. Полагаю, что нет большого секрета в том, что вы находитесь в Париже, чтобы доставлять в Петербург сведения о моей армии. Значит, вы, как никто иной, в курсе моих дел. К тому же вы воочию проявили свои способности вникать в самые сложные вопросы — и политические и военные — и хорошо в них разбираетесь. Поступи Александр так, еще год назад все наши недоразумения можно было свести на нет совершенно играючи.
— Благодарю ваше величество за очень лестное обо мне мнение, — поклонился Чернышев. — Однако я не раз передавал лично вам намерения моего императора разрешать все возникающие недоразумения лишь путем разъяснений, а не угроз.
— Да, вы, полковник, постоянно передавали мне упреки императора Александра в том, что это не он, а я занимаюсь военными приготовлениями. Однако вы, кто долго жил у нас, лучше других могли судить о разнице, которая была во Франции относительно вооружений год тому назад и теперь. Ни год, даже ни полгода назад я вовсе не помышлял наращивать мою военную мощь. Лишь в самое последнее время я поневоле стал оснащать армию и подвигать кое-какие ее части навстречу тем войскам, которые первыми стали двигать навстречу мне именно вы, русские.
«Несомненно, — подумал Чернышев, — Наполеон подозревает меня в том, что мне досконально известно и о росте вооружений, и о дислокации и перемещениях войск. Иначе он не говорил бы со мною как с человеком, которому в самом деле ведомо, что было и год и два назад, когда проводились и в каком количестве новые наборы рекрутов, в каких объемах росли заказы на вооружения, на поставку лошадей и обозных фур, обмундирования и продовольствия. Но надо держать ухо востро и ни в коем случае не поддаваться на его уловки. Приглашение к откровенности в создавшихся условиях — верный путь в ловушку».
— Видите ли, ваше величество, мне трудно судить о том, как и в каких размерах росла военная мощь Французской империи, — позволил улыбнуться и даже слегка пожать плечами Чернышев. — Думаю, сие под силу лишь вашему главному штабу.
— Ах так — не вашего ума дело? Так я вас кое в чем просвещу, подойдемте к карте. Военные силы, которые вы сконцентрировали у себя, расположены следующим порядком. Правый фланг их опирается на Ригу, левый — на Каменец-Подольск. Я не мог в связи с этим оставить армию Варшавского герцогства без прикрытия и был вынужден двинуть мои войска вперед. Когда вы сейчас поедете через Пруссию, вы найдете корпус Даву в движении к Штеттину. Другие корпуса будут следовать в недалеком расстоянии от него, чтобы я мог выставить мои аванпосты на Висле, а главные силы расположить на Одере. Может быть, если я получу скорый ответ из Петербурга и такой, которого я желаю, я прикажу своим корпусам не переходить Вислу, а направлю их лишь к Данцигу, или, как его Поляки называют, Гданьску. Я имею право туда идти?
Чернышев опять чуть заметно пожал плечами:
— Данциг давно уже местопребывание французского гарнизона. В том нет секрета, что ваши дивизии прочно обосновались почти на всем побережье Балтийского моря.
— Ага, я знаю, о чем вы сейчас думаете, полковник, — подошел к Чернышеву император. — Вы, наверное; не ожидали, что я буду с вами так откровенен. Но скажите, когда в наших с вами общениях я скрывал от вас правду? И сегодня, говоря о дислокации моих корпусов, я в первую очередь хочу внушить вам свою самую заветную мысль: я, император Франции, не желаю войны с Россией! Да, именно так. Но не потому, что боюсь вас. Наоборот, я доказываю вам, как я силен. Скажу более. Хотите, я перед вами даже открою свои подвалы здесь, в Тюильри. Вы увидите в моих сундуках триста миллионов франков! На эти средства я из года в год буду иметь возможность набирать новые армии. Вы же, русские, для подобных целей должны прибегнуть к налогам, а это разорит вашу страну. Так чью же выгоду я преследую, когда говорю, что не хочу войны?
— Смею уверить ваше величество, что мы правильно оцениваем военную мощь Франции и ее союзников, — решился произнести Чернышев.
— Вот видите, — подхватил Наполеоновы сами подтвердили, что ваше пребывание в Париже не было Напрасным и праздным. Теперь остается, чтобы вы, воротясь домой, постарались убедить императора Александра в реальности происходящего. Зачем нам и вам, двум могущественным в Европе империям, сходиться В сражениях, зачем нам реки крови? Не лучше ли мне и русскому императору сойтись на аванпостах и позавтракать вдвоем на виду наших армий? Право, это достойнее, чем дуться друг на друга, как девчонкам, из-за таких пустяков, как, скажем, цвет банта в косичках, что вызывает у них иногда слезы зависти. Но сами понимаете, полковник, ультиматумов я не приму!
«Итак, мне, кажется, удалось усыпить тревогу Чернышева, — удовлетворенно отметил про себя Наполеон. — Этот офицер, вне всяких сомнений, тайный агент русского императора. Именно от него стекаются в Петербург сведения о моих приготовлениях к войне. Многого он не в состоянии знать. Мой начальник тайной полиции Савари определенно преувеличивает и способности и возможности Чернышева. Но кое-что из того, что мне хотелось бы до поры до времени упрятать за семью печатями, ему, черт возьми, ведомо! Это — движение моих войск к Висле и Неману. Не случайно я, разговаривая с ним теперь, как бы приоткрыл ему то, что он и без меня знает. Но вот что меня беспокоит всерьез: выступят ли русские первыми против герцогства; Варшавского и войдут ли раньше меня в Восточную Пруссию? Это же так очевидно: чтобы сорвать мой поход — упредить меня, заняв позиции на Висле и Прегеле, и неожиданным и смелым ударом разгромить мой авангард, к которому еще не подошли мои главные силы! Готов биться об заклад: именно эту мысль не мог не заронить в голову Александру его флигель-адъютант Чернышев. И без всяких сомнений, сие решение не может не возникнуть в головах наиболее смелых русских генералов. Так вот, теперь всеми силами я обязан сбить с толку русских! Остановить их на рубежах Немана и Буга, не дать им первыми начать поход против меня. Для сего я и отправляю Чернышева назад, в Санкт-Петербург, с обманным предложением о переговорах. Подобную инструкцию я велю направить и своему послу в Петербурге Лористону».
И в самом деле, едва отпустив Чернышева, Наполеон вызвал к себе министра иностранных дел Маре.
— Напишите Лористону так: когда заговорят с ним в Петербурге о движениях моих войск, которые начали марш от Майнца к северу, он сначала никак не должен на это отвечать. Таким образом посол выиграет время, сказав, что запросит свое правительство. Спустя несколько дней он должен сделать вид, что получил разъяснения: на севере необходимо иметь смену войск. А кроме того, скажет он, мое правительство мне передало, что хлеб в Париже дорожает, поэтому резонно отправить из окрестностей столицы часть едоков туда, где обещает быть хороший урожай. Только в том случае, если утверждения Лористона сочтут несерьезными, он может дать понять петербургскому правительству, что пока французские войска не перешли за Одер, где крепости и так заняты нами, у русских нет ни малейшего повода беспокоиться. Это движение войск совершенно для них не опасное, ибо оно производится почти внутри империи. Ведь Пруссия — в тесном союзе с Францией.
Мысли Наполеона строго следовали одна за другой.
— Лористон должен действовать так, чтобы я мог выиграть время, — продолжал Наполеон диктовать министру. — Мой посол обязан каждый новый день говорить не то, что произносил вчера, и признаваться в чем-либо лишь тогда, когда в присланных ему из Парижа депешах будет указано, что это уже известно об всех странах. Особо подчеркните, Маре: Лористон, о чем бы ни говорил с императором Александром, обязан не переставать уверять его на все лады и в самых разнообразнейших выражениях, что я, император Франции, хочу лишь одного — мира и укрепления нашего союза.
Французский император был тверд в своей решимости не дать русским остановить движение его «Великой армии» к границам России. И он так фанатично следовал этой своей решимости, что не поддался искушению задержать Чернышева, когда Савари все же открыл его тайную деятельность.
— Простите, сир! — влетел в кабинет императора министр тайной полиции. — Я все же оказался права флигель-адъютант русского царя — презренный шпион. Мои люди только что обыскали гостиничный нумер Чернышева, который он уже успел покинуть, и обнаружили за ковром несомненную улику — записку к нему его агента. А дальше мне не составило труда восстановить всю картину, что долгое время было тайной.
Исследовав почерк осведомителя, полиция установила, что он принадлежал некоему Мишелю — служащему при генеральном штабе, и имевшему доступ к самым секретным документам. Именно он и стал тем человеком, который доставлял Чернышеву копию сводки о движении войск, что готовилась в одном экземпляре только для самого Наполеона. Кроме Мишеля Чернышев привлек на свою сторону и других помощников. Все они теперь были уже арестованы и сознались в содеянном.
— Вот они, плоды предательства императора Александра, — заключил Савари свой доклад.
— Вы правы, подобное поведение — предел низости, — вскипел император. — И все это — в духе петербургского византийца Александра, которого так искренно я называл своим другом и братом. Вот они, доказательства его вероломства! Аккредитовать при мне своего тайного агента, которого я, человек чистой и открытой души, всегда принимал с сердечностью и подлинным расположением. Что же теперь?
— Я бы настойчиво рекомендовал вам, сэр, передать на границу ваш приказ: немедленно задержать Чернышева, пока он, смею надеяться, еще находится в пределах нашей империи.
Император вскипел:
— Вы вновь в который уже раз за свое, Савари! «Великая армия» только начала свое движение к цели — к Одеру, Висле и далее к Неману. Вы же хотите, чтобы плоды моих бессонных ночей, тайна моих планов разлетелись в прах! Вы, сударь, француз, наг конец, или тоже работаете на руку императору Александру?
— Смею заметить, сир, все ваши секреты давно перед его светлыми очами, — с некоею даже мало скрытою беспощадностью произнес Савари. — Чернышеву, оказывается, ранее вашего величества доставлялось все, что составляет тайну «Великой армии». Так что все планы ее движения к границам России — уже никакая не тайна.
Крепко сбитая, несмотря на уже заметную тучность, небольшая фигура императора устремилась к окну.
— Как много я дал бы сейчас тому, кто оказался бы в состоянии остановить меня от похода, который я предпринял! — отозвался Наполеон. — Но увы, вино уже откупорено, и его остается только выпить. Однако выпить так, чтобы, еще не донеся до рта, не расплескать по скатерти.
И, возвращаясь к Савари:
— Нет, я не велю задержать Чернышева. Это означало бы преждевременно пролить не вино, а, может быть, кровь. Но я все же этого не спущу Александру! Я направлю по дипломатическим каналам ноту, в которой объясню всю гнусность и низость поведения российского императора.
Тотчас по уходе Савари он вызвал министра иностранных дел. И пока не угас запал, стал быстро, как всегда опережая одну мысль следующей, диктовать ноту, которую министр от своего имени должен будет немедленно вручить русскому послу Куракину:
— «Его величество был тягостно огорчен поведением графа Чернышева. Он с удивлением увидел, что человек, с которым император всегда хорошо обходился, человек, который находился в Париже не в качестве политического агента, но в качестве флигель-адъютанта русского императора, аккредитованный личным письмом русского монарха, имеющий характер более интимного доверия, чем посол, воспользовался всем этим, чтобы злоупотребить тем, что наиболее свято между людьми».
Фраза оказалась тяжелой, но император не стал ее переделывать. Несмотря на ее видимую тяжеловесность, в ней он выложил единым духом все, чтобы в самом начале объяснить положение дел и свое отношение к произошедшему. Но раздражение не улетучивалось, оно все еще кипело в нем и требовало выхода.
— «Его величество император, — продолжал писать под диктовку Наполеона министр, — жалуется, что под названием, вызывающим доверие к нему поместили шпионов, и еще в мирное время, что позволено только в военное время и только относительно врага. Император жалуется, что шпионы эти были выбраны не в последнем классе общества, но между людьми, которых положение ставит так близко к государю».
В этом месте Наполеон передернул плечом.
— Далее пишите, обращаясь к послу князю Куракину. «Я слишком хорошо знаю, господин посол, чувство чести, которое вас отличало в течение всей вашей долгой карьеры, чтобы не верить, что и вы лично огорчены делом, столь противным достоинству государей. Если бы князь Куракин, сказал мне император, мог принять участие в подобных маневрах, я бы его извинил; но другое дело — полковник, облеченный доверием своего монарха и так близко стоящий к его особе. Его величество только что дал графу Чернышеву большое доказательство доверия, имея с ним долгую и непосредственную беседу; император был тогда далек от мысли, что он разговаривает со шпионом и с агентом по подкупу».
На записке министр проставил дату: «3 марта 1812 года». Нота же так и не была отправлена.
Наполеон не захотел, вернее, он не мог пролить даже каплю чернил, чтобы из-за этого преждевременно пролилась кровь солдат его «Великой армии», еще не занявшей уверенных позиций для победы. Он не мог дать русскому императору ни малейшего повода оскорбиться и двинуть свои войска на Вислу и за Неман.
Глава шестая
Девятого апреля 1812 года российский император выехал из Санкт-Петербурга в Вильну. А чуть ранее, в середине марта, он подписал указ правительствующему Сенату: «Генерала от инфантерии князя Багратиона всемилостивейше утверждаем в звании главнокомандующего Второю Западною нашею армиею со всеми правами, властию и преимуществами главнокомандующего большою действующею армиею…»
Спустя три дня таким же указом главнокомандующим Первой Западною армиею был назначен Барклай-де-Толли, с оставлением за ним поста военного министра.
Зима, а до нее и осень, когда по высочайшему повелению войска, расположенные у западных границ державы, в любой день могли быть приведены в движение, давно уже отошли в вечность. И в вечность отошла сама мысль о превентивном ударе по авангарду Наполеона, еще только подходившему к германским и польским землям.
Что ж изменило планы, на которые полгода назад все-таки решился государь? Наверное, единой определяющей причины не существовало, а одна за другою выявились неблагоприятности, кои и вынудили отказаться от уже принятого плана.
Начать хотя бы с того, что война с Турциею все еще продолжалась, и долгожданный мир был как бы в тумане. До конца не ясно было и поведение Швеции, находящейся на другом, противоположном фланге театра будущей войны. Зато поведение двух бывших союзниц России — Австрии и Пруссии — определилось окончательно. Обе державы заключили тайный военный союз с Францией, обязывающий их принять участие в походе против России.
И, наконец, полным провалом завершились секретные же с русской стороны переговоры с военным министром герцогства Варшавского князем Юзефом Понятовским о переходе польских войск на сторону России. Напротив того, Понятовский резко отклонил предложение Александра и выдал его Наполеону.
При таком раскладе сил в европейских государствах вводить войска в чужие страны было более чем рискованно. Когда Австрия с Пруссиею находились в единстве с Россиею, и то выступление против французских сил завершилось полным провалом. Каким же новым Аустерлицем и Фридландом могло окончиться движение русских войск в страны враждебные, связанные союзом с главным нашим врагом?
Все эти неприятные мысли не выходили из головы Александра Павловича. И каждый раз, когда сии раздумья не давали ему покоя, пред ним снова и снова вставала тень заговора. Именно затем, чтобы освободиться от наваждения, окружавшего его и стенах Зимнего дворца, император решился покинуть столицу и оказаться там, где собрались его армии и где вот-вот могла разразиться война, теперь уже не по его воле, а по воле и решимости его смертельного, а главное, непримиримого личного врага.
«Я или Наполеон, он или я! — вот уже, наверное, в течение более чем года царь жил с этой мыслью. — Да, вместе нам на земле не существовать. Потому пусть все решит жребий, пусть нас рассудит судьба».
Но что значит судьба, что должен означать жребий, он и сам вряд ли мог себе объяснить.
Сознавал ли царь, что сможет стать победителем военного гения Наполеона? Вряд ли. Более того: он предпочитал даже вслух высказывать предположения, что французский император, коли решится на военное единоборство, может одержать верх. В таких выражениях он, например, говорил с французским послом Коленкуром года два назад, когда в отношениях с Наполеоном появились первые зримые трещины.
Если император Наполеон начнет войну, то возможно и даже вероятно, что он нас побьет, но это не даст ему мира. Испанцы часто бывали разбиты, но от этого они не побеждены, не покорены, а ведь от Парижа до нас дальше, чем до них, и у них нет ни нашего климата, ни наших средств. Мы не скомпрометируем своего положения, у нас в тылу есть пространство, и мы сохраним хорошо организованную армию. Имея все это, никогда нельзя быть принужденным заключить мир, какие бы поражения мы ни испытали.
И, глядя собеседнику в глаза, царь пояснил тогда свою мысль:
— Императору Наполеону нужны такие же быстрые результаты, как быстра его мысль; от нас он их не добьется. Мы предоставим нашему климату, нашей зиме вести за нас войну. Французские солдаты храбры, но менее выносливы, чем наши: они легче падают духом. Чудеса происходят только там, где находится сам император, но он не может находиться повсюду. Кроме того, он по необходимости будет спешить возвратиться в свое государство. Я первым не обнажу меча, но я вложу его в ножны последним. Я скорее удалюсь на Камчатку, чем уступлю провинции или подпишу мир в моей завоеванной столице.
Скорее всего, с такими мыслями Александр Первый покидал Санкт-Петербург и с такими же мыслями прибыл в главную квартиру Первой Западной армии, что размещалась в Вильне.
Чтобы не случилось кривотолков в Европе по поводу того, что, несмотря на свои уверения, он все же первым намерен обнажить меч, еще не выезжая из столицы, Александр заверил дипломатов: его поездка к границам сугубо мирная. Он не только сам не желает, войны, но, зная, что к Кенигсбергу приближаются колонны французских войск, хотел бы помешать своим генералам сделать какое-нибудь неосторожное движение, способное привести к непоправимому.
И когда поздним вечером на балу в окрестностях Вильны Александр получил известие, что французы перешли Неман и вторглись в пределы России, царь наружно остался предельно спокойным и даже не сразу удалился из зала.
«Господи! Ты услышал мои молитвы, — произнес он про себя, ощущая легкость от того, что словно гора свалилась с его плеч. — Видит Бог, не я первым начал. И потому теперь все пойдет, как я в душе хотел, чтобы так свершилось».
Страшный призрак заговора исчез. А с ним, мучавшим его призраком, как бы удалился куда-то в сторону и он сам, страстно, всею силою души страждущий погибели своего злейшего врага. «Или он, или я. Вместе нам не существовать», — продолжала звучать в его голове давняя клятва. Но ему самому уже не была страшна эта схватка не на жизнь, а на смерть. Ибо, не он, император, начал сию войну, и не он ее далее поведет. В жестоком и страшном поединке против Наполеона окажется теперь сама Россия, ее народ.
Вот почему и в тот вечер на балу на лице царя не дрогнул ни один мускул. И в таком же хладнокровном спокойствии, как человек, уверенный в том, что на поединок выйдет не он сам, а кто-то другой, Александр Павлович на третий день войны уедет из Вильны в Свенцяны, где будет находиться его гвардия, а затем уже из Полоцка, — в Москву и оттуда в Петербург.
А Первая и Вторая Западные армии, расположенные тонкою ниточкою вдоль протянувшейся на многие сотни верст державной границы, с разрывом друг от друга более чем в сто верст, не соединенные ни единым командованием, ни единою волею, будут оставлены пред лицом наступающего врага единственно на произвол своих командиров да еще на промысел Божий.
Вражеское нашествие застало царского флигель-адъютанта полковника Чернышева на возвратном пути из первопрестольной в Дрисский укрепленный лагерь, куда уже успела отойти Первая армия Барклая-де-Толли и где с нею находился император.
Лагерь у Дриссы, расположенный между Динабургом и Витебском, был так бездарно построен и укреплен, что не только не мог послужить для целей обороны, но представлял собою западню, которую со всех сторон легко могли захлопнуть французы. Только теперь, сам оказавшись в сем своеобразном капкане, Александр понял, как он жестоко просчитался, доверив генералу Фулю, выходцу из немцев, и строить этот лагерь, и разрабатывать план всей кампании в расчете на то, что Дрисса одновременно закроет вторжению пути к Петербургу и Москве.
Что же теперь оставалось делать Барклаю, уже потерявшему на пятый день войны Вильну и оказавшемуся со слабыми своими силами перед наступающим врагом? И как быть со Второю армиею, вдвое по сравнению с ним меньшею числом, что осталась далеко на юге и расстояние от которой увеличивается с каждым часом?
В первый же день войны Барклай, как военный министр, прислал Багратиону указание государя императора, как надлежит ему действовать. Армии Багратиона, насчитывающей около сорока тысяч человек и расположенной в районе Белостока и Волковыска, следует совместно с корпусом атамана Платова ударить во фланг наступающему неприятелю и продолжить движение для соединения с войсками Первой армии. Ежели Первой армии, говорилось в том сообщении, нельзя будет дать выгодного сражения пред Вильною, тогда сражение может быть дано около Свенцян. Туда-де и следует, устремиться Второй армии. Но если сего не произойдет, то пунктом отступления надобно считать Борисов.
Ни у Вильны, ни у Свенцян, ни у Дриссы сражений с неприятелем не последовало. Армия Барклая, покинув лагерь, продолжала свое отступление к Витебску.
От самой Вильны отход совершался настолько организованно, что армия не оставила неприятелю ни одного орудия, ни одной подводы. Сей успех объяснялся просто: Барклай избегал схваток и не входил ни разу в соприкосновение с противником. Посему, покидая войска, император распорядился довести до сведения главнокомандующего Второй армии, чтобы тот, коли не успел соединиться с Барклаем на его пути из Свенцян в Дриссу, поспешать бы изволил ныне взять направление на Минск. Чтобы, пройдя чрез сей город, выйти к Витебску. Там-де и следует назначить встречу обеих армий.
Только мельком взглянув на высокого, атлетически сложенного флигель-адъютанта с чуть раскосыми озорными глазами, Багратион перенял из его рук царский рескрипт и нетерпеливо разорвал пакет.
— Ну вот, я так и полагал! — в сердцах произнес Петр Иванович. — Слева меня обходят войска Даву, сзади настигают дивизии Вестфальского короля Жерома, от них я отбиваюсь как могу. Барклай же — ничуть и никем не потревожен. А спасать его, оказывается, должен я! Ну не насмешка ли, полковник?
— Так вашему сиятельству все равно надо выбираться из клещей, что вот-вот могут сомкнуться, как вы сами изволили теперь сказать, — произнес царский посланец. — А коли суждено уходить, не лучше ли на соединение с главною армиею?
Разговор был в лесной деревеньке, в худой крестьянской избе, в которой пахло дымом, прелой картошкой и еще чем-то кислым и прогорклым. Багратион быстро подошел к кривому, перекошенному оконцу и растворил его настежь.
— Говорите, уходить? — обернулся к флигель-адъютанту. — Неделю назад я направил своего курьера с письмом военному министру — испросить разрешения государя совершить моею армиею диверсию по тылам противника. Удар чрез Белосток, Остроленку — на Варшаву. Признаюсь, завидев вас, полковник, подумал: вот она, хотя и запоздалая, но — воля. Ан нет! Мало того, что французы берут меня в клещи, — и свои держат на вожжах: ходи сюда, а куда не указано — не смей. Почему меня держат за несмышленыша, за какого ни есть последнего дурака? Разве не я еще за пять дней до начала войны из Пружан, что у самой границы, писал его императорскому величеству: расположение наших армий растянуто и ежели неприятель ударит по одной из них, другая не в состоянии окажется помочь?
Багратион мог бы слово в слово припомнить, что тогда выложил государю: «В то время, когда аванпосты наши удостоверятся в сближении армии неприятельской к границам, она, без сомнения, удвоит быстроту маршей и застанет нас ежели не на своих местах, то поспешит воспрепятствовать соединению нашему прежде, нежели мы найдемся в способах воспользоваться оным». И в том же письме: «Приемлю смелость думать, что гораздо бы полезнее было, не дожидаясь нападения, противостоять неприятелю в его пределах».
— Прошу прощения вашего сиятельства, — произнес флигель-адъютант, — но сие послание государь изволил мне показать. И еще ранее, в Петербурге, его величество ознакомил меня с вашею запискою на высочайшее имя о планах ведения войны. Именно того, что вы предлагали, и боялся Наполеон! Когда я с ним в последний раз говорил, в его глазах мне чудился страх: «Неужели русские опередят и раньше меня выйдут на Вислу и за Неман?»
«Ба! Да сей царский посланец — никак тот самый Чернышев! — наконец догадался Багратион. — Выходит, это с его донесениями из Парижа знакомил меня сначала государь, а затем Барклай и канцлер Румянцев. Что ж, тогда буду с ним откровенен, он-то меня поймет».
И вправду, Чернышев не скрывал своего восхищения смелостью мысли Багратиона.
— Неужели вы в первый же день начала кампании оказались бы в состоянии ударить по коммуникациям неприятельской армии в герцогстве Варшавском? — с восторгом повторил полковник. — Да, сей маневр мог таить риск. Смею думать, государя это и остановило. Но какое сражение без риска? Шенграбен, Аустерлиц, Фридланд? Разве вы, ваше сиятельство, не рисковали, когда спасали своим арьергардным отрядом всю нашу армию?
Багратион вспомнил, где он впервые увидел этого молодого полковника.
«Теперь Чернышеву, должно быть, лет двадцать шесть — двадцать семь, — подумал Багратион. — А под Фридландом совсем был мальчиком. Но, помнится, так расторопно показал себя, найдя под ураганным огнем места переправы для наших отступающих войск! Выходит, о риске знает не понаслышке. Впрочем, к чему теперь о том, что не сбылось, — о диверсии на Варшаву? Ныне — только бы царь с Барклаем не тыкали меня носом по углам, как слепого кутенка, а развязали бы руки. Им, что ли, из своего далека виднее, что у меня тут под носом и как мне двигаться, чтобы улизнуть от преследователей да быстрее соединиться с Первою армией?»
Меж тем Чернышев не сразу отошел от варшавской Мысли, что будто занозой вошла невзначай в голову.
— Запала мне ваша придумка о Варшаве, — признался он и покраснел. — Там ведь, в Варшавском герцогстве, теперь один корпус Шварценберга.
— Вот именно! — подхватил Багратион. — Тридцать тысяч штыков и сабель. А когда я просил дать мне карт-бланш, князь Карл Шварценберг только-только выходил из своей Австрийской Галиции. Тут бы я его и накрыл! К тому же смею полагать, вряд ли сей австрийский генерал стал бы отважно сражаться за интересы Наполеона. Не так ли? Вам ведь, полковник, из Парижа лучше был виден политический расклад Европы.
— Имел достоверные сведения: Австрия из полумиллионных своих войск выделила Наполеону лишь эти тридцать тысяч. И то с условием: «Станем на охрану коммуникаций». Да и с самим князем Шварценбергом я не раз имел конфиденциальные разговоры. Австрия хотя и отдала французскому императору в жены свою эрцгерцогиню, а душою сия держава — не с ним.
Хотелось тут же сказать, что однажды у Шварценберга он, Чернышев, имел честь быть представленным княгине Багратион, но вовремя сдержал себя. Уже после того злополучного пожара в Париже немало был наслышан о той, что значилась супругою знаменитого русского генерала, но сама вряд ли даже когда-нибудь серьезно вспоминала о нем. Зачем же теперь князю — да о ней, сломавшей всю его судьбу?
А сам главнокомандующий уже увел разговор в другую сторону:
— Ладно: диверсия моя на Вислу не состоялась. Она — что растаявший снег: чего ж горевать, когда вперед надо глядеть? А вперед глядеть — значит, и идти вперед, а не раком пятиться! К тому ж я, как русский, вспять и ходить не обучен. Я не немец, не австрияк, кого от ретирад ничем не отучишь. Так вот, полковник, хочу вам сказать, чтобы при случае вы государю передали: я не трус. И коли приказали бы мне теперь сломя голову через леса, реки и болота белорусские идти на выручку Барклаю — пошел бы. Но вот вопрос: а кому сие надобно, чтобы потерять мне в сих топях свои обозы, раненых да и всех покуда еще; живых, не нанеся неприятелю урона настоящего?
Багратион подошел к оконцу, что притворило ветром, и вновь его распахнул.
— Вон просторы какие вокруг, а мы с Барклаем как две иголки в стогу сена: друг друга не сыщем, — сказал. — Да, армиям нашим след быть вместе. Плечом к плечу, как я и писал государю. Только с умом надо бы соединиться, дав французам и всякой сволочи, что идет в их рядах, хорошенько по рылу. А это мы, право слово, умеем. Зачем же Барклаю от сражения бежать да меня к себе за компанию звать? Что, так и до самой матушки-Москвы вдвоем что есть мочи побежим, а за нами — французы?
Чернышев только что проехал весь путь до Белокаменной и обратно. Худо было у него на душе: вся дорога от Минска до первопрестольной открыта врагу, ничем не защищена. Нет войск. Нет даже мест, где бы можно было собрать рекрутов, чтобы их обучать. А пора, самая явилась пора собирать ополчение по всем центральным губерниям России, дабы преградить дорогу захватчикам. Одним армиям, что сейчас уходят от неприятеля, войны не выиграть. Надо, чтобы повсюду — и на поле боя, и в глубоком тылу — недругов ожидала неминучая смерть.
И снова сама собою возникла в голове царского флигель-адъютанта высказанная князем Багратионом заманчивая мысль о диверсии в Варшавское герцогство.
Пройдет всего каких-нибудь три месяца, и полковник Чернышев выпросит разрешение у государя и осуществит задуманное еще в самом начале войны главнокомандующим Второй Западною армиею.
Тогда, в самом конце сентября и начале октября, Москва уже будет в руках неприятеля. Наполеон, как затравленный зверь, станет метаться в горящем Кремле, а далеко от Москвы летучий отряд Чернышева пройдет через Брест и окажется почти пред самою Варшавой — в глубоком неприятельском тылу. За этот дерзкий рейд Чернышев получит эполеты генерал-майора и генерал-адъютанта. У Наполеона же сообщение о диверсии русских в самом центре герцогства Варшавского вызовет приступ бешеного гнева.
Однако не станем забегать вперед. До той поры пока далеко. Русских солдат еще ждут жестокие сражения. И в первую очередь солдат армии Багратиона, каким-то чудом ускользающей из неприятельских тисков.
Прошло, должно быть, не более часа после отбытия государева флигель-адъютанта, как в избу, что занимал Багратион, буквально ввалился атаман Платов, а за ним Сен-При.
— Ваше сиятельство, Петр Иваныч, — начал с порога казацкий генерал, — худо, ой худо наше дело. Мои ребятки только что воротились с Минского тракта: Даву — чтоб ему пусто было! — уже захватил энтот самый Минск.
Матвей Иванович, возрастом уже за шестьдесят, в длиннополом темно-синем однобортном мундире без пуговиц, а, как принято у казаков, с застежками из крючков, с грубой скуластой физиономиею и хитрыми узенькими глазками, скорее походил на какого-нибудь сказочного разбойника, чем на полного генерала царской армии. По тому, как он с трудом переводил дух, было видно, что и впрямь бежал опрометью от своих ребят-станичников, прибывших из разъезда, чтобы, не мешкая, доложить главнокомандующему.
— Да, старина, плохую весть ты мне принес, — сорвался с места князь Петр Иванович и быстро заходил по избе. — Вот они, стратеги-тактики — что военный министр, что царево окружение из немцев! Ишь, передали мне через государева флигель-адъютанта императорское повеление: идти к Барклаю через Минск. Будто это не я нахожусь тут, возле Минска, а они, генералы, сбившиеся стаею возле Первой армии. И не государь император вовсе писал сей рескрипт, а он, дурак Барклай! Что, разве сие — тайна? Царским именем он мне и в самый канун войны глупые указания рассылал — не как нам ближе друг к дружке подойти, а как еще шире разомкнуться. Теперь вот еще одну цидулю насчет Минска сочинил и сам спрятался за царскую спину: попробуй только такой-сякой князь Багратион ослушаться и не выполнить высочайшую волю! А я вот возьму и не выполню твое, военный министр, глупое распоряжение.
Казачий генерал хмыкнул и пригладил стоящие торчком кошачьи усы. И в сем жесте атамана проглядывало горделивое восхищение: «Вот это, князь Петр Иваныч, по-нашему, по-казацки! Что они там, в главной царской квартире, и вправду сдурели? То мне, то теперь главнокомандующему Второй армии — что ни приказ, то нелепость…»
Отдельный казачий корпус Платова перед самой войною входил в состав Первой Западной армии. Но почему-то в канун самого вражеского нашествия корпус направили в район Гродно, и он сразу же оказался отрезанным от своей армии. А хуже того — приказ ему был дан и впрямь нелепейший: ударить нашествию во фланг. Это — полумиллионному Наполеонову войску! Платову ничего другого не оставалось, как примкнуть к армии Багратиона. Однако не зря в народе говорится: «Нет худа без добра». Еще с турецкой войны сошлись они вместе — Багратион и Платов. И теперь Матвей Иванович считал за великую честь, что судьба вновь свела его с душою-генералом.
— Ваша правда, князь Петр Иваныч, — пригладив усы, произнес Платов. — Только извольте приказать — все сполним честь честью. Куда ни прикажете — на Даву так на Даву…
Теперь уже сам главнокомандующий, хитро прищурясь, посмотрел на атамана.
— Хвалю за всегдашнюю твою готовность, Матвей Иваныч. То мне любо: получил приказ — и уже в седле, — сказал Багратион. — Только на рожон и я не полезу — накось выкуси, Барклай! Сам бежишь, только пятки сверкают, а меня с атаманом Платовым отрядил всю Россию защищать. Да было бы чем — тут бы всю границу заслонили грудью. Ныне же по тупости, если не по предательству вашего высокоблагородия, вынужден буду иную тактику избрать — спасать свою армию. И от Наполеона с его войском, и от глупейших Барклаевых рескриптов.
Взгляд Багратиона с лица Платова перешел на Сен-При.
— Есть такая русская сказка. Все, кто ни попадается навстречу Колобку, норовят его съесть. А Колобок им, не боясь: «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, а от тебя, серый волк, подавно убегу…» Так и мы скажем в сем тоне этому лысому черту Даву.
— Однако, ваше сиятельство, — осмелился осторожно заметить Сен-При, — Даву опередил нас с севера. К Новогрудку же, чтобы подрезать нас с юга, со своими корпусами идет Вестфальский король Жером.
Багратион смешно взмахнул руками:
— Ах, какой ужас: король Ерема в поход собрался, наелся кислых щей! А знаете, как там дальше, что в дороге с ним случилось? А если серьезно, Эммануил Францевич, тут нам в самый раз уподобиться Колобку, чтобы зараз и от черта лысого, и от Наполеонова братца — раз, и улизнуть!
— Да как же, ваше сиятельство? — возразил Сен-При. — У одного маршала Даву семьдесят тысяч войска, у Жерома и Понятовского — более пятидесяти тысяч! Да еще дивизии Груши и Латур-Мобура. Я, как начальник вашего штаба, обязан вам донести: против наших менее чем сорока тысяч — сто тридцать шесть тысяч вражеских сил! Ну, сбросьте тридцать тысяч на больных и отставших — все равно перевес. Куда ни уходи, а они настигнут.
— Так что же вы, как мой начальник штаба, имеете мне предложить? — Багратион даже не сделал малейшего усилия, чтобы скрыть пренебрежение к своему, по должности, первому помощнику.
Изящный, подтянутый генерал-майор поначалу слегка стушевался, но все же твердо заявил:
— Нам остается один путь — назад через Неман к Несвижу.
Багратион с готовностью подхватил:
— Благодарю вас, граф. На сей раз наши мнения не разделились, а решительно сошлись! Прошу вас тотчас отдать от моего имени приказ: всем сниматься и идти в Несвиж. Там же, в сем городе…
— Совершенно верно, ваше сиятельство, — решился дополнить главнокомандующего начальник штаба, — я уже изволил набросать проект диспозиции: занимаем в городе оборону и поджидаем подхода неприятельских сил, чтобы дать им беспощадный бой.
Сен-При вдруг запнулся. Наступило неловкое молчание, по которому и Платов, и подошедшие во время разговора Николай Николаевич Раевский, князь Васильчиков и некоторые другие генералы армии поняли: нет, не угадал начальник штаба намерений главнокомандующего и они опять, увы, разошлись.
— Говорите, держать оборону? — взорвал тишину Багратион. — Да, дозоры вокруг города и по всем дорогам от него — к Новогрудку и Миру! И лишь для того, чтобы дать всей армии отдыха ровно на сутки. А засим — операция под именем «Колобок». Отрываемся от Жерома к югу, по направлению Слуцк — Бобруйск. И далее — на Могилев. Всем ясно, господа?
Всю дорогу к Несвижу и затем там, в городе, Сен-При не мог прийти в себя.
«Опять, выходит, не попал в точку с главнокомандующим. Но ведь сие не потому, что я плету супротив него козни, как полагает сам милейший Петр Иванович. Расхождение у меня с ним — в ином. В разности наших с князем дарований. Он — гений, я — не более чем добросовестный и честный исполнитель, невзирая на мой Гейдельбергский университет. Князь не может меня, верно, принять потому, что я — иностранец, к тому же — француз. Но Святые Отцы! Как его убедить в том, что я вот уже более двадцати лет нахожусь в русской службе и с малых лет живу в России, которая и стала моею настоящею родиной! Всему же виною — злые языки. Хотя бы тот же Ермолов, что считает меня при Багратионе тайным царским осведомителем. Как сие низко и недостойно Алексея Петровича, храброго и умного генерала! Теперь государь назначил его начальником штаба Первой армии. Вот он-то не преминет вставить палку в колесницу Барклая! Да окажись он здесь, на моем месте, и супротив обожаемого своего кумира, князя Багратиона, плел бы козни. Таков уж характер сего Геркулеса с головою льва: извечное недовольство и борение. Я же — всею душою с тем, кому служу и в гений коего верю беззаветно».
Знал: с момента назначения на должность начальника штаба Второй Западной Багратион не раз в сердцах бросал кое-кому из самых ему близких: «Я пишу государю, и Сен-При тоже ему пишет. Только я — по-русски, а он — по-французски. Черт его знает, о чем он в сих письмах строчит?»
Так ведь как было не состоять в переписке с государем, коли по званию Сен-При — генерал-адъютант? А звание, оно обязывает. Только надобно знать, о чем в тех письмах — хула ли на своего непосредственного начальника или, напротив, ему поддержка.
Вот и теперь Эммануил Францевич передал флигель-адъютанту Чернышеву письмо по-французски. На сей раз, правда, не государю адресованное, а родному брату Луи Мари, находящемуся на службе в Первой армии.
С превеликой охотою показал бы князю Петру Ивановичу сие послание его автор. Да разве прилично, когда в том письме чуть ли не каждая строчка о том, как он единодушен со своим командиром. И как он глубоко, всем сердцем разделяет печаль и тревогу князя, и как всеми силами души готов разделить его священную любовь к отечеству.
«Мой дорогой Луи! — спешил Эммануил Францевич сообщить брату о положении дел в своей армии. — Не удивляйся, что я не писал тебе в течение некоторого времени, ибо был занят другими делами. Если вы отступаете, то ведь и мы тоже отступаем. Однако какая разница! Ваши фланги и пути отступления свободны, тогда как нас преследует и почти что окружил Даву, вплотную за ним идет армия Жерома… Мы стремимся соединиться с вами, а вы от нас убегаете… Мы не рассчитываем больше на благоприятные для нас действия Первой армии. Эта кампания хороший урок для военных и составит эпоху в истории. Лишь одно наступательное движение Первой армии может привести к поражению всех корпусов неприятельской армии, а ее нынешняя бездеятельность послужит причиной не только гибели нашей армии и армии Тормасова, но также и ее самой! Окруженная с флангов, она будет вынуждена отступать из своего укрепленного лагеря к Пскову — и все это без единого выстрела. Все, что мы можем делать, это — отвлечь армию Даву, в то время как австрийская и саксонская армии идут от Пинска к Мозырю на соединение с вестфальской армией, которая прикрывает Бобруйск, чтобы, перебросив свои силы на Житомир, заставить Тормасова отступить без боя к Киеву. Волынь и Подолия взбунтуются и восстанут и отрежут снабжение провиантом Молдавской армии, которая будет счастлива, если успеет достичь Днестра. Вот, мой дорогой Луи, плачевный результат, к которому приведет ошибочное движение Первой армии на Свенцяны, что есть не что иное, как следствие ее дислокации. Предпринятое ею поспешное отступление к Дриссе еще более ошибочно, потому что сделало невозможным наше движение к Новогрудку и было затруднено характером местности. Я не говорю об оставлении страны без единого выстрела, о всех уничтоженных запасах — все это неизбежное следствие первоначальных передвижений. Те, кто посоветовал подобные действия, виноваты в этом перед потомством. Но во всем этом наиболее достоин сожаления император, положение которого ужасно. Я не осмеливаюсь ему более об этом писать, поскольку я ему предсказал все, что теперь с нами происходит, и уверен, что он сим очень огорчен. Ты можешь показать мое письмо генералу Толстому и сказать ему, что если он потрудится изучить неприятельские силы, нас окружающие, то сможет судить, нам ли делать диверсии в помощь Первой армии с 40 тысячами человек против 120 тысяч, или Первая армия должна нас выручать, имея 120 тысяч человек против, самое большое, 100 тысяч плохих войск.
Я думаю, что ты бы не узнал меня, если бы увидел: я худею на глазах и страдаю невыносимо душевно — как за себя, так и за других. Князь сам очень огорчен всем этим, и я его поддерживаю как могу…»
Сутки в Несвиже пролетели как одно мгновение. Сен-При сам спал мало и плохо. И когда встал, нашел в углу на сене пустое место: знать, князь совсем не прилег.
Багратион же и впрямь, разослав начальникам дивизий и командирам полков указания, где и как размещаться и какие выставить охранения, поначалу объехал город.
Радзивиллова вотчина! Замок, точно крепость с бастионами и бойницами. Но сам князь Доминик не думал здесь ни от кого обороняться, пуще от французских пришельцев. Напротив, как сообщал уже раньше Багратион военному министру для передачи государю, такие, как Радзивиллы, живя на землях, присоединенных, к России, и будучи российскими подданными, душою были там, в герцогстве Варшавском. Да что душою, когда Доминик Радзивилл еще до войны успел перевести туда все свои несвижские богатства и на свои средства там, под Варшавою, набрал целый уланский полк! Сей полк, говорят, во главе французских войск первым вошел в Вильну. А теперь вот вместе с Юзефом Понятовским, в составе корпусов Наполеонова братца Жерома, преследует Вторую русскую армию, чтобы ее окружить и уничтожить. Но сему не бывать.
— Вот что, Матвей Иваныч, — князь пригласил к себе атамана, — знаю, ждешь от меня благословения на жаркое дело. Что ж, будет оно у тебя, старина. Поднимай, друже, своих казачков и упреди у местечка Мир авангард короля Еремы. Даю тебе в помощь легкую конницу князя Васильчикова. Деритесь насмерть, стойте стеною, чтобы дать всей армии оторваться и уйти на Слуцк. Чую: дальше за нами король Ерема не двинется — оторопеет. Эка, почешет свою глупую мальчишечью голову, куда подался принц Багратион — в самые припятские болота. Сие ему не с руки. Увидишь, после нашего отхода здесь, в Несвиже, застрянет. А нам то и на руку — двинем маршем на Бобруйск, а за ним — и к Могилеву. Но наше спасение — в твоих руках, атаман Платов!..
Шесть уланских полков французов и поляков натолкнулись не только на непроходимую стену русской отважной кавалерии — они попали в настоящую западню, уготованную для них хитрющим казачьим атаманом. Перед битвою Платов впереди своего корпуса расположил три заставы — по сотне донцов в каждой. Сие по-казацки называется «вентерь». Инача говоря — заманка. Смяли вроде бы первую заставу — она наутек. Следом бежит от врага вторая, за нею и третья сотня. А противнику и невдомек, что он уже в мешке.
Целых восемь часов конники Платова и Васильчикова крошили саблями и палашами неприятельских кавалеристов, поднимали их на пики. За теми, кто не выдерживал схватки, казаки гнались аж двадцать верст! В итоге три сотни нижних чинов и с дюжину офицеров взяты были в плен, коих и привели под конвоем к авангарду армии.
Князь Багратион кинулся к Платову:
— Поздравляю, Матвей Иваныч! С великим почином поздравляю — то ж первое наше громкое русское дело супротив Наполеонова войска. Выходит, хватит нам, русакам, уподобляться ракам? Дале к Днепру пойдем — еще пуще станем их бить, королей да маршалов. Так ведь, старина?
— А як же иначе, князь Петр Иваныч! Не поверите: до сей поры боялся, что рука без дела отсохнет. А помахал клинком — во, потрогайте, какою силою налилась!
Глава седьмая
В планы младшего Бонапарта не входило выступать имеете с братом в поход против России. Разве ему наскучило веселое и привольное житье в Касселе?
Слов нет, сей небольшой германский городок — не Париж. Однако и не дикие края России, разбросавшей свои пространства, как утверждали путешественники, аж за пределы Северного полярного круга. Его Вестфальское королевство — центр Европы, куда сходятся все дороги из ближних и дальних стран. Но главное все же в том, что он в сей германской земле — король. И все, чего только не пожелает его королевское величество, — тотчас к его услугам и к его королевскому удовольствию.
Впрочем, лет пять назад Жером Бонапарт ни о чем подобном и мечтать не мог. Родился и рос в бедной семье, рано оставшейся без отца. Наверное, главной статьей пропитания у матери многочисленного семейства Летиции были обязанности прачки, а у босоногих сорванцов — Жерома и сестер Каролины и Полины — промысел в чужих садах. И если бы не забота Наполеона, вышедшего из Бриеннской офицерской школы в чине лейтенанта и отдававшего большую часть своего скудного жалованья матери, семья могла бы пойти по миру.
Босоногое детство, может, не столько закалило, сколько подсказало: надо самим искать жизненный путь. В сем убеждал и пример брата, быстро шагнувшего от лейтенанта к капитану, а с этого, не такого уж великого чина прямо к званию бригадного генерала.
Еще не достигнув совершеннолетия, ловкий и шустрый Жером нанялся в Марселе на судно, идущее в Северную Америку. И там, в Балтиморе, женился на некой девице Элизабет Петерсон, которая вскоре подарила ему сына.
У всех Бонапартов склонность к бесшабашным и смелым, а вернее сказать, к авантюрным поступкам, видимо, была не последнею чертою характера. Только у старших — у Жозефа, Наполеона и у Люсьена — черта сия разумно согласовалась со здравым расчетом и, как особенно у тех же Наполеона и Люсьена да у старшей сестры Элизы, с неимоверным трудолюбием, унаследованным от матери.
Наверное, сии качества когда-нибудь прорезались бы у Жерома, Полины и болезненного, а потому крайне капризного и раздражительного Луи. Но для сего им недостало времени. Бурно восшедшая на небосклон власти звезда их брата Наполеона вскоре сделала ненужными усилия каждого члена многочисленного Бонапартова клана — братья и сестры получили то, о чем и во сне на Корсике, а затем и в Марселе им не могло и привидеться! Короли и королевы, принцессы и принцы — словно из сказочного рога изобилия посыпались на них самые августейшие звания, а вместе со званиями — дворцы, герцогства и королевства. Впрочем, единственный брат — Люсьен — не принял сказочного подарка от единокровного властелина мира. Он стал ученым и писателем, нашедшим свое призвание среди книг и произведений искусства.
Двадцатидвухлетнему Жерому брат-император поставил условие: развод с балтиморскою шлюхой и женитьба на дочери Вюртембергского короля — принцессе Катерине. А в качестве приданого — целое Вестфальское королевство, наспех сколоченное французским императором из лоскутков поверженной Пруссии.
Так началась новая, волшебная пора в жизни бесшабашного и отчаянного парня, у которого, увы, не окреп еще самостоятельный ум, а с другой стороны, не перебродило в пылкой, южного розлива крови безудержное молодечество.
Чинные и чопорные германцы, законопослушные подданные короля, чуть ли не с первых же дней наградили его кличкою Люстиг, что по-немецки означает: веселый. А как иначе можно было определить сущность характера и, главное, занятие их верховного правителя, если в кассельском дворце с вечера и до утра гремела музыка, беспрерывно, один за другим, следовали балы, маскарады, фейерверки!
Король жил на такую широкую ногу, что путешественники, проезжая чрез столицу Вестфалии, диву давались: ничего подобного им не доводилось видеть при самых знатных и богатейших дворах Европы. У королевской персоны, говорили, насчитывалось девяносто две кареты и двести выездных лошадей. Своих генералов он одаривал чистокровными скакунами, любовниц — бриллиантами. Слуг одевал в алое с золотом. В королевских же владениях ходили монеты — «жерОмы», с изображением его королевского величества.
Было известно: Наполеон выделял брату на содержание двора пять миллионов франков ежегодно. Это много, даже слишком. Бюджет прусского короля, например, равнялся трем миллионам, австрийского императора и того меньше — двум с половиною. Но владелец карликового королевства умудрился в первый же год не просто издержать всю сумму, но и наделать долгов на два миллиона.
За всю свою, теперь уже двадцативосьмилетнюю, жизнь король Люстиг осилил всего одну книгу — «Жизнь мадам Дюбарри», хотя библиотекарем у него значился знаменитый ученый и собиратель народных сказок Якоб Гримм.
А к чему ему, веселому королю, были чужие душещипательные истории, запечатленные на страницах романов, ежели его собственная жизнь — сказка, обратившаяся в быль? Почти ежедневно — новые любовницы, новые утехи и наслаждения, не ведавшие границ. Однажды — прошел слух — пьяненького его вынуждена была задержать даже собственная полиция. Как уж там выпутывался из пикантного положения полицмейстер, а факт есть факт — расшалился веселый король и, дабы не натворил чего-либо непоправимого, был вежливо остановлен собственными блюстителями порядка.
Года два назад император вызвал непутевого братца в Париж: освободилось место шведского наследного принца, дающее право стать королем сей настоящей, а не скроенной наспех страны. Нет уж, оскорбился Жером, не станет он жить по соседству с белыми медведями и питаться одною селедкою.
Меж тем брата-императора тоже непросто было сбить с мысли, коли она запала в его голову. Только государственные заботы могут сделать из беспечного человека настоящего короля, твердо решил он. А для сего все же следует подыскать и страну размером поболее, и народ с отвагою в груди.
Как людей, способных к постоянной и целеустремленной деятельности, Наполеон ни в грош не ставил поляков. Зато когда поляк на коне да с саблею в руке — мало найдется ему равных. Почему бы не поставить во главе сей нации достойного вождя? А чтобы народ с гонором и апломбом в едином порыве избрал себе достойного короля, самый верный способ — дать им в предстоящей войне доблестного военачальника.
От брата Жером уже был наслышан о Польше и Варшаве, где его, Наполеона, в свое время встречали как героя. А главное, знал, что брат нашел там очаровательную красавицу Марию Валевскую, что стала его второю, невенчанною, женой.
Неизбывная жажда приключений, в первую очередь, безусловно, сердечных, наверное, и оказалась решающей. Жером, согласившись вступить на польский трон, решился и на военный поход в далекую Россию.
Наполеон отвел своему братцу роль главнокомандующего правым крылом «Великой армии». Сам он возглавил левое крыло, центр подчинил пасынку, вице-королю Италии Евгению Богарне. Сие выглядело символически: во главе нашествия — император и два короля.
Итак, под началом у двадцативосьмилетнего Жерома, до этого не возглавлявшего ни роты, ни батальона, оказалась нешуточная армия — три пехотных и кавалерийский корпус общим числом более семидесяти пяти тысяч человек со ста шестьюдесятью шестью орудиями.
Естественно, что пока войска подходили еще к русской границе, претендент на польский престол местом своего пребывания избрал Варшаву. И главную собственную квартиру — при кавалерийском корпусе князя Юзефа Понятовского, племянника последнего польского короля и по занимаемой им теперь должности — военного министра герцогства Варшавского.
Отсвет Наполеоновой славы, должно быть, сразу помешал полякам разглядеть истинную сущность полководца Жерома, коим наградила их судьба. Но вскоре они, рвавшиеся в битву с русскими, узнали ему цену. Достаточно упомянуть здесь, что в первый же день он потребовал под свои апартаменты самый роскошный варшавский дворец и отдал распоряжение городским властям доставлять ему такое количество молока и вина, чтобы он мог ежедневно принимать молочные и виноградные ванны. А чтобы содержимое ванн даром не пропадало, Вестфальский король распорядился вино и молоко, в коих купался, продавать купцам. Те же сбывали сей товар жителям.
Дивизии и полки центра и левого крыла уже почти целую неделю топтали русскую землю, когда Жером наконец изволил покинуть Варшаву. Выезжал он во главе корпуса Понятовского, а следом за храбрыми польскими уланами и гусарами тянулся его обоз. Сей обоз представлял из себя целый дворец на колесах. А как иначе можно было назвать семь огромных вагонов — длиннющих фур, набитых всевозможной утварью и запряженных восьмериками сытых, с короткими гривами и слоновьими ногами битюгов?
Если бы потребовалось составить подробный список того, что бралось в дорогу от самого Касселя и что удалось прихватить в Варшаве, все непросто было бы перечислить. Назовем, пожалуй, главнейшее: униформы на все случаи жизни — французские и вестфальские всех родов войск, охотничьи костюмы и штатские сюртуки, спальные рубашки и халаты. Шесть десятков пар всевозможной обуви. Две сотни сорочек, более трехсот носовых платков… И это — в каждом из семи вагонов, на тот случай, если часть обоза отстанет или, того хуже, потеряется.
Да, мы еще забыли назвать мебель — стулья и кресла, столы, зеркала, комоды, ширмы и ширмочки в таком количестве, что ими можно было обставить целый дворец. В дорогу были взяты приличествующие любой почтенной кунсткамере коллекции китайского, японского и немецкого фарфора, изделий из бронзы и золота, а также картины знаменитых мастеров.
Итак, все это двинулось по дорогам, точнее, по бездорожью матушки-России. Как же тут не раскалываться голове у прислуги, которой не было числа, да и у самого Вестфальского короля, если одна за другою гигантские повозки то ломали железные, не деревянные, заметьте, оси, то садились на брюхо в непролазной грязи, то переворачивались на спусках и подъемах вовсе вверх колесами?
Между тем двигаться вперед следовало форсированными маршами. Переправляясь через Неман, французский император был уверен, что русские не позволят ему безнаказанно вступить в пределы своей державы. Для этого, полагал он, целая армия под командованием Барклая-де-Толли и расположена в районе Вильны. И первая же встреча с нею обязательно завершится ее неминуемым разгромом. Вторая же русская армия, которой командует Багратион, должна быть отрезана от Первой молниеносным ударом центральной группы войск совместно с войсками правого крыла и полностью уничтожена.
И Жером и Богарне получили четкие и ясные распоряжения Наполеона. Вице-король Италии тотчас выдвинул корпус маршала Даву в широкую расщелину между двумя русскими армиями с заданием еще далее оттеснить Багратиона к югу, ни в коем случае не давая ему соединиться с армией Барклая. Пехотные корпуса Вестфальского короля также получили указание теснить Багратионовы войска с юга, чтобы наконец их окружить. Но если маршал Даву был во главе своего корпуса, то Жером находился со своим злополучным обозом далеко от возможного места сражения.
Вестфальский король не спешил и невольно удерживал в бездействии самую мобильную свою силу — кавалерийский корпус Понятовского. Так, с опозданием выступив из Варшавы, Жером два дня провел в Августове, затем на целых четыре дня задержался в Гродно, а на переход в двадцать семь миль до Несвижа потратил целых восемь суток. И там, в Несвиже, дав Багратиону благополучно уйти, отдыхал вновь два дня.
Понятовский был вне себя. Но как мог он повлиять на бесшабашного любителя удовольствий, который сей военный поход воспринял как счастливую возможность удрать от пригляда своей добропорядочной супруги и наконец-то с головою окунуться в море удовольствий! Более того, Наполеонову братцу казалось, что своею склонностью к бурным застольям и кутежам он произведет самое благоприятное впечатление на будущих подданных. Разве не сам брат-император называл поляков легкомысленною нацией, все стремления которой — лишь производить впечатление?
Однако Юзеф Понятовский так не думал. Он был настоящий боевой генерал, как и большинство офицеров и солдат его корпуса. Это ведь они еще в 1794 году в Праге, а затем пять лет спустя в Италии храбро бились против суворовских войск. И теперь ему, мужественному и решительному предводителю польской армии, не терпелось сразиться с Багратионом — одним из тех, с кем он уже не раз встречался на поле боя.
— Ах, эти хвастливые фанфароны из Варшавского герцогства! — топнул ногою Наполеон, когда в Вильне получил письмо Понятовского, в котором князь, избегая резких выражений, тем не менее высказывал недовольство поведением своего командующего. — Разве они, поляки, забыли, что это я создал для них целое герцогство? Теперь же я готов подарить им достойного короля. Однако так ли великодушно готовы они меня отблагодарить? Я тотчас отпишу Вестфальскому королю, чтобы он не церемонился с этими хвастунами, возомнившими из себя невесть каких героев, а гнал бы их в самое пекло. Марш, марш вперед! Мне нужно полное Окружение и полный разгром Багратиона. Как некогда австрийского фельдмаршала фон Мака — разгром наголову, до последнего солдата!
Герцог Ауэрштадтский, князь Экмюльский, он же маршал империи Луи Никола Даву, знал Наполеона значительно лучше, нежели польский генерал, и посему воздерживался от того, чтобы писать императору по поводу действий его августейшего брата.
Грубый и жестокий, маршал не был любимцем в армии. Не способствовало его популярности и отсутствие личной храбрости — качества, которое особенно ценят те, кто постоянно рискует своею жизнью. А таких, кто сам первым кидался в огонь, среди Наполеоновых генералов и маршалов было немало. Назвать хотя бы Мишеля Нея и Мюрата — из тех, что были к этому времени живы и во главе своих корпусов вошли в Россию. Даву, в отличие от них, всегда держался около императора. Он был как бы его неизменной тенью и получал повышения по службе благодаря слишком уж явной личной преданности — его знакомство с Наполеоном началось еще с Бриенна, где они вместе готовились стать офицерами.
Лесть, жестокость и ловкость, замешенные на иезуитской хитрости, были теми качествами, что обеспечивали маршалу успехи в военном деле. Презирая подчиненных ему солдат и офицеров, он безжалостно гнал их на убой и тем подчас достигал победы. Так было в войне с Пруссией, когда он разгромил ее армию под Ауэрштадтом. Так произошло и в Австрии при Экмюле, где он из-за своей грубой ошибки чуть не погубил все дело и лишь благодаря вмешательству самого Наполеона выпутался из катастрофы. Зато за те две битвы он был удостоен герцогского и княжеского достоинств.
Призванный взаимодействовать с Жеромом, он, убедившись в полной его никчемности, с радостью стал потирать руки. Рано или поздно, удовлетворенно решил он, Наполеонов братец опозорится до конца и тогда тем более на фоне провала возрастут его, маршала Даву, заслуги действительные и даже мнимые.
Так, собственно, и произошло. Узнав о том, что под Миром, а затем под Романовом Жером не только упустил Багратиона, но и потерпел от него сильные поражения, французский император наконец-то приказал начальнику генерального штаба Бертье:
— Сообщите Вестфальскому королю, что я крайне недоволен тем, что он не отдал все свои легкие войска князю Понятовскому для преследования Багратиона, чтобы тревожить его армию и остановить его движение… Скажите ему, что невозможно маневрировать хуже, чем он это делал. Этого мало. Скажите ему, что все плоды моих маневров и прекраснейший случай, какой только представился на войне, потеряны вследствие этого странного забвения первых правил войны.
Стремясь выправить положение, Наполеон решается на крайнюю меру. Он подчиняет Жерома со всеми его корпусами маршалу Даву и посылает тому строжайшую директиву: «Нужно либо заставить Багратиона идти в Могилев, либо отбросить его в Пинские болота. И в том и в другом случае французские части могут войти в Витебск раньше Багратиона, и Багратион окажется отрезанным».
Не стерпев оскорбления, полученного от брата-императора, Вестфальский король повелел повернуть свои сундуки на колесах на запад и взял направление в Кассель, домой. А Даву ликовал: «Теперь моя звезда поднимется еще выше! Я один пожну плоды славы, которые до сих пор вынужден был делить с этим олухом, младшим Бонапартом. От меня-то русский принц Багратион не улизнет!»
Вторая армия беспрепятственно достигла Бобруйска и, перейдя реку Березину, направилась к Могилеву. От него открывался самый кратчайший путь к Витебску, куда, по расчетам Наполеона, должен был двинуться Багратион, чтобы наконец-таки соединиться с армиею Барклая. Однако у главнокомандующего Второй русской армией был в голове иной план: войти в Могилев, чтобы там переправиться через Днепр и, намного опередив французов, стать вместе с Барклаевым войском надежною защитою Смоленска.
Меж тем, еще не доходя до Могилева, Багратиону донесли: город занял Даву. Однако там не все его силы, а лишь авангард числом в шесть тысяч, не более.
Начальник штаба граф Сен-При, помня свой конфуз в связи с опрометчиво предложенной им недавно обороной Несвижа и в то же время остро переживая все еще длящееся охлаждение к нему Багратиона, предпочитал более не подавать своих мнений. Но сие невмешательство еще более расстраивало Эммануила Францевича. Получалось, что он не просто отгораживался своим безучастием от судьбы армии, но в глазах ее главнокомандующего как бы отстранял себя от бед и ошибок, ежели они могли бы, к несчастью, произойти. И этого он, человек честный и определенных правил морали, никак не мог допустить. К тому же разве он не обладал ясностью ума, просто здравым смыслом, чтобы не суметь разобраться в том жесточайшем положении, в кое попала их армия? Письмо брату, что написал он с предельною искренностью и открытостью, как раз свидетельствовало о том, что рядом с Багратионом находился если не блестящий стратег и тактик, то, по крайней мере, не его враг, а скорее его единомышленник и товарищ.
— Досадно, Эммануил Францевич, форсировав одну реку — Березину, остановиться у второй — Днепра, переход через который для нас — полное спасение, — обратился Багратион к начальнику штаба. — Что ж, показать спину этому черту лысому — Даву и отступить?
Нелегко было и далее хранить подчеркнутую осторожность. Решение выглядело таким ясным и очевидным, что Сен-При не сдержался:
— Осмелюсь заметить, любезный Петр Иванович, Днепр протекает не только в одном Могилеве. И уж коли за сею рекою единственное для нас спасение, то, оставя мысль о прорыве через Могилев, стоило бы попытать счастья в ином, более безопасном месте.
Багратион ходил у костра, опустив голову, стараясь не встречаться глазами с графом. Но при последних словах его внезапно остановился, словно споткнулся о невидимую доселе корягу.
«А ведь у него, французишки, неплохой ум, — неожиданно подумал главнокомандующий о своем помощнике. — Слов нет, сегодня в Могилеве у неприятеля всего тысчонок шесть, а завтра? Не подойдет ли уже сей ночью к городу сам Даву со всем своим войском? Куда же тогда сунуться мне — прямо в пасть зверю? Конечно же, милейший Эммануил Францевич, надобно думать о надежнейшей переправе в ином месте! О том — все мои мысли с тех пор, как узнал я о диверсии Даву. Только для того, чтобы теперь уйти из-под носа сего вредного маршала, надобно его хорошенько прибить. Он в самонадеянности своей, что обскакал меня в Минске и здесь, в Могилеве, полагает, будто он умнее Жерома. Тот Наполеонов братец, безусловно, полный профан. Только я ушел от него не потому, что он не умел споро за мною ходить, а потому, что это я имею хорошие ноги. Даву тож неплохой ходок. Теперь же настал черед помериться мне с ним быстротою мысли — кто кого оставит в дураках? Однако, чтобы не искушать судьбу, пока никому и в собственном стане не открою того, что задумал. Напротив, наружными действиями своими укреплю самонадеянность сего лысого черта».
— Вы правы, любезный граф; место для возможной переправы следует приискать, скажем, чуть ниже Могилева. По сему поводу я в свое время отдам специальное распоряжение. Но не попробовать ли нам, пока Даву не подошел к городу со всеми — своим и Жерома — корпусами, опрокинуть неприятеля вспять? Не откажите в любезности, запишите, что я намерен приказать командующему седьмым корпусом Николаю Николаевичу Раевскому.
И Сен-При, достав свою записную книжку, при свете костра занес в нее слова приказа: «Дабы предупредить находящиеся за Оршей французские войска выходом нашим на Смоленскую дорогу и занятием города Могилева, а также и для воспрепятствования движению их на Смоленск, чем ограждение центральных российских областей прямо достигается, повелеваю вам, господин генерал-лейтенант Раевский, со вверенным вам корпусом седьмым немедля предпринять диверсию по следующему плану. Имеете завтрашний день выступить к селу Дашковке, что от Могилева в двадцати верстах, а оттоль с частью корпуса вашего для усиленной рекогносцировки до самого города Могилева. Буде же окажется, что город французами занят, забрать языка и мне донести, в каком количестве французы тамо засели. Я сам с армией неотступно за вами спешу, и при надобности сикурс полный вам обеспечен. С сим вместе атаману войска Донского мною поведено отступать на Старый Быхов для сближения с вами. На случай неудачи наступления нашего у Нового Быхова мост наводится…»
— Выходит, ваше сиятельство, переход вы намечаете у Нового Быхова? — оторвался от записной книжки Сен-При. — Сие на случай неудачи у Раевского?
— Неудачи, граф, я никакой не предвижу! — резко возразил Багратион. — Для того я и обнадеживаю Николая Николаевича: подам ему сикурс, ибо без помощи остальными силами нашей армии ему не просто будет управиться. Однако… Вот мой другой приказ — по поводу наведения переправы у Нового Быхова. Вы готовы записывать?..
И тут же, оборотясь к своему адъютанту князю Меншикову:
— Вот, князь Николай, подписываю при тебе. Бери, — вырвал он два листка из записной книжки Сен-При. — И мигом к Николаю Николаевичу. Тут, брат, промедление смерти подобно!
При обращении «брат» щеки 22-летнего штабс-ротмистра лейб-гвардии гусарского полка Николая Меншикова зарделись, точно у девицы. Он, конечно, не доводился Багратиону братом, а был двоюродным или троюродным племянником. Одно то, что он был родственником прославленного генерала, добавляло юнцу гордости.
— Будет исполнено, ваше сиятельство! — лихо, по-гусарски козырнул он Петру Ивановичу и тут же, вскочив в седло, тронул лошадь в галоп, сразу растаяв в непроницаемой тьме теплой июльской ночи.
А ранним утром Раевский уже двинулся из деревни Дащковки к Могилеву.
Ах, какое то было утро, десятого июля: ясное, чистое небо, пронизанное солнцем, и из бездонной синевы — крупные капли вдруг зарядившего дождя.
— К грибам — говорят о таком дожде пополам с солнцем, — произнес Николай Николаевич, оборачиваясь к генералу Васильчикову. — Однако, князь Ларион Васильевич, неведомо, какой урожай ждет нас с вами сегодняшний день.
— Если верно донесли князю Петру Ивановичу, шесть тысяч французского авангарда для нас не помеха. Кстати, извольте, Николай Николаевич, взглянуть в подзорную трубу. Никаких сомнений, французы выдвинулись из города к Салтановке. Глядите: их пехота как на ладони. Ну что, прикажете мне ударить в лоб?
Раевский поворотил голову к говорившему — был глуховат. Помолчал, разглядывая в трубу, как на околице Салтановки спешно строятся в колонны одетые в синие мундиры солдаты.
— Нет, в лоб не годится вашей кавалерии, Ларион Васильевич. Ступайте-ка с вашими гусарами лесом — в обход правого фланга французов, — наконец вымолвил Раевский и, обернувшись назад к подъехавшему молодому чернявому генерал-майору Паскевичу: — И вы, Иван Федорович, со своею двадцать шестой дивизией тож двигайтесь в этом направлении. А когда оба выйдете из леса на ровное место и окажетесь сбоку французов, я с двенадцатою дивизиею ударю на них в центре. Вот там, где мост через овраг.
Когда егеря Паскевича, пройдя чрез лесные заросли, вышли на опушку, перед ними открылись цепи неприятельских стрелков.
— Разворачивай орудия — и картечью! — распорядился генерал.
Пушки развернулись на дороге, ведущей к Салтановке, и с ходу огрызнулись огнем. Цепь наступающих рассыпалась и заметно поредела.
— Еще! Надбавь жару, пушкари! — взмахнул шпагою в сторону артиллеристов Паскевич и обернулся к егерям: — Барабаны, сигнал к атаке! Молодцы, ружья — на руку, марш, марш за мной!
«А где Васильчиков? — на ходу спросил себя генерал. — Эх, не продумал Николай Николаевич, как же можно было кавалерию — да через лес, по песку? Вот и отстали. А была бы теперь в самый раз их конная атака…»
Пехота Паскевича уже подошла к мельнице, куда попятились французы.
«Но что там, впереди? Там же — целая туча неприятеля! — не поверил своим глазам Иван Федорович. — У меня ж в первой линии не наберется и двух полков. Сколько же их против меня? Ох, никак просчет и князя Багратиона, и генерал-лейтенанта Раевского. Какое в Могилеве шесть тысяч, ежели только теперь супротив меня их не менее того! Но делать нечего — буду стоять до последнего. Об атаке же следует забыть — как бы самому отбиться, не осрамить свое имя…»
Раевский тоже понял — к Салтановке ни на одну сажень более не подойти.
«Откуда они взялись, супостаты? — как и Паскевич, спросил себя Николай Николаевич. — Такой плотный артиллерийский огонь, будто вся Наполеонова армия собралась в Могилеве. А если и впрямь Даву подошел со всеми своими силами? Тогда тем более следует ему показать, на что способны русские воины».
Все вокруг моста и плотины, идущей через овраг, было выпахано рвущимися ядрами. Хрипели и ржали посеченные осколками кони, падали на землю и уже не поднимались вновь люди.
Раевский видел, что поднять солдат в атаку будет неимоверно трудно: встать, когда с неба сечет не грибной, а железный дождь, — выше сил человеческих. И тем не менее он сам поднялся со снарядного ящика, на конторой сидел, и, спокойно оглядевшись вокруг, громко позвал:
— Саша! Коля! Где вы?
Откуда-то из-за подбитого орудия, что было на одном колесе, выбежал к отцу сначала шестнадцатилетний Александр, а за ним, лет десяти, Николаша. Александр был в гусарском мундире и кивере, младший в рубашонке и штанишках до колен.
— Не испужался, малыш? — обнял младшего сына Николай Николаевич.
— Вот еще чего, папенька… Да разве я и в самом деле ребенок? — спрятав глаза под густыми ресницами, ответил младший Николай Николаевич.
— Не поверите, папа, — вступился тут же старший, — Николаша меня, уже взрослого, подбадривает своими шуточками.
— Ах вы, герои мои! — сгреб их к себе генерал. — Ну а коли так, сыновья, пойдемте-ка вместе вперед. Ты, Александр, по сю от отца сторону. А ты, Николаша, дай мне свою руку — на тебя стану опираться, как на самого смелого.
Генерал с сыновьями сделал несколько шагов вперед, когда рядом в землю ударилось тяжелое ядро. Но он не остановился, лишь только крепче стиснул в руке детскую ладонь Николаши.
— Папа! — услышал вдруг над ухом голос Александра. — Вон, глядите, убит подпрапорщик, рядом же — знамя. Можно я его понесу?
И не успел отец даже кивнуть головою, как белое знамя Смоленского полка оказалось в руках Александра. Древко было тяжелое, и полотнище, расправленное взмахом ветерка высоко в воздухе, норовило сбить с шагу. Но Саша неимоверным усилием удержал полковую хоругвь и, ускоря шаг, побежал впереди отца и брата.
«Теперь главное, чтобы все поднялись и пошли за мной, — стучало у Саши в висках. — Я знаю: об этом сейчас все мысли папа — пойдут ли в атаку его люди? Но пусть знает отец: я сделаю то, что он ждет от своих солдат… Еще шаг, еще другой… А ведь и в самом деле не страшно, если ты всею душою уверен — только от тебя, от твоего поступка зависит успех дела…»
Саша не успел закончить свою мысль, как услышал сзади, а затем и с боков густое, все нарастающее «ура». И теперь уже не от грохота ядер — от гуда сотен и тысяч ног вздрогнула и задрожала земля. Обгоняя генерала и двоих его сыновей, далеко оставляя офицеров и генералов штаба Раевского, с ружьями наперевес бежали и бежали вперед русские солдаты.
Мост был перейден. Но все равно нельзя было не отойти назад под натиском прущих и прущих с высокого Салтановского бугра несметных неприятельских сил. То ж было и у Паскевича — он дал знать, что более не в силах стоять, и просил разрешения, пока не поздно, отойти. Корпус, получив разрешение из штаба армии, отходил, сбираясь вновь у Дашковки.
Оставляя далеко позади себя свиту, к Раевскому подскакал Багратион и, спрыгнув с коня, обнял Николая Николаевича.
— Все знаю. Обо всем наслышан! — Голос князя сорвался. — А что не дал сикурса — не затаи, Николай Николаевич, обиды. Не то в самый последний момент оказалось у меня в голове: как не один твой седьмой корпус, а как всю нашу армию спасать! Ты же покрыл себя славою немеркнущею — первое за всю нынешнюю кампанию генеральное сражение, коего ты не убоялся.
Генерал Раевский вытер разодранным рукавом мундира катившийся ручьями пот с уставшего лица.
— Не скрою досады, ваше сиятельство. Могилев нами потерян, но завоеван день, — начал он глухо, но тут же возвысил голос, чтобы его услышали все, кто стоял рядом: — Не единая моя заслуга, а храбрость и усердие вверенных мне войск могли избавить меня от, истребления противу превосходящих нас сил. Я сам свидетель, как многие штаб-, обер- и унтер-офицеры, получа по две раны и перевязав оные, возвращались в сражение, как на пир… Сей день все были герои!
Багратиону уже сказали о сыновьях генерала, и он, стремительно подойдя к старшему, подал ему руку:
— Если бы вас, Александр, увидел Суворов, он бы счел за честь прижать вас к своей груди. Позвольте мне сделать то же самое. Надеюсь, с вашею храбростию вы далеко пойдете. — И, заметив рядом младшего, поцеловал его в кудлатую, как и у его отца, голову: — Христос с тобою!..
Переправы у Нового и Старого Быхова уже приняли первых уходящих за Днепр. То были обозы с ранеными и хозяйственною поклажей, провиантские и вещевые подводы. Корпус Платова Багратион отослал к самому Могилеву, чтобы с другой, левой стороны Днепра казаки всю ночь и следующий день создавали видимость готовящейся диверсии. И остальные войска, еще не перешедшие реки, оставались на своих местах в полном боевом снаряжении.
«Верно сказал Николай Николаевич: завоеван день. А мне потребен еще и второй, чтобы окончательно сбить с толку Даву, — собрал в кулак всю свою волю Багратион. — Пусть лысый черт полагает: перед ним ныне вся моя армия, готовая к наступлению. Днем он дрался якобы с моим авангардом, а предстоит со мною. Для сего целый день уйдет у него на подтягивание к Могилеву всех вверенных ему корпусов — я же тем временем уйду и оторвусь от его преследования. Только бы он, Даву, поверил. И вместо того чтобы обернуть все силы супротив меня, сам приготовился к обороне. Ну-с, выйдет сие у меня, чтобы следом за безмозглым королем Еремою я и прославленного маршала обманул?»
Вышло, да еще как! Уже готовый раздавить прижатого к Днепру Багратиона, Даву вдруг поспешно отступил. Полагая, что разгадал секрет русского генерала, он лихорадочно стянул в Могилев все передовые и резервные войска и заперся в сем городе, приуготовясь к отражению атаки.
Да, Раевский завоевал под Салтановкою день. И другой день, самый, наверное, решающий, выиграл Багратион.
Уйти, оставив за собою прикрытие, — прием далеко не новый. Действие седьмого корпуса предоставляло Багратиону удобство, которым тут же легко воспользовался бы любой военачальник на его месте. Разве не так было под Миром, а затем под Романовом, когда Платов и Васильчиков играли роль прикрытия для отступления от наседающего Жерома? Но здесь повторение сего маневра могло обернуться катастрофой — и силы и мастерство Даву не шли ни в какое сравнение с тем, что являл собою Вестфальский король и его войско, уже во многом разложенное по воле своего никчемного главнокомандующего.
Вот почему под Могилевом Багратион должен был использовать маневр, который бы заставил Даву не только не преследовать Вторую армию, а, напротив того, счесть ее поведение опасным для себя самого. И для того следовало призвать на помощь всю выдержку и хладнокровие, чтобы оставить армию на целый день на виду неприятеля, якобы готовящуюся к решительному штурму.
И сие блистательно удалось. Запершись за стенами города, Даву позволил себя обмануть похлеще, чем презираемый им доселе Жером! Лишь по прошествии целых суток он узнал о том, что вся армия Багратиона исчезла — она перешла Днепр и, уже в полной безопасности, движется по дороге на Смоленск.
«Насилу выпутался из ада, — облегченно и с явным удовлетворением писал с марша своему другу и единомышленнику, начальнику штаба армии Первой генералу Ермолову главнокомандующий Второй армией. — Дураки меня выпустили».
Ни сам одураченный Даву, ни прославленные военные историки и, как это ни странно, даже герой сей достославной битвы Раевский на первых порах не поняли всей гениальности Багратионова маневра. Военный писатель с мировым именем Клаузевиц, находившийся в то время в армии Барклая, считал, например, что Багратион пошел к Смоленску «после тщетной попытки пробиться через Могилев».
Лишь Алексей Петрович Ермолов дал совершенно точный анализ тому, что произошло тогда на берегах Днепра между Могилевом и Новым Быховом:
«Грубая ошибка Даву была причиною соединения наших армий; иначе никогда, ниже за Москвою, невозможно было ожидать того, и надежда, в крайности не оставляющая, исчезала!
Если бы кто из наших генералов впал в подобную погрешность, его строго осудило бы общее мнение. Маршал Даву, более 10 лет под руководством великого полководца служащий, сотрудник его в знаменитых сражениях, украшавший неоднократно лаврами корону своего владыки, лавры себе снискавший и имя побед в прозвание, сделал то, чего избежали бы, конечно, многие из нас…
Убедитесь посвятившие себя военному ремеслу, а паче звания генерала достигшие, изумитесь, что навык один достоинства военного человека не заменяет, не подчинен правилам, управляем случайностию. Конечно, частое повторение одних и тех же происшествий или сходство в главных обстоятельствах дает некоторую удобность с большею ловкостию и приличием приноравливать или, так сказать, прикладывать употребление прежде в подобных случаях меры; но сколько маловажной надо быть разнице, чтобы приноравливание необходимо подверглось важнейшим изменениям! Убедитесь в истине сего, достигшие звания генерала!
Наполеон в маршалах своих имел отличнейших исполнителей его воли; в присутствии его не было места их ошибкам или они мгновенно им исправляемы были. Даву собственные распоряжения его изобличают».
И все дело в том, — добавили бы мы к сим рассуждениям известного русского полководца, — что Даву, как и многим даже очень прославленным военачальникам с той и другой стороны, недоставало именно «маловажной разницы», чтобы не воспользоваться уже испробованными решениями, а подвергнуть их важнейшим изменениям. Иначе говоря, вместо рутинного, уже оправдавшего себя, но ставшего штампом решения найти новое, неожиданно свежее, в создавшихся условиях только и могущее привести к успеху.
Сия «маловажная разница» и отличала Наполеона от многих полководцев его. Это же качество, изобличающее выдающийся полководческий талант, было главнейшей чертою и Багратиона: в каждом новом сражении оборачиваться новою, неожиданною стороною.
Впрочем, новою стороною, даже для самого себя неожиданною, ему предстояло повернуться теперь не только на поле ратном.
Глава восьмая
Адъютант главнокомандующего Николай Меншиков появился в дверях помещичьего дома, что находился в нескольких верстах от Смоленска:
— Звали, ваше сиятельство?
— Передай, душа, дежурному генералу: корпусным и дивизионным начальникам, а также полковым командирам приготовиться к выезду в Смоленск. Всем как одному быть при полном параде.
— Простите за любопытство: неужто визит к Барклаю? Так вы ж, ваше сиятельство, уже посылали к нему меня! Как я уже давеча вам докладывал, его превосходительство выслушали меня — не дрогнула ни одна жилочка. Физиономия, — смею заметить, удлиненная, как у лошади, — хоть бы намек на радость какую выразила. Словно соединение двух армий — событие каждодневное или, хуже того, — его высокопревосходительству как собаке пятая нога!
Багратион от души рассмеялся:
— Сам придумал или от кого услыхал? Ермолова ты там, при Барклае, не видел? Язычок у него — бритва. Ну да мы с тобою, душа, разве не так полагаем расположенность военного министра к моей персоне и нашей армии? Да не таков, брат, момент, чтобы допускать расчеты честолюбия: кто первым к кому пришел — Магомет к горе или гора к Магомету. Нет, я уж все, что накипело в душе против Барклая, самому государю не в одном письме выложил. Как ни предан я императору, а так и высказал: готов уйти в отставку или надеть солдатскую сумку — только бы сбросить мундир, опозоренный Барклаем… Однако теперь, повторяю, не до выяснения обид. К Смоленску подошли, откуда далее ни он, Барклай, ни я даже на шаг к Москве податься не имеем никакого права! Или Бонапарта здесь разбить, или самим мертвыми лечь… А чтобы так действовать, я на все пойти готов.
В свите — полдюжины генералов, обер- и штаб-офицеры. Блеск эполетов, сверкание крестов и звезд на парадных сюртуках. И вдоль рядов войск, пока мимо скакали, как на смотру, — крики «Ура!» и «Слава Багратиону!». Но кабы только здесь, в своей армии, а то на виду уже самого города Первая армия, высыпав из своих палаток, устроила ему, красе русских войск, такой прием, что румянец смущения залил лицо и сердце забилось учащенно от гордости.
«Да как же, право, с такими орлами да от самой что ни есть границы играть ретираду? — вскинул он голову, обращая свой пылающий взор на вытянувшихся вдоль дороги воинов. — Жизнь свою за государя и за них, русских солдат, отдам. Крови своей не пожалею — каплю за каплей, но более позора не допущу!»
А по рядам, в лад его мыслям, от воина к воину стоусто неслось:
— Князю Багратиону — слава! Веди нас на французов! Ур-ра-а!
На улицах жители — кто махнет рукою, кто, как барышни в окошках, например, платком, а кто, как ватага ребятни, — с гиканьем и свистом вдогон за пышным конвоем. И кто б ни оказался рядом с кавалькадою — у всех выражение радости и надежды, решимости и веры:
— Не отдадут Смоленск! Теперь уж точно. Сам царь повелел: окорот следует дать наглому Бонапарту.
Так летели по городу верхом на конях и встали у губернаторского дома. Багратион, первым соскочив с седла, бросил поводья подбежавшему казаку и стремительно взлетел по ступенькам вверх.
Дом был в один этаж. Потому из вестибюля не следовало никуда подниматься и ни в какую комнату заходить — тот, к кому князь прибыл, сам вышел навстречу.
Михаил Богданович Барклай-де-Толли был фигурою высок и худ, голова удлиненная, почти с полною уже плешивостью. Как и его гость — по торжественному случаю в лентах и орденах, на согнутой руке — шляпа с плюмажем.
В выражении лица, будто это был навсегда застывший слепок, почти ничего не изменилось, лишь едва потеплели серо-голубые глаза, когда он, прихрамывая, двинулся к гостю.
— Мой любезный князь Петр Иванович! Как я счастлив увидеться с вами вновь. И это — после тех неимоверных трудов, что выпали нам обоим и армиям, нами предводительствуемым. Но вот мы — вместе. И если бы вы еще задержались с визитом ко мне всего на четверть часа, я сам был бы у вас. Видите, вышел и уже готов был садиться в седло.
Как и физиономия, речь главнокомандующего Первой армией была бесцветной, лишенной приличествующих случаю интонаций. Напротив, Багратион, протянув руку, проговорил сердечно и горячо:
— Имею честь засвидетельствовать, милостивый государь Михаил Богданович, я всегда был счастлив вас любить и почитать и к вам был расположен как самый ближний. Ныне же — и того более. И я почту себя еще более счастливым, коли мы оба теперь, как воедино соединились наши армии, сольем и наши с вами помыслы и свершения.
— Так вы, князь, выходит, уже наслышаны о том, что государь дал мне право действовать в соответствии с моими собственными усмотрениями? — продолжил военный министр с тем правильным, но слишком уж твердым и жестким выговором слов, коим отличаются люди, хотя и живущие в России, но все же имеющие иностранные корни. — Таким образом его величество развязывает мне руки, предоставляя полную власть для ведения боевых действий.
— Вот то, о чем я мечтал с самого начала войны! — живо отозвался Багратион, когда они оба уже вошли в комнату, служившую, видимо, кабинетом губернатора, а теперь уже Барклая. — Порядок и связь, приличные благоустроенному войску, требуют всегда единоначалия. Тем более — в настоящем времени, когда дело идет о спасении отечества. И — верьте мне — я ни в какую меру не отклонюсь от точного и покорного повиновения тому, кому благоугодно подчинить меня.
— Значит ли это, князь Петр Иванович, что вам угодно, так сказать…
Михаил Богданович не успел закончить начатой фразы, как Багратион произнес с подчеркнутою торжественностью:
— Засим я и спешил к вам, дабы вместе с моею армиею встать под ваше начальство и, начертав совместно с вами общий план решительных действий, тем исполнить волю и пожелание императора!
«Пресвятая Дева Мария! — вдруг промелькнуло в голове Барклая. — И эти слова я слышу от непокорного Багратиона! Нет, сие никак невозможно, наверное, я не так его понял. В самом деле, он, превосходящий меня по старшинству, вверяет собственную персону в мое подчинение? А где же его самолюбие, где то чувство превосходства, что я сам постоянно ощущал, еще не так давно находясь в его непосредственном подчинении? Нет, князь Багратион так просто не поступится своею гордостью. Его ум хитер, изворотлив. Это мне, а не ему, носителю громкой славы, покорно подчинять себя тому, кто волею случая в сей момент оказывается на вершине субординации…»
И вдруг Барклая как обожгло. Будто вражеское железо впилось в его тело, как когда-то под Прейсиш-Эйлау.
«Да, вот она, цена его, Багратионовой, внезапной покорности: не я с сего дня стану над ним по повелению государя императора, а он, Багратион, выражая волю моей и своей армии, повлечет меня за собою в решительный бой с неприятелем! Вот почему он, не тратя ни часа на раздумья, отбросив всяческие расчеты самолюбия, первым прибыл ко мне. Так как же теперь поступить мне? Формально подчинив себе того, кто всегда и во всем меня превосходил, моральной власти коего я панически избегал, ныне, по иронии судьбы, вновь окажется надо мною. О неумолимый рок судьбы! Но нет, я, как всегда, буду непроницаемо тверд. Я не дам себя сломить. Пусть у меня нет такой громкой славы и тех талантов, что имеются у моего нынешнего соперника. Однако у меня — свои добродетели, свои качества человеческой натуры, что всегда оказывали мне неоценимую службу. И которые, в конечном счете, помогли из рядов самых неприметных выйти в ряды первостатейные».
Ни в коей мере Барклай-де-Толли не был существом бездарным и по сему свойству — завистником и карьеристом. Напротив, с младых лет он прослыл весьма одаренным, отменно прилежным и трудолюбивым офицером, обладавшим к тому же душою предельно честной. Однако же и по происхождению своему, и по складу ума и характера не принадлежа к числу людей необыкновенных, с самого начала службы он излишне скромно ценил свои хорошие способности и потому долгое время провел в небольших чинах и в должностях весьма незаметных.
Происходя из небогатого шотландского рода, вступившего в русскую службу еще при Петре Великом, сам Михаил Богданович до возвышения в чины имел состояние весьма ограниченное, скорее даже никакого, отчего должен был смирять свои желания и стеснять потребности. Отсюда и выработался характер воздержанный во всех отношениях, неприхотливый, способный без ропота сносить все недостатки и даже горести.
Пожалуй, отсутствием унаследованных богатств да относительно долгим пребыванием в чинах незаметных они оба, Барклай и Багратион, в определенной степени были схожи друг с другом. Во всем ином они, увы, различались резко обозначенными противоположными качествами, которые, к слову сказать, проявились также в самом начале их уже взявшей разбег карьеры.
Как весьма тонко подметил генерал Ермолов, отлично знавший обоих главнокомандующих, «князя Багратиона счастие в средних степенях сделало известным и на них его не остановило. Война в Италии дала ему быстрый ход. Суворов, гений, покровительствовавший ему, одарил его славой, собрал ему почести, обратившие на него общее внимание. Поощряемые способности внушили доверие к собственным силам.
Барклай-де-Толли, быстро достигнув чина полного генерала, совсем неожиданно звания военного министра и вскоре соедини с ним власть главнокомандующего Первою Западною армиею, возбудил во многих зависть, приобрел недоброжелателей. Неловкий у двора, не расположил к себе людей, близких государю, холодностию в обращении не снискал приязни равных, ни приверженности подчиненных. Между приближенных к нему мало имел людей способных и потому, редко допуская разделять с ним труды его, все думал исполнить самостоятельною деятельностью.
Князь Багратион, на те же высокие назначения возведенный — исключая должности военного министра, — возвысился согласно с мнением и ожиданиями многих в его собственном окружении и при дворе.
Конечно, имел завистников, но менее возбудил врагов. Ума тонкого и гибкого, он сделал при дворе сильные связи. Обязательный и приветливый в обращении, он удерживал равных в хороших отношениях, сохранил расположение прежних приятелей. Обогащенный воинской славой, допускал разделять труды свои, предоставляя содействие каждому. Подчиненный награждался достойно, почитал за счастие служить с ним, всегда его боготворил.
Никто из начальников, — продолжал Ермолов, — не давал менее чувствовать власть свою; никогда подчиненный не повиновался с большею приятностию. Обхождение его очаровательное! Нетрудно воспользоваться его доверенностию, но только в делах, мало ему известных. Во всяком случае, характер его самостоятельный. Недостаток познаний или слабая сторона способностей может быть замечаема только людьми, особенно приближенными к нему.
Если бы Багратион имел хотя бы ту же степень образованности, как Барклай-де-Толли, — завершает Ермолов свое сравнение двух военачальников, — едва ли бы сей последний имел место в сравнении с ним».
Война еще более развела сих мужей, поставленных в самом начале ее как бы в равновесное отношение. Оба были назначены главнокомандующими армиями, стоявшими на направлении главного удара, оба готовились к отражению его. И оба, еще задолго до начала военных действий, приготовлены были к тому, чтобы предвосхитить нападение неприятеля, выдвинув войска ему навстречу, в пределы пограничных государств.
Однако по мере того как Наполеоновы силы приближались к российским пределам и у Багратиона обострялось стремление упредить врага, Барклай все более и более склонялся к характеру войны затяжной, цель которой не решительная схватка на поле боя, а отступление и медленное изматывание противника.
С этим убеждением Барклай и пришел со своею армиею из Витебска в Смоленск. С убеждением и далее отходить в глубь России, заманивая за собою силы нашествия, и, постепенно истощив их, наконец предоставить необъятным пространствам, климату и времени покончить с завоевателями.
Сия доктрина, как известно, была не чужда и Александру Первому, говорившему когда-то французскому послу Коленкуру для передачи Наполеону, что он готов отступать хоть до Камчатки, но мира не заключить.
Меж тем первые пять недель войны, ознаменовавшиеся отступлением двух главных Западных русских армий, возбудили в обществе все возрастающее неприятие такого хода вещей. Все в стране, начиная с солдат и офицеров и кончая обывателями и высшим обществом обеих столиц, были единодушны в требовании положить конец позорному отступлению и дать решительный бой Наполеоновым силам. И требование сие особенно усилилось, когда отступающие войска подошли к Смоленску, с древнейших времен служившему ключом к Москве. Именно здесь, у стен Смоленска — сошлось мнение народное — и следовало дать генеральное сражение.
С мнением народным согласовывалось и пожелание государя предоставить более прав военному министру. Но что крылось за этими словами: «Я полностью развязываю вам руки», — пожалуй, ни сам император, ни кто иной не мог бы точно определить. Александр Павлович, как всегда, сохранял за собою так нравящееся ему положение — быть как бы сразу в двух ликах: не получится одно, так выйдет другое.
Однако Барклай и Багратион были людьми военными, которым в первую очередь потребна ясность и определенность. И посему каждый из них в сем туманном выражении императорской воли увидел то, что желал видеть: Багратион — требование явить наконец-таки волю и остановить вторжение, Барклай — возможность и далее действовать согласно своей убежденности — беречь армии и не дать вражеским силам их разгромить.
Уже на пути к Смоленску Барклай отчетливо мог предположить, что Багратион, по всей видимости, будет склоняться к решительному сражению под стенами этого священного города. Знал: противоборство с князем будет; ему не под силу, поскольку на стороне Багратиона окажется не только его собственная, ни с чем не сравнимая боевая слава, но и решимость всех войск положить предел позорному бегству.
Но как можно было избежать сего противостояния, коли обе армии подходят друг к другу и пред напором требований Багратиона вряд ли имелась какая-либо возможность устоять?
И все же военный министр не лишил себя соблазна отложить уже неминуемое соединение, дабы избежать пагубной, по его мнению, схватки с неприятелем.
— Поскольку соединение армий уже не подвержено ни малейшему затруднению, — объявил он неожиданно своему начальнику штаба генералу Ермолову, — полезнее, на мой взгляд, предоставить Второй армии и далее действовать по особенному направлению. Я имею в виду назначить ей операционную линию на Москву. Нашей же Первой армии следовать также самостоятельно в направлении к северу от истоков Волги и вверх по Двине. Сие окажется разумным и потому еще, что в одном месте для двух армий может оказаться недостаточно продовольствия.
Предложение это прозвучало настолько неожиданно и неблагоразумно, что Ермолов тут же с горячностью возразил:
— Простите, ваше высокопревосходительство, однако, насколько мне известно, государь император от соединения армий ожидает успехов и восстановления наших дел. Соединения этого желают с самым крайним нетерпением и все войска. К чему ж послужили Второй армии перенесенные ею труды, преодоленные опасности, когда вы теперь повергаете ее в то же положение, из которого она вырвалась сверх всякого ожидания?
Начальник штаба понимал, что его покидает чинопочитание и покорность, свойственные каждому подчиненному. Но он не мог не ужаснуться тому, что произойдет, если военный министр осуществит то, что пришло ему теперь в голову.
— Ваше высокопревосходительство, новое разделение армий и предлагаемый вами наш отход вверх по Двине в северные области России выгодны лишь не;-приятелю, — продолжил свою мысль Ермолов. — Наполеон, соединив свои силы, уничтожит слабую Вторую армию. Нашу же Первую армию отдалит навсегда от центральных губерний и от содействия прочим армиям. Подумайте еще раз, Михаил Богданович, и спросите себя: разве посмеете вы это сделать?
Барклай выслушал своего подчиненного с великодушным терпением. Однако было видно, каких усилий стоило ему подавить раздражение, возникшее в нем в связи с предстоящею встречей с Багратионом. И сие раздражение лишь возросло, когда у Смоленска появились первые полки Второй армии.
Различие между обеими армиями тотчас бросалось в глаза каждому, кому посчастливилось в те дни видеть солдат, уже пришедших с Барклаем, и воинов, что вел за собою Багратион. Радость царила и тут и там. Однако этим и ограничивалось их сходство.
Первая армия, утомленная отступлением, начала роптать и допустила беспорядки, признаки упадка дисциплины. Начальники ее частей и соединений охладели к главной своей цели, нижние чины колебались в доверенности своим командирам.
Напротив, Вторая армия явилась совершенно в ином духе, как отмечали свидетели того достопамятного события. Звуки неумолкающей музыки, не перестающих звучать повсюду песен оживляли молодецкую бодрость ее воинов. Исчезли следы понесенных трудов, видна стала гордость каждого за преодоленные им опасности и готовность к превозможению новых. Словно это не они, солдаты и офицеры Багратиона, в течение целых пяти недель находились в постоянном противоборстве с двумя французскими армиями, намного превосходившими их числом. И будто бы не они, не имея и нескольких часов для отдыха, шли иногда по сорок и более верст в сутки средь лесных буреломов и болотных топей, по сыпучим пескам хвойных боров, к тому же везя с собою раненых и больных, ведя пленных, сохраняя в порядке имущество и обозы.
Различие имело и внутреннюю причину. Во все дни похода Первая армия надеялась на себя и на русского Бога, Вторая же, сверх того, — и на князя Багратиона. Это он со своею орлиною наружностью, — передавали современники, — веселым видом, метким для солдат словом, с готовой уже славой одним лишь своим присутствием воспламенял солдат, вселяя в них недюжинную силу и веру в неминуемую победу.
Итак, все свершилось, как хотели сего обе главные русские армии. И — вопреки тем внутренним желаниям, кои теснились в душе военного министра, и, несмотря на повеление царя, нисколько не развязывали, а, напротив, еще более спеленывали ему руки.
Потому, сидя за столом супротив своего товарища и соперника, коим теперь он как бы мог повелевать, Барклай тем не менее ощущал себя обезоруженным и взятым в полон.
В большом зале губернаторского дома генералы и высшие офицеры обеих армий ожидали, чем окончится свидание главнокомандующих. Старались говорить негромко, постоянно бросая взоры на двери кабинета, за которыми укрылись те, от которых теперь зависело, быть ли долгожданному сражению, которое должно непременно переломить ход войны. Но зрело и опасение; не переломит ли его высокопревосходительство решимости князя?
Шум и гомон голосов смолк разом, когда пред столпившимися в зале появился начальник штаба Первой Западной армии. Генерал-майор Ермолов был широкоплеч, Геркулесова телосложения. Волосы, лежавшие на крупной голове непокорной львиной гривой, подчеркивали его могучую силу. И лишь серые, с голубизною, глаза на, казалось бы, грубо отесанном лице его выдавали в нем человека, в коем билась чистая и нежная душа, умеющая высоко и по достоинству ценить верность и дружескую привязанность.
— Господа, прошу вашего внимания, — генерал обратился к находящимся в зале. — Господа главнокомандующие уполномочили меня сообщить вам, что они только что пришли к согласию. Согласие сие означает: быть Смоленскому сражению!
Возгласы «ура» и «слава» заполнили все пространство губернаторского дома, чрез открытые окна вырвавшись и на близлежащие городские улицы.
Сражение еще было впереди, но Багратион чувствовал себя так, словно он уже выиграл предстоящую битву. Он, все время помышлявший о прекращении отступления, со всею своею колоссальною энергией навалившись на Барклая, вынудил того согласиться на наступление. Это и было его победой.
И хотя окончательный приказ теперь, на военном совете объединившихся армий, обязан был утверждать Барклай, все в штабах знали: дух решения будет Багратионов.
Как же мыслилось наступление и какова была расстановка неприятельских сил на подступах к Смоленску? Достоверно было известно, что небольшое количество французской конницы находится в Поречье. В Велиже и Сураже их значительно больше, а далее этих населенных пунктов размещается со всеми своими силами Неаполитанский король Мюрат.
Южнее этих соединений, по направлению к Орше, из Могилева медленно подбирается Даву. А главная Наполеонова квартира все еще в Витебске, где размещена вся императорская гвардия и парк многочисленной резервной артиллерии.
— Как ваше сиятельство изволит видеть, неприятельские войска рассеяны на большом пространстве. — Ермолов охотно знакомил Багратиона с самыми последними данными разведки. — Более того, успокоенные нашим бездействием и в надежде на продолжительное наше отдохновение, силы сии и сами находятся как бы в бездействии. Но стоит французам узнать о нашем движении, они тотчас снимутся с места, дабы пойти нам навстречу. Однако для того чтобы собрать все свои силы там, где мы их атакуем, противнику потребуется никак не менее трех дней.
— Три целых дня, говоришь? — воскликнул Багратион. — Так нам более и не требуется! Быстрый удар вдоль Руднянской дороги — и успех обеспечен! Много мы можем здесь положить и пехоты Даву, и кавалерии Мюрата, коли прищучим их порознь. А тогда и сам Бонапарт нам не страшен. Пусть сунется! Получит по морде, как и его маршалы. Только бы твой, Алексей, Даву не выкинул какого-либо подвоха в самый серьезный момент.
Ермолов сразу не сообразил, о каком «его Даву» говорил князь Петр Иванович, пока тот не пригладил на своей голове шевелюру, изображая как бы голый череп.
— Ха-ха-ха! — от души рассмеялся Алексей Петрович — и уже серьезно: — Он же вам, Петр Иванович, слово дал — не сдавать Смоленска!
— Эка чем он прикрылся — словом! — произнес в ответ Багратион. — Ныне, Алексей, не слова — дела все решают. А слов я от него, твоего Даву, не токмо устных, но и письменных наполучал такую гору, что указаниями теми несколько комнат можно оклеить заместо обоев. Как в человеке слабое место зовется?
— Ахиллесова пята? — подсказал Ермолов.
— Вот-вот, она самая, — подхватил Багратион. — А у твоего Даву она состоит в том, что никакой он не то чтобы полководец, но даже и генерал никудышный. Помнишь Прейсиш-Эйлау? Ничего не скажу худого о нем в тех боях — и храбр бывал, и умел стоять насмерть. Так это же он мои указания исполнял! А вот какие команды найдет он теперь для меня и других генералов, в том имею сомнение. Тут решение надо искать не для себя одного. Не задрожат ли поджилки? Вот почему эти твои три дня никак у меня из головы не выходят. Потеряй мы их — и успех будет вырван прямо из рук!
— Три дня тоже, выходит, как ахиллесова пята? Только уже для наших армий, — повторил Ермолов. — Да, дорогой Петр Иванович, вы в корень глядите: бить Наполеона надобно его же методой — напор, натиск, внезапность!
— Верно, Алеша! Только прими, штабист, одну к сей сентенции поправку: то не Бонапартова — Суворова метода. Он еще до французов ее в наши головы вбивал, да находились такие твердолобые, что от них — как от стенки горох. Теперь вот спохватились — у Наполеона принялись науку перенимать. Да только мне, к примеру, она еще с Италии известна. А вот Барклай, чаю, ее никогда не усвоит. Так что следи за ним, Алексей, не дай загубить верно нами задуманное.
В ночь на двадцать шестое июля обе армии выступили из Смоленска. Первая армия двумя колоннами двигалась в направлении Рудни. Колонна же Багратионовых войск перешла на правую сторону Днепра и вдоль берега пошла к селу Катынь.
Войска двигались всю ночь. Погода зарядила еще с вечера на редкость дождливая, с порывами злого ветра. Но то как бы и ободряло.
— Подтянемся к обозначенным рубежам скрытыми непогодью и тогда наверняка одолеем неприятеля! — резонно рассуждали солдаты, готовые ради предстоящей победы перенести любые тяготы и лишения.
Меж тем двадцать седьмого числа, когда до Рудни оставался всего один переход, Первая армия внезапно остановила свое движение. На все запросы Багратиона, почему сне произошло, он не получил вразумительного ответа. Одно он понял из записок. Барклая, посланных к нему: «Следует соблюдать осторожность!» Неприятель, кажется, скопился в Рудне, сообщал далее Барклай, потому он дал армии приказ перейти на дорогу, ведущую к Поречью.
Что же заставило главнокомандующего в одночасье единолично переменить сообща разработанный план и, по существу, сорвать наступление?
В тот день, когда Багратион узнал о внезапной остановке колонн Первой армии и кардинальном изменении ее движения, пришло и другое сообщение. Корпус Платова, шедший в авангарде Барклаевых войск, у деревни Молево Болото встретил сильный отряд французской конницы и разбил его. Тут подоспели кавалеристы Палена, и оба генерала гнали остатки неприятеля до самой Рудни.
В плен было взято пятьсот человек, среди которых, кроме нижних чинов, оказалось несколько офицеров и один полковник. Последний, кстати, показал, что они принадлежат к дивизии генерала Себастиани, которая, увы, теперь почти полностью разбита. А впереди находится авангард маршала Нея, который, как я дивизия Себастиани, ничего не знает о движении в их направлении русских сил.
Так как же можно было при таком счастливом стечении обстоятельств вовсе остановить движение войск, а не бросить их ускоренным маршем к Платову и Палену, чтобы развить так удачно начавшееся наступление?
«Барклай трус и подлец! — вскипел Багратион. — И как только угораздило меня поверить сему изменнику? Хорош и Алешка Ермолов — обещал уследить за сим мерзавцем, неужто теперь с ним заодно?»
Пылая гневом, Багратион написал начальнику штаба резкую записку, в коей требовал объяснений. Ответ еще более поразил. Оказалось, только начав свой марш, Барклай отдал распоряжение: движение к Рудне продолжать лишь на три перехода; коль скоро неприятель на сем пространстве не обнаружится, марш вовсе прекратить.
«За что сии упреки на меня? — жаловался в своем ответе Ермолов. — Не я ли при первом же известии о нападении на Рудню убеждал употребить возможную скорость? Нет, не забуду я странного намерения начальника моего отменить атаку на Рудню. И невозможно мне постигнуть причину, которая заставила главнокомандующего предпочесть действия армии со стороны Поречья… Было ли намерение искать противника, чтобы дать сражение… Теперь что ж — время упущено».
Нет, потеряно было не три дня, о коих совсем недавно беспокоился Багратион. Первая армия, отойдя в селение Мощинки, что в восемнадцати верстах от Смоленска, на дороге в Поречье, простояла там в полном бездействии целых четыре дня! Багратиону же было велено перейти на место Первой армии. Мало того, что и ее Барклай удалил от рубежей, назначенных для атаки, он велел ей находиться в деревнях, где все запасы продовольствия и воды уже были полностью использованы остановившимися здесь полками Первой армии.
Итак, псу под хвост все сроки, все приготовления и все клятвенные слова! Четыре без толку потерянных дня не принесли победы. Зато они принесли с собою угрозу не только потери Смоленска, но и нового расчленения и окружения русской армии.
Второго июля Наполеон, предоставив накануне десятидневный отдых своим войскам, переправился через Днепр на левый берег и повел наступление через город Красный. То был как раз самый коварный удар — захватить Смоленск и отрезать обе русские армии от сообщения с Москвой.
На пути Наполеона оказался всего лишь восьмитысячный отряд дивизии Неверовского. Его предусмотрительно оставил у Красного Багратион, зная, что для французов это самое удобное направление к Смоленску. И слава Богу, что предусмотрительность не обманула Багратиона! Но что могла сделать теперь неполная дивизия, когда так бездарно сорвались атаки двух наших армий и колонны французских войск, не встретив никакого сопротивления, всею своею неистраченною мощью ринулись вперед?
На храбрецов Неверовского бросился двадцатитысячный кавалерийский корпус Мюрата. Но первые же атаки кончились неудачей. Русские воины, как вспоминали потом французы, оказались будто вкопанными в землю: не сходя с места, они с двадцати шагов встретили лавину кавалерии убийственным огнем. И когда Мюрат обошел их с тыла и захватил всю артиллерию, остатки солдат построились в каре и, отвечая огнем на наскоки конницы, начали отход по большаку.
От дивизии, когда она пришла в Смоленск, осталась всего одна шестая ее часть. И когда Мюрат доложил Наполеону, что в Красном он отбил у Неверовского семь пушек, император с раздражением заметил:
— Вы, Неаполитанский король, были обязаны доложить мне уже о взятии Смоленска, а вы не сумели уничтожить одну дивизию и докладываете о каких-то несчастных пушках! Смоленск должен быть немедленно взят — там лишь горстка фанатиков, которых вы упустили.
Ближе всех к Смоленску находился корпус Раевского, и Багратион послал ему приказ спешить в город. «Дорогой мой, я не иду, а бегу, желал бы иметь крылья, чтобы скорее соединиться с тобою!» — написал он Раевскому, сам изо всех сил стараясь подоспеть на помощь городу, уже почти окруженному неприятелем.
Штурм Смоленска был назначен на четвертое июля. Воины Раевского отражали натиск в течение всего дня, не отступив ни на шаг, не сдав ни одного городского предместья. К вечеру, когда подошли Передовые части Второй армии, корпус Раевского сменил корпус Дохтурова. Сражение возобновилось с новой решимостью. То здесь, то там вспыхивали пожары, и вскоре весь город оказался объят пламенем. Но защитники его, расположившись на крепостных стенах, отбивали одну атаку за другою.
Более всего потерь несли польские войска. Князь Понятовский, оскорбленный тем, что Наполеон не внял его жалобам по поводу бездарности Вестфальского короля, теперь всею силою старался доказать любовь и преданность французскому императору. Тем более что для сего был прямой повод — день рождения Наполеона. Однако подарок к сему памятному дню не давался в руки: смоленская крепость стояла как неприступная скала.
— Еще день такой обороны, и Наполеон окажется в мешке. Он потеряет свою армию, даю слово! — убеждал Багратион главнокомандующего. — Я переведу свою армию за Днепр и атакую оттуда неприятеля.
— Нет, мы отступим, ваше сиятельство, — твердо возразил Барклай. — Извольте повиноваться.
— Так зачем же?.. — воскликнул Багратион в ярости. — Зачем же, ваше высокопревосходительство, было все: и наши марши к Рудне, а потом назад, и приход наших армий к Смоленску, и геройство воинов Неверовского, Раевского и Дохтурова? Зачем все сие — чтобы сдать город неприятелю?
— Выражайтесь, князь, точнее: оставить. И не город уже — развалины и пожарища. Я не так щедр по отношению к Наполеону, как его маршалы. Я не преподнесу ему подарка, которого он от меня ждет, — генерального сражения за город.
— То дань не ему — России! — вскричал Багратион. — Неужто вы и впрямь ничуть не помышляете об успехе нашем всеобщем? Иль вам радостно от того, что успехи ныне — на стороне противника?
Вытянутое лицо Барклая покрылось пятнами. Что он сумел сделать, оказавшись как бы в столбняке, это поднести покалеченную когда-то в Пруссии правую руку ко лбу и прикрыть ладонью глаза.
«Вы дерзки и глупы. Вы дурак! — хотелось ему произнести вслух. — И дурак не потому, что ничего не смыслите в военном деле, а потому что посмели отнять у меня то единственное святое, во что я верю и во имя чего живу: мою честь и мою преданность государю и отечеству. И как вы только посмели?»
В глазах Багратиона стало темно. И он провел рукою по воспаленному лбу и сделал два шага назад.
«Отнять команду у Барклая я не могу. Нет на то воли государя. Хотя разве императору не известно, что у нас происходит? — промелькнуло в голове Багратиона. — Тогда доколе терпеть такое? Больно, грустно, и вся армия в отчаянии».
Глава девятая
По большой Смоленской дороге, вздымая над собою густые клубы пыли, нескончаемым потоком на восток двигались русские, а следом за ними — наполеоновские войска. Они все дальше и дальше устремлялись в глубину России, с каждым днем и каждым часом приближаясь к ее древней столице — Москве.
А из Санкт-Петербурга, новой столицы империи, в эту же самую пору происходило иное движение, и в ином, прямо противоположном направлении. То по гладкому, ухоженному тракту, обрамленному с обеих сторон густым хвойным лесом, спешил к городу Або, расположенному на самой западной оконечности Финляндии, пышный царский поезд. Впереди и позади поезда мчался конвой, состоящий из казаков и гвардейцев-кавалергардов, а в каретах, блистающих лаком и позолотой, ехали русский император, министр иностранных дел, свита генералов и флигель-адъютантов.
Чуть более двух лет назад Александр Первый уже имел честь проезжать этой дорогою. Тогда от самой границы до Ботнического залива здесь стояли его дивизии и полки, только что очистившие от неприятельских сил все южное финское побережье. Оставалось лишь пройти по льду залива, чтобы принудить давнюю соперницу Швецию признать себя полностью побежденной.
Из северной части Финляндии в беспримерный ледовый поход устремились корпуса Барклая-де-Толли и Каменского-второго. Здесь же, с южного побережья, самым кратчайшим и в то же время самым опасным путем, имеющим целью взятие Аландских островов и достижение шведской столицы, вел свой корпус Багратион.
Поход увенчался значительным успехом: был освобожден Аландский архипелаг и русские воины оказались на шведских берегах, в какой-нибудь сотне верст от Стокгольма. Но не менее важное, к чему стремился в той войне Александр Первый, — был низложен шведский король Густав Четвертый Адольф. Трон занял Карл Тринадцатый, подписавший мирный договор с Россией, по которому Швеция уступила державе-победительнице всю Финляндию, а также Аландские острова.
Летом 1810 года Швеция неожиданным образом напомнила о себе, заставив русского императора не на шутку забеспокоиться. Дело в том, что внезапно скончался наследник шведского престола, а у престарелого короля не оказалось собственных детей. Кто унаследует трон? От этого зависела политика государства, на протяжении целого столетия соперничавшего с Россией на поле брани и наконец потерпевшего решительное поражение в только что закончившейся войне;; И совсем уж пришел в замешательство Петербург, когда получилось известие, что шведы обратились к одному из Наполеоновых маршалов — Бернадоту с предложением дать свое согласие на избрание наследным принцем, иными словами — будущим королем.
— Тревога была не напрасной. Многие в шведском обществе, особенно военные, не могли смириться с потерей Финляндии и Аландов. Потому, приглашая на трон маршала Франции, шведы, безусловно, рассчитывали с его помощью и при поддержке Наполеона добиться реванша. А в том, что между французами и русскими очень скоро разразится война, сомнений не было. С кем же, как не с Францией, окажется тогда Швеция?
Однако ни в Швеции, ни в России не знали, что между Жаном Батистом Бернадотом и Наполеоном давно уже утеряно взаимопонимание. И они, некогда соратники, стали врагами, которые не могли терпеть друг друга.
О неприязни Бернадота к Наполеону хорошо было ведомо русскому военному атташе в Париже полковнику Чернышеву. Посему он не замедлил войти в дружеские отношения с маршалом, оказавшимся вдруг в опале. Маршал был на редкость словоохотлив. К тому же догадывался о том, что могло интересовать агента русского императора, и в душе торжествовал, зная, чем может насолить тому, с кем вместе когда-то начинал военную карьеру.
Шведский король, потеряв своего наследника, обратился ко всемогущему французскому императору: не посоветует ли он, кого следовало бы избрать в качестве нового кронпринца? Наполеон сделал вид, что не намерен вмешиваться во внутренние дела чужой державы. Но в то же время сразу же обратился сначала к пасынку — вице-королю Италии Евгению Богарне, затем к брату — Вестфальскому королю Жерому с предложением занять шведский трон. Оба отказались, и Наполеон отвернулся от скандинавских дел. К тому же он не хотел, чтобы о том узнал русский царь и внес осложнения в и без того натянутые их отношения.
Однако «французский след» тут же переняла у своего короля шведская военная партия и прислала к Бернадоту своего ходатая. Все дело в том, что шведы помнили этого французского маршала по войне 1809 года. Тогда ему предстояло поддержать русских своим наступлением с германского побережья. Но высаживаться в Швеции Бернадот не спешил. К пленным же шведам проявлял самое заботливое отношение. И о нем, как в это же время о русском генерале Кульневе, молниеносно распространилась молва как о бесконечно порядочном человеке. Сие и припомнилось офицерам, когда они, независимо от своего короля, решились сделать свой выбор.
Чернышев оказался первым, кому Бернадот сообщил о сделанном ему предложении.
— Буду с вами говорить не как французский генерал, а как ваш друг и друг России, — начал маршал. — Для нас с вами не секрет, что Наполеон принял решение начать войну с вашей страной. Причем под ружье он готов поставить всю Европу. И вам в таком случае небезразлично, с кем окажется ваша северная соседка — Швеция. Вот почему в выборе кронпринца, чем обеспокоены сейчас шведы, вашему императору следует поддержать того, кто окажется истинным другом России.
Чернышев насторожился, поскольку знал уже о визите шведов к Бернадоту. Так неужели на него пал выбор?
Бернадот с гордостью подтвердил: он дал согласие. Но пока в Париже об этом не знает и не должна знать ни одна душа. И особенно Наполеон.
— Вам же, мой друг, я сообщил свою тайну для того, чтобы вы как можно быстрее утвердили вашего императора в моих самых лучших чувствах к его величеству и вашей стране.
Признаться, Александру было нелегко сразу поверить в искренность уверений Бернадота, который в войнах против России был одним из главных сподвижников Наполеона. Не ловушка ли это? Убаюканная уверениями Россия не возразит, и «Троянский конь» — вот он, у самых ворот Санкт-Петербурга! Однако Чернышев уверил: Россия и в самом деле может обрести верного и надежного союзника. И потому с Бернадотом завязалась секретная переписка. А когда он, к немалому неудовольствию Наполеона, оказался уже в стокгольмском дворце, к нему с тайною миссией прибыл Чернышев.
По сути дела, вся власть сразу же оказалась в руках нового наследного принца. Король был немощен и стар и вручил бразды правления своему наследнику, как только его избрал парламент страны. Королю было довольно неприятностей со своим племянником Густавом-Адольфом. А пуще всего он боялся новых напастей, которые могли бы опять потрясти и его, и всю страну. Так пусть уж на свои плечи взвалит все предстоящие заботы этот, прости Господи, французский капрал!
Тайные связи Санкт-Петербурга со Стокгольмом уже в апреле 1812 года завершились заключением союзного договора, по которому Швеция так и не вступила в войну на стороне Франции. Теперь, в августе того же года, в самый разгар схватки с Наполеоном, Александр Первый спешил в финский город Або, чтобы лично встретиться с бывшим маршалом Бернадотом, принявшим отныне роль наследника шведского престола под именем Карла-Юхана.
Яхта шведского наследного принца под ярко-желтым флагом с синим крестом подошла к главному, по-праздничному украшенному причалу. Карл-Юхан, легко сбежав с трапа, протянул руку российскому императору:
— Государь, брат мой и кузен! Сегодня исполнилось мое самое Сокровенное желание — я встретился с вами, императором дружественной и великой России. Я безмерно счастлив увидеть человека, который с первых дней моей новой судьбы оказал мне сердечное доверие и самое заинтересованное участие.
Кроткая улыбка не сходила с лица Александра Павловича, пока лилась речь принца, которой, казалось, не будет предела. Наконец он уловил паузу в словоизлияниях «кузена и брата» и, продолжая излучать великодушие и доброту, произнес:
— Господин кузен мой! Приветствуя вас как наследного принца, позвольте мне обратиться к вам как к человеку, обладающему выдающимися талантами, характером и принципами. С юных лет я научился ценить более человека, а не титулы. Поэтому мне будет лестно, если отныне отношения, которые установятся между нами, станут носить характер отношений человека с человеком, а не только монархов. Всею душою я хочу быть вашим другом.
— Ваше величество! С этим желанием и я ступаю на землю державы, которой вы предводительствуете. Так позвольте мне раскрыть вам свои объятия!
Они обнялись. Карл-Юхан, на редкость стройный, живой и подвижный, как все южане, несмотря на свой почти пятидесятилетний возраст, был само воплощение неизбывной юношеской энергии и открытости. Только что обняв государя, он вдруг нашел глазами Чернышева и сделал шаг ему навстречу.
— Разрешите теперь мне, ваше величество, приветствовать человека, который — не побоюсь громкой фразы — оказался первым, что соединил наши сердца. — И с этими словами бывший Жан Бернадот расцеловал Чернышева.
«Господи, какой же контраст: чопорная, исполненная всех правил дипломатического этикета свита принца — и он сам, типичный гасконец!» — подумал Николай Петрович Румянцев после того, как и его, министра иностранных дел, чуть ли не облобызал пылкий наследник шведского трона.
Переговоры начались тотчас, как только оба августейших гостя обосновались в доме бургомистра, отведенном под их свидание.
— Если мне будет позволено вашим величеством высказать свое мнение о начале войны, — повел беседу с глазу на глаз бывший маршал, — Наполеон предпринял весьма рискованный переход возле Ковно. Когда бы у вашего величества было под рукою хотя бы двухсоттысячное войско, вы смогли бы успешно атаковать неприятеля, зайти ему в тыл, перехватить обозы и отбросить французские войска с невосполнимыми потерями назад, за Неман.
Как можно было еще мягче сказать о губительном просчете русских, которые, расположив свои армии у границы, отдалили их друг от друга на такое расстояние, что в нужный момент не смогли соединить их для удара по французам?
— У меня — храбрые солдаты, но никуда не годные генералы, — неожиданно сказал царь.
— О, что касается ваших солдат, это истинная правда! — воскликнул Карл-Юхан. — Я знаю их по Аустерлицу, Прейсиш-Эйлау и Фридланду. Во всех этих сражениях они дрались как львы, проявляя поразительное мужество и отвагу.
— Вот видите, — продолжал свою мысль Александр, — справедливость ваших слов только укрепляет меня в моей вере в русского солдата. Какие же поистине громкие победы могло одержать мое воинство, если бы во главе его оказался такой одареннейший полководец, как ваше королевское высочество!
В самом начале войны Александр неожиданно предложил бывшему маршалу Бернадоту встать во главе всех русских войск. Карл-Юхан вежливо отклонил лестное предложение. Однако сейчас при упоминания его полководческих достоинств наследный принц вновь проникся гордостью. Черты бога войны Марса мгновенно отобразились во всем облике принца — плечи стали шире, руки напряглись, словно уже держали палаш, взор воспламенился огнем.
— Еще в период консульства Бонапарта обо мне, как о лучшем военачальнике, говорил весь Париж, — без ложной скромности согласился с похвалой бывший маршал. — Скажу вашему величеству также по секрету: ревность императора к моей воинской славе явилась одною из главных причин, чтобы от меня избавиться. Но вернемся, ваше величество, к русским военачальникам. Самую правдивую характеристику любому генералу в состоянии дать лишь противник, с коим он не раз встречался на поле боя. Сие подтверждают и ваши слова о моих несомненных талантах полководца. Вы их оценили, простите, как, скажем, мой бывший противник. Подобным образом я имею полное право высоко отметить способности и некоторых русских генералов. Их таланты я сам познал в сражениях с ними.
— И кого же ваше величество имеет в виду? — осведомился царь.
— В первую очередь Багратиона! — восторженно произнес наследный принц. — Ведь это же он брал город, в коем мы имеем счастье теперь пребывать. И отсюда, из Або, он выступил в свой беспримерный ледовый поход. О, этот генерал не только человек бесподобного мужества, но и величайший мастер вести авангардные и арьергардные бои. Поверьте, вам об этом говорит генерал, который сам является мастером атаки. И все же в Пруссии Багратион, признаюсь, не раз вынуждал меня становиться в тупик от его молниеносных и непредсказуемых действий. Конечно, в итоге мы, французы, брали верх, но всегда приятно, когда имеешь дело с достойным соперником.
«Хм, Багратион! — насторожился царь. — Я и сам знаю цену князю. Слава его велика и действительно неоспорима. Полагаю, что многие в России восприняли бы как должное, назначь я в канун войны главнокомандующим всех моих войск князя Багратиона. И его план начала боевых действий, представленный мне, совпал с тем, о чем сказал мне теперь Карл-Юхан: собрать двести тысяч под ружье и отбросить Наполеоново нашествие за Неман. Князь Багратион предлагал и более успешное решение: упредить Бонапарта еще до подхода к границам моей империи. Но что вышло бы, коли и впрямь облечил я Багратиона самою высокою воинскою властью? Горяч, самоуправен… И разве не заносчив, как этот бывший генерал, что сидит сейчас предо мною? Ох, нелегкий это удел — наделять других властью! На Барклае как я обжегся! Сей полководец за собою французов к Москве уж привел. Багратион бы не дал ему совершиться — сам скорее лег бы костьми. А ежели бы и всю армию рядом с собою положил? Кому отвечать тогда? Мне, государю! А мне бы народ не простил».
В памяти встало, как родная сестра Екатерина в самом начале войны умоляла его, государя, уехать из армии, дабы не брать на себя ответственности.
«Если я хотела выгнать вас из армии, как вы говорите, то вот почему, — писала она ему. — Конечно, я считаю вас таким же способным, как ваши генералы, но вам нужно играть роль не только полководца, но и правителя. Если кто-нибудь из них дурно будет делать свое дело, его ждут наказание и порицание, а если вы сделаете ошибку, все обрушится на вас, будет уничтожена вера в того, кто, являясь единственным распорядителем судеб империи, должен быть опорой…»
Не хотелось, но вынужден был признать: «Как всегда, умница сестра была права. Знала она, кому следовало из всех генералов отдать предпочтение. И не раз вслух произносила сие имя: князь Багратион. Однако хорошо, что я не облечил сам, своею волей, никого из своих генералов единоличною властию: не они, а все едино я сам отвечал бы за поражение. И мне не снести б головы! Слава Господу, что я и теперь, в страшный для России час, не сам единолично определил того, кому стоять во главе войска. Я только сделал вид, что готов уступить выбору общества: хотите Кутузова — воля ваша, я ж умываю руки».
В тот самый день, когда русские армии оставляли Смоленск, император Александр поручил комитету, специально составленному им из высших государственных сановников, определить, кого назначить единым главнокомандующим. Выбирать предстояло из следующих генералов — Беннигсена, Багратиона, Тормасова и Кутузова. Комитет заседал почти до полуночи, всесторонне обсуждая каждого кандидата. Сановники были убеждены, что назначение должно быть основано на известных опытах в военном искусстве, на доверии общем, а равно и на старшинстве.
Сим требованиям наиболее соответствовал самый почтенный по возрасту и по служебному старшинству шестидесятисемилетний Кутузов. Генералом он стал в 1784 году, когда многие из тех, кто были его соперниками, в том числе и Багратион, только начинали свою воинскую службу. Он участвовал не в одном десятке походов, осад, сражений, штурмов крепостей, особенно в знаменитом штурме Измаила, где он командовал у Суворова левым крылом. О некогда доблестной его молодости свидетельствовали его раны. Голова его дважды была прострелена так, что доктора не могли поручиться за его жизнь. Но он выжил, потеряв в двадцать семь лет правый глаз.
Меж тем члены комитета знали, что Александр до сих пор не может простить Михаилу Илларионовичу поражение; при Аустерлице. Незавидной была и его последующая служба, включая и ту должность, что занимал он теперь: начальник петербургского ополчения.
Одно лишь дело свершил он успешно пред самым началом войны — заключил мир с Турциею. Но здесь сказался, скорее, не его полководческий талант, а способности дипломата. Ланжерон, который служил в Молдавской армии много лет, так отзывался о своем последнем командующем: «Кутузов уехал, он нас растрогал при отъезде. Он был очень любезен и очень тронут. Пусть Господь даст ему фельдмаршальский жезл, покой, тридцать женщин и пусть не дает ему армию».
Фельдмаршальский жезл Кутузов получит после Бородина. Теперь же, отмечая заслугу старого генерала в заключении турецкого мира, царь возведет его в княжеское достоинство с титулом светлости. Но, словно в согласии с Ланжероном, не решится дать ему армии. А когда на том настоят члены комитета, лишь согласится с их мнением, облегченно в то же время вздохнув: «Не моя, а ваша воля, господа…»
И теперь, говоря с глазу на глаз будущему шведскому королю о том, что у него, императора России, хорошие солдаты, но плохие генералы, царь продолжал так думать не в последнюю очередь в связи с только что состоявшимся назначением Кутузова.
Однако вслух он не стал более об этом говорить. Мысли императора были заняты уже другим: как все же склонить Швецию к активному участию в войне против Франции?
— Что ж, ваше величество, — продолжил между тем Карл-Юхан, — не судьба была остановить Наполеоново нашествие в самом начале, следует поощрить тот метод ведения боевых действий, что будет способствовать изматыванию врага. И тут, мне кажется, Багратион преуспел показать нам, как следует, даже отступая, наносить противнику серьезный урон. Разве сие не доблесть — вывести армию из окружения, которое готовил ему Даву! А оборона Смоленска! Поверьте мне, ваше величество, еще два-три таких успеха, и Наполеон побежит прочь из пределов России. И тогда вы начнете бить его вдогон. А война перейдет уже в страны Европы и покатится вслед за Бонапартом до самого Парижа. Тогда придет-таки конец узурпатору!
— Так почему бы вам не свести счеты с тем, кто был некогда вашим соперником? — спросил Александр. — Если вы не приняли некогда предложения взять главное командование над всеми моими войсками, я мог бы вам предложить начальство над специальным корпусом. Я выделю вам, к примеру, десять тысяч солдат, и вы, прибавив к ним свои шведские силы, двинетесь с ними в Германию.
— Я готов скрестить шпагу с тем, кого ненавижу всею своею душою! — воскликнул бывший маршал Бернадот. — Но Швеция ждет: что даст нам Россия, какие выгоды получит моя страна от тесного союза с восточным соседом?
«Так я и подумал, — сказал себе Александр Павлович. — У каждого свои цели в сей войне».
— Некоторое время назад, ваше величество, моя жена, наследная принцесса Дезире, возвратилась из Парижа, где она, как обычно летом, проводит время на курортах в обществе своей сестры — испанской королевы, — продолжил Карл-Юхан. — И что же, вы думаете, там произошло? Наполеон подослал к ней своего министра иностранных дел Маре. Ваше величество хотел бы узнать, с какою целью? Чтобы через мою Супругу передать мне условия французского императора: если я выставлю для войны с Россией тридцать тысяч солдат и двину их на Петербург, он возвратит нам Финляндию, откроет все порты континента для шведских торговых судов и предоставит нам кредит в двадцать миллионов франков.
Карл-Юхан глянул, какое впечатление произвело на его собеседника это сообщение, и с пафосом закончил:
— Смею напомнить вашему величеству, как погиб древнегреческий герой Геракл. Он, как вы знаете, был умерщвлен тем, что позволил надеть на себя рубашку, пропитанную отравленною кровью кентавра Несса. Так вот, все разговоры о возвращении Финляндии для меня такая же западня, как сорочка Несса. Чтобы сохранить эти заморские владения, где в обществе вашего величества я изволю теперь пребывать в качестве вашего гостя, моим шведам пришлось бы каждые десять лет возобновлять жестокие битвы с вашей великой Империей, чтобы не только в их итоге потерять Финляндию, но и лишиться собственной независимости. Разве не так?
— Полагаю, что финская территория не та земля, из-за которой Швеции когда-нибудь следовало биться. Другое дело — Финляндия и Россия. У нас с Финляндией протяженная сухопутная граница. Географически мы как бы одно целое, — подтвердил царь.
— Ах, как вы изволили совершенно верно меня понять! — обрадованно произнес Карл-Юхан. — Именно такое же соседство у Швеции с Норвегией. Географическое положение норвежской земли указывает на то, что сама природа предназначена ей быть составной частью Шведского королевства. Как у вас с Финляндией, так и у нас с этой северной страной общая граница по суше и вокруг нас — общие моря, где мы сообща ведем промысел. К тому же и схожесть наших языков. Однако, ваше величество, присоединить эту страну без вашего благоволения к нам и без вашей военной помощи я не смогу. И посему не решусь осуществить высадку на континент, имея за спиною формально враждебную мне Норвегию.
Александр Павлович припомнил, как по дороге в Або его предупреждал канцлер Румянцев:
— Наследный принц будет настаивать на том, чтобы ваше величество приняли участие в немедленном нападении на Данию.
— Сомневаюсь, ваше величество, что следует считать Норвегию непременным условием вашего участия в общей борьбе с Наполеоном, — неожиданно твердо заключил император. — Я готов даже ждать, пока мирно решится вопрос о передаче нам Норвегии датскою страною, нежели проливать из-за нее лишнюю кровь!
— Однако как Швеции принять на себя экспедицию на континент? — взмолился наследный принц. — Нации нужен залог ее усилий, зримое, даже, скорее, ощутимое выражение благодарности России за нашу поддержку.
— Давайте, мой брат и кузен, перенесем окончательное решение на завтра, вы не возражаете? — Вновь обворожительная улыбка тронула губы Александра Павловича.
Спустя час или два Чернышев получил записку от Карла-Юхана с просьбой его навестить.
— Полковник, вы мой давний и верный друг, — нервно заговорил наследный принц. — Войдите в мое положение — как я вернусь к королю и что ему привезу? Лист бумаги, на котором моя и императора Александра подписи? На вас, друг мой, вся надежда. Убедите императора: если не соглашается уступить Норвегию, может, решится возвратить Аланды?
— Не думаю, что смогу в этом преуспеть, ваше высочество, — не стал отделываться пустыми обещаниями Чернышев. — Но возникла у меня одна мысль, которая, полагаю, вас вполне может устроить. Я ее передам императору.
Утром Чернышев был у царя и сообщил ему о просьбе принца вернуть Швеции Аланды.
— Я так и знал, — вскричал канцлер Румянцев. — До этого обязательно должно было дойти! Но нет, ваше величество, надеюсь, не уступит нескромным желаниям. Достаточно того, что вы пообещали способствовать в получении Норвегии, когда закончится война.
— Если мне, ваше величество, будет позволено высказать свое мнение, я бы пообещал наследному принцу корону Франции, — без намека на улыбку произнес Чернышев.
— Как так? — В детски чистых голубых глазах Александра Павловича отразилась растерянность — шутка это или всерьез?
— Рано или поздно корона упадет с головы Бонапарта. Так вот необходимо будет позаботиться о том, кто мог бы ее принять.
— Ах вот ты о чем! — улыбнулся император. — К твоим словам надо бы отнестись серьезно. В свое время князь Багратион в своей записке на мое имя советовал: Швецию можно подкупить, дабы сделать ее надежною союзницею. Сей будущий шведский король, видно, податлив на лесть. Почему бы не поманить его короною Франции? К тому же сие не обман: была бы моя власть, я бы посадил его на французский престол, только бы избавить мир от узурпатора Наполеона!
Глава десятая
Вряд ли можно было сыскать на Руси хоть одного честного и совестливого человека, у которого душа не обливалась бы кровью при виде того, как враг нахраписто, шаг за шагом, топчет родную русскую землю.
Что же сказать о Денисе Давыдове, которого жестокая война привела к самому отчему порогу?
Подполковник Ахтырского гусарского полка, он со своим первым батальоном только вчера у Колоцкого монастыря насмерть дрался с французской конницею и теперь, пройдя двенадцать верст, оказался в виду собственного родового села Бородино.
Еще издали, поднявшись из долины на холм, через который шла Большая Московская дорога, Денис увидел, что в селе и вокруг него — солдаты. Да, то были русские войска, что еще какую-нибудь неделю назад находились под Гжатском, а позавчера, вместе с его гусарами, — у Колоцкого монастыря. Теперь в поле посреди спелой ржи, вокруг старого отцовского дома, где он резвился в свои отроческие годы, поднимались дымы бивачных костров, сверкали ряды штыков, здесь и там двигались стройные воинские колонны.
Но что поразило более всего, когда Денис спустился с холма, так это спорая работа солдат, разбиравших избы и заборы в Бородине и в соседних деревнях — Семеновской и Горках. Сомнений не оставалось: армия готовила позицию для предстоящего генерального сражения. Того сражения, которого давно уже ждали наши армии и о котором мечтали от самой, считай, границы.
— Был ли какой-либо смысл не только найти угол в собственном доме, но просто место для ночлега в каком ни на есть заброшенном овине? Все оказалось занято, всюду размещалось начальство. И сам командующий Второй армией, как Денис сразу же узнал, расположил свою походную квартиру в старом крестьянском сарае.
Туда и направился подполковник Давыдов, приказав своему батальону разместиться в редком лесочке за деревнею Семеновскою.
Два дня назад, еще до боя у Колоцкого монастыря, Давыдов вручил Багратиону письмо, на которое теперь ожидал ответа.
Письмо было такое: «Ваше сиятельство! Вам известно, что я, оставя место адъютанта вашего, столь лестное для моего самолюбия, и вступи в гусарский полк, имел предметом партизанскую службу и по силам лет моих, и по опытности, и, если смею сказать, по отваге моей. Обстоятельства ведут меня по сие время в рядах моих товарищей, где я своей воли не имею и следовательно, не могу ни предпринять, ни исполнить ничего замечательного. Князь! Вы мой единственный благодетель: позвольте мне предстать к вам для объяснения моих намерений: если они будут вам угодны, употребите меня по желанию моему и будьте надежны, что тот, который носил звание адъютанта Багратиона пять лет сряду, тот поддержит честь сию со всею ревностию, какой бедственное положение любезного нашего отечества требует. Денис Давыдов».
Непростые, однако, были эти пять лет адъютантства — не только неотлучно близ стремени известнейшего полководца. В первые же дни службы, едва прибыв на войну в Восточную Пруссию, бросился в сечу и только чудом был спасен казаками. На другой, шведской войне чуть подвернулась возможность поменять штабное бытие на место в строю, — он уже в авангарде Кульнева. Затем лето и осень 1809 года, Задунайские степи. Во всех сражениях той войны с турками Давыдов снова рядом со своим любимым командиром. А когда обстоятельства отрывают Багратиона от Молдавской армии, Денис упрашивает оставить его на военном театре, приписав вновь к кульневскому авангардному отряду.
С первых дней создания Второй Западной армии верный адъютант опять рядом со своим любимым начальником. Да лишь до того самого момента, когда в воздухе запахло новой военной грозою. Тут предстал пред главнокомандующим и изложил свою просьбу: благословите пересесть в седло! Так и оказался с первых дней этой невиданной войны в строю — командиром первого батальона Ахтырского гусарского полка. В составе сего полка дрался под Миром, Романовом, Дашковкою и во всех аванпостных сшибках, до самой Гжати, а теперь — и до Колодного монастыря.
Князь живо вскочил с топчана, что был наспех сколочен из грубых неструганных досок, когда в дверях овина показался знакомый коренастый гусар.
— Денис! Ты ли это, душа моя? Как ни расходятся наши с тобою пути, а ты так и не можешь разойтися со мною.
— Для того и приехал, любезный Петр Иванович, чтобы вновь получить ваше благословение на дело, как всегда, самостоятельное, — произнес Денис.
— Нет, не меняешься ты, ну, нисколечко не переменяешься! — Багратион воскликнул будто бы по-командирски строго, но тут же не сдержался и весело засмеялся. — За то тебя и люблю, душа моя! Помнишь ли сие выражение, уж больно часто произносимое и — что хуже — превозносимое посредственностями: никуда не проситься и ни от чего не отказываться? Ты ж верен лишь второму требованию. Первое же переступаешь и поступаешь верно. Как же иначе можно по-настоящему выполнить свой долг в нашем ремесле, коли не дерзать и не ставить себя в положение наиотчаянное и сверхопасное?
— Благодарю, ваше сиятельство, за то, что поняли меня — с радостью подхватил Денис. — Только так и проявляются герои — в самой сердцевине сечи, там, куда другие не только не напрашиваются, но от чего, напротив, бегут. Я, простите, не о себе с высочайшею похвалою — Кульнева вспомнил.
— Достоин высших похвал Яков Петрович и его геройская смерть. — Голос Багратиона прозвучал приглушенно, как всегда случается, когда вспоминают ушедших, особенно тех, кто был в близких твоих товарищах и сподвижниках. — Первый наш генерал, отдавший жизнь свою за отечество в сей страшной войне. Нам же с тобою был он еще и на редкость родным. А принял Кульнев свою смерть — тут ты прав, — как и должно истинно русскому — героем.
В конце июля все армии наши обошла та жуткая весть, которая и опалила сердца, и одновременно вызвала в них ярость мести: за Кульнева французы должны дорого заплатить!
Армия Багратиона, отступая с тяжелыми боями, шла к Смоленску. А первый пехотный корпус под командованием Витгенштейна, закрывая собою дороги на Петербург, вступил в бой с войсками маршала Удино, направленными Наполеоном для захвата прибалтийских губерний и северной нашей столицы.
Генерал Кульнев командовал арьергардом. Но, имея горячий нрав, не мог он идти лишь в охранении корпуса, а смело вступил в схватку с неприятелем. То была одна из самых дерзких по замыслу и исполнению военных операций первых дней войны. Незаметно перейдя пред рассветом на левый берег Двины, храбрый предводитель арьергарда напал на кавалерийскую бригаду французского генерала Сен-Жени. В результате сражения бригада оказалась разбитой наголову, сам Сен-Жени вместе с сотнею офицеров и солдат попал в плен.
Как и теперь Денису Давыдову, Кульневу довелось вести сражения и в отчих местах, где он родился и провел свое детство.
— Невероятно! — говорил храбрый генерал, обращаясь к своему адъютанту Ивану Нарышкину. — Ты не поверишь, Жанно: мы подъезжаем теперь к Клястицам, где сорок восемь лет назад моя дорогая матушка произвела меня на свет!
— Хороший знак! — бодро отвечал адъютант. — Знать, здесь восходить и новой звезде вашей солдатской славы! Смотрите, как бежит от нас маршал Удино. А ведь за нами — не весь наш корпус. То-то славно мы распушим хваленого Наполеонова полководца!
— Отлично сказано, Жанно! — отозвался Кульнев. — А ну, не отставать, в атаку — марш!
Как когда-то в Финляндии, а затем в Задунайских степях — вихревой натиск! Удино, приняв отряд Кульнева за весь русский корпус, бежал, побросав обозы и пленных.
— Эх, не схватили самого маршала! — не скрывал своего азарта Кульнев. — Была бы бригадному генералу Сен-Жени достойная пара. Вперед, молодцы! Нас ждет новая удача.
Но, как бывало с ним не раз, в горячке боя Кульнев увлекся, и пришлось отходить: Удино наконец понял, что отряд, который он принял за всю армию русских, лишь незначительная сила. Отступать нашим пришлось с боем, огрызаясь огнем и сталью на каждом шагу.
Кульнева торопили:
— Надо спешить, ведите, генерал, своих гусар, дабы мы быстрее оторвались от преследования.
— Нет, друзья, я во главу колонны не встану — бегство не мой удел. В атаке — я впереди. А в отступлений мое место — последним.
Он и двигался так, чтобы никого не потерять, как капитан судна, когда другие уже оказывались в безопасности.
Грохот пушек стоял невыносимый — ядра ложились в гущу людских и конских рядов. Одно из ядер и ударило Кульневу сразу в обе ноги. Кровь потекла ручьем, и сознание вот-вот могло вовсе помутиться. Но чудо-богатырь собрал последние силы и, сорвав с себя ордена, бросил их адъютанту:
— Не хочу доставить французам радости. Пусть не гордятся тем, что убили генерала Кульнева. А по грубому суконному моему мундиру я сойду за простого солдата, кем я, по сути, и был всю мою жизнь…
Последние слова Кульнева передавались из уст в уста. И слова эти возбуждали отвагу и мужество: так всем надо смело драться с французами, а придет смерть, встретить ее достойно!
Теперь вспомнив друга, Багратион и Денис помолчали, отдавая дань тому, кто был и навсегда остался настоящим героем. «Теперь черед наш», — наверное, подумал про себя каждый, и, спустя минуту, Петр Иванович вновь вернулся к делу:
— Твое письмо, Денис, я прочитал. Просишь: хотел предстать для объяснения своих намерений. Изволь, выкладывай, как сие дело себе представляешь. Что за партизанство у тебя на уме?
Багратион кликнул вестового и велел подать чаю. Указал рядом с собою место на топчане, но Денис быстро высмотрел в углу невысокий чурбан и, подкатив его себе под ноги, уселся на нем верхом, словно в седле.
— О каком партизанстве я веду речь? — начал, будто пустился в атаку. — Неприятель идет за нами одним путем, считайте, от границы — к Москве. И путь сей протяжением своим вышел из меры: транспорты жизненного и боевого обеспечения покрывают пространство от Гжати до Смоленска и далее. Между тем обширность определенной части России, лежащей на юге от Московского пути, способствует маневренным изворотам не только отдельных войсковых наших отрядов, но и целых наших армий. Разве не так наша Вторая Западная, предводительствуемая вашим сиятельством, ловко маневрируя сбочь основного движения вражеских войск, то уходила из-под готовившегося удара, то, напротив, сама неожиданно их наносила?
— Ну-ну, продолжай, душа моя! — Глаза Багратиона загорелись неподдельным азартом. — Вижу, недаром послужил ты под моим началом — главное усвоил из моей доктрины: настигать противника там, где он менее всего ждет, и тогда на него — как снег на голову! Но ты, гляжу, из сей тактики и другой сделал вывод: наскоки — мелкими партиями и, главное, не на основные неприятельские силы, а на его коммуникации. Так ведь?
Денис аж вскочил со своего чурбана в азарте и раже.
— В самую точку, ваше сиятельство! — воскликнул он. — Ах, какое для меня удовольствие — с вами говорить: не успею рта раскрыть, как вы уж схватили мою мысль! Ну конечно же — мелкими партиями вдоль каравана, следующего за Наполеоном! И, извернувшись, бить в то место, где нас менее ждут. А мы — неуловимы. Кто ж станет нагонять да преследовать казаков да гусар, к тому же в лесах да и на наших же просторах, куда французам не с руки соваться? Зато появление сих летучих отрядов в глубоком неприятельском тылу — подспорье для поселян. Партизаны на конях, появляющиеся тут и там, ободрят их крепкою надеждой и верой. И тогда уж войсковая наша война обратится воистину в войну народную.
«Вот же — простой гусар. Всего по чину — подполковник. А какое умение ухватить главное в сей войне! — подумал Багратион. — Отчего ж нашим славным стратегам не войдет в голову сей главный резон: русский народ в нетерпение вошел? Что ж его сзади за кафтан держать и, как малыша-несмышленыша, останавливать: не бери в руки острое и горячее, можешь пораниться. Да хочь дубину дай ему, русскому человеку, в руки, только позволь действовать, как подсказывает ему совесть и честь! А мы — все пятимся и пятимся от врага, словно боимся ему лицо свое показать — задницу подставляем. Вот и Кутузов объявился во главе войска, а все еще не остановлено отступление, начатое Барклаем. Что бы там ни говорили, а по мне хорош и сей гусь, который назван и князем светлейшим, и вождем. Если особого повеления он не получил от государя, чтобы наступать, готов голову свою закласть — тоже приведет Бонапарта в Москву. А ведь одна забота у сего ратного вождя ныне обязана быть, коли его избрал Петербург и сам государь: усмотреть в каждом воине, от нижнего чина до командира, силу, способную противостоять нападению. Иначе говоря — не в себе видеть вождя, а в таких, как подполковник Денис Давыдов, что готов жизнь свою поставить на карту, а врага остановить и обратить вспять!»
— Вот что, Денис. — Багратион протянул руку своему недавнему адъютанту. — Нынче же пойду к светлейшему и изложу ему твои мысли. Правда, надо еще поймать минуту, чтобы заставить его выслушать, а хуже — что-либо подписать. Тяжел он и нерешителен для сих дел — давно с этою его стороною знаком. А все потому, что старый лис. Хитер, как не раз говорил о нем Суворов. Особливо у него, Михайлы Ларионыча, на особом счету тот, кого он подозревает в разделении славы. Уж того он так искусно способен подъесть, словно червь любимое и ненавистное деревцо. Но мы с тобою — из камня. Об нас не токмо червь — сам змий обломает зубы.
Светлейший отдыхал, но тотчас проснулся и вышел навстречу, когда доложили о приезде Багратиона.
— Что у тебя, князь Петр? Аль французы уже подступили к твоей позиции? — Михаил Ларионович зевнул и поскреб рукою грудь под белою, нараспашку, рубахой.
— Ждем гостей всяк момент, ваша светлость. Потому велел день и ночь укреплять позицию.
— Выходит, довольна твоя душенька, что окончили ретираду? Знаю, знаю, как ты сцепился с Барклаем — словно с самим Бонапартом! Наружно-то была твоя правда как человека русского. Да теперь что о том вспоминать? «Пришел Кутузов бить французов». Так, кажись, солдаты говорят? Ну и пусть себе говорят — веру их я, сам видишь, укрепил: отныне будем здесь драться. Ты знаешь, князь, как давеча я отписал государю о выбранной нами здеся позиции? Она, позиция, в которой я остановился при деревне Бородине, доложил я царю, — одна из наилучших, кою только на плоских местах сыскать можно. Слабое место лишь левое крыло — твой, князь Петр, фланг. Одначе, сообщил я государю, у меня там Багратион! А уж он-то, недостатки местности поправит своим искусством. Не ошибся я?
Глянул левым, живым глазом — таким хитрющим, что Багратион отвернул в сторону свой взгляд.
«Мало, что любитель лести — сам льстец отменный, — неприятно подумал Багратион. — Лукав — другого такого не сыскать: будто и похвалил пред государем, а умыл сам руки. Коли провал, то вот он, виновник, что, поставленный на самый главный участок, — не сдюжил, не проявил искусства! Нет, не верю, чтобы он основательно решил драться. Когда объявился он войскам у Царева Займища, вправду солдаты провозгласили: «Пришел Кутузов бить французов». А он возьми да отдай тогда приказ: отступать далее. И сколько уж позиций, удобных для сражения, упустил? Да все будто, одна за другою, казались ему с изъяном. Эта же чем лучше? Нет, что ни говори, и, тут про запас в его голове, какая-либо ловкая хитрость!»
И — точно в воду глядел Багратион — Михайло Ларионович приберег, предусмотрел спасительный ход!
— Государю я, князь, так и написал, — продолжил Кутузов, — дескать, желаю, чтобы неприятель атаковал нас в выбранной нами позиции. Тогда я имею большую надежду к победе. Но ежели он, найдя мою позицию крепкою, маневрировать станет по другим дорогам, ведущим к Москве, тогда не ручаюсь, что должен идти и стать позади Можайска, где все сии дороги сходятся.
Словно кипятком обдало Багратиона с ног до головы.
— Так это же что, ваша светлость, опять раком до самой Москвы? — не сдержался он. — А я-то полагал… Да что, я один? Вот граф Ростопчин пишет мне из Москвы…
Багратион выхватил из-за обшлага мундира листок.
— Позволю вам, любезнейший Михаил Ларионыч, сие место зачесть из присланного мне послания графа Федора Васильевича. «Я полагаю, — пишет он, — что вы будете драться, прежде нежели отдадите столицу; если вы будете побиты и подойдете к Москве, я выйду из нее к вам на подпору со ста тысячами вооруженных жителей; если и тогда неудача, то злодеям вместо Москвы один ее пепел достанется».
Пухлая ладонь выскользнула из-под рубахи и протянулась к Багратионовой руке.
— Дай пощупать твой пульс, князь. Во здравии ли ты, чтобы передавать мне такое, хотя бы и от самого московского генерал-губернатора? Да мы все костьми ляжем, а Белокаменной не отдадим! Прав, прав граф Федор Васильевич: чем ни попало вооружим народ и встанем на пути злодеев. Так что видишь, князь, все мы едины в намерениях своих.
— А я, как и те солдаты, что приветствовали вас криками в Царевом Займище, ни минутою не сомневался в вас, нашем вожде, выбранном народом и государем, — произнес Багратион и подумал про себя: «Хочешь меня, Михайло Ларионыч, перелукавить, так не на того напал. Вот и улучил я момент, чтобы мысль Дениса Давыдова ввернуть — самая по разговору удобная минута».
— Говоришь, князь, подполковник тот, что был у тебя в адъютантах, дельный молодец? — спросил светлейший, выслушав Багратиона, и сам за него ответил: — Да, по всему видать: дело говорит. Постоянными набегами на тылы неприятеля расстраивать движение французов — сия мысль, не скрою, соблазнительна. А с другой стороны — и слишком уж дерзка: это, брат, все равно что в пасть волку сунуться. Хоп! — и отхватит серый твоему Давыдову голову вместе с его казачками да гусарами. Что, ай планида командира третьего корпуса генерала Павла Тучкова не дает спать твоему Давыдову? Попал Сей генерал под Валутиной Горою к французам в плен. Вот, гляди, и свидятся там они — генерал да твой подполковник!
По тому, как заиграли скулы на Багратионовом лице, светлейший понял: князь не отступит, пока не добьется своего. А к чему спор, если речь идет о каком-то гусарском офицере да горстке таких же сорвиголов из его батальона?
— Согласен с тобою, князь: давай пошлем твоего протеже в вольницу, в кою он так настойчиво навострился, — сверкнул лукавством целый Кутузова глаз. — Отряди ему полсотни гусар да сотни полторы казаков. Да накажи: пусть сам с ними идет! Будем считать, что диверсия сия как бы для пробы: принесет успех — наречем сие началом партизанства, а сложит голову сей неусидчивый офицер — мало ли их погибает в сей войне? Не сегодня завтра, коли не пронесет, здесь, у Бородина, на тысячи станем считать потери. Да что ж делать — на то и война…
В тот же вечер Багратион призвал к себе Давыдова и сообщил: Кутузов согласился. Правда, скупо распорядился людьми.
— Я бы тебе дал с первого раза три тысячи, ибо сам не люблю ощупью дела делать, — сказал Багратион. — Но лиха беда начало. Докажи, Денис, что затеваем мы предприятие верное, коему суждено будет вскоре разрастись в народную войну. И — береги себя и людей!
— Честью ручаюсь, князь, — ответствовал Денис, — выделенная мне партия будет цела. Для сего нужны только решительность в крутых случаях и неусыпность на привалах и ночлегах. Сии меры, верьте мне, я уже продумал. А что касается замечания светлейшего, чтобы непременно я сам встал во главе отряда, то сие меня не могло не обидеть, признаюсь вам, мой благодетель, как на духу. Я бы, князь, устыдился предложить опасное предприятие кому-либо другому. Впрочем, вам-то сие известно более, чем кому иному.
— Я на тебя надеюсь — об этом помни, когда окажется лихо. Да вот еще что — дарю тебе карту Смоленской губернии. Я сии места уже прошел — теперь тебе по ним в непроницаемой тайности стараться держать движение. И при удобности лишь мне докладывай обо всем, что выпадет тебе на твоем опасном поприще. Ну, с Богом, Денис!
И они обнялись, не ведая о том, что видятся в последний раз.
Глава одиннадцатая
Небольшая бодрая лошадка гнедой масти, пробежав дробною рысью несколько сажен по хорошо укатанному большаку, в Семеновской перешла на спокойный, даже ленивый шаг. Сидевший на ней Кутузов сделал знак сопровождавшим его конвойным казакам остановиться и стал медленно слезать с седла. Один из донцов, уже спрыгнув с коня, тут же подставил под ноги светлейшего специально возимую с собою скамеечку, и Михаил Илларионович грузно опустил на нее отекшие ноги.
— Ну, как ты тут, князь Петр, готов к встрече гостей? — ступил со скамеечки и протянул руку подошедшему Багратиону главнокомандующий. — Ладно, ладно, не докладай, сам вижу: Избы в Семеновской почти подчистую разобрали и флеши строите споро. Но по лицу твоему угадываю, князь: беспокоен ты.
— То не беспокойство, ваша светлость, — твердо ответил Багратион. — То — расчет не в мою, осмелюсь заметить, пользу. Давеча вы мне сказывали: левое крыло изволите исправить искусством. Чьим? Фортификационным? Но все основные укрепления возводятся не на моем, а на правом фланге. Я уже успел там и сам побывать, и отсель, из Семеновской, мне отлично видать, что там строят. Извольте, Михайло Ларионыч, вот труба, взгляните.
Кутузов вздохнул и присел на скамейку. В правой руке — нагайка, одутловатое лицо замерло в неподвижности.
— Ты вот, князь, друга своего графа Ростопчина письмо мне зачитывал, — спокойно тихим старческим голосом произнес он. — Дескать, всею душою и всем сердцем рвется он на защиту Москвы. Похвально сие рвение! Но сколько я ему, лишь только прибыв к армии, писал и челом бил: пришлите, граф, мне лопат, топоров и пил для инженерных работ. И что ж? Сам ты небось здесь что сыскал в покинутых домах, тем и копаешь, так ведь? А от Ростопчина — ни одной лопаты и кирки! Вгрызайся в землю чем хошь, хоть моею вставною челюстью.
«Уполз, словно уж, в сторону, — досадливо поморщился Багратион. — Я к нему как бы: «Который теперь час?» Он же мне в ответ: «Спасибо, я уже отобедал». К чему мне весь этот камуфляж? Ежели сам признал, что левое крыло уязвимо особливо, то и брось сюда все имеющиеся в твоем распоряжении инженерные силы! На что же расчет? На меня, князя Багратиона, который все вывезет, как всегда? Как, к примеру, в восемьсот пятом годе под Шенграбеном? Сам тогда ведь признался со слезою в глазу: оставил тебя, князь, смертником, дабы спасти основную армию. Теперь же я сам себя в сей новый капкан загнал: более всех других ратовал за сражение, вот и получай, что хотел, — ложись костьми. И лягу, ваша светлость! Тут вы безошибочно изволили расчесть: Багратион не побежит, будет стоять до конца. А примет-де на себя весь неприятельский натиск, правому крылу, что и так отменно защищено, можно будет спокойно, оторвавшись от битвы, уйти по Большой Смоленской дороге к матушке-Москве. А может, и далее ее, Белокаменной? Неужто сия мысль на уме у него, нового нашего вождя? Все может статься. Хитер! Я же, наивная душа, еще пред войною его через государя на решительный натиск на турок подвигал. Он же, лукавый, тогда ни гугу! И что же? Извернулся ужом, когда пред войною к государю императору в Вильну был Наполеоном подослан граф Нарбонн. Тот прибыл как лазутчик, дабы проведать, готовы ли русские опередить французов наступлением? Кутузов же возьми и представь сей Нарбоннов визит как знак крепнущей русско-французской дружбы. Да ловко так турок обвел вокруг пальца, что те, убаюканные, и согласились на мир… Ловок, лобок новоявленный князь! Даром, без тайной задумки, и шага не сделает! Зачем же ко мне пожаловал ноне? Подольстить, успокоить? Да мне того и не надобно — рвался в сражение не для показного вида. Знаю: теперь пробил час всем, может быть, умереть, а врага одолеть! И он ведает то; князь Багратион живым не сойдет с места. Так зачем же пожаловал главнокомандующий?»
Как всегда оказывается накануне самого решающего, самого судьбоносного мгновения в человеческой жизни, когда на кон ставится не только собственное твое существование в сем благословенном мире, но и дело, коему ты сызмальства служил верою и правдою, Кутузов так же в этот тревожный час не мог не говорить себе всего, что переполняло его душу.
Наверное, все, что думал теперь о нем Багратион, что знали о нем, старом генерале, там, в Санкт-Петербурге, царедворцы и сам император, наконец, что знали о нем боевые генералы и солдаты, с коими он был не в одном страшном сражении, — было правдой. Правдою как бы с двумя ее не похожими Друг на друга ликами, как бывает в жизни каждого человека. И сам он, старый русский генерал, знал за собою всякое. Ибо у него была длинная и суровая жизнь воина, непростая и нелегкая планида, человека, вовлеченного волею судьбы в жизнь не только военную, но и придворную, — с ее соблазнами и лукавством, с ее изворотливостью и ловкостью в сношениях между людьми, что со стороны всегда кажется наполненной изъянами и сплетнями.
Но одного нельзя было у него отнять — огромного опыта, рожденного именно сей сложной и неоднозначною жизнью, чего недоставало многим его сподвижникам. И еще огромной любви к родному отечеству, какую, напротив, могли с ним вместе так же остро чувствовать и со всею пламенностью сердца разделять многие и многие русские люди, в том числе, разумеется, и князь Багратион. Однако ни князь Багратион, ни кто другой в тот час на поле Бородина не мог испытывать всей непосильной тяжести ответственности за судьбу армии, судьбу Москвы и судьбу России, которая отныне была возложена на его, Кутузова, плечи.
Тень Аустерлица, наверное, навсегда омрачила его душу. И он, даже оправдывая себя пред лицом потомства, вряд ли мог до конца оправдаться пред своею совестью за то ужасное поражение. Но был ли он всецело в нем виноват? Вряд ли. Виной всему, наверное, были Обстоятельства, при которых тогда, семь лет назад, он вынужден был принять на себя командование. И обстоятельства сии были — мощь и неодолимость той силы, которую противопоставил своим врагам Наполеон.
Ныне обстоятельства повторялись своей поразительною схожестью. Причем даже с более роковою опасностью: война угрожала разгромом не только армии, поруганием ее чести, но грозила всему отечеству, поскольку шла не на чужой земле, а на своей, собственной. И что совсем уж было непереносимо для каждого русского сердца — война неумолимо Двигалась к стенам Москвы.
Если бы, прибыв к армии, Кутузов вместо слов: «Как же можно с такими орлами да отступать?» — сказал бы то, что с первого дня своего назначения он говорил себе и самым близким к нему людям: «Вы думаете, что я надеюсь разбить Наполеона? Нет. Но обмануть — хочу», — сии слова стали бы концом его популярности в войсках и в народе русском. Однако в глубине души своей он знал: ни Бородино, ни какое иное генеральное сражение не разобьет Наполеонову силу.
Сравнивая положение своей Второй армии, находящейся на левом крыле при Бородине, с положением Первой армии на фланге правом, Багратион употребил такое понятие, как расчет. А вот каков был расчет, не выходивший из головы Кутузова, когда он сравнивал силы своего и Наполеонова войска, одновременно сходившихся к селу Бородино. Русские могли выставить 112 тысяч человек при 640 орудиях. У французов насчитывалось 130 тысяч и 587 орудий. Однако то была не вся арифметика. Потерпев неудачу, Наполеон мог бы дождаться подхода своих сил, что шли за ним следом, у Кутузова же не было никаких резервов. И он, потеряв половину своей армии, должен был бы отступить, отдав неприятелю Москву.
Собственно говоря, так все и произошло в итоге. Русские войска оставили на Бородинском поле именно половину своих офицеров и солдат — 58 тысяч человек. Французы лишились примерно 50 тысяч. Русская армия, вернее, то, что от нее осталось, отошла. Наполеон же вступил в Москву. Так чьей же оказалась победа? О Бородинской битве, уже находясь в изгнании на острове Святой Елены, Наполеон скажет: «В сражении у Москвы-реки французы показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми».
Так стоило ли давать сражение, чтобы потерять половину войска и в результате отдать древнюю русскую столицу?
Сего итога битвы не мог знать Кутузов ни в день ее свершения, ни тем более за день до нее, сидя на своей походной скамеечке в деревне Семеновской. Он знал лишь соотношение сил и потому был убежден, что Наполеона не разобьет. Но он, приняв на себя командование войсками, знал и другое: что бы в сей день ни произошло, победа моральная, победа духа будет на стороне русской. И вот в этом они были едины — расчетливый Кутузов и отчаявшийся, изболевшийся сердцем Багратион.
А лучше и вернее сказать — были в сем решении едины все, от главнокомандующего и до любого нижнего чина, как тогда чаще всего называли солдат, которые в те дни сказали себе; умрем, но не отступим.
— Так вот зачем я пожаловал к тебе, князь, — вдруг сказал Кутузов и, опершись на плечо подбежавшего донского казака, встал со скамейки. — Редуты и флеши, что строим мы по всей, считай, округе, суть укрепления скорее для очистки совести. А крепость — она вот тут, в сердце нашем. Да тебе ли, князь, мне сие говорить? Другому — напомнил бы, а тебе — считаю излишним. Но насчет редута того, что вон там, впереди, у деревни Шевардино, скажу: построил ты его отменно, но, скорее всего, придется его со временем отдавать.
В сердцах князь даже воздел вверх руки.
— Так я же, любезный Михайла Ларионыч, как в воду смотрел, предупреждая вас: дозвольте мне отойти от сего кургана и оттянуть свой крайний левый угол подале от того шишака. На кой черт мне заключать свое крыло сим шишаком в открытом поле, где отовсюду я окажусь под обстрелом? Или у вас какая тайная мысль?
Кутузов отозвался не сразу. Вынув из бокового кармана мундирного сюртука платок, отер им вспотевшее от полуденного солнца лицо, затем белую пухлую шею.
— Тайны тут никакой у меня нету, — сказал. — А вот его, Наполеонову, тайну я сим Шевардинским редутом и хотел бы выведать. Говоришь, шишак? Верно. Вот и пущай он бросится в глаза Бонапарту, когда он подойдет к Колочи. Его зачнет штурмовать али, по своей излюбленной манере, ударит в центр, на село Бородино? Мне бы, не скрою, хотелось выманить его в чистое поле — к сему редуту. А тебя я в обиду не дам: вступишь в дело — сразу зачну переводить к тебе с правого крыла потребные силы. А теперь велю в тылы твои скрытно поставить третий корпус генерала Тучкова-первого — Николая Алексеевича. Пусть остается в Утицком лесу в сугубой непроницаемости до поры до времени.
Артиллерийский гул, что раздавался с самого раннего утра со стороны Колоцкого монастыря, часам к десяти уже превратился в отчетливо различимые пушечные залпы. А еще недавно чистое и ясное, без единого облачка небо за деревнею Шевардино вдруг закудрявилось черными космами дыма, которые стали быстро расти и приближаться вместе с громовыми раскатами.
— Началось, — произнес Кутузов и взглянул в лицо главнокомандующего Второю армией. — Ну, благослови тебя Господь, князь Петр Иванович!
Как всегда, когда начиналось дело, Багратион был невозмутим и предельно собран. Ничто в нем не выдавало не только беспокойства или, упаси Боже, тревоги, но простого волнения, свойственного каждому человеку в подобных условиях. И лишь тот, кто знал князя довольно близко и бывал рядом с ним не в одном сражении, по его вдруг воспламенившемуся взгляду мог безошибочно определить — пред ним бог войны. Точно какие-то невидимые магнитные волны враз побежали от него вокруг, сообщая каждому в его окружении тот заряд энергии, который необходимо сейчас проявить, чтобы они, эти заряды, слились в единую и несокрушимую силу, которая только и могла принести победу.
— Ну, я — туда, — спокойно произнес Багратион, уже вскочив на лошадь, и чуть заметно и как бы даже стеснительно улыбнулся Кутузову, словно извиняясь за то, что вынужден прервать их свидание.
Однако наружное спокойствие Петра Ивановича было обманчиво. Еще находясь рядом с верховным главнокомандующим, он по неимоверно быстро приближающейся пушечной пальбе безошибочно определил: арьергард генерала Коновницына разбит, поскольку отступает в такой поспешности. И весьма вероятно, что; отступая, несет на своих плечах если не всю Наполеонову армаду, то, по крайней мере, его авангардные силы. Вот почему ему, командующему левым сектором обороны, на котором это произошло, немедленно следовало самому оказаться на участке, грозящем если не прорывом, то уж неминуемыми смятением и расстройством.
От Семеновской до Шевардина было менее двух верст. Там, в верховьях ручья Чубаровского, на одном из холмов, что возвышался к юго-востоку от деревни, находилось только что воздвигнутое укрепление — редут.
Лишь поздним вчерашним вечером побывал здесь, на кургане, Багратион, а сегодня не узнал сей высоты. Вал на вершине был полностью закончен и представлял собою как бы пятиугольную земляную крепость. Под этой крепостью проходил глубокий, со всех пяти сторон опоясывавший ее, ров. Все силы были брошены на сооружение редута. Кроме солдат пионерной, то есть инженерной, роты, здесь вовсю трудилась пехота. И было совершенно необъяснимо, как менее чем в двое суток здесь, на холме, грунт которого едва поддавался лопатам и киркам — настолько он был тверд и каменист, — возникло такое сооружение.
— Землю пришлось носить с поля в корзинах за десяток сажен, — объяснял Багратиону инженерный поручик. — А все ж, глядите, ваше сиятельство, какой высоты бруствер! Уже закатили за него двенадцать артиллерийских орудий. Обеспечен круговой обстрел, причем на дальние дистанции. Остальные же пушки — еще двадцать четыре дула — расставлены в земляных укрытиях по всей линии за редутом. Да вон и князь Горчаков идет. Он вашему сиятельству доложит самым подробным образом.
Генерал-лейтенант Андрей Горчаков, только вчера назначенный командиром отряда для обороны Шевардинского редута, слегка дотронувшись щепотью пальцев до края головного убора, протянул руку своему начальнику.
— Полки двадцать седьмой дивизии я растянул в линию сразу за курганом. Фланги прикрыты так: правый — драгунами и конною артиллерией, левый — кирасирскою дивизией в сгущенных полковых колоннах. В кустах вдоль Колочи и дороги — стрелки и легкая конница.
— Отменно распорядился, князь Андрей, — пожимая руку давнему другу, похвалил его Петр Иванович. — У тебя что — двенадцать тысяч пехоты и четыре тысячи кавалерии? Полагаю, куда с добром! Чуть ли не третья часть всех моих сил. Так что смотри: пойдет неприятель в ином направлении — толику твоих войск заберу.
— Как бы мне у вас сикурса запрашивать не пришлось: поглядите, вон уже кавалерия Коновницына показалась — во весь опор скачет сюда. А за нею-то, за нею — пыль столбом! Неужто вся Наполеонова рать наседает? Да не иначе — так! Стал бы Петр Петрович да с кавалерией Уварова так поспешно отходить, ежели был хоть и двойной перевес? Тут, дорогой Петр Иванович, как бы не началом самого генерального сражения пахнет. Ну — давно пора! Разве не так?
— Так, истинно так, Андрюша! Ты верно сказал: давно пора! — с чувством произнес Багратион. — А то, что тебе первому предстоит открыть сие долгожданное дело — рад за тебя. Кому же, как не родному племяннику великого Суворова! Так что сделай, князь, почин, коего неустрашимость и стойкость осталась бы гордостью воинов русских. А я по линии — далее, к Раевскому. Всем, видно, придется вступить нынче в дело.
Хотя Андрей Горчаков был чуть ли не на пятнадцать лет моложе Петра Ивановича, но еще с Итальянского и Альпийского похода сошлись они и полюбились друг другу. Теперь, оставляя защиту кургана на тридцатидвухлетнего друга-генерала, Багратион нисколько не сомневался в том, что он не отступит, не сдаст занятой им позиции. Однако и осадок от разговора со светлейшим не проходил: зачем так расточительно заставил Кутузов раскидать и так мизерные силы Багратиона, чтобы, считай, со всех сторон поставить их под удар?
«Слева и сзади у меня — Старая Смоленская дорога и Утицкий лес, — рассуждал про себя князь. — Появись оттуда французы — крайний левый фланг защитить нечем. Теперь — вот этот, выдавшийся вперед курган у деревни Шевардино. Окажись он и впрямь, не дай Бог, на главном пути наступления французов, они обойдут его со всех сторон. И мало того, скрываясь за его огромною массой, вынырнут уже в прямой досягаемости пред Семеновской деревней и пред главною орудийною батареею на моем правом фланге, где стоит корпус Раевского. Не случится ли и он — гол как сокол, доступный вражескому обстрелу тож почти со всех сторон? Нет, что ни говори, а беда сия, когда чья-то высшая стратегия идет вразнотык с тактикою, проистекающей из возможностей войск, не на карте, а уже расположенных на местности. Не получится ли так, что, переменив Барклая, который не великий полководец, мы и тут потеряем? Получим уже не двух, а, скажем, трех главнокомандующих, у каждого из которых — свой взгляд и на методу, и на сам театр войны? Да, видно, делать нечего: не Михайле Ларионычу, а мне здесь с моими друзьями-генералами стоять до конца, а коли придется, то и умирать. Не с Кутузовым мне теперь спорить, а, знать, с самим Наполеоном и его маршалами. И только от меня, а не от Кутузова будет нынче и завтра зависеть, пройдет ли враг мою позицию».
А меж тем неприятель уже на расстоянии полной видимости всею своею мощью подходил к дотоле никому на Руси, наверное, не известной речке Колочи, что недалече отсюда впадала в Москву-реку и опоясывала собою немалый участок земли между Большою, или Новою, и Старою Смоленскими дорогами. Багратион вскинул к глазам подзорную трубу и увидел прямо пред Шевардинским редутом, от коего он только что отъехал, — три огромных клуба пыли. То были три колонны французских войск, двигавшиеся друг от друга на равном между собою расстоянии.
Впереди, сзади, с обеих сторон ухало, вздымались султаны дыма, а людские три реки продолжали течь и течь по широкой равнине, то скрываемые перелесками, то выходящие вновь на открытую местность. Солнце, выныривая из клубов пыли и дыма, сверкало на гранях штыков и стволах орудий, кои двигались в людском и кавалерийском стройном строю. Но вот движение враз замерло, остановилось, когда с Шевардинского редута грянули один, затем другой и следом третий залпы и защелкали дружные выстрелы егерей, расположившихся на дороге, ведущей к берегу Колочи.
Услышав выстрелы с правого берега, Наполеон, двигавшийся во главе средней колонны по Большой Смоленской дороге, приказал остановиться в деревне Валуево. Он тотчас обратил внимание на возвышающийся редут русских на противоположном берегу, откуда был как раз открыт огонь.
Как и за день до него Багратион, французский император сразу сообразил, что сей укрепленный холм — опасная помеха. Не столько своим огнем, но скорее самим расположением курган мешает наблюдению за неприятельскими войсками, скрывая их готовность к возможному нападению.
— Взять это укрепление! — повелел Наполеон, ничуть не сомневаясь в немедленном выполнении приказания, хотя время близилось уже к четырем часам пополудни и развертывать целую войсковую операцию на склоне дня было рискованно.
Начальник генерального штаба Бертье, дабы решить задачу без промедления, отрядил отменные силы. Два кавалерийских корпуса под командованием Нансути и Монбрена, три пехотные дивизии — Морана, Фриана и Компана — из корпуса Даву получили приказ переправиться на правый берег Колочи, вытеснить оттуда русских стрелков, атаковать и занять редут. Содействовать им должен справа пятый корпус Понятовского. Всего на редут было брошено сорок тысяч человек — тридцать тысяч пехотинцев и десять тысяч кавалеристов.
Левый берег огласился восторженными криками одобрения и приветствия войскам, коим выпала честь первыми открыть сражение с русскими. Ни у кого не было сомнения в блистательном успехе штурма, коли сам император, несмотря на поздний час, повелел начать атаку.
Первыми бросились в наступление поляки, как когда-то при переходе Немана и при осаде Смоленска. Получив приказ обойти укрепление с юга и зайти в тыл к его защитникам, Понятовский обрушил удар на егерские полки. Он словно заводил невод, поднимая рои стрелков и грозя загнать их в глубину леса. Но на польскую конницу нашлась с ответом и наша кавалерия: полковник Эмануэль со своими киевскими драгунами и полковник князь Кудашев с кирасирами спутали все замыслы атакующих.
Дивизия генерала Компана, поддержанная конницею Мюрата, тем временем перешла Колочь и сомкнутыми рядами двинулась прямо на редут. Впереди двигался шестьдесят первый полк, не раз бравший укрепления штурмом. Вот его железные солдаты, как их звали в дивизии, уже взошли на курган, вот подступили вплотную к брустверу. Но залп прямо в лицо — и железные шеренги отступили.
Дорога на курган уже усеяна трупами — так плотно, волна за волною, наступают штурмующие и отходят, вспять, оставляя убитых товарищей.
Солнце неумолимо, клонилось к зениту, в клубах дыма редут был едва различим. Сигнал к новой атаке, и уже не одна дивизия Компана, а целых три, как и определено было диспозициею Бертье, двинулись на приступ.
Моран и Фриан шли со стороны хутора Алексинки, Компан — от деревни Фомкино. Курган вновь близок — всего двести пятьдесят шагов надо сделать железным солдатам Компана, чтобы опять оказаться на бруствере. На сей раз осаждающие подкрепили себя артиллерией. Но потребовался целый час, чтобы пройти двести шагов. И все же последние пятьдесят оказались неодолимыми. Русские бросились в штыки, и атакующие опять отступили, усеяв телами склоны неприступного холма.
Ах, как мужественно держала оборону двадцать седьмая дивизия Неверовского! Словно она опять вернулась в те недавние дни, когда ее стальное каре проходило сквозь строй кавалерии Мюрата в Красном, а затем, спустя сутки, неколебимо стояла на крепостных стенах Смоленска.
Сумерки сизою пеленою уже легли на окрестные поля, в низинах закурились белые туманы, а Наполеон все еще продолжал напрасно ждать реляций о победе.
И все же Компан прислал к императору своего адъютанта с желанным сообщением, когда во внезапно сгустившейся темноте вспышки орудий стали видеться как яркие красные костры.
Наверное, то наступил момент, когда, по замыслу Кутузова, надо было начать отход, бросив на произвол судьбы и на радость Наполеоновых солдат сей героический редут. Но можно ли было отступить, когда воля защитников оставалась несломленною и жажда мщения обжигала солдатские сердца?
«Такое не в моих правилах — бежать!» — сказал себе Багратион и объявился в расположении Второй сводно-гренадерской дивизии генерал-майора Воронцова.
Граф, я сам поведу ваши полки, — сказал он начальнику дивизии. — Редут надо вернуть. — И тут же, обратившись к скачущему за ним следом Голицыну: — А ты, князь Николай, лети к гренадерам принца Карла Мекленбургского. Ему мой приказ: сниматься с места — и к Шевардину.
Как бешено забилось сердце Николая, когда он бросился исполнять приказ брата!
«Да, вот он наконец, мой долгожданный час, коего я ждал все последние недели, — восторженно подумал юноша. — И я докажу всем, что я не трус. Я не потому когда-то покинул строй, что проявил малодушие. Я тогда думал о том, что более всего люблю музыку, что мое призвание — служение искусству. Но разве любовь к отечеству — не самое святое чувство, которое теперь каждый русский должен поставить на первое место? И пусть знает князь Петр, что он не обманулся во мне».
С самого начала войны Николай Голицын, как и обещал когда-то Багратиону, вернулся на службу. Он спешил ко Второй армии. Но все сложилось так, что пробиться к Багратионовым войскам было не так просто, и потому он пристал к штабу Первой армии, оказавшись порученцем у генерала Ермолова. Лишь под Смоленском, когда армии соединились, Николай разыскал Багратиона. Теперь он, его ординарец, впервые оказался в настоящем сражении и дал себе слово совершить такое, чтобы слава о нем облетела всю Россию. А главное, чтобы им гордился тот, кого он всею душою считал самым родным человеком.
Гренадеры генерал-майора принца Карла Мекленбургского появились у кургана в самый раз. Их собратья под водительством Багратиона, Воронцова и Горчакова уже оттеснили французов от подошвы холма. Теперь, собрав всю рассеянную пехоту, надо было отбить редут.
— В штыки, мои гренадеры! — воскликнул начальник дивизии принц Карл и, спешившись и обнажив шпагу, бросился вверх по узкой дороге, усеянной трупами солдат в синей униформе.
— Ур-ра! — неслось здесь и там. Николай, стараясь не отставать от генерал-майора принца Карла, тоже во все горло громко кричал «ура» и несся вперед, расчищая дорогу шпагой.
Кто-то из бегущих сверху французских солдат оказался перед ним и попытался поднять на него ружье.
«Господи! Да что же это такое, неужели это моя смерть? Но как же князь Петр узнает о том, что у меня только недавно было в душе, чем я гордился и чем хотел обрадовать его, моего кумира?» — подумал он и в этот же самый миг увидел, как солдат, прицелившийся в него, вдруг уронил свое ружье и упал лицом вниз.
— Поберегите себя, ваше благородие! Верно, впервые в деле? — услыхал он голос за своею спиною.
— Ах, это вы, как вас зовут? — не ведая, что говорит, произнес он. — Я обязательно скажу князю про вас. Честное слово, скажу непременно.
Однако ни ответа высокого и ладного гренадера, спасшего его, ни грохота взрывов, выстрелов и криков бегущих рядом и навстречу, Николай Голицын более не услышал. Он, получив сильный удар в голову, упал ничком в грязь и сразу потерял сознание.
Глава двенадцатая
С вечера Наполеона знобило, лихорадка не давала заснуть. Кутаясь в шинель, он выходил из палатки и, всматриваясь в полыхавшие в стороне Шевардинского кургана красные вспышки выстрелов, нетерпеливо подергивал плечом.
— Что, Неаполитанский король, Даву, Компан и князь Понятовский решили продолжать спектакль до утра? Разве не ясно я выразил свою мысль еще в середине дня: редут должен быть взят!
— Сир, ваше повеление было выполнено, — осмелился напомнить генерал-адъютант Арман Коленкур. — Как еще два часа назад я имел честь доложить вашему императорскому величеству, особенно отличились воины железного шестьдесят первого линейного полка дивизии Компана. Это его третий батальон первым ворвался на редут и водрузил на бруствере русских штандарт с золотым орлом. Однако тут неожиданно последовала атака сразу нескольких русских гренадерских полков. Натиск оказался чудовищным по своей силе, и нашим доблестным егерям ничего не оставалось, как временно отойти. Зато к середине ночи редут вновь оказался в наших руках.
Стакан горячего пунша, который Наполеон выпил, возвратясь в свою спальню в походном шатре, согрел и укрепил нервы. Но чуть свет он оказался вновь на ногах. Подсел к столу и, положив в рот вынутую из табакерки лепешечку лакрицы, принялся набрасывать диспозицию на завтрашний, по его убеждению, решительный день, который наконец-то поставит точку в этой идущей по варварским правилам войне.
Он часто выходил из палатки и видел, как невдалеке собираются его маршалы и генералы, которым он сейчас выразит свою окончательную волю — покончить с русскою армиею и тем самым все сделать для того, чтобы он, император Франции и владыка всей Европы, здесь, в поверженной Москве, принудил царя Александра подписать унизительный и позорный мир.
— Сколько русских вчера сдалось в плен? — спросил он у Коленкура, возвратившись к столу и наблюдая за генералами, которые входили в его походные апартаменты.
— Ни одного, сир, — чуть замявшись, ответил генерал-адъютант. — Они вчера предпочитали умирать, но не сдаваться.
— А те, что остались живы? — Раздражение императора не унималось. — Вы что, их отпустили с миром?
— Нет, сир, русские покинули редут ночью.
Пред Наполеоном оказалась стопка листков — итоги утренней переклички в батальонах и ротах. Император нетерпеливо перебирал отчеты и, найдя то, что, очевидно, искал, обратил взор на Компана:
— Вы, генерал, забыли включить в ваш отчет сведения о личном составе третьего батальона. Где он?
— Сир, третий батальон остался там, на редуте. Его железные воины пали геройской смертью, — по-солдатски ясно и вместе с тем скорбным голосом доложил дивизионный генерал.
— Что — весь батальон целиком, до последнего солдата? — воскликнул император и, услышав подтверждение генерала, спросил: — Так сколько мы вчера потеряли?
— Около шести тысяч человек, сир, — поспешил доложить Бертье. — Но я полагаю, что урон неприятеля — не меньший.
Император вскочил из-за стола и, шмыгнув распухшим от насморка носом, кинул в рот очередную пластинку лакрицы.
— К черту ваши сопоставления с русскими потерями! Маршал Бертье, — возвысил он голос, преодолевая кашель. — Я для того и пришел в их скифские леса и степи, чтобы уничтожить русских как можно больше! А завтра мы сотрем их армию в порошок. Здесь, у берегов Москвы-реки, они найдут для себя могилу. Вот план атаки, которую я намерен начать завтра с рассветом.
По диспозиции, которую Наполеон успел начертать, завтра, седьмого сентября, или по исчислению, коим пользовалась Россия, двадцать шестого августа, основным силам «Великой армии» предписывалось следующее расположение и направление действий.
Королю Неаполитанскому Мюрату со своими тремя корпусами наступать от Шевардинского редута на левое русское крыло с целью Отрезать его от основных сил русской армии. Князь Понятовский, предназначенный к обходу русского левого же фланга, располагается за войсками Мюрата.
Маршал Даву, долженствовавший бить по оконечности также левого русского крыла, обязан был поставить дивизии Компана, Десекса и Фриана между Шевардином и лесом, который тянется до селения Утицы — до самой крайней точки левого русского фланга.
Маршалу Нею предоставлено было пробивать неприятельскую линию в промежутке между левым их крылом и центром. У Нея для этого был свой корпус и приданный ему еще корпус дивизионного генерала Жюно. Ней построился между Шевардином и Алексинским хутором, вытянув свой третий корпус в первой, а восьмой корпус Жюно — во второй линии.
Вице-король итальянский Евгений Богарне со своими войсками образовал левое французское крыло и должен бить в крыло правое русское. При вице-короле находились корпуса: его собственный, кавалерийский Груши и дивизии Жерара и Морана из первого, маршала Даву, корпуса. Они назначены противостоять центру и правому крылу русскому и составлять таким образом левое крыло армии французской.
Закончив чтение приказа, император оглядел своих генералов.
— Господа! Если каждый из вас в точности исполнит мною предписанное, мы пожнем лавры невиданной еще до этих пор победы. Я вижу ее отблеск на лицах каждого моего солдата. И этот отблеск — ярче, чем солнце Аустерлица. Русские ждут вас — придите к ним, на их позиции, и уничтожьте их!
Ближе всех к столу, почти рядом с зятем Наполеона, Неаполитанским королем Мюратом, стоял герцог Ауэрштедтский, князь Экмюльский, или иначе — маршал Луи Никола Даву. Сияние победы еще не обрамляло лысый череп маршала — он лишь поблескивал желтым пергаментным светом под лучами утреннего солнца, проникавшего сквозь створки дверей императорского шатра. Тонкие губы его были плотно сжаты, если не сказать, сомкнуты злобою по отношению к своему соседу и сопернику — Неаполитанскому королю.
«Я так и знал, — говорило выражение сухого, аскетического лица Даву, — что этого выскочку император поставит в своей диспозиции на первое место, хотя не он, а я оказался вчера победителем русских. Но я не собираюсь там, на поле боя, уступать ни на гран своей славы. Моя голова — не деревянная болванка, которая только и предназначена для того, чтобы ее разукрашивать страусовыми и павлиньими перьями да локонами до плеч, как, прости Господи, у девки из провинциального бардака».
— Сир, не сочтите за дерзость, но позвольте сказать тому, кто вчера открыл первое сражение с русскими, — разомкнув узкий рот, произнес Даву. — Вчерашний день показал: неприятель намерен биться насмерть. И не вернее ли будет позволить мне ударить моим корпусом на левое неприятельское крыло с моим выходом в тыл противнику? Как показало вчерашнее дело, левое крыло русских — самый уязвимый их участок. И если мы их обойдем, а затем ударим с тыла по центру, — армия Багратиона будет обречена. Даю слово, сир, я не оставлю от нее ни одного живого солдата!
Они были когда-то товарищами по военной школе. И Наполеон не раз отдавил должное Луи, его четкой логике и изворотливому, острому уму. И теперь предложение его говорило о том, как верно он определил самое уязвимое место в построении русских войск. Впрочем, сам император еще вчерашней ночью, когда заварилось, а затем окончилось дело у Шевардина, чуть ли не громко воскликнул: «Эврика!» — когда понял, что там, у русских, за этим чертовым курганом! А там, за курганом, укрепленным до зубов, — голая равнина, лес да болота. Туда, именно туда он, полководец, и решил завтра же обрушить всю мощь своей армии, чтобы, сломив сопротивление Багратионовых войск, окружить Кутузова и сбросить его в Москву-реку.
«Сию мысль, — сказал себе теперь Наполеон, — я не стал подробно выражать в своей диспозиции. Главное — ввязаться в драку, а там, в ходе схватки, я отдам Даву, Мюрату и Нею те приказы, что уже вызрели в моей голове. Однако хитрец Луи замысел мой раскусил. Только одно дело — идея и совсем иное — ее исполнение. А с этим у старого друга Луи не все получается по-задуманному, если меня нет с ним рядом. Но самое главное, что движет сейчас моим верным маршалом, это, скорее всего, желание мести. Да-да, мести его недавнему оппоненту на поле боя под Могилевом — генералу Багратиону. Эк, как сей ловкий русский генерал обвел хитрющего Даву вокруг пальца! Будучи в несколько раз слабее, он тем не менее смело вступил в бой одним своим корпусом со всеми силами Даву, а ночью ушел из мешка, который мог играючи завязать Луи! Теперь же почему не взять реванш за ошибку, до сих пор не дающую покоя уязвленному самолюбию? К тому же еще и отпихнув от будущих лавров своего давнего соперника и недруга, моего зятя?»
— Спасибо, герцог, за удачную мысль. — Наполеон обратился к Даву. — Признаться, я и сам имел в виду левое русское крыло, занимаемое Багратионом. По нему мы и нанесем свой главный удар. На сей счет я дам и вам, герцог, дополнительные указания. Но — не в самом начале сражения. Отнюдь! Вчера мы с ходу ввязались в битву, начав тем самым генеральное сражение с русскими. Меж тем вы видите, господа, начался новый день, а противник не подает никаких признаков своего стремления к бою. Слава Святым Отцам, что русские хотя бы остались на месте и не ушли, как они уже делали не раз в этой войне — и под Могилевом, и под Витебском. Потому я начну завтра сражение ударом на Бородино, на их центр, дабы не спугнуть дичь и не дать ей спохватиться и улететь.
Иоахим Мюрат, выставив вперед ногу в алом, украшенном бриллиантами ботфорте, и горделиво окинув взглядом своего соперника Даву, сказал в слишком уж оживленной своей манере, в какой никто, кроме него, не позволял себе высказываться в присутствии императора:
— Сир! А чего ждать с этой вонючей русской деревнею, что нагло выставила перед Эженом купол своей церкви? Прикажи, и Эжен сегодня уже положит сей клоповник к твоим ногам!
«Мать Мария! Один советчик глупее другого!» — произнес про себя Наполеон, готовый тут же резко оборвать зятя. Но он сдержал себя и спокойно пояснил, чтобы особенно подчеркнуть свою волю — действовать лишь по его строгому плану:
— Село Бородино от нас не уйдет. Русские так уверенно опираются на этот пункт, что всполошить их заранее не имеет никакого смысла. Завтра Дельзон двинется и с ходу займет Бородино. Это дело одной минуты! А уж следом за ним действуйте и вы все, господа.
Язвительные губы Даву снова образовали узкую щель, придав лицу выражение непоколебимой уверенности и решимости.
«Да, завтра каждому из нас судьба приготовит свой жребий, — подумал он. — Но я ни с кем не намерен делить право отомстить Багратиону за то, что он сотворил со мною на Днепре!»
Ровно в шесть утра двадцать шестого числа августа месяца сонная тишина, улегшаяся с ночи на огромном пространстве между Новой и Старой Московскими дорогами, неожиданно была разбужена пушечным выстрелом со стороны Шевардинского кургана. И следом по всему более чем тысячесаженному пространству, тянущемуся вдоль реки Колочи, воздух, остуженный за ночь росными туманами, стал с треском и грохотом разрываться на части, словно какой-то волшебный богатырь растянул над полем, лесами и дорогами гигантское холщовое полотно и рванул его с такою остервенелою силою, что оно порвалось на отдельные кусочки. Сразу стал упругим и вязким воздух, которым тяжело было дышать, а земля под ногами заходила ходуном, отзываясь на каждый удар пушки толчками, идущими откуда-то из ее земляного, потаенного нутра. И ветер, невесть откуда набежавший, донес до людей острый и кислый запах пороха и гари.
Меж тем весь вчерашний день на необозримом пространстве, оглушенном теперь неслыханною канонадой, ничто не говорило о том, чем окончится неправдоподобная тишина. Лишь изредка с русской стороны доносились дробные стуки топоров, визги пил, покрикивание старших и смех солдат. То в Семеновской и на кургане в расположении корпуса Раевского заканчивались спешные работы по возведению укреплений. А супротив происходило движение людских масс, и тоже слышались выкрики, но не работающих, а торжествующих людей.
— Да здравствует император! — то здесь то там вспыхивали бравые клики, утихшие лишь к ночи, когда с первыми блеклыми осенними звездами в рядах двух выстроившихся друг перед другом армий запылали цепочки бивачных костров.
На русской стороне ночью мало кто спал. С вечера Багратион издал приказ: варить кашу. Привезли водку. Но от, нее все дружно отказались: не такой впереди день. Зато извлекли из ранцев чистые рубахи и надели их на себя.
Самая пора для второго главнокомандующего, как продолжали величать князя Петра, было бухнуться на топчан и, по привычной своей манере, соснуть хотя бы часа два. Он и вытягивался под шинелью, смыкал веки, да тут же их снова раскрывал и, приподнявшись на локте, продолжал еще и еще раз строго допытывать себя: всюду ли побывал нынче, где намечал, все ли сделал, что собирался. Выходило, что ничего вроде бы не упустил, а воображение в то же время рисовало перед ним то одно, то другое, что все же надо было углядеть, подправить и попросту взять на заметку для будущего.
Мучило: сам не спал — ладно, но по его примеру скрипит досками, ворочается с боку на бок Николай. Ему, адъютанту Меншикову, не выдюжить бы тех бесчисленных разъездов из копна в конец, коли не его молодые силы. Однако молодость, она и на сон охочая. Набегался за день, а к ночи, где бы ни притулился, уже, видит свой первый сон. Только сегодня и он, Николай, — взведенный, как стальная пружина.
— Ну что, был вечером у тезки? — зная, что Меншиков не спит, спросил у него Петр Иванович.
— Получшело ему к ночи, — тут же откликнулся адъютант. — Доктор уверяет: молодость возьмет свое. Но пока князь Николенька, как и вам давеча, когда мы вместе приезжали к нему, жалуется: в голове — как оркестр. Музыкант ведь — потому такое сравнение выбрал. Иные в подобных случаях говорят: голова как колокол.
Последние фразы Меншиков, высказал нарочито бодро, даже с нескрываемым как бы смешком: самому понравилось выражение тезки об оркестре и чтобы за Голицына Петр Иванович излишне не переживал.
А надо сказать, что сообщение о том, что смертельно ранен на редуте его ординарец князь Голицын, Петр Иванович воспринял как удар током. Господи! Ведь понимал же — мальчик он! К тому ж и правда — музыкант, талант милостью Божией. Зачем же еще тогда, в Симах, раззадорил его своими разговорами о войне? И теперь вот подвел к гибели. Как станет смотреть в глаза родной и милой княгине Анне Александровне, зная, что то — его непростительная вина? Но словно пуды свалились, когда сам бросился на перевязочный пункт с Николаем другим, Меншиковым. Жив! Доктор показал фуражку, которую принесли вместе с жертвою. Пробита насквозь. Пуля же лишь обожгла, обдала тугою волною выше виска.
Теперь, услышав от Меншикова шутку об оркестре, Петр Иванович вдруг снова ощутил тревогу: он же и впрямь музыкант, как же будет теперь слышать струны виолончели, коли в голове останется постоянный шум?
— Успокойтесь. — Николай Меншиков встал со своего места у самой двери сарая и приблизился к Петру Ивановичу. — Доктор в который раз уверенно меня обнадежил и велел передать вам: контузия пройдет и не оставит следа. Да в том же уверил главный медик ваш Гангарт. Право, постарайтесь забыться, хоть часок сосните. Я уже подремал, выйду, чтоб вам не мешать, во двор. Хочется на звезды взглянуть — ясным ли будет завтрашний день.
Первые же ядра угодили в расположение Второй сводно-гренадерской дивизий Воронцова и двадцать седьмой дивизии Неверовского; что были выдвинуты впереди флешей у деревни Семеновской. Земля фонтанами пыли и дыма поднялась в нескольких местах, где сидели или лежали, отдыхая, солдаты. Они подхватились и, разбежавшись по сторонам, тут же снова соединились, чтобы составить строй. Батальон за батальоном занял Свои места в обороне.
Багратион, вскочив в седло, был уже у флешей, где подавал команды Воронцов.
Грохот стоял неимоверный. То началась дуэль французской и русской артиллерии.
Как и недавно при торжественном выезде в Смоленск, на Петре Ивановиче была полная парадная форма, а не привычный и особенно любимый им зеленый лейб-егерский сюртук. Блестели и переливчато сверкали золото и алмазы орденов, переливалась густыми небесными оттенками муаровая Андреевская лента, надетая через правое плечо.
— Смотрите, ваше сиятельство, — показал Воронцов рукою в сторону Бородина, — там — такая же канонада. Штурм села иль то — обманный маневр?
— Мы, мы, дорогой Михаил Семенович, — главная Наполеонова цель! — прокричал почти в ухо начальнику дивизии Багратион. — Село, без всякого сомнения, они возьмут с ходу. Но далее — стоп! Далее — только мы их главная добыча, любезный граф.
Генерал-майор Воронцов, сын посла в Англии и сам все детство и отрочество проведший в Лондоне, был по-джентльменски сдержан. Но все ж русская порода в сей необычный и возвышенный момент и в нем взяла верх.
— Стоять будем, пока живы! — воскликнул он. — А может, и мертвыми вызовем страх у неприятеля. Как второго дня при Шевардине. Помните, земля на редуте и даже пушки завалены грудами тел и французы в ужасе отступают.
— Нынче день обещает быть жарким, — неожиданно сбил пафос Воронцова князь Петр. — Вон князь Меншиков ночью не раз выходил из дверей поглядеть, ясно ли высыпали звезды.
Адъютант крутанул красивою головою, отозвался в тон:
— Звезды, ваше сиятельство, многое могут предсказать. Но для сего надобно знать их язык, коим они переговариваются там, во Вселенной. А наш язык — вот он, гремит, точно небеса рушатся, и не на чем будет теперь бедным созвездьям держаться!
— Им, звездам, известна планида каждого из нас, на земле живущих, — вернулся к своей серьезной и в то же время сдержанной англиканской манере Воронцов.
Лицо Багратиона обрело вдруг по-восточному непроницаемое, даже загадочное выражение.
— Мне моя планида давно известна, — едва слышно, как бы про себя, произнес он и тронул шпорами лошадь. — Удачи, граф, тебе и твоим гренадерам.
Теперь ядра тяжелых двенадцатифунтовых русских пушек на расстоянии почти целой версты колошматили ряды строящейся в колонны французской пехоты. Картечь косила целые взводы, но стена синих мундиров казалась неколебимой. Колонны двигались в обход флешей по Старой Смоленской дороге и от Шевардина — по прямой, в лоб. То спешили дивизии Даву и Понятовского, как и предписывала им составленная накануне Наполеонова диспозиция.
Лишь менее получаса длилась эта, под барабаны, атака французов, но, рассеянная пушечным и ружейным огнем, она сорвалась. И снова через полчаса — барабаны сзывают на приступ.
Старые знакомцы по давешнему сражению при Шевардине — егеря Компана идут в полный рост. Вот уже до них триста, двести пятьдесят, двести шагов. Шрапнель рвется над их головами, разит наповал.
Кто-то первый из французов, не выдержав, бросается в лес. За ним — остальные. Но в гущу сбившегося людского стада врывается генерал. Золотые пышные эполеты сверкают огнем. Лошадь топчет тех, кто не желает остановиться и, закрыв головы руками, панически бежит под защиту деревьев.
Паника в неприятельском стане как мгновенно возникла, так быстро и прекратилась. Генерал на коне уже впереди. Это сам дивизионный командир Компан. Он, герой Шевардина, теперь непременно хочет получить и лавры покорителя Семеновских флешей. Но что это? Генерал падает с седла. Его подхватывают и выносят на опушку леса. И этого довольно, чтобы войска снова попятились к лесу!
Маршал Даву как раз оказался всего в сотне шагов от того места, где упал тяжело раненный Компан.
«Святые Отцы услышали мою молитву! — осенил себя размашистым католическим крестом самолюбивый маршал. — Я сам поведу этих баранов, потерявших своего пастыря, в бой до полной победы. Не поляк Понятовский, не хвастун Мюрат займут Багратионовы флеши, а я — бессменный командующий самого первого корпуса «Великой армии».
Он привстал на стременах и, оглядев столпившихся вкруг него солдат, крикнул:
— Вперед! Да здравствует император!
Пушки — в цепь. Пехота — на приступ. Ядрам, кажется, негде упасть. И вот уже свалка на южной флеши. Где синие французские, где темно-зеленые русские мундиры — все вперемешку, все сцепилось, скаталось в рукопашной в один клубок.
И вдруг — вновь оторопь в неприятельских рядах, что волна за волною катятся к Багратионовым флешам.
— Маршал убит! Даву…
Задним не видно, что с их вождем, куда и как его угораздило. Те, кто уносят маршала на плаще, передают, что он весь в крови, сразу не разобрать, убит или ранен.
Теперь ведет солдат в ответный приступ Багратион. Он — в пешем строю, со шпагою в руках. Не отставая, за ним — Неверовский. Это его дивизии дан приказ: отбить занятые укрепления.
И — флешь снова у русских!
Сражение идет уже час, даже чуть с лишком. Но — никакого ощутимого успеха у французов! Даву приходит в сознание после контузии. Оказывается, под ним была убита лошадь, и он, залитый ее кровью, грохнулся на землю. Он морщится, когда узнает, что император распорядился послать к нему на подмогу корпуса Нея и Жюно, а всю кавалерию переподчинить Мюрату.
Багратион, пришпорив лошадь, одним махом вскочил на высокий гребень оврага за деревней Семеновской. Весь горизонт был в султанах дыма; в перелесках, то мелькая, то вновь пропадая за кустами, двигались французские колонны.
«Сплошной ад ожидает нас сей день. Нет, тут не найдется места даже трусу, чтобы где-либо укрыться», — сказал он себе и оглянулся, заслышав приближающийся конский топот.
— Ваше сиятельство, — молодой поручик, серый от хлопьев пыли, привстал в седле, — в ваше распоряжение послан второй пехотный корпус. Я — от самого генерал-лейтенанта Багговута.
— Идет ко мне Карл Федорович? — переспросил Петр Иванович.
«Так он же в Первой армии! Кто его послал?» — хотел расспросить порученца, но тот сам, не дожидаясь вопроса, уточнил:
— Это — приказ Михаила Богдановича. Барклай, сообщил мне Карл Федорович, самостоятельно распорядился направить к вам наш корпус. Полагаю, через какой-нибудь час войска к вам подойдут.
«Барклай, сам? На свою ответственность?.. Через час… — пронеслось в голове Багратиона. — Что ж мне остается, кроме благодарности Михаилу Богдановичу. И я выражу ее. Непременно выскажу ему при случае. А теперь — держаться!»
Началась третья атака французов. Ее возглавил Ней. Он летел на коне впереди колонны, и ни пули, ни осколки ядер и гранат не брали огненно-рыжего Мишеля, храбрейшего из храбрых, как скажет о нем Наполеон. Маршал Ней будет возведен здесь же, на поле Бородина, в степень принца Московского. И, наверное, по заслугам: так стремителен и смел окажется его натиск на Багратиона.
Впрочем, и сам Багратион воздаст ему должное. Когда он, после контузии Неверовского, поднимет остатки дивизии в штыковую атаку против французов, не сможет удержаться от того, чтобы не воскликнуть «браво».
— Браво, отважные французы! — громко выкрикнет князь Петр, сходясь с пехотою Нея.
На каждом редуте у Семеновской — так же, как было два дня назад у Шевардина, — горы трупов. А штурм: не утихает. Начинается четвертая атака из восьми, что обрушат с шести утра до полудня на левое крыло русских войск главные силы Наполеона.
Да, восемь атак! Натиск восьми из одиннадцати французских корпусов на самый малочисленный и самый незащищенный участок русских войск!
Что было в те часы в мыслях главнокомандующего Кутузова, о чем он думал, когда, истекая кровью, армия Багратиона одна сражалась почти со всею Наполеоновой армадой?
Впрочем, ему, вероятно, довольно было осознавать лишь одно, что являлось тогда для него главным: там — Багратион, он спасает всю остальную армию. И он ее спасет. Разве не так было когда-то под Шенграбеном?
Однако уже пятая атака. Багратион спешит к Воронцову и видит, как того, поддерживая под руки, выводят из огня. В руке у графа Михаила Семеновича — обломок шпаги.
— Ранены? Куда? — тревожный вопрос Петра Ивановича.
— В ногу, — показывает Воронцов. — Кажется, я не сдержал своего слова — первым из генералов нынче убываю из строя. Но моя дивизия остается здесь — она почти вся вот в этой земле!
И от дивизии Неверовского — жалкие остатки.
А время — только девяти утра. Три часа кровавого кошмара — позади и еще три таких же, если не ужаснее, — впереди.
Рвутся вперед корпуса Нея и Даву, Жюно и Понятовского… А вот и бешеный натиск сразу трех кавалерийских корпусов Мюрата. Но Багратион бросает навстречу Неаполитанскому королю дивизию кирасир.
Мюрат скачет впереди — всадник с развевающимися над головою перьями, весь в блеске дорогих одежд.
Можно побиться об заклад, что в голове короля и маршала теперь одна мысль: как было бы благородно, если бы они сошлись здесь, на глазах двух армий — два рыцаря, он и давний его знакомец отважный Багратион! Но какой это, право, поединок, если вокруг — сущий ад? О Боже! Разве можно теперь помышлять о каком-либо благородстве, когда еще в Смоленске он, Мюрат, с отчаяния упал в ноги Наполеону и умолял немедленно окончить войну и вернуться, пока не поздно, домой? А принц Багратион — у себя дома. И он дерется затем, чтобы защитить свой дом.
Мюрат будет сражаться до самого конца, до окончательного падения наполеоновской Франции и его Неаполитанского королевства. И в последние свои дни — тоже за свой дом. Вернее, за то, чтобы вернуть себе королевство. Много будет намешано в его красивой голове с развевающимися до плеч смоляными локонами — и сумбурного, и недальновидного, и не совсем рыцарского. Но смерть свою он встретит до предела мужественно. Приговоренный к расстрелу, он откажется от того, чтобы ему завязали глаза, и, глядя в дула ружей, прикажет солдатам целиться ему в самое сердце и притом сам скомандует им: «Огонь!»
Теперь же, в день Бородина, спасая свою кавалерию, он отступает от Багратионовых редутов.
Семеновские высоты… Флеши и редуты Багратиона, не сломленные никакими атаками… Вот что выводило из себя французского императора. Как могут они так долго сопротивляться? Неужели эти русские и впрямь предпочитают умирать, но не сдаваться и не отступать? Ведь он, гениальный полководец, все заранее продумал, все учел и все подсчитал.
Да, он принял предложение Даву — обойти левое крыло русских, чтобы всю остальную армию прижать к Москве-реке и уничтожить. Но как их обойти на этом неприступном чертовом левом фланге, когда они стоят как утес и сковывают все главные силы «Великой армии»?
Нет, они должны быть взяты и окружены, Семеновские высоты! Тогда он приведет в действие остальную часть своего плана — ударит в центр и разгромит русских наголову.
И вот она, решительная восьмая атака. У Багратиона с подоспевшими резервами — около двадцати тысяч защитников. Против него только в первой линии наступающих — более сорока тысяч. И четыреста пушек — ровно две трети всей артиллерии Наполеона!
Нет, это уже поединок принца Багратиона не с Неаполитанским королем в рыцарской сшибке, о чем когда-то мечтал Мюрат. И не реванш маршала Даву за поражение на Днепре. Это — Багратион против самого Наполеона. Это вся сила русского духа против смелости, отваги и вышколенности «Великой армии», покорившей уже всю Европу.
Можно ли свершить невероятное — остановить смертоносный вал наступления? Свыше семисот пушечных стволов с обеих сторон на пространстве не более одной квадратной версты — вот царство смерти, вот ее безраздельное владычество! И ничто уже не страшно тем, кто устремляет свой шаг к Семеновским высотам.
«Значит, ничем нельзя их остановить и заставить повернуть вспять? Как бы не так! — озаряет Багратиона внезапно возникшее решение. — Есть в моем распоряжении великое дело, коим я не премину воспользоваться именно в сей безвыходный час. Это — русский внезапный натиск и русский штык. И пусть снизойдет на каждого из нас в сей час тень великого Суворова!»
— Построить всех в линию! — Багратион передает команду по рядам сражающихся. — И — вперед, с Богом!
Казалось, все уже было истощено — и чудеса храбрости, и сверхъестественное терпение, и отвага, помноженная на отчаяние. Но проявилось то, на что рассчитывал в сии минуты князь Петр, — решимость к великому самопожертвованию, что одно в самый непоправимый, казалось бы, момент придает силы.
И сил этих хватило, чтобы сломить натиск и вновь отстоять Семеновское.
— Теперь в бой — кирасиры! — взмахнул рукою Багратион, делая знак, чтобы развить успех боя.
Он был горд и торжествовал победу — победу, столь немыслимую еще час, еще полчаса назад! Однако произошло непредвиденное и в полном смысле слова роковое. Петр Иванович вдруг содрогнулся всем телом, ощутив страшную боль в левой ноге. Глянув вниз, он увидел, как на рейтузах появилось алое пятно, и оно стало молниеносно все более и более расширяться.
— Что с вами, ваше сиятельство? — подскочил к нему Меншиков. — Вы бледны! Вы ранены?
И только тут Николай увидел, как кровь залила всю ногу князя выше ботфорта и он вот-вот готов вывалиться из седла.
Адъютант спрыгнул с лошади и стал помогать Багратиону слезть с коня.
— Погоди… Не надо, чтобы увидели, — превозмогая невыносимую боль, проговорил князь, но голова его в тот же миг упала на грудь.
Багратиона осторожно положили на землю, сняли сапог. Уже появились санитары с носилками. Но он отстранил их.
— Оставьте меня… Я не могу… Я не должен покинуть сего места, пока не увижу, чем закончится атака кирасиров. Помогите мне встать.
Его тем не менее уложили на носилки и стали уносить к уже подоспевшим дрожкам. Над ним склонился его ординарец Андрианов:
— Ваше сиятельство! Вас везут лечить, во мне уже нет вам больше надобности. Так дозвольте мне за вас отомстить.
Андрианов вскочил в седло и на виду тысяч сражавшихся врезался в рассыпанный строй кавалерии Мюрата.
— Вот вам за князя! — сразил он одного, второго и третьего всадника и сам упал, пронзенный вражеской сталью.
— Спасите, спасите Андрианова! — простер руки в сторону сечи Багратион, и слезы полились по его лицу.
И хотя собственная боль жгла нестерпимо, то выступили, скорее всего, слезы отчаяния и бессилия: как случилось, что не смог, не успел сберечь жизнь так верно служившему ему человеку?
Но в этот момент он не знал еще другого: весть о том, что он смертельно ранен, мгновенно ужаснула тех, кто был сейчас в атаке, что вот-вот должна была закончиться успехом. Армия, потрясенная тем, что погиб, убит ее главнокомандующий, дрогнула и стала отступать.
С трудом ее удалось остановить Коновницыну и привести в порядок смешавшиеся ряды. Семеновского было уже не удержать. Но за деревнею войска вновь стали стеною. Круглоголовый, плотно сбитый Дохтуров, принявший командование левым крылом, никогда не выделявшийся красноречием, сказал, подъехав к занявшим новую позицию:
— Будем умирать здесь все. Назади для нас другой земли нет.
Глава тринадцатая
Первый, кому он несказанно обрадовался, когда его, привезли на перевязочный пункт, расположенный за деревней Семеновской, был Николай Голицын.
Заметно порозовевший и уже без повязки на лбу, он тотчас кинулся к Петру Ивановичу:
— Ваше сиятельство, я вас здесь жду. Уже давно. Как только узнал, что вас… что тебя… Как ты? Очень болит? А меня, понимаешь, уже выписали — светлейший приказал явиться в его распоряжение. Но я выпросил, разрешение остаться пока при тебе. Ты ж понимаешь: как я могу теперь тебя оставить?
Бледное, заметно осунувшееся лицо Багратиона: осветила улыбка.;
— Спасибо тебе, брат. Но ты нужен там, где все.; Как там? В чьих руках флеши?
Старший врач лейб-гвардии Литовского полка Говоров, что привез Петра Ивановича в лесок, служивший походной перевязочной и операционной, вошел в палатку вместе с главным военно-медицинским инспектором русской армии и лейб-медиком императорского двора Вилье. На обоих были кожаные фартуки, которые доктора повязывают перед операцией.
— Ваше сиятельство князь Петр Иванович, не извольте беспокоиться, мы сей же час сделаем все необходимое, дабы оказать вам помощь. — Вилье взял руку Багратиона. — Ну вот, как я и ожидал, пульс хорошего наполнения. Остается лишь осмотреть рану.
На столе, куда его перенесли, к ноющей острой боли, что не отпускала ни на секунду, прибавилась новая, которую, казалось, ему уже не перенести. То доктора ввели в рану какие-то металлические инструменты, чтобы, как они заявили, произвести зондаж пораженного места.
На какие-то минуты раненый оказался в забытьи, а когда открыл глаза, обнаружил себя снова в палатке, но в более просторной, чем та, куда его внесли сразу же из кареты. Вокруг были те же врачи, санитары и Николай Голицын.
— Ранение, на наш взгляд, не так чтобы очень опасное, — произнес Вилье. — Мы прочистили рану и перевязали ее. Но следует вас везти далее — в Можайск, а лучше — в Москву. И как можно скорее. Не мне объяснять вашему сиятельству, какова обстановка там, в какой-нибудь версте от нас.
— Да-да, я хочу знать, что там, что с моею армией? Кто принял над нею командование? — Князь привстал, опираясь на локоть, и тут же, смертельно побледнев и покрывшись испариною, откинулся на подушку.
Голицын, опередив санитаров, кинулся к Багратиону и, схватив со столика салфетку, отер ему лоб.
— Наша армия дерется. Светлейший поручил ее Дохтурову, Дмитрию Сергеевичу.
Он вновь, дернувшись всем телом, силился приподняться, но Николай его удержал.
— Пусти! — потребовал Багратион. — Вы все что-то скрываете от меня. Французы что — взяли Семеновскую? Тогда где же Тучков?
Николай выпрямился и показал головою на раскрытый полог палатки:
— Генерал-лейтенант Тучков-первый… Николай Алексеевич, здесь, в палатке рядом. Он тяжело ранен. Генерал-майор Тучков-второй, Андрей Алексеевич, убит. Погиб генерал Кутайсов Александр Иванович. Он вместе с Ермоловым возглавил атаку на курганную батарею Раевского и отбил ее.
— А Раевский, что Николай Николаевич? — горячо произнес Багратион.
— Держится. Курганная высота вновь наша. Но за Семеновскую пришлось отойти. Теперь у французов уже нет более сил, чтобы сбить наши войска с позиции. Наша армия, как и правое крыло, не отступает ни на шаг. Да вот я теперь же приглашу сюда Левенштерна. Он здесь. Можно, господа доктора? — спросил Голицын и вышел вслед за ними на воздух.
Вилье остановил Говорова:
— Яков Васильевич, я был бы вам благодарен, если бы вы взялись сопровождать князя в Москву. Его состояние все же внушает мне опасение: не лучше ли подготовить его сиятельство к ампутации?
Услышав последнее слово, Голицын переменился в лице:
— Ваше высокопревосходительство, что вы сказали? Неужели?..
— Простите, князь, — остановил его Вилье. — Я бы не очень беспокоил его сиятельство рассказами о той катастрофе, что постигла Вторую армию после печального происшествия с ее главнокомандующим. Вам ли не знать: сия весть парализовала войска и они до сих пор не придут в себя. Вторая армия, можно сказать, уже не существует. Многие ее генералы и полковники пали на поле брани или — здесь, у нас. Так можно ли обо всем этом князю — теперь, в его положении?
Голицын вспыхнул:
— Князя Багратиона скорее всего может сразить не правда, а утайка ее. И разве не ваше высокопревосходительство высказали мысль о том, что его сиятельство лучше теперь же подготовить к наихудшему, что может ему грозить?
Майор Вольдемар фон Левенштерн, опираясь на руку Голицына, пряча повязку на груди под накинутым на плечи сюртуком, предстал перед Багратионом.
— Я хотел видеть вас, барон, чтобы узнать от вас, как там Михаил Богданович? — неожиданно обратился к вошедшему Петр Иванович. — Мне говорили, вы находились с ним до того, как вас недавно доставили сюда?
Адъютант главнокомандующего Первой армии не ожидал подобного вопроса и потому даже несколько растерялся.
Благодарю, ваше сиятельство, — пробормотал он, зная не только о натянутых, но скорее даже враждебных отношениях между князем Багратионом и своим непосредственным начальником. — Благодарю вас, князь, что вспомнили о Михаиле Богдановиче. Он очень переживал, зная, что происходило в расположении вашей армии. У него с утра не было во рту маковой росинки. Час назад он прямо-таки изнемогал от голода и попросил у меня лишь рюмку рома и кусочек хлеба.
Багратион остановил свой взгляд на получившем ранение верном адъютанте Барклая.
— Вы, барон, пролили кровь за наше общее с вами отечество. Я благодарю вас за сей священный удел доблестного русского офицера. Но скажите мне чистосердечно: в сей день Михаил Богданович появлялся в самых опасных местах и, как мне передавали, искал смерти. То верно?
— Я не скрою сие от вас, — проговорил Левенштерн. — Чистая и светлая душа Михаила Богдановича глубоко уязвлена и оскорблена тем недоверием и подозрением, кои его так безжалостно постигли. А ведь он…
— Я знаю, — мягко остановил адъютанта Багратион. — Потому я и завел с вами сей нелегкий и для меня разговор. И я хочу, барон, просить вас непременно передать Михаилу Богдановичу мое искреннее к нему уважение. Участь войск наших теперь во многом будет зависеть от него. В том числе и воинов моей Второй армии. Я буду счастлив знать, что судьба вверенных когда-то мне солдат и офицеров окажется ныне в верных руках генерала Барклая. А теперь ступайте, барон. Кажется, после перевязки вы намерены вернуться в строй?
Ехать Багратион мог лишь с частыми остановками. В Можайске же задержался на целый день. А в Больших Вяземах, в тридцати семи верстах от Москвы, распорядился сделать остановку на два дня. Только тридцать первого августа он прибыл в Москву, на улицу Большая Лубянка, в дом графа Ростопчина.
Состояние друга поразило Федора Васильевича. Раненый оказался слаб, бледен, черты лица его заострились, остался лишь большой не в меру нос да глубоко запавшие глаза.
Граф тут же распорядился пригласить лучших медицинских светил Первопрестольной, в том числе с медицинского факультета Московского университета. Светила переглянулись с Говоровым и вышли в соседнюю комнату.
— Настаиваю на немедленной ампутации, — сказал университетский профессор Гильдебрандт.
— Такое же мнение еще на поле боя высказал Вилье, — подтвердил полковой врач Говоров. — Однако же надо знать характер князя Петра Ивановича. Я пытался его подготовить, но он как отрезал: «В строю — и без ноги? Нет уж, я лучше помру…»
— Да-с, будь он рядовой, так сказать, генерал, каких немало, должно быть, легло нынче на операционные столы… — произнес кто-то из приглашенных светил. — А то ведь — герой, каких в России наперечет. Тут только одна воля государя могла бы склонить его к необходимому решению. С нами же у него — разговор короткий.
— Особливо со мною, — добавил Говоров. — Мне, как полковому лекарю, — кругом марш, и вся недолга.
В комнату влетел хозяин дома.
— Меня, меня одного, а не токмо государя послушает князь! — положил он конец консилиуму. — Однако сей день должна решиться главная задача — отстоим ли Москву. Коли Кутузов даст сражение и разобьет неприятеля — передам в ваши руки князя. А не то — вывозить его немедля отсель. Не токмо госпиталей, клиник и больниц — ни одного дома в целости не оставлю я, московский генерал-губернатор, проклятому Бонапарту!
Таких битв, как разразившееся пять дней назад Бородинское сражение, у Наполеона еще не было. Спустя годы, уже в ссылке на острове Святой Елены, бывший французский император найдет нужным признаться: «Из пятидесяти сражений, мною данных, в битве под Москвой выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех».
Не будет преувеличением сказать, что сие ощущение, должно быть, впервые посетило великого полководца именно там, на поле Бородина, когда уже под вечер он выехал на линию и увидел, что русские войска стоят почти на тех же самых позициях, которые они занимали до начала схватки. Многие укрепления были разрушены, войска, особенно на левом русском фланге, были несколько оттеснены, но сбить их с позиций и особенно обратить в бегство у французов не было никакой возможности.
К девяти вечера, когда уже село солнце и окончательно смолк грохот орудий, все пространство между двумя трактами, устремленными к Москве, и рекою Колочью представляло собою гигантское кладбище без могил — так густо, почти неправдоподобно, была покрыта трупами каждая сажень земли. То были ужасные плоды кровопролитнейшей схватки, в коей французы с блеском проявили порыв и силу, русские же показали непреодолимые стойкость и мужество. И нельзя было оставшимся в живых в этом аду смерти на той и другой стороне, опустив головы в память павших, в то же самое время не воодушевиться сознанием своей победы.
Так, собственно, еще не остыв от лихорадки боя, и расценили тогда итог сражения французы и русские. И не случайно посему Кутузов в донесении царю, написанном в тот же вечер; сообщал: «Кончилось тем, что неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходными своими силами». И тогда же он высказал вслух свое намерение: с утра возобновить сражение. Но утром русское войско уже шло в направлении к Москве, а первого сентября оно оказалось у Поклонной горы, на виду у Белокаменной.
Экипаж Ростопчина взъехал на Поклонную гору, когда уже там в окружении генералов находился Кутузов. Он сидел, по своему обыкновению, на маленькой низенькой скамеечке, что возил за ним один из конвойных донских казаков.
— А вот в главнокомандующий Москвы! — как-то бойком, зрячею стороною оборотился Михаил Илларионович к графу. — Как и подобает предводителю — сам впереди, дружина же боевая — следом! Ну-ка, любезный Федор Васильевич, представьте нам свое войско. Ныне оно во как нам необходимо — глядите, готовим оборону, чтобы защитить первопрестольную, не дать ворогу ею овладеть.
Аж пот прошиб генерал-губернатора. И он, дабы скрыть смущение, тоже взял ернический тон.
— Вот что значит сила моих афишек: сам главный наш полководец проникся верою, кою я намерен был вселить в каждого истинного патриота! — Ростопчин весь расплылся в улыбке.
— Выходит, ваши слова — пустая болтовня? — так же деланно изумился Кутузов. — А мне еще в канун сражения князь Багратион ваше, Федор Васильевич, письмецо зачитывал, где вы клятвенно грозились: на защиту Москвы выйдут силы несметные! Да вот и афишка ваша последняя — о том же.
Кутузов вынул из кармана сюртука сложенный вчетверо листок. Ростопчин наизусть знал, о чем в этой прокламации он сам писал. «Я жизнию отвечаю, что злодей в Москве не будет, и вот почему: в армиях 130 тысяч войска славного, 1800 пушек и светлейший князь Кутузов, истинно государев избранный воевода русских сил и надо всеми начальник, у него сзади неприятеля генералы Тормасов и Чичагов, вместе 85 тысяч славного войска, генерал Милорадович из Калуги пришел в Можайск с 36 тысячами человек пехоты, 3800 кавалерии и 84 пушками и т. д. А если мало этого для погибели злодея, тогда уж я скажу: «Ну, дружина московская! пойдем и мы, поведем 100 тысяч молодцов, возьмем Иверскую Божию Матерь да 250 пушек и кончим дело все вместе!»
— Ну-с, милостивый Федор Васильевич, коли ваши обещания — средство для поднятия духа и не более того, нам, воинам, следует дело делать. Я своею сединою поклялся: неприятелю нет другого пути к Москве, как только чрез мое тело! И Господь тому свидетель — мои слова верны. Видите, граф, какие работы начаты по укреплению позиций?
Только теперь Ростопчин увидел, как солдаты дружно рыли вокруг землю, тащили на горбах своих откуда-то привезенные бревна, пилили, рубили и колотили топорами вовсю, готовя, видно, редуты и флеши для артиллерии и пехоты.
— А я уж, ваша светлость, — не отходил от Кутузова московский губернатор, — распорядился вывезти из столицы принадлежащие казне сокровища и все казенное имущество. Спасены важнейшие государственные архивы. Многие владельцы частных домов укрыли лучшее свое имущество. Так что надобно ли уж так непременно защищать город, ежели, даже и овладев им, неприятель не приобретет в нем ничего полезного?
«Вот этого-то я от тебя и ожидал, Герострат[28] ты паршивый! — продолжая хранить любезную улыбку на припухлом своем лице, обрадованно сказал себе Кутузов. — Знаю, давно уже ведаю, что у тебя, завистника и стяжателя чужой славы, на уме: сжечь на глазах неприятеля дорогую нашу древнюю столицу и самому таким образом прослыть героем и первым русским патриотом. Не доставайся, дескать, злодею, коли тебя, нашу златоглавую, не сумели защитить воины! О сем ты, граф, уже сразу после Смоленска стал писать Багратиону, ища в сем герое первую свою поддержку, хитрющим умом своим пораскинув: коль самый прославленный генерал русский сию затею одобрит, то твое пожарное дело и выгорит. Что нет более честнейшей и преданнейшей отечеству души, чем у князя Петра Ивановича, — тут ты не ошибся. На все готов Багратион, чтобы спасти родную землю. И — своей собственной жизни для сего не пожалел. Ты же способен лишь на пустое подстрекательство и смутьянство в народе. И на то, чтобы воровато, исподтишка метнуть горящую головню в священные наши камни. Мне же теперь Москва покуда целехонькая нужна. Я знаю: защитить ее — нет у меня сил. И уйти от нее в сторону — смерти подобно. Неприятель пойдет за армиею нашею, чтобы добить ее до конца. И тогда не Москва одна — пропадет Россия. Посему одно остается: самим пройти чрез Москву, чтоб заманить в нее следом все Наполеоново войско. И тогда сама столица доделает то, что оказалось бессильно соделать храброе, но ослабевшее мое воинство. Есть такая способность у губки: враз всосать в себя сколь можно воды. Так и город — рассосет соблазнами то, что пока зовется «Великою армиею», превратит ее в скопище мародеров, воров и пьяниц. А тогда, граф, и твоего красного петуха подпустить — тут я с тобою не спорю. Но — не прежде, чем я столицу отдам и сам из нее уберусь».
Итак, граф, в одном могу вас уверить: мое убеждение — дать здесь, у стен первопрестольной, решительный отпор злодею! Правда, многие мои генералы, как и ты сам, сомневаются: а надо ли? — Набухшее веко чуть приподнялось на незрячем глазу. — Вон Ермолов, начальник главного моего штаба. Подойди-ка, Алексей Петрович, к нам с графом. Выходит, по твоим словам, сия позиция не совсем годна для решительного сражения?
Генерал, богатырской стати, широкий в плечах, явно смутился.
— Я о том вашей светлости уже имел честь доложить, что на сем месте — от Поклонной горы и до гор Воробьевых — не так будет удобно разместить шестьдесят тысяч человек.
Кутузов протянул к Ермолову свою руку и, пощупав его пульс, спросил:
— Здоров ли ты, Алексей Петрович? — И, оборотясь к Ростопчину: — Сей час получил я государев рескрипт: волею его императорского величества произведен я, в генерал-фельдмаршалы. Мне ли теперь, обласканному царскою милостью, не спасти Москву? Жди нонче уже к вечеру от меня письма, любезный граф Федор Васильевич, на тот счет, как поступать тебе согласно, моему решению.
В свой особняк на Большой Лубянке Ростопчин вернулся в возвышенном состоянии духа и с порога объявил страдающему Багратиону:
— На Воробьевых горах и на Поклонной — сам видел — готовятся к бою. Не отдадим, князь, древней нашей святыни — Москвы! А коль станет в нее ломиться неприятель — зажжем, как свечу, чтоб один только пепел закрутился по ветру.
— Истинно, друг мой, — ободрился Петр Иванович. — Лучше город предать огню, нежели сдать неприятелю. Эх, мне бы теперь встать и объявиться пред полками!
— Господь с тобою, князь, тебе чуть свет завтра далее надо ехать, — замахал на него руками Ростопчин.
— А куда? Кто и где меня, бездомного, ждет? В Симы податься? Там — никого. Князь Голицын Николай сказывал: его отец и мой друг генерал Борис Андреевич то ли во Пскове, то ли во Владимире готовит ополчение. Тетка моя, княгиня Анна Александровна, с дочерьми в Санкт-Петербурге. Помру — некому глаза будет закрыть и негде окажется похоронить — места своего не имею, где пустил бы свои корни. А Москву коли сдадут — умру не от раны своей, а от тоски безысходной.
— Будет тебе! — остановил его Ростопчин. — Да как можно такое говорить? Тебе жить, а не помирать. Тоже мне заладил, будто не первый герой отечества. А родня твоя — вся Россия. Да первый твой брат, коли на то пошло, — я, Ростопчин — граф. Только скажи я, что в дому моем сам Багратион обретается, тебя, друг мой, на руках до самого Ярославля понесут, дабы только укрыть и спасти!
А к ночи уже заходили ходуном двери в доме главнокомандующего Москвы. Вестовой офицер вручил пакет от Кутузова. Вскрыл его Ростопчин и ахнул:
— Провел меня старый лис, ох как подло провел! На улицах уже — армия наша: оставляют Москву. Ах, князь, каков сей гусь! Мало того, что отдает город злодею — так и мне не позволил зажечь столицу на виду неприятеля.
Так на самом деле и задумал Кутузов: он до поры до времени и от генералов своих, кто рвался в бой, скрыл, что судьба столицы им уже определена. Лишь в середине дня на военном совете в Филях, выдворив с Поклонной горы Ростопчина, он объявил свое решение.
— Поток неприятельских войск нечем ныне остановить, — сказал он, выслушав каждого из присутствовавших на военном совете. — Пусть же Москва станет на его пути губкою или лучше — западнею, в коей он и потеряет свою силу. Тогда и пожар в ней будет к месту.
Все, кто находился в доме на Большой Лубянке, высыпал на улицы. Бросился за вестовым, присланным светлейшим, и Ростопчин. Армия, как увидел он, шла через Дорогомиловский мост и Замоскворечье, через Арбат к Рязанской дороге.
Лишь назавтра, вернувшись домой, нашел он у себя на столе записку Багратиона: «Прощай, мой почтенный друг! Мне боле не жить. Рана моя смертельная — не в ноге, а прозванье ее — Москва».
Поутру второго октября из ворот голубого с белыми разводами генерал-губернаторского дома выехала четырехместная дорожная карета, запряженная шестеркою лошадей, и взяла направление на Владимирский тракт. За нею двигался целый поезд из колясок, экипажей и телег — по распоряжению Багратиона с ним следовали прибывшие в Москву из-под Бородина раненые воины. За каретою скакал казачий конвой.
Тяжело было на сердце Багратиона — нестерпимо мучила боль, усиливающаяся в дороге, и тревожили думы: что ожидает его впереди. Одно приносило хоть какое-то успокоение — сознание выполненного долга. И не только пред отечеством — пред товарищами, с коими был на поле боя. За два дня пребывания в Москве он составил список всех отличившихся своих подчиненных, начиная с генералов, старших и младших офицеров и кончая нижними чинами, кого следовало представить к наградам. Бумаги он вручил своему адъютанту Меншикову, чтобы тот передал их Кутузову.
Что оставалось сделать еще, о чем ни в коем случае не следовало забыть, пока он находился в сознании и здравом уме? Составить завещание? Но есть ли у него какое-либо имущество, которое можно было бы кому-то завещать? Какие-то оставшиеся суммы от жалованья да еще, кажется, деньги, полученные за дачу в Павловске, которую он продал императрице Марии Федоровне. Оставалось лишь отпустить непременно на волю людей, что были приписаны к нему в качестве крепостных, — всего пятеро душ.
Сию волю он уже также изложил на бумаге и засвидетельствовал подписью Николая Голицына, прежде чем отправить его назад, в кутузовский штаб.
Дорога укачала, и он встрепенулся от дремы лишь в виду Троице-Сергиевой лавры, когда услыхал голос Меншикова.
— Ваше сиятельство, извольте — вам почта из Петербурга. Ее передал мне светлейший, наказав, чтобы как можно быстрее — за вами вдогон.
— Что Москва? — нетерпеливо перебил его Петр Иванович. — Вошел в нее враг?
— Так точно, ваше сиятельство, французы уже в городе. Но она, святая, подожгла самое себя! Горит, как свеча, со многих сторон. Оглянитесь: даже отсюда зарево видать.
— Внял, внял ты, Господи, моим молитвам! — перекрестился Багратион на золотые купола лавры.
И, обратив свой взор на жидко подсвеченное пожаром небо позади их кареты, вспомнил свой разговор с Ростопчиным, «Да, хитрил сей гусь, новоиспеченный фельдмаршал. Хотел и Москву сдать, и себя вроде сим предприятием в потомстве не обесчестить. Мол, и первая мысль отказаться от новой схватки с неприятелем у стен Москвы не ему должна быть присвоена, а так-де решил военный совет! Он лишь подчинился его воле и тогда уж отдал приказ об отступлении чрез Москву. Токмо надо знать народ русский: даже безоружный, он последнее средство выискал, чтобы противостоять неприятелю, — красного петуха. И уже коли так получилось, первопрестольная станет для злодея вторым Бородином. Я же свершил свой долг в сей войне, должно быть, уже до самого конца».
Затем, взглянув на письма, взял в руки пакет с царскими печатями, которые адъютант уже успел сломать. На гербовой бумаге собственною рукою государя было выведено:
«Князь Петр Иванович
С удовольствием внимая о подвигах и усердной службе вашей, весьма опечален я был полученною вами раною, отвлекшею вас на время с поля брани, где присутствие ваше при нынешних военных обстоятельствах столь нужно и полезно. Желаю и надеюсь, что Бог подаст вам скорое облегчение для украшения деяний ваших новою честию и славою. Между тем не в награду заслуг ваших, которая в непродолжительном времени вам доставится, но в некоторое пособие состоянию вашему жалую вам единовременно пятьдесят тысяч рублей. Пребываю вам благосклонный
Александр».
«Царская милость ко мне всегда была благосклонною, — сказал себе Багратион. — За это я не могу не быть благодарным. А что не всегда давалась мне потребная воля, в том ничьей нет вины. У каждого — свой долг и свой ответ пред Богом. У него — за Россию свой. И у меня свой за нее, за мое благословенное отечество. И свой же ответ перед ним, Всевышним. К тебе, Царь Небесный, я и обращаю ныне свою молитву: коль нужна тебе чья-либо жертва — возьми теперь мою жизнь, но спаси и сохрани Россию! Более мне от тебя ничего не надо. Может, только — твое прощение за сотворенное мною на сей земле. Война и кровь. То, верно, не богоугодное поприще, однако ему-то я и посвятил свою жизнь. Только не из лютой ненависти ко всему живому и сущему — лишь затем, чтобы сие живое всегда защищать от тех, кто сам проявляет злобу. Впрочем, воздашь ли ты, Боже, за сей мой нелегкий труд, как воздал за подвиги мои мой земной государь, не о том обращенные теперь к тебе, может быть, мои последние мысли. Знай одно, Создатель наш и Творец: я вручаю тебе мою жизнь с радостью и светлым чувством, ибо жизнь моя — ничто, перед болью и судьбою моего родного отечества. Вот ее, Россию, я и молю тебя спасти».
Письмо другое было от Кутузова. Оно было исполнено сочувствия в связи с печальным отъездом князя от армии и выражало уверение в скорейшем восстановлении его здоровья. Петр Иванович положил это послание рядом с государевым, дав себе слово завтра же послать ответ царю и главнокомандующему.
Последнего письма, что подал ему адъютант, Багратион, признаться, никак не ждал. Но оно особенно его взволновало, лишь только увидел подпись: «Принц Георг Ольденбургский». «…Я пишу сии строки больному, но победоносному Багратиону. С большим сожалением Великая княгиня и я, мы видим раненым вас, надежду наших воинов. Дай Бог, чтобы вы скоро, опять могли предшествовать армиями… Великая княгиня поручила мне изъявить вам искреннее свое соболезнование…»
«Господи, так это же от нее! Как же я не начал сразу с этого письма? Она не могла сама — попросила мужа. А ведь у меня до сих пор хранятся листки, написанные ее рукою! Где же они? Ага, здесь, в моей дорожной шкатулке».
Он велел открыть ларец. Там, кроме писем, оказалось и другое, что сразу бросилось ему в глаза, — четыре медальона, четыре дорогих для него портрета.
Один из них — лик Суворова. Кумира, учителя и благодетеля, которого — так уж сложилось — он чтил, наверное, более, чем родного отца. Другим изображением было лицо императрицы Марии Федоровны. Табакерка, на коей был нарисован ее облик, хранилась, наверное, как память о большой семье, в которой он, рано лишившийся собственной, был радушно принят; вот этой женщиной, ее главою.
На следующем медальоне была она — великая княгиня Екатерина Павловна, которая теперь, узнав о его несчастье, не преминула послать свои слова сострадания и утешения, боли и надежды.
Он поднес к губам ее портрет, и в тот же самый миг глаза его увидели там, на дне ларца, лицо другой женщины, и тоже Екатерины Павловны.
«Господи! Что за наваждение — у них у обеих одно имя и одно отчество! — только теперь до него дошла сия простая догадка, которая, наверное, никогда не приходила раньше ему в голову. — Одно имя — и два разных, совершенно не похожих друг на друга ни внешне, ни душою существа! Но почему они здесь, рядом? Неужели их связало это случайное обстоятельство — сходство имен? Нет, сие не просто случайность. Связь сих существ — моя к ним любовь. Да, да, непохожая и совершенно разная. Как не похожи между собою тень и свет, добро и зло. Но связь сия, наверное, так же едина, как и сама жизнь, в коей всегда связаны ее начало и ее конец. Так, верно, вместе они и пребудут в моем сердце, когда я предстану пред ним, моим Создателем».
Сие озарение, пришедшее к нему в пути, теперь уже не отпускало его всю дорогу, до самого села Симы, куда он наконец приехал, поскольку двигаться далее уже не было сил.
Да и куда и зачем было ему направляться дальше, когда заканчивался вообще его земной путь. И все было так, как всегда бывает в жизни, — вот ее начало и тут же ее конец.
И всегда рядом — добро и зло, радость и горе, свет и мрак.
И вдруг он увидел въяве нестерпимо яркий свет вдали, который быстро стал к нему приближаться и окружать его со всех сторон. Ему стало легко и счастливо. Теперь свет этот уже был он сам.
И тут же он ощутил, что это — не свет. Со всех сторон его объял мрак — непроницаемый и вечный.
Счет дней его остановился, не дойдя до полных сорока семи лет.
Постскриптум
Семнадцатого сентября, в день похорон Багратиона, генерал-адъютант Сен-При оказался единственным из близких людей на траурной церемонии в Симах. И то лишь потому, что, будучи сам раненным, случился поблизости на излечений. Вечером того же числа он писал царю Александру Первому:
«С горестным сокрушением сердца осмеливаюсь донести вашему императорскому величеству, что главнокомандующий 2-й Западною армиею генерал от инфантерии князь Багратион после полученной им 26-го минувшего августа на поле сражения у деревни Семеновской жестокой раны в левую ногу, волею Божиего, сего сентября 12-го числа пополудни в 1-м часу скончался Владимирской губернии в селе Симах, принадлежащем генерал-лейтенанту князю Борису Голицыну.
При сем повергаю к священным стопам вашего величества чрез адъютанта его лейб-гвардии гусарского полка штабс-ротмистра князя Меншикова подробное описание раны и болезненного состояния покойного.
А как он сам о погребении своем не сделал никакого назначения, то я решился, совершив оное над ним по христианскому обряду, положить тело его в склепу в здешней церкви Святого Дмитрия, ожидая впредь высочайшего вашего императорского повеления, где и как совершить погребение с подобающею только знаменитому герою честию…»
В двадцать пятую годовщину Бородинского сражения, которая была отпразднована весьма торжественно, решено было водрузить на поле бессмертной славы памятный обелиск в честь всех павших героев.
Тогда еще был жив знаменитый партизан, поэт и генерал Денис Давыдов. Он и предложил императору Николаю Первому перенести прах великого русского полководца и героя войны двенадцатого года к подножию сего монумента.
Так было окончательно определено место, подобающее славному сыну России.
Прошло еще почти сто лет. И в 1932 году, когда, казалось, следовало благодарно отметить сто двадцатую годовщину бессмертной Бородинской битвы, по распоряжению Главнауки, Наркомпроса и Мособлисполкома под монумент Славы и гробницу русского полководца был заложен динамит. Поле вновь огласилось грохотом взрыва, что давно уже не тревожил вечный сон героев. Так советская, коммунистическая власть, лицемерно именовавшая себя истинно народной, отблагодарила предков русского народа за их величайший подвиг, некогда спасший отечество от чужеземного нашествия.
Что ж, так, наверное, всегда в жизни: с любовью соседствует ненависть, с добром — зло. И благодарная память — с невежеством и высокомерным презрением к собственной истории.
Только человеческую память нельзя разрушить ни динамитом, ни забвением.
Прошло еще немало лет, и на поле Бородина вновь засияло вовек бессмертное, великое и светлое имя:
БАГРАТИОН.
Справка об авторе
Когинов Юрий Иванович — российский писатель-прозаик (р. 1924 г.), член Союза писателей России. Основные темы творчества Ю. И. Когинова — выдающиеся личности русской культуры и истории. Его романы знакомят читателя с великим русским поэтом Ф. И. Тютчевым («Вещая душа», 1983), самобытнейшим писателем А. К. Толстым («Отшельник Красного Рога», 1992), одной из самых противоречивых фигур в русской культуре — А. М. Горьким («Второе пришествие», 1996). Ю. И. Когинов автор нескольких исторических романов, один из них посвящен графу А. И. Чернышеву («Тайный агент императора», 1994), другой — который мы хотим представить вашему вниманию, — талантливому русскому полководцу П. И. Багратиону.
Хронологическая таблица
1765 год
Родился Петр Иванович Багратион.
1782–1792 гг.
П. И. Багратион проходил военную службу сначала в Кавказском мушкетерском полку, а затем в Киевском конно-егерском.
1798 год
П. И. Багратион получает чин полковника и назначается командиром шестого егерского полка.
1799 год
П. И. Багратион получает чин генерал-майора. В Итальянском Швейцарском походах под командованием А. В. Суворова П. И. Багратион командовал авангардом,
1805–1807 гг.
П. И. Багратион, командуя арьергардом русской армии, особо отличился в боях под Шенграбеном, Прейсиш-Эйлау и Фридландом.
1808–1809 гг.
П. И. Багратион — участник русско-шведской войны.
1809 г. — П. И. Багратион получает чин генерала от инфантерии; возглавляет Аландскую экспедицию.
Июль 1809 — март 1810 г.
П. И. Багратион участвует в русско-турецкой войне, командуя Молдавской армией.
1811 год
Август — П. И. Багратион возглавил Подольскую армию.
1812 год
Март — П. И. Багратион командует Второй Западной армией.
26 августа — в Бородинском сражении, командуя левым крылом русской армии, П. И. Багратион был тяжело ранен.
12 сентября — П. И. Багратион скончался.
Примечания
1
Имеется в виду Григорий Александрович Потемкин (1739–91), государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, один из участников дворцового переворота 1762 г., фаворит и ближайший помощник императрицы Екатерины II. После присоединения Крыма Г. А. Потемкин получил титул светлейшего князя Таврического.
(обратно)2
Имеется в виду императрица Екатерина II Алексеевна (1729–96), российская императрица с 1762 г. Пришла к власти, свергнув с помощью гвардии своего мужа — императора Петра III.
(обратно)3
Александр Васильевич Суворов (1730–1800), русский полководец, генералиссимус, граф Рымникский, князь Италийский. А. В. Суворов создал оригинальную систему взглядов на способы ведения войны и боя, воспитания и обучения войск, во многом опередив свое время; был врагом догматизма и шаблона. Стратегия Суворова носила наступательный характер, великий полководец не проиграл ни одного сражения.
(обратно)4
Григорий Григорьевич Орлов (1734–83), граф, фаворит Екатерины II, один из организаторов дворцового переворота 1762 г.
(обратно)5
Екатерина I Алексеевна (1684–1727), вторая жена Петра I. Дочь литовского крестьянина Самуила Скавронского. В Мариенбурге попала в русский плен и вскоре стала фактической женой Петра I. Церковный брак оформлен в 1712 г.; в 1724 г. состоялась коронация.
(обратно)6
Елизавета Петровна (1709–61/62), российская императрица с 1741 г., дочь Петра I; возведена на престол гвардией. В ее царствование были достигнуты значительные успехи в развитии хозяйства, культуры и во внешней политике России, чему способствовала деятельность М. В. Ломоносова, П. И. и И. И. Шуваловых, А. П. Бестужева-Рюмина и др.
(обратно)7
Древнейший дворянский род Голицыных берет свое начало от великого князя литовского Гедимина. В России княжеская ветвь Голицыных (Гедиминовичей) вторая по знатности после Рюриковичей.
(обратно)8
Петр Александрович Румянцев-Задунайский (1725–96), граф, русский полководец, генерал-фельдмаршал.
(обратно)9
Станислав Август Понятовский (1732–98), последний польский король, ориентировался на Россию.
(обратно)10
Петербургскими конвенциями 1770–1790-х гг. территория Речи Посполитой была разделена между Пруссией, Австрией и Россией. (Произошло три раздела Польши — в 1772, 1793, 1795 гг.)
(обратно)11
Емельян Иванович Пугачев (1740/42–75), предводитель крестьянской войны 1773–75 гг., донской казак. Под именем Петра III поднял восстание яицких казаков в августе 1773 г. В сентябре 1774 г. был выдай властям заговорщиками. Казнен в Москве на Болотной площади.
(обратно)12
Рюрик, согласно летописной легенде, начальник варяжского военного отряда, призванный ильменскими славянами княжить вместе с братьями Синеусом и Трувором в Новгород. Рюрик — основатель династии Рюриковичей.
(обратно)13
Великий князь Павел Петрович, будущий император Павел I (1754–1801), сын императора Петра III Федоровича и Екатерины II. Ввел в государстве военно-полицейский режим, в армии — прусские порядки; ограничил дворянские привилегии, проявлял самодурство. Убит заговорщиками дворянами. Его отец, Петр III (1728–62), внук Петра I. Вопреки национальным интересам России заключил мир с Пруссией, что свело на нет результаты побед русских войск в Семилетней войне. Ввел в армии немецкие порядки, был свергнут в результате переворота, организованного его женой Екатериной II; убит заговорщиками.
(обратно)14
Великий князь Александр Павлович, будущий российский император Александр I (1777–1825), старший сын Павла I.
(обратно)15
Фридрих II (1712–86), прусский король из династии Гогенцоллернов, крупный полководец; в результате его завоевательной политики территория Пруссии почти удвоилась.
(обратно)16
Наполеон Бонапарт, будущий французский император Наполеон I (1769–1821). Бонапарт начал службу в войсках в 1785 г, в чине младшего лейтенанта артиллерии; выдвинулся в период Великой французской революции (достигнув чина бригадного генерала). В ноябре 1799 г, совершил государственный переворот (18 брюмера), в результате которого стал первым консулом, фактически сосредоточившим в своих руках всю полноту власти; в 1804 г, провозглашен императором. Поражение наполеоновских войск в войне 1812 г, против России положило начало крушению империи Наполеона I. В 1814 г. Наполеон был вынужден отречься от престола и был сослан на остров Эльба. В марте 1815 г. он вновь занял французский престол, но после поражения при Ватерлоо вторично отрекся от престола. Последние годы жизни провел на острове Святой Елены пленником англичан.
(обратно)17
Алексей Семенович Шеин (1662–1700), боярин, генералиссимус. Воевода в Крымских походах 1687 и 1689 гг. Участник Азовского похода 1695 г. Командовал армией и был одним из руководителей правительства во время поездки Петра I за границу. Подавил восстание стрельцов в 1698 г.
(обратно)18
Александр Данилович Меншиков (1673–1729), сподвижник Петра I, светлейший князь, генералиссимус. Сын придворного конюха, Крупный военачальник во время Северной войны 1700–1721 гг. При Екатерине I — фактический правитель государства. При Петре II был сослан в Березов.
(обратно)19
Бурхард Кристоф Миних (1683–1767), граф, русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал. Командовал русской армией в русско-турецкой войне 1735–39 гг.
(обратно)20
Анна Иоанновна (1693–1740), российская императрица с 1730 г., племянница Петра I, дочь царя Ивана V Алексеевича (1666–1696), брата Петра I, болезненного и неспособного к государственной деятельности. Была возведена на престол Верховным тайным советом. Фактическим правителем при ней был Э. И. Бирон. Елизавета Петровна (1709–61/62), российская императрица, дочь Петра I. Возведена на престол гвардией в результате дворцового переворота 25 ноября 1741 г., когда были свергнуты с престола малолетний император Иоанн Антонович, Иван VI (1740–64), наследник престола по линии Романовых, правнук Ивана V, со своей матерью, регентшей Анной Леопольдовной (1718–46), правительницей России в 1740–41 гг. при малолетнем сыне.
(обратно)21
Клеменс Меттерних (1773–1859), князь, министр иностранных дел и фактический глава австрийского правительства в 1809–21 гг., канцлер в 1821–48 гг. Стремился помешать укреплению позиций России в Европе.
(обратно)22
Михаил Илларионович Кутузов (1745–1813), светлейший князь Смоленский, русский полководец, генерал-фельдмаршал; ученик А. В. Суворова. В Отечественную войну 1812 г, М. И. Кутузов был главнокомандующим русской армией, разгромившей армию Наполеона.
(обратно)23
Шарль Морис Талейран (1754–1838), французский дипломат, министр иностранных дел. Один из самых выдающихся дипломатов, мастер тонкой дипломатической интриги; беспринципный политик.
(обратно)24
Денис Васильевич Давыдов (1784–1839), партизан Отечественной войны 1812 г., военный писатель, поэт. Командуя партизанским отрядом из гусар и казаков, успешно действовал в тылу французской армии. Был близок к декабристам и А. С. Пушкину.
(обратно)25
Имеется в виду Наполеон Бонапарт.
(обратно)26
Алексей Андреевич Аракчеев (1769–1834), русский государственный деятель, граф. В 1815–25 гг. — фактический руководитель государства.
(обратно)27
Карл XII, король Швеции (1682–1718), полководец. В начале Северной войны 1700–21 гг. одержал ряд крупных побед, но вторжение в 1708 г, в Россию завершилось его поражением в Полтавском сражении в 1709 г. Был убит во время завоевательного похода в Норвегию.
(обратно)28
Герострат — грек из города Эфес, который сжег в 356 г. до н. э. храм Артемиды Эфесской (одно из семи чудес света), чтобы обессмертить свое имя; в переносном значении — честолюбец, добивающийся славы любой ценой.
(обратно)


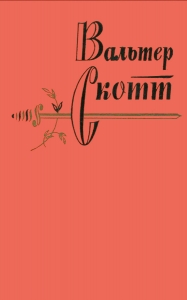
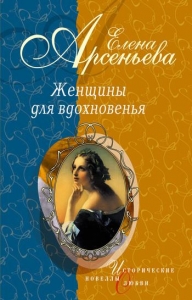

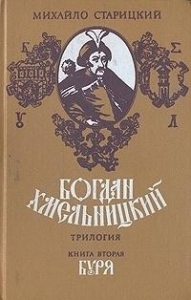

Комментарии к книге «Багратион. Бог рати он», Юрий Иванович Когинов
Всего 0 комментариев