Многоликий
Из энциклопедического словаря.
Изд. Брокгауза и Ефрона.
Т. ХХХХII. СПб.. 1894
лег Иванович — великий князь рязанский с 1350 г., сын великого князя Ивана Александровича. В первый раз летопись упоминает об Олеге 22 июля 1352 г., когда рязанцы ворвались в московские пределы и захватили город Лопасню; «князь же их Олег Иванович тогда был ещё млад». Лопасня осталась за Рязанью. В следующие годы в Москве начинается какое-то брожение; часть бояр переезжает в Рязань, что обострило отношения между княжествами. В 1358 г. из Орды явился в Рязань царевич Мамат-Хожа для разграничения между Москвой и Рязанью и много грабил там; московский князь всё-таки заподозрил, что он действует в пользу Олега, и не пустил его на московские земли. В 1365 г. ханский князь Тагай разграбил Рязанскую землю, но Олег настиг его в урочище Войнов, разбил наголову и отнял всё награбленное. В1371 г. великий князь московский Дмитрий Иванович предпринял поход на Рязань. Причина этого похода неизвестна. Олег был разбит и бежал; Дмитрий захватил в свои руки Рязань и отдал её Владимиру Пронскому, но зимой того же 1371 г. Олег при помощи татарского мурзы Салахмира вновь захватил Рязань в свои руки. Осенью 1377 г. царевич Арапша взял Переяславль; Олег едва избежал плена. В следующем году татары были разбиты рязанцами при помощи москвитян на берегах р. Вожжи, а в 1379 г. явился Мамай и так опустошил Рязанскую землю, что, по словам летописца, её приходилось вновь населять. Это повлияло, вероятно, на образ действий Олега во время Куликовской битвы: он вошёл в сношение с Мамаем, обещая давать ему такой выход, какой рязанские князья давали при хане Узбеке, а также присоединить свои войска к войскам татарским. С союзником Мамая, князем литовским Ягайлой, Олег заключил формальный договор; но ни Ягайло, ни Олег в Куликовской битве не участвовали. Когда московские войска после победы возвращались домой и проходили через рязанские пределы, рязанцы напали на них и разграбили. Дмитрий Московский хотел было идти походом на Олега, но оказалось, что он не виноват, так как в то время был на литовской границе, В 1381 г. Олег заключил с московским князем договор: Олег считается по отношению к последнему младшим братом и в старшинстве приравнивается к Владимиру Андреевичу Храброму; определены границы между Москвой и Рязанью, причём Талица, Выползов и Токасов отошли к Москве; Олег не должен вступаться в Мещеру, которую великий князь московский приобрёл по купле; места, отнятые у татар, остаются за теми, кто их отнял; Олег должен сложить крестное целование литовскому князю и действовать по отношению к Литве заодно с великим князем московским; для разбора дел назначается суд смесный, а в случае разногласия смесных судей — третейский. Договор этот был нарушен Олегом уже в 1382 г. Желая избавить Рязанскую землю от разорения Тохтамыша, шедшего на великого князя московского, Олег стал на сторону татар, обвёл их вокруг Рязанской земли и указал брод на Оке. На обратном пути татары всё-таки опустошили Рязанскую землю; для наказания Олега предпринял поход и Дмитрий Донской. Московские войска, по словам летописца, «землю ему пусту сотвориша», так что Олег «пущи бысть и татарския рати». В 1385 г. Олег напал на Коломну и стал одерживать верх над москвитянами, опустошая московские пределы. Дмитрий завёл переговоры с Олегом о мире, но мир был заключён только в 1386 г., при посредстве Сергия Радонежского, а в 1387 г. сын Олега, Фёдор, женился на дочери Дмитрия, Софье. После этого внимание Олега всецело сосредоточивается на татарах и Литве. Олег отправил в Орду заложником сына своего Родослава, но тот в 1387 г. бежал оттуда; следствием этого бегства было нашествие татар на Рязань и Любутск, во время которого сам Олег едва не попал в плен. Нашествия татар повторялись без видимых причин и в следующие годы. В 1394 г. татары были разбиты Олегом. В 1396-1398 гг. то Олег ходил на Литву, то Витовт — на Рязанскую землю. В 1401 г. Олег предпринял поход на Смоленск и посадил там Юрия Святославича, женатого на дочери Олега; затем отправился в Литву и с большой добычей возвратился домой. Умер в 1402 г.
Глава первая
— лядите, ещё один боярин скачет! — прозвучал звонкий мальчишеский голос.
Трое подростков лет двенадцати-тринадцати, сгрудившихся на смотровой площадке затейливой сторожевой башенки княжеского терема, прильнули к перилам.
Отсюда, с самой высокой точки детинца, открывался дивный вид на стольный город рязанских князей, Переяславль Рязанский[1], утопающий в молодой весенней зелена заокские дали, подернутые дымкой утреннего тумана, и на синеющие у самого окоёма непроходимые, бескрайние леса.
Но мальчиков волновала не красота утреннего города. Они не сводили глаз с дороги, ведущей к воротам детинца.
— А вон и ещё один! — вновь сообщил синеглазый Васята товарищам, словно они и сами не видели подъезжающего к воротам боярина с дружинниками и холопами.
— Воевода Дебрянич, — сказал второй мальчик, русоголовый, с выцветшими вихрами над высоким лбом, кареглазый и чернобровый. Звали его причудливо — Епифан, да только ещё в раннем детстве друзья переиначили трудное имя в простое — Епишка. Он оглянулся на молчавшего Олега. Тот был повыше ростом, такой же русоголовый, в такой же льняной рубашке, что и Васята с Епишкой, отличали его лишь строгие зелёные глаза под разлетающимися не по-мальчишески густыми бровями. Видно, хоть и мальчик, но уже князь!
— И ещё двое едут! — продолжил Васята. — Почитай, вся дума собралась.
— То-то и оно, что вся дума. А меня не оповестили, — заметил Олег ломким голосом. — Сбегай-ка, взгляни, где собираются бояре. Уж не в думной ли палате?
— Почему чуть что — я? — недовольно спросил Васята. — Пусть Епишка сбегает. У него отец дворский, ему сподручнее.
— И вправду, сходи ты, Епишка, — согласился Олег.
На этот раз повеление юного князя звучало просительно. С Епишкой у него сложились странные отношения: верховодил один — князь, а придумывал затеи другой.
Епишка отлепился от перил и, бросив последний взгляд на опустевшую дорогу, побежал вниз, по извилистым лесенкам и переходам, ведущим к большой думной палате.
Олег, прижавшись спиной к бревенчатой стене башенки, задумался.
Совсем недавно, ранней весной 1350 года, после смерти отца, князя Ивана Александровича Рязанского, человека тихого, мирного, он был торжественно, под звон колоколов и при великом стечении народа возведён на отчий великокняжеский стол[2]. В полном согласии с предсмертной волей отца. И все удельные князья, великие бояре, ближние бояре, городские бояре, дружинники целовали крест на верность.
По малолетству Олега бразды правления должна была бы взять в свои руки его мать, княгиня Евдокия. Но не взяла, вернее, не сумела — по слабости характера и приверженности к долгим поездкам на богомолье по святым местам, которых было много не только в Рязанской земле, но и в других землях Северной Руси.
Известный ещё древним феномен: власть долго не может оставаться ничьей, — подтвердил себя и на этот раз. Власть в княжестве оказалась в руках нескольких великих бояр во главе с тысяцким Микуличем и дворским Коревым.
Сразу после смерти отца Олег об этом не задумывался — всё время проводил с двумя друзьями детства, постепенно изживая великое горе утраты. Учился, постигал воинское умение на бронном дворе, ездил на рыбалку — и ночью с острогой, и днём с бреднем.
Но тут в соседней Москве умер великий князь Симеон Гордый. Рязанцы, воспользовавшись удобным случаем, захватили московский городок Лопасню, когда-то принадлежавший Рязани, а наместника московского пленили. Правда, его скоро выпустили за солидный выкуп, но городок держали крепко. Впрочем, Москве было не до пограничных дел. На престол сел брат Симеона, Иван Иванович, по прозвищу Кроткий. По заведённому ещё с Батыевых времён порядку надлежало ему теперь ехать в Сарай, столицу Золотой Орды, за ярлыком на великое княжение. И тут вся разросшаяся семья Залесских Рюриковичей вдруг заволновалась: по сложным и запутанным расчётам права на великий престол были не только у Ивана, но и у многих других князей — суздальских, владимирских, даже нижегородских. Ибо лествичные расклады были запутаны, а спрямить их могло лишь серебро, умело розданное в Золотой Орде.
Обгоняя Ивана Ивановича, суздальский князь первым ринулся в Сарай на поклон к хану Джанибеку.
За ним поспешили другие.
Среди рязанских верхних бояр пошли разговоры, что не мешало бы и дальше продвинуться вглубь земель соседа, пока идёт в Залесье усобица.
Присоединение Лопасни Олега обрадовало. Но боярское своеволие, то, как нагло они отстранили его даже от видимого участия в принятии важных решений, вначале смутно, а потом всё сильнее и отчётливее стало раздражать.
И вот теперь, без его ведома, в отсутствие матушки, собирается дума.
«Обнаглели бояре, — проносилось в голове юного князя. — Был бы жив отец... Хотя что отец? Именно он, добрый, мягкий, сговорчивый, и разбаловал бояр, ибо полагал главным делом своим укрепить сторожи — заставы на дальних южных и юго-восточных границах наших земель, чтобы своевременно узнавали в городах о приближении извечных врагов из Дикого поля».
Заскрипела лестница, и появился Епишка.
— Ну? — нетерпеливо спросил Олег.
— Спорят — ударить ли сейчас, пока соседи без князя...
— Это понятно, — перебил Олег. — Где спорят?
— В думной палате. Князь Милославский на столе сидит. Вроде он думу правит.
— Где сидит? — Зелёные глаза Олега полыхнули недетским гневом.
— На столе, — повторил Епишка еле слышно. Он почувствовал вину своего отца, дворского Кореева, допустившего такое.
— Старый сыч! Ведь первым из удельных князей отцу крест целовал, что не станет искать подо мною рязанского стола! — Олег некоторое время смотрел невидящими глазами на чёрные крыши домов, толпящихся у подножья детинца, потом решительно шагнул к лестнице.
— Ты куда, князь? — спросил Васята. У Олега в этот миг было такое выражение лица, что назвать друга детства просто по имени мальчик не решился.
— Ждите здесь! — приказал Олег, спускаясь по лестнице.
Стоявшие у дверей думной палаты два дружинника в полном боевом облачении, с тяжёлыми копьями, завидя князя, заволновались, затоптались, пока он подходил, но молча расступились, давая проход.
Мальчик, не глядя на дружинников, с силой ткнул тяжёлую дубовую дверь и вошёл в палату.
Всё было как при жизни отца: просторное помещение, скудно освещённое светильниками на стенах и лучами солнца, пробивающимися сквозь цветные стёклышки окон, расположенных высоко под потолком, заполняли вятшие люди[3] Рязанской земли. Вдоль стен на лавках сидели бояре и старшие дружинники, ближе к двери теснились дружинники молодые, а в противоположном конце палаты, на массивном дубовом резном, изукрашенном золотом и киноварью столе, служившем престолом пяти поколениям рязанских государей, сидел старик Милославский, глава захудалого удельного княжества.
Завидя юного князя, он нелепо заёрзал, приподнялся и снова сел. Все взоры в палате обратились на Олега.
Твёрдо ступая, он подошёл к Милославскому, остановился в двух шагах, неотрывно глядя в его старческие, выцветшие, вдруг заслезившиеся глаза.
— Встань, князь, — прошептал кто-то из ближних бояр, кажется, отец Епишки.
Милославский с готовностью поднялся. Сидевший рядом со столом великий боярин Кобякович потеснился на лавке, и старый князь тяжело сел на освободившееся место.
Олег сделал два шага к креслу, повернулся лицом к боярам и дружинникам и медленно сел на отцовский стол. Он положил руки на подлокотники, сжимая их от волнения так, что суставы побелели. Сердце бешено колотилось, в горле пересохло. Олег с усилием сглотнул и обежал взглядом знакомые с детства лица. Кто-то хмурился, кто-то глядел удивлённо. Припозднившийся Дебрянич, сидевший с дружинниками, хотя и был великим боярином, приветливо и ласково улыбался.
Надо что-то говорить — а что?
Олег встал. Как-то само собой слетело с его уст слово, которым всегда начинал свои речи в думе отец:
— Други!
Будто ветерок прошелестел вдоль лавок.
— Вчера я возвращался с охоты с твоим сыном, боярин Кореев. — Олег взглянул на дворского. — И с твоим. — Он строго посмотрел на Васятиного отца, будто именно тот был виноват в сборе думы. — На окраине города ставили сруб. Я пригляделся — с топорами, почитай, одни бабы делают мужскую работу. Даже на распиле стояли две бабы. И на укладке. Нянюшка моя говорит, что и в поле работают одни бабы, и на покосе.
Вот про нянюшку он зря сказал. Бояре заулыбались: малец, мол, всё за нянюшкин подол придерживается, небось подумали.
Олег продолжил твёрдо:
— Словом, обезмужела наша Рязань! — Слово было корявым, неудачным, зато упало в полумрак палаты тяжело, как камень, враз погасив все улыбки, ибо было точным: ордынские налёты, а потом чёрный мор[4] словно выкосили всё мужское население Рязанской земли. — Так что войны с Москвой не будет! Вглубь московских пределов мы не пойдём! Дай бог силы и разумения Лопасню удержать. — Он нахмурился и, чувствуя, как заливает лицо горячей волной прихлынувшая к щекам кровь, сел, упрямо вздёрнув подбородок.
Все молчали.
Олег ждал чего угодно — возражений, яростных споров, криков, может быть, даже насмешек над его молодой горячей неопытностью, но не такого тягучего молчания и полной тишины. Захотелось встать и убежать. Усилием воли он сдержался, только крепче вцепился в подлокотники кресла, словно черпая уверенность в теплом дереве, которое помнило прикосновения рук отца, деда, прадеда, прапрадеда...
Встал дворский Кореев.
— Письмо о твоём решении тысяцкому в Лопасню с гонцом послать или с боярином? — спросил он.
— С гонцом, — с трудом разлепил губы мальчик.
— Дозволь идти, готовить письмо... — произнёс Кореев и добавил, со значением выделив это слово, — князь.
От неожиданности, что так всё обернулось, Олег только кивнул. Получилось гордо и величественно.
Дворский вышел. Вслед за ним, кланяясь, потянулись к двери старшие дружинники. Олег дёрнулся было, чтобы встать, но наткнулся взглядом на дядьку, старого боярина Алексича. Тот едва заметно качал головой: сиди, мол.
Олег остался сидеть.
Затем один за другим палату стали покидать бояре. Седобородые, могучие, израненные в боях, многие служили ещё его деду, они кланялись и молча выходили, оставляя его, мальчишку, простоволосого, в обыденной льняной рубашке, на рязанском столе — князем!
Вечером Олег, Захлёбываясь и путаясь в словах, снова и снова пересказывал друзьям всё, что произошло в палате. Епишка слушал его с горящими глазами и требовал всё новых подробностей. Васята же быстро утратил интерес к рассказу и только изредка кивал, словно сам был свидетелем и участником дневного действа.
Вошёл дядька, старый Алексия, выпестовавший ещё князя Ивана, отца Олега. Мальчики встали.
Алексия тяжело сел на лавку, отдышался после подъёма по крутой лестнице в горницу и стал разглядывать Олега так, словно видел его впервые.
— Что глядишь, боярин? Я там что-то не так сказал?
— В том-то и дело, князь, что всё ты сказал так, как надо. Как и взрослому не каждому додуматься.
— Я как узнал, что вы без меня... что Милославский на княжеский стол сел и думу правит... у меня будто в глазах потемнело! Пришёл, сел, надо что-то говорить, а что — не знаю, — в который раз принялся повторять Олег. — Даже, не соображу, как я про жёнок с топорами вспомнил.
— Всё ты верно, по уму молвил. — Дядька устроился на лавке поудобнее. — Иван Иванович Московский, хоть и родной брат Симеону, нрав имеет тихий, воевать за Лопасню не станет. Приходилось мне в Москве бывать, и не раз. Москва, она ведь не за горами. Там чихнут — у нас здоровкаются. — Дядька задумался и некоторое время смотрел молча поверх голов мальчишек, словно вспоминая молодые годы и частые поездки в Залесье: в Москву, Владимир, Новгород. — Надо бы тебе, князь, грека, учёного полемиста, из Царьграда выписать, — неожиданно заключил он.
— Полемист — это кто? — спросил Васята.
— А вот приедет учёный грек, и узнаешь, кто такой полемист и с какой кашей его едят, — усмехнулся дядька.
— Полемист — это тот, кто спорить умеет, — сказал Епишка.
— Ты откуда знаешь?
— Читал, боярин.
— А ты, князь, читал?
Олег промолчал.
— Он всё больше про стратигов в книжках выискивает, — поспешил заступиться за друга Васята.
— А ты в это время мечом на бронном дворе машешь, — сказал с лёгким укором старый боярин. — Хотя не спорю, мечом владеть надобно и боярскому сыну[5], и боярину, и князю, а не только дружиннику.
Дядька опять помолчал и сказал как о решённом деле:
— Завтра же пошлю знающего человека за учёным греком. Велю такого сыскать, чтобы ещё и латынь знал. Латинские страны от нас хоть и далеко, зато Кафа[6] под боком. По Дону спуститься, мимо Тмутаракани пройти — тут тебе и Сурож[7], и Кафа. Бывалые мужи говорят, в Кафе, в латинском монастыре, такие книги есть, что и в Царьграде не сыщешь.
— Вот бы почитать! — воскликнул Епишка.
— Выучишь язык — так почитаешь, почему не почитать. Вреда от знания никогда не было. — Дядька, кряхтя, поднялся, у двери оглянулся на Олега, склонил в поклоне тяжёлую седую голову и вышел.
— О господи! — дурашливо воскликнул Васята. — Мало нам своих учёных монахов, ещё и грека на нашу голову.
— Молчи! — внезапно рассердился Олег. — Не старайся ты казаться глупее, чем есть.
На следующий день уже весь Переяславль знал, что на думе Олег говорил как князь и проявил заботу о простых людях. Его и до того любили в народе: юный, пригожий, сирота. А теперь иначе чем «наш князь» и не называли. Наш — и всё тут. Ни имени, ни отчества...
Прихотливы пути народной любви. Приязнь рязанцев к князю Олегу сохранилась на века, вплоть до нынешнего времени, вопреки всему тому, что написали мудрые летописцы, а за ними вослед и историки, вопреки расхожим определениям «предатель» и «перевёртыш ».
Глава вторая
Осенью 1353 года проезжие купцы рассказывали, что у соседей, в Москве, князь Иван Иванович посадил наследника, трёхлетнего Дмитрия, на коня. Казалось, не бог весть какая новость: бывало, и двухлетних княжичей стригли и сажали на коней. Но по каким-то непонятным Олегу соображениям ближние бояре вдруг, словно сговорившись, принялись твердить: пришла пора Олегу ехать в Сарай за ярлыком, и так, мол, припозднился. И ярлык надлежало просить, ссылаясь на права отчины и дедины на великое рязанское княжение, не жалея серебра и подарков.
Истинным великим княжеским престолом на Руси с незапамятных времён считался киевский стол.
В середине двенадцатого века, при Святославе Всеволодовиче, этот высокий титул закрепился и за черниговскими князьями, благо ходили у них под рукой в огромном Черниговском государстве многие десятки больших и малых удельных князей. В числе их были прославленные русскими летописями и былинами Игорь Северский и Буй-Тур Всеволод Курский. И всё-таки черниговский великий князь оставался младшим по отношению к киевскому.
Юрий Долгорукий, всю жизнь стремившийся к заветному киевскому престолу и мимоходом создавший огромное Залесское государство[8], самозванством не тешился. Ни суздальский, ни владимирский столы он великими не считал. Правда, став великим князем киевским, как бы увёз этот титул на север. И только Всеволод Большое Гнездо прочно закрепил за владыками Залесского края[9] титул великих, хотя они всё ещё считались подручными по отношению к киевскому князю, давно утратившему и силу, и власть в Залесье и на Новгородчине. Трудно сказать, кто раньше стал вслед за Всеволодом называть себя великим — рязанский или тверской князья, но уже двоюродный и родной деды Олега, Коротопол и Александр, в грамотах иначе чем «великие» не назывались. Но одно дело называться, а другое — получить ханский ярлык на великое княжение. Так что спора о необходимости совершить смертельно опасную поездку в Орду не возникло, если не считать слёз и просьб матери Олега.
Зато спорили до хрипоты и в думе, и в княжеском тереме, как ехать. Верхами ли через Дикое поле — путём быстрым, но полным опасностей — или же сплавляться по рекам — вначале по родной Оке, затем от Нижнего Новгорода вниз по Волге.
Наконец решили — по воде, тем паче что зарядили осенние дожди и по высокой воде вполне можно было добраться до Сарая прежде, чем встанут Ока и верхняя Волга.
Обратно же, если Бог даст удачу, можно было ехать и верхами по зимней степи, прикупив в Орде татарских коней, привычных к долгим пробежкам по снегу и приученных добывать себе корм из-под наста.
А ежели не даст Бог... Но о том думать не хотелось.
Ещё была свежа в памяти смерть Романа Рязанского, предка Олега, убиенного в Орде с необъяснимой жестокостью. Помнили и других русских князей, сложивших безвинно головы в Сарае, — кто под ударом кривой сабли нукера[10], кто удушенный шёлковым шнурком, кто забитый сапогами слуг по знаку всемогущего хана. Поимённо помнили и своих, рязанских, и Залесских, и далёких киевских, и черниговских.
Всё ж — единый корень!
Может быть, именно потому, что история поездок в Орду полнилась именами убиенных из-за неосторожного слова, Олег решил взять с собой не Васяту, несдержанного на язык, а Епишку, не по годам осмотрительного и спокойного.
Водный простор родной Оки всегда успокаивал душу, наполняя её тихой беспричинной радостью. Олег стоял на настиле с кормщиком и смотрел на левый берег. Там, за перелесками и редкими возделанными полями, скрывалась в утреннем тумане Залесская сторона, русское междуречье — огромная страна, спрятавшаяся в дубравах между тремя великими реками — Волгой на севере, Днепром на западе и Окой на юге. Бывалые люди рассказывали: в бесчисленных реках, речках и речушках, пронизывающих, словно кровеносные сосуды, междуречье, рыбы, и не простой, а красной, было столько, что она чуть ли не сама в сети заскакивала. Борти[11], со знамёнами[12] и ничейные, тянулись на многие поприща[13], а на полях хлеб поражал урожаем. Именно там привольно раскинулся ближайший сосед — Москва. Противник, соперник, в нужде союзник, необъяснимым образом богатеющий вопреки всему — татарским набегам, моровым поветриям, литовским наскокам, княжеским усобицам...
Олег перевёл взгляд на правый берег. Там начиналась собственно Рязанская земля, родная, любимая. Углубись немного в её густые леса и нежирные пахоты — и откроется степь, высыхающая к зиме до сухой звонкости. Степь, или Дикое поле, что от века таило в себе угрозу рязанцу.
Олег тяжело вздохнул...
К полудню хорошим ходом струги вышли к повороту Оки на север — месту, памятному всем рязанцам.
Здесь крутой правый берег венчали рукотворные земляные оборонительные валы, густо заросшие кустарником. За ними скрывалась первая жертва татаро-монгольского нашествия 1237 года — безжалостно уничтоженная, сожжённая, растоптанная Рязань, древняя столица могучего княжества. Она спорила размерами, богатством и красотой с Киевом, Черниговом, Новгородом. Даже отсюда, с реки, на глаз можно было определить, что в её оборонительных валах могли бы уместиться несколько таких городов, как Переяславль, нынешняя столица. Сотни лодий, стругов, кораблей стояли у причалов древней Рязани, приходили они с Волги и с Днепра, волоком перетаскивались через водораздел, отделяющий окский бассейн от днепровского. Тысячи златокузнецов, гончаров, ткачей и прочих ремесленников соперничали своим мастерством с умельцами из Византии, Саркела, Дербента, Тавриза. Звучала речь русская и кыпчакская, булгарская и греческая и даже быстрая гортанная персидская.
Гордая, богатая, может быть, даже зазнавшаяся Рязань стала первой добычей Батыевых полчищ и была уничтожена для острастки других городов с невероятной жестокостью.
Память о тысячах изнасилованных, а потом безжалостно зарезанных женщин и девушек, стариках, умирающих в мучениях с перебитыми костями, детях, чьи головы разбивали о мощённую камнем мостовую, передавалась из поколения в поколение. Ордынцы жгли, рубили, пытали и грабили, трупы тысячами сталкивали с крутого берега в Оку. Столь велик был ужас, посеянный врагом, что, вопреки всем вековым русским традициям, рязанцы не стали восстанавливать на старом месте, на костях, свою столицу, хотя, казалось бы, вот они, бескрайние леса, — вали деревья, строй. Даже беспримерный подвиг Евпатия Коловрата не очистил в сознании рязанцев осквернённого места.
Тогда рязанский великий стол и был перенесён в Переяславль. Олег с грустью проводил взглядом уплывающие развалины городской стены Старой Рязани и подумал, что, возможно, он всё же решится вернуть сюда столицу.
У Мещёрского городца на день задержались. С князьями местного лесного народа, издревле дающего приют в своих непроходимых лесах и болотах соседям, спасающимся от татарских набегов, рязанцы поддерживали дружественные отношения, часто скрепляемые брачными союзами.
Когда миновали Мещеру, Ока плавно привела во владения муромчан. Муромское княжество по праву считалось на Руси одним из древнейших, чуть ли не ровесником Черниговского. Когда-то славное своими богатырями, — кто на Руси не знал Илью Муромца? — ныне оно под непрерывными ударами ордынцев постепенно хирело.
Чем ближе к Волге, тем полноводней становилась Ока. Приняв в себя воды Клязьмы, она почти сравнялась с главное русской рекой.
В Нижнем Новгороде пробыли несколько дней. Нижегородский князь Константин какими-то сложными родственными связями по женской линии приходился Олегу одновременно и двоюродным, и троюродным дядей. Принял он племянника широко и радушно, благословил, пожелал доброго пути, снабдив ценными советами — недавно Константин сам побывал в Сарае и хорошо знал, что творится у воинственных соседей. По его словам выходило, что моровое поветрие, не пощадившее и Орду, разметало обитателей Сарая по степи: ханскую ставку придётся искать с помощью проводника-монгола не в окрестностях Ахтубы, а в далёких прикаспийских степях.
Погостив, рязанцы распрощались с Нижним Новгородом, отдав себя во власть стихий и Провидения Божьего.
Волга после осенних дождей встретила путников полной водой. Переменчивые мели не поджидали рязанские струги, хищные разбойничьи ватаги не рисковали нападать на три воинских корабля. Плыли спокойно.
Миновали легендарный утёс, на вершину которого, по преданиям, поднимался в незапамятные времена князь Олег, когда шёл в глубину хазарской степи большим походом. Хазарский каганат, потерпев тогда жестокое поражение, распался на отдельные ханства и вскоре исчез с лица земли, просуществовав более шестисот лет. А ведь когда-то Русь платила дань хазарам, так же как в нынешние времена платит монголам.
Но вот и крупнейшая волжская протока Ахтуба. Говорят, именно здесь стоял прежде главный город хазар Итиль. Проводник-монгол утверждал, что развалины ещё можно отыскать в степи. Здесь же когда-то шумел первый город монголов Сарай-Баты, названный так в честь его основателя, покорителя Руси — хана Батыя. Позже, во времена, когда в Рязани княжил Иван, прозванный Коротополом, а на московском столе сидел Иван по прозвищу Калита, Орду возглавил хан Узбек. При нём столицу перенесли в верховья Ахтубы и назвали Сарай-Берке. Вскоре это название упростили, теперь столица Золотой Орды звалась просто Сарай.
Столица быстро богатела, ибо располагалась на караванных путях, ведущих и в Китай, и в Индию, и в Монголию, к далёким кочевьям Синей Орды, и в Крым, откуда открывались через генуэзскую колонию Кафа пути в Средиземноморье.
Собственно города Олег не увидел. Чуть ли не полдня ехали по запутанным проулкам между глинобитными стенами, ограждающими шатры и летние мазанки. Проводник необъяснимым образом ориентировался в паутине дорог, улиц, проулков, тропок. Поражало отсутствие стражи. Впрочем, это только подтвердило сведения о том, что после чёрного мора хан Джанибек продолжает кочевать в Прикаспии, подальше от населённых мест.
Ночевал Олег на подворье русского епископа, владыки Василия. После настоящей русской бани гостей повели в трапезную, где их поджидал сам владыка, сухой, седой, с морщинистым лицом и живыми ярко-синими глазами старец, чем-то напомнивший Олегу отца.
У владыки прогостили три дня, отдыхая от тягот долгого пути, слушая его мудрые наставления и собирая сведения о местопребывании хана Джанибека.
По словам Василия, этот хан к русичам относился хорошо, в отличие от многих иных властителей Золотой Орды. Унизительному ритуалу целования золочёного сапога обычно русских князей не подвергал, кумыс пить под страхом смерти не принуждал.
— Кумыс, сын мой, — рассказывал владыка, — это, по сути, брага из кобыльего молока. Чашу с сиим напитком я бы тебе советовал принять от хана и осушить. Оно, конечно, русскому человеку непривычно, так ты, чтобы не поморщиться, начни приучать себя загодя, хоть здесь. Греха в том нет. А если ценой одной чаши добьёшься мира для своей многострадальной земли хотя бы на год, то свершишь богоугодное дело.
Хан Джанибек был весел и умиротворён долгим пребыванием в бескрайних степях Прикаспия, славящихся богатой охотой.
Чашу кумыса Олег выпил, не дрогнув лицом, и поблагодарил витиеватой речью на татаро-кыпчакском наречии, на котором говорила вся многоплеменная Орда. Этот говор с давних половецких войн знали многие русские князья, чьи земли располагались вблизи Дикого поля.
Десять дней юный князь был спутником Джанибека: вместе ездили и на соколиную, столь любимую монголами, охоту, и на волков. Олег учился бросать аркан, поражая хана своими удивительными успехами. И он, и бояре умолчали о том, что аркан кидают в Рязани сызмальства все мальчишки. В итоге уехал Олег из ханской степной ставки не просто с ярлыком на великое рязанское княжение, что давало ему право верховной власти над уделами Пронским, Муромским, Милославским, Новосильским и многими иными, но и с ханским перстнем, знаком высшего доверия и приязни.
Обратный путь проделали, как было решено заранее, верхами, через Дикое поле.
Олег и Епишка возмужали и окрепли настолько, что, не отставая от взрослых, без устали ехали верхом на низкорослых татарских конях, купленных в Сарае, по бесконечной, ровной, на взгляд русичей, унылой степи. За день уставали так, что вечером засыпали как убитые.
Глава третья
Ко времени возвращения в Рязань из Орды Олега уже ждал учёный грек. Оказался он молодым, весёлым и склонным к винопитию. Часами рассказывал юношам о великих философах и ораторах древности, а когда вместе с ними ездил на рыбалку или сидел в лесу, у костра, — то о прекрасных богах, что жили на горе Олимп в Элладе. Боги, по словам грека, не считали для себя зазорным спускаться к смертным, любить, сражаться и веселиться вместе с ними.
Говорили мальчики с полемистом по-гречески. Этот язык во всех старых княжеских домах Руси, по традиции, изучали с детских лет. А Феофан — так звали грека — учился у юношей русскому и основам татаро-кыпчакского.
Всё свободное от занятий время Феофан обычно проводил в книгохранилище. Именно так он называл библиотеку рязанских князей, ибо книги лежали неразобранными в окованных сундуках на случай, если налетят ордынцы и придётся грузить на телеги и увозить рукописное богатство в далёкие схроны. Со времён Батыя, когда в Старой Рязани сгорела одна из крупнейших на Руси библиотек, жители проявляли осторожность и особую заботу о книгах.
Под руководством Феофана юноши сделали большой харатейный чертёж Рязанской земли и прилегающих волостей, для чего склеили рыбьим клеем несколько десятков пергаментов. У изографов, тех, кто изукрашивал буквицы в книгах, позаимствовали краски — голубую для рек, зелёную для лесов, что наползали на Рязанскую землю с севера, густо-синюю для болот и жёлто-охряную — для Дикого поля.
На Диком поле Васята, высунув от усердия язык, нарисовал нескольких скачущих ордынцев. Получилось похоже, Феофан похвалил и рассказал о древних мозаиках и о ромейских художниках, из которых самым великим был Джотто.
Князь и его друзья, видевшие только работы рязанских богомазов, из пространных рассказов грека мало что поняли. Но тем не менее Феофан заронил в сердце Олега лёгкую печаль: никогда, наверное, не доведётся ему побывать в дальних краях и увидеть всё то, о чём так увлечённо повествовал грек.
Несколько недель Олег с помощью Васяты рисовал родословное древо рязанских князей. Оно шло от могучего корня — Рюрика Новгородского и сына его Игоря Старого, поднималось стволом Владимира Святого, что крестил Русь, и его чадолюбивого сына Ярослава Мудрого, который породнился чуть ли не со всеми европейскими государями через своих красавиц-дочерей. А уж от ствола Ярослава Мудрого отходили многочисленные ветви. Одна из них, черниговская, особенно заинтересовала юного князя: второй сын Святослава Ярославича Черниговского, князь Ярослав, стал родоначальником рязанско-пронского княжеского дома. Древо тешило самолюбие, оно приводило рязанских князей напрямую к великому пращуру Рюрику в обход занявших Залесскую Русь потомков беспокойного и драчливого Юрия Долгорукова.
Но увы: гордое древо говорило одно, а харатейный чертёж напоминал, что Рязанская земля приютилась на отшибе, у самого Дикого поля, открытая ордынским набегам. В силу этого Рязань как бы была оттеснена от центра борьбы за власть, давно уже переместившегося из сожжённого татарами Киева на север.
Через год преставился владыка митрополит Феогност, по происхождению грек, а по велению сердца страдник на бескрайних духовных полях Северной Руси.
Перед кончиной митрополит послал письмо Константинопольскому патриарху с просьбой назначить на его место епископа Алексия, долгое время бывшего управляющим всеми делами русской епархии.
Был Алексий природным русичем из древнего и доброго рода бояр Бяконтов. Красноречием и учёностью не уступал греческим коллегам.
В 1354 году Константинопольский патриарх, глава греко-православной церкви, поставил Алексия митрополитом всей Руси. Этому предшествовала длительная закулисная борьба со сторонниками других претендентов на высший церковный пост в огромной стране.
Летом того же года из южного Поволжья налетели на Рязанскую землю сотни вольных ордынцев, искателей лёгкой добычи. Громя сторожи — так на манер Москвы стали теперь называть караулы на границах княжества — и сжигая межевые городки, они двинулись двумя крыльями к Старой Рязани, откуда открывался прямой путь вдоль Оки к новой столице, Переяславлю.
Им наперехват тысяцкий выслал конный полк во главе с молодым воеводой боярином Дебряничем.
На пригорок выехала небольшая группа всадников. Впереди на могучем буланом коне сидел воевода Дебрянич. По правую руку — боярин Корней, ближайший друг, соратник в десятках походов, вечный командир отряда правой руки, что его не обижало: он признавал первенство Дебрянича во всём, что касалось замыслов и расстановки войск. Себе Корней скромно отводил роль ударной силы — был настойчив, неукротим, одинаково хорошо сражался и правой, и левой рукой, владел мечом, саблей, палицей, булавой, секирой, сулицей, но хотя предпочитал простой русский боевой топор, страшное оружие в умелых руках.
Олег сидел на коне слева от воеводы. Глаза его сверкали, щёки горели ярким румянцем. Конь перебирал ногами, встряхивая головой, — и ему передавалось волнение седока.
Всё осталось позади: и мольбы матери не спешить в первый поход, и уговоры дядьки, соглашавшегося с матерью, и сомнения тысяцкого — если великий князь идёт с войском, то именно он должен принимать на себя верховное командование. Сможет ли воевода Дебрянич провести свою линию, навязав свою волю Олегу, ничего ещё в воинских делах не смыслящему?
Всё было позади, удалось даже взять с собой друзей. Они стояли чуть позади с десятком молодых дружинников, личной охраной князя. Дома оба клятвенно пообещали дядьке, что ни сами в сечу не полезут, ни князя не пустят.
Русские конники двумя крыльями расположились у изножья холма, впереди, не, дал её чем в двух полётах стрелы, стояло ордынское войско.
Могучий батыр, то и дело поднимая на дыбы коня, крутился перед недвижными рядами, что-то выкрикивая.
— Пора, боярин, — услышал Олег негромкий голос воеводы Дебрянича.
Корней молча поскакал вниз по склону. Олег подумал было, что именно воевода возглавит удар, но тут Дебрянич шепнул, словно татары могли его услышать:
— Я ему доверил засадную сотню.
Настал тот знакомый всем полководцам краткий момент перед началом боя, когда поздно уже что-то перестраивать и когда замирают по обе стороны незримой черты те, кому через несколько мгновений предстоит вступить в смертельную схватку.
Татарский батыр повернул коня, и вся масса степняков, набирая разбег, двинулась вперёд. Рязанцы в свою очередь по знаку воеводы пустили коней с места в карьер, стремясь быстрее набрать необходимую в конной сече скорость. Ордынцы яростно взвыли, пугая противника и заводя себя. У Олега мороз пробежал по спине.
Вдруг из толпы молодых дружинников выскочил на стремительном вороном жеребце Васята, что-то крича и размахивая обнажённой саблей, он поскакал по склону холма вниз, туда, где вот-вот должна была начаться битва.
Дебрянич заорал яростно:
— Стой, куда!
Ему вторил во всю глотку Олег.
Васята не слышал или делал вид, что не слышит. Он уже почти приблизился к задним рядам рязанцев, где вот-вот должны были появиться лучшие татарские воины, те, кто первыми смогли пробиться сквозь ряды русичей. Смерть Васяты была неминуема — что мог сделать четырнадцатилетний юнец против разгорячённого схваткой воина, только что прорвавшегося сквозь толпу врагов?
Тогда воевода Дебрянич властно крикнул:
— Заарканить его!
Двое дружинников ринулись вниз с холма, раскручивая над головами арканы. Олег даже не заметил, кто из них метнул волосяную петлю, увидел только, как Васята вдруг слетел с коня. Дружинники враз подскакали к юнцу с двух сторон, не слезая с седла, подхватили с земли и помчались обратно на пригорок, к воеводе.
Дебрянич на них уже не смотрел. Он напряжённо вглядывался в начавшуюся сечу, выжидая тот миг, когда нужно бросить в бой засадную сотню и тем переломить сражение в свою пользу. Олег тоже не глядел на освободившегося от аркана и приходившего в себя от удара о землю Васяту, а пытался самостоятельно определить, когда же воевода даст знак засадной сотне, желая проверить своё воинское разумение.
Противники, пронизав порядки друг друга, поменялись местами и теперь разворачивали конец, чтобы вновь сойтись в смертельной схватке. Оказавшиеся под пригорком ордынцы, как и предполагал воевода, на какое-то время сбились в кучу, решая, броситься ли им на малочисленную группу всадников на холме или ринуться обратно в битву. В этот миг и подал знак опытный воевода возглавлявшему засадную сотню боярину Корнею.
Удар в спину ордынцам был мощным и неожиданным. Степняки смешались и помчались прочь, увлекая за собой всё новых и новых, оставляя убитых и раненых. С пригорка было хорошо видно, как гонят татар засадники, сидящие на свежих конях.
Воевода снял шлем, вытер вспотевший лоб и подъехал к лежащему на земле Васяте.
— Больно?
— Плечо вроде вывихнул, — покривился Васята.
— Ничего, впредь помнить будешь! — Дебрянич повернулся и тихо сказал Олегу: — Когда наши из погони вернутся, вели, князь, найти во второй сотне Федьку Вислого. Костоправ знатный.
— Слышишь, Епишка? — передоверил поручение Олег.
— Слышал, найду, — кивнул Кореев.
Олег едва сдерживал мальчишескую радость: он верно угадал момент, тоже подал бы знак именно тогда, когда это сделал умудрённый опытом воевода. Значит, есть у него то, из чего, по словам грека Феофана, прорастает талант стратига, — чувство боя.
Глава четвёртая
Урока, который получили налётчики-ордынцы, им хватило на два года.
За это время Олег вырос, почти сравнявшись с высоким Дебряничем, раздался в плечах, на подбородке и под носом у него появилась рыжеватая поросль. Вечерами его охватывало томление, а по ночам посещали смутные, но от того не менее влекущие видения, навеянные рассказами Васяты. Этот голубоглазый и пригожий, весёлый и порывистый парень был баловнем в отчем боярском доме и уже с год как протоптал тропинку в девичью.
Олег слушал приятеля, делился мыслями — больше о своих томлениях поговорить ему было не с кем. Грек Феофан недавно уехал домой — вдруг стал кашлять и мёрзнуть даже в самый жаркий день. Епишка — его как-то незаметно стали звать молодой Кореев или просто Кореев — о сенных девках не думал, просиживая всё свободное от бронного двора время над книгами.
— Ты, это... захватил бы меня с собой, — сказал как-то Олег Васяте, от смущения с трудом подыскивая слова.
— Господи, князь! Да я давно... Не решался только предложить. Чего же проще? Сегодня вечером и пойдём. Ты только гостинцев возьми — ну, орехи калёные, в мёду варенные! — от того, что получилось складно, Васята засмеялся. — Пряников там, может, чего заморского, что купцы из Сурожа привозят.
— Возьму, — выдохнул Олег, чувствуя, как заливает краска лицо. — Только как у ключницы просить? — растерянно спросил он.
— Как? Да проще простого. Скажешь, ночью читать будешь, вдруг зачитаешься да проголодаешься? — Васята опять засмеялся. — И смотри, князь, придёшь, не сиди букой, девки смешливых да весёлых любят.
— Ладно, постараюсь, — буркнул Олег.
— Мне вечером тебя как — Олегом или князем называть? — задумался Васята.
— Зови Олегом.
Он помолчал и спросил, отводя глаза:
— А девки-то... они как?
— Что как? — не понял Васята.
— Ну, это... Сам понимаешь! — вспылил Олег.
— А-аа, это. Ты не думай. Они у нас все кабальные. Ласковые да покладистые.
Олег не стал переспрашивать, хотя не очень точно представлял себе, что означает кабальные, он знал только, что в кабалу идут обнищавшие, оказавшиеся в безнадёжном положении люди. Некоторые отдают детей по кабальной записи, вроде как продают в рабство.
— Ты не думай, — продолжил Васята, — сенные девки у нас все на дворе выросли, чистые, сытые. Для них посиделки, да песни, да сеновал — одна радость в жизни. Сам знаешь, мужиков ныне мало стало. Не сомневайся, князь: с тобой любая пойдёт хоть на сеновал, хоть в баню. Вон ты какой ладный, да ражий, да высокий...
— Ладно, помолчи! — не понимая почему, вдруг рассердился Олег.
При свете нескольких свечей все три девки, сидевшие в избе, что стояла за боярским теремом, показались Олегу похожими — большеглазые, румяные, пригожие, в белых, расшитых петухами сорочицах. Две русоволосые, одна чернявая и немного скуластенькая, — видно, примешалась татарская или половецкая кровь.
Васята, дурашливо похохатывая, втиснулся между ними, обняв русоволосых за полные плечи.
— А вот орехи калёные, в мёду варенные, — пропел он удачно сложившиеся днём слова и добавил: — Давай не замай, Олежка, доставай!
Олег послушно поставил на лавку торбочку, куда по его велению подключница наложила всяких заедок.
— Потеснись, Даша, дай Олежке сесть, — скомандовал Васята. Чернявая девушка послушно отодвинулась от подруги, которую тот обнимал одной рукой, внимательно глянув на Олега большими, тёмными и, как ему показалось, немного грустными глазами.
Олег сел, ощутил рядом с собой горячее, молодое, упругое девичье тело, замер, не решаясь действовать подобно Васяте. Тот что-то весело говорил, но Олег ничего не слышал, весь захваченный новыми, незнакомыми ощущениями.
Девки смеялись, не чинясь, ели угощение, потом складно запели на три голоса. Васята подхватил юношеским баском.
Даша, потянувшись за пряником, склонилась над коленями Олега, и он ощутил её тугую полную грудь. Сердце тревожно забилось и, как ему показалось, гулко, на всю избу. Он несмело погладил девушку по голове, задержав руку на чёрной при свете свечи косе. Даша покосилась на него. Взгляд её был серьёзным, строгим, она легко выпрямилась и откусила пряник, подвигала плечом, пристраиваясь к юноше.
Одна из русоволосых, сидевшая рядом с Олегом, что-то почувствовав в поведении подруги, наклонилась к уху Васяты. Тот ухмыльнулся:
— А не пойти ли нам в сад, да под яблоньки, да к сеновалу? — и, не дожидаясь ответа, первым поднялся с лавки.
В саду Олег и не заметил, как скрылись в темноте Васята и две другие девки. Имён их он не запомнил. Даша тянула Олега за собой, и вскоре они оказались перед приотворенной дверью высокого сеновала. Девушка скользнула внутрь, князь замешкался и услыхал её шёпот:
— Иди же...
Он вошёл. В кромешной тьме его руки упёрлись во что-то мягкое, лицо обдало жаркое девичье дыхание. Даша обняла Олега и стала целовать...
Князя разбудили первые солнечные лучи, пробившиеся сквозь щели в стене сеновала. Он недоумённо приподнялся на локте, обнаружил, что лежит на рядне, постеленном на сене, и, сразу всё вспомнив, рывком сел. Рядом, разметавшись, лежала Даша, обнажённая, простоволосая, загорелое лицо казалось тёмным по сравнению со сметанной белизной плеч и груди.
Олег потянулся, чтобы ещё раз ощутить губами восхитительную упругость соска. Даша приоткрыла глаза, сонно улыбнулась и, уткнувшись носом в ложбинку на его груди, пробормотала:
— Не смотри, бесстыдник... Бога гневишь.
Олег отодвинулся, жадно рассматривая ладное, стройное, тонкое в талии тело, почувствовал, как всё в нём напряглось, и жадно принялся целовать девушке грудь, шею, губы.
— Не надо, лапушка, мне ведь весь день работать... — прошептала Даша, но, вопреки своим словам, потянула Олега к себе, с жаром отвечая на его поцелуи.
Когда выходили из сеновала, Олег заметил неподалёку под яблонькой Васяту. Тот сладко посапывал, укрывшись невесть откуда взявшимся кожушком.
— Сторож! — усмехнулся князь, подтолкнув Дашу локтем.
— Ой, да идём скорее, ключница вот-вот поднимется. Или нет, лучше ты с ним останься... — И девушка побежала в сторону людской избы.
Олег подошёл к похрапывающему Васяте и пошевелил кожушок носком сапога. Парень встрепенулся, сел и, ничего не понимая со сна, стал лихорадочно шарить что-то у себя за спиной, потом, узнав князя, улыбнулся.
— Охранял? — спросил Олег.
— Охранял, да сморило. Ну как? — И на Васятином лице проступило такое откровенное любопытство, что Олегу стало смешно.
— Чего смеёшься-то, князь?
— Так не плакать же, — усмехнулся Олег, а про себя добавил: «Вот я и стал мужиком».
Весь день ему не давали покоя сладкие видения и воспоминания о прошлой ночи. Дождавшись вечера, Олег пошёл к знакомому сеновалу, увидев Дашу, накинулся на неё с таким жаром, что забыл даже о припасённых гостинцах. Отдал их позже, отдышавшись, и с умилением смотрел, лёжа на сухой прошлогодней соломе, как Даша опрятно ест, собирая крошки в узкую, твёрдую ладонь.
Через пару дней Васята осторожно сказал Олегу:
— Ты, князь, это... охолонись чуток. Даша-то едва ноги волочит, спит на ходу. Ты-то откукарекал — ив постель, а ей целый день работать. Ключница уже на неё взъелась, пришлось заступиться, а то бы отстегали на конюшне.
Олег согласно покивал, но всё осталось по-прежнему. Тем более что девушка отдавалась его ласкам с той же жадностью, с какой и он ласкал её. Только в первый день она ублажала его по принуждению, но этого он по молодости лет не понял, как не почувствовал, что яблочко было поклёванным. Не понял он и то, что вскоре проснулось в ней ответное чувство, и теперь готова Даша была на всё — сносить попрёки ключницы, шататься весь день от усталости, идти на конюшню, лишь бы угодить любимому и самой насытиться его нежностью.
Когда Васята во второй раз остерёг князя, тот, поподробнее расспросив друга, ругнул себя, недогадливого. А поразмыслив, поступил как настоящий князь: сразу после занятий на бронном дворе пришёл в малую палату, где обычно собирались ближние бояре, и, как был в лёгком доспехе, потный, разгорячённый, решительно сев на стольце, приказал вызвать дворского. Когда тот пришёл, сказал, глядя поверх головы старого боярина, чтобы не встречаться с ним взглядом:
— Я не хочу с тобой крутить, боярин. Да ты и сам, думаю, знаешь — у меня есть наложница.
По тому, как спокойно дворский принял эти слова, Олег сделал вывод: о Даше знают если не все, то многие. Он похвалил себя за то, что назвал девушку наложницей, тем самым неизмеримо подняв её положение: одно дело просто девка, каких водят на сеновал, а другое — наложница.
Боярин едва заметно улыбнулся.
— Вижу, ты уже осведомлен, — не преминул отметить улыбку Олег. — Тем лучше — мне проще говорить. Она, как ты знаешь, кабальная у боярина Алексина. Распорядись её выкупить, не жалея серебра, и поселить в пристойной избе у стены детинца. И хозяйство ей наладь доброе — с хлевом, овином, конюшней, коровником. Лошадь и корову выдели и работника приставь. — Он подумал и добавил: — Женатого.
— Может, в тереме поселить?
— Нет, — отрезал Олег. — Мне слава дяди Глеба не нужна.
Глеб Михайлович, дальний родственник, один из многочисленных новосильских удельных князей, вечно грызущихся за лоскутные волости, был известен тем, что имел нескольких наложниц и держал их при живой жене в своём тереме.
Дворский молча склонил тяжёлую седеющую голову и вышел. Олег, степенно встав со стольца, ответил на поклоны бояр, таращивших на него в изумлении глаза, и неторопливо пошёл к двери.
В переходе он, не удержавшись, почти побежал к Васяте, чтобы поделиться новостью и рассказать, как умно, по-взрослому провёл он трудный разговор с дворским.
— Но смотри, Васята, Даше об этом ни слова! Я сам ей скажу, когда всё будет готово, — предупредил он друга, закончив рассказ.
— Что я, глупый, что ли? — обиделся тот.
— И пусть сегодня не приходит в сад, отдохнёт.
— Скажу.
Однако долгожданное новоселье, к которому готовился Олег, живо представляя себе, как обрадуется Даша, не получилось. От елецкого князя прискакал гонец с сообщением, что из Дикого поля вышли разбойничьи орды царевича Ахмата и, скорее всего, они пройдут мимо нищего Ельца, сохраняя силы, и ударят прямо в сердце Рязанского княжества.
На этот раз Олег не стал кого-то просить взять его в поход. Собрав думу, он не терпящим возражения тоном объявил боярам и воеводам, что сам возглавит поход. Воеводой правой руки назвал Дебрянича, а левой — боярина Корнея.
Уже на следующий день основные силы рязанцев вышли из Переяславля наперехват ордынцам. Всадники спешили, непрерывно обмениваясь гонцами с передовым отрядом пограничной сторожи, который скрытно сопровождал ордынцев от самой межи. Хотя какая на южных границах Рязанской земли, у самого Дикого поля, межа? Ковыль, курганы да сурки...
На всю жизнь запомнил Олег в подробностях свой первый бой: как Дебрянич и Корней уряжали полки, как он норовил давать советы воеводам и как почтительно, но твёрдо отметал их многоопытный Дебрянич, как он врезался в строй ордынцев, прикрытый с боков двумя самыми опытными и могучими дружинниками и как свалил татарина ударом сабли. Помнил ещё, как, не выдержав, орда повернула и помчалась в степь, уходя от русичей, как летели им вслед стрелы...
Когда возвращались, воевода Дебрянич попросил Олега отпустить его навестить вотчину.
Уже смеркалось. Олег поразился:
— Что, сейчас? На ночь глядя?
— Истосковался я, князь, — вздохнул боярин. — К утру как раз и доскачем. Жена у меня молодая, сын. И дружина моя давно дома не была.
Юный князь поймал себя на тщеславной и гаденькой мыслишке: коли не будет главного героя победы над ордынцами, то вся слава выпадет на его, Олега, долю. Он отогнал мыслишку и поездку Дебряничу милостиво разрешил.
Воевода отправил вестового с заводным конём, чтобы тот успел предупредить о приезде его с дружиной, а сам стал торопливо готовиться к долгому ночному пути. Вотчина Дебрянича располагалась у самых юго-восточных границ княжества, соседствуя с Диким полем, где всегда таилась опасность, и потому жену с малолетним сыном он держал обычно в стольном граде. Но этим летом отправил их в вотчину, пока ходили в поход, у воеводы всё сердце изболелось от беспокойства о молодой жене, сыне и других близких.
Высыпали первые звёзды, когда боярин в сопровождении своей дружины поскакал домой.
Глава пятая
С утра весь дом ждал возвращения из очередного похода воеводы Дебрянича. Жена то ходила на поварню, то бежала в светёлку прихорашиваться, то взбиралась по скрипучей лестнице в самую высокую горницу выглядывать мужа. Стёпка волновался вместе со всеми. Его принарядили, причесали и, хотя исполнилось ему в ту весну уже шесть лет, посадили под присмотром дядьки на гульбище, что опоясывало весь просторный дом боярина, построенный недавно в деревне, жалованной ему князем рязанским Иваном Александровичем за верную службу. А с гульбища какой обзор? Только и видна опушка леса да разбитая пыльная дорога, ведущая в деревню соседа, боярина Корнея.
К середине дня Стёпке надоело смотреть на дорогу и он стал отвлекаться — на дворе всегда происходило что-нибудь интересное. Вот сцепились две собаки. Вот к ним подбежал пятилетний Юшка, сирота, сын погибшего в прошлом походе отцовского лучника, и бесстрашно принялся разнимать. Стёпка хотел было спуститься с гульбища, помочь — Юшка был его самым близким другом здесь, в деревне, — но дядька не позволил. Пока перепирались, Юшка с собаками куда-то исчез. А тем временем на опушке появился отряд с десяток воинов и отец впереди, сзади в поводу у коноводов несколько заводных коней, груженных вьюками, где конечно же есть подарки и для него, Стёпки.
С криком «Тятька, тятька едет!» мальчик бросился к матери. Та уже стояла на высоком крыльце, нарядная, молодая, красивая, в окружении холопок и дворовых, глядя счастливыми глазами на приближающегося мужа.
За обедом Стёпка никак не мог успокоиться: забрасывал отца вопросами, не давая взрослым друг другу и слова сказать. Боярин ласково и терпеливо отвечал сыну, а сам не сводил горящих глаз с красавицы-жёны. Когда дядька сразу после обеда повёл мальчика спать, Стёпка стал упираться, спорить, не обращая внимания на то, что мать, обычно всегда ему потакавшая, вдруг нахмурилась и даже слегка прикрикнула. Пришлось вмешаться отцу.
В своей светёлке Стёпка продолжал буянить, не желая ложиться, потом расплакался, повторяя, что никогда, никогда не спит днём, но вдруг, неожиданно сморившись, уснул.
Проснулся он от громких криков. Внезапно в светёлку вбежал дядька, грубо выхватил мальчика из постели, кинул, словно мешок, на плечо и выскочил в переход. Ничего не понимающий со сна Стёпка забарабанил кулачками в спину дядьки, крича:
— Пусти меня, пусти!
Издалека донёсся громкий голос отца:
— Все уходите в заречный бор! В заречный бор! Я их задержку!
И отчаянный крик матери:
— Нет! Я с тобой!
Дядька побежал к лестнице, ведущей с гульбища на хозяйственный двор, рванул дверь, больно стукнув Стёпку о косяк, и кубарем скатился вниз. Только теперь Стёпка разобрал непонятные, леденящие душу крики: «Хуррр! Хуррр!» Он попытался вырваться, но не смог, а дядька уже бежал по двору, приближаясь к задней калитке. До ушей Стёпки опять донёсся голос отца:
— Ко мне, други, бей поганых!
Стёпка снова забарабанил кулачками в широкую спину дядьки, пытаясь освободиться и спрыгнуть на землю, чтобы бежать туда, где сражался отец и осталась мать, как вдруг с ужасом увидел: рядом с его рукой в спину дядьки впилась татарская стрела. Дядька сделал ещё два шага и рухнул на землю, больно придавив Стёпку своим грузным телом. Это спасло мальчика: над самой его головой в плечо старика впилась ещё одна стрела.
— Ползи в крапиву... беги... спрячься в заречном бору... — прохрипел дядька.
С каждым словом изо рта его толчками шла кровь. Из последних сил он приподнялся, чтобы освободить Стёпку. Мальчик ужом скользнул в заросли крапивы, стеной стоявшей вдоль забора. Перед тем как нырнуть головой в жгучую зелень, он оглянулся.
На крыльце стоял кривоногий, широкоплечий улыбающийся татарин. Неторопливо накладывая на тетиву короткую оперённую стрелу, он не спускал прищуренных глаз с мальчика, словно предлагая тому поиграть со смертью в прятки. Стёпка бросился в крапиву.
Стрела прошуршала в крапивных листьях над головой мальчика, он дёрнулся в сторону и пополз вдоль забора, обжигаясь, плача, боясь приподнять голову. Вдруг он вспомнил, что здесь, где-то рядом, должен быть собачий лаз, прополз вдоль забора ещё локтей пять и, юркнув в дыру, оказался за пределами двора. Немного отдышавшись, Стёпка осторожно раздвинул стебли крапивы и огляделся. Шагах в тридцати от него другой татарин догонял старого печника, тот бежал, втянув голову в плечи, когда же понял, что не уйдёт, то остановился и обернулся, желая встретить смерть яйцом к лицу, как и подобает мужчине-воину. Татарин взмахнул саблей, но старик увернулся и, вцепившись в руку врага, повис на ней всей тяжестью своего сухого тела. Татарин ударом свободной левой руки отбросил его от себя. Свистнула сабля — Стёпка с ужасом увидел, как седая голова покатилась в пыль. Мальчик зажмурился. Эта страшная картина преследовала потом его по ночам многие годы...
Стёпка лежал с закрытыми глазами, наверное, всего несколько мгновений, но ему они показались вечностью. Когда он, решившись, открыл наконец глаза, то первое, что увидел, был давешний татарин с луком в руках. Он выглядывал из калитки, пытаясь понять, куда спрятался мальчишка. Стёпка вжался в землю и замер, преодолевая страстное желание почесать те места, где наиболее яростно искусала его спасительная, но жгучая трава.
Наконец послышались гортанные крики ордынцев, ржание коней, топот удаляющихся копыт. Только теперь мальчик позволил себе выбраться из крапивы. Всё тело свирепо чесалось, каждый оголённый участок кожи побагровел и вспух, хотелось полить их скорее водой. Внезапно за деревьями взметнулось пламя. Стёпка побежал к дому и в ужасе замер: дом полыхал.
Огонь стремительно пожирал сухое смолистое дерево, словно привлечённый затейливой резьбой, украшавшей наличники, фигурные балясины, стрехи. На ступенях высокого крыльца с клинком в руке лежал отцов меченоша, из груди его торчала стрела. А чуть выше — на крыльце, Стёпка, едва глянув, тут же зажмурился, но что-то заставило его опять посмотреть туда, — лежал отец. Что-то неестественное было в повороте его головы: лежал ничком, а лицо обращено к небу. Стёпка в ужасе закричал тоненьким голосом — голова отца была отрублена. Мальчик на внезапно ослабевших ногах медленно пошёл к дому, но тут пламя взметнулось, охватив крыльцо и сени, и поднялось сплошной стеной. Огонь обдал Стёпку таким сильным жаром, что у него затрещали волосы на голове.
Мальчик попятился, выскочил со двора и опрометью бросился бежать. Кругом всё горело, лежали трупы мужиков, баб, стариков, детей. До самого вечера просидел Стёпка на берегу реки под раскидистой ветлой. Пожар медленно затихал, рушились бревенчатые стены домов, оставляя лишь сложенные из глины печи. Ещё вчера в них варили, парили, жарили в ожидании отцов, братьев, мужей, что возвращались из удачного похода.
Наконец мальчик встал и побрёл к мосту — десятку лесин, переброшенных с одного берега реки на другой. Деревья смывало в каждый паводок высокой водой, но мост упорно восстанавливали под надзором тиуна мужики из деревушки. Лесу хватало, а поставить мост на опорных срубах силёнок у деревни было маловато, да и зачем?
Стёпка остановился на середине моста и оглянулся. Крыша боярского терема давно рухнула, и теперь на том месте, где раньше стоял дом, торчали лишь высокие трубы поварни. Мальчик тяжело, по-взрослому вздохнул, шмыгнул носом, утёр рукавом сухие глаза — слёзы легко появлялись у него от любой домашней обиды, а сегодня словно высохли в испепеляющем дыхании пожара — и зашагал прочь.
Он уже вышел на дорогу, как вдруг сзади раздался отчаянный крик:
— Стё-ё-ё-пка!
Мальчик, не поверя своим ушам — голос был знакомый, оглянулся.
Через мост торопливо ковылял Юшка. Грязный, весь закопчённый, с прожжёнными дырами в холщовой рубашке, всклокоченный, но живой!
— Юшка! — ахнул Степан, и несказанная радость заполнила его сердце.
— Стёпка! Стёпка! — снова и снова повторял Юшка.
Когда он наконец приблизился, слёзы, копившиеся весь день, ручьём хлынули из Стёпкиных глаз.
Измученные, голодные, дети медленно брели по разбитому просёлку, спотыкаясь и поддерживая друг друга. На тёмно-синем небосводе появилась луна, словно обгрызенной частью диска напоминающая ломоть хлеба, отчего ещё больше захотелось есть. В дубраве, почти вплотную подступавшей к просёлку, несколько раз ухнула сова. Мальчики сжались от страха. Хотелось забиться в кусты и лечь, но лес, наступающий тёмной громадой, пугал, и они продолжали ковылять на разбитых от непривычной ходьбы ногах по пересохшей глинистой дороге.
Внезапно словно что-то холодное коснулось спины Степана — он непроизвольно оглянулся и обмер. Сверкая зелёными глазами, по дороге трусцой бежала огромная волчица. Почему волчица, а не волк, Стёпка, наверно, объяснить бы не смог, но знал это наверняка. Он застыл, не в силах сделать ни шагу. Юшка оглянулся в недоумении и тоже увидел зверя. Шумно вздохнув, он застыл так же, как и Степан. Волчица остановилась, села как большая собака и склонила голову набок, разглядывая своими горящими, неправдоподобно большими глазами детей. Язык, длинный и влажный, свисал из узкой пасти с огромными зубами.
В оцепеневшем от ужаса мозгу Стёпки шевельнулась мысль: бежать нельзя, в два прыжка догонит. Что же делать?.. Решившись, он тронул Юшку за руку:
-— Идём.
Малыш покорно повернулся и затопал босыми ножками по дороге.
Стёпка, помедлив, с трудом заставил себя повернуться спиной к волчице и пойти. Он шёл, затылком ощущая её взгляд. Иногда ему казалось, что он чувствует ветерок от её дыхания, но мальчик не позволял себе оборачиваться, а шёл, шёл, время от времени прикасаясь к руке Юшки, чтобы ощутить живое человеческое тепло.
Луна скатилась за лес, когда наконец Юшка не выдержал и оглянулся.
— Её нет, — сказал он тихо.
Теперь оглянулся и Стёпка — действительно, волчицы нигде не было видно.
И вдруг непонятно почему накатил ужас, идущий из тёмной, таинственной, дышащей сырым холодом громады леса.
— Я дальше не пойду, — всхлипнул Юшка и сел на дорогу.
Стёпка сел, обнял друга за плечи, прижался покрепче. Сколько времени они так просидели, потом ни один вспомнить не мог. Встали, когда опять заухал филин в лесу, совсем близко, за придорожными кустами. Хотелось бежать, но сил не было, и мальчики побрели настолько уставшие, что уже не ощущалась боль в израненных ногах, благо, жёсткие комья глины кончились и началась мягкая пыльная дорога...
К деревне боярина Корнея вышли на рассвете, постучались в первую избу к околицы. Выглянула старуха, узнала в Стёпке соседского боярчонка, впустила, усадила за стол. Между охами успела сказать, что и в их селе побывали нехристи, половину домов зажгли, но подоспел боярский тиун с воинами, погнал татар.
Только тут Стёпка почувствовал, что в воздухе стоит запах пожарища. Хотел рассказать старухе о том, как шли они с Юшкой, но вместо этого положил голову на стол и уснул. Рядом давно похрапывал, постанывая, Юшка. Хозяйка тяжело вздохнула, глядя на сирот, кряхтя, перенесла их на печку, на ветхий тулуп, служивший и постелью, и застилкой, и одеялом.
К ночи вернулся с мужиками тиун. Татар они не догнали, но побывали у соседей в деревне: никого в живых нехристи не оставили, лишь обгорелые трупы валялись на пожарищах.
Поутру снарядил тиун к боярину Корнею смышлёного мужика с донесением. До главной вотчины — у боярина-то деревень несчитано — путь лежал дальний, целый день хорошей гонки на добром коне. Лошади все были уставшие после погони за ордынцами, так что узнал Корней о беде, постигшей его соратника и друга, только через несколько дней. Из своей главной вотчины, что располагалась под самым Переяславлем, поскакал к князю доложить о беде.
Олег принял весть близко к сердцу. Он вспомнил, как впервые выезжал на войну с воеводой, как спас тот Васяту от неминуемой гибели, как учил расставлять сотни. Казалось, только вчера весело и радостно возвращались с победой...
Князь велел похоронить воеводу и его жену с почестями в Переяславле, на городском погосте. А ехать за погибшими послал Корнея.
Велики были его удивление и радость, когда он узнал, приехав в деревню, что сын Дебрянича чудом спасся.
Стёпка и Юшка, не отходивший от друга ни на шаг и всё время глядевший на него огромными не по-детски серьёзными глазами, были усажены в телегу на ворох мягкого сена и привезены в вотчину боярина Корнея. Высланный вперёд верховой сообщил обо всём боярыне, и она встретила детей на крыльце. Обняла, прижала их головы к мягкой, пышной груди, запричитала, заплакала в голос. Тут Стёпка впервые за всё время тоже заплакал, судорожно вцепившись в тёплую, пахнущую почему-то тестом руку боярыни.
На похороны воеводы и его жены пришла вся дружина. Когда епископ закончил молитву, князь Олег Иванович положил руку на Стёпкину непокрытую русую голову, поглядел ему в глаза и со вздохом сказал, что вотчину оставляет за ним. Смысла княжеских слов Стёпка не понял, лишь заметил, что бояре согласно закивали. Потом его и Юшку позвали к поминальному столу...
Как-то само собой решилось, что Стёпка, а с ним и Юшка будут отныне жить и воспитываться у боярина Корнея, друга и соратника погибшего воеводы. Тем более что своих детей у боярина не было. Как ни молилась его молодая, пригожая жена, сколько ни ездила на богомолье по святым местам и не привечала ведуний со всей Рязанщины, год шёл за годом, а понести никак не удавалось. Казалось бы: муж силён и крепок, сама в соку, в меру дородна, без румян румяна, с утра до вечера на ногах по хозяйству, не то что иные боярыни — полдня в постели, полдня за пяльцами, — ан нет, не даёт детей Господь.
Потому и приняли Стёпку в доме Корнея как посланного Богом сына, и Юшку приветили, приголубили, не отлучили от боярчонка. Вместе мальцов в учение отдали, вместе на коней посадили, определив под надзор старого дружинника, который стал им дядькой.
И словно в награду за милосердие к сиротам на второй год жизни их у Корнея боярыня понесла и через положенное природой время родила дочь Алёнку.
Старый дружинник занимался с ребятами на бронном дворе просторной городской усадьбы Корнея. Мальчики с восторгом постигали тайны воинского умения, размахивая деревянными мечами, мечтали о том времени, когда смогут взять в руки настоящее боевое оружие. После бронного двора, освежившись у колодца холодной водой, шли к великомудрому священнику. Он обучал грамоте, числам, греческому языку и прочим наукам. Священник и открыл у Стёпки песенный дар: у мальчика был высокий чистый дискант и верный слух. Юшка, лишённый голоса, чтобы и здесь не отставать от друга, выучился играть на дудочке-жалейке.
Глава шестая
Татары ещё не раз налетали малыми силами на окраины Рязанской земли. Олег бросался наперехват, слушая советы воевод, готовился, потом сам рубился в передних рядах, мужая и набираясь опыта.
Единственное, на что он соглашался, уступая мольбам матери и увещеваниям дядьки, — в бою всегда по обе руки от него сражались двое самых могучих дружинников.
По вечерам Олег частенько, не скрываясь, шёл в домик у стены детинца, где полновластной хозяйкой жила Даша. Здесь он отдыхал и от докучливых забот матери, и от въедливых бояр, что лезли с советами и воспоминаниями: об его отце, о дедах — вот, мол, при них... Сюда допускались только друзья, Епишка и Васята. С Епишкой Олег играл в шахматы, а Васята точил лясы с Дашей. Она, нарушая вековой уклад, не уходила в свою светёлку, а сидела вместе со всеми, порой вставляла к месту слово в беседу.
Мать, поджимая губы, всё чаще заговаривала о женитьбе. Олег отшучивался, он понимал, что мать права: Рязанской земле нужен наследник, а рано постаревшей женщине нужен внук, да лучше бы ещё и внучку, чтобы скрасили вдовьи пустые годы. Но всё в душе молодого князя противилось ранней женитьбе.
Гонец из Орды к тысяцкому прискакал поздней ночью, когда все огни были уже погашены и ворота опущены.
Его долго с пристрастием допрашивали, потом впустили в детинец тайной калиткой, передали внутренней страже. Те отвели к тысяцкому.
Тысяцкий, спавший по-стариковски некрепко, сразу же принял его, выслушал, поскрёб в седой бороде и кликнул рынду[14] одеваться.
— Пойдём к великому князю, — кивнул недоумённо глядевшему гонцу.
— Он же мальчонка ещё, великий боярин, — попробовал возразить гонец. Ему хотелось поскорее завалиться спать. Нет, вначале съесть чего-нибудь горячего, запить чаркой мёду, чтобы согрело нутро, а потом уже спать. А тут, вишь, к князю. Неизвестно, когда ещё он соизволит принять.
— Засиделся ты, гляжу, в Орде, парень, — сказал тысяцкий, заканчивая одеваться. Было непонятно, осуждает он гонца или посмеивается. — Ныне великий князь всё воедино в свои руки собрал!
— Эвон как быстро шагает!
— Кому сколько дано, — сказал старик, и вновь было не понять, шутит он или говорит серьёзно. — Вели коней подать, — приказал рынде и пояснил гонцу: — До княжьего терема недалеко, да стар я уже по ночам ноги бить.
Появление тысяцкого Олега не удивило. Ему уже донесли о прискакавшем из Орды гонце, и он с нетерпением ждал старика, так как знал, что у того были тайные осведомители и в Орде, и почти во всех Залесских княжествах. Кто под видом торговца, кто — ремесленника, кто — каменных дел мастера, а кто и сотника. Тысяцкий создавал эту невидимую людскому глазу тайную сеть с незапамятных времён, ещё когда княжил сам Коротопол, гордился ею, ревниво оберегал. Не допуская даже князя в тайное тайных, опасаясь, что по молодости, невзначай, может сделать Олег неверный шаг, и тогда пропадёт кто-то из верных людей.
Тысяцкий, отдуваясь, уселся на лавку.
— Ты, княже, и гонцу сесть дозволь. Сколько дней в седле.
— Садись, — кивнул князь.
— Хан Бердибек убил своего отца хана Джанибека и сел на кошму, — с ходу сообщил главную весть гонец.
— Та-ак...— растерянно протянул Олег.
— Вот именно: та-ак. — Тысяцкий усмехнулся. — Жаль Джанибека, хороший был хан, если нехристь вообще может быть хорошим. Только это уж дело прошлое. Надобно нам к Бердибеку посольство с дарами немедля ладить. Так, чтобы раньше всех прочих княжеств поспеть.
— Посольство? Выходит, поздравлять будем? С чем? — вскинулся Олег. — С тем, что отца родного убил? Хана, с коим я лепёшку дружбы разломил, хлеб-соль ел?!
Тысяцкий похлопал по плечу гонца:
— Иди в молодечную избу, скажи, что я велел накормить и уложить тебя.
Гонец, пошатываясь, вышел, забыв поклониться.
— Вот теперь я на твой правильный вопрос отвечу, великий князь. Коли нужно для блага твоей земли — то поздравишь!
Олегу вспомнились слова сарайского епископа, владыки Василия, о чаше кумыса и годе спокойствия. Но сейчас-то речь шла не о кумысе. О крови! И не чьей-нибудь, а отцовской. Какой грех на душу брать!
Словно подслушав мысли князя, тысяцкий сказал:
— А грех во храме отмолишь.
Олег опустил голову.
Тысяцкий, посчитав, что спор окончен, продолжил:
— Серебра брать побольше да золото вели из твоей сокровищницы взять. Таких, как Бердибек, золотом покупать надобно.
— Ты его знаешь, боярин?
— Нет, — мотнул головой тысяцкий, — но так полагаю. И жемчуг для жены. Хорошо бы завтра к середине дня управиться со сборами. — Он взглянул из-под бровей на князя, проверяя, как тот слушает. — Если велишь, пойду распоряжаться.
Олег поднял глаза. В них было страдание.
— Но ведь я с ним хлеб-соль делил...
— Хлеб-соль делил, а ответ перед Рязанской землёй ты один держишь, ни с кем не деля. Так велишь, великий князь, аль нет? Мне ещё всю ночь уряживать, надо нам раньше всех других успеть.
— Кто посольство возглавит? — спросил Олег.
— Думать надо. — Тысяцкий ничем не выразил удовлетворения от того, что добился нужного ответа.
— Ты, наверное, и это за меня решил!
— Я, великий князь, за тебя не решаю, — с лёгким упрёком сказал тысяцкий. — Я тебе предлагаю решение. Твоё княжеское дело выбрать. Волен согласиться и послать посольство, волен не согласиться. Золото целее будет, если, конечно, успеем в мещёрские болота увезти, когда Орда придёт.
— Посольство возглавит боярин Корней, — твёрдо произнёс Олег.
— Вот и хорошо, — быстро согласился тысяцкий, и князь понял, что мнения совпали. — Прям, смел, немногословен, что ты повелишь, то и скажет хану. Язык ихний с малолетства знает, без толмача обойдётся, уважение тем выкажет.
— Но чтобы ни слова о счастливом восшествии на престол! Великий князь шлёт подарки, и всё.
— Вестимо, — тысяцкий поднялся. — Прости, княже, посольство ладить — хлопотное дело. Я дворского и конюшего подниму, — и, коротко поклонившись, вышел.
В том же 1357 году в Орду поехал митрополит Алексий. Все русские люди возлагали на него большие надежды, помня, как ещё в бытность свою епископом излечил он от болезни ханшу Тайдулу, мать Бердибека. Теперь он ехал главным образом к ней, надеясь через мать повлиять на жестокого хана.
На Олега между тем навалились бесконечные хлопоты. Старый тысяцкий уже не мог, как прежде, ездить по отдалённым уголкам княжества, проверяя не столько готовность маленьких крепостиц к отражению татарских налётов, сколько умение быстро и собранно уходить в леса и болота. Это тоже требовало и навыков, и особой расторопности.
— Быстро — не значит торопко. Быстро — значит без суеты и без роздыху, — поучал тысяцкий Олега, который теперь сам ездил по городам и волостям.
Князь всё реже приходил к Даше, едва успевая отдохнуть между поездками. Однажды вечером, когда друзья втроём сидели у костра, Васята спросил неожиданно:
— Уж не остывать ли ты стал к Даше, княже?
— А что?
— Ничего. О своей «крестнице» пекусь, — ухмыльнулся Васята. Так он обычно называл Дашу.
— И сам не пойму, — задумчиво ответил Олег. — В конце дня говорю себе, что устал и останусь в тереме, а потом с вами или с тысяцким чуть ли не до первых петухов засиживаюсь.
Он пошевелил суковатой палкой уголья в костре. Искры взвихрились, на мгновение осветив возмужавшие лица друзей. У Васяты начало курчавиться подобие бородки, у Кореева над верхней губой отчётливо темнела полоска.
— Вроде и упрекнуть мне её не в чем, — продолжил так же задумчиво Олег. — Что ни пожелаю, всё исполняет. Все мои любимые яства знает, лучше, чем на поварне, готовит. А уж чистюля — спасу нет, банька беспрестанно топится, и утром, и вечером. Псалтирь у неё видел, спросил — смутилась, говорит, приходит к ней монашек, читать учит. — Олег вздохнул. — Не знаю. Матушка допекает: женись, говорит, хочется ей внучат нянчить. А как мне жениться, если даже с наложницей скучно.
— Значит, не пришло твоё время, — рассудительно сказал Епишка.
— Вот и я так думаю, не пришло.
— Ну, до женитьбы тебе ещё далеко. — Васята засмеялся. — Слушай, княже, хоть и «крестница» она мне, но, может, тебе именно Даша наскучила? Может, какую иную девку подобрать, а?
Олег ничего не ответил, лишь нахмурился. Епишка толкнул друга в бок.
— Ты не толкайся, я дело говорю. Мне вон каждая новая девка в радость.
— Только у тебя эта радость каждый раз всё короче и короче становится, — с укором сказал Епишка.
— Спать, однако, пора, — сердито заключил Олег и, поднявшись от костра, пошёл к походному шатру.
Этот разговор через некоторое время продолжился самым неожиданным образом: краснея и путаясь в словах, перемежая их поцелуями, Даша как-то призналась князю, что понесла и уже на четвёртом месяце.
Олег испугался. Ещё месяц-другой, и в княжеском тереме прознают, матушке донесут. Ведь всюду нос суют эти постнолицые, пропахшие ладаном, завистливые бабы или старые девы — кто их разберёт.
Он призвал на совет друзей.
— И донесут, это как водится, — согласился, выслушав, Васята.
Епишка усмехнулся.
— Не о том говорите, други.
— Как не о том? — Олег вспылил. — Матушка лишь о женитьбе и думает, небось и невесту уже приглядела. А тут я ей такой подарок...
— Вот и я говорю, — продолжил Епишка, — не о том речь ведёте. Надо бы о будущем человеке, а вы о каких-то бабах, что донесут великой княгине.
Олег задумался. Резкая поперечная складка легла между разлетающимися тёмными бровями. Он вскинул голову. Епифан ожидал окрика, но вместо того услыхал растерянный голос друга:
— Что же делать?
— Некоторые жёрнов мельничный поднимают, — хохотнул Васята.
— Дурак, — бросил в сердцах Олег.
— Тогда сделай, как от веку князья да великие бояре поступают, — посерьёзнел Васята.
— Как?
— Выдели ей деревеньку в стороне от Переяславля, чтоб на глаза зазря не попадалась. Выдай замуж за вдовца с детьми из огнищан[15] либо из тиунов княжеских, небогатых. — Васята хмыкнул. — Не ты первый, не ты последний.
— Тиунов, говоришь? Да кто же согласится? — удивился Олег.
— Почитай, любой вдовец. Ты, княже, право, словно никогда из терема своего не выходил. А, Епишка?
Тот молча кивнул.
— А дитё? — спросил Олег.
— Что дитё? — Васята не понял.
— Моё ведь дитё.
— Ну и что? Думаешь, мало у тебя сводных сестёр да братьев по разным деревням живёт?
— Да, князь. Хоть и тихим вроде считался твой отец, а и он грешил, — подтвердил Епифан и быстро добавил: — Главное, у дитяти отец законный будет, так что никто в жизни не попрекнёт безотцовщиной.
Олег задумался. В голове была полная сумятица. Чужой пример, пусть даже отцовский, не указ. Это с одной стороны. А с другой — что ещё можно сделать? Растить ребёнка около себя, множить сложности? Вспомнилась рассказанная кем-то из старых бояр история о том, как чуть не распалось богатое Галицкое княжество, когда подросли у тамошнего князя двое сыновей — от нелюбимой жены и от любимой наложницы. Этого, незаконного, прозвали в народе по матери Настасьичем, и был он всем по сердцу. Но одни бояре встали за законного князя, другие за незаконного Настасьина...
Нет, пожалуй, батюшка был прав, отдавая наложниц в жёны вдовцам, соблазнив их богатым приданым.
— И не тяни, князь, — услыхал Олег настойчивый голос Васяты. — Решай, пока брюхо никому в глаза не бросилось.
Олег промучился три дня, потом решился. Злясь на самого себя, поручил Васятке подыскать деревеньку, сговорить огнищанина и сообщить обо всём Даше. Сам не посмел.
...Когда через пару недель Васята всё уладил и пришёл к другу с докладом, Олег не захотел слушать и только кивнул головой. Всё, связанное с Дашей, уже словно отдалилось от него и перестало заботить. Это было уже в прошлом и с каждым днём всё более окутывалось туманом забвения.
Глава седьмая
В 1358 году только мудрая осторожность старого тысяцкого спасла княжество от разорения.
В Переяславле появились послы родственника хана Бердибека царевича Мамат-Ходжи с предложением: объединив силы, ударить на Москву и вернуть все старые рязанские земли. Послы заверяли, что царевич желает Рязани только добра, и обещали, что в скором времени придёт сам Мамат, а с ним несколько тысяч верных воинов. Дело только за рязанцами.
Тысяцкий сразу же почуял в необычном предложении что-то подозрительное. Но Олегу возможность совместного похода на Москву показалась заманчивой. Восемнадцатилетний князь загорелся.
Дело было не только в спорных городках. Олег и сам не смог бы толком объяснить, почему всё, что связано с соседней Москвой, так его притягивает и волнует. Может, потому, что богатела Москва не по дням, а по часам, а Рязань нищала, или потому, что рязанский князь ощущал себя последним осколком великой Киевской империи здесь, на востоке огромного когда-то Русского государства, только любые слухи о Москве будили всегда в душе ревность и любопытство, зависть и обиду.
А тут такая возможность появилась!
Тысяцкий долго думал, выслушивая сбивчивые речи молодого князя. С какими-то доводами соглашался: и его, старика, тревожила Москва. Но совсем по другим причинам.
Предвидел он, умудрённый опытом долгой жизни, что когда-нибудь пересекутся пути двух княжеств и, скорее всего, крепнущая Москва «слопает» Рязань, как уже «слопала» и Кашинское, и Переяславль-Залесское, и Можайское, и Вяземское, и Одоевское, и Коломенское княжества. Конечно, Рязань им не чета, но ведь и Москва растёт, разбухает, силу набирает недюжинную.
— Пять лет назад, — заговорил как-то тысяцкий, — ты, великий князь, впервые на думе выступил и мудро остерёг нас от того, чтобы из-за Лопасни ввязываться в усобицы с Москвой. Я даже слова твои помню: обезмужела Рязань...
Олег почувствовал, что медленно краснеет.
— А теперь, выходит, поманил тебя татарин лукавый и всё можно забыть? Тебе в тот раз люди поверили и наперёд тебе свою любовь отдали, а ты, как вертлявая невеста, к первому же, кто позвал, готов бежать.
— Замолчи! — вскинулся Олег.
— Нет уж, выслушай, великий князь! Мамат-Ходжа предатель, я это нутром чую. Но даже если бы и не был он предателем, я всё едино не дал бы согласия на совместный поход против Москвы с ордынцами!
Олег хотел было сказать, что никто согласия выжившего из ума старика и не спрашивает, но, встретившись взглядом с его пронзительно-голубыми глазами, осёкся.
— То ты Бердибеку подарки не хотел посылать, зазорно тебе было, а теперь собрался московских смердов арканить вместе с татарином?! Сие не зазорно?
Олег отвернулся, подошёл к окошку, поглядел на просторный двор, где что-то строили холопы.
— Что же делать? — спросил он. В голосе прозвучала та же мальчишеская растерянность, как недавно в разговоре с Васятой и Епишкой о судьбе Даши.
— Хитрить, переговоры вести, а самим не спешить. И доверь это мне, великий князь, — у тебя пока ещё всё на лице написано...
Затягивая переговоры, тысяцкий и дворский стали потихоньку отправлять на север полки и имущество. Послам же говорили, что у Рязани войск почти не осталось.
По ночам в непроходимые мещёрские чащобы тайно уезжали боярские семьи, дружинники везли добро.
Уходили в леса и крестьяне южных и юго-восточных, граничащих с Диким полем, волостей княжества. Так что когда на юге появился с войском царевич Мамат, сопротивления ему никто не оказал, но и грабить было нечего.
Стремительным броском Мамат продвинулся к границам Москвы, как бы подтверждая своё доброе расположение к рязанцам, но это не успокоило тысяцкого. Он продолжал уводить людей, щедро одаривая посланцев Мамата серебром.
Так долго продолжаться не могло: это понимали все. Действительно, в приграничных с Москвой землях Мамат сбросил маску друга и принялся без разбору грабить и жечь как рязанские, так и московские сёла. Тут и выяснилось, что действовал Мамат на свой страх и риск, не имея разрешения хана Бердибека. Мамата вытребовали в Сарай, где судили и за самовольство казнили.
Глава восьмая
Однажды в середине лета князь Олег и Васята возвращались с дальней рыбалки. Дорога вывела к околице деревеньки, холопы и челядь отстали. Справа от дороги, в густых кустах дикого малинника, неожиданно мелькнула полускрытая ветвями тропинка, словно лаз в таинственную сумрачно-зеленую пещеру. Олег осадил коня, кивнул Васяте на лаз: мол, сбежим, и, ни слова не говоря, нырнул, пригнув голову, вместе с конём в манящий неизвестностью сумрак. Васята, поняв князя, последовал за ним. Молодые люди притаились в кустах и вскоре услышали растерянные голоса холопов, потерявших господина.
— Великий князь! — звал невидимый челядин.
— Господине! Господине! — вторил ему высокий голос слуги.
Вскоре мягкий стук копыт по пыльной дороге затих, удалились и голоса. Свита, скорее всего, миновала околицу и въехала в деревню.
Васята стал пробираться обратно.
— Не спеши, — остановил его Олег. — Тебе не любопытно, куда ведёт эта тропинка?
— Да небось в какой-то дом на околице, — беспечно бросил Васята, но послушно остановил коня. — Впрочем, тут можно спрямить и задами выскочить в деревню раньше холопей. Вот рты разинут!
Олег кивнул, озорно улыбаясь, и быстро поехал по тропинке. Вскоре кони вынесли к высокому, в полтора человеческих роста, забору, сбитому из толстых кольев, основательно заглублённых в землю: видно, ладила забор настоящая хозяйская рука. Олег привстал в стременах и заглянул в усадьбу. Грядки огорода упирались в малинник, переходящий в смородинник и в яблоневый сад. За садом виднелся просторный дом, за ним сарай, дальше овин и сеновал. Все строения были новыми, добротными, крытыми дранкой. Над домом высилась красная кирпичная труба, ещё один указатель на зажиточность владельца, — даже в городе многие продолжали топить в избах по-чёрному.
Справа от нарядного, с перильцами и столбами крыльца высились качели. На них раскачивался мальчонка лет трёх. Упруго выгибаясь, он наращивал размах, рубашонка из небелёного холста начала вздуваться на спине, задралась, обнажив крепкие, загорелые ножки. Мальчик радостно засмеялся, тут на крыльцо вышла статная, полнеющая молодая женщина с младенцем на руках. Её лицо показалось князю знакомым. Он не сразу сообразил, кто это, а когда понял, строго поглядел на Васяту:
— Ты, выходит, знал?
— Нет, князь. Ты сам тропинку выбрал.
— Я не о тропинке. Я о сыне.
— Знал.
— Почему молчал?
— Ты же повелел, чтобы рос сыном огнищанина.
— Правда. — Олег задумчиво посмотрел на мальчонку. — Вроде похож?
— В детстве все похожи — белобрысы и голубоглазы.
— Нет, похож... Крепко же, однако, огнищанин на ноги встал с тех гривен, что я тогда дал в приданое.
— А я добавил...
— Ишь, щедрый.
Васята не уловил, сердится ли князь или усмехается, и на всякий случай широко улыбнулся, как бы принимая шутку князя:
— Так ведь я почти что сват.
— Вот что, сват, через два года мальчонку в ученье определи, а подрастёт — в детскую дружину.
— Моего батюшки?
— Нет, не боярскую. Великокняжескую.
— Как же так? Он же сыном огнищанина считается, а его в дружину...
Олег подумал, что не стоит нарушать установленный порядок ради незнаемого сына.
— Меченошей определи. Покажет себя в бою, может и дружинником стать. Ты придумай как.
Князь ещё раз бросил взгляд на пригожую, статную молодуху, с которой когда-то познал первые радости плоти. Ничего в сердце не шевельнулось — сколько девиц прошло за это время через его опочивальню, сеновал, походный шатёр... Поглядел на крепенького, загорелого, азартного мальчонку, словно вбирая его в свою память таким, на качелях, радостно смеющимся полёту, тронул коня и скрылся в зарослях, забыв о том, что совсем недавно хотел выскочить неожиданно и удивить свиту.
— Никому ни слова.
— Нешто я сам не понимаю! — обиделся Васята и, противореча себе, уточнил: — А Епишке?
— Я сказал: никому...
А вечером Олег неожиданно дал матери согласие жениться.
— Господи, сынок, радость-то какая старухе! Надоумил тебя Господь! — Великая княгиня, грузная, болезненная, упав на колени перед иконой Богоматери в красном углу опочивальни, перекрестилась, шепча слова благодарности заступнице, встала, обняла сына, прижалась к нему, шепча: «Теперь дождусь внучат, дождусь!» Потом отстранила его, внимательно поглядела в глаза, но, ничего не сказав, присела в креслице у ларя.
— И к кому прикажешь сватов засылать?
— А уж это, матушка, ты сама решай. Как выберешь — так и будет, я тебе доверяю.
Олег немного лукавил: всезнающий Васята уже не раз говорил, что великая княгиня после того, как в последний раз спасались от налёта ордынцев, из мещёрских лесов ездила не в Переяславль, а в Муром, к дальней родственнице, тамошней княгине, и что якобы приглянулась ей там княжна. С тех пор сновали между Муромом и Переяславлем гонцы, монахи и даже свахи. Васята даже знал имя княжны — Ефросинья.
Однако ни он, ни кто иной из молодых переяславских бояр её ни разу не видел. Говорили только, что любит охоту и с детских лет лихо скачет как на тяжёлых русских конях, так и на легконогих татарских. Поговаривали ещё, что бабка княжны была половчанкой, красавицей-ханшей из древнего рода Кобяковичей, умной и властной.
«Властная? — думал Олег. — Властная нам не нужна».
— А не наведаться ли мне в Муром, чтобы глянуть? — спросил Васята как-то.
У князя мелькнула тогда мысль: неплохо бы самому вместе с Васятой, переодевшись простыми гриднями, съездить в Муром. Но в эти дни с межи пришла весть, что идёт к верховьям Дона отряд разбойных ордынцев числом в несколько сотен, и Олег помчался во главе лёгкого конного полка наперехват...
Время шло. Олег обнаружил, что матушка медлит, чего-то ждёт, сомневается, хотя всё подготовила и ждёт только его слова, чтобы засылать сватов.
— Я же сказал тебе, матушка, всё решай сама. — Олег удивился.
Мысль съездить в Муром под видом гридней сейчас ему казалась глупой.
— За Ефросиньей из Мурома ни приданого знатного, ни земель богатых, смутили меня бояре, — стала оправдываться княгиня.
«Вот в чём дело, — понял Олег. — Недовольны ближние бояре, что возьмёт их князь, жених завидный, красивый, смелый, прославленный в свои молодые годы, скромное приданое».
— Княжна-то тебе по сердцу пришлась, — успокоил Олег мать, подумав, что ласковая невестка приносит в дом приданое, которому цены нет. — Смело засылай сватов.
— А если она тебе не люба будет? — обеспокоенно спросила мать, уловив в голосе сына странное для такого разговора спокойствие. Великая княгиня подумала, что негоже под венец идти, когда сердце словно ледышка, но потом вспомнила, как сама шла за Ивана Александровича, увидев его лишь в церкви, а любила всю жизнь, и торопливо добавила: — Хотя муромские все красавицы.
— Да, матушка, — так же спокойно согласился Олег.
— Одно плохо — с годами статность не приобретают. Сколь ни корми — всё тощие.
Олег вспомнил раздобревших не по годам боярынь и удельных княгинь его собственного двора, соседей, татарских ханш и усмехнулся. Он поцеловал мать в мягкую, почти без морщин щёку.
— А я дородных не люблю. — И добавил, словно поставил точку: — Свадьбу сладим по осени!
Глава девятая
Невеста оказалась именно такой, какой её описывали Олегу: высокой, тоненькой, темнобровой, с алыми сочными губами. Глаза были медовыми и тёплыми, в те короткие мгновения, когда она осмеливалась взглянуть жениху в лицо, испуганными.
За свадебным столом князь привычно протянул чашнику свой золотой кубок, но сидевшая рядом с ним по правую руку мать решительно воспротивилась — не по обычаю, на свадебном пиру молодые вина не пьют! Обычай мудрый — не допусти Господь молодым в первую же ночь зачать во хмелю! Не случайно всезнающие свахи, что шныряли от одного княжеского двора к другому, высматривая невест и женихов в расплодившемся, неохватном роду Рюриковичей, рассказывали, что всё чаще рождаются слабые, хилые, не жильцы на этом свете и уж, во всяком случае, не властители. Свахи предлагали невест из древних боярских родов, свежую кровь. Правда, матушка справедливо говаривала, что за этим проглядывает боярское серебро: чего ни отдашь, чтобы породниться с князем! Но муромчане, по её словам, были крепкой, здоровой ветвью Рюриковичей, может быть, потому, что, сидя на самом краю Русской земли, не единожды роднились и с половецкими ханами, и с мещёрскими племенными князьями.
«Всё так, — думал Олег, поглядывая на молодую. — Но до чего же выпить охота! Вон Васята какой уже кубок осушает во здравие молодожёнов и ещё улыбается насмешливо, подмигивает. Вот утром доберусь до него...»
Олег скосил глаза на невесту и в который уже раз не поймал её убегающий взор. Девушка зарделась.
«Княгиня!» — усмехнулся про себя Олег.
Над верхней губой у неё темнела крохотная родинка, и он подумал, что, наверно, приятно целовать эту оставленную Афродитой отметинку, знак страстной натуры. Почему он вдруг вспомнил о прекрасной греческой богине, чьи изображения видел, когда ездил с греком-наставником Феофаном в Тмуторокань? Уж не потому ли, что прямой, чуть вздёрнутый носик и красиво вырезанные губы, полные и зовущие, напомнили ему одно из мраморных, пожелтевших от времени изваяний, что веками стоят в городе у моря, где смешались лица, речь, обычаи, культура десятков народов?
«И что за мысли лезут в голову», — в который раз укорил себя Олег, силясь вслушаться в речи ближних бояр, желавших ему и молодой долгих счастливых лет жизни и многих детей.
Невеста опять искоса взглянула на него, и снова румянец смущения залил её лицо.
Олег встал, низко поклонился сидящим за тремя длинными столами, составленными так, что казалось, они бесконечны. Встала и молодая, так же, как и муж, низко поклонилась гостям. Олег, взяв её за руку, решительно повёл к двери, ведущей наверх, к летней опочивальне, где с утра уже было приготовлено брачное ложе. Рука жены была маленькая, холодная и чуть-чуть подрагивала. В сердце князя шевельнулась нежность.
В нетопленной по древнему обычаю опочивальне трепетно горела единственная свеча. Прозрачный воск стекал по массивному кованому серебряному подсвечнику. Пламя свечи заколыхалось от движения воздуха, когда князь открыл дверь, тени на стене задвигались, словно и сюда пришли любопытные свахи подглядывать, подсказывать, шушукаться. Олег затворил дверь, сел на край ложа, устланного пуховой периной, усыпанного хмелем и крупным зерном пшеницы. Ефросинья робко стояла у двери. Он, увидев, как беспокойно, взволнованно сжимаются её тонкие пальцы, встал и поцеловал дрожащие, податливые губы долгим, требовательным поцелуем. Она вдруг обмякла, прижалась к нему и вздрогнула всем телом.
— Ты не бойся, — ласково прошептал Олег и начал осторожно снимать с её плеч многочисленные аксамитовые, отороченные бархатом, расшитые золотом, жемчугами и самоцветами свадебные одежды, бросая их прямо на пол, крытый огромным черкасским ковром. Последней он снял кику, отчего собранные под ней расплетённые перед свадьбой волосы волной упали на плечи, спину и на грудь девушки. Когда она осталась в одной тонкой, белёного льна сорочице, Олег опять сел на ложе и протянул вперёд правую ногу, обутую в красный расшитый сапог.
Ефросинья встав на колени принялась неумело снимать сапог. Наконец с трудом стащила, от неожиданности откинулась с сапогом в руках и села на пятки. При этом грудь её обозначилась так явно, что Олег улыбнулся и сам торопливо скинул второй сапог привычным движением.
— Тебя как дома-то звали?
— Фросей. — Девушка подняла глаза, в тусклом свете одинокой свечи они показались Олегу тёмными и бездонными.
— Ты не бойся, Фрося, — повторил он ласково. — Я, кажется... — Олег осёкся, слово «кажется» было сейчас совсем неуместным. — Я любить тебя буду.
Девушка заморгала, закивала, губы её приоткрылись, мелькнули ослепительно белые зубки, она порывисто вздохнула.
Олег легко поднялся с ложа, обнял жену, взял, как дитя, на руки, поцеловал, сначала в один глаз, потом в другой, потом в гладкую шею, туда, где пульсировала голубая жилка, и, наконец, в губы. Она робко закинула руки ему за шею и неумело ответила на поцелуй. Олег поднёс её к ложу, бережно опустил, она сразу же юркнула под перину. Он усмехнулся, быстро разделся, кидая одежду на пол, где уже лежали наряды невесты.
Всё это время Фрося лежала, вытянувшись, на спине, сложив, как маленькая, руки на животе вниз ладошками. Когда Олег разделся догола, она зажмурилась. Он лёг рядом и принялся неторопливо, шепча смешные и нежные слова, ласкать её. Вскоре почувствовал, как затвердели соски её грудей. Его руки скользнули вниз, к мягкому плоскому животу. Девушка вдруг напряглась, и он ощутил под нежной кожей твёрдые мышцы. Рука его не задержалась на животе, а стала медленно опускаться ниже, ниже...
Проснулся Олег от тяжести в затёкшей руке: Фрося спала, положив голову на его плечо, как доверчивый котёнок. Дыхание её было еле слышно. Свеча догорела, в приоткрытое высокое оконце виднелось тёмно-синее предрассветное небо с двумя задержавшимися на нём звёздами.
Олег приподнялся, осторожно переложил голову жены на подушку и засмотрелся на её безмятежное во сне лицо. Даже в полумраке было видно, как алеют полные нацелованные губы и рдеют румянцем щёки.
Да, с женой ему определённо повезло. Даже то, что она до дрожи, до скованности боялась предстоящей ночи, почему-то тешило. Значит, не просто первый — это-то он почувствовал, едва войдя в её лоно, — а единственный! Никто до него не целовал и не ласкал княжну, она была невинна, как младенец.
Фрося, словно почувствовав взгляд мужа, повернулась на бок, и перина сползла с её обнажённой спины.
Олег опешил: сорочица, следы на которой утром должны рассматривать свахи по дурацкому древнему обычаю, на его взгляд стыдному и нелепому, валялась, скомканная, на ковре. Он снял вчера её и бросил — так она и лежала. И никаких на ней следов.
Что же делать? Не вытаскивать же напоказ простыню.
Князь подумал, потом осторожно встал, подошёл к ларю, где стояли блюда с холодным мясом и свадебным сладким пирогом, взял нож, воткнутый в мясо, обтёр, резким движением надрезал себе ладонь и старательно измазал сорочицу, ухмыляясь про себя.
Ложь во спасение. По душе ему показалась эта проделка. Жаль, Васяте нельзя рассказать...
Олег взял сорочицу, приоткрыл дверь и положил её на пороге. Затем осторожно запер на засов. Нечего входить да пляски тут устраивать, песни распевать, подмигивать, подхихикивать. Сызмальства не терпел такого.
Фрося всё так же тихо спала. Олег вспомнил про подарки свахам, отпер дверь, положил поверх сорочицы загодя приготовленные ожерелье и браслет литого серебра с каменьями, снова запер дверь, оглянулся и встретил вопрошающий взгляд жены. Посмеиваясь, объяснял, почему поступил именно так. Фрося несмело улыбнулась, сверкнув в полутьме белыми зубами, и вдруг расхохоталась, так легко и весело, что у Олега стало тепло на сердце: да у него не жена, а сокровище! И умна, и покорна, и смешлива, и весела. Поняла, что ему нетерпимо это освящённое обычаем вторжение чужих в только начинающий складываться таинственный и наполненный любовью мир, невыносимы полные жадного любопытства глаза.
Фрося всё смеялась, и обнажённая грудь её вздрагивала перед его глазами. Олег вдруг почувствовал, как накатило на него яростное желание, и, шепча: «Лада моя!» — сгрёб жену в сильные объятия...
На докончании свадебного пира Олег неожиданно для всех объявил, что уезжает в Солотчу, княжескую загородную усадьбу, и не велит его там беспокоить ни с каким делом, разве что нападут ордынцы.
Там, в Солотче, на высоком песчаном берегу над изгибающейся полумесяцем отмелью недавно после пожара был отстроен причудливый, почти сказочный терем, весь в кружевах резного дерева. Окаймлённый кустами малинника и смородины, он словно изготовился прыгнуть с крутого берега в голубизну водной глади, К воде сбегала лесенка из свежих, ещё не потемневших досок. К сожалению, зарядили осенние дожди, и уже невозможно было со сна побежать неодетым по лесенке и бултыхнуться в воду. Впрочем, молодожёнам не хотелось выходить из терема и из опочивальни.
Через месяц с небольшим, уже вернувшись из Солотчи, пошептавшись со свекровью, Фрося сказала Олегу, зардевшись, что понесла.
Глава десятая
Тринадцатого ноября 1359 года, прокняжив всего шесть лет, умер в Москве великий князь Иван Иванович. Кончился короткий период тишины и мира на русских северных землях. Иван Иванович не зря был назван в народе Кротким: войны, усобицы, разоры, распри были ему нетерпимы, он стремился всё решать по-родственному, меняясь посольствами, делая уступки, умиротворяя с помощью митрополита и епископов, всегда занимавших в спорах его сторону.
В это же время в Орде умер хан Бердибек. Его смерть положила начало распаду Орды: на престол чередой всходили потомки великого Чингиса, пока, наконец, Золотая Орда не раскололась на три почти независимых ханства. Во главе самого крупного в низовьях Дона укрепился мурза Мамай.
На московский престол сел девятилетний сын Ивана Ивановича Дмитрий. Совсем юный, как когда-то князь Олег, он, в отличие от рязанского правителя, не был одинок — рядом с ним стояли мать, суровая великая княгиня Александра, и митрополит Алексий.
Однако вскоре князья суздальский, владимирский и тверской стали оспаривать право девятилетнего мальчика на великий стол. Сердцем Олег был на стороне юного Дмитрия, но умом понимал, что утрата московскими князьями титула «великий» могла бы в значительной мере способствовать усилению Рязани, сыграть важную роль в непрекращающихся спорах о границе и приграничных землях. Казалось бы, у рязанцев есть неограниченные возможности расширяться на юг и на юго-восток, в сторону Дикого поля. Но нет, память о прошлом, о величии черниговских князей неуклонно притягивала взоры рязанцев к Брянску, ещё недавно именовавшемуся Дебрянском, к Смоленску, к землям стародубским и новосильским, Северску и Курску. Места эти, хотя и обезлюдевшие после Батыева нашествия, всё равно воспринимались как свои, родные.
В тишине и относительном спокойствии — на меже с Диким полем стычки со степняками не прекращались — прошло несколько лет. У Олега родился первенец, Фёдор, — так у Рязанского княжества появился наследник. За Фёдором через полтора года появилась сестричка, потом братик Родослав.
Фрося рожала исправно и спокойно, без мучений и криков, как простая баба: подчас могла опростаться на косовице под стогом. Мать Олега полюбила её как родную дочь, гордилась, не без удовольствия рассказывала сыну, что, мол, кашинская княгиня занемогла при родах, а можайская так вообще никак понести не может, из-за чего, по слухам, владыка Алексий испрашивал уже в Царьграде согласие на церковный развод. Сын слушал, посмеиваясь.
Олег Фросю тоже любил. Была она в хозяйстве неутомима, да и на ложе пылкой, вначале неумелой, а потом всё более изощрённой. Превзошла тех холопок и боярских жён, что прошли через Олега в годы его молодости. В короткие времена, что бывала она не в тяжести, Фрося со всей страстностью своей натуры отдавалась охоте, лихо мчалась с собаками за лисой, а то и волком, даже случалось ей убивать хищника точным ударом плети со свинчаткой на конце. Знала она и столь любимую всеми Рюриковичами соколиную охоту. Олег всегда любовался женой, когда та, разгорячённая, раскрасневшаяся, тоненькая, словно девушка, скакала с тяжёлым соколом на руке, одетой в рукавицу, часами, что и не всякому мужчине по силам.
Да, с женой ему повезло, это Олег понял ещё в первую брачную ночь в холодной верхней горнице. «Татарочка моя», — ласково называл он жену за её чуть раскосые жёлто-медовые глаза.
Фрося даже шахматы освоила и потихоньку от мужа учила этой его любимой игре Фёдора, мечтала сделать Олегу подарок к шестилетию сына. Олег догадывался об этом и, посмеиваясь в загустевшую, красиво подстриженную бородку, делал вид, что не замечает лежащую в детской резную фигуру индийских шахмат, случайно закатившуюся за ларь.
Сам Олег — впрочем, его давно уже звали Олегом Ивановичем — играл в шахматы только с Епишкой, которого тоже теперь величали «молодой Кореев», в отличие от отца.
Васята как-то незаметно отошёл в сторону. Олег знал, что друг детства переживает, но ничего не мог сделать — ему было скучно слушать нехитрые рассказы о дворцовых новостях, о боярских жёнах, о далёких заокских Рюриковичах. Всё в устах Васяты было каким-то мелким, суетным и неумным. А с Епифаном можно было рассуждать обо всём, ибо в знаниях он не только не уступал своему князю, но даже в чём-то превзошёл его.
Больше всего места в их разговорах занимало будущее Рязани. Виделось оно по-разному. Молодой Кореев утверждал, что Великое Рязанское княжество — последний осколок и оплот древней Киевской державы Рюриковичей. Киев лежал в руинах, так и не оправившись после набега ордынцев, равного по бессмысленному варварству разгрому Рязани в тридцатые годы тринадцатого столетия. Сильно пострадали Чернигов и все многочисленные, когда-то славные и богатые приднестровские княжества. Правда, по слухам, Галич возрождался и даже давал временами отпор татаро-монголам, но разве можно было сравнить нынешнее Галицкое княжество с теми богатыми, могучими княжествами, по сути, королевствами, что лежали до нашествия Батыя на дальнем западе Руси? Вот и выходило по всему, что именно Великое Рязанское княжество, вобравшее в себя такие земли, как Муром, Пронь, Мещера и ещё десяток удельных княжеств, включая гордый Козельск[16], должно взять на себя роль ядра новой Руси.
Как бы Олегу ни хотелось согласиться с мечтами друга, он оставался прочно на земле, ибо понимал, что Рязань не в силах на равных вмешаться в бесконечные споры наследников Юрия Долгорукого, создавшего бескрайнее владение в Залесье, где сплавились воедино и древние города, Суздаль, Владимир, и новые — Ярославль, Москва, Переяславль-Залесский, и соперник Киева — Господин Великий Новгород. Десятки, а теперь и сотни потомков Юрия Долгорукого всё время открыто или исподтишка боролись друг с другом за власть, за земли, за выход к Ладоге, откуда начинался путь в немецкие страны с ненасытным рынком и столь же ненасытной жадностью к русскому богатству — мехам, пеньке и корабельной древесине. А сотрясающие время от времени Европу неурожаи и следующие за ними глад и мор подсказывали, что если чуть расширить Ладожские ворота и освоить путь по бурной, короткой, но могучей реке Неве, то и зерно может потечь в неметчину непрерывным золотым потоком.
Всё это могли бы сделать залесские владетели, прекрати они бессмысленный спор за великий стол. Так нет — Тверское княжество стало называть себя великим, и нижегородские князья тоже всё чаще оговаривались в грамотах, возвышая свой титул. Кипели страсти, завязывались междоусобицы, князья повадились призывать на помощь ордынцев, а после размахивали купленным ярлыком перед глазами противника.
Олег Иванович всё больше убеждался, что Рязань, до Батыева нашествия одно из богатейших княжеств Руси, должна идти своим путём и заботиться только о собственной судьбе. Это означало оградиться от Орды и силой, и подачками, и договорами и втянуть в свою «орбиту» северные княжества — вон их сколько: Новгород-Северское, Стародубское, Новосильское, Смоленское. Правда, там Рязань сталкивалась с растущими аппетитами Ольгерда Литовского. С ним следовало искать пути сближения: не по силам пока рязанцам тягаться с Ольгердом. Литва, по сути, отсиделась во время татарского нашествия за спинами русских и теперь стремительно набирала силу...
В 1365 году сотник с межи донёс, что мурза Тагай, один из беспокойных царевичей, осевший недавно в стольном граде Мордовии Наровчатове, собрал тайно несколько тысяч конников и пришёл в рязанские земли. И хотя в тысячах преобладала мордва, ордынской выучки не прошедшая, она была страшна многолюдством и чудовищной склонностью к грабежам.
Тагай мордву не жалел, бросал впереди своих воинов. Но, несмотря на тяжёлые потери, после каждой, даже самой маленькой, победы к нему приходили новые добровольцы-мордвины.
Налёт Тагая оказался полной неожиданностью для Олега Ивановича. Он и его ближние бояре, в том числе тысяцкий, не предвидели удара с этой стороны, полагая, что Тагай занят покорением мордвы и на какое-то время удовлетворится добычей, попавшей в его руки после захвата Наровчатова. Никому даже в голову не приходило, что мордва, давний и вроде верный союзник Рязани, вдруг с необъяснимой готовностью перейдёт на сторону ордынцев. Лазутчики же, в своё время засланные к Тагаю, чтобы вовремя оповестить Рязань о намерениях мурзы, либо погибли, либо переметнулись на его сторону.
Получалось, что Олег Иванович как бы ослеп на какое-то время, — самое страшное, что может произойти с князем.
Предстояло решать — уходить ли привычными путями в мещёрские болота либо, не дожидаясь помощи удельных князей, идти навстречу Тагаю с теми полками, что есть под рукой.
— Уходить, — решил Олег Иванович.
Он сидел в библиотеке с Кореевым, ожидая прихода старого тысяцкого. Доска с расставленными шахматными фигурами, забытая, стояла на низком ларе в стороне.
Князь потягивал лёгкий мёд, боярин — квас.
То один, то другой тяжело вздыхали. Редкие слова падали в тягучую тишину библиотеки.
— А город? — спросил Кореев.
— Коли есть лес, то город нагородим, — невесело пошутил Олег Иванович, но осёкся — слова прозвучали как-то бездушно. Он заговорил, словно оправдываясь: — Какой это город, если у него и стен-то нет? Один детинец. На валу обороняться?
Вошёл тысяцкий, сел, отдышался и сразу же в лоб спросил:
— Чего медлишь, великий князь?
— Я не медлю, я взвешиваю. Можно, конечно, выйти в поле и дать бой. Потерять половину дружины, полки, а главное, ополчение, поильцев и кормильцев нашей земли, и разгромить Тагая. Или быть разгромленными. В этом случае всё равно придётся уходить в Мещеру, только уже в спешке, в суматохе. Потеряем людей, зато сохраним лицо. Вот я и взвешиваю: лицо или зажиток, накопленный народом за пять лет спокойной жизни?.. Вели позвать Софония.
Вскоре пришёл боярин Софоний Алтынкулаевич. Отец его, сын видного татарского мурзы, будучи с посольством в Переяславле, влюбился в прекрасную рязанку, и даже не боярышню, а дочь дружинника. Посватался, получил отказ, уехал, но понял, что забыть её не может. Вернулся, хотел посвататься в другой раз, но прежде стал выспрашивать, что делать, чтобы не получать вдругорядь отказа. Знающие люди сказали: обнищавшие родители красавицы готовы отдать её за богатого татарина, но ведь басурман, нехристь, иноверец. Алтынкулай передал через сваху: он готов принять православную веру и отъехать от хана к рязанскому князю. Родители красавицы ответили, что ещё остаётся один вопрос: у них пятеро дочерей, все бесприданницы...
Мурза понял и согласился дать приданое четырём сёстрам будущей жены.
Началась череда пиршеств: одна неделя — по случаю вступления в княжескую дружину, другая — по случаю крестин Алтынкулая, потом — пиршество по случаю сговора.
Происходил Алтынкулай из древнего монгольского рода, но в род из поколения в поколение вливались жёны завоёванных народов — уйгурки, булгарки, половчанки, белые венгерки. Оттого и сгладились характерные монгольские черты в лицах родителей Алтынкулая, и был он сам красив и не слишком смуглолиц. Вскоре рязанка сама без памяти влюбилась в мужа — басурман не басурман.
Бог послал им семерых детей. Старший, Софоний, светловолос, в мать, и черноглазый, в отца, с хищным носом, но сглаженными скулами, стремительно возвысился при деде Олега Ивановича, вошёл в число ближних бояр, был и мужем совета, и мужем битвы, не раз водил полки против ордынцев, одерживая победы. К старости стал больше сидеть в думе, но, если возникала необходимость провести тонкие, сложные переговоры — с ордынцами ли, мордвой, мещерой — словом, с соседями, умеющими по-восточному сложно и терпеливо плести петли и кружева дипломатии, — Иван Александрович и Олег Иванович всегда посылали на переговоры именно Софония Алтынкулаевича.
Он вошёл, внутренне уже готовый ехать, хотя и не знал, куда нынче направит его князь.
— Мурза Тагай идёт, — сказал Олег Иванович без всяких предисловий.
— На Рязань или на Москву?
— Даже если на Москву, то путь из Мордвы лежит через рязанские земли, — ответил тысяцкий.
— Я хочу просить тебя, боярин, — начал князь. Софоний Алтынкулаевич поклонился, показывая, что готов исполнить любую просьбу. — Поскачи немедля к Тагаю, спроси, сколько серебра хотел бы он получить, чтобы обойти наши земли стороной. Пообещай всё, что ни запросит. Возьмёшь с собой гонцов, оставишь на пути подставы, будешь мне доносить о каждом новом слове мурзы. Иди! Распоряжайся от моего имени, боярин.
Софоний поклонился и вышел.
— И тебе придётся в ночь скакать, — обратился Олег Иванович к Корееву. — К Титу Козельскому и Владимиру Елецкому. Писать ничего не буду, передашь на словах.
— Поверят ли?
— Тебе поверят, — кивнул тысяцкий.
Кореев вышел.
— На Москву Тагаево нашествие решил направить? — сказал хмуро тысяцкий.
— Снова уходить в леса? — вместо ответа спросил князь.
— А когда Москва Тагая побьёт, он домой через Рязань возвращаться будет злой. На нас свою злость сорвёт, забыв о серебре, разграбит.
— А если Москва не побьёт Тагая?
— Она его побьёт в любом случае. Но если мы её предупредим, разгром будет сильнее, а он слабее, и мы его, битого, от своих земель отгоним.
— Значит, предупреждаем?
— Я бы послал гонца, великий князь.
— А Рязани что делать?
— То, что задумал. Жён и детей в Мещеру, а нам встретить его, когда время придёт, со всеми дружинами удельных и союзных князей, со всеми полками, и дать бой.
Олег долго сосредоточенно молчал, насупившись и хмуря брови. Под глазами лежали глубокие тени, которые тысяцкий только сейчас разглядел. Кто бы дал сейчас молодому князю его двадцать пять лет?
— Иди, снаряжай гонца, — сказал Олег наконец.
— Если от меня гонец, то к Вельяминову? — спросил для порядка тысяцкий.
Вельяминов был потомственным тысяцким Москвы, давним знакомым тысяцкого рязанского.
— Тебе виднее.
Старик ушёл. Олег немного посидел, потом поднялся, сделал шаг к двери, ведущей на женскую половину, и остановился. Там жена и мать купали детей. Доносились радостные, весёлые голоса, беззаботный смех. Лицо князя было мрачным, руки крепко сжаты. Если козельский, елецкий и, не дай бог, пронский князья не посмеют выйти с дружинами, сил своих недостанет не только отразить налёт Орды, но даже поставить заслон степной коннице у стен беззащитного Переяславля. Обо всём этом надлежало сказать жене и матери...
Горько было думать о необходимости после стольких тихих лет вновь со всем скарбом, детьми, домашними и скотом тащиться в мещёрские леса, отдавать богатые подарки племенным князькам, чтобы помогли, укрыли, отвели ордынцев, и терпеть шёпот за спиной: мол, в который раз уходит Олег от боя. А ведь один бой, даже самый удачный, ничего не решает.
Олег Иванович ещё помедлил и решительно шагнул к двери...
Тагай, идя на Москву, взял беззащитный Переяславль, разграбил то, что не смогли забрать с собой жители, сжёг город, прошёлся, неся смерть и пожарища, по ближним волостям, но в Мещеру, лесную и болотистую, сунуться не посмел. Он двинулся на Москву. Однако до Коломны не дошёл, получив донесение от лазутчиков о сильном московском войске, затоптался на берегу Оки, медля в нерешительности, что всегда подобно смерти в боевом походе.
Олег Иванович, успокоившись за судьбу жён и детей, собрал полки, объединился с пронскими, козельскими и елецкими дружинами и ударил по ордынцам. Общими силами разбили татаро-мордовские войска у Шишевского леса в жестоком бою. Сам Тагай едва спасся с немногими соратниками, потеряв в одночасье и славу, и награбленное.
Глава одиннадцатая
К пятнадцати годам Степан неожиданно стремительно вытянулся и догнал ростом боярина Корнея. Парень ходил вечно голодным, хотя и накладывали ему за столом изобильно. Он и сам не заметил, как вдруг стал обращать внимание на дворовых девок, на то, как волнующе и таинственно колыхались у них под холщовыми сорочицами налитые груди. Всё чаще, вместо того чтобы сидеть в библиотеке или махать мечом на бронном дворе, он убегал на сенокос метать стога или возить копёшки на волокушах, а потом с хохотом возился в душистом сене с девками. По вечерам он пел под Юшкину дудочку восхищенным девушкам песни, долгие былины и озорные припевки.
Прошёл год. Однажды в конце весны 1367 года боярин Корней сказал за обедом:
— А Дмитрий Московский всё же решился.
Дело было во время обязательного воскресного застолья. За огромным столом сидели все старшие дружинники, стоял негромкий гул голосов. Степан, хотя и считался сыном боярина, сидел на самом дальнем конце стола, где и положено было сидеть младшему. После обеда он, улучив минуту, спросил у Корнея, что тот имел в виду, говоря о московском князе.
— Дмитрий начал строительство каменного кремля. Доносили торговые гости: всю зиму возят в Москву белый камень из окрестных каменоломен. Владыка говорит, что затеял Дмитрий богоугодное дело — возведение великого собора. Олег Иванович же больше склоняется к мысли, что хочет Дмитрий построить детинец. Ежели построит он каменный кремль... — Корней задумался.
Степан хотел было сказать, что надо радоваться появлению в сердце Руси каменной крепости, способной выстоять против татар, но почему-то промолчал.
Ещё через несколько дней, когда поздно вечером Степан поднимался переходом из библиотеки к себе в светёлку, его перехватила дочь боярина — Алёнка.
— Стёпушка! — позвала она, выходя со свечой из тёмного угла.
— Ты что не спишь, коза, вот я боярыне пожалуюсь, — сказал в привычном шутейно-весёлом тоне Степан.
— Стёпушка, — повторила она прерывистым тихим голосом, — тебя батюшка в княжескую дружину сговорил дружинником. Он сейчас матушке рассказывал, я случайно услыхала. Завтра объявит.
«Неужели свершилось?» — пронеслось в голове Степана.
Неужели сбылись его самые смелые юношеские мечты — попасть в дружину, принести князю Олегу клятву, отдать всю жизнь без остатка, сражаясь против поганых?
— Ты будешь приходить к нам? — Алёнка сжала руки у горла, словно молилась.
— Конечно, к кому мне ещё приходить, — ответил Степан, хотя мысли его были в этот момент совсем о другом — о боях, славе, мести.
— Ты не забудешь меня?
— Почему я должен забывать тебя, коза? — удивился Степан.
Алёнка привстала на цыпочки и робко поцеловала его.
Скрипнула дверь, раздались тяжёлые шаги. Алёнка отпрянула, скользнула вдоль бревенчатой стены и исчезла, растворяясь в темноте, а из-за угла вышел старик дворский. Степан молча поклонился ему и поспешил в свою светлицу.
Утром он, хотя и не спал полночи, мечтая о том, как станет дружинником и поедет бить татар, занимался на бронном дворе.
Тут появился холоп и передал: боярин ждёт его у себя. Корней принял Степана в гриднице. Он с удовольствием оглядел юношу, отметил про себя, что волосы у него влажные, значит, успел ополоснуться, сорочица чистая — значит, успел забежать к себе, сменить, на ногах не лапти, в которых обычно занимались молодые дружинники на бронном дворе, а сапоги — успел переобуться.
— Садись, разговор долгим будет, — начал боярин. — Заглянул я вчера на бронный двор. Знатно бьёшься на мечах, знатно...
Степан встал и поклонился, благодаря за похвалу.
— Сиди, сиди, — велел боярин. Было видно, что поведение юноши ему по сердцу. — Завтра отвезу тебя к князю Олегу Ивановичу. Я уже переговорил с ним, берёт он тебя в свою дружину.
Степан бухнулся боярину в ноги.
— Встань, встань, парень, чего ты... Я ведь тебе что отец родной, — заворчал Корней. — Прямо скажу, жаль мне с тобой расставаться, да и боярыня моя против, ты ей как сын, но... не дело тебе, боярскому сыну, в боярской дружине быть.
Степан поклонился, стоя на коленях.
— Сказал тебе, встань. Встань и садись. — Корней указал на лавку напротив себя. — В бою, конечно, моя дружина мало чем от княжеской отличается, разве что числом помене. Но к боярству путь ведёт только через княжескую дружину. Так что жить ты теперь будешь во дворце, на глазах князя. Помни, он всем нам вместо отца[17], и все милости от него идут.
Боярин долго ещё рассказывал Степану, кто при князе близко стоит, кто подале, кто силён при дворе, а кто пустышка и кого опасаться надобно, потому как у него, Корнея, не одни только други есть, встречаются и завистники.
— И вот что я тебе ещё скажу. Ты тут на клиросе пел со всякими певчими. Я не возражал, хотя и не по нутру мне это. А при дворе забудь. Не ровен час, услышит князь, определит тебя в дружинные певцы, и тогда не видать тебе ни боярской шапки, ни воеводства, ни славы боевой.
— Почему, батюшка?
— Потому что певца в бою в задних рядах держат, оберегают, словно красну девицу.
Степан представил: в гуще боя стоит он в тылу войска и наблюдает, как сражаются другие. Он отчаянно замотал головой.
— А то, что ты к чтению привержен, — продолжал Корней, — не скрывай. Наш князь ещё от своих черниговских предков любовь к чтению и книжной мудрости унаследовал. Это тебе в зачёт, — назидательно добавил он.
Сам боярин, как давно уже понял Степан, к книгам особой приверженности не выказывал, хотя и собрал, по примеру князя, у себя дома отменную библиотеку[18]. Он более любил махать на поле боя мечом и шестопёром, уряживать полки, задумывать военные хитрости.
Степан очередной раз поклонился, благодаря за науку.
— Дозволь идти, батюшка? Хочу скорее Юшке сказать, порадовать...
— Чем порадовать? — не понял боярин.
— Что идём в княжескую дружину.
— Ты идёшь. Юшка у меня останется. Нет ему места в княжеской детской[19].
— Как же так? — растерялся Степан.
— Кто он? Смерда сын.
— Не смерда, погибшего лучника.
— А лучник из каких? Из смердов. Тебя в детскую дружину берут, понимаешь? В детскую, — повторил боярин раздельно.
— А меченошей ко мне ему можно?
— Нет!
— Почему?
— Из меченош прямой путь в дружинники. Меченошей тоже из боярских да дружинных детей набирают.
— Ну хоть стремянным?
— Нет, я сказал! — возвысил голос Корней.
Расстроенный, Степан пошёл искать друга. Но Юшка весть о его переходе в княжескую дружину воспринял спокойно, — во всяком случае, внешне это выглядело именно так, — только достал свою дудочку и заиграл что-то тоскливое и задумчивое.
— Ты не сомневайся, я возьму тебя к себе, только заслужу перед князем. Вот те крест!
— А я и не сомневаюсь, — ответил Юшка, оторвавшись на мгновение от дудочки...
Вечеряли рано. Корней позволил себе по случаю вступления воспитанника в княжескую дружину лишнего выпить, и боярыня, не дослушав его разглагольствования, увела мужа в опочивальню. Ещё раньше нянюшка увела Алёнку. Степан остался со старым дворским. Он был из дружинников отца нынешнего боярина, потому сидел на верхнем конце стола. Дворня боялась его куда как больше самого боярина, хотя хозяин мягким нравом не отличался: мог, вспылив, повелеть и запороть до полусмерти.
— Посиди, послушай старика, — сказал дворский. — Я князя Олега Ивановича с пелёнок знаю. Труженик он, пахарь на поле нелёгкой княжеской жизни. Ежели по старому, по лествичному праву, то быть ему одним из первых Рюриковичей, если не самым первым. А он на шатком рязанском столе в пограничье сидит и почти каждый налёт из Дикого поля первым на себя принимает: первым страдает, отпор даёт, потери несёт. Впрочем, то судьба Рязани нашей, а не токмо князя. Потому Олег Иванович храбр, но не без оглядки, умён, но не без увёртки, хитёр, но не без честности, честен, но не без хитрости. Гневлив и отходчив. И ладить долгое время с ним могут лишь такие, как наш боярин, — кто в бою безогляден и смел, а в думе согласен и тих...
Засыпая, Степан подумал: вот странно — все словно сговорились, толкуют ему, как скорее преуспеть в княжеских милостях. А его думы совсем об ином — не о милостях, а как бы скорее схватиться в бою с погаными, отомстить за мать-отца, за поруганную землю, за всё, что творят из года в год на русских окраинах. Уже засыпая, он вспомнил волчицу, что провожала их с Юшкой ночью по тропинке. Волчица и та не тронула человеческих детёнышей, а нехристи поганые никого не жалеют...
Князь Олег Иванович Рязанский в отношениях с дружиной держался старины: никогда не забывал, что слово «дружина» восходит к слову «други» и от неё в бою зависит жизнь и благополучие князя.
Князь и дружина сидели за длинным столом в пиршественной палате. На нижнем конце стола, как и заведено, располагалась младшая, или детская, дружина — полтора десятка юношей не старше восемнадцати лет, ещё безбородых, румянощёких, плечистых, с живыми быстрыми глазами, смешливых и пытающихся казаться старше своих лет. Когда боярин Корней ввёл в палату Степана, взоры их оборотились на будущего товарища с доброжелательным любопытством.
В середине стола сидела собственно дружина: два десятка закалённых в боях могучих воинов. Каждый из них при случае мог служить воеводой, возглавить малый поход, сесть наместником в городе, выдержать осаду или встать в бою рядом с князем, прикрывая его щитом и собственным телом.
Они поглядели на Степана почти равнодушно, продолжая негромкую беседу друг с другом.
И наконец, на верхнем конце стола сидела старшая дружина: воеводы, окольничьи, конюшие, бояре и несколько удельных князей. Здесь, среди самых верхних, было место и боярина Корнея — рядом с удельным князем стариком Милославским и стариком Кореевым, отцом посла и дипломата Кореева-младшего. Во главе стола восседал сам Олег Иванович, князь рязанский. Было ему немногим больше тридцати, но на вид можно было дать все сорок — многотрудные княжеские заботы, сраженья, походы и, увы, частые поражения от степных соседей до времени состарили его и вплели в светло-русую холёную бороду раннюю седину.
Степан смотрел на князя во все глаза. Он не раз видел его прежде на торжественных выходах, в соборе, на охоте. Но сегодня, хотя и был одет князь без особой роскоши, показался он особенно грозным, могучим и мудрым.
Олег Иванович поднял руку, и шум голосов за столом стих.
— Доброго витязя воспитал боярин Корней, — сказал он. — Думаю, порадовался бы верный наш слуга покойный Алекса Дебрянич, если бы мог увидеть своего сына.
Одобрительный гул голосов прошёл по палате. Старшие дружинники хорошо помнили Дебрянича, во многих битвах сражались плечом к плечу, много дорог прошли стремя к стремени.
— Готов ли ты принести нам клятву верности? — спросил князь.
— Да! — Степан встал на одно колено, как учил его Корней.
Князь поднялся из-за стола, спустился со ступеней, вынул свой блестящий, узкий, прославленный в боях меч.
И тут словно что-то нашло на Степана: он впал в восторженное состояние, слёзы выступили на глазах. Он ничего не соображал, отвечал князю как во сне, помнил только, что целовал крест и клялся на мече в верности. Так велико было его потрясение, что он даже не понял слов:
— Встань, дружинник, и займи место за нашим пиршественным столом в кругу другов своих.
Корнею пришлось поднимать воспитанника и тихонько подсказывать, что надлежит делать. Только потом, с его слов узнал Степан, что отвечал он князю достойно и произвёл хорошее впечатление. Сам же пришёл в себя, лишь когда на младшем конце стола потянулись к нему кубки с пенным мёдом...
Первый год пролетел как один день. Занятия на бронном дворе, частые охоты, в них обязан был участвовать любой дружинник, если не нёс службу, долгие застолья, когда князь, по обычаю, советовался с дружиной и, приняв решение, пил братину[20]. Были и тихие вечера, без пиров и службы, когда Степан заходил в княжескую библиотеку, наполненную редкими книгами, и читал, жадно поглощая страницу за страницей, либо писал своё, сокровенное.
За этим занятием и застал его однажды Олег Иванович. Князь вошёл неслышно в своих мягких козловых сапожках, незамеченным приблизился к склонившемуся над листом пергамена Степану и заглянул через плечо. Степан вздрогнул, почувствовал за спиной чужое присутствие, вскочил, роняя пергамен и чернильницу на пол, узнал князя, зарделся.
Олег Иванович по-доброму улыбнулся, велел поднять пергамен и прочесть написанное. Выслушал, кивнул, жестом усадил Степана и пошёл к двери:
— Пергамен можешь брать у моих переписчиков, — и вышел.
Как следовало понимать эти слова? Как одобрение? Поощрение? Степан хотел было спросить Корнея, но, вспомнив предостережение, сделанное им в напутственной беседе, решил ни о чём не говорить.
Слова боярина Степан вспомнил ещё раз через неделю, когда Олег Иванович призвал его к себе в неурочный час, поздно вечером.
— Ты, думаю, не только пишешь песни, но и поешь? — спросил князь без предисловий.
Застигнутый врасплох и не умеющий хитрить, Степан молча кивнул.
— Получается? — без улыбки спросил Олег.
— Так я вполголоса, для себя, вроде как прикидываю... — смутился Степан.
— Я спрашиваю — получается?
— Не мне судить, князь. — Степан почувствовал раздражение: князь настырно лез к нему в душу, туда, где пряталось самое заветное — песни. Прав был боярин Корней: напрасно он ходил в библиотеку.
— Если я попрошу тебя спеть мне то, что ты себе вполголоса напевал?
— Позволь, князь... — начал было отказываться юноша.
— Тогда прикажу, — не дал договорить Олег Иванович.
Он знал, что не следует позволять человеку отказываться: потом ломать отказ куда сложнее, нежели просто сомнение.
Степан растерянно смотрел на князя, всё ещё подыскивая предлог, чтобы не петь.
— Нет, не думай, певцом я тебя неволить не стану, — догадался князь. — Зачем терять доброго воина? Я тебя не во имя праздной забавы, а для дела прошу — спой.
Что делать? Отказать в просьбе князю? Но как, если за ней стоит приказ?
— У меня нет ни гудов, ни гуслей...
— Пой так.
Степан запел. У него только недавно закончилась ломка голоса и обнаружился густой, приятный баритон:
Ох, Солоча моя, ох, Солоча-река, По весне разливаешься морем ты...Постепенно успокаиваясь, Степан спел песню своего сочинения о девице, что ждёт на берегу разлившейся реки суженого, который ушёл на бой с погаными. Песня была немудрёная, но князю она, видимо, понравилась, потому как дослушал до конца.
— Хорошо, — коротко бросил он, когда Степан закончил и стал, готовый бежать куда глаза глядят. — Иди.
Степан ушёл и всю ночь корил себя за то, что не внял совету Корнея. Спору нет, он куда как хорошо знал характер и повадки своего князя...
Прошло несколько дней. Однажды вечером за Степаном пришёл отрок: вызывали во дворец, в малую горницу, где принимал князь только самых близких доверенных людей. Побывать там было столь почётно, что верхние бояре говорили между собой — тот из числа допущенных, подразумевая в малую горницу.
Князь сидел за столом, потягивая мёд из высокого золочёного кубка. Рядом с ним вольно расположился молодой боярин Кореев.
— Доводилось тебе слышать, Степан, что Москва каменный кремль строит? — спросил Олег Иванович, усадив дружинника за стол и налив ему собственноручно кубок мёда.
— Да, князь.
— А не одолевало ли любопытство — что за кремль, как да зачем? Во всех городах на Руси деревянные детинцы стоят, кроме Галича, Пскова и Полоцка.
— На то причина есть — им от западных соседей обороняться приходится, — вставил боярин.
— Конечно, интересно, что за чудо каменное строят москвичи, — сказал Степан.
— Вот и мне любопытно. И боярину Корееву тоже. Послали мы лазутчиков — отборных молодцов из сторожевой сотни. Никто не вернулся. Москва вот уже полгода о кремлёвском строительстве гудит, а толком никто ничего не знает. Дмитрий Московский юнец, на два года старше тебя, а вон как всех взбаламутил своим строительством. Кремль каменный... — Олег Иванович тяжело вздохнул. Он великолепно понимал значение каменной крепости в сердце Залесской Руси. Кремль сразу же выдвигал Москву на главное место среди княжеских стольных городов, а значит, и Дмитрия среди князей, толкающихся за место на лествице, ведущей к великому княжению.
Князь задумался о своём. Юноша сидел, не решаясь пить мёд, и глядел на Олега Ивановича. Ни одной мысли не возникало в его голове, только пустота напряжённого ожидания чего-то важного, судьбоносного.
— Надумали мы, — прервал молчание Олег Иванович, — послать тебя в Москву.
Степан вскочил на ноги и стал кланяться.
— Ты сиди, — хмуро усмехнулся князь. — Пойдёшь в обличии слепца, с гуслями, с поводырём. Постарайся попасть в кремль. У нас, на Руси, любят пение, не может быть такого, чтобы нового молодого слепца не послушали. Может, в кремль и пройдёшь. Если удастся, осмотри всё, но главное, постарайся узнать, где у них тайный ход к Москве-реке проложен. Понимаешь?
— Ибо не может никакая крепость осаду выдержать, если нет в достатке воды, — подал голос Кореев.
— Мы... вы... Рязань собирается воевать с Москвой? — Степан не сумел скрыть своего недоумения.
— Не собирается, но знать надобно.
— Знание сие хоть и малое, но последствия от него великими стать могут, — заметил Кореев.
— Подберём тебе поводыря, — продолжил князь, — парнишку лет двенадцати. Смышлёного.
— У меня есть поводырь, — вдруг, не зная как, осмелился сказать Степан.
— Кто же?
— Сирота из нашей деревни, единственный, кто кроме меня тогда спасся. Юшка, — торопливо и путано объяснил Степан. — Верный человек.
— Сколько вёсен ему?
— Пятнадцать.
— Многовато, — протянул боярин с сомнением в голосе.
— Нет, он тощий, глазастый, малец на вид, — Степан почувствовал, что затея может получиться, и принялся перечислять достоинства друга: — Он у боярина Корнея со мной вместе всю дружинную науку прошёл. И на мечах, и на саблях, и на скаку из лука. И на дудочке играет, — вспомнил он вдруг, — дивно играет. Мы с ним, бывало...
— На дудочке, говоришь? Тогда хорошо, — перебил князь. — Значит, поводыря мы сыскали. Но хочу сразу предупредить: можно в этом деле и головы лишиться, ежели попадётесь. Не страшно?
Даже если бы и было страшно, Степан ни за что не признался бы...
Он возвращался, не чуя под собою ног от возбуждения. Лазутчик в сердце Москвы! А там, глядишь, возьмёт Юшку меченошей, если выполнят они хорошо поручение князя. А сам-то князь... почти домашний, ну, не строже Корнея... отец родной. Боярин Кореев и то суровее.
Что может быть, если разоблачат московские лже-слепца, Степану сейчас даже в голову не приходило, так опьянён он был заданием.
Хотелось побежать, рассказать обо всём боярину Корнею, но Степан понимал: даже наставнику нельзя ни словечка, ни намёка. Юшку заберут у боярина по велению князя. Вот вернутся — он постарается выпросить верного друга в меченоши. Меченоша в княжеской дружине — великая честь для сына смерда. Из меченош, случалось, и в дружинники, и в сотники, и даже в наместники выходили смелые воины.
Степан долго не мог заснуть, всё думал, как пойдут они с Юшкой в Москву. Уже засыпая, решил: вот и начало его службы.
Глава двенадцатая
Путь на Москву из Рязани был известен: вверх по Оке до впадения в неё Москвы-реки и дальше по реке Москве до самого города, что на семи холмах раскинулся привольно среди дубрав и вековых сосен.
За время пути Степан наловчился глядеть сквозь приспущенные веки, чуть приподняв голову и нащупывая палкой дорогу. Уже через два дня они с Юшкой «спелись». Гусли, хотя и небольшие, сиротские, звучали звонко, дудочка вторила им, голос Степана лился полнозвучно. Подавали им изобильно, особливо молодые бабы, горестно глядя на пригожего слепца с таким завораживающим душу голосом. Не раз и не два зазывали их в боярские терема, и там пел Степан, соразмеряя сильный голос с тесными горницами, поглядывая сквозь веки на молоденьких девушек и зрелых боярынь, откровенно любующихся юным певцом. В одном таком доме подарили ему новую вотолу[21], чуть широковатую, но такую добротную, что пришлось её, сойдя от боярской вотчины, утопить в реке, наполнив каменьями — никак не вязалась новая накидка с сиротским обликом, придуманным Олегом Ивановичем.
Москва началась незаметно сёлами Братея, Ногата, Коломенское, богатыми, обширными, крепкими, каждое — что твой городок на Рязанской земле. А город сам оказался грязным. Может, потому, что направили их местные люди через поселения ордынцев, где дома стояли за глухими тынами, а проезжая часть улицы не была мощена брёвнами.
Но вот наконец и наплавной мост, за ним подъем на гору. Мужик, что показывал дорогу, подъем почему-то назвал спуском[22], а открывающиеся за ним торговые лавки пожаром[23]. Ну да то московские дела... Юноши смотрели — Юшка во все глаза, Степан из-под опущенных век — на строящийся кремль. Белые, вернее, слегка желтоватые стены, сложенные из крупных известковых плит, поднялись уже вдоль реки и оканчивались на углах могучими квадратными башнями. Башни заметно выступали вперёд от линии стен, что давало возможность засевшим в них лучникам при осаде стрелять в нападавших как бы сбоку, а то и вовсе со спины. Расстояние между башнями определить через реку было трудно, но Степан и Юшка сошлись: чуть меньше двойного полёта стрелы, иными словами, стрелки с двух соседних башен могли свободно держать под прицелом всю стену. Перед тем как отправиться в Москву, Степан прочитал несколько греческих книг, посвящённых искусству фортификации, и благодаря этому сумел углядеть все хитрости расположения башен. Он поблагодарил мысленно многомудрого священника, что обучал его греческому в доме боярина Корнея.
— Ловко, — восхитился Юшка, когда Степан объяснил ему. — Кто же научил Дмитрия Московского так мудро стены складывать?
— Олег Иванович говорил, что якобы вызвался строить кремль мастер Лука Псковитянин.
— Псковитянин, конечно, может, — уважительно протянул Юшка, хотя сам едва ли мог сказать, где располагается этот самый Псков, по имени которого назвался мастер, и чем он, кроме славных побед над немецкими рыцарями, известен.
Степан не стал пояснять, отложив просветительскую беседу на вечер, — уж больно наглядно в погожий день раскрывался перед ним замысел великого строителя белокаменного московского детинца. Подумалось, что одно лишь сомнительно во всём замысле — известняк, строительный камень, применяемый и в Рязани, в стене мягок, сильного удара больших пороков[24] не держит, потому в Рязани используется больше для придания красоты, легко поддаваясь резчику... Ну да, наверное, столь опытный мастер придумал, как укрепить стены.
Так думал Степан и, пользуясь тем, что никого из прохожих в это время поблизости не было, стал смотреть на строительство во все глаза.
Отдохнув, юноши неторопливо пошли на мост. Потолкавшись на привозе — москвичи его назвали татарским словом базар, смешно при этом «акая», — друзья поняли, почему рязанские лазутчики не смогли ничего разузнать о строительстве в самом кремле: подъезды к двум главным башням перекрывали рогатки, копейщики стояли, бесцеремонно заворачивая всех, кто пытался проникнуть за рогатки, а особенно нахальных — просто вышибали. Пропускали лишь телеги, груженные белым, ещё не обтёсанным камнем, да и те досматривали с тщанием. Подивился Степан в который раз мудрости Олега Ивановича, его знанию человеческой души — к слепому пригожему юноше весь без исключения суматошный базарный люд относился по-доброму. Он решил не терять зря времени и шепнул Юшке, чтобы присмотрел уголок, где можно было бы сесть с гуслями. Тот быстро отыскал местечко и провёл туда Степана.
На пробу Степан запел былину об Илье Муромце, справедливо рассудив, что не может старинная и самая известная на Руси песня не привлечь внимания москвичей.
Он не ошибся. Уже при первых звуках гуслей и вторящей им мелодичной дудочки торопливые москвичи застывали и затем медленно шли к двум юношам, словно боясь вспугнуть мелодию шумом шагов. Вскоре толпа выросла настолько, что задним не было ни видно, ни слышно, но люди терпеливо стояли.
Когда закончили, Юшке не пришлось даже ходить с шапкой по кругу — столько накидали им всего разного.
Степан спел ещё две былины, уже особо не задумываясь над выбором, ибо понял: песни живут на всей Руси, независимо от княжеств и распрей, подавая пример единства и преемственности, будь то песни новые или старые, пришедшие из седой древности, из батюшки-Киева и Господина Великого Новгорода.
Нагруженные корзиной с пирогами, кусками варёной говядины, пареной репой и луком, корчагой с квасом — всем, что надавали им щедрые люди, Степан и Юшка брели по мощённой кругляком улице, размышляя, где бы переночевать. Решили, что лучше добраться до ближайшего монастыря и там, на подворье, искать пристанище.
За высоким глухим забором басисто залаяла собака. Открылась незаметная калитка.
— Эй, поводырь, поди-ка сюда, — раздался старушечий голос.
В проёме калитки стояла сгорбленная низкорослая бабка. Юшка подошёл.
— Это он на Пожаре пел? — спросила старуха, указывая на Степана.
— Он.
— Слава тебе господи, обнаружился. А то этот дурень Тихон боярыне говорит: райский голос, райский голос — а кто да что, толком сказать не может. — Всё это старуха произнесла так, словно Юшке должно быть известно, кто такой дурень Тихон и что он рассказывал неведомой боярыне.
— Бери своего увечного и входи, — неожиданно закончила старуха.
— Зачем?
— Как зачем, остолоп? Боярыне петь.
— Мы уже устали, ночлег идём искать.
— Ну и дурень же ты, почище Тихона! Ночлег! Тут тебе и стол накроют, и ночлег дадут, и всё... — зашипела раздражённо старуха. — Ты хоть знаешь, чей это дом?
— Не, — признался Юшка. — Калики мы, впервой на Москве.
— Воеводы Тютчи, отца ближнего боярина Захара Тютчева. Идёшь по Москве и не знаешь, где нога твоя ступает! Ну что встал, веди своего увечного во двор.
Юшка взял Степана за руку и ввёл его в калитку.
В глубине двора стоял просторный терем с высоким затейливым крыльцом, гульбищем, пристройками, с крытыми переходами и хозяйственными строениями. Остервенело лаял огромный кобель, задыхаясь на крепкой цепи. Лениво плёлся пушистый рыжий кот, не обращая внимания ни на пса, ни на людей. А слева начинался сад. Кусты малины, смородины, невысокие яблоньки, сливы, вишни стояли ухоженными ровными рядами. В глубине мелькали яркие платья дворовых девок.
Старуха подвела юношей к двери, ведущей в подклеть, выпростала тонкую, как у ребёнка, руку из-под платка и откинула деревянную щеколду. Она вошла первой, приглашая жестом молодых людей последовать за ней.
— Вот вам ночлег. Сено свежее, сухое, рядно чистое. Банька у нас на заднем дворе, сегодня как раз топили. Мойтесь, стелитесь, отдыхайте, потом — к столу.
— У нас есть что перекусить, бабушка, спасибо, — сказал Юшка.
— Кто же в доме Тютчи своё ест? Христос с тобой, дурень, боярыня с меня шкуру спустит, коли узнает, что допустила я такой срам.
...Вечером, распаренные после бани, во всём чистом, сидели юноши за столом в просторной горнице, старуха потчевала их, не переставая ворчать. Из её воркотни они узнали, что старый боярин служил ещё деду нынешнего князя — Ивану Калите, что погибли у боярыни в схватке с погаными двое сыновей, один из них дивным голосом от Бога был одарён, с тех пор и привечивает она певцов, гусляров и гудошников. И ещё не велела бабка грустные песни петь, чтобы не расстроить боярыню — лёгкая она на слёзы, хоть и радует её младший сын, храбрый и удачливый красавец.
— А самого Тютчи не будет, уехал в кремль, — важно сказала старуха.
Степан мгновенно насторожился, но так и не услыхал ничего о кремле.
Вошла боярыня, невысокая, дородная, лицо круглое, гладкое, без единой морщинки, хотя и было ей никак не меньше пятидесяти лет. За ней в горницу вошли две девушки, скорее всего дочери, и целый сонм сенных и дворовых девок.
...Степана долго не отпускали, просили петь ещё и ещё, так что, вернувшись в свою клетушку, утомлённые, юноши заснули как убитые.
Проспали до полудня.
— Что дальше делать-то будем? — задумчиво сказал Степан.
— А ничего, — беззаботно ответил Юшка. — Поедим.
— А дело?
— А что дело? Такое не в один день делается. Год уже, как воздвигают этот кремль, ещё успеем. Опять же неплохо самого боярина дождаться.
— Зачем нам боярин?
— Он же в кремле был, может, чего и узнаем.
— Так он тебе и расскажет.
— Ну... рассказать не расскажет, а меж словами и обмолвиться может. Да к тому ж другой ниточки у нас нет.
Вечером они опять пели, на этот раз рядом с боярыней сидел сам Тютча, а с ним и пара гостей. Хозяин слушал, важно кивая головой, никаких разговоров ни с домашними, ни с гостями не «вёл, даже когда Степан и Юшка замолкали, чтобы передохнуть.
Степан опять забеспокоился: если так и дальше пойдёт, Тютчи ими «угощать» всю Москву станут, сколько ещё времени им здесь маяться?
Но на следующий день, к вечеру, заглянула давешняя бабка и сказала, что отправляют их нынче к самим Вельяминовым.
— Рассказал им о вас боярин и теперь рад одолжение тысяцкому сделать.
Это имя было хорошо известно на Руси и не только на Москве. Наследственные московские тысяцкие, бояре, род которых уходил в далёкое прошлое, были по богатству, значимости и власти вторыми после княжеской семьи, если не равными.
«Ну вот, — подумал Степан, — теперь нас из рук в руки, из дома в дом передавать будут».
— Куда идти-то? — спросил без околичностей Юшка.
— Не идти, парень, повезут вас как бояр — с почётом в кремль, там терем Вельяминовых спокон века стоит.
Степан почувствовал, как ёкнуло сердце, — вот оно, пришло везение! Прав был Юшка, когда говорил, что не след торопиться... Он хотел было расспросить бабку, разузнать подробнее, где, в каком месте кремля живёт Вельяминов, но решил не проявлять излишнего любопытства, чтобы не насторожить старуху.
Кремль поразил теснотой, грязью, строительной бестолковщиной. Хотя и вечерело уже, работы не прекращались — жгли костры. Хоромы Вельяминовых были огорожены крепким забором, терем от старости потемнел, постройки сгрудились на тесном пространстве. Сделано всё было прочно, добротно, угадывалось древнее родовое гнездо.
В тесной горнице народу слушать Степана набилось много. Голос звучал плохо из-за духоты и усталости после вчерашнего, непривычно долгого пения.
Вечером Юшка выбрался из отведённой каморки оглядеться. Вернувшись, сказал:
— Может, сейчас и уйдём?
— А как нас завтра хватятся?
— Мы уже к тому времени всё в кремле облазим.
— Как из кремля уйдём? Ежели хватятся, искать станут — догонят...
— Пожалуй, ты прав, — согласился Юшка. — Хотя самое бы время уйти, никого нет. Тут все такие беззаботные, — видать, на стражу у кремлёвских ворот надеются. Ну да ладно, утро, как говорится, вечера мудренее...
Утром они долго ждали, когда их накормят, с грустью вспоминая корзину с пожертвованиями, что оставили за ненадобностью в клетушке у Тютчи, — сейчас она была бы кстати!
Когда наконец дворня соизволила их накормить, пришёл дюжий мужик и отвёл в соседний боярский терем. И хотя время было ещё раннее, до вечера далеко, их сразу же пригласили попеть. Присутствовала лишь боярыня да двое девок. Степан успел разглядеть только лицо, набелённое сверх всякой меры, и стройную фигуру. Долее рассматривать не решился, боясь приоткрыть веки.
Когда они с Юшкой закончили петь, девки увели куда-то с собой юного дудочника, а Степана позвала старуха, как две капли воды похожая на ту, что жила в доме Тютчи. Он покорно шёл с ней по переходам, пока не пришли в крохотную баньку, где она передала его старику холопу. Как Степан ни сопротивлялся, его раздели и быстро, умело вымыли. Потом облачили во всё чистое и новое, отвели в горницу, слабо освещённую двумя светильниками, и оставили одного. Убедившись, что никого нет, Степан быстро осмотрелся: большую часть помещения занимало просторное ложе, вдоль стен расположились красивые лари, уставленные золотыми и серебряными сосудами и кубками. Икона в красном углу удивила Степана — она была занавешена аксамитовым[25] платом, словно от глаз святого следовало скрыть то, что происходит в горнице.
Отворилась дверь, Степан мгновенно опустил глаза и протянул вперёд руку. Раздался грудной женский смех. Сквозь щёлки прищуренных век он с трудом разглядел боярыню. Она стояла у двери, на кроваво-красных её губах играла непонятная улыбка. Но вот боярыня сбросила кику, тяжёлая коса упала на грудь, и женщина принялась неторопливо, не сводя глаз со Степана, расплетать её. Степан почувствовал, как полыхнуло жаром по всему телу и одновременно возникло возбуждение, то самое, что испытывал он по ночам последний год. А боярыня расстегнула янтарные пуговицы и скинула одежды на пол. Перед Степаном стояла обнажённая стройная женщина, распущенные волосы волной прикрывали одну грудь, другая, с розовым соском, была такой ослепительно белой, что казалась выкупанной в сметане. Боярыня сделала шаг к Степану, её руки медленно дотронулись до лица юноши, потом она быстро и умело разоблачила его, прижалась всем телом и увлекла на ложе...
Только под утро ненасытная боярыня задремала. Степан осмелился взглянуть на неё, приоткрыв пошире глаза. Пот смыл белила, и открылось то, что смутно ощущал он ночью: молодая и, видимо, когда-то красивая женщина была обезображена оспой, всё лицо покрывали глубокие рябины, невидимые в вечернем освещении, но теперь, под утро, особенно явственные и уродливые. Он понял, почему так жадны и бесстыдны были её ласки. Хотя что мог понимать в этом юноша, впервые познавший близость? Степан испытал острую жалость к бедной женщине, видимо, лишённой ласк мужа и потому вынужденной тайно вкушать запретный плод, посвящать в это дело старух и жадных до сплетен приятельниц.
Боярыня пошевелилась, Степан быстро закрыл глаза, притворившись спящим. Она приподнялась, поцеловала его в лоб и спустилась с ложа. Потом прихватила одежду и тихонько вышла за дверь. Почти сразу же в горницу вошла старуха — Степан услышал её каркающий голос:
— Ублаготворил нашу касаточку? За то тебе пред Господом зачтётся. Страдалица она у нас, замужняя, а всё одно что вдовица. Ну ты небось сам уразумел почему... И за что её Господь так наказал? Так что нет на ней греха, парень, нет.
Говоря всё это, старуха ловко помогла одеться Степану и, взяв его за руку, заботливо и бережно, словно был он не только слеп, но и без ног, повела за собой.
— Пойдём, молодец, к столу, поснедаешь с касаткой нашей. Уж так ей, страдалице, хочется любезного друга угостить, накормить.
Огромный, на дюжину гостей стол был накрыт на двоих. Старуха усадила Степана и исчезла. Он сидел, боясь оглядываться, — а вдруг кто-то наблюдает за ним, — и думал, как же вырваться из этого сладкого плена, как найти Юшку, как осмотреть кремль. Вроде им повезло, оказались они легко и просто именно там, куда так трудно попасть постороннему, но вот, поди же ты, на всякое везение своя зацепка находится.
Скрипнула дверь, кто-то вошёл в палату. Спустя мгновение тёплые руки обвились вокруг шеи, боярыня ожгла его поцелуем в губы. Степан почувствовал, как его молодое естество начинает пробуждаться и требовать своё. Видимо, почувствовала это и боярыня, потому что шепнула:
— Желанный мой, я весь день буду тебя ласкать. Ишь, запунцовел, лада миленький. За все мои мучения счастье мне пришло!
...Степан проснулся, тихонько нащупал рядом с собой пустую половину ложа, понял, что один. Осторожно приоткрыл глаза — действительно, боярыни в светлице не было. Он пружинисто поднялся, стремительно оделся, не зажмуривая глаз, — боже, как легко и просто всё делать, если смотришь на мир открытыми глазами! — и выглянул в переход.
Там было достаточно светло — свет проникал сквозь узенькие окошки, затянутые бычьи пузырём. Степан сообразил: значит, стена дома выходит на задний двор, тут можно было не заботиться о красивых стекляшках в оконцах. Послышались шаги, кто-то поднимался по лесенке. Степан отпрянул в горницу, запомнив, где располагалась лесенка, ведущая вниз. Протопали тяжёлые мужские шаги и затихли. Он снова выглянул. Никого.
Степан уже поставил ногу на первую ступеньку лестницы, когда вдруг услышал певучий женский голос:
— Куда ты, касатик, там лестница, расшибёшься!
Он оглянулся. По переходу приближалась дородная, высокая женщина лет пятидесяти, ключница, судя по кольцу с дюжиной ключей на поясе поверх одежды. Она остановилась как раз рядом с дверью в горницу. Степан метнулся, впихнул её в дверь, бросил на ложе, — откуда только силы взялись? — заткнул рот углом подушки и, заломив руки, связал их у неё за спиной рушником.
Ключница следила за ним испуганно-изумлёнными глазами.
Степан скрутил жгутом второй рушник, накинул петлёй на толстую, в складках, шею ключницы, затянул. В глазах её отразился животный страх. Он вытащил кляп и тихо, но строго спросил:
— Как отсюда уйти? Отвечай шёпотом и не вздумай кричать!
— Ты не слепой?!
— Отвечай!
— По лестнице вниз, — начала дрожащим голосом женщина, — там по левую руку дверь на задний двор, оттуда до забора рукой подать.
Степан снова заткнул кляпом ключнице рот и выскользнул в переход.
Действительно, на заднем дворе, почти напротив двери, высился глухой забор. Не без труда беглец взобрался на него, сел верхом, бросил прощальный взгляд на терем, подумал, что так и не узнал имени ни боярыни, ни её мужа, и скользнул вниз, в лопухи, растущие с внешней стороны ограды. Присел, оглядываясь, — никого. Стал соображать, как выбраться поскорее, пока не нашли ключницу, и тут услыхал: кто-то тихо играет на дудочке. Юшка!
Оказалось, что Юшка, сбежав, с самого утра этого бесконечного дня кружил вокруг терема боярина дурного.
— Почему ты решил, что он дурной? — удивился Степан.
— Да он не дурной. Прозвище у него такое, имя дружинное: Дурной, — говоря всё это, Юшка торопливо вёл Степана по узкому проходу между двумя высокими заборами. — Мы сейчас на спуск к реке выйдем. Это единственное место, где домов нет, одни кусты растут непролазные да огороды. Там до темноты переждём, потом стройку осмотрим, до утра посидим в кустах, утром, при свете, до прихода мужиков опять осмотрим, и давай Бог ноги...
— Я гляжу, ты всё обдумал?
— А что мне ещё было делать, пока ты боярыню ублажал?
Степан почувствовал, что краснеет.
— Откуда знаешь?
— Оттуда. Я, когда ходил вокруг да около, с кем только словцом не перекинулся!
— И что?
— А ничего. Не ты первый, не ты последний. У неё черти на лице горох молотили, не знаю, заметил ты аль нет?
— Заметил, — буркнул Степан. Ему почему-то стало обидно: возможно, такие же ласковые, жаркие слова, как ему, говорила боярыня и другим. — Несчастная она баба.
— Пожалел?
— Да! Муж бросил, а в монастырь не отпускает.
— Почему?
— Потому что всё богатство у неё в руках. Её отец покойный умным был, знал, что к чему, и завещал все богатства в случае её ухода в монастырь внести туда как вклад. Вот уйдёт она в монастырь — и останется её муженёк гол как сокол. И получается, Дурной — дурной, а соображает, не отпускает жену в монастырь.
— Дай она, думаю, не больно рвётся туда. Пока такие, как ты, караси ей попадаются.
— Молчи! Ишь, волю взял! — рассердился Степан. Несмотря ни на что, к боярыне он испытывал нежность.
Кустарник, что приметил Юшка у огородов на склоне холма, сбегающего к Москве-реке, оказался малинником, судя по мелкой, осыпающейся, несобранной ягоде, диким или одичавшим, словом, ничейным. Юшка, вполголоса чертыхаясь, пробрался вглубь колючих кустов, покрутился там, устраиваясь поудобнее, и, заметив, что Степан сидит задумавшись, кликнул:
— Ты что, передумал? Лезь сюда.
— Гусли у боярыни оставил, — вздохнул Степан.
— Ну и бог с ними.
— А как на обратном пути кормиться будем?
— Вон ты о чём. А дудочка на что? Ты выберись отсюда сначала.
— Выберемся...
— Может, боярыню жаль стало?
— Ничего ты не понимаешь, Юшка.
— Всё я понимаю. Не знаю, как у вас, в княжеской дружине, а у нас, в Корнеевой, только о бабах и говорят. Давай, увечный, лезь ко мне, не торчи на виду.
Степан скользнул по промятой Юшкой тропке в гущу кустов, улёгся рядом с другом и потянулся.
— Неплохо бы соснуть, — пробормотал он, зевая.
— Так спи. Я полежу, погляжу. Как стемнеет, разбужу. Я тут одну башню недостроенную приметил у самой реки. На вид ничего особенного, но вчера странным мне показалось: как стемнело — со всех башен и стен работные людишки потянулись по домам, а от той башни — нет...
— Наверное, их вчера раньше отпустили... — сонно отозвался Степан.
— Может быть...
В темноте они с трудом нашли дорогу к башне, которую строители возводили у реки. Идти нужно было вниз по откосу.
Известковые грубо обтёсанные бруски валялись вокруг, преграждая путь. Пришлось ползти между подготовленным для укладки белым камнем. Неожиданно вблизи возник копейщик, покрутил головой, что-то высматривая, видимо, слыша шорох. Потом совсем рядом появился другой. Степан и Юшка замерли в ожидании. Копейщики потоптались и разошлись в разные стороны. Стало ясно, что башня охраняется. Они решили не рисковать и вернулись назад.
— Будем снова пытаться? — шепнул Юшка.
— Нет... попадёмся и ничего не узнаем. Пошли наверх, ближе к въезду, там я ещё одну башню приметил, почти завершённую, — подумав, решил Степан.
Башня оказалась угловой. От неё стена поворачивала в сторону торговой площади, Пожару, как называли её москвичи.
Парни со всей осторожностью подобрались и довольно скоро обнаружили, что ни копейщиков, ни сторожей здесь нет. Осмелев, обошли всю стройку, в темноте чуть ли не ползком перебираясь по настилам лесов. Степан отыскал корыто с остатками раствора, на который мастера клали известковые камни, отломил кусок, завернул в тряпицу.
— Найдут — в поруб на всю жизнь посадят, — буркнул Юшка.
— За этот кусочек? — удивился Степан.
— А он о чём говорит? Что были в кремле, чего-то разнюхивали...
— Будя пугать-то. — Степан отмахнулся и стал спускаться по шаткому настилу к подножию башни. Там он обнаружил узкую лесенку с каменными ступенями. Она вела вниз, глубоко под землю. Степан сунулся туда, но через два шага его окутала такая кромешная тьма, что он не рискнул идти дальше. Когда он выбрался к Юшке, тот держал в руках плоский кирпич, настоящий греческий плинф.
— Как он сюда попал? — не понял Степан.
— А вот они, заготовлены в укладках.
Действительно, чуть в стороне от белых брусков известняка стояли укладки крепкого обожжённого кирпича, казавшегося в смутном свете почти чёрным. Степан взял верхний, повертел в руках, в этот момент кисейное тонкое облачко сползло с луны, всё озарилось серебристым светом, и он увидел на плоской грани кирпича буквы «МИХ», — наверное, умелец хотел увековечить себя, выдавить имя «Михаил», но не успел или отвлёкся. Степан положил кирпич на место: кто его знает, заберёшь, а потом хватятся, догадаются, что побывал на стройке соглядатай...
До рассвета осмотрели почти все башни. Нигде, кроме как у нижней, что у реки, охрана не стояла. Видимо, строители были в полной уверенности, что никто посторонний в кремль не проникнет. Тогда почему охрана у речной башни? Парни решили, что не стоит ломать над этим голову, для этого они слишком мало знают. Пробрались к огородам, залегли в малинник и мгновенно, прижавшись друг к другу для тепла, уснули.
Проснулся Степан от женского голоса. Невидимая баба говорила:
— Иду, только ещё один вилок подберу покрепче...
Степан сообразил: с утречка хозяйки пришли на свои грядки за овощами. Хорошо, малина уже отошла, никто сюда не сунется. Он переждал немного и, только услыхав, как расчирикались воробьи, значит — люди ушли, осторожно выглянул. Никого, пернатые не обманули. Он растолкал Юшку.
Солнце поднялось, начало припекать. Заскрипели первые телеги, тяжело груженные камнем. Совсем недалеко надрывно визжал ворот, — видимо, поднимал на стену или на башню груз.
— Пора? — спросил Степан, вопросительно глядя на Юшку. — Вслед за первым порожняком и выйдем.
— А как?
— Обыкновенно: ты впереди, я за тобой. Жаль, гусли у боярыни остались. Ты дудочку как-нибудь Позаметнее держи.
— Думаешь, выпустят?
— Разве есть ещё путь отсюда?
— Может, в порожнюю телегу пристроиться?
Мысль показалась заманчивой, но сразу же отпала, как только они увидели первые телеги: в них не было ни рогож, ни рядна, ничего, чем бы можно было прикрыться.
Пришлось, помолившись об удаче, идти к воротам открыто. Так и пошли — впереди Юшка с дудочкой, за ним, положив руку ему на плечо, Степан, подняв голову и закатив глаза так, что в щёлочки виднелись одни белки.
Юшка шёл медленно, осторожно, стреляя глазами по сторонам. Степан нервничал, то и дело шептал едва слышно:
— Чего плетёшься!
— Эй, убогие, откуда вы тут? — раздался оклик.
— У боярина Вельяминова пели, — ответил Юшка.
— Ну давайте идите, не задерживайте...
Они вышли за рогатки на Пожар. Обошлось. Можно было уходить из Москвы.
Глава тринадцатая
Вечерело. Олег Иванович одиноко сидел в библиотеке, размышляя о судьбе засланных в Москву мальчишек.
Первые два лазутчика как в воду канули. Уж не поторопился ли он, посылая совсем ещё Неопытного сына Дебрянича?
Вошла Ефросинья. Необъяснимым образом сразу же догадалась, о чём задумался князь. Говорят, что так бывает со всеми любящими жёнами после многих лет совместной жизни.
Села рядом.
— День-два вполне могли в пути задержаться, — сказала она, положив узкую тёплую ладонь ему на руку.
Князь кивнул.
— Конному три дня пути. А пешему, — она говорила, поглаживая его руку, успокаивая и внушая, — да ещё если сторожко идти, с оглядкой, и того больше.
— Откуда знаешь, что до Москвы три дня конному скакать?
— Епифана спросила, — призналась жена.
— А зачем я их в Москву послал, не спросила? Что меня там тревожит и волнует, какое беспокойство гложет?
— Спросила.
— И что он сказал?
— Что ни о чём таком не знает.
— Аты?
— А я обиделась. Уж и от меня нынче у тебя тайны завелись. — И, округлив свои медовые глаза, спросила, почему-то понизив таинственно голос: — Уж не на Москву ли замысливаешь поход?
— Бог с тобой, о каком походе нам сейчас думать? Да и не пойду я никогда на Москву.
— Тогда зачем послал мальчишек?
— Они не мальчишки уже. Я в их годы в боях побывал, в походах, в Орду за ярлыком ездил.
«Может, корит себя за то, что послал именно Дебряничева сироту?» — подумала Ефросинья, но промолчала.
— В самом сердце Залесской Руси ставить неприступный каменный кремль, что сие означает? — Князь вопросительно поглядел на жену.
— Отгородиться стеной от татар.
— Не только. Вперёд Дмитрий Московский смотрит, в будущее. И в этом будущем никто уже с Москвой сравниться не сможет. Все княжества под его рукой окажутся. Включая Рязань. А я давным-давно задумал, только никому ещё не говорил. Вот сейчас тебе скажу, только тебе... да... Даже Епишка ничего не знает. Если встанем крепко на ноги, хочу я в Старую Рязань вернуться, там столицу сделать и кремль каменный возвести. Вот и нужно мне знать, пока Дмитрий свой кремль не достроил, из чего стены сложены, какой высоты и толщины, как крепость водой снабжается. Нам бы лет десять без татар прожить... Встать бы каменной крепостью на берегу Оки и ни в какие Мещеры больше не бегать, — мечтательно заключил Олег.
Утром появились Степан и Юшка, усталые и сонные. Шли всю ночь в обход невесть откуда взявшегося татарского разъезда.
Отчитывался Степан на малом совете. Князь Олег пригласил молодого Кореева, тысяцкого, боярина Корнея, дворского, удельного князя старика Милославского, знатока градостроительного дела. Олег Иванович велел вспомнить всё самым подробным образом от первых шагов. Когда Степан стал рассказывать, как стояли они на противоположном берегу Москвы-реки и разглядывали строительство, князь потребовал пергамен, и Степану пришлось рисовать всё, что удалось запомнить. А когда рассказ дошёл до боярыни Дурной, все оживились и потребовали подробностей.
— Она и вправду такая рябая?
— Да, — ответил сухо Степан. Его раздражали насмешливые слова и непристойные шуточки по поводу бедной боярыни.
— Только на лице? А бывает, что и на груди...
Степан промолчал.
— И всё достояние, выходит, у неё в руках... ну и ну, хитро её отец придумал, хитро... Что ж, рожать надобно.
— Как рожать, ежели муж на жену взглянуть не может?
— А платочком прикрыл бы... Вишь, ты-то сослепу смог!
Все заржали.
— Довольно! — прикрикнул князь. — Не затем собрались, чтобы какого-то Дурного обсуждать. — Но по лицу было видно, что и сам слушал с интересом.
Степан рассказал о вечере, проведённом в малиннике в ожидании ночи, о попытке разведать нижнюю башню, что воздвигнута у самой реки, и о том, что её охраняли копейщики.
— У всех остальных башен охраны не было, — подчеркнул он в конце рассказа.
— Молодец, — похвалил Олег Иванович, — на самую важную точку в обороне кремля вышел. Это и есть водовзводная башня, о которой я слышал.
Старик Милославский важно кивнул. Князь расспросил о подвалах, одобрил, что не засмолил Степан факела и не полез в подземелье по таинственной лесенке, подивился, зачем строители завезли кирпич.
— Видно, облицовывают они обожжённым кирпичом стены в подвале, чтобы не было сырости и оползней, — сказал Милославский.
— Наверное, ты прав, князь, — согласился Олег Иванович.
Степан выложил на стол совсем усохший, несмотря на то что был завернут в тряпицу, кусок раствора для кладки.
Бояре и оба князя долго щупали, разглядывали, качали головами.
— Хорошо загашенная известь, её не меньше как десяток лет в яме держали... И где это Митя прятал?
— А мы и не ведали...
— На белке замешана.
— Да, на чистом белке... Без желтка... Потому и в желтизну не отдаёт, белая... Чистый белок, значит...
Раствор заинтересовал бояр почти так же, как рассказ о тайной башне.
— Давайте, други, отпустим нашего молодца. — Князь обратился к Степану: — Как мне тебя наградить?
Степан встал и поклонился:
— Для меня награда — честь, что выпала.
Князь милостиво улыбнулся:
— А что бы ты хотел к чести в прибавок?
Степан не стал задумываться и выпалил то, что заготовил заранее в надежде, что дойдёт разговор до награды за удачный поход в Москву.
— Дозволь спутника моего Юшку, лучникова сына, меченошей взять. Его боярин Корней хорошо знает.
— Из смердов? — Вопрос был к Корнею.
— Из смердов. То правда — его отец лучником у боярина Дебрянича был, — ответил Корней.
— Дозволяю взять стремянным, — кивнул князь.
Степан вспыхнул, закусил губу и, чтобы скрыть раздражение, поклонился. Меченоша, прояви он себя, мог стать и дружинником, а стремянный поднимался вверх по дружинной лестнице только в самых исключительных случаях. Окостенела при князе Олеге Ивановиче эта самая дружинная лестница, не то что в прошлые времена, когда удаль прокладывала витязю путь на самый верх.
— И ещё о милости прошу. — Степан выпрямился и взглянул прямо в глаза Олегу Ивановичу. — Отпусти меня в сторожевую сотню, князь!
— Ополоумел! — выкрикнул боярин Корней. — Ты, княжеский дружинник, под начало сотника идти хочешь?
— Ты же сам знаешь, боярин, княжеская дружина редко выходит в Дикое поле.
— Мести жаждешь? — спросил Олег Иванович, и в его улыбке мелькнуло одобрение. — Что ж, дозволяю. Пойдёшь под правую руку[26] сотника Ивана Шушака. — Князь перевёл взгляд на пергамен, показывая, что разговор со Степаном закончен.
Юшка ждал на княжеском дворе. Два стражника у крыльца с подозрением поглядывали на паренька, но тот пришёл сюда с дружинником, которого все во дворце знали, и стражники помалкивали, решив дождаться десятника.
Степан выбежал и бросился к Юшке, радостно улыбаясь.
— Ты мой стремянный! — Он обнял друга. — Не удалось сразу меченошей тебя сделать, ну, да всё ещё будет!
— Зато вместе! — воскликнул Юшка. Парни принялись тузить друг друга, возиться и смеяться так, словно были не на княжеском дворе, а на задах корнеевского дома.
— Бежим к боярине, возьмём твои пожитки. Сегодня же определю тебя в молодечную.
— Может, подождём боярина? Наверное, он захочет, чтобы ты боярыне и Алёнке всё, что можно, рассказал.
— Всё, что можно? — переспросил Степан. Ему вспомнились сальные лица ближних бояр, когда пришлось рассказывать о рябой боярыне.
— Ну, не всё, — хохотнул Юшка.
Степан вдруг крикнул, срываясь на фальцет:
— Не смей! Не смей, холоп!
Юшка достал дудочку, пропустил Степана вперёд и побрёл сзади, в двух шагах, наигрывая что-то задумчивое.
— Прости... — буркнул Степан.
— Ты не на меня кричишь, а на себя. Не знаешь, как теперь с Алёнкой встретиться.
— Алёнка ещё коза несмышлёная.
Юшка обернулся и сказал с улыбкой:
— Коза-то коза...
Глава четырнадцатая
Сотник сторожевой сотни Иван Шушак, невысокий, сухой, жилистый, с лицом, покрытым рубцами от бесчисленных ран, встретил Степана хмуро. Да и чему радоваться? Мальчишка, милостник князя — сразу под правую руку.
— В походах бывал?
— Бывал.
— А в сече?
— Не довелось.
— Доведётся. Ты сын боярина Дебрянича?
— Да.
— Если ты к нам попросился мстить за отца и мать, — Степан понял, что сотник знал его отца или слышал о трагической гибели семьи боярина, — то напрасно. В сторожевой сотне превыше всего холодная голова ценится. Если можно уйти от сечи, то мы уходим.
— То-то я смотрю, у тебя на лице живого места нет, одни рубцы.
— За двадцать лет всякое случалось.
Странное дело, убедившись, что Степан действительно сын Дебрянича, сотник вроде подобрел. Небось наговорили ему невесть что про княжьего милостника...
Несмотря на суровые слова о недопустимости мести, сотник сразу же отправил Степана в далёкий разъезд, хотя отлично понимал, что Степан ещё ничего толком не знает и не разбирается в сторожевом деле. Плохо представляет, как устроены заставы, объезды и засеки, куда едут обычно конные дозоры и где расположены сторожевые вышки, то есть не имеет ни малейшего представления о том сложном, обширном, десятилетия складывающемся хозяйстве пограничья, что находилось в ведении сотника.
...Татар увидели на третий день пути после короткого привала. Было их на первый взгляд не больше десятка. Дозор, такой же, как и рязанский?
Десятник Рязанцев, одногодок Ивана Шушака, всю свою жизнь проведший на границе, негромко скомандовал:
— Первый пяток, делай, как я! — и, скатившись с седла на землю, понудил коня лечь рядом с собой. Высокий степной ковыль закрыл всех, надёжно спрятав от глаз татарского разъезда.
Второй пяток без слов понял замысел десятника — видно, не в первый раз — и помчался прочь, описывая большую дугу вокруг того места, где залёг десятник. Татарский разъезд, разглядев, что русских вдвое меньше, помчался напрямую, перехватывая путь к отступлению. Степан почувствовал, что его товарищи придерживают коней, — татары слишком легко и быстро их настигали. Ещё несколько мгновений скачки и, развернувшись, русские встретили противника.
Степан во время скачки крутил головой, оглядываясь, потому приотстал и теперь, когда повернулись лицом к татарам, оказался первым. На него летел огромный татарин с высоко поднятой саблей. Степан успел подумать, что конь под ним гораздо тяжелее татарского, и послал его вперёд и вправо так, чтобы враг оказался слева. Степанов конь ударил татарского конька грудью. Степан успел принять удар сабли на щит и тяжело, с оттяжкой, до ломоты в кисти полоснул своей саблей по незащищённой щеке татарина. Противник медленно, словно нехотя, сполз с седла и рухнул на землю. Конь переступил через тело хозяина и тут же встал как вкопанный: учёный, понимал, что нога хозяина застряла в стремени. Степан в растерянности смотрел, как расползается лужа крови, как скребут сухую землю пальцы татарина с длинными, в траурных каёмках грязи ногтями, что-то перехватило ему горло, но тут услыхал отчаянный крик Юшки:
— Стёпка! Сзади!
Он успел обернуться, и как раз вовремя, чтобы встретить второго степняка. Некоторое время они рубились, выказывая каждый высокое воинское умение. Но вдруг татарин резко повернул коня и поскакал в степь. Только сейчас Степан заметил, что пятёрка воинов, залёгших вместе с десятским, налетела на татар сзади и погнала прочь...
Пленного, столь ценимого здесь, на меже, взял сам десятский. Татарина прикрутили его же арканом к седлу и поскакали к верховьям Дона, к ближней заставе.
Пролетел год. Степан раздался в плечах, но стан оставался юношеским: стройным и гибким. В боях — а их было за год столько, что Степан давно перестал делать зарубки на рукоятке сабли, — ему уже не кружило голову желание бить, крушить, уничтожать. Действовал он, уже вопреки возрасту, осмотрительно и хладнокровно. Если зарывался, то рядом оказывался верный Юшка — вот у кого, несмотря на ещё мальчишеский румянец, осмотрительность была как у седоусого дружинника.
— Поражаюсь я тебе, парень, — сказал как-то Юшке сотник Иван. — Будто и не ты вместе со Степаном испытал в детстве весь ужас татарской резни. Сражаешься, как щи хлебаешь. Размеренно и спокойно, только что отдуваешься.
— А у меня ещё одно дело есть, кроме как сражаться.
— Какое же?
— Степана оберегать.
Юшка не стал вдаваться в объяснения. Оберегать — и всё. Но сам тайно предавался не детским и не юношеским мечтам — представлял себе: вот захватят они со Степаном богатую добычу и пленных, накупят кабальных, поднимут вотчину Дебряничей, приглядит себе Степан боярышню, просватает, пойдут у них дети, а там, глядишь, и Юшкина судьба повернётся, женится и он и будет растить Степановых и своих детишек в тишине и покое, подальше от боев и сражений... Хотя не был Юшка трусом: не знал он страха в боях, волнения в битвах и сечах. Всё видел, всё замечал и — не дай бог противнику соблазниться его юным видом — рубился с превеликим искусством не только на саблях, оружии хитром, коварном, требующем ума и ловкости, не только на мечах, оружии простом и незатейливом, но и на боевых топорах, оружии для людей могучих, с сильными руками, способных отбить удар самого сильного противника. Ростом Юшка не уступал высокому Степану, в плечах же был даже чуть пошире.
Сторожевая сотня Ивана Шушака насчитывала почти две сотни копий. Две полусотни под началом подручных непрерывно находились на меже с Диким полем. Правда, понятие «межа» тут не совсем подходило: ничего общего с границами с Москвой или там с Нижним Новгородом не было. Те шли от прадедов, вились от приметного оврага к долу, от дола к холмику, от холмика к ручью. Перечислить приметы, места, где проходит граница, мог не только воин сторожевого отряда, но и любой мужик. А межа с Диким полем проходила там, где не решались осесть в поисках свободной земли и лучшей доли даже отчаянные рязанские мужики, там, где кончались пали[27] и начиналась целина. И ещё по целине немерено к югу до мест, где начинали изредка появляться степняки. Так велось с незапамятных времён, с тех пор, когда ещё и в помине не было ни татар, ни монголов, ни Мамая, ни Сарыходжи, были только половцы со своими кочевыми вежами.
Хотя Степан повелением князя Олега Ивановича был под правой рукой сотника, но самостоятельно с полусотней ещё ни разу к меже не выходил. Он не переживал по этому поводу, понимал, что ни опытом, ни возрастом ещё не вышел. Вот придёт время, и пошлют его с десятком, а может, и с двумя десятками дозорных в первый самостоятельный поход. Ждал, волновался и грустил — степная межевая война оказалась до одури однообразной и мелкой. Все пленные татары, как назло, показывали одно: Мамай, набравший к этому времени огромную силу в южных степях и в Крыму, о походе не помышляет.
Стороной прошёл Арапша, потом Сарыходжа. Бог миловал Рязань. Из Залесской стороны доходили тревожные вести: рассказывали, что Литва во главе с великим князем литовским Ольгердом напала на Москву. Он простоял три дня под стенами нового белокаменного кремля, ограбил и сжёг пригороды, зверствуя ничуть не меньше татар, но ушёл, так и не одолев кремль.
Рассказывали и о московских распрях с Тверью, но эти слухи Степана не волновали — Тверь для него так и осталась пустым звуком, чем-то чужим. Вот Новгород, хотя и был он куда как дальше от Рязани, нежели Тверь, воспринимался как свой, родной город. И Нижний Новгород тоже. Он, как рассказывали, совсем недавно пострадал от ушкуйников[28]. Вот же напасть какая — ушкуйники из Новгорода грабят, казалось, своего родного брата, Новгород Нижний, сжигают посады, ослабляют русский же народ. Понять этого Степан не мог.
Глава пятнадцатая
На столе лежал большой харатейный чертёж Русской земли. Олег Иванович сосредоточенно изучал его, когда в библиотеку без спросу, на правах старого друга, вошёл Кореев. Из-за его спины выглядывала немного смущённая физиономия Васяты.
Князь удивился — последнее время старый приятель был редким гостем в его тереме.
— Дозволишь войти, великий князь? — спросил Васята.
В его голосе странным образом смешались обида, робость и вызов.
— А я уж, грешным делом, решил, что ты из города уехал, — заметил Олег Иванович.
Лёгкий упрёк означал одновременно и разрешение войти, и радость встречи со старым товарищем. Васята, в отличие от молодого Кореева, слова понимал в их прямом, буквальном смысле и потому принялся оправдываться, путано объясняя причины, по которым давно не бывал у князя.
Кореев заметил, что многословие друга начинает раздражать Олега Ивановича, и перебил его, указывая на чертёж: в Дикой степи скакали татары на конях, нарисованные когда-то Васятой:
— Помнишь? Ты ещё за киноварью к изографам бегал.
Васята споткнулся на полуслове и удивлённо воззрился на чертёж:
— Надо же, тот самый!
Чертёж был подновлён: к левой его кромке прилегали подклеенные листы пергамена, на которых торопливо, без должного старания, были нанесены границы Литвы и контуры Правобережья от Днепра до Днестра.
— Вот, други, как выяснилось, в те времена мы не очень в будущее заглядывали. Не дальше Дикого поля.
— Тебя Ольгерд после похода на Москву стал беспокоить? — понял князь Кореев.
— Я бы на его месте, получив отпор под Москвой, направил полки в северские земли. Вот, — показал князь на чертеже, — почти беззащитные лежат: Новгород-Северское княжество, Дебрянское. Захватит — станет нашим соседом. Причём очень беспокойным. Немногим лучше, чем ордынцы.
— Слышал я, что он привечает русских князей, — заметил Кореев.
— Не все ему в рот смотрят, — сказал Олег Иванович. — Боброк-Волынский, как я наслышан, к Москве отъехал. А Боброк — воевода знатный, известный не только в наших пределах, но и там, в латинских странах. — Он неожиданно обратился к Васяте: — Нет ли у тебя знакомого торгового гостя, который был бы связан с Вильно и Колыванью[29]?
Васята растерянно заморгал, переводя взгляд с князя на Кореева:
— Почему у меня?
— У меня — нет. У Епищки, — князь сознательно назвал друга старинным детским именем, — тоже, я сие доподлинно знаю. У кого же мне ещё спросить?
— У меня есть, — неожиданно кивнул Васята.
— Ну вот! Кто он?
— Жуковиньем[30] торгует. К нам с Янтарного моря дивные бусы да браслеты привозит, я не раз у него покупал. Отсюда жемчуг да скань серебряную возит.
— Своих девок одариваешь? — улыбнулся князь.
— Какие девки, великий князь? — обиделся Васята.
— Тогда для кого жуковинье?
— Приданое будущим дочерям собираю.
— Ишь ты, запасливый какой. Ладно, други, хватит лясы точить. Скажи-ка, Васята, твой торговый гость, он как, верный человек?
— Верный, коли ему прибыток светит.
— А если очень большой прибыток?
— Тогда и очень верный. Да что нужно-то, Олег Иванович? — рискнул опустить титул Васята.
— Нужен человек умный, приметливый, чтобы, проезжая по Ольгердовым землям, ворон бы не считал, а всё запоминал и нам потом докладывал.
— Глубоко ты свои коготки прячешь, — вдруг выпалил Васята и рассмеялся. — Десять лет назад ты бы так не сказал.
— Так ведь десять лет не малый срок. За десять лет медведя кувыркаться да бабу изображать выучить можно.
— А ты не медведь, — расхрабрившись, подхватил Васята, но натолкнулся на строгий взгляд. — Прости, великий князь.
Олег Иванович сделал вид, что не обратил внимания на оговорку:
— Как встретишь своего торгового гостя, прощупай его. Если почувствуешь, что он клюнет, сведёшь с Епифаном.
— Почему с ним? Разве я не могу сам вести такое дело?
— Можешь. Но Епифан лучше, он уже давно к таким делам приставлен. Но о том молчок!
«Господи, — ожгла Васяту внезапная догадка. — А я и не ведал, не чуял. Вона где кроется тайна влияния Епишки на князя...»
Дремавшая до поры ревность проснулась в душе Васяты.
Глава шестнадцатая
Три недели Степан со своим десятком неторопливо ездил вдоль межи, забираясь иногда вглубь Дикого поля, и не встречал при этом ни души. И вдруг как-то под вечер столкнулся он с медленно бредущим чумацким[31] обозом с солью, невесть каким ветром занесённым сюда, в сторону от наезженных дорог. Грязные волы грустно волокли огромные скрипучие телеги по неторной дороге.
Степан обрадовался — как-никак живые люди в степи, есть возможность поговорить, узнать новости.
Вместе устроились на ночлег. Чумаки угостили соскучившихся по домашней еде воинов салом, лепёшками, пареной репой и луком. Налили мёду — всё нашлось у них в необъятных телегах. Насытившись, Степан стал расспрашивать старшину чумаков.
Старшина был здоровенный дядька с вислыми усами, медлительный, как и его волы. На вопрос, что занесло обоз так далеко от привычного чумацкого шляха, известного всей степи, он ответил: с тех пор как Литва захватила Киев, никто за соль платить и не думает. Литва считает, что берёт по праву завоевателя, а киевляне обнищали так, что с них и денег просить стыдно.
— Плохо живут под Литвой?
— Ох, плохо. Киев за сто лет после татар никак восстановиться не может, у города и стен-то не осталось, некому возводить. Вот Литва и налетела, захватила его, почитай, без боя. Теперь господами ходят. За соль не платят... — Чумак всё время возвращался к тому, что его волновало. — Татары и те платят, на что нехристи... Рыбу-то мы в Киев не возим, рыбки и своей у киевлян хватало. А соль — кто ж им повезёт, ежели не платят? — говорил всё это чумак без особого возмущения, раздумчиво, принимая события как данность.
— Ну, а ещё что происходит в ваших краях?
— Татары в Крыму осваиваются. Мамай. О таком слыхал?
Степан сказал, что, конечно, слыхал, о Мамае вся межа наслышана.
— Так вот, Мамай Ногайскую Орду под себя подмял. Силы теперь у него невиданно. Но пока сидит смирно. Орда коней откармливает...
«Коней откармливают — к походу», — подумал Степан.
— Правда, — продолжал рассказывать чумак, — пошла недавно тьма[32] ордынцев, а то и поболе, на закат. Только думаю я, что потопчут они разорённые земли попусту и повернут на восток, к вам, в Рязань, либо к Москве. Что им на Киевщине нынче взять? Опять же и с Литвой драться не больно захочется...
Степан понимал, что в словах чумака есть истина: и раньше случалось такое — покрутится Орда по выжженным нищим землям древней Киевской Руси и идёт на восток, где, открытая всем налётам, лежит Рязанская земля.
Ночью, когда лежали у чумацкого костра, Юшка подкатился под бок к Степану и зашептал, что надобно к сотнику гонца послать, сообщить о татарах, которые двинулись на закат. Степан и сам подумывал об этом, потому согласился, а утром вдруг решил, что именно они с Юшкой и поедут к сотнику.
Так и получилось, что в конце марта, ранним утром, когда синее до неправдоподобности небо ещё только обещало солнечный тёплый день, подъехали они с Юшкой к городищу. Грязные, усталые, голодные, с радостью смотрели на невысокие стены, сложенные из могучих дубовых колод. Ещё при отце Олега Ивановича их приволокли сюда из далёких дубрав. С тех пор городище служило и местом отдыха, и местом сбора для сторожевой сотни. Одно время жил здесь и сам воевода, а после его гибели располагался лишь сотник, да по-прежнему оставались те, кто сроднился с границей и не хотел оставлять нажитое. Городище подвергалось разграблению и разору каждый раз, когда татары шли с большой силой на север, но стремительные налёты малых отрядов выдерживало.
Ворота отворились. Степан и Юшка, весело поздоровавшись с пожилым воротным, бывшим воином их же сотни, поскакали, торопя коней, к молодечной избе. Дом сотника стоял рядом и выделялся высокой покатой крышей. После однообразной степи Степан с удовольствием смотрел на выглядывающие из-за каждого забора ветви яблонь, ещё по-зимнему обнажённых, но уже набухающих — вот-вот появятся на них почки, чтобы с первыми лучами настоящего весеннего солнца выбросить клейкие зелёные листки. Заглядевшись, Степан не заметил у одного из домов огромную лужу. Конь преодолел её, подняв кучу брызг, и тут же Степан услышал гневный женский голос:
— Смотри, куда скачешь! Али ослеп?
— Извини, красавица, — весело ответил Степан, но тут в лужу влетел конь Юшки, тоже поднял тучу брызг и обдал женщину так, что она в сердцах крикнула:
— Чтоб вам провалиться, аспиды!
Её лицо с пятнами грязи было таким забавным, а гнев так живописен, что Степан и Юшка, переглянувшись, фыркнули и, пришпорив коней, умчались к молодечной.
Сотник, выслушав доклад, разрешил им остаться на пару деньков.
Степан почистил коня, отнёс в молодечную перемётную суму и принялся разбирать её.
Этой зимой случайно в устье небольшого овражка наткнулись они с Юшкой на трёх татарских воинов, греющихся у небольшого костерка. Чуть поодаль стояли их кони. Почему татары оказались здесь, вблизи русской границы, так далеко от своих кочевьев, Степан и Юшка не успели узнать, потому что в коротком бою пленного взять не удалось. В перемётных сумах убитых они нашли перстни, женские украшения и холщовый мешочек с крупным речным жемчугом. Поскольку победили они татар в равном бою, добыча принадлежала им и в общий котёл не шла.
Покопавшись в перемётной суме, Степан извлёк перстенёк с яхонтом, полюбовался им и спросил сидящего рядом и наблюдающего за его действиями Юшку:
— Не против, если я давешней молодице подарю?
— Какой ещё молодице?
— Той, что мы грязью забрызгали.
— А не жирно ли будет? — спросил прижимистый Юшка.
— А не жирна ли грязь была, что обдала молодку?
— Скажи прямо, приглянулась она тебе?
— Да я и не разглядел-то её, видел только, что всё лицо в грязи.
— Что с тобой делать. Дари.
Встретиться с молодицей оказалось не просто. Степана долго выспрашивали у ворот, кто, зачем да почему. Потом старик сторож передал его в руки въедливой старухи. Та повторила расспросы, долго жевала беззубым ртом, размышляя, наконец, приняв решение, повела Степана в дом, как выяснилось позже, принадлежавший покойному воеводе. Жил тот, судя по всему, богато. Их встретила воеводиха, вдова. Она тоже подвергла Степана допросу, недовольно поморщилась, и только когда тот сказал, что он дружинник князя Олега Ивановича, хотя и служит в сторожевой сотне, смягчилась и велела позвать сестрицу.
Вошла молодица. Степан сразу обратил внимание на её улыбчивые пухлые губы и никак не мог себя заставить отвести от них взгляд. Он даже не смог бы сказать, какого цвета глаза у женщины, разглядел только веснушки, покрывающие мелкой россыпью задорный носик.
Воеводиха, подойдя к молодице, схватила её за руку, зашептала раздражённо. Степан разобрал несколько слов: «Бесстыжая, и года не прошло, как вдовье сняла...»
Вдовица — теперь Степан так называл про себя молодую женщину — снисходительно улыбнулась старшей сестре, повела рукой, как бы отстраняя её, и спросила певучим голосом:
— Подобру ли доехал? — Затем добавила, озорно сверкнув в улыбке ослепительными зубами: — Подобру ли лужу пересёк?
Воеводиха возмущённо зашипела и отошла от сестры, присела на лавку, сложив руки на животе и поджав губы.
— Пришёл прощения молить за нашу неосторожность, милостивая госпожа. — Степан вспомнил, чему когда-то учили его в доме боярина Корнея.
Он достал перстенёк и протянул вдове:
— Вот, прими в покрытие вины моей нечаянной.
Вдовица зарделась, как молоденькая девушка, взяла перстень, полюбовалась и вернула Степану:
— Не по вине подарок, добрый молодец, не могу принять.
— Вот дурища, — рявкнула воеводиха.
Степан понял, что в ней найдёт сторонницу, и обратился:
— Может, старшая сестра за меня слово замолвит? — Он снова протянул перстенёк.
Глаза старой воеводихи жадно блеснули, она вожделенно схватила перстень и стала пристально его разглядывать.
Отрезая женщинам путь к отступлению, из опасения, что старшая сестра вдруг передумает, Степан поклонился низким поклоном и пошёл к двери.
— Увидим ли мы тебя ещё, дружинник? — спросила вслед младшая.
— Завтра возвращаюсь в дозор, — ответил Степан и вышел.
Добираясь по раскисшей улице до молодечной избы, он думал, что, конечно, неплохо было бы остаться здесь на несколько дней и поближе познакомиться с молодой вдовицей. В мыслях вдруг возникла боярыня Дурная, и его обдало жаром точно так, как бывало обычно в неспокойных снах.
— Ну что? — спросил Юшка.
— А ничего. Завтра возвращаемся в дозор.
— До завтра ещё целый вечер и ночь.
— Не болтай!
— Зачем перстенёк-то отдал?
— За вину поклонился.
— Повинился, поклонился... что-то не верится мне. Слова у тебя какие-то округлые... — Юшка отлично видел, как друг всё больше и больше смущается и раздражается.
Степан действительно злился, но не на Юшку, а на самого себя. Вся затея с перстеньком показалась глупой, никчёмной и даже постыдной.
— Перстеньки, они ведь на дороге не валяются. Собаке под хвост... — сказал Юшка, но, заметив хмурый взгляд друга, умолк на полуслове.
Степь просыпалась после зимней спячки стремительно и бурно. Чуть ли не в один день всё зазеленело, воздух зазвенел от птичьего пения, невидимое зверье сновало по степи, оставляя за собой лишь на краткий миг след — волнующийся ковыль. Это только незнакомому со степью человеку кажется она мёртвой пустыней, навевающей тоску. За один год Степан подружился со степью, научился читать её, как добрую знакомую книгу. Про Юшку и говорить нечего, он освоился ещё быстрее Степана, даже овчинную безрукавку стал носить мехом наружу, по-татарски, утверждая, что так куда удобнее — годится и под доспех, и на доспех. Однако своих коней, рослых и тяжеловатых, ни Степан, ни Юшка не думали менять на татарских выносливых, юрких лошадок, хотя и не раз замечали, как, неказистые на вид, они стремительно уходили от противника, легко перенося долгую скачку. Зато русские лошади были незаменимы в сече: боевой тяжёлый конь, да ещё с кольчужным убором, налетал грудью на вражескую лошадь и сбивал её с ног.
...Они неторопливо ехали едва заметной тропкой, время от времени останавливаясь, вставая на седло и оглядывая степь. Татары появились внезапно. Видимо, они поджидали русских, лёжа с конями в высоком ковыле. В быстрой сече Степан зарубил одного, другого свалил Юшка. Не одержав лёгкой победы, татары умчались...
Степан почувствовал сильную боль в руке. На рукаве появилось кровавое пятно. Юшка подскакал, они осмотрели руку и обнаружили глубокую рану, из которой текла кровь. Юшка попробовал остановить её всеми известными ему способами, но кровь продолжала течь. Степан на глазах бледнел, покрываясь холодным потом, у него закружилась голова, тело опутала липкая паутина противной слабости.
Пожалуй, впервые Юшка растерялся. Что делать? До заставы два часа езды, а до городища вообще целый день. И помогут ли ему на заставе? Там такие же, как и он, простые воины. А довезёт ли он Степана до городища? Юшка торопливо перевязал ремнём раненую руку выше раны, прикрутил Степана арканом к седлу и погнал коней во весь опор.
Степан не дотянул до городища совсем немного: потерял сознание и, обмякнув, привалился к шее коня. Так, с повисшим, словно большая тряпичная кукла, другом и въехал Юшка в ворота крепости. Старик охранник, раньше служивший в их же сотне, покачал головой и посоветовал везти Степана к воеводихе.
— Улести, умасти. Она баба умелая, посули ей чего-нибудь.
Но сулить не пришлось — воеводиха только взглянула на бесчувственного Степана и сразу распорядилась нести его в дом.
Юшка помог двум женщинам и слуге нести тяжёлое обмякшее тело. Степана положили на просторное ложе. Едва успел Юшка снять с него сапоги, как воеводиха прогнала его и сама занялась раненым.
Утром следующего дня Юшка пришёл с дарами.
— Иди, иди прочь, спит твой Степан и до полудня спать будет, если не дольше. Крови потерял много, ему сейчас сон — лучшее лекарство. Ночью проснулся, ковш молока выпил и снова заснул. — Воеводиха всё это выпалила, не пуская Юшку на крыльцо, но дары приняла.
Юшка едва дождался полдня и опять пришёл к воеводиному дому.
На этот раз выглянула младшая сестра.
— Спит, — сказала она с улыбкой. — Просыпался, тебя спрашивал, ещё ковш молока выпил и опять заснул.
— Можно, я тут посижу? Может, понадоблюсь, — несмело спросил Юшка. — Мало ли что... до ветру сводить... мужик всё же...
— Иди, иди! До ветру... — передразнила женщина. Юшка подумал, что она не намного и старше Степана, особенно когда улыбается. И совсем не похожа на старшую сестру. Та от сварливости рано состарилась и стала походить на бабу-ягу...
Степан лежал на мягком ложе в небольшой светёлке и с удивлением оглядывался по сторонам. Ларь, лавка, стены, обшитые струганным светлым деревом, оконце, затянутое бычьим пузырём... Всё незнакомое, чужое. «Ничего не понимаю», — подумал он и пошевелился. Заныла рука.
— Где же я? — сказал он вслух с некоторым беспокойством.
Приоткрылась дверь, и заглянула молодая женщина. Лицо без головной повязки показалось ему смутно знакомым.
— Отоспался? — певуче спросила женщина.
— Отоспался, — ответил Степан. — Как я сюда попал?
— Твой слуга привёз тебя к нам.
— Он мне не слуга, а товарищ и стремянный. Юшка зовут.
— А тебя Степан, — улыбнулась женщина. — А я Настасья.
— Настя, — повторил Степан.
— А сестру мою зовут Ульяна. Она травы ведает и кровь останавливает.
— Вот оно что... — Степан хотел спросить, долго ли он лежал в беспамятстве, но женщина вдруг исчезла, и дверь закрылась.
Через некоторое время дверь вновь отворилась. Вошла воеводиха, а за ней Настя.
— Оклемался, голубчик? Вот и ладно. Теперь на поправку быстро у меня пойдёшь. — Ульяна приказала сестре: — Помоги мне его повернуть и уходи.
Настя повиновалась. После её ухода Ульяна долго и заботливо распелёнывала Степана, отрывая холстины с запёкшейся раны. Потом смазывала снадобьем и перевязывала заново. Руки у неё, в отличие от слов, были ласковые.
Вечером приходил Юшка. Чуть позже навестила Настя, сидела, перекидываясь с ним незначащими словами, до прихода сестры. Та только взглянула строго, и Настя, ни слова не говоря, исчезла. На следующий день будто мимоходом вновь заскочила. Степан спросил о муже, и она рассказала обычную для приграничных мест историю его гибели. Послышались тяжёлые шаги Ульяны, Настя стремительно выскочила из светёлки. До слуха Степана донёсся сварливый голос старшей:
— И что ты, как блудливая кошка, всё к нему? Мужиком пахнуло?
Неожиданно для себя Степан почувствовал, что покраснел от ненароком услышанных слов.
Целый день Настя не появлялась. Зато долго сидел Юшка. Он освоился в доме, даже принёс дудочку и немного поиграл, задумчиво глядя куда-то поверх головы Степана. Неслышно отворилась дверь, вошла Ульяна и встала у притолоки, подперев щёку рукой. Степана поразило выражение её лица, отрешённо-печальное, и главное — доброе.
Следующий день прошёл тихо, с той только разницей, что Юшка играл значительно дольше, и в светёлку поднялись обе сестры. Потом они отвели парня в поварню и, как рассказал вечером Юшка, накормили до отвала вкуснейшими пирогами.
Степан договорился с другом, что завтра с его помощью выйдет на улицу, пройдётся, разомнётся, подышит свежим воздухом.
— Вишь, на мне всё как на собаке заживает — быстро и без хлопот.
— А лечение Ульяны?
— Это да, она знахарка отменная, — согласился Степан.
Ночью его разбудил еле слышный скрип. Он приоткрыл глаза — в темноте смутно угадывалось что-то светлое у двери. Дверь опять скрипнула — кто-то притворил её и накинул изнутри щеколду. Сердце забилось. Светлое пятно приблизилось, это была Настя. Она осторожно улеглась рядом, сразу пахнуло жаром горячего женского тела...
Через две недели Степан оправился настолько, что смог сесть на коня. Он переехал из дома воеводихи в избу, которую присмотрел Юшка, чтобы не жить в молодечной. Юшка обставил её по своему разумению, даже нашёл бабу вести хозяйство. По совету Ульяны, он отыскал печника-черниговца, умеющего складывать печи с дымоходом. Всё это Юшка успел сделать, пока Степан отлёживался в доме воеводихи. Теперь Настя прибегала к нему чуть ли не каждую ночь, и Юшка ворчал, что от такой жизни старые раны откроются, не то что новые заживут.
В конце декабря 1371 года примчался заледеневший от долгой скачки гонец от князя Олега Ивановича. Он рассказал, что Москва напала на Рязань. Стремительно растущий в милостях московского великого князя воевода Дмитрий Волынский по прозвищу Боброк вступил в рязанские пределы, разгромил превосходящие силы рязанцев, прогнал Олега Ивановича и посадил на древний стол князя Владимира Пронского.
— Пронские завсегда между Москвой и Рязанью, как навоз в проруби, болтались, — сказал гонец смачно, — теперь Олег созывает разбросанные по границам и засекам верные ему войска.
Сотник, выслушав гонца, долго кряхтел, водил пальцем по столешнице, словно чертил воображаемый харатейный чертёж[33], и наконец принялся многословно и путано говорить о том, что все — и лазутчики, и чумаки, и купцы, едущие с юга, дружно говорят о нарастающем беспокойстве в Диком поле, о сбивающихся в ватаги ордынцах, ожидающих только клича вожака, чтобы ринуться на север.
Степан сообразил, что за всем этим многословием скрывается простое и понятное желание сотника отсидеться здесь, на меже, в отдалении от княжеских усобиц, выждать, чтобы знать наверняка, кто победил, и тогда только поспешить к победителю. Он хотел было сказать сотнику, что не подобает так поступать воину, присягавшему Олегу, но передумал и подождал, пока стремянный уведёт гонца в баню с дороги. Плотно закрыв за ними дверь, он сел напротив сотника, застывшего в тяжком раздумье в красном углу под закопчённым образом Спасителя:
— Думаешь переждать здесь, вдали от усобиц?
Сотник вздрогнул, но, взяв себя в руки, не стал юлить и ответил с едва приметной усмешкой:
— Неужто столь нелепо желание моё?
— Да как раз впору придётся, ежели себя перевёртышем полагаешь.
— Я не перевёртыш.
— А кто?
Сотник засопел, отпустил руку под стол, примериваясь, как сподручнее опрокинуть тяжёлый стол, чтобы придавить нахального юнца. Но не успел — Степан резко навалился на стол, двинул его так, что невозможно было высвободиться, и негромко сказал:
— Сиди тихо, Иван. Я уже не тот стригунок, что два года назад. Могу и зашибить.
— Мал ещё, — прохрипел сотник.
Степан надавил на столешницу сильнее, она упёрлась в мощное брюхо сотника, мешая дышать.
— Вот то-то, дядя, — удовлетворённо сказал Степан. — А то мне ведь недолго и Юшку кликнуть.
Сотник представил льдистые, безжалостные и одновременно насмешливые глаза стремянного и замотал головой. Со Степаном он смог бы справиться, но с этим — избави бог! Хотя что мог бы сделать Юшка здесь, в собственной Сотниковой избе, в городке, где все воины подчиняются ему? И всё-таки сдерживал безотчётный страх.
— Ладно, езжай, — сказал едва слышно.
— С полусотней.
— С ума сошёл! С двумя десятками, — принялся торговаться сотник.
Два десятка означали всего лишь охрану, а никак не подмогу князю.
— Неужто ты и впрямь считаешь, что так просто согнать Олега с рязанского стола?
— Пронские — те же рязанские, одного корня, только младшая ветвь, — ушёл от ответа сотник.
— Ежели так считаешь, то и рязанские с владимирскими одного корня, только другая ветвь. Да ладно, Иван, некогда мне тут с тобой рюриковские колена высчитывать. Полусотня! И не забывай: я — не ты. Я княжеский дружинник, князю клятву верности принёс. Пока он первым дружинную клятву не нарушит, я эту клятву не преступлю. На что угодно пойду!
— Хорошо, бери полусотню, — неожиданно согласился сотник. — Только поклянись, что князю не расскажешь о нашем разногласье!
— Какому князю? — хитро глянул Степан.
— Какому-какому, вестимо, нашему, — ответил сотник и ухмыльнулся.
— Ладно, не скажу, — кивнул Степан, — но и клясться не стану.
Глава семнадцатая
Олег яростно нахлёстывал выбивающегося из сил коня. Конь храпел, дышал надсадно, что-то в нём ёкало, но Олег, обычно заботливо и чутко улавливающий состояние своего любимца, не переставал работать плетью: во что бы то ни стало надо было успеть в Переяславль до того, как там появятся победители, предупредить жену, семьи близких бояр, увести всех в заокские леса.
Там, позади, на Скорнищевом поле, догорала битва. Нет, не битва — позорное побоище.
Кто мог подумать, что этот пронский князёк, родственничек, выкормыш, окрепший за широкими спинами рязанцев, осмелится поднять меч на него, Олега, стакнувшись с Москвой!
Кто мог подумать, что Москва пошлёт на помощь Владимиру Пронскому не кого-нибудь, а прославленного Волынского воеводу князя Дмитрия Михайловича, по прозвищу Боброк, уже успевшего заявить о себе здесь, в Северной Руси, несколькими победами.
Олег оглянулся. Десяток вырвавшихся вместе с ним из сечи дружинников растянулся по дороге.
— И это всё? — Мысль мелькнула, но тут же исчезла. В голове в такт бешеному топоту копыт билось одно: успеть предупредить, увести, успеть, успеть...
Дружинники, мчась по улицам Переяславля, неистово выкрикивали:
— Уходите! Уходите, пронские идут!
Олег молчал. На подъёме к детинцу конь захрапел и споткнулся. Князь спрыгнул с седла, не глядя на покрывшегося пеной коня, побежал вверх.
В княжеском тереме холопы укладывали вещи. Ему встретились двое, с натугой тащившие сундук из библиотеки.
«Кто-то предупредил», — отрешённо подумал Олег, с горечью вспомнив загнанного коня.
Навстречу вышла княгиня. Увидела мужа, замерла, в глазах метнулась боль, чёрные брови страдальчески надломились. Она порывисто вздохнула, но, взяв себя в руки,спросила:
— Страшный разгром?
— Страшный.
Княгиня прижалась к мужу, поцеловала в русую, всегда тщательно подстриженную, но сегодня встрёпанную бородку и умолкла, прильнув к нему всем телом, словно хотела убедиться, что он жив и с нею.
— Кто упредил?
— Епифан. Вьюношу на татарской лошадёнке прислал.
«Епифан? — ударило в голову. — Епишка... остался там с засадным полком у Скорнищева бора». Хотелось взвыть. Князь трудно сглотнул, отчего кадык дёрнулся, спросил деловито, сдерживаясь:
— Давно малец прискакал?
— Да уже часа два... Я сразу велела начать сборы. И в город глашатаев послала.
Два часа назад? Олег не сразу понял. Ах да, часы... Не так давно он подарил жене византийскую водяную игрушку, клепсидру, измеритель времени — каждый час серебряный шарик падал, высвобожденный напором воды, на бронзовую пластинку, и раздавался мелодичный звон. Княгине страсть как понравилась греческая выдумка, и она с упоением стала следить за утекающим вместе с водой в клепсидре временем. Олегу же казалось, что мелодичный звон напоминает похоронные колокола, провожающие невозвратную частицу бытия. Жена посмеивалась, возражала, что это праздничный перезвон, встречающий новое время.
Боже мой, о какой ерунде он думает!
— Вели конюшему за моим Воронком послать, упал у самого детинца. Может, отдышится, выживет.
Теперь, когда Олег убедился, что жена всё взяла в свои маленькие, но крепкие руки, можно было подумать и о верном коне, и ещё о чём-то, чего он никак не мог вспомнить, как ни силился. Мысли сбивались, путались, вдруг смертельно заболела голова, в том самом месте, где несколько лет назад оставил отметину татарский меч. Он поднял руку — шлема на голове не было. Когда он снял его? Или потерял? Князь пошатнулся и тяжело опёрся о дверной косяк.
Мещёрский[34] князёк Лександра Укович, невысокий, коренастый, белобрысый и, как многие из его племени, родственного белоглазой веси, что жила на севере, светлоокий, встретил рязанцев с откровенной радостью. Ничего в том удивительного не было — за каждый день, что скрывались они у него в непроходимых топях и лесах, платили звонким серебром либо редким для мещеряков византийским красным товаром.
— Однако твой терем ждёт тебя, Олежка, — сказал князёк, чуть заметно растягивая гласные в русских словах.
Светло-голубые, слегка выцветшие глазки на широком лице сощурились, и он вдруг стал похож на ордынца при всей своей весской белобрысости.
Олег Иванович поморщился, услыхав обращение «Олежка», но что делать, сейчас он был всецело во власти Уковича: хитрый мещеряк не упустил возможности показать, что сознает это.
— Понимаешь, Ляксандра, не успел я всех воев собрать с межи, с юга, с литовской границы. Пришлось ополчение поднимать, а оно, хоть и многочисленное, но в бою, сам знаешь...
— Ты не оправдывайся, брат, — сказал спокойно Укович.
— Я не оправдываюсь! — вскипел Олег.
— Оправдываешься — перед собой. Мы тут, хоть и в болотах сидим, однако знаем, не твоему ополчению с полками Боброка сражаться. Говорят, булгар он, как игла сквозь рядно, прошёл, и к покорности привёл, и дань взял по своей воле.
Войдя в терем, в котором не раз жил, скрываясь во время татарских налётов, Олег, пересказав жене свою беседу с Уковичем, раздражённо спросил:
— Зачем он при мне Боброка возвеличивал?
— Он не Боброка возвеличивал, а горечь от твоего поражения пытался смягчить, — по-женски мудро рассудила Ефросинья.
Утром она разбудила Олега чуть свет с радостным известием: Епишка с большей частью дружины вышел из гатей и приближается к селищу. О том неведомыми путями уже прознали местные жители и доложили своему князьку.
Словно камень упал с плеч Олега — накануне полночи вертелся он на ложе, мучаясь мыслями, что бежал, предал, оставил и дружину, и лучшего друга. Слава те, Господи, хоть Епишка спасся...
Далеко не все рязанцы ушли в леса перед приходом объединённых пронских и московских полков. Большинство остались. Они полагали, что не станут свои, русские, вести себя так, как нехристи. И не ошиблись. Если ордынцы приходили пограбить, урвать, схватить всё, что можно увезти во вьюках к себе в степь, то соседи пришли с надеждой остаться и владеть, а для того — пронским ли князьям, московским ли — нужен был в первую очередь смерд, землепашец, сидевший на земле.
Так или иначе, рязанское коренное население осталось в своих селищах, и потекли к ним из мещёрских трясин ручейками лазутчики — один завернёт к сородичам в деревню, что недалеко от Переяславля, расспросит, обнадёжит, другой и того более — прямо к знакомцам в город пойдёт, третий покрутится на подоле — так в Рязани ещё с древних, киевских времён называли место торга, хотя это старинное русское слово и вытеснялось занесённым ордынцами звонким — базар.
Каждый день в хату, где по старой памяти поселился Епифан Кореев, приходили лазутчики, побывавшие на родной земле, приносили неутешительные сведения: пронские устраиваются прочно, князь Владимир уже сел на рязанский стол и приказал величать себя великим князем. У стола всё чаще появляются рязанские бояре, бьют челом, хлопочут о сохранении вотчины.
Молодой Кореев не обо всём сообщал своему князю — оберегал. Каждое новое известие о предательстве ещё одного боярина повергало Олега в такое глубокое душевное расстройство, что иногда Епифан, а вместе с ним и Ефросинья опасались за его рассудок. Нет, не мог он смириться с тем, что ближние люди, други, стоявшие с ним стремя в стремя во многих битвах, вдруг во имя сохранения своих вотчин побежали к Володьке Пронскому с изъявлением покорности.
— Ничего удивительного, княже, — рассудительно уговаривал его молодой Кореев. — Все едины и верны, когда враг-ордынец. Иное дело, если пришёл свой, от века близкий сосед, почти что родственник. Пусть привели москвичей, пограбили немного, пожгли в горячке — сие простительно, ибо так исстари поступали деды и прадеды во время княжеских усобиц.
Олег кивал. Он и сам всё понимал, но всё же: почему именно сейчас Дмитрий Московский решил встрять в давний спор между Рязанью и Пронском, между великим князем и вассально зависимым от него удельным, двоюродными братьями, происходящими из одного, черниговского, корня? В отместку за давно захваченную, ещё при его отце, тихом Иване, Лопасню? Или есть у Дмитрия Ивановича иные, более грозные для Рязани намерения? Не зря же он в центре Залесской Руси первым каменный кремль выстроил! Не только против ордынцев.
Как-то после очередного долгого и бесплодного спора Епифан даже предложил поехать тайно к Дмитрию Московскому, поговорить с ним по душам. Олег было согласился, но с условием: ехать не к Дмитрию, а к митрополиту Алексию. Как ни близок он Москве, а церковь на Руси одна, и должно ей в первую очередь о русском единении помышлять. Но сам же и раздумал, ибо в своих рассуждениях увидел неопровержимое доказательство тому, что церковь, тайно ли, явно ли, всегда будет стремиться помочь Москве подмять все земли под себя и объединить Русь.
Объединить — благо.
Под Москвой — благо ли?
Опять мысли возвратились к Лопасне. Издревле принадлежала она Рязанскому княжеству. Только воспользовавшись слабостью Рязани, оттягала Москва её после страшного Батыева нашествия. Конечно, правы были бояре, что настаивали на захвате Лопасни — нет, не на захвате, на возвращении. Он, тогда совсем ещё мальчик, не допустил дальнейшего развития усобицы. Не потому, что уже тогда разбирался лучше многоопытных бояр в сложных взаимоотношениях с северным соседом. Интуитивно понял, что не следует перегибать палку. Через десяток лет, при первом удобном случае, договорился с Дмитрием, что Лопасня останется за Рязанью и что сие будет надлежащим образом скреплено в договорных грамотах как плата за помощь москвичам в очередном столкновении с Ольгердом Литовским.
Мысли побежали на далёкий Запад.
Ольгерд — вечная заноза в теле русских земель. Воинственный, жадный, хитрый, изворотливый. Нашёл себе союзника в лице тверского великого князя, давно люто ненавидевшего Москву. Нет, не Дмитрия, вообще Москву, ибо полагал, что именно ей, Твери, надлежит стать центром единой Руси, там быть великому столу и там быть митрополичьей кафедре.
Враг Дмитрию — союзник Ольгерду.
А он, Олег, — Дмитрию враг?
Ежели судить по тому, что сделал с ним Дмитрий, послав мощные полки под водительством Волынца, — враг.
Но почему-то Олег не чувствовал в нём врага. Вот Володька Пронский, двоюродный брат, — тот да. Хуже врага, предатель: в спину ударил. А Дмитрий — что ж, Дмитрий князь своей земли, о ней его первая мысль. И если появилась возможность не отдавать Лопасню, почему бы ею ни воспользоваться, тем более что место это в стратегическом отношении очень важно для обороны Москвы от Дикого поля.
«В чём-то мы с ним неразрывны, — думал Олег. — Он меня от литовских жадных рук прикрывает, я его — от ордынских. Так что же получается — Дмитрий меня побил, а я его оправдываю?»
Олег стоял у затянутого бычьим пузырём окошка, смотрел невидяще во двор, погруженный в мысли о Москве, Рязани, Литве, Орде, о том, как странно и нелогично переплелось всё в этом, 6879-м от сотворения мира[35] году, переплелось и выплеснулось в кровавой сече на Скорнищевом поле, где остались лежать лучшие его воины...
Глава восемнадцатая
Васята с трудом раскрыл глаза. Прямо над ним низко-низко проносились тучи. Накрапывало. Капли дождя стекали по лицу, заползали под кольчугу, холодили шею. Он попытался приподняться на локте, и в тот же миг нестерпимая боль пронзила всё тело. Последнее, что увидел перед тем, как провалиться в черноту беспамятства, был яркий свет и склонившееся женское лицо.
Второй раз Васята пришёл в себя на несколько мгновений от резкой боли в левой руке. Он лежал на чём-то жёстком, его нещадно трясло, голова моталась из стороны в сторону, и всё так же накрапывал дождь. Чьи-то заботливые руки приподняли его голову и подсунули под неё солому. Он догадался, что его везут в телеге, хотел спросить, как закончился бой, но тут телегу тряхнуло на колдобине, левую руку вновь пронзила дикая боль, отдаваясь во всём теле, и он опять потерял сознание.
В третий раз Васята очнулся от того, что кто-то заботливо протирал ему лицо чем-то мокрым. Девочка лет девяти, высунув от усердия язык, смачивала холстинку и тёрла ему щёки. Увидев, что глаза открылись, она бросила холстинку в миску с водой и закричала радостно:
— Мама, мама! Он смотрит!
В стороне от лежанки что-то стукнуло. Васята скосил глаза на звук и увидел, как из темноты появилась статная женщина. Лицо показалось ему смутно знакомым. Женщина на мгновение остановилась, вглядываясь, словно не веря своим глазам, потом шагнула, прижала к себе девочку и выдохнула:
— Слава тебе господи!
У Васяты мутилось в голове, лицо женщины то приближалось, то удалялось, расплываясь, то вместо него возникала бородатая рожа московского воина, страшным ударом срубившего его. Он прошептал:
— Мы победили?
Женщины вскинулась, отстранила девочку, лицо её скривилось, словно она вот-вот заплачет, но вместо этого она вдруг воскликнула с неожиданной злостью:
— Василий Михайлович. Ты незнамо как жив остался, а туда же — мы победили?
«Откуда она моё имя знает?» — удивился Васята, хотел было спросить женщину, но та продолжала всё так же раздражённо:
— Десять дён в беспамятстве валялся, думала, вот-вот Богу душу отдаст, а он сразу, как пришёл в себя, спрашивает: «Победили мы или нет?» Да разбили нас, разбили, наголову разбили! — выкрикнула она с ожесточением. — Олег Иванович сбежал в Мещеру, всех бросил. В городе пронские да московские хозяйничают... Князь Владимир Пронский на рязанский стол сел. Кто ему крест на верность не поцеловал, тех в узилище бросили. Как же, победили... — Тем же громким гневным голосом она приказала дочери: — Сбегай на двор, в летник, там на печке молоко тёплое. Да не в крынке неси, в миску налей и ложку возьми!
Девочка убежала, а женщина, постепенно успокаиваясь, продолжила:
— Как воевать собирались, кричали: «Слава! Слава!» А сами от одного вида москвичей разбежались. Они теперь тут грабят, убивают... Дом сожгли... зачем? Ну, забери, что унести можешь, а жечь-то зачем? Хорошо хоть хлев остался, — она обвела рукой каморку, — да летник с печью. Мужа убили, сына Олег Иванович в свою дружину забрал, увёл в Мещеру. А мы с дочкой остались. Здесь, в хлеву зимовать будем...
Она вдруг зарыдала и упала Васяте головой на грудь, отчего и без того едва переносимая боль захлестнула его, как удавка:
— Васятка, как же я тебя на том страшном поле углядела!
Она подняла залитое слезами лицо, и Васята внезапно узнал её, понял, почему с первого взгляда показалась знакомой. Вспомнил и брови вразлёт, и чёрные глаза, и певучий грудной голос, и по-девичьи тонкий стан с высокой грудью. Даша! Дашутка! Та самая, что сосватал он когда-то князю. Та самая, что сосватал он когда-то князю, и была она у Олега первой. А у неё, Даши, он, Васята, был первым, ещё за полгода до князя. Сын, коего она упоминала, — княжеский сын... Девочка же, выходит, от огнищанина, того самого, за которого он её по княжескому приказу выдал.
Преодолевая боль, он выпростал из-под рядна, которым укрыла его Дарья, правую руку, ласково приподнял её голову, поглядел в огромные, полные слёз глаза и сказал:
— Ты меня спасла, Даша!
Та зарыдала ещё сильнее. Сквозь всхлипы он разобрал: «Узнал...»
Вернулась девочка, принесла миску с молоком. Вытирая слёзы, Дарья принялась заботливо поить его с ложки. Молоко было козье, жирное, Васята глотал с трудом, но было вкусно. После нескольких ложек в ушах зазвенело, лицо Дарьи стало расплываться, и он в который раз потерял сознание.
Пришёл Васята в себя, когда Дарья всё той же мокрой холстинкой обтирала ему лицо.
— Я тебе в тягость буду, — прошептал он, высказав то, о чём успел подумать перед тем, как провалиться в беспамятство.
— Что ещё надумал — в тягость! — певуче сказала она и вдруг нахмурилась, спросила с обидой: — Иль тебе зазорно в хлеву лежать? Так нету у меня теперь дома, спалили дом-то московские. Нетто стала бы я тебя в хлеву держать, если б дом был? Мы хоть и не в городе живём, а всё про город знаем. Батюшка твой, боярин Михаил Васильевич, — она перекрестилась, — на том проклятом Скорнищевом поле остался лежать. А матушку великая княгиня в Мещеру увезла. Ты уж прости, что сразу не сказала.
Васята долго молчал. Перед страшным известием боль куда-то отступила. Нет батюшки... нет... Мысль была невыносима.
— А что с отцовской дружиной, знаешь?
— И дружины нет, все полегли в том бою. Съешь ещё ложечку, Василий Михайлович, тебе силы нужны, — сказала Даша.
Казалось, все беды человеческие навалились разом. Но самая страшная, чудовищная, непереносимая ждала Васяту на следующий день.
Утром Дарьина дочка умывала его из лоханки.
— Как тебя зовут, маленькая? — спросил он.
— Я не маленькая, — серьёзно ответила девочка, и он поразился, какие у неё большие, взрослые глаза.
— Хорошо, не маленькая. Так как тебя зовут?
— Маша.
— А почему ты такая серьёзная, Маша?
— С чего веселиться-то? Мамка сказала, что зимой с голоду будем пухнуть.
— Не бойся, я оклемаюсь, встану, начну по хозяйству помогать, перебьёмся.
— Чем ты поможешь? — спросила девочка и уточнила: — С одной рукой-то?
— Почему с одной? — удивился Васята.
— Так ведь шуйца[36] у тебя отрублена, али не чуешь?
— Чего ты, Машенька, городишь?
Васята откинул правой рукой рядно, повернулся так, чтобы взглянуть на левую руку, и чуть не закричал от ужаса: вместо руки лежал обрубок, замотанный окровавленными холстинами. Он попытался пошевелить им, и сразу же ударила знакомая боль. Васята закусил губу, чтобы не закричать. Маша деловито сказала:
— Лежи, болезный, тебе вредно двигаться. Так мамка сказала. А ещё в тебе две стрелы было, она их сразу там, на поле, вытащила, пока ты без сознания лежал. И культю смолой залила, чтобы антонов огонь не начался.
Васята ничего этого не слышал. В голове билась одна-единственная мысль: без руки — не воин. Калека! Если бы он был мужем совета, воеводой или даже сотником... Но он воин, просто воин, умелый, сильный, отчаянный, смелый. Как же теперь? Воин без руки не бывает.
И, словно насмехаясь, вдруг засвербело в пальцах левой руки. Он дёрнулся — пальцы заныли сильнее...
Глава девятнадцатая
Как ни спешил Степан выполнить приказ великого князя, а к сражению на Скорнищевом поле он со своей полусотней опоздал. Уже на полдороге к Переяславлю его встретила волна самых противоречивых слухов, но общий смысл был един: рязанцы потерпели страшное поражение.
Степан решил идти в обход привычных дорог, через восточные малолюдные волости. Он вёл полусотню осмотрительно, не гнал, коням давал роздых, вперёд выставлял сторожу, словно шёл по вражеской земле, а не по родной, рязанской, с детства знакомой.
По слухам, Пронские утвердились вокруг Рязани и в местах, сопредельных с Московским княжеством, а Олег Иванович ушёл с оставшимися ему верными боярами и полками на восток. Во всяком случае, так можно было судить по путаным и сбивчивым рассказам жителей притаившихся деревень.
Чем ближе к бассейну могучей Оки, тем чаще стали попадаться селения: можно было уже примерно представить, где искать воинство Олега Ивановича. Степан решил остановиться на последний перед решающим переходом ночлег в маленькой деревушке, но неожиданно из наползающей тьмы возникли конники.
— Кто такие? — гаркнул верховой, не приближаясь к околице.
— А вы кто? — вразнобой ответили вопросом на вопрос несколько Степановых воинов.
— Русские. — Верховой для убедительности добавил крепкое словцо.
— Вестимо, не татарва, — хохотнули в ответ.
Сам Степан, пока воины перекрикивались, успел проскакать на противоположный конец единственной деревенской улицы и обнаружить верховых и здесь.
«Окружили, значит, — подумал удручённо. — А как же сторожа, что выделил, как делал всегда по привычке, выработанной на меже? Схватили? Если схватили, значит, знают, кто мы, и все эти переговоры для видимости, а сами готовят нападение...»
— Эй, пронские! — крикнул он. — Надо ли русскую кровь проливать без толку? Мы с межи идём.
— А раз с межи, то складывайте оружие, — закричал всадник, похоже, воевода в пронском войске.
— Мы сложим, а вы нас порубите?
— Так вы же русские, — ответил всадник.
Неведомо как рядом со Степаном появился Юшка с двумя заводными конями.
— Сбить воев в кулак и прорваться мы уже не успеем, — сказал он деловито, — а вот вдвоём попробовать можно.
— Ну, как это я их покину? — возмутился Степан.
— Так что, земляк? — опять крикнул воевода. — Я гляжу, долго ты раздумываешь. У тебя полусотня, а у меня две сотни, считай да решай побыстрее.
Ещё некоторое время Степан и пронский воевода продолжали перекрикиваться столь же бессмысленно: и тому и другому было ясно, что стычка приведёт только к ненужным жертвам с обеих сторон. Степан продолжал нелепую перебранку лишь для того, чтобы хоть как-то придать событиям видимость сопротивления.
Наконец он отдал приказ. Его люди сложили оружие, все вместе — пронские и рязанские — разбрелись по нескольким избам, набившись в них, как огурцы в кадушки и приговаривая извечное русское: в тесноте, да не в обиде.
Воевода оказался по женской линии в родстве с боярином Корнеем. Они со Степаном разговорились, выпили — у воеводы в баклажке нашлось на две добрые чарки мёду. Прончанин мимоходом спросил, чего ради Степан с полусотней едет к князю Олегу. Для подкрепления вроде маловато людей, так зачем границу с Диким полем оголять?
И тут Степана осенило.
Он помялся, изображая сомнение, и сказал:
— В конце концов, мы оба русские, и ты должен знать: стало мне известно, что Орда в низовье Дона сбивается.
— И ты молчал! — воскликнул воевода. — Выкладывай всё, что знаешь!
Степан принялся рассказывать. Надо признать, что молодой воевода вопросы ставил толковые, — видно, успел потоптать землю на своей меже. Степану пришлось врать осторожно, с оглядом, прикидывая, как бы сказать не много, но в то же время достаточно, чтобы тот поверил. Чем больше вопросов задавал воевода, тем больше верил Степан, что, пожалуй, внезапная придумка его не столь уж нелепа.
Дальнейшие события это подтвердили. Воевода, чертыхаясь, написал донесение и поздно ночью отправил гонца в Переяславль к князю Владимиру Пронскому. На следующий день Степан узнал от Юшки, что обе сотни пронских уже шушукаются об ожидаемом приходе татар. Знают об этом и бабы в тех домах, где стоят войска. К полудню вернулся смертельно усталый гонец, привёз повеление князя Пронского везти Степана в столицу, а полусотню его держать под охраной и следить, чтобы не болтали зря языком.
Но слухи о татарах уже ползли от селения к селению, от городка к городку, и когда воевода доставил Степана в Переяславль, слух гулял уже и здесь. Степана привели к ближнему боярину князя Пронского, и он повторил ему всё, что говорил раньше. То же самое он рассказал самому Владимиру Пронскому, Князь выслушал, велел помалкивать и возвращаться к своей полусотне, сам же решил отправить в Дикую степь воинов из своей сторожевой сотни.
Степан понимал, что дело сделано: слухи, один другого тревожнее, уже разошлись по всей Рязанской земле, занятой войсками Пронского, попав на унавоженную почву — к этому времени многие из рязанских бояр, которые, прельстившись обещаниями нового князя, остались в городе и целовали крест ему на верность, успели разочароваться. Кое-кто уже подался тайно к Олегу, укрепившемуся в восточных пределах княжества и в болотистой Мещере. Пошли разговоры, что посаженный Москвой на престол Владимир Пронский стар, недалёк умом, и порода не та, и рязанский стол ему не по росту. К тому же князь совершал одну ошибку за другой: принялся жаловать своих бояр землями, принадлежавшими древним рязанским родам. Зреющее недовольство усугубилось слухами о татарах. Простой народ поругивал князя Олега Ивановича в дни его величия за крутость нрава, высокоумие, вечные свары то с Ордой, то с Москвой, то с Ольгердом, за тяготы, налагаемые для увеличения дружины и полков. Но, недовольный, как всегда, своим князем в дни его благополучия, увидев Олега в несчастье, с истинно русским безотчётным состраданием к потерпевшему, народ начал глухо протестовать против правления Пронского.
Глава двадцатая
Январь прошёл незаметно — беглецы бывали здесь и прежде и потому быстро устроились, обжились, ходили на охоту, промышляя и пушного, и мясного зверя.
Февраль намёл сугробы у каждого бугорка, каждого пня, засыпал самую малую низинку пухлым щедрым снегом.
Это обеспокоило Олега Ивановича — вдруг по белоснежной нетронутой глади, что образовалась после метелиц на топях, враги переберутся через непроходимые в иное время года болота? Как ни успокаивал его князь Лександра, говоря, что по верху гладь, а под гладью — топь и чем глубже снег, тем зыбче топь, — рязанский князь не переставал волноваться. В конце концов решил сам сходить к болотам, проверить слова союзника и заодно поглядеть на далёкую родину с края межи.
Мещеряки в глубокий снег обычно бегали на лапах, похожих на русские лыжи, только широких, переплетённых лыком и обшитых шкурами короткошёрстных зверей.
Олег Иванович в поход к меже надел по совету князя Лександры такие лапы. Проводник быстро и ловко запрыгал впереди, скользя там, где снег уплотнился под напором ветров. За ним почти так же ловко двинулся дружинник из молодых. А вот Олег Иванович быстро взопрел, с непривычки хлопая широченными лапами.
Как определил проводник край болота, для князя осталось загадкой. Такая же ровная поляна, только, может быть, кустов поменьше.
— Вот смотри, князь, — сказал старший проводник и сунул срубленную лесину в сугроб. Она легко вошла в пушистый покров и упёрлась в скованную холодом землю. Проводник чуть надавил, и лесина опять так же легко, как в снег, пошла глубже. Он отпустил её. Лесина некоторое время торчала, потом едва заметно для глаза начала сама медленно погружаться в развороченный снег.
— Затягивает! — удовлетворённо улыбнулся проводник.
По дороге домой он рассказал князю, что под снегом, какой бы сильный мороз ни стоял на дворе, и под тонким слоем затвердевшей земли болото продолжает жить своей тайной жизнью, в нём ворочаются, перекатываются духи; на зиму они обычно устраиваются в самой глубине и дремлют, но чутко, не то что медведь в берлоге.
— Вроде нашей Макоши, — сказал сопровождающий князя дружинник.
Олег неторопливо брёл на лапах, постепенно осваиваясь, и думал о своём.
Лазутчики из Переяславля приносили странные вести: весь двор Пронских встревожен слухами о татарах, якобы собирающих в Диком поле несметные силы, чтобы обрушиться на русские княжества, и что путь их непременно ляжет через многострадальную Рязанскую землю.
Кое-кто из бояр уже сбежал от князя Пронского, ушёл в леса, кое-кто подумывает сняться с насиженных мест, но пока ещё не решается...
Олег вернулся, довольный своим походом, хотел пойти в баньку, но оказалось, что его уже ждали: явился с повинной старший внук удельного князя Милославского, княжич Ростислав. Видно, понял, что скоро кончится время Пронских, и тогда гнев великого князя падёт на изменников.
Князь не без удовольствия смотрел, как заносчивый княжич, вечно готовый ввязаться в усобицу, сидящий на своём куцем наделе в удельном княжестве деда, словно бойцовский петух на шестке, зыркая глазом — куда бы ударить, униженно молит простить его за глупость, не казнить и не лишать отчины. «Не был бы ты Рюриковичем, — подумал Олег, — заставил бы на коленях ползти через все дощатые сени».
Олег Иванович сидел на стольце в княжеском, сверкающем жуковиньем одеянии в окружении ближних бояр и, хоть были сени тесными, холодными и не убраны коврами, внушал трепет и почтение.
«Внука Милославского прощу, — думал он про себя. — Вот был бы на месте молодого княжича сам старик Милославский, так просто бы не отделался. Но ничего, придёт срок, я ещё повыдёргиваю волоски из его надушенной бороды».
— Встань, княжич, — сказал Олег нарочито мрачным голосом, чтобы провинившийся не уловил снисходительности.
Милославский продолжал стоять на коленях.
— Помогите княжичу встать, вины его к земле давят, — добавил Олег тем же голосом, не обращаясь ни к кому определённо.
Поднялся с лавки боярин Корней, спросил взглядом у молодого Кореева — не рано ли, и, уловив одобрительный лёгкий кивок, подошёл к княжичу.
У великого князя мелькнула мысль: княжич холост, а у Корнея дочь подрастает — уж не жениха ли боярин с колен поднимает? Если так, то это к добру — с Корнеем породнившись, княжич крепко будет привязан к Олегу. Такие, как Корней, крест на верность целуют лишь один раз, до самой смерти — либо своей, либо князя.
Милославский поупирался для приличия, потом позволил себя поднять и подвести к лавке в самом дальнем от княжеского стольца конце. По вине и место.
Открылась дверь, нарушая стройный, хотя и без истинной пышности, ритуал. Кто-то невидимый поманил молодого Кореева. Епифан, склонившись почтительно к самому уху великого князя, испросил дозволения и, получив его, неслышно вышел.
Олег Иванович обвёл глазами два десятка ближних бояр, теснившихся на простых лавках, подумал, что скоро, пожалуй, потекут к нему, как по весне ручейки текут в Оку, и другие. Милославский — тому пример.
Вернулся Кореев, так же неслышно прошёл к стольцу, прошептал на ухо князю:
— У гатей сторожа гонца от мурзы Саламхира задержала. Спрашивает князь Лександра, нужен тебе этот гонец либо завернуть его обратно, дабы своими татарскими глазами тайных путей не выведал.
— Мурза Саламхир? — протянул Олег, пытаясь вспомнить, какое место занимает мурза в сложной иерархии ордынских владык, чингисид он или потомок соратников великого хана.
— Из окружения Мамая, — подсказал Кореев.
Темник Мамай начинал постепенно беспокоить Олега. Именно он, Мамай, летом прошлого года способствовал, как сообщили верные люди и из Сарая, и из Москвы, получению Дмитрием ярлыка на великое княжение в обход Михаила Тверского. Не помогло Михаилу и заступничество Ольгерда, и то, что его сын, Иоанн Михайлович, находясь в Орде как заложник, свёл полезные знакомства с татарскими вельможами и постарался через них помочь отцу. Всем заправлял хитрый темник, необъяснимо почему благоволивший Дмитрию Московскому. Не так давно Мамай силой и хитростью объединил две Орды — Золотую и Волжскую и стал обоих полновластным хозяином. Но, не будучи чингисидом, то есть прямым потомком великого повелителя монголов, вынужден был править, стоя рядом с троном. Возможно, слово «стоя» неточно определяло сложившееся в объединённой Орде положение: Мамай посадил на трон и объявил ханом Мамат Султана, недалёкого, ленивого и покорного ему чистокровного чингисида, правил от его имени, особенно не заботясь о сохранении видимости власти в руках хана. Что ж, если мурза Саламхир из окружения Мамая ищет встречи, необходимо принять его как можно лучше.
— Придётся тебе, Епифан, ехать встречать мурзу.
Кореев поклонился, давая понять, что всё понимает и готов выехать в любое время.
Олег Иванович вспомнил о боярах, терпеливо ожидающих, когда он закончит шептаться с любимцем, и досадливо нахмурился — не к месту и не ко времени сейчас это подобие большой думы.
Спасибо, дворский догадался: встал, поклонился, спросил, нужны ли бояре великому князю в совете.
Олег с облегчением ответил, что благодарит за помощь, и отпустил всех, благосклонно улыбаясь.
Как только шедший последним боярин Корней протиснулся в дверь, — до чего медведеподобным стал, подумал Олег, — Кореев сказал:
— Саламхир-то совсем недавно в чести у Мамая.
— Это к тому, что новый любимец более жаден до подарков, нежели старый, уже насытившийся?
— Вот именно, князь.
Олег задумался. Вновь придётся открывать сундуки княжеской казны. Удивительно, что бесконечные поборы, взятки, подарки, подношения, поминки до сих пор ещё не истощили её, скупо пополняющуюся от скудных урожаев разоряемой земли. Но Епишка прав: к молодому Саламхиру следовало явиться с полными руками...
Без Боброка, давно уехавшего обратно в Москву, Владимир Пронский не смог оказать никакого сопротивления. Нескольких полков великокняжеского войска, нашедшего приют в мещёрских лесах на зиму, да полутумена[37] Саламхира оказалось достаточно, чтобы не только изгнать войско пронцев, но и захватить самого правителя в плен.
Владимир Пронский, грузный, с обильной сединой в недавно ещё густых, красиво вьющихся волосах, а ныне нечёсаный, с непокрытой головой, стоял в середине двора у великокняжеского терема в Переяславле, терема, где неполную зиму прожил хозяином, принимая бояр и удельных князей, где его взгляда ловили десятки расторопных холопов, терема, сохранённого им для себя и от пожаров, и от грабежей, и от жадных московских воинов, и смотрел в забранное фигурной золочёной решёткой оконце из разноцветных стёкол, за которым, как он догадывался, находился великий князь Олег Иванович, двоюродный брат, многолетний союзник, недавно им преданный.
Пронский смотрел на сверкающую в лучах весеннего солнца решётку, а сам мучительно думал о том, о чём не переставал размышлять с первых дней развала своего войска: почему вдруг Дмитрий Иванович Московский отозвал Боброка, оставив его один на один с младшим по возрасту и старшим по положению на княжеской лествице двоюродным братом?
Ответа не было. Терем, сохранившийся во всей своей резной красоте, молчал.
Владимир Пронский склонил голову.
Тишина.
Он медленно опустился на колени.
Тишина.
Он встал.
И опять лишь тишина в ответ.
Он повернулся и пошёл к воротам. Оглянулся. За цветным оконцем смутно угадывалась тень двоюродного брата.
Пронский постоял — тень не шевелилась. Он перевёл взгляд на двери высокого крыльца. Они оставались закрытыми.
Он повернулся и сделал ещё несколько неуверенных шагов. Вновь оглянулся. Подошёл вплотную к воротам.
Из бревенчатого сруба, где обычно несли службу воротные, никто не показался. Пронский толкнул боковую калитку, сбитую из толстых, в руку, дубовых досок, крытую листовой медью.
Калитка легко отворилась. Он шагнул и ещё раз оглянулся на терем, на молчаливое окно.
Пронский вышел за калитку. Местами уцелевшие стены детинца, что охватывали невысокий холм с княжеским теремом, были пустынны. Вторые ворота были открыты. Он медленно побрёл вниз, ничего не понимая, ни о чём уже не думая, ощущая только свою беззащитную спину, в которую так просто было бы вогнать оперённую стрелу.
Утром, когда его привезли из узилища и поставили в середине двора, он ещё надеялся на суд, переговоры и прощение.
Внезапно стал слышен весёлый перестук топоров — рязанцы возводили избы на пепелище. Навстречу Пронскому выползла пароконная волокуша. Паренёк лет пятнадцати вёл усталых лошадей под уздцы, за ними волочились связанные хлыстом брёвна. Паренёк безразлично поглядел на старика и, ни слова не сказав, потянул лошадей дальше, своей дорогой.
«Не узнал», — мелькнуло в голове у Пронского. Да и как узнать? Схватившие его ордынцы обобрали — не то что кольца и перстни, сапоги стянули, кинув какие-то лапти...
Может, так оно и к лучшему — не терзаться стыдом, встречая ограбленных, разорённых им и его людьми рязанцев?..
Он вышел за околицу, так и не встретив ни одного человека, кто узнал бы его. Оглянулся, перекрестился на уцелевший в пожарище крест на соборе Пресвятой Девы и побрёл на запад.
Больше в летописях имя Владимира Пронского не упоминалось.
Глава двадцать первая
Полусотня Степана была всю зиму на странном положении: то ли пленные, то ли запасное войско у пронских. Стояли в том же самом селении, где их задержал осенью на пути в Переяславль лихой пронский воевода. Всё это время жили впроголодь. Владимир Пронский, распорядившись оставить их в селе, забыл выделить на кормление денег. Степану пришлось распороть свой заветный пояс с добычей и постепенно продавать драгоценности, чтобы кормить людей. Юшка ворчал, но понимал, что иначе Степан поступить не может.
К середине зимы пошёл слух, что московские полки вместе с воеводой Боброк-Волынским ушли домой. Степан поверил, потому что пронские воины, оставленные присматривать за полусотней, неожиданно изменили своё отношение и даже стали уверять, что пошли на Рязань не по своей воле, а по принуждению.
Степан жадно ловил все слухи — и о мурзе Саламхире, что за серебро оказывает помощь великому князю Олегу Ивановичу, и о Владимире Пронском, что остался в высоком переяславском тереме один со своими боярами, — переметнувшиеся к нему рязанские мужи сбежали.
Однажды утром Степан обнаружил, что все пронские воины бесследно исчезли. В тот же день всезнающие деревенские бабы заговорили о том, что Олег Иванович со своей дружиной возвращается в стольный град.
Степан поднял свою полусотню и помчался в Переяславль.
Олег Иванович принял без промедления, милостиво выслушал рассказ, поблагодарил за службу — за умело пущенный слух, за то, что сохранил воинов сторожевой сотни, пожаловал перстнем со своей руки и разрешил пробыть в Переяславле пять дней: отдохнуть и дождаться возвращения из Мещеры семьи боярина Корнея. А ещё велел присутствовать на большом пировании по случаю победы.
...Предстоящей встречи с Алёнкой Степан и ждал и боялся. Мучила совесть, оттого что жила в нём память о Насте. Он уговаривал себя, что к Алёнке это не имеет никакого отношения: она всего лишь маленькая девочка, которую он любит как брат и о которой привык заботиться. Но то были доводы рассудка, а сердце предательски сжималось в ожидании встречи. Чем ближе подъезжал Степан к дому Корнея, тем ярче становились воспоминания детства. Вот забираются они с Юшкой на сеновал, и привязчивая девчонка, сияя голубыми глазами, сопя от усердия, лезет за ними. Вот сидят они на берегу Оки на сыпучем белоснежном песке, и, откуда ни возьмись, опять подкрадывается к ним эта коза-егоза, усаживается рядом и точно так же начинает просеивать в ладонях песок или, докопавшись до влажного слоя, лепить невиданные терема с башенками.
Семья Корнея вернулась в Переяславль на второй день пребывания там Степана. На двор, огороженный высоким тесовым забором, въехала, скрипя, колымага. Сразу за колымагой, приплясывая, горячась и роняя с удил пену, вплыл красавец-жеребец, белый с чёрными «носочками» и большим, в половину морды, чёрным пятном у глаза. На жеребце сидела прекрасная, словно из сказки, девица, в короткой шубке, крытой лазоревым сукном, с высоким ярко-рыжим лисьим стоячим воротником, в лисьей же меховой шапке с двумя падающими на плечи хвостами.
«А ведь ей уже пятнадцать, почти невеста», — сообразил Степан и подумал, что нужно было бы подойти, помочь, как в прежние времена, подать руку, придержать ногу, но им овладела странная робость. Он стоял, разглядывая красавицу, сквозь незнакомые черты узнавая в ней прежнюю Алёнку.
Она спрыгнула с коня и только тут заметила застывшего у высокого крыльца Степана, неотличимого в своём простеньком нагольном кожухе от высыпавших на красный двор слуг. Алёнка пунцово зарделась, движения её стали скованными.
— Здравствуй, Алёна, — сипло сказал Степан и неожиданно для себя добавил: — Корнеевна.
— Здравствуй, Степан, — еле слышно ответила девушка, и, не глядя на него, всё так же скованно, прошла к крыльцу и поднялась по ступеням.
— Пригода! — позвала она, оглядываясь.
— Тут я, боярышня, бегу! — услышал Степан низкий грудной голос: высокая статная девушка быстро, но не суетливо пробиралась к крыльцу сквозь толпу встречающих. Краем глаза Степан заметил, как Юшка смотрит на Пригоду — лицо глуповатое, рот слегка приоткрыт, а глаза шалые.
Алёнка с Пригодой ушли в дом. Вечером боярин Корней после долгого, с многими переменами застолья уединился со Степаном в своей маленькой светёлке, где любил отдыхать после трапезы. Приблизившись к сорока годам, боярин стал тучен, одышлив, но руки его по-прежнему крепко держали и меч, и боевой топор, и копьё, в бою был опасен как рассвирепевший вепрь.
Разговаривали долго. Корней делился своими хозяйственными замыслами, расспрашивал, как дела у Степана. Тот пожаловался, что пришлось потратить всё нажитое в боях на прокорм полусотни. Боярин покряхтел, похмурился, потом сказал:
— Что людей кормил, то правильно. Зажиток потому так и называется, что дело-то наживное, а люди, что тебе Богом поручены, — то иное, вечное, по совести...
Степан чувствовал, что боярин не мастак выражать свои мысли, никак не может найти подходящих слов, но молчал, не приходил ему на помощь: хотел, чтобы тот скорее выговорился, успокоился и отпустил его восвояси. Где-то там в глубине дома была Алёнка, и если не выманить её сегодня для разговора, то останется им всего три дня, да и то неполных — вечером ждёт долгое, до рассвета, пирование у князя Олега по случаю победы над Пронским.
Степан утерял нить разговора и лишь кивал в такт словам боярина, вспоминая...
Как, бывало, он радовался, когда боярыня дозволяла ему взять запелёнатое глазастое чудо на руки. И неужели это оно гарцевало сегодня на коне!
— И то сказать, ещё год-другой — и невеста, — звучал голос Корнея. — Старый князь Милославский перед Боброковым приходом начал петли вить вокруг меня, о внуке заговаривать, о княжиче Ростиславе. Ты его, может, и видел, — красавец, на виду был до того дня, как старый дурень к Пронскому переметнулся. Я его насквозь вижу, старика, — ему богатую невесту надобно для внука, потому как удел[38] его таков, что и курицу выгнать некуда, а детей нарожал, словно дружину из одних княжат решил составить. Одно название, что князь — Рюрикович! Хоть и захудал до невозможности, но от Владимира Святого линия прямая, нигде не прерывалась, никто из его предков в изгоях не ходил.
Степан подумал, что сам Корней всего в третьем поколении к верхнему боярству относится: прадед его был простым дружинником и вышел в люди лишь благодаря великой силе, безрассудной преданности и тому, что отец его сложил голову в дружине легендарного Евпатия...
— Я за Алёной целую волость дам! — продолжал Корней. — Это, почитай, поболе иного княжества...
Только сейчас Степан вник в истинный смысл разглагольствований боярина: идёт речь о замужестве Алёнки! Той самой Алёнки, которую он, Степан... О каком ещё Милославском говорит боярин?
Он сказал первое, что в этот момент пришло ему в голову:
— Милославские князю Пронскому служили! Я сам его при дворе видел!
— Ты, Степан, ничего не понимаешь. Милославский — удельный князь, его удел примыкает к землям Пронских. Что ему делать было, когда князь Олег Иванович Рязань оставил?
Степан ничего не ответил.
— Опять же, кто знает, как долго гнев Олега Ивановича на Милославских сохранится? Повинится князь перед князем — и всё. Они ж одного корня, рюриковского.
«Запала ему эта самая рюриковская кровь», — подумал Степан с тоской.
Боярин ещё что-то говорил. Степан всё больше и больше понимал, как глубоко укрепилась у него мечта породниться с Рюриковичами, и приходил от этого в отчаяние. Он рвался скорее сбежать от разговорившегося Корнея, чтобы убедиться: всё то, что почудилось ему днём в глазах Алёнки, — правда...
— Только ты, Степан, никому о моих надеждах ни слова. Я тебе, как родному сыну, замысел потаённый открыл.
— Конечно, дядя Корней...
— Был бы старый князь поумнее — прямо завтра приехал бы к пиру по случаю победы, поклонился да повинился. Только старый хрыч через свою гордость переступить не может.
— Так ведь Рюрикович, — вздохнул Степан.
Боярин иронии не уловил:
— Вот именно что Рюрикович...
Наконец он тяжело встал и пошёл к двери.
Выждав немного, Степан отправился искать Алёну.
Нашёл неожиданно легко: она сама поджидала его в полуосвещённом переходе, кутаясь в шаль. Увидев Степана, бросилась к нему, но в двух шагах вдруг остановилась, — наверное, потому, что не было с его стороны такого же порыва или возобладал девичий стыд. Степану стало нестерпимо жалко смутившуюся девочку. Он протянул к ней руки, Алёнка с каким-то детским всхлипом прильнула к нему и, спрятав голову у него на груди, затихла.
«Лучше её нет и не будет никогда!» — думал растроганный Степан.
Алёнка подняла голову, и он, не удержавшись, нежно, бережно поцеловал высокий чистый лоб, глаза, чувствуя ответные поцелуи, неумелые, лёгкие.
В противоположном конце перехода мелькнул робкий, как светлячок, огонёк масляного светильника. Алёна отпрянула. Это шла служанка Пригода: матушка-боярыня пожелала поговорить с дочерью перед сном.
— Свою служанку прислала, а тебя-то в горнице нет, — волнуясь, докладывала Пригода. — Я ей голову задурила, а сама сюда, за тобой. Торопись, пока весь дом не всполошился.
— Завтра в полдень в дальней беседке, — шепнул Степан Алёнке, отпуская её руку.
Две девичьи фигуры исчезли.
Вернувшись к себе, Степан, не раздеваясь, бросился на ложе. Любовь свалилась на него, как снег в конце осени, всегда неожиданный и всегда ожидаемый. Именно такую любовь он ждал, предчувствовал, провидел, глядя в преданные глаза девочки, когда учил её стрелять из лука, ездить верхом, а порой и шлёпал за непослушание пониже спины.
...Беседка в глухом конце огромного сада, летом обычно увитая плющом, сейчас стояла голая, продуваемая со всех сторон влажным весенним ветром.
Ночью Степан мучительно размышлял: сказать или не сказать Алёнке о замыслах отца. С одной стороны, лучше бы предупредить, чтобы могла заранее продумать, как противостоять его воле, с другой — не хотелось омрачать те считанные часы, что были им отпущены. К тому же раньше чем через год Алёнку не засватают.
Они встретились в беседке, долго гуляли по тропинкам сада, вспоминали разные мелочи из далёкого детства, смеялись, целовались, и не было меж ними ни робости, ни смущения.
Юшка возник как из-под земли и сразу затараторил:
— Степан! От князя прискакал вестник. Срочно требуют тебя во дворец. — Сделал паузу и добавил: — С оружием...
Князь Олег Иванович ожидал Степана в своей горнице.
— От сотника Ивана Шушака с южной границы прибыл гонец. Беда там — налетел большой отряд литвинов. Сотник со своими людьми сел в осаду, но долго он не выдержит. А помощь послать надобно. Здесь твоя полусотня, да я ещё две сотни копейщиков дам. Бери и отправляйся не мешкая.
Степан низко поклонился. Князь перекрестил его:
— С Богом!
Копейщики, непривычные к быстрой скачке, обычной для бывалых воинов сторожевой сотни, далеко отстали.
Степан первым вылетел из густого леса. Далеко впереди на краю окоёма можно было различить городище, окутанное дымом пожара.
— Пока будем ждать копейщиков, дозволь в поиск с десятком сходить, — спросил Юшка, ни на шаг не отстававший от Степана.
— Подожди ты с поиском, — отмахнулся Степан, разглядывая из-под руки происходящее далеко в степи, — некогда нам копейщиков ждать да в поиск ходить: на стены уж лезут. Ударим прямо сейчас. Только зайдём с заката — может, за своих примут и близко подпустят.
Обходное движение удалось: как и надеялся Степан, литвины приняли русских за подмогу, идущую с запада. Удар полусотни в спину осаждающим был стремителен и неудержим. Литвины оказали яростное сопротивление, но, спешенные, ничего не могли сделать с рассвирепевшими всадниками, каждый из которых провёл на меже многие годы и в бою был равен двум, а то и трём воинам. Бой ещё не закончился, когда на валу показался окровавленный сотник Иван Шушак, обгорелый, всклокоченный, страшный. Он кричал что-то невразумительное, размахивая саблей. За ним на вал поднялись ещё несколько таких же обгорелых, в крови, воинов. Они полезли вниз, на другую сторону вала и ворвались прямо в гущу схватки.
Иван набросился на рослого литвина и с маху вогнал ему в грудь тяжёлый клинок. Тот упал, но сотник продолжал в бешенстве наносить удар за ударом по уже бездыханному телу.
Степан охватил Шушака и сжал его изо всех сил:
— Обезумел?! Охолонись! Что с тобой?
— Звери! Сволочи, кровопийцы... город сожгли... всё выгорело, одни головешки за валом... — Сотник кричал и вырывался. — Пусти! Я их всех поубиваю! Я их буду резать до скончания живота своего...
Степан отцепил от пояса баклажку с мёдом, протянул Ивану. Тот жадно припал к горлышку, осушил её в несколько глотков, утёрся рукавом.
— Дай тебе Бог... — вздохнул тяжело. — У меня от полусотни всего десяток воев остался да стариков из городища с десяток. А бабы, те в лес кинулись, думали схорониться, так ведь это татары-степняки леса боятся, носа туда не сунут, а литвины, как и мы, в лесу словно дома, — кинулись за ними, настигли, похватали и всех в плен угнали. Так что нет у нас нынче баб. — Сотник пьяно рассмеялся — своей семьи у него давно не было.
— Когда угнали? — спросил Степан.
Сотник бессмысленно смотрел на него.
— Я спрашиваю — когда угнали женщин?
— На второй... четыре дня назад... Нет, пять... Что-то у меня всё перепуталось, которую ночь не сплю... Вовремя ты подоспел. Только что же князь-то подмоги тебе не дал?
— Дал, — кивнул Степан. — Две сотни копейщиков. Они отстали, непривычные к скачкам.
— Две сотни? — обрадовался Шушак. — Да твоих полсотни, да у меня десяток остался. Так мы живём! Только вот где я их размещу.
Степан не слушал уже нетрезвого и потому многословного сотника. Он думал о женщинах, угоняемых в рабство, бредущих где-то в холодной, враждебной им степи, в окружении свирепых охранников.
— Куда погнали? — спросил он, перебив Шушака.
— Кого? — не понял тот.
— Наших женщин.
— Не знаю... На юг. В Крым, наверное, сейчас у Литвы дружба с Мамаем. В рабство продать можно либо в Крыму, либо в Сарае, на Волге.
— Дай мне полусотню.
— Зачем?
— Догоню и вызволю.
— Ты что, сдурел? — уставился на него сотник. — От долгой скачки в голову вдарило? Как ты их догонишь на усталых конях? И где?
— За Северским Донцом.
— Так там кругом татарские табуны, стража, отряды.
— Вырвемся.
— И не думай! — Сотник протрезвел от злости.
— Неужто без боя, не пытаясь ничего сделать, ты готов своих людей на рабство обречь?
— Не своих людей, а твою красулю. — Сотник с издёвкой хохотнул. — Нетто там, на Рязанщине, попригожее не нашёл?
— Не смей! — выкрикнул Степан яростно. — Не смей! Она... они мне жизнь спасли, выходили. А другие — что, не наши бабы?
Сотник опустил голову. Похоронив жену, он одно время похаживал к молодой тогда вдовушке-воеводихе, даже подумывал о женитьбе. Но отпугнула она его сварливостью и властностью. Сотник привык быть хозяином и в сотне, и в доме. Так и не решился, а через несколько лет, глядя на постаревшую, вечно раздражённую воеводиху, хвалил себя за осторожность, хотя и понимал, что при муже она, может бать, такой и не стала бы. Поговаривали, что скопила она немалые богатства, выменивая и покупая у воинов сторожевой сотни поживу, и что только жадность не позволяет ей уехать из опасного места на меже.
Молчание сотника Степан расценил как неуверенность.
— Так дашь полусотню?
— Нет, не дам! — Шушак сказал это неожиданно ясным и трезвым голосом. — Хватит и того, что ты, уйдя тогда с полусотней, нас на разгром обрёк.
— Что ты говоришь, Иван? — Степан оторопел.
— То и говорю: не забери тогда ты полусотню, я бы этих бродячих разбойников-литвинов в первом же бою расчихвостил. И крепостица осталась бы целой, и бабы наши при нас: портомойки, швеи, поварихи, огородницы — все наши умелицы, воев утешительницы здесь бы были. На тебе вина!
— Я повеление князя выполнял!
— На всякое повеление есть своё разумение! — буркнул сотник. — Да что теперь говорить. Полусотню я тебе не дам. Людей погубишь, свою голову потеряешь, а баб не выручишь и меня опять без воинской силы составишь.
— У тебя две сотни копейщиков... — начал было Степан.
— Всё! Я сказал — нет!
— Тогда я один поскачу! — теряя власть над собой, закричал Степан.
— Я и тебя не пущу.
— Я дружинник княжий, ты надо мной не волен.
— Пока ты под моей рукой, я над тобою волен. Могу и в поруб посадить. Да и дружок твой тоже с тобой не поскачет, ума у него поболе.
Степан обернулся и взглянул вопросительно на стоящего у двери Юшку. Тот похлёстывал сапог плёткой и хмуро смотрел поверх голов спорщиков.
— Поскачешь, Юшка?
— Нет, не поскачу.
— А если я тебя попрошу?
— Умереть за тебя и просить не надо. А глупости с тобой делать — уволь. Не поскачу. — Юшка подумал и добавил твёрдо: — И тебя не пущу.
— Как ты смеешь! — сорвался Степан. — Я твой господин!
— Попадём в плен — оба рабами станем: ты не господин, и я не слуга.
— Ну и хрен с вами, тогда я один! — Степан ринулся к двери.
Юшка, обхватив его железными ручищами, сказал негромко, почти ласково:
— Конь твой на последнем перегоне расковался, али забыл? А кузнец тутошний погиб.
От этих обыденных слов вся решимость, гнев, отчаяние Степана вдруг ушли. Он сел и закрыл лицо ладонями.
...Вскоре прибыли копейщики. Их сразу же приспособили к делу: копейщики учились степным премудростям, споро восстанавливали заставы, засеки, сторожи на меже, возрождали городище. Откуда-то появились и первые бабы и девки, такие же умелицы, что были и раньше, до них. Они всегда неизвестно как приживались, вопреки всем опасностям, на границе и дарили мужикам-воинам свою заботу и любовь, не требуя в ответ ни обещаний жениться, ни денег, ни даров...
Глава двадцать вторая
Васята сидел во дворе на весеннем, быстро набирающем силу солнышке и наблюдал за Дарьей, пытаясь делать это незаметно.
Страшная зима осталась позади. Поэтому ли, а может, ещё по какой причине, Дарья вдруг расцвела, помолодела, словно и не было ей тридцати лет. А ведь в тяжёлые годы беспрерывных войн бабий век был короток: в таком возрасте многие уже становились старухами. Хоть и суетилась она с утра до вечера, поднимая разрушенное хозяйство, но на лице появился румянец, глаза светились, она часто без видимой причины смеялась. Машенька, глядя на мать, тоже веселела.
Другой на месте Васяты давно бы задумался, почему вдруг с необъяснимой силой потянуло его к Дарье, когда-то в незабвенные юношеские годы ставшей его первой женщиной. Да только не в его характере было мучить себя раздумьями и сомнениями, он просто глядел на Дарью и радовался. Культя уже почти перестала болеть, силы постепенно возвращались, и близость красивой, статной, здоровой женщины начинала по-мужски волновать.
Недавно соседки, ходившие в Переяславль, принесли радостную весть: жив Дарьин сын и, более того, взяли его полноправным воином в княжескую дружину. Передавал он, что скоро выкроит время, прискачет проведать мать с сестрой.
Васята грелся на солнышке, смотрел, как носится-летает по хозяйству Дарья, и блаженная улыбка сияла на его лице.
Неожиданно в проломе ограды разрушенного дома показалась лысина. За ней появилась всклокоченная борода, а потом и сухонький, тощий старикашка в домотканых обносках, без шапки. Светлые, выцветшие глаза, провалившиеся в полукружья тёмных глазниц, быстро обежали двор и остановились на Васяте. Старик улыбнулся беззубым ртом и сказал неожиданно густым и громким для такого тщедушного тела басом:
— День добрый!
— Здравствуй, дедушка Антон, — певуче ответила Дарья и оборотилась к Васяте: — Вот, Василий Михайлович, кузнеца сыскала. Его кузня, что в роще за околицей, почти целой осталась, не обнаружили её осенью вороги и не разорили. Только кузнецов всех увели с собой.
— Не кузнецов, а молотобойцев. А кузнеца я сам к Олегу Ивановичу в Мещеру отпустил. Он? — Старик указал на Васяту.
— Он.
— Показывай.
Васята с недоумением взглянул на Дарью.
— Руку покажи. Дед Антон хоть и старый, но лучший у нас кузнец. Обещал посмотреть и, если получится, крюк приделать, чтоб был ты у нас настоящим... — Дарья вдруг покраснела и смолкла.
— Настоящим человеком? — с горечью закончил Васята и без лишних слов принялся разматывать холстины.
— Садись, дедушка, что же ты после такой дороги стоишь? — засуетилась смущённо Дарья.
Васята развернул руку. Дед долго рассматривал культю, потом принялся мять её сильными пальцами. Хмыкал, кивал в такт своим мыслям.
Наконец старик перестал мучить Васяту, словно нехотя выпустил его руку из цепких пальцев и спросил Дарью:
— Смолой-то заливала?
— Заливала.
— Кто надоумил?
— У боярина Михаила Васильевича костоправ при дружине знатный был, на весь Переяславль известный, а я глазастая. Он всегда смолу прикладывал, а если культя, то заливал, пока увечный в бесчувствии...
— Запомнила, значит?
Было непонятно, одобряет он или осуждает.
— Запомнила.
— Хорошая культя, — изрёк наконец кузнец. — Сделаю я тебе, парень, железный крюк. Или, если пожелаешь, голицу[39]. И будет тебе рука. Правда, крюк удобнее. Им что и поддеть при нужде можно. А голица-то так, одна видимость.
— Голицу делай! — сказала решительно Дарья.
— Крюк! — одновременно с ней произнёс Васята.
— Дело хозяйское, — твёрдо сказал старый кузнец. — Кому носить, тому и решать.
— А то и другое можно? — нерешительно спросила Дарья.
Дед подумал.
— Можно, — сказал он. — Пусть будет и крюк, и голица. Крюк для работы, голица для лепоты. Я её на деревяшку насажу, а деревяшку сделаю, чтобы на крюк накручивалась. Правда, — старик покачал головой задумчиво, — немного в сторону будет смотреть голица. — Он показал, как.
— Это ничего. Даже вроде как живая, — обрадовался Васята.
Дарья повела кузнеца к столу покормить. Стол она сколотила самолично сразу же, как сошёл снег. Когда потеплело, ели здесь, во дворе — уж больно надоело за зиму ютиться в тесном хлеву, превращённом в жильё.
Поев, старик неторопливо подчистил миску, чинно поблагодарил и сказал:
— Я слыхал, коза у тебя сохранилась. Так что платить мне будешь козьим молоком. Кружку в день. Не объем вас, ежели так положим?
— Что ты, дедушка! Да мы от себя оторвём...
— От себя не надо. Я спросил: кружку в день — не объем?
— Нет, дедушка.
— Он тебе кто? — громко спросил кузнец, указывая на Васяту, словно тот не мог слышать вопроса.
Дарья зарделась:
— Увечный... Я его нашла на Скорищевом поле после боя. Ночью пробралась мужа искать. Мужа убили. Его вот, еле живого, углядела. Дышал ещё, хотя крови вытекло...
— Получается, мужа потеряла, его нашла, — усмехнулся кузнец. — То дело божеское. — Потом задумчиво поскрёб в чахлой бородёнке и добавил: — Молотобойцев у меня нет. Так что, найдёныш, будешь эти дни за молотобойца. Молот тебе подберу такой, чтобы одной рукой смог управляться.
Старик собрался уходить.
— Подожди, дед, — остановила его Дарья. — Ещё одно дело у меня к тебе. Я старый котёл, что в бане стоял, отыскала. Он давно прохудился, прогорел. Покойный муж заменил его, новый поставил, а этот спрятал в сарае на всякий случай. Новый-то грабители выломали и унесли. Погляди, может, сумеешь залатать?
Кузнец осматривал старый медный котёл так же долго и тщательно, как и Васятину культю.
Заключение было коротким:
— Сделаю. Только за труд мне — первую баньку!
Котёл кузнец залатал за один день. Сам же с помощью Васяты и вмазал его в печь, занимающую добрую половину баньки. Протопили после полудня, и дед долго, с кряхтеньем, слышным даже во дворе, мылся и хлестал себя веником из еловых лап. Вышел румяный, ясноглазый, вроде даже помолодевший, потом долго лежал, попивая взвар из сушёных, с осени запасённых Дарьей лесных ягод.
Вечером, протопив баню ещё раз, пошёл мыться Васята.
Две лучины у самой двери слабо освещали заполненное свежим паром помещение. Васята сел, разделся, управляясь ловко одной рукой, и уже собрался было лезть на первый полок, — было их в этой баньке аж целых три! — как услыхал за спиной какой-то стук.
Он обернулся, и в тусклом свете лучин увидел в дверях Дарью в длинной до пят сорочице. Сердце бешено заколотилось. Дарья сделала шаг вперёд и сказала вдруг осипшим голосом:
— Как же ты собирался одной рукой спину себе тереть?
Вся её фигура в парном мареве, казалось, колышется, то приближаясь, то удаляясь. Волосы — то потаённое, что никому, кроме мужа, не должна показывать русская женщина, были распущены по плечам и падали привольной волной. Васята почувствовал, как его мужское естество вдруг ожило. Он в растерянности прикрылся еловым веником. Тогда Дарья дёрнула завязку у горла, сорочица распахнулась, скользнула с покатых, с ямочками плеч и упала к её ногам...
Крюк с голицей и деревянной болванкой были готовы, как пообещал кузнец, через десять дней. Но изнывающий от нетерпения Васята не мог надеть «руку» — не было шорника, чтобы сшить хитрые, придуманные кузнецом ремни и лямки, которые должны были крепиться к обрубку.
Дарья понимала, как переживает Васята. Пришлось ей освоить шорное дело и самой сшить ремни.
Наконец всё было готово. С помощью кузнеца «руку» с крюком надели на культю, застегнули на все специально выкованные пряжки, затянули ремни. Рука сгибалась в локте, крюком можно было прихватить и держать не очень тяжёлые вещи. А когда накрутили голицу, то рука стала совсем как настоящая.
Васята осмелел и даже стукнул ею по столешнице. Поморщился, но ничего, терпеть можно.
Он обернулся к Дарье, не спускавшей с него глаз, и сказал то, что давно решил сказать, ещё после той бани:
— Замуж пойдёшь за меня?
Дарья охнула и села.
Кузнец растерянно подёргал себя за бороду.
Подбежала Машенька, обняла мать, не спуская глаз с Васяты.
— Пойдёшь? — повторил тот.
Дарья замотала головой:
— Василий Михайлович, Васенька, лада мой... Опомнись! Кто ты и кто я... Боярин, близкий князю человек, а я бывшая дворовая. Тебе к князю возвращаться, в думе сидеть... Как на тебе иные бояре поглядят, если у тебя такая жена? — И как последний довод: — Что Олег Иванович скажет?
— Ничего не скажет. А его сын моим сыном станет.
Он схватил Дарью в объятия и закружил по двору.
— Ты молодой мужик, а я уже старая баба, — прошептала та, но Васята закрыл ей рот поцелуем. Неожиданно раздался голос Маши:
— Она пойдёт, дядя Вася!
Как и думал Васята, князь Олег Иванович ничего не имел против брака, даже вроде был рад.
Свадьбу решили не торопить, играть по осени. А до того Васята собрался съездить за матерью в Мещеру. Она, по сведениям, приходившим в Переяславль, была совсем слаба, так что надлежало везти её домой со всем бережением. По дороге он надеялся убедить матушку, что Дарья для него — самая лучшая жена, хоть и не боярская дочь.
И всё было бы ладно, если бы вдруг не возникла непонятная холодность к Дарье со стороны княгини Ефросиньи. Именно у неё надеялся найти Васята поддержку, а вышло наоборот: княгиня, разговаривая пару раз с Дарьей, едва разжимала губы.
«Неужто чувствует? — думал Васята над странным поведением княгини. — Или донёс кто? Чего ей нужно, — ведь любит её князь, так, как мало кто из князей на Руси богоданных своих княгинюшек любит! Бабья всё дурь, не иначе...»
Но, уезжая за матерью в Мещеру, всё же наказал Дарье сидеть дома тихо, княгине на глаза особенно не попадаться, — кто её знает...
Вопреки опасениям, боярыня Арина, матушка Васяты, будущую невестку приняла сразу. Трудно сказать почему. Может, потому, что знала её ещё девчонкой, шустрой и сметливой, взятой в горницу за проворство и услужливость? Или потому, что помнила боярыня, как неистово любились её сын и Дашутка, когда пришла ему пора познать плотские утехи? А может, потому, что, вернувшись из Мещеры, сразу же, умудрённая жизненным опытом, разглядела то, чего ещё не распознали другие: носит Дарья под сердцем дитё, по всем срокам внука. А что до того, что будущая сноха из дворовых, так ведь и дед Васяты не сразу дружинником стал. Начинал меченошей, но храбростью и смекалкой вышел в бояре. Правда, сама Арина вела свой род от древних черниговских бояр, что были известны ещё со времён Владимира Святого и перебрались в Рязань вместе с предками Олега Ивановича, но надобно ли тем кичиться? Зато сноха будет в полной покорности — сама себя так поставила. И Васеньку бедного, увечного без памяти любит, это сразу видно материнскому глазу. Да и внуков понянчить давно уж мечтала. И последнее: правда, сердилась боярыня на себя за глупое тщеславие: ведь через Дарью и её сына Вася станет свойственником великого князя!
Как и задумали, свадьбу сыграли по осени. Странная это была свадьба. Нет, не потому, что хихикали в платочки боярыни, перешёптывались и переглядывались. И не потому, что пир давали не в доме жениха, который не успели отстроить на месте сожжённого москвитянами, а в большой пиршественной палате княжеского терема. Да и та из-за великого стечения народа — приехали все удельные князья со своими княжатами и боярами — оказалась мала, и столы вынесли из терема во двор и даже за пределы детинца.
Странность была в другом, для знающих, конечно.
К алтарю невеста пришла с заметным животом, а рядом с нею стояли по левую руку сын, юный дружинник великокняжеской дружины, напоминающий старикам обликом и повадками князя Олега Ивановича в юности, и востроглазая девчушка, Машутка, успевшая стать за лето любимицей и боярыни Арины, и дворни, и даже самого великого князя. Подружкой же невесты по настоянию Олега Ивановича стала великая княгиня Ефросинья, непривычно сумрачная и неулыбчивая. Второй подружкой была сестра боярыни Арины, гордая Милославиха, жена старшего сына удельного князя. Сам старик на пиру отсутствовал, ибо пребывал в опале за поспешный переход на сторону Пронских после поражения на Скорнищевом поле. По правую руку жениха стояли дружки: сам великий князь и боярин, молодой Кореев.
Вот такая была свадьба. Было о чём посудачить переяславцам и гостям из других городов и земель.
Глава двадцать третья
Почти пять лет со времени Московско-Пронского нашествия прошли без особых потрясений.
Правда, налетали разбойные отряды ордынцев, но им давали отпор. В1373 году один такой налёт отразили не сразу, татарам удалось подойти к самому Переяславлю и сжечь посады. Но обошлось.
Олег Иванович замечал, как за относительно спокойные годы разительно изменилась придворная жизнь.
Откуда-то при дворе появилось множество новых людей, всё больше молодых, нахрапистых, языкатых, не шибко образованных, зато опытных в придворном деле.
Непонятно кто — или пострадавший и выпустивший из рук бразды правления дворский, или столь же старый тысяцкий, нуждающийся в помощниках, — наделил их и громкими должностями, и ощутимой толикой власти. Возможно, сам Олег Иванович, не вдумываясь, соглашался. Появились у него стольники и чашники, конюшие и сокольничие и целый сонм отроков, юных, пригожих, красиво одетых, готовых со всех ног броситься выполнять желание князя.
Васята по своему характеру и не думал толкаться в этой толпе искательных, льстивых, жадных до милостей придворных. Его вполне устраивала спокойная жизнь в кругу обретённой семьи. Прежде он и представить себе не мог, сколько радости принесёт ему отцовство: кроме Машеньки, которую он полюбил как родную, подрастал сын, родной сын, его и Дарьин!
Но Даша, вернее, Дарья Ильинична, как теперь величали боярыню, жену Василия Михайловича, смотрела на всё иначе.
Что-то особенное было в этой женщине. Она словно на лету хватала всё, не случайно в далёкие годы, будучи любовницей князя, сумела быстро обучиться мудреной игре в шахматы. Теперь она столь же стремительно стала познавать тайны соколиной охоты, любимого занятия и Олега Ивановича, и княгини Ефросиньи, и Васяты, и Кореева. Несколько раз Олег Иванович ловил себя на том, что поглядывает на статную боярыню, ловко сидящую в седле с соколом на левой руке.
И думал: вот же напасть какая, рядом молодая, на десять лет моложе боярыни жена, красавица, умница, мать его детей, а он глядит на жену друга!
Олег Иванович перед собой оправдывался: внимание к жене друга от того, что она мать его сына, выросшего умным, красивым, замечательным, успешным во всех воинских потехах. Мать сына, пусть и незаконнорождённого, имеет право на внимание. Что в том плохого?
Васята, простая душа, особому вниманию великого князя к Дарье радовался, способствовал по мере сил вовлечению её в круг придворных забав.
Как-то раз Олег Иванович на охоте оказался рядом с Дарьей. Черт, видно, попутал: князь стал осторожно подводить весёлый, лёгкий разговор к прошлому, а помнит ли она далёкие времени их юности. Говорил, нащупывая тропинки в её памяти, а сам себя мысленно упрекал — ведь жена ближайшего друга!
И вдруг, как ушат холодной воды, на него обрушился такой страстный рассказ о проснувшейся великой любви к Васяте, что, поражённый, он даже не обиделся на её непонимание, а может, и нежелание уловить то, что скрывалось за воспоминаниями.
Ну и к лучшему, уговаривал он себя, скрывая ревность к Васяте, сумевшему пробудить такую любовь.
Обиженный, удивлённый, виноватый, он не уловил, когда рассказ Дарьи о любви к мужу незаметно перешёл в упрёк, а затем и в просьбу:
— Совсем отодвинул ты, великий князь, Василия Михайловича от себя. Только и осталось меж вами что любовь к охоте. Молодые бояре уже кто сокольничий, кто конюший, кто воевода, а мой Вася всё остаётся милым Васятой, другом детства.
— Ты что-то просишь для него? — понял наконец великий князь, о чём толкует боярыня.
— Ни о чём не прошу, удивляюсь.
— Впифан тоже не дворский, не тысяцкий, не воевода большого полка.
— Епифан, как все знают, второй человек в княжестве.
— А Васята — третий! — шутливо сказал князь.
— Епифан, ежели по-франкски называть, канцелор.
— Бог мой, откуда это ты вызнала?
— Епифан пояснил, — с лукавым простодушием ответила Дарья.
— И что же ты для Васяты хочешь?
— Сделай его воеводой сторожевого полка! — выпалила Дарья, и пунцовый румянец залил её щёки.
— Это он тебя просил? — начал Олег Иванович.
Но Дарья с яростью возразила:
— Плохо же ты знаешь своих друзей, великий князь! Он умрёт скорее, нежели попросит. Жизнь отдать — да. Просить — нет!
Олег Иванович задумался. Мысль сделать Васяту воеводой сторожевого полка была не такой уж нелепой. Можно даже сказать, разумной. Вон, по слухам, у Дмитрия Московского воеводой сторожевого полка стоит Семён Мелик, человек такой же безумной отваги, как Васята, азартный, рисковый, удачливый витязь, горячо любимый воями. Однако при всём том Мелик был воеводой не просто опытным, но и осмотрительным. Так ведь и Васята умудрился опытом за эти годы. Сколько воды утекло с тех пор, как бросился он, нарушив приказ воеводы Дебрянича, впереди всех на татар в первом настоящем бою...
Олег Иванович взглянул на Дарью.
Та смотрела на него с напряжением и надеждой. Румянец постепенно сходил со щёк, отчего проявлялись едва заметные веснушки у переносицы, молодящие боярыню.
«А ведь мы все ровесники, — мелькнула несвоевременная мысль у князя. — Тридцать пять, половина отпущенного жизненного срока...»
Он опять задумался. Испокон веку, с далёких киевских времён, русское войско строилось по единому принципу.
Сторожевой полк, куда входили все сторожевые, межевые, разведывательные сотни, и главная часть — ядро, состоявшее из нескольких сотен удальцов на быстрых конях, владеющих всеми видами конного боя, способных встретить врага, задержать его, навязать свою волю и, если нужно, отвести от главных сил.
Главные силы: большой полк, обычно занимающий центральное место на поле боя; полки правой и левой руки — подвижные соединения, которые можно и выдвинуть, и отвести в сторону, к ним можно добавить ополчение или по необходимости конницу.
Наконец, засадный полк. Туда собирали пожилых, мудрых воинов, способных выжидать и нанести быстрый, страшный удар в необходимый момент.
Такое построение войска диктовало стратегию. Она не менялась практически вот уже почти четыре века, со времён Владимира Святого. Приносила эта стратегия и успехи, и поражения, но от неё, даже несмотря на страшный разгром во времена Батыя, не отказывались, ибо только единым, сбитым в могучий кулак войском можно было достойно встретить стремительный удар степной конницы.
Если же вражеская конница обходила, огибала кулак, то привычная стратегия не помогала, не подсказывала достойного ответа. Вернее, ответ был: противопоставить неприятельской коннице равную по силе конницу. Но не было у россиян такого количества коней, чтобы всех воев посадить в седло. Не было таких просторных степей, чтобы пасти бесчисленные табуны. Не было такого количества пашен, чтобы сеять для них овёс. Дай бог тягловую силу прокормить.
Словом, не могла Русь землепашцев противостоять конной силе кочевников. Если бы объединиться...
Дарья, по-своему поняв молчание великого князя, опустила голову и тронула коня.
— Постой, боярыня. Поздравь сегодня вечером мужа воеводой сторожевого полка! А завтра на думе я его сам поздравлю!
— Олег Иванович, родненький! — Дарья соскочила с седла, прильнула к его сапогу, подняла полные слёз радости глаза и благодарно улыбнулась...
Ни князь, ни боярыня в тот миг и подумать не могли, что отмерили срок жизни Васяте куда меньший, чем мог бы он прожить при его здоровье и силе.
Но на то — воля Божья, всё в его промысле...
За пять относительно мирных лет Олег Иванович прошёл долгий путь от яростной злости на Пронских до полного замирения с новым удельным князем Данилой Пронским, своим племянником. От неприязни к Дмитрию Московскому до союзнических и даже, больше того, дружеских с ним отношений: вместе выступали против Ольгерда Литовского, вместе усмиряли Михаила Тверского, родственника и союзника Ольгерда. Правда, в 1373 году Дмитрий повёл себя не совсем так, как вправе был надеяться Олег Иванович: встал с большим войском на своём берегу Оки, не пустил ордынцев в московские пределы, а Олегу полками не помог. Но уже то, что нависали над ордынскими отрядами грозные московские войска, утихомирило врага, так что Рязань отделалась сравнительно легко. Точил Олега Ивановича червячок обиды, но понимал он, что Дмитрий — прежде всего московский князь, а потом уже радетель за общерусское дело. Он и сам, наверное, поступил бы точно так, но в ту пору не было у него достаточно полков. Словцо, найденное им, мальчишкой, — обезмужела Рязань — частенько вспоминалось. Ох как медленно подрастали мужики, как медленно привыкали их натруженные вилами, серпом, косой руки к сабле, оружию хитрому, требующему и сноровки, и ловкости, и навыка. Ныне мечом, по старинке, по-дедовски, уже не помашешь. Княжеские и дружинные мечи, что по традиции носили все приближённые Олега и он сам, давно не походили на те тяжёлые, широкие, кои можно было ещё встретить в домах у старых бояр или дружинников, оружие дедов и прадедов. Современный клинок стал легче, уже, стремительней и мог противостоять гибкой, изворотливой и коварной сабле ордынца. Многие русичи перешли на оружие степняков, познав его превосходство.
Труднее всего давалась наука владения им землепашцам, основной силе ополчения...
Да, страшно медленно подрастали мужики на Рязанской земле, а Орда налетала и налетала — то на соседа, Нижегородское княжество, то на мордву, уж на что племена, казалось бы, давно приведённые к принудительному союзу с Ордой, а и то грабили, жгли, уводили в полон...
Вот и решай каждый раз, как быть: уходить ли в леса и болота или сноситься с Москвой, объединять силы, чтобы дать бой Орде?
Обычно в налёт на Русь шёл один тумен. Это не мало, но и не так чтобы много. У Олега Ивановича своей конницы в три раза меньше. Но если с Москвой сговориться, то отбить татар можно. Вопрос в том, рискнуть ли довериться до конца Москве? А вдруг опять, как в семьдесят третьем году, встанет она на своих рубежах мощным заслоном и будет смотреть из-под голицы на то, что творится в Рязанской земле? Вроде и в помогу вышли, и силу сберегли. А когда останется Рязань после кровавой битвы — победной ли, разгромной ли, можно и войти, как вошёл в своё время с предателем Володькой Пронским многоумный Боброк...
И всё же сколько можно прятаться по лесным норам?
Эти вопросы постоянно преследовали Олега Ивановича, мучили, не давали спать. Он прислушивался к советам ближних бояр, хотя обычно признавал в качестве главного лишь Кореева.
В конце 1374 года лазутчики и живущие в Орде русичи стали сообщать, что среди татар пошли разговоры о скором походе на Русь мурзы Араб-шаха, или, как называли его русские, Арапши. Был он, по сообщениям, удачлив, жесток, честолюбив и пользовался доверием Мамая.
Давно живший в Орде епископ Василий — русские священники держали там приход для всех православных ещё по ярлыку Чингисхана — сообщил даже, что скорее всего Арапша пойдёт на Русь в разведывательный поход, ибо мечтает Мамай повторить путь Батыя и вымостить огромными данями себе дорогу к трону великого хана, пока ещё ему, не чингисиду, недоступному.
Перед лицом этой страшной опасности Олег Иванович уступил сторонникам союза с Дмитрием Ивановичем.
Дважды ездил в Москву Епифан Кореев. Вёл долгие и, на взгляд Олега Ивановича, не очень плодотворные переговоры с московскими вельможами: большим воеводой Боброк-Волынским и двоюродным братом Дмитрия князем Владимиром Серпуховским.
С Дмитрием Ивановичем Корееву встретиться не удалось — носился, как сказали бояре, великий князь по волостям и уделам, отражая наскоки Литвы и уряжая землю, раздираемую сварами между наместниками и удельными князьями.
«А может быть, поосторожничал», — думал Олег Иванович. Это подозрение встревожило его: действительно, если бы Дмитрий хотел заключить союз, нашёл бы время. Не мог он не знать, что Кореев давно уже в Рязани второй после великого князя человек и слово его всё равно что слово самого Олега Ивановича.
Сомнения, подозрения, опасения терзали всё сильнее, но тут в Переяславль приехал с грамотой от Дмитрия Ивановича великий боярин Микула Вельяминов, брат недавно умершего московского тысяцкого, воевода полка правой руки, по сути третий человек в московском войске, если считать Дмитрия верховным воеводой.
Дмитрий самолично приписал к грамоте, что Вельяминову доверяет заключить союз и обговорить — как, когда и куда в случае необходимости собирать полки.
Но, несмотря на грамоту, переговоры шли трудно. К счастью, боярин Корней нашёл ключик к сердцу Микулы Вельяминова. Было что-то общее в этих воинах старшего поколения, по-медвежьи могучих, неторопливых, одинаково уважающих и воинскую потеху, и долгий пир. Оказалось, оба они более всего на свете любили посидеть с удилищем на берегу реки, глядя на безмятежный поплавок, мысленно призывая его дёрнуться и нырнуть. Занятие неутомительное и неторопливое.
Словом, уехал боярин Вельяминов с союзным договором о совместных действиях, если нападёт на одну из сторон кто-либо. Оговаривали — кто-либо, подразумевали — Арапша.
Глава двадцать четвёртая
Мурза неотрывно глядел на Олега Ивановича припухлыми немигающими глазами, словно надеялся этим подавить пленного.
Олег Иванович выдерживал тяжёлый взгляд спокойно. Он и сам частенько пользовался этим нехитрым приёмом, принимая удельных князей или строптивых бояр.
Видимо, перехитрил сам себя великий князь. По договору о союзе с Дмитрием Ивановичем он должен был в случае нападения Арапши привести свои полки к месту встречи у реки Пьяна. Но в самый последний момент Олегу Ивановичу стала невыносима мысль, что он, такой же великий князь, как Дмитрий, но старше на целых десять лет, должен вставать под его руку, как какой-нибудь удельный князёк. Под благовидным предлогом он задержался с десятком дружинников в полудне пути до реки Пьяна, — будь неладно это весёлое, легкомысленное название! — отправив полки вперёд под началом воеводы Алексича.
Арапша в долгом кровопролитном бою разгромил объединённые силы Москвы, Рязани и Пронска.
Казалось бы, радоваться Олегу Ивановичу своей предусмотрительности, благодаря которой миновал его позор поражения. Однако он не бежал, чтобы привычно укрыться в мещёрских чащобах, совесть не позволила, а остался, надеясь, что сумеет оказать помощь отступающим воинам, и в итоге попал в плен к высланному Арапшей сторожевому отряду ордынцев.
Великий князь Дмитрий, Боброк, Даниил Пронский, Владимир Серпуховской, воевода Алексин, боярин Корней, Епифан и Васята — все они, отступая с боем, плена избежали и своих воинов от ордынцев увели...
А Олег сидит теперь на голой земле в походном ордынском шатре, и перед ним на толстой кошме развалился Арапша, прискакавший сюда ради такого высокого пленника.
Спасибо, хоть не связали.
Мурза первым не выдержал и прервал затеянную им игру в молчанку.
— Ты улусник[40] Великой Золотой Орды, — произнёс Араб-шах.
— Да, я целовал ханскую печать на золотом ярлыке, данном мне Джанибеком, хранит небо его благородный дух.
— Почему же ты поднял против меня свои жалкие полки?
— Я плачу подать в те сроки и в том размере, кои определены ярлыком, мурза. Я не чувствовал за собой вины и потому принял твои передовые отряды за шайки вольных ордынцев, что непрерывно беспокоят пределы Рязанской земли. — Олег Иванович говорил многословно, постепенно извлекая из памяти язык степей, которым давно не доводилось пользоваться.
— Ты лжёшь, собака! Ты отдал свои полки Дмитрию Московскому, нашему давнему врагу, когда я ещё не высылал свои передовые сотни! И ты ведь знал, что я родственник великого Мамая! — возмутился Арапша.
«Да, пришло время, когда родством с темником Мамаем гордятся в Орде больше, нежели родством с чингисидами», — вздохнул Олег Иванович, а вслух сказал:
— Могущественный Мамай, да будет благословенным его имя, недавно прислал мне свой подарок, степного жеребца. Мог ли я думать, что безо всякой моей вины он так скоро сменит милость на гнев?
— Опять врёшь, собака! Виляешь, как трусливый пёс! Ты по сговору послал свои полки Дмитрию Московскому!
«Повторяется мурза, — подумал Олег Иванович. — Видно, нету у него приказа, и он не знает, что со мной делать. Не предполагал Мамай, что меня в плен захватят. А я предполагал? Всегда успевал в Мещеру уйти, а тут... Хорошо хоть семью туда загодя отправил».
Мурза что-то кричал, распаляя себя. Князь перестал вслушиваться. Внезапно мурза хлопнул в ладоши, вбежали трое нукеров, мгновенно повалили Олега Ивановича и крепко стянули волосяными верёвками ему руки и ноги.
«Кажется, дело принимает худой оборот». Смерти Олег Иванович не боялся, больше страшился позора. Бывало, что по приказу хана или мурзы нукеры оплёвывали князя, били плётками, сапогами. Всё одинаково позорно, и не всякий князь после того осмеливался жить.
— Вот так же, спутанного арканом приведут ко мне Дмитрия Московского, и будете вы вдвоём ждать суда прославленного воина степей мурзы Мамая! — сказал тихо Араб-шах, словно не он только что кричал, надрывая глотку.
Мурза встал с кошмы, с презрением поглядел на связанного князя, бросил что-то на своём языке нукерам и вышел из шатра.
Один из нукеров последовал за мурзой, двое остались, сели на пятки и уставились узкими щёлочками глаз на пленника.
Лежать со связанными руками и ногами на боку было очень неудобно. Олег Иванович попытался повернуться. Один из нукеров, не вставая с пяток, бросил:
— Лези, лези! — и ловко выхватил из-за спины заткнутую за пояс плеть.
Князь замер. Нукер остался сидеть в прежней позе.
Олег Иванович знал, что так вот, в страшно нелепой и неудобной для русского человека позе, на пятках, нукеры могли сидеть часами. А сможет ли он всё это время лежать связанным, не двигаясь, из опасения быть позорно избитым?
Второй нукер что-то монотонно запел, чуть покачиваясь. Первый подхватил, поглядывая на пленника, не меняя при этом выражения лица, словно не он сам пел, а что-то внутри его издавало эти нудные, гнусавые звуки.
В одной из плошек, освещавших шатёр, прогорел фитиль и упал в масло. Огонёк заморгал и погас. Теперь горела одна-единственная плошка.
Как только в шатре сгустился полумрак, вошёл ещё один нукер. В отличие от сидевших на пятках часовых, он был с саблей, левая рука его лежала на сверкнувшем самоцветами эфесе. Охранники князя не пошевелились. Внезапно вошедший выхватил саблю, и в одно мгновение две головы покатились по кошме, пятная её кровью.
Нукер метнулся к князю.
— Васята!
Васята разрубил верёвку, помог Олегу Ивановичу встать. Великий князь первым делом выхватил из-за пояса одного из убитых длинный кинжал. Появился ещё один нукер, держа в руках окровавленную саблю. Олег Иванович узнал сотника Степана.
— Я здесь, великий князь, со своей сотней! Иди за мной!
Все трое выскочили из шатра. Вокруг кипел бой. Отборные нукеры личной охраны Араб-шаха дрались с воинами Степана.
На бегу князь успел увидеть, как Степан рубится с тремя нукерами, а рядом с ним его верный оруженосец. В тот же миг в плечо ударила стрела, Олег Иванович упал, и последнее, что он услышал, был громкий голос Степана:
— Юшка, увози князя! Головой отвечаешь!
...Он лежал поперёк седла. Конь мчался галопом, оруженосец Юшка придерживал князя.
Олег Иванович не чувствовал боли, плечо онемело.
— Васята с нами? — прошептал он, не надеясь, что Юшка услышит его.
Однако тот услышал:
— Нет Васяты, достали из луков нехристи.
Олег глухо застонал. Ведь он чуял, что не следует вступать в союз с Москвой, поднимать полки против ордынцев. Чуял, но не хватило твёрдости противостоять всеобщему желанию подняться против татар.
Сзади скакали человек тридцать воинов из сторожевой сотни. То один, то другой придерживали коня и, поворотившись, принимали неравный бой, чтобы ценой своей жизни задержать преследовавших ордынцев.
Олег Иванович закрыл глаза. «Хоть бы сознание потерять», — взмолился он, но сознание, как назло, было ясным, даже, напротив, обострённым, и он удивительно отчётливо видел всё вокруг в свете полной луны.
Наказание за ошибки?
Глава двадцать пятая
В том бою Степан был ранен и попал в плен. Он был продан в рабство, испытал всё: унижение, позор, тоску по родине, близким, голод, болезни, мучения... Но выжил! Только через полтора года отыскал его далеко от столицы Орды верный Юшка. Он уцелел тогда в страшной битве с татарами, спас князя, чудом сумел узнать, куда повезли беспамятного Степана, вернулся в Рязань, получил у благодарного Олега Ивановича деньги на выкуп. К княжеским деньгам прибавил свои боярин Корней.
Степан напоминал живые мощи, когда Юшка отыскал его. Истощённого и потому бесполезного раба почти не кормили, давали пустую похлёбку и заставляли работать, нещадно избивая. Неизвестно, сколько бы ещё он протянул.
Когда появился Юшка и, не торгуясь, отдал запрошенный татарином выкуп, Степан расплакался. Но как ни рвался он домой, пришлось подчиниться осмотрительному Юшке и ждать, пока, по словам меченоши, — наградил-таки Олег Иванович Юшку, поднял его по дружинной лестнице, сделал меченошей, — нарастёт мясо на костях и заживут рубцы на исхлёстанных плетью плечах. И ещё следовало дождаться, когда соберётся подходящий караван купцов, возвращавшихся на Русь с ордынскими и хиновскими[41] товарами.
Наконец, к исходу лета, дождались большого богатого каравана, где старшим был московский купец Архип. Караван нанялись сопровождать десять татар-охранников из бывалых немолодых воинов. Отслужив молебен, все двинулись в путь.
К этому времени Юшка рассказал Степану обо всём, что вместилось в три года, прошедшие после вызволения великого князя из плена.
Юшка привёз Олега Ивановича к Лександре Уковичу полумёртвым, потерявшим много крови, не раз впадавшим с забытье от невыносимой боли во время бешеной скачки.
Великая княгиня, выбежав, запричитала, заголосила. Юшка грубо оборвал её — не покойник, чай, живой! Позаботилась бы лучше о знахарях, которые у мещеряков славятся своим ведовством.
Ефросинья поглядела на Юшку непонимающими глазами. Тогда он встряхнул её, как куклу, не обращая внимания на сбежавшихся бояр и дружинников, повторил всё, что до того сказал, и только после этого она, опамятовавшись, начала распоряжаться.
Князя унесли.
За Юшкой пришёл старик тысяцкий, повёл к себе и, усадив за стол, стал расспрашивать.
Юшка знал немного. Дмитрий Иванович отступил к Москве, как слышал Юшка, московские воеводы надеялись отсидеться за каменными стенами нового кремля. Василий Михайлович своей властью воеводы сторожевого полка взял сотню Степана, почти не понёсшую потерь в бою на реке Пьяна, и, никого не спросив, помчался туда, где, по его расчётам, мог перехватить ордынцев, благо, все Степановы вои давно уже пересели на меже на татарских коней, выносливых и быстрых.
Кореев же и воевода Алексин с остатками рязанских и пронских полков ушли к Москве.
— Много наших полегло? — спросил озабоченный тысяцкий.
— Ничего не могу сказать, боярин. — Юшка торопливо жевал варёное мясо, запивая густым киселём.
— Неужто молодой Кореев ничего Василию Михайловичу не наказывал?
— Не знаю, боярин. Я видел только, что сотник Степан с боярином Кореевым и московским воеводой Вельяминовым разговаривал перед тем, как мы поскакали.
В это время за дверью избы, приютившей старого тысяцкого, раздались крики. Потом стукнула дверь, и в избу ворвалась незнакомая женщина, судя по одежде, боярыня. Юшка никогда её раньше не видел. Её пытался удержать один из воев, но она, оттолкнув его, бросилась к Юшке, угадав человека, который привёз великого князя, и, умоляюще сжав у груди руки, спросила:
— Мой-то жив?
— Кто твой? — спросил, торопливо проглатывая кусок, Юшка.
— Васята... Василий Михайлович, воевода сторожевого полка!
Огромные тёмные глаза смотрели с мольбой, страхом, надеждой — всё вместил в себя долгий страдальческий взгляд.
— Прости, боярыня... Убит Василий Михайлович.
Женщина замотала головой.
— Нет, нет... может, ранен?
— Рад бы сказать — ранен. Но сам видел... Татарская стрела прямо в горло вошла.
— В горло... — Боярыня застывшими глазами смотрела на Юшку, словно пытаясь что-то понять. — В шею? Но ведь он мог и выжить, если...
— Боярыня, вторая стрела попала ему в голову... Больше я ничего не видел, нас засыпали ордынцы стрелами.
— Значит, бросил его великий князь? Вася его спас, а он бросил?
— Великого князя я раненого увёз, мне мой сотник приказал. Я выполнил. — Юшка встал, отвернулся от боярыни, поклонился тысяцкому.
— Благодарствуешь! Прикажи дать мне свежего коня, хочу вернуться, узнать, куда мой сотник делся. Жив, мёртв... Я видел, что и его стрелой вражеской ударило.
— Иди, воин. Я сейчас распоряжусь. — Старый тысяцкий тоже встал из-за стола.
— Окажи милость, вели и мне хорошего коня выделить, — тихо сказала боярыня.
— Зачем он тебе, Дарья Ильинична?
— Поскачу с ним, — твёрдо ответила она, указав на Юшку.
— Ты бы спросила, возьмёт ли он тебя с собой? — попытался урезонить её тысяцкий.
— Возьмёт! — уверенно сказала боярыня.
Юшка внимательно глянул на неё.
Моложавая, статная, привлекательная, она излучала решимость и волю.
— Куда ты, Дарья Ильинична? У тебя малый сын, дочь... Не приведи Бог, сгинешь, с кем останутся? — вздохнул тысяцкий.
— Великий князь Олег Иванович позаботится. Он Васю бросил, может, детей его не бросит. Ты так и передай, когда в себя придёт: не вернётся Дарья — дети её и Василия на нём! — Повернувшись к Юшке, она требовательно спросила: — Тебя как звать?
— Юшка.
— Идём, Юшка. Боярин коней нам достанет. Покажешь, где тот бой... — Она не смогла закончить, зажав рот руками, но сдавленные рыдания прорвались.
Юшка тяжело вздохнул и пошёл к двери, оглянувшись на тысяцкого. Тот лишь горестно покачал головой...
О боярыне, вдове Василия Михайловича, Юшка рассказывал с необычной для него восторженностью.
Она вынесла всё: и долгую скачку по лесным тропам к месту последнего боя Степана и Васяты, и поиски мужа среди трупов воинов сторожевой сотни, и то, что не сразу обнаружила его, ибо оказался он в стороне раздетым до исподнего, — видно, позарились татары на дорогую броню и кожаную подбронную одежду.
Степана среди убитых Юшка не нашёл и сделал единственный возможный вывод: попал в плен. Можно было предположить, что продадут его ордынцы в Сарае, как только залечат раны...
— Никто не лечил, — сказал со злостью Степан в этом месте рассказа.
Верный меченоша помолчал, собираясь с духом, и поведал Степану ещё об одной напасти, которая произошла в доме Корнея за два года плена. Как впервые появились сваты князя Милославского, переломившего таки себя и повинившегося перед Олегом, как суетился Корней, принимая сватов, как бросилась в отчаянии Алёна к матери. Юшка рассказывал всё это в подробностях, которые узнал от Пригоды. Мать без колебаний приняла сторону дочери. Две женщины выработали нехитрый, от века проверенный способ оттянуть свадьбу: боярыня объявила мужу о женских болестях Алёны. Для отца это было как гром среди ясного неба, но делать нечего, под напором жены и дочери сговор отложили.
Караван неторопливо шёл вперёд, следуя левым берегом извилистого Дона. Дальше, после впадения в могучую реку Северского Донца купцы собирались разделиться и отпустить татарское охранение. Одни направлялись в Нижний Новгород, другие в Рязань и Москву.
Все бесконечные дни пути Степан, сопровождаемый Юшкой, скакал за караваном, постепенно обретая утраченную в плену силу и сноровку. К котлу он садился голодный как волк, поедал и баранину, и мучную похлёбку, и лепёшки в неимоверном количестве.
Над этим шутили, и он с радостью отвечал на шутки. Чем дальше уходил караван, тем светлее становилось у него на душе. Он даже пел иногда. Юшка вырезал дудочку и подыгрывал, как когда-то в Москве, под стенами кремля. Порой приходили татары, слушали, покачивая головами и цокая языком от удовольствия.
Первые признаки тревоги появились на пятый день. Что-то неуловимо изменилось в степи: меньше стервятников кружилось в небе, куда-то исчезли стаи ворон. Татары забеспокоились, Степан видел, как крутили они головами, оглядывая степь. Потом пришёл со своими мыслями к Степану Архип. Он не первый десяток лет ездил этим путём, знал все приметы дороги.
— Что-то тревожно мне, Степан, — сказал он озабоченно, — бродников не видать, исчезли...
Степан никогда не встречался с бродниками, но слышал о них много. Эти загадочные степные жители обосновались в среднем и нижнем течении Дона с незапамятных времён. Кто утверждал, что они происходят от людей, некогда бежавших из половецкого плена, другие считали, что появились они здесь ещё раньше, при хазарах. Говорили бродники на русском, но знали и кыпчакский и даже черкасский языки, было в их речи много заимствованных слов. В их облике причудливо смешались черты славянские с восточными. То полыхнут вдруг небесной синевы глаза из-под чёрных прямых волос, упавших на лоб, то светлые, выгоревшие до цвета головы кудри сочетаются со жгуче-тёмными миндалевидными глазами. Женщин бродников мало кто видел, их прятали от взоров посторонних. Но ходила молва, что они красивы, горды, независимы и не уступают мужчинам на охоте, рыбалке и в бою.
Обычно караванщики встречали бродников, добравшись до среднего течения Дона. Они появлялись из зарослей прибрежного тальника всегда неожиданно. Загорелые до черноты, обросшие, во всём домотканом, хорошо вооружённые, бродники предлагали в обмен на разные товары рыбу — копчёную, вяленую, свежую. Но нынче их не было.
— Третий день как должны объявиться, — сказал Архип Степану. — Однако ни их, ни следов становищ... Сколько лет хожу с караванами, завсегда они тут поджидали. Куда подевались?
Утром следующего дня Степану показалось, что татар, охраняющих караван, стало больше. Правда, всадники всё время крутились вокруг своего старшего, о чём-то возбуждённо говорили, иногда вскрикивая, поэтому пересчитать всех доподлинно Степан не смог. Он позвал Юшку, попросил незаметно сосчитать татар, а сам поспешил к переднему возу, к Архипу, поделиться наблюдением.
Вскоре подъехал начальник охраны и потребовал отдать условленную плату.
— Как же так? Договаривались о сопровождении до Оскола, а вы... — стал было возражать Архип.
Татарин перебил:
— Мы уезжаем. Если не хочешь, чтобы я взял силой то, что ты должен отдать мне добром, плати. Будем брать силой — возьмём больше.
Пришлось заплатить, и татары немедленно ускакали. Подъехал Юшка. Он насчитал одиннадцать человек. Выходит, прискакал незамеченный гонец. А это значит, что там, в Орде, что-то произошло. Что?
Всех охватила тревога.
Многие годы набегов позволяли предположить лишь одно: Орда собралась в поход на Русь.
Степан оглядел взволнованные лица спутников, хотел было поговорить с Архипом, но передумал и отвёл в сторону Юшку.
— Что будем делать?
— Если ты выдержишь долгую скачку... — начал Юшка.
— Выдержу, — перебил его Степан.
— Тогда нам прямой путь на север, к нашим засекам и заставам, в межевой городище, а оттуда — в Рязань.
— Я так же разумею.
Их отъезд огорчил купцов: два бывалых воина покидали караван.
...К концу дня показалась первая застава на пути — несколько землянок и сколоченная из нетёсаных жердин сторожевая вышка.
— Вроде на верху никого, — удивлённо заметил Юшка, вглядываясь из-под руки.
Они пришпорили лошадей.
На заставе никто не встретил, она на самом деле оказалась пустой. Б землянке, куда вошли, угли в очаге уже остыли, но в глубине зола ещё хранила тепло. Видно, покинули воины заставу не далее как день назад.
Брошенной оказалась и вторая застава. Кругом расстилалась пустынная притихшая степь. Обеспокоенные, Степан и Юшка поскакали к городищу во весь опор и достигли его поздно вечером. Стражник долго не хотел их впускать, поднимать тяжёлые ворота для конных. Только разглядев при свете факела в оконце Юшку, ворча и кряхтя, поднял ворота, а увидев Степана, обрадовался:
— Тебя сам Бог послал!
Расспрашивать его не стали, а поскакали прямо к молодечной избе.
Там никто не спал.
На площади перед молодечной и Сотниковой избами при свете нескольких факелов собрались все воины сторожевой сотни. На крыльце стоял незнакомый десятник и что-то кричал, надсаживаясь, но слов было не разобрать. Юшка спешился, подошёл к ближайшему воину, спросил:
— Что стряслось?
— Аль не знаешь? — Воин не узнал Юшку в неверном свете далёких факелов. — Бегич идёт. Вчера гонец прискакал.
Степан, ожидавший чего-то подобного, не удивился и даже не почувствовал особой тревоги.
— А почему шум-то? — вновь спросил Юшка.
— Сотника третьего дня в схватке ранило, кончается. Вот и шумят вой без вожака-то... Одни говорят, надо в Рязань подаваться, другие — вслед за бабами и скотиной в леса уходить, в ельники, засеки делать, третьи — здесь оставаться, бой принимать.
Степан не дослушал и стал проталкиваться к Сотниковой избе.
Уже у крыльца кто-то из старых воинов узнал Юшку, принялся расспрашивать, но тот отмахнулся и вошёл в избу вслед за Степаном.
Жена сотника, ещё молодая, худенькая женщина, меняла мужу, разметавшемуся на ложе, тряпицу на лбу. Сотник как раз открыл глаза и, заметив Юшку, не удивился, а спросил, приподнимаясь:
— Выкупил?
Жена, не поняв сотника, что-то зашептала ему, успокаивая, но тот продолжал:
— Привёз?
— Выкупил и привёз.
— Где он?
— Тут я, — вышел из-за Юшкиной спины Степан.
— А-аа... вот, видишь... довелось встретиться... Бегич идёт, знаешь?
— Знаю.
— Принимай людей... — Обессилев от долгой речи, сотник откинулся и закрыл глаза.
— Куда ранило-то?
Стоявший рядом десятник молча показал на низ живота. Юшка горестно покачал головой.
— Третий день мучается, сил нет смотреть...
Юшка опять кивнул: сотник не жилец — с такой раной и три дня чудо.
Тот опять приоткрыл глаза.
— Мыслю, сотню надо уводить в Переяславль, — прошептал он. — А меня оставьте, мне уж недолго... Иди, Степан, скажи, я приказал тебе сотню принять... Старики тебя помнят... — От напряжения в уголках рта появилась кровь, сотник захрипел, глаза закатились. Он тяжело и прерывисто задышал и стал обирать руками овчину, брошенную на него.
— Кончается, — вздохнул десятник.
Жена сотника негромко завыла. Степан склонился к нему, сказал тихо, в самое ухо:
— Всё сделаю, не волнуйся, — и поцеловал мокрый от выступившего пота лоб. Потом выпрямился, постоял молча, вспоминая: сотник при нём был десятником, потом полусотским. Чудом спасся в тот налёт, когда Степан попал в плен, межу знал насквозь, но, видимо, порядок держал плохо, иначе чем объяснить это сборище всех воинов, обязанных быть на засеках и заставах?
Степан мысленно попрощался с умирающим и вышел из избы. Его ждали. Что скажет?
— Други! — Степан поднял руку. — Я был вашим сотником до плена. Волею Божьей вернулся в трудный час и клянусь сделать всё, что в моих силах. Верите мне?
— Верим! Верим! Ты наш сотник! — раздались голоса.
— Вот мой приказ: немедля баб, детей, стариков, скотину гнать в дальние леса, в ельники, пусть делают засеки, обживаются. Сотне утром выходить в Переяславль.
...Имя Бегича на Руси хорошо знали. Он не раз возглавлял малые и большие налёты, считался опытным и удачливым полководцем. Звезда его взошла в годы, когда началась в Золотой Орде смута после смерти хана Бердибека. К этому времени другой военачальник, темник Мамай, выбившийся из простых нукеров благодаря уму, хитрости, жестокости, воинской удаче, занял главенствующее место у ханского трона. Бегич отдал ему свой меч и поднимался вместе с ним к вершинам власти. Он видел, как постепенно забрал Мамай в свои руки всю полноту власти, как стал по своей воле сажать на шаткий золотоордынский трон потомков Чингисхана, изнеженных, неспособных править разноплеменной Ордой, как властно управлял от их имени и из-за их спин войском и государством. За эти годы Мамай предусмотрительно укрепил и свой улус, Крым, подчинил ногайские орды, превратив их в ударную силу, разящую саблю своего тщеславия и властолюбия. И когда наконец Мамай решил, что пора начинать борьбу за самый престол Чингиса, отбросив царевичей, как надоевших кукол, Бегич стоял с ним рядом. Мамай понимал, что власть в пределах дворца — это одно, а власть великого хана, избранного на великом хурултае[42], как был избран Чингисхан, — совсем другое. Он мечтал о такой власти. Путь был один — победы. Первой победой должен был стать разгром окрепшей Руси, возвращение старых Батыевых даней. Это обогатит всех знатных монголов и станет первым шагом к трону. Но Мамай не был бы Мамаем, хитрым степным лисом, если бы сам очертя голову пошёл в поход против Руси. Нанести первый, разведывательный удар должен был, по его замыслу, Бегич. За ним пойдёт и сам Мамай.
Столица встретила сторожевую сотню Степана открытыми воротами и тишиной. Издалека доносилось пение слабых стариковских голосов. Поскакали в ту сторону. Оказалось, в церкви молились немногие, что не ушли из города. Остальные при первом известии о Бегиче покинули, по словам старенького попика, Рязань со скарбом, скотиной и припасом. Князь, бояре, дружина, полки — все ушли привычным путём на север, в Мещеру, в леса и болота.
— Устрашился, выходит, князь? — раздражённо спросил Степан.
— Умудрился прошлыми разорами, — укоризненно поправил Степана попик и, полагая, что не понял его воин, пояснил: — Не восстановил ещё силы наш князь после недавнего налёта басурман проклятых, нет у него ни полков, ни удальцов. Да и нужно ли дружину класть, коли не можешь остановить Бегича? — торопливо заговорил поп. Степан мучительно размышлял, что ему делать теперь.
— А Москва что? — спросил он наконец, перебив попика.
— Москва ополчается. Многие наши рязанцы туда подались. И Пронские с Москвой.
— Значит, Москва ополчается, Пронские тоже, а наш князь в болота?!
Попик закрестился, попятился, не находя слов, и скрылся за церковной оградой. Степану не было нужды в его ответе — опять, второй раз за несколько дней ему предстояло принять решение и за себя, и за сотню с лишним доверившихся ему людей. Несомненно, у Олега Ивановича были свои соображения, когда он без боя оставил столицу и ушёл на север. Но мысль о том, что другие собираются дать татарам бой в то время, как рязанцы уходят, заполняла душу гневом. Сердце, совесть требовали без рассуждений вести сотню туда, на север, за Оку, навстречу московским полкам. Хоть и не велика сила — сотня — а всё же опытные воины, возмужавшие в стороже на меже, никогда не бывают лишними в трудном бою. Но как сделать это без повеления Олега Ивановича? Степан глянул — вот она, сотня, стоит недалеко. Пожилые воины спешились, заботясь о конях, молодые сидят в сёдлах. И те и другие спокойно смотрят на него — они вверили ему и судьбу, и честь свою и теперь не сомневаются, что он примет правильное решение. А он? Господи, как бы хотелось самому кому-то ввериться, спросить совета. Степан посмотрел на Юшку:
— А ты что скажешь?
— Не может быть такого, чтобы никто из рязанцев не пошёл к Москве. Чай, не в первый раз.
— То простые рязанцы, ополчение, они вольны в своих поступках. А мы сторожевая сотня, — вспылил Степан. — Не понимаешь будто!
— А чего тут понимать-то? Дело ясное. Только перед Ордой всё едино — сторожевик ты или нет.
— Ну так что?
— А ничего. Тебе, сотник, решать.
Но решения не было.
Из-за ограды осторожно выглянул давешний попик.
— Эй, воевода, а молебен не закажешь?
— Молебен? — не понял Степан.
— О ниспослании победы. Я так понимаю, что ты с Москвой надумал соединяться?
— А ведь ты прав, поп! Служи молебен! — Степан, спешившись, пошёл в церковь.
Юшка достал кису, извлёк резанку, кинул попу и тоже пошёл в храм.
К ограде стала подтягиваться сотня...
Глава двадцать шестая
Опять, как два года назад, мучили Олега Ивановича сомнения. Десятки разгромов и разоров, обезмужевшая земля говорили, что надо уходить, уводить в глухомань полки и мужиков. Гордость же шептала, что невозможно без конца убегать от ордынцев, тем более что они всё едино умудряются терзать Рязанскую землю, топтать её копытами своих коней, грабить и уводить в полон людей.
Опять договариваться с Москвой, вставать под Дмитрия? А если и на этот раз потерпят поражение московские воеводы, а вместе с ними и рязанцы?
Ефросинья, два года назад напугавшаяся за мужа столь сильно, что у неё стало болеть сердце — пришлось отказаться от любимой соколиной охоты, — умоляла уходить привычными путями.
Поддерживал её и Епифан Кореев. От него и узнал с удивлением Олег Иванович, что ночью тихо уехала в сторону Мещеры вдова Васяты, забрав с собой дочь и сына, обезножевшую мать Васяты, старую боярыню Арину, несколько возов добра.
Странные отношения складывались у князя с Дарьей: она не замечала его, словно не было между ними ни прошлого, ни настоящего, а только вина в гибели Васяты, которую Олег Иванович за собой не признавал.
Степан встретил войско Дмитрия Ивановича Московского на левом берегу полноводной после осенних ливней реки Вожи, правого притока Оки. На счастье, первым, кого увидел, был воевода сторожевого полка Семён Мелик, давний знакомец: все сторожевики — московские и рязанские, пронские и брянские — знали друг друга или понаслышке, или по встречам в Диком поле.
— Говоришь, повелением Олега Ивановича идёшь к нам? — спросил Мелик.
Степан этого не говорил, но возражать не стал.
— Негусто для подмоги, негусто...
— За нами другие идут, припозднились, — покривил душой от великого стыда Степан, но по хитрому прищуру глаз Мелика понял, что тот видит его насквозь. Вспомнились рассказы, ходившие на меже, о налётах Семёна в глубокие татарские тылы, о захвате «языков», об умении заставить говорить почти любого, даже самого «каменного» монгола.
— Пойдёшь под мою руку? — Мелик ушёл от скользкого разговора.
— С радостью.
В тот же день довелось Степану увидеть Дмитрия Ивановича. Московский князь, всего на два года старше Степана, был грузноват для своих лет, но в его улыбке, быстрой и лёгкой, Степан увидел что-то мальчишеское, азартное. Под стать ему был и двоюродный брат Владимир Серпуховской, уже завоевавший, несмотря на свою молодость, громкое прозвище Храброго. По левую руку от Дмитрия стоял ещё один воевода, которого Степан не сразу распознал, — Дмитрий Боброк-Волынский, тот самый, что когда-то легко разбил полки Олега Ивановича и посадил на рязанский стол Владимира Пронского. Степан смотрел на него, но не ощущал ни злости, ни обиды. Боброк был человек, умудрённый боевым опытом, с лицом спокойным, даже немного равнодушным, старше Дмитрия. Он повидал на своём веку и польские, и литовские, и ливонские рыцарские полки, татар, венгров и свирепых наёмников-огузов, недавно появившихся в болгарских войсках. Что привело его в Москву и заставило отдать свой меч и знание молодому тёзке? Отпрыск младшей ветви некогда прославленного Волынского рода, понял ли, что нет для него будущего на родной земле, или мудрость, опыт, великое вежество[43], что поддерживались на Волыни со времён Древней Руси, помогли ему провидеть будущее Москвы и отдать себя растущей столице Руси? Степан этого не знал, но ощущал, что встретил, пожалуй, не менее значительного человека, чем был великий князь Дмитрий Иванович.
Дав Степану отдохнуть, Мелик послал его в поиск на правый берег Вожи, напутствуя словами:
— Ваша, Рязанская, земля, там тебе каждая кочка знакома.
Степан решил идти один, без Юшки. Тот возмутился, запротестовал. Как ни убеждал Степан, что он-то знает язык — за два года выучил, Юшка не унимался. Только слово прославленного воина Мелика, поддержавшего Степана, оказалось решающим, — меченоша подчинился.
Ночью Степан переоделся: снял русский воинский плащ, натянул на кольчугу овчинную безрукавку, шлем с шишаком заменил татарским с длинным оплечьем, узкими вырезами для глаз и низким наносником. Шлем почти полностью скрыл лицо. Степан давно уже отдал предпочтение тяжёлой татарской сабле и не пользовался русским прямым мечом, так что оружие менять не пришлось.
С превеликой осторожностью он миновал передовые разъезды татар. За перелеском увидел уходящие вдаль костры. В стороне угадывались табуны пасущихся лошадей. Степан подошёл к ближайшему костру, — никто не обратил на него внимания. Он постоял, прислушался. Из разговоров выходило, что идёт Бегич прямо на Москву, делая всё, чтобы до решающей битвы не распылить мощный, крепкий, единый кулак своего войска. Воины ворчали, что не позволяют им ни отъехать в сторону, в сельцо или деревеньку, ни пошарить, порыскать по домам, ни развлечься с русскими бабами — за любой проступок джагун[44] грозит наказанием.
Побродив от костра к костру, Степан постепенно понял, где располагаются главные силы Бегича.
Возвращался он другим путём, в обход костров, лесом. Вышел на поляну и не успел осмотреться, как его внезапно окружили три конных татарина из передового разъезда и потребовали назвать свою сотню и имя джагуна. Степан рискнул ответить по-татарски, но старший разъезда что-то заподозрил, упёрся копьём ему в спину и приказал идти вперёд. Уйти из леса означало погибнуть. Степан рванулся и побежал, петляя как заяц, под защиту деревьев, в их спасительную густую тень. Татарин нагнал его, ударил по шлему тупым концом копья, — видно, хотел взять пленного живым. Степан устоял, извернулся, выхватил саблю, ловко отбил второй удар, рубанул татарина по бедру и метнулся в гущу леса.
...Докладывал Степан самому Дмитрию Ивановичу в его походном шатре.
Несмотря на глухую ночь, никто из военачальников не спал. В шатре собрались все набольшие воеводы: князь Владимир Серпуховской, Боброк, боярин Вельяминов, Семён Мелик, какой-то неизвестный молодой боярин. Потом Степан узнал, что это был друг детства Дмитрия Ивановича Миша Бренк, из неродовитых, преданный великому князю как пёс.
Закончив рассказ, Степан стал ждать вопросов, разглядывая суровые в свете слабого коптильника лица москвичей.
— Значит, считаешь, что Бегич все полки в один кулак собрал? — первым спросил Дмитрий Московский.
— Да, великий князь.
— В прошлом они, бывало, разными дорогами шли — тремя, а то и четырьмя, — раздумчиво сказал Вельяминов.
— Хороший полководец всегда меняет повадки, — усмехнулся Боброк...
Битву на реке Воже уряживал сам Дмитрий Иванович. По его приказу сотня Степана и ещё две сотни из сторожевого полка Мелика должны были незамеченными переправиться на правый берег Вожи и там поджидать татар. Дальнейшая задача была проста: показаться, осыпать противника стрелами, на глазах у него преодолеть вброд реку, вернуться на высокий левый берег и соединиться с остальными войсками.
Всю глубину замысла Дмитрия Степан понял только тогда, когда русские воины стали сверху засыпать стрелами смешавшиеся ряды татар, кинувшихся преследовать показавшуюся им лёгкой добычу. Разбитый копытами трёх сотен коней глинистый берег стал дополнительным препятствием для ордынцев. Но всё же Бегич сумел собрать своих воинов, прорваться к великому князю и навязать ему конный бой. Был момент, когда татары окружили оторвавшегося от своих Дмитрия Ивановича. Степан заметил это, рванулся, свалил одного татарина, и тут же водоворот битвы унёс его от Дмитрия. Но к князю уже подоспели его дружинники.
Татары дрогнули и покатились назад...
Радость переполняла Степана. Её не могли омрачить ни большие потери, понесённые его сотней, ни ранение, выбившее его на несколько дней из седла. Он был горд, что довелось ему стать участником битвы, в которой Русь впервые победила Орду.
...Тихонько зазвучала Юшкина дудочка. Последний раз он извлекал её из перемётной сумы, казалось, давным-давно, чуть ли не в прошлой жизни — месяц назад, когда ехали они, беззаботные, с караваном купцов, возвращаясь из татарщины домой. Сколько же всего произошло за этот месяц! Видимо, нынче на душе у Юшки стало спокойно, иначе не достал бы он дудочку.
Степан обернулся — Юшка, отстав на полкорпуса, ехал, наигрывая и полузакрыв глаза. Степан прислушался и негромко запел. Слова сами «ложились» на язык:
Эх, да как на Воже-реке притрепали татар Полки князя московского Дмитрия. Впереди стоял полк Вельяминова, За ним стоял полк князя Пронского...И замолк. Оборвалась и замысловатая трель дудочки.
— Что же ты? — спросил оруженосец. — Так хорошо повёл зачин.
— Не задалась песня.
— Почему не задалась? — удивился Юшка и повторил: — «Эх, да как на Воже-реке...»
— Сказал — не задалась, — повысил голос Степан с раздражением, самому непонятным. Только сейчас на душе было так спокойно и радостно. Откуда оно пришло, это раздражение? Может быть, вовсе не корявая песня тому причиной, а постоянная мысль об Алёне, неотделимая от мыслей о победе, о том, что с ним теперь будет, как примет его князь Олег Иванович.
Юшка отстал ещё на полкорпуса. Глухо брякнул шлем. Степан понял: небось оторочил его от седельной луки и теперь чистит, хотя шлем и без того сияет, словно золотой. Показывает, что не лезет в душу господину, он всего-то слуга, коему положено охранять в бою и следить за оружием. Степан поправил повязку, лежащую на русых волосах, как бы показывая, почему пропало желание сочинять песню: болит, мол, голова. Опустил руку, оглянулся — Юшка начищал шлем, не поднимая глаз.
Степан подумал, что надо бы объяснить другу, отчего не задалась песня, но простые и ясные слова не приходили. Он и раньше часто размышлял о тайне песнетворчества. Пытался понять, почему одна песня идёт прямо к сердцу, а другая не трогает ни ум, ни душу и умирает, едва вырвавшись из уст певца. В плену он прислушивался к заунывным, однотонным напевам татарина-табунщика, которые хоть и чужеродно звучали, а всё ж трогали сердце. А как всё это объяснить словами — не знал.
— Понимаешь, Юшка, — наконец заговорил Степан, — не всякая песня задаётся.
— Мне понравился зачин. — Юшка тронул коня и поравнялся со Степаном.
— Песня — это не летопись, где можно перечислять события, не воспаряя над ними умом... — задумчиво продолжил Степан.
— Ив летописи неплохо бы воспарить, — неожиданно возразил Юшка, и Степан в который раз подумал, что не так уж прост его оруженосец.
— Верно! — согласился он. — Ив летописи неплохо было бы воспарить умом над суетой повседневных дел. А то ведь как: иной монах, изведясь в бессоннице, уронит на заре голову на пергамен, а на нём выведено лишь несколько слов: «В лето шесть тысяч восемьсот шестьдесят третье...» А что в это летом произошло — невдомёк бедолаге-летописцу. Тут уж и не до воспарения. А другой напишет: «Ныне же радость в сердцех аки опара поднимается...»
Радость, казалось бы, должна была переполнять и его, Степана, — за плечами победа, впереди встреча с Алёной, — но отчего-то было тревожно. Потому и не задалась песня, что все мысли были об Алёне: что с нею? как она? сломал ли её сопротивление отец, дал ли согласие Милославским? Если дал, то переступить через боярское слово будет ох как трудно. Пожалуй, даже невозможно...
Чем ближе подъезжали к Переяславлю, тем очевиднее становилось: Орда, двигаясь на Москву, прошла здесь «правым крылом», оставив за собой сожжённые и разорённые деревни и сёла.
При виде всего этого мысли об Алёне отступали. Не только Степан, но и воины его не могли оставаться равнодушными посреди разгрома, лица их стали мрачными, хмурыми, смех и шутки стихли. Приподнятое настроение, что царило в сотне после победы на Воже, за полдня пути полностью улетучилось.
По словам встречных, сам Переяславль пострадал ещё сильнее, чем окрестные сёла. Старый княжеский терем татары, не найдя в нём сокровищ, предусмотрительно вывезенных рачительной княгиней Ефросиньей, в ярости спалили.
Степан с сочувствием думал, каково Олегу Ивановичу глядеть на всё это, зная о торжествах в Москве по случаю победы. Не могло, конечно, служить ему утешением то, что Пронское княжество, выставившее в помощь Москве своё войско и теперь празднующее победу вместе с Дмитрием Ивановичем, тоже разорено отступающими татарами, причём с ещё большей жестокостью, нежели Рязанское.
И как надежда на будущую, лучшую жизнь, отовсюду доносился стук топоров — рязанские мужики строились. Степан с радостью узнал, что Олег Иванович велел всех, кто строится, пускать в княжеские леса, разрешил валить там отборный лес.
Князь Олег Иванович после возвращения в обезображенный пожаром детинец, в центре которого громоздились обугленные брёвна, всё время пребывал в раздражении. Правда, на людях он старался быть спокойным и даже улыбчивым, но в кругу близких не давал себе труда сдерживаться.
Наблюдательный Епифан, который, зная Олега Ивановича как себя самого, всегда поражался его способности скрывать свои чувства, с удивлением видел: в суждениях стал непривычно резок, несговорчив, зачастую противоречил сам себе, за каждым словом скрывалась издёвка над собой или над собеседником. Проглядывала и подозрительность — не злопыхательствует ли кто над ним, в который раз не угадавшим ход событий и не сумевшим предвидеть победу Москвы.
А тут ещё приехал со своей обширной семьёй старый князь Милославский, давно прощённый за предательство, но так и не обретший милость Олега Ивановича, и принялся жаловаться, что Орда прошлась огненным ураганом по его уделу. Он, не скрываясь, говорил: лучше уж было выступить вместе с Москвой, тогда боль от разора утишилась бы радостью победы.
Масла в огонь подлила, сама того не желая, и княгиня Ефросинья, вдруг решив пересказать сплетни: мол, старик Милославский хочет женить внука на дочери боярина Корнея, взять за ней большое приданое и тем поправить дела в своих владениях.
Великий князь не сдержался и при Епифане накричал на жену, чего раньше никогда не делал. Правда, потом повинился, объясняя свой гнев неразборчивостью боярина Корнея, которому хоть с чёртом, но родовитым, породниться.
Раздражал Олега и старый дурак боярин Ахломатый, племянник совсем уже немощного дворского: распускал слухи, будто в скорости получит по наследству дядюшкино место.
...У Алёны заболело сердце, словно знак подало. Именно в этот день накатила, налетела беда: вдругорядь приехали к боярину Корнею сваты от Милославских. Только-только отстроились после возвращения в Переяславль, убрались, огляделись — и как снег на голову, не засылая сваху, — нарочно, видимо, чтобы не нарваться на вторичную отговорку, — прикатили. Убранная коврами колымага цугом, десяток дружинников впереди, два десятка сзади, в сватах сам старший сын старика Милославского, дядя Ростислава, да кто-то из родни Пронских, да двое бояр удельных. А у Корнея поварня только что отстроена. Забегала дворня Корнеева, засуетилась, ахи, охи, боярин — одна бровь торчком от гордости, другая насуплена от ярости, боярыня — лебедем плывёт, за ней красные девки с подносами, уставленными чарками...
Алёна как углядела сватов, так и забилась в своей светёлке, заметалась, заламывая руки в отчаянии. Мысль одна: не успели! Только вчера тайный гонец от Степана прискакал со словами радостными — едут с победой! И вот... Если батюшка даст слово, то конец... Нельзя допустить, чтобы он слово дал, нельзя! А как?
Отворилась дверь, в светёлку вошёл боярин Корней. Впервые за всё время девичества Алёны — без стука, без спроса.
— Что стоишь, аки столб соляной? Гости, а она в затрапезе.
Алёна как стояла, так и бухнулась отцу в ноги:
— Батюшка, откажи сватам!
— Как отказать? — оторопел боярин.
— Откажи! Не люб он мне!
— Да ты знаешь, о ком говоришь? Княжич Ростислав, — всё ещё не понимая, что происходит, принялся втолковывать неразумной дочери Корней, — тебя, почитай, два года ждал, пока ты от болестей своих избавишься. А недавно в Мещере на охоте увидел.
— Батюшка, смилуйся... не люб он мне.
— Зато ты ему люба! — повысил голос боярин. — Два года тебя ждал.
— Два года он о моём приданом мечтал, — не удержалась Алёна и поднялась с колен. — Не пойду я за него.
— Пойдёшь! — наливаясь гневом, закричал боярин.
— Не пойду!
— Ты кому перечишь?! В девичьей сгною! В монастыре похороню!
— Воля твоя, батюшка, пусть монастырь, пусть... Моё слово окончательное.
— И моё — не мякина на ветру!
— Ты уже дал его князю?
— Как я сказал, так и будет! — ушёл от прямого ответа отец, и Алёна радостно поняла — самое страшное ещё не произошло. — Выбирай: или сейчас же облачишься, как подобает боярской дочери, и к сватам выйдешь, или завтра в монастырь.
— Пусть будет монастырь.
— Что ты сказала?
— Пусть будет монастырь, — раздельно, твёрдым голосом, без всякого выражения повторила Алёна.
В светлицу вбежала боярыня. Одним взглядом охватила всё — и стоявшую как каменное изваяние дочь, и гневного мужа.
— Батюшка! — закричала с порога. — Одумайся, не губи!
— В монастырь!
— Бог с тобой, Корней Андреевич! Доченька! Одумайтесь... не гневите Бога, нешто можно в монастырь без зова в сердце, без покаяния.
— А замуж без зова в сердце можно? — тихо спросила Алёна.
— Смилуйся, Корней Андреевич. Видишь, не в своём уме она от неожиданности. Погоди с решением, потяни со сватами, не люб он ей. И не время...
— Опять не время? — рявкнул Корней. — Выло уже не время, послушался тебя. Сегодня чуть со стыда не сгорел, когда сказал старый князь, что на княжьей охоте мою болезную видел. Кто её на охоту пустил? Ишь, не время... Да она уже перестарок, того и гляди, в девках засидится.
Сгоряча Алёна выкрикнула:
— Если ты мне, батюшка, счастья желаешь, то не засижусь.
Корней уставился на дочь, медленно соображая:
— Как ты сказала? Не засидишься? Уж не сама ли мужа себе выбрала поперёк отца-матери? — Затем гневно жене: — Вот оно, твоё мягкосердие, потворство, потачки вечные: монаха ей читать-писать учиться, коня — на охоту скакать, сокола — словно княжне, красной потехой заниматься, пергамен — книги переписывать...
— То не я, батюшка, то ты всё радовался, разрешал, потакал, — промолвила боярыня.
— А ты бы её за пяльцы, да за соленья, да к вареньям, да с иголкой, да к заутрене... Плёткой бы...
— За что плёткой? — удивилась боярыня.
— Молчи! — крикнул Корней, поняв, что заговорился. — Умна больно выросла! В монастырь... в дальнюю вотчину, если сей же час не выйдешь к сватам с чаркой! — Он выбежал вон.
Боярыня села на ложе, жалостливо глядя на дочь:
— Зря я в тот раз навстречь тебе пошла, потачку дала. Погубила ты свою молодость, погубила жизнь...
— Да как я, матушка, на брачное ложе лягу, если не люблю? Нет, лучше в монастырь... И не погибель это вовсе, а тишина и спасение...
— Эх, доченька, в монастырь только один путь — туда, обратного нет. Усохнешь там и счастья бабьего не изведаешь, детей не родишь. Очи мутными от слёз станут, грудь пустоцветом повянет, косы под ножницами падут, и уж никогда не заплетёшь их боле... Не узнаешь объятий мужниных, — запричитала боярыня.
— Постылые объятия мне не нужны. Не люблю я его!
— Так ведь и я, доченька, за твоего отца не любя вышла. Не токмо что не любя, не видя. Сговорили, и всё. Стерпится — слюбится. Сердце девичье глупое...
— Что же и мне, матушка, как тебе, ночами слёзы лить, днями молиться? Думаешь, не видела? — жестоко спросила Алёна.
— Видела, а не понимала. Я не потому слёзы лила, что не люблю. Я за четверть века полюбила твоего отца всем сердцем, и каждое его громкое слово мне обидно... А больше всего на свете хотела бы я ему сына подарить — ан нет, не даёт Бог...
— Стелешься ты перед ним, — уже мягко сказала Алёна и села рядом с матерью, чтобы обнять, поцелуем попросить прощения.
— Вот именно, красной дорожкой перед ним стелюсь. И он туда идёт, куда его дорожка ведёт... Может, забыл тебя Степан-то? — неожиданно спросила мать.
— Не забыл, — вздохнула Алёна. — Едет он с победой и с добычей и надеется на княжескую милость.
Боярыня задумалась... Она догадывалась, через кого проникают к дочери сведения о Степане: через Пригоду. Но промолчала — если бы не было ближних доверенных девок, то оказались бы отрезанными от жизни боярыни и боярышни в своих теремах да светёлках...
— Какой бы высокой ни была княжеская милость, выше удельного княжества Милославских ей не встать, — сказала она. — Разве можно сравнивать.
— А я сравнивать не желаю. И странно мне это от тебя слышать. Ты же в тот раз помогла мне, а ныне неужто передумала? — Алёна отшатнулась от матери. — Не уговоришь, и не думай.
— Ив кого ты у меня такая, сердцем неистовая уродилась? Вроде обликом тише воды, ниже травы.
— Да уж не в тебя, матушка. В отца, — ответила Алёна.
...Вечером, проводив сватов, хмельной боярин, опрокинув на голову ведро холодной воды, всклокоченный, но помягчевший, поднялся в горницу. Там уже ждала его жена. Она сидела на раскинутом ложе, расплетая косу, в тонкой холстиной сорочице, в меру полная и, несмотря на годы, перевалило за сорок, моложавая. Корней плюхнулся рядом на ложе, погладил широкой ладонью по спине, притянул к себе, но жена гибко увернулась и спросила:
— Отослал сватов?
— А ты пошто не вышла?
— Как не вышла, батюшка? Три раза с братиной с мёдом выходила. Меня всю обмусолили твои сваты, целуючи...
Боярин сосредоточенно поскрёб бороду.
— Эка... да... — Он решил не останавливаться на этом провале в хмельной памяти. — Отослал. Оттянул. Сам не знаю, как слова нужные отыскал... — И снова начал оглаживать жену. На этот раз боярыня прильнула к нему, шепнув: — Ты сапоги-то сними, батюшка...
Пока Корней, кряхтя, стягивал сапоги, снимал порты, разоблачался, она легла и как-то между прочим, словно думая вслух, сказала:
— А я, признаться, рада.
— Чему?
— Что не обнадёжил сватов, слова своего отцовского не дал. Матери всегда с единственным дитём расставаться трудно.
— В монастырь отправить легче?
— Что ты, батюшка, заладил — монастырь, монастырь...
— Так я им сказал: дескать, хочет в монастырь.
— Сейчас хочет, а там, глядишь, расхочет. Тем паче жених-то ихний... слов нет.
— Каких слов нет?
— Не знаю, как и сказать... дело это мужеское...
— Ты о чём?
— Да вот бабы говорят... правда, они завсегда лишку городят, хотя и знают о таких делах втрое больше мужиков...
— Ну! Ты говори, что вокруг да около крутишь! — Корней даже перестал раздеваться, сел и уставился на полулежащую на высоких перинах жену. — Говори! Хитрости плетёшь, дочь выгораживаешь. Чего там бабы языками треплют?
— Какие хитрости? Ты вот хоть крестную спроси...
— Только мне и дела, что баб расспрашивать.
— А если нет дела, так и не нудись.
— Ты начала — так договаривай.
Боярыня притворно тяжело вздохнула.
— Знаешь, что женишка твоего шевлюгой[45] зовут?
— Шевлюгой? — переспросил Корней. — Кто же его так окрестил?
— Кто, кто — народ.
— Глупость одна! Парень хоть куда — кровь с молоком, строен, кудряв, косая сажень в плечах — какой он шевлюга?
— А вот какой: говорят, повадился он к вдове сотника Охрима ночью хаживать. И будто, уходя от неё, еле ноги тянет, словно кляча. Оно, конечно, понятно, дело молодое, только...
— Ну?
— Говорят, что меньшой у вдовы — вылитый шевлюга.
Боярин некоторое время глядел на жену, потом помотал головой, потёр крепко ладонью лицо и вздохнул:
— И давно?
— Да, говорят, уж от груди отняла.
— Что же ты раньше молчала?
— Так сваты как снег на голову. Я было понадеялась, что передумали Милославские-то, коли такое дело...
— Как же, передумают, ежели я за Алёной, почитай, волость даю. Она поболе ихнего удельного княжества... Шевлюга, говоришь?
— Шевлюга.
— Алёна-то знает?
— Бог её ведает, о чём они там, в девичьих да на посиделках, промеж себя говорят.
— А вот я тебя сейчас плёткой!
— За что, батюшка?
— За то, что своим молчанием меня дураком выставила. Я сватам сказал: дочь душой к монастырю склонна.
— Сегодня склонна, завтра нет, — повторила боярыня. — Ты старику Милославскому шепни: мне, мол, шевлюгиных внучат не надо. Сраму ему, дескать, не хотел, потому и сказал про монастырь.
— Вот дела... ну и ну... — Корней ещё раз тяжело вздохнул и опустил голову на высокую грудь жены. Та принялась перебирать мокрые кудри, поглаживать могучую шею. Боярин приподнялся и задул светильник.
Глава двадцать седьмая
В переяславский детинец сотню Степана впустили без обычных выяснений — кто, да откуда, да зачем — там шла стройка. Оказалось, что и молодечную избу татары сожгли. Сейчас строили новую, на том же самом месте, где стояла старая, от которой остались лишь недоубранные головешки.
Сразу же навалились заботы: надо было разместить, накормить, обиходить уставших за месяц боев воинов, большинство которых оказались в стольном граде впервые, потому что, можно сказать, выросли на меже, сражаясь и набираясь воинского опыта. Лишь несколько стариков и двое десятников подались по домам, остальные смотрели на Степана в ожидании. Степан растерялся — он надеялся, что сдаст сотню кому-нибудь из княжеских воевод, а сам помчится к боярину Корнею. Ан нет, пришлось заняться непривычным делом. Тут ещё Юшка куда-то исчез, а без него — как без рук. Десятник сказал, что видел, как меченоша поскакал из детинца к слободам.
Скоро Юшка вернулся. Оказалось, что, когда подъезжали к городу, он приметил стоящиеся избы. Сметливые и расторопные рязанские плотники объединились, приглядели просторное поле и наладили на нём строительство изб для продажи, вязали срубы, стелили полы, рубили окна, крыли крыши. Избы продавали погорельцам — с вывозом и возведением. Юшка не только успел всё разузнать, но и присмотрел две избы — одну пятистенку, другую простую — с сеновалами, где в тёплое время можно спать, хлевами, пригодными под конюшню, баньками, и даже дал задаток.
С помощью воинов уже к вечеру обе избы были поставлены, и сотня наконец расположилась на отдых. Но поток дел не иссякал, и так получилось, что к боярину Корнею Степан приехал только на второй день, к вечеру.
Увидев повязку на голове Степана, боярыня охнула, принялась расспрашивать. Степан отвечал, не отводя глаз от двери — ждал Алёну. Однако она не выходила к гостям, хотя шум поднялся по всему дому. Скоро был накрыт стол. Впервые и Юшку усадили рядом со Степаном. Боярыня потчевала, ласково пеняла, что не вырвал время, не прискакал, не уведомил. Узнав про купленные дома, всплеснула руками — как же так, неужто нельзя было здесь, у них остановиться, чай, не чужой! Но что-то в её словах насторожило Степана: не было в них убеждённости. В чём это выражалось, он не смог бы объяснить, но уловил, почувствовал. Ясность внёс боярин Корней, так прямо и сказав:
— Разумно поступил, сотник, разумно. Ты нам как родной, однако в доме нынче уже не девочка — невеста, люди всякое могут подумать...
Степан продолжал косить глазом на дверь, но Алёна всё не появлялась. Пили и за победу, и за удачу, и за счастье. Степан ждал, что вот-вот боярыня объяснит, почему нет Алёны, но та молчала. Наконец не выдержал, спросил сам, здорова ли, почему не видно.
— Здорова, — коротко ответил боярин. — Спит уже.
Сидели долго. Боярин требовал рассказать всё в подробностях, пил неумеренно — за победу русского оружия, за московских, за рязанских и так просто на радостях — чарку за чаркой. Но ничего больше об Алёне не сказал. А боярыня молчала.
Была уже глубокая ночь, когда наконец Корней встал, показывая, что пора прощаться. Степан и Юшка откланялись и направились к коновязи. Не успели они сесть на коней, как неожиданно появилась, вынырнув из темноты, Пригода.
— Пригода! — ахнул Юшка.
Она приложила палец к губам и зашикала. Потом увлекла обоих в сторону от ворот.
— Тише, сторожа разбудишь.
— Какой он сторож, ежели спит, — пошутил Юшка, обнимая Пригоду, но та отстранилась и шёпотом обратилась к Степану:
— Алёна Корнеевна велела тебе рассказать всё, как было...
Юшка опять полез обниматься, тут Пригода уже стукнула его по руке:
— Да угомонись ты! Видишь, сотник ждёт.
— И впрямь жду, — строго произнёс Степан.
Меченоша угомонился. Пригода поведала о вторичном сватовстве Милославских. Говорила она так, словно сама присутствовала при разговорах и всё происходило у неё на глазах, даже изображала поочерёдно то хмельного боярина, то боярыню, петляющую перед ним лисой.
Степан слушал, а в голове билась лишь одна мысль — опоздал!
— Боярышня ныне в дальней пристройке заперта, — закончила рассказ Пригода. — И никого к ней не допускают, кроме меня.
— Значит, либо свадьба, либо монастырь?
— Да нет же, нет! Ждёт она тебя и скорей умрёт, чем за Милославского пойдёт, — горячо заверила Пригода, не замечая несуразности и жестокости своих слов.
— Веди меня к ней, — потребовал Степан.
— Что ты, сотник! Сейчас никак не получится, только испортим всё. Потерпи до завтрева.
— Я уж боле двух лет терпел. Надобно мне её сегодня увидеть.
— Сегодня боярин на ключ запер. А завтра в полночь приходи в дальний угол сада — вот те крест, — там и встренитесь.
— Как ты завтра-то сможешь устроить? — недоверчиво спросил Степан.
— То наша с Алёной забота. Всё устроится. Увидишь.
Встретились они ночью, в глубине сада, у той самой беседки, что не раз давала им приют два года назад. Степан бросился к Алёне, но она не ответила на его порыв, стояла скованная, оробевшая, только губы подрагивали да часто моргали от волнения огромные, тёмные в лунном свете глаза. Он смешался, обнял, поцеловал как-то неуверенно. Разговор никак не складывался, словно легли между ними непреодолимой межой два года, что провёл он в плену. Казалось, именно сейчас, когда перед ним сидела взрослая девушка, её бы приголубить, приласкать, побаюкать в объятиях, — ан нет, охватила робость.
Из кустов за беседкой донеслось хихиканье, потом звонкий шлепок, потом возня и опять смешки — Юшка времени зря не терял. Пригода, засидевшаяся в девках при боярышне, была, видимо, не очень строга. Возня была столь красноречива, что Алёна встрепенулась. Степан почувствовал, как девушка вдруг напряглась — то, что происходило у Пригоды с Юшкой, будоражило и смущало её одновременно. Чтобы скрыть это, она отодвинулась от Степана, прикоснулась пальчиками к повязке на его голове и горестно сказала, вздыхая по-бабьи:
— Сколько себя помню, ты приходил к нам после походов раненым. И так мне хотелось приласкать тебя, приголубить. А я пряталась и думала: — ну что я перед ним, девчонка-несмышлёныш, косы растопырки, веснушки на носу!
— А два года назад, здесь, в беседке? — спросил Степан.
Алёна спрятала голову у него на груди, и он подумал, что ледок в их отношениях начал таять. Но тут за кустом опять засмеялись, завозились, и Алёна отодвинулась.
— Расскажи, как на Боже с погаными бились?
— Да что рассказывать, лапушка? — Степану совсем не хотелось вести разговоры, но он, надеясь, что вернётся близость, покорился. — Победы, они все одинаковые, это поражения разными бывают. После них совесть тебя мучает, вспоминаешь, ищешь, где да почему ошибся. А если победил, то делал, выходит, всё правильно.
— Получается, — спросила Алёна, — только несчастья тревожат душу, а удачи её баюкают?
— Получается, что так, — с некоторым удивлением согласился Степан. Сам он об этом не думал.
— Что же тебя сейчас тревожит?
— Молчание князя Олега Ивановича. Словно и не было славной победы московского князя. Словно и не участвовали рязанцы в этой битве! Я понимаю: Москва на Боже ордынцев разбила, а проклятый Бегич в отместку не Москву, а Рязань разорил. Не московские волости, а нас разграбил. Переяславль сжёг. А Олег Иванович всё никак на союз с Москвой не решится, руку дружбы Дмитрию не протянет! Или у него сердце не рвётся, как у меня, от горестей рязанского народа? Или он уже и не зрит страданий людских с высоты своего престола?
— А Дмитрий Московский, он какой?
— Дмитрий? — недоумённо переспросил Степан и задумался.
Заговорил он не сразу, медленно, словно сам открывал для себя московского князя.
— Простой, вроде и не великий князь. Ему только двадцать восьмой год пошёл, но бой задумал, как умудрённый воевода. Будто прапрадед его славный Александр Невский полки к битве расставлял. Рубился же сам в первых рядах.
— А ты? — ревниво спросила Алёна.
— И я не отставал. Дмитрий Иванович меня приметил, после боя милостивые слова сказал. — Степан вздохнул. — Вот если бы и наш князь так же милостив был, упал бы я твоему батюшке в ноги, просил бы твоей руки.
Алёна опять прижалась к нему и прерывисто вздохнула: эти слова были, по сути, первой робкой просьбой стать его женой. И хотя она ждала их не один год, прозвучали они неожиданно. Алёна долго молчала, потом тихо спросила:
— А если не окажет тебе милости князь?
— Твой отец — ближний боярин, а я — сотник. Не будет на мне милости князя, не пожалует меня, не приблизит — боярин Корней прогонит моих сватов.
— Что же нам делать-то? — вдруг прозвучал отчаянный вопрос, всё время терзавший Алёну.
Степан не нашёл иного ответа, кроме одного: крепко обнял её и принялся горячо целовать.
Алёна охватила руками шею Степана, притянула к себе и прильнула к губам, замерев, словно пила и не могла напиться из волшебного источника любви...
Прощаясь и видя, как грустна Алёна, Степан сказал:
— Не кручинься, лапушка. Слышал я, что со дня на день будет большой приём у князя Олега Ивановича. Авось и сбудутся наши надежды.
Правда, сам Степан в душе мало верил, что милость Олега Ивановича в глазах боярина Корнея может перетянуть рюриковскую кровь Милославских.
К Олегу Ивановичу Степана призвали через три дня. Юшка, помогавший сотнику одеваться, глядя в его измождённое, осунувшееся за эти дни лицо, смешливо сказал, что негоже являться к князю с такой рожей. Лучше опять чистой тряпицей замотать зажившую рану на голове. Тогда хотя бы понятно будет всем этим боярам, что почернел сотник от ран, а не от сердечных терзаний.
Степан цыкнул на Юшку, велел замолчать, но послушался, замотал голову чистой холстиной. Он погляделся в купленное у кафских[46] торговых гостей зеркало и остался доволен — повязка украшала.
Глава двадцать восьмая
Княжеский терем, вернее сказать, дворец с затейливыми пристройками, переходами, светёлками, превосходящий размерами и вычурностью прежний, сожжённый татарами, ещё достраивался. Но замысел уже прочитывался — произвести впечатление! Степан вспомнил кремлёвский дворец Дмитрия Московского — был там один раз на пиру по случаю победы на Воже — скромный, даже суровый на вид, правда, каменный. Различие было разительным, и об этом следовало бы поразмышлять, но сегодня все мысли были там, у княжеского престола, где должна решаться его судьба.
Степан ожидал, что на приём к Олегу Ивановичу будут приглашены и другие рязанцы, отличившиеся в бою на Веже, и был удивлён, когда обнаружил, что зван он один. Два отрока провели его чередой малых палат и оставили перед просторной думной палатой. Пахло свежими досками, свечами, росным ладаном, — видимо, недавно освящали. Было тихо и сумрачно, свет с трудом пробивался в маленькие окошки, затянутые бычьим пузырём: на венецианское многоцветное стекло у князя, похоже, пока денег не хватило. Дверь в палату была приоткрыта, и Степан не удержался от любопытства, заглянул. Высокий золочёный, покрытый замысловатой резьбой престол князя рязанского возвышался над резными же, обитыми кожей скамьями для ближних бояр. Небольшие оконца радовали яркой игрой красок — в них уже вставили цветные стекла. Палату освещали три больших многосвечных светильника. По ней неторопливо, по-хозяйски расхаживал молодой боярин Кореев, давний знакомец Степана ещё со времён похода в строящийся московский кремль. Его отец, старый боярин Кореев последнее время редко приезжал в думу, но сегодня ради торжественного случая появился и важно восседал на стольце. Рядом с ним, нашёптывая что-то на ухо, сидел старший сын князя Милославского, недавно жалованный боярской шапкой. Самого старика не было видно. У престола сидел боярин Корней, задумчиво поглаживая чёрную с проседью бороду, рядом с ним — боярин, известный всем по дружинному прозвищу Ахломатый, желчный, въедливый и тугой на ухо старик. Он бубнил:
— И всё же я в толк не возьму, Корней, пошто князь победителя на Воже малым приёмом жалует? Ведь нынче он герой. Почитай, впервой за сто лет татар побили.
— Кто побил? — раздражённо повысил голос Корней.
— Как это кто? Наши.
— Какие наши?
— Да что ты, Корней, из ума выжил, право! Русские. — Ахломатый пристукнул посохом.
— Какие русские, боярин? — спросил боярин, и Степану послышалась явная издёвка в вопросе.
— Ну... московские.
— Вот то-то и оно, что московские. А мы кто? Мы рязанские. И победа Дмитрия Московского нашему князю многие замыслы рушит.
— Что-то я тебя не пойму — неужто батюшка Олег Иванович пораженью ордынцев не рад?
— Поражению рад, если оно нашими войсками нанесено. А нас проклятый Бегич походя разорил, за московскую победу отплатил. — Корней умолк и вздохнул. — Ты, боярин, сам подумай: нынче чья слава по Руси звенит?
— Московская.
— Вот именно. В московские колокола церковь по Руси благовестит, московскую славу поднимает.
А Москва тем временем под свою руку удел за уделом хапает.
— То верно, прожорлив стал Дмитрий Иванович, — согласился старик.
Корней продолжал говорить, уже не слушая собеседника и всё больше и больше возвышая голос.
«Уж не для моих ли ушей?» — подумал Степан.
— От Калитовых времён разрослась, раздулась, на золоте мытном[47] сидит, золотом кремлёвские стены каменные возводит. Ей — богатеть, нам — татарские набеги отражать, кровь лить, людей терять. Вот и выходит: для кого герой, а для кого слуга дурной... Нет, я не о Степане, — боярин мотнул головой в сторону двери, — я о тех, кто Москве славу, не подумавши, кричит.
— Да, да, это так, — закивал Ахломатый и умолк.
Опять наступила тишина. Но теперь Степан был ей рад. Хотелось обдумать до выхода князя слова Корнея и решить, как лучше держать себя. Слишком многое зависело от сегодняшнего дня. По всему получалось, что разговор с Олегом Ивановичем следует вести осторожно, о своих чувствах к московскому государю не распространяться, победу на Воже не превозносить. А то ведь неприязнь рязанского князя к Москве могла обернуться против тех, кто помог ей добыть победу. Осторожность нужна, Степан понимал, только как её проявить?
Подлаживаться он не умел, лгать ради своей выгоды не приходилось, да и не был с детства к тому приучен. Если пел иногда на пировании славу Олегу Ивановичу, то от всей души. С давних пор привык видеть в князе одного из самых умных, просвещённых владык на Руси, чтил его за то, что сделал много и для распространения книжности на Рязани, и для украшения земли храмами и другими строениями.
Князь вошёл неожиданно. Движением руки усадив вставших при его появлении бояр, крикнул отрокам, чтобы ввели Степана.
Степан поразился, как за эти два года постарел Олег Иванович. Но разглядывать было непристойно. Он поклонился и выпрямился, уставив взор князю в бороду.
Первый вопрос Олега Ивановича был неожиданным:
— Кого в народе больше славят — наших али московских воев?
— Своих всегда больше славят, князь.
— То всегда, а нынче?
— Нынче московская победа, князь, и московская слава, — ответил Степан, понимая, что говорит совсем не то, что следовало бы.
И действительно, словно в подтверждение его опасений, князь, слегка нахмурив брови, замолчал.
На помощь пришёл боярин Корней:
— Грош цена той славе, что чёрные людишки кричат, — сказал он. — Сегодня возносят, завтра отвернутся.
«Лучше бы промолчал, — подумал Степан. — С такой помощью и на гнев княжеский напороться можно...»
Олег Иванович перевёл взгляд на Корнея, всё так же хмуря брови, но вдруг на устах его мелькнула слабая улыбка, и он кивнул, как давая понять: истинный смысл слов, сказанных боярином, ему ясен — стремление защитить своего воспитанника. Князь обвёл глазами всех присутствующих, словно приглашая принять участие в разговоре.
— Слыхали мы, сотник Степан и теперь принят в твоём доме как родной?
— А как же иначе, государь? — вскинулся Корней. — Я его воспитал, его отец моим другом был...
— Знаю, знаю, — перебил князь. — Но это не повод, чтобы ему и ныне в твой дом частить. — Улыбка в его устах стала откровенно насмешливой.
«Чем провинился Корней перед князем, что он его так при других боярах осадил? — подумал Степан. — Уж не я ли тому причиной?»
— Уж не к твоей ли дочери он приглядывается? — продолжил Олег Иванович.
Боярин оглянулся, увидел, как напряжённо прислушивается старший сын Милославского, и вскочил:
— Да я ему, посмей только возмечтать, я ему...
— Чем же он плох тебе, боярин? — перебил князь, наслаждаясь замешательством Корнея от неожиданного поворота в беседе. — Он сын боярина и сам боярскую шапку на моей службе может получить. А что деревеньки его, после отца оставшиеся, ордынцы спалили и холопей в плен угнали, то не вина его, а беда. Беда, от которой все мы, стоящие на окраине русской земли, не заговорены. Так я рассуждаю?
У Степана от этих слов радостно забилось сердце. Олег Иванович словно подслушал его самые жаркие молитвы.
— Алёна у меня, государь, к Богу привержена, — невпопад ответил Корней.
— К Богу привержена? А я её недавно на охоте видел. Вполне мирская девица. И созрела давно. Княгиня моя говорит, что ты для неё ничего не жалеешь — ни соколов для охоты, ни наставников для обучения. — Олег Иванович быстро глянул на Степана и закончил, не спуская с него глаз: — Невеста хоть князю впору!
«Выходит, он знает о сватовстве Милославских, — подумал Степан. — Вот только одобряет ли?»
Боярин уклончиво забормотал:
— Рано моей девке замуж, рано...
— Рано? — весело удивился князь. — А разве я тебе кого сватаю? — И, круто меняя ход разговора, спросил Степана: — Как Дмитрий Московский битву измыслил?
«Ответить «мудро» и вызвать ревность? Лишиться надежды? Но не сам ли Олег Иванович только что сказал про Алёну, что она невеста — любому князю впору...»
— Мудро измыслил. Он хоть и молод годами, но в бою уже истинный стратиг!
— Это ты хватил, сотник! — воскликнул Корней. — Сказал бы — воевода, а то — стратш!
— Сотник волен говорить то, что думает, боярин. И не тебе его прерывать, когда я слушаю!
Было что-то странное в тоне, которым Олег Иванович произнёс эти слова, и Степана вдруг ожгло догадкою: знает князь о вторичном сватовстве Милославских и не любо ему, что породнятся два сильных рода. И потому сейчас он ему, Степану, союзник! И ещё понял Степан: Олегу Рязанскому нужна правда о московском собрате, он и постарел-то оттого, что перестал понимать причины непрерывных успехов Дмитрия Московского и своих неудач. Нужна правда! Это был тот редкий случай, когда следует её говорить властителю.
И Степан начал рассказывать, как встретился с воеводой московского сторожевого полка Семёном Меликом, как взял Мелик его сотню под свою руку и как ходили они в поиск. Как проводил Дмитрий Московский военные советы, слушал своего тёзку Дмитрия Боброк-Волынского, воеводу многомысленного, умудрённого боевым опытом. Степан заметил, что Олег Иванович обежал взглядом бояр, словно примеривал, а есть ли среди них свой, рязанский Боброк? И, судя по тому, как нахмурился князь, сотник понял — не нашёл такого. Младший Кореев — хорошо за столом переговоров, боярин Корней — в прямой сече, так же как и десяток других, могучих, сивоусых бояр из старшей дружины...
Степан продолжал рассказывать, как беспокоил татарские тумены Боброк, умело посылая сторожи и конные сотни, нанося летучие удары то слева, то справа, заманивая и завлекая, не давая рассыпаться хищными волчьими стаями, что рвут русскую землю сразу во многих местах, а сбивая Орду в единое место. А потом, когда место боя было определено, как он сам, Степан, вместе с двумя сотнями Семёна Мелика завлекал татар к переправе. И как, наконец, умело били москвичи противника именно там, прямо в воде, начав обстрел из луков, когда татары не могли ответить ни ударом в правильном строю, ни потоком стрел из боязни замочить в водах Вожи тетивы.
Всего остального Степан не видел — он так и сказал, — потому что, рубясь рядом с московским князем, был ранен. Не видел, как удерживал Боброк засадный полк, не видел, что опытному Бегичу почти удалось переломить бой. Именно тогда Боброк ударом по правому крылу татар окончательно сломил сопротивление ордынцев. Это уже после рассказывали Степану другие воины...
— Значит, Боброк выиграл битву? — подвёл итог рассказу сотника Олег Иванович.
Степан задумался. По всему выходило, что Боброк, но ответить так он не мог, что-то внутри протестовало. Князь Олег откровенно радовался его смятению.
— А может быть, ты, сотник, ослеплённый славой волынского воеводы, не заметил направляющую руку великого князя? — спросил старший Кореев.
Степан не успел ответить, Олег Иванович опередил:
— Думаю, всё верно разглядел сотник, — сказал он. — Теперь ты повторить такой бой сумеешь?
Вот она, долгожданная милость! Степан увидел её в самом вопросе, князь протягивал её, оставалось только взять, но, начав говорить правду, он уже не мог остановиться.
— Бой на бой не приходится, государь, — ответил он и по весёлой улыбке, возникшей под усами Олега Ивановича, понял, что и на сей раз правда помогла ему ещё на шаг приблизиться к цели.
— Потому и ходят: один сотником, другой воеводой, а третий вон даже стратигом, — проворчал обиженно боярин Корней, который никак не мог взять в толк странное поведение князя.
— А тебе какая цена, сотник? — спросил Олег Иванович.
— Не знаю, государь.
Князь опять милостиво улыбнулся:
— Надо бы нам посольство в Москву отправить с поздравлением. — Он повернулся к боярам. Те согласно закивали. — Думаю, брату моему Дмитрию Ивановичу приятно будет услышать наши поздравления из уст своего боевого соратника. Так что собирайся, сотник, послом в Москву.
— Олег Иванович, — вдруг подал голос всё это время молчавший княжеский любимец боярин Кореев, — не обидно ли будет Москве, ежели сотник приедет с посольством? Сотник — для гонца уместен...
— Пожалуй... — задумчиво протянул князь. — А ты как думаешь, сотник?
— Не знаю, государь, — повторил Степан.
— То-то, — не удержался от лёгкой подковырки князь. — О себе судить — не других в стратиги возводить. — Он помолчал, наслаждаясь растерянностью, отразившейся на лице Степана. — А если я тебя в стольники пожалую, то и цена тебе будет другая — стольник. Сие же Москве не обидно? — Этот вопрос был обращён к Корееву.
— Воистину так, Олег Иванович, — согласился гот.
Ахломатый подтолкнул локтем в бок боярина Корнея:
— А вот и милость, а ты говоришь — Москва, Москва...
— Целуй руку, стольник. — Олег Иванович протянул унизанную перстнями руку. Степан коснулся губами одного из них. — Завтра же отправляйся с Богом. Утром грамоты мои получишь. Достойных сопровождающих — для чести — отбери. И не забудь рассказать брату моему Дмитрию, как мы в Рязани радовались его победе над погаными.
Князь встал и, не отвечая на поклоны, вышел из палаты. Степан тоже поднялся, поклонился боярам и пошёл через длинную череду палат на крыльцо. В ушах звенели сказанные князем и Корнеем слова об Алёне. Нетерпение, волнение, боязнь, что каждый час может принести непоправимое, — все вместе подтолкнуло его на необдуманный шаг: когда на крыльцо вышел боярин Корней, Степан вдруг бухнулся перед ним на колени:
— Корней Андреевич! Боярин!
— Что ты, что ты, Степан! Встань! — смутился боярин.
Но Степан, продолжая стоять на коленях, заговорил горячо, сбивчиво, умоляюще:
— Ты был другом моего отца. Мне после его смерти стал вторым отцом. А сегодня меня князь честью пожаловал. И добычу я с Вожи немалую привёз. Есть теперь на что поднять вотчину...
— Вот и слава богу, — перебил его боярин. — Рад я за тебя, княжья милость дорого стоит... Только не пойму я, пошто лбом-то пол колотить надумал? Говоришь больно путано.
— Корней Андреевич! — повторил Степан, не поднимаясь с колен.
— Просить коль чего хочешь — так проси прямо. Не тебе, стольник, предо мной на коленях стоять!
— Дозволь сватов к тебе заслать! — Степан как в холодную воду кинулся.
— Это кого же ты сватать собираешься? — спросил Корней, хотя, казалось, должен был сразу понять: в его доме только одна невеста. Но боярин продолжал недоумённо глядеть на Степана сверху вниз, глаза его, несмотря на сивую от седины бороду, стали вдруг детскими и растерянными.
— Алёну Корнеевну!
— Алёну? Вот оно что... — И вдруг, связав все болести, недомогания, слёзы, отговорки и недомолвки дочери, Корней прозрел и, с яростью сунув под самый нос коленопреклонённого Степана кукиш, закричал: — А этого не хочешь? Вот тебе Алёна! Вот! — Тут он заметил краем глаза приближающихся с конями своего стремянного и Юшку, осёкся, потом прохрипел осевшим голосом: — Не назови ты меня отцом, велел бы я тебя прямо сейчас, невзирая на милость князя, схватить и до полусмерти избить, чтобы и думать забыл о моей дочери! Как ты посмел за моей спиной... — Корней задохнулся от гнева и замолчал, подавляя в себе ярость. — Как же ты посмел, зная, что я её с Милославским сговариваю... Увижу тебя у моего дома, собаками затравлю!
Будто кто ожёг Степана кнутом, так ударили его эти слова. Он вскочил на ноги и, не сдержав себя, ответил Корнею:
— Никак ослеп ты в своём тщеславии, боярин?! О родстве с Рюриковичами мечтаешь? А того не замечаешь, что Олегу Ивановичу твоя близость с Милославичами как нож острый: с твоими землями да дружиной мелкий удельный князёк вровень с Пронскими встанет, того и гляди, на рязанский престол позарится. Аль и ты решил против нашего князя пойти? — Не дожидаясь ответа от потрясённого боярина, Степан выхватил повод из рук невозмутимого Юшки, вскочил на коня и погнал его в галоп.
В ту ночь он не сомкнул глаз. Крутился, места себе не находил. Вставал, пил воду, ещё и ещё раз перебирал в уме события вчерашнего дня, рассчитывал, как обернутся его слова, сказанные Корнею, о княжьей немилости, корил себя за несдержанность. Уже под утро, когда засинело небо на восходе и затих ночной ветерок, услыхал в предрассветной тишине, как кто-то скребётся в окошко. Это была Пригода. Степан не стал будить Юшку, сам отворил дверь и впустил её в дом.
— Случилось что?
Пригода округлила глаза.
— Ох, не говори — такие страсти! Сначала Корней Андреевич за плётку...
— Ты главное говори. Зовёт она меня?
— Нет, нет, не дай Бог тебе близко у нашего дома показаться. Велела передать: что-то с отцом произошло...
— Что произошло? — перебил её Степан.
— Да не то чтобы... Перемена в нём какая-то. Так Алёна Корнеевна говорит. Но верит, что уговорят его они с матушкой, если, конечно, ты с честью из московского посольства вернёшься и ещё большую милость у нашего князя заслужишь. Ждать она тебя будет хоть всю жизнь — хоть затворницей в светёлке девичьей, хоть послушницей в монастыре.
Пригода умолкла, вздохнула и, потупясь, спросила:
— А где твой слуга? Спит, чай?
— Какой слуга?
— Ну Юшка, знаешь ведь, зачем спрашиваешь.
— Юшка мне не слуга, а меченоша. Разбудить?
— Разбуди, сделай милость.
Степан пошёл будить...
Пригода, высокая, пригожая, в точном соответствии со своим не крестильным именем — крестили-то её Аграфеной, — была разбитной, быстрой, гибкой, вернее бы сказать, извивистой как змейка, потому все её движения казались стремительными, исполненными животной грации. Она странным образом подходила молчаливому, крупному, невозмутимому Юшке. Ещё была смешлива: заливисто смеялась самому обычному, иногда даже угрюмому замечанию Юшки. А вот дудочку его слушала почему-то пригорюнившись, словно возникала у неё потребность погрустить после целого дня смеха и улыбок.
Пригода выросла среди дворни, где нравы были не очень строгими — не все девушки могли дождаться, когда боярин соизволит им дать согласие на брак, да и часто бывало, что сговорённый жених не возвращался из похода.
У Корнея все молодые парни в случае нужды пополняли боярскую дружину, владели мечом и копьём. Степан знал, что отношения Пригоды и Юшки давно уже перестали ограничиваться поцелуями и вздохами, и удивлялся, почему Юшка, отличавшийся завидным постоянством и хранивший верность Пригоде на меже, не сватается.
Вероятно, не хотел забегать вперёд Степана, ждал, когда у того сладится с Алёной.
Знать бы самому Степану — когда.
Глава двадцать девятая
Как ни стремился Степан поскорее добраться до Москвы, рязанское посольство двигалось неторопливо: чуть ли не на три полёта стрелы растянулся пышный поезд — десяток нарядных молодых дружинников из боярских детей[48], каждый с меченошей, затем полусотня гридней[49], посольский дьяк с подьячими и писарем, наконец, обоз с подарками великому князю Дмитрию, его двоюродному брату князю Владимиру Серпуховскому, воеводам, боярам. Подарок Боброку поначалу показался Степану слишком скромным — древний фолиант в тяжёлых досках, обтянутых телячьей кожей с золотым тиснением и золотыми же застёжками и оковками на углах. Даже без обычного для дорогих книг жуковинья. Только когда Олег Иванович в ответ на недоумённый вопрос Степана пояснил, что Боброк известен любовью к книгам, а фолиант — Псалтирь Ярослава Осмомысла, князя галицкого и волынского, предка Боброка и что ему никак не меньше двухсот пятидесяти лет, осознал стольник всю ценность подарка. Другим же везли оружие, утварь, коней и мягкую рухлядь[50].
Пока ехали до реки Вожи, правого притока Оки, деревни попадались редко. Избы сплошь были новые, светлые, в ворохе стружек, крыши жёлтые, только что крытые соломой. Рязанские мужики уже успели обустроиться, жизнь входила в свою колею. За сто с лишком лет татарских налётов, наездов, войн, столкновений рязанцы приспособились, благо строительный материал — вот он, рядом, загляни в лес и выбирай, постукивая топором, звонкое спелое дерево, вали его, вывози, ошкуривай, обтёсывай, клади в сруб. По большей части стояли избы невеликие, в одну клеть — не до жиру, быть бы живу, строили торопливо — поскорей бы стол втиснуть, да лавку приткнуть, да детишек уложить...
Совсем иначе выглядели московские деревни, что начались сразу же за Окой. Они поражали добротностью, достатком, вроде и не залетали сюда татарские хищники, не горели тут пожары войны. Всё шло от московского богатства, благополучия, мысль эта терзала сердце болью за своих, рязанских крестьян.
Приняли в Москве с почётом. Определили на постой в посольскую избу, что стояла в кремле, на крутом спуске к берегу Москвы-реки, как раз на том самом месте, где когда-то был малинник и где прятались они с Юшкой, пережидая светлое время дня. Тогда казалось, что кремль строится на вырост, с запасом. А нынче в огромной крепости не оставалось свободного места: обширные боярские терема, затейливые, изукрашенные резьбой, уже лепились один к одному и от тесноты тянулись ввысь. Дорожки по всему кремлю были вымощены торцовым дубовым бруском, и дождевая вода по особым канавкам сбегала вниз, к реке. Было от того чисто, опрятно. «Как в Новгороде», — с гордостью сказал смотритель посольской избы. В кремле воскресили многие обычаи, что уходили корнями в седую киевскую старину, но кое-что завезли недавно и из Новгорода, и с Волыни, земель, близких к европейским дворам. Заимствовали, но пока не освоили, не переварили, вот и суетились бестолково десятки стольников, конюших, окольничих, постельничих, сокольничих. Они бродили без дела, надуваясь от гордости. Дмитрия Ивановича, как понял Степан, сие раздражало, но он молчал, понимая, что стольный город Москва переходит в иное качество. Степан думал, что Дмитрию, почти его ровеснику, — был он всего на два года старше, — наверное, хочется иногда умчаться с братом Владимиром куда-нибудь в леса, на долгую охоту или рыбалку, с ночёвками в шалашах, с бесконечными разговорами у костра с чаркой мёда в руках.
На третий день пришли от великого князя, известили, когда состоится приём. Посольство заволновалось, начало готовиться. Почувствовал беспокойство и Степан: каким-то окажется Дмитрий? Таким ли, каким запомнился на реке Боже?..
Приём прошёл торжественно, чинно, был многолюден, завершился пированием, долгим, пьяным и шумным.
Великий князь ушёл вскоре после первых здравниц — за Олега Ивановича и за Рязань. Сидевший рядом со Степаном посольский дьяк шепнул осуждающе:
— Наш князь никогда бы не покинул пирования.
— Я слышал, Дмитрий Иванович к питию не шибко склонен.
— Так ведь никто его и не понуждает. Добрая воля — пить или не пить. Я в раннем уходе вижу урон нашей посольской чести и всей Рязани.
Степану сделалось неприятно от злого, настырного шёпота. Он обратился к соседу справа, незнакомому боярину с каким-то вопросом. Дьяк обиженно умолк.
Оставшийся во главе стола князь Владимир Серпуховской поднял ещё один заздравный кубок в честь Рязани. Степан встал, поклонился верхнему концу стола, потом нижнему, сел и поглядел с укором на дьяка. Тот усмехнулся в ответ, как бы говоря: это не великий князь. На сердце стало тошно: прежде, в Рязани, Степан не знал дьяка, но сейчас подумал: наверняка наушничает и не преминет шепнуть Олегу Ивановичу или кому-нибудь из ближних бояр о недостаточном внимании со стороны московского князя...
Тут вернулся за стол Дмитрий Иванович, сел на своём возвышении. Виночерпий сразу же подал ему чару. Великий князь поднял её за здоровье Олега Ивановича.
Степан опять встал, поклонился, осушил свою чару, ещё раз поклонился, теперь уже всему столу, и сел.
— И что ты всё шипишь, как гусак... — не удержался и тихо сказал дьяку.
Тот промолчал. Кто-то тронул Степана за плечо. Он оглянулся — за спиной стоял боярин Бренк. Степан хотел было встать — молодого боярина, княжеского любимца, он видел в бою, даже какое-то время рубился с ним стремя в стремя и искренне уважал. Но Михаил Бренк придержал его за плечи и, склонившись, произнёс негромко:
— На великого князя срочное дело навалилось, от Семёна Мелика гонец прибыл. Дмитрий Иванович просит тебя подождать несколько дней, как освободится — пригласит на малый приём.
— Благодарствую. — Степан поднял чару и выпил за здравие великого князя. Вдруг наткнулся взглядом на острые, злые глаза дьяка.
«Завидует». Степану захотелось вдруг поозоровать. Он принялся усердно подпаивать дьяка, наливая ему и мёду, и красного венгерского, и светлого фряжского, да так усердно, что в посольскую избу дьяка пришлось волочить холопам...
Из опасения пропустить великокняжеского посланца Степан по Москве не гулял и дальше кремля не уходил. Больше всего сидел над книгами, кои по его просьбе приносили из митрополичьей библиотеки. Зато Юшка пропадал в городе целыми днями и по вечерам рассказывал Степану всё, что видел. Город за десять лет разросся неимоверно, давно выплеснулся за невысокие валы, оставшиеся ещё от времён Калиты, проглотил посады и слободы, захватил Занеглименье[51], охватил русскими усадьбами поселенья ордынцев — Ордынку.
Иногда Юшка возвращался хмурый, усаживался на крыльце, доставал дудочку и наигрывал что-то тоскливо-тягучее. Степан его понимал, не расспрашивал, не теребил понапрасну — что хочет, то расскажет. Он и сам, забираясь на высокую воротную башню, как раз ту, под которой жил ныне, поражался, сколь могучей становится Москва, и думал, как трудно будет в скором времени удерживаться от её притягательной силы.
От Дмитрия Ивановича пришли только через четыре дня. Степан засуетился, хотел было послать за дьяком, но молодой придворный, принёсший приглашение, сказал, что великий князь хочет видеть Степана одного и говорить с ним не как с послом, а как с боевым соратником.
«И об этом нашепчут», — с тоской подумал Степан, но потом вспомнил, как сказал Олег Иванович, что приятно будет московскому князю услышать поздравления с победой от боевого товарища, и успокоился.
Великий князь принял Степана в малой стольной палате. С ним был лишь один боярин Бренк. Не дав Степану встать на колени, Дмитрий Иванович усадил его на лавку рядом с престолом, осведомился, как заживает рана на голове.
— Ты уж прости, что я называю тебя сотником. По мне сотник — слово куда звончее, нежели стольник. А позвал я тебя затем, чтобы побеседовать перед твоим отъездом в Рязань, но без бояр и ближних людей. С глазу на глаз, как подобает боевым соратникам. Я от всего сердца был рад видеть именно тебя послом Олега Ивановича. Знаменательное то для Руси дело, что и князь твой, и Рязань к дружбе с нами поворачиваются. Очень это важно, сотник, чтобы все мы, русские — Москва, Тверь, Рязань, Новгород, другие земли — воедино встали перед Диким полем. Так и скажи брату моему: беседовал, мол, Дмитрий со мной и всё лишь об одном говорил — о единении.
Великий князь помолчал, обдумывая что-то, ему одному ведомое, потом сказал:
— Вот думаю, как тебя наградить...
«Олег Иванович не стал бы ломать голову, как наградить. Он просто жалует — таков обычай. Перстнем, шубой со своего плеча, оружием дорогим или деревенькой, ежели велика заслуга. Но именно — жалует. Чего же хотел Дмитрий? Наградить или вознаградить, то есть возвеличить?» Такие мысли закрутились в голове Степана. Он решил ответить уклончиво, как истый выученик многомысленного и лукавого Олега Рязанского:
— Беседа с тобой, великий князь, для меня самая высокая награда.
— Так вот, — продолжил Дмитрий Иванович, словно не слыша Степана, — перстень подарить тебе? Да ведь ты не из тех, кто перстню с княжьей руки радуется. Так я понимаю, сотник?
Степан не ответил, только поклонился, чтобы скрыть краску стыда за свои только что сказанные пустые слова.
— Шурин мой князь Дмитрий Михайлович Боброк надоумил одарить тебя книгой.
— Будто в душу мне заглянул Боброк. Видно, не зря его в народе вещим зовут, — ответил Степан.
Великий князь хлопнул в ладоши, вошёл отрок, с поклоном подал книгу. Дмитрий Иванович подержал её в руках, раскрыл, прочитал медленно:
— «Слово о полку Игореве, Игоря, сына Святослава, внука Олегова», — и протянул Степану.
— Приходилось о такой слышать?
— Нет, Дмитрий Иванович.
— А ещё говорят, что Олег Рязанский великий книжник и собиратель, — сказал усмешливо, не удержавшись, Дмитрий, — видно, завидовал он славе, идущей по Руси, о большой и прекрасной библиотеке рязанских князей. — Повесть сия создана почти двести лет тому назад, а звучит, словно сегодня писана. Зовёт она русских князей к единению против орд, идущих из степи. Жаль, никто не знает имени песнетворца. Мои книжники спорят, кем бы он мог быть. Одни говорят, был дружинным певцом князя Игоря Святославича Северского, другие — киевлянином, третьи ищут его в Переяславле южном, четвёртые — при дворе Галицкого князя Ярослава Осмомысла, тестя Игоря... Не знаю, кому и верить. Молчат о нём наши летописи. Да и то сказать, что от них осталось после татарских нашествий? Не мне тебе говорить, сколь много книжного богатства погибло в огне, по ветру пеплом развеяно, конём потоптано, невежественным басурманином уничтожено! «Слову» же повезло: кто-то занёс его в Новгород, куда так и не добрались ордынцы. Так попало в библиотеку моего прапрадеда Александра Невского, а прадед, Даниил Александрович, его в Москву привёз. У тебя в руках список новый, по моему приказу переписчиками изготовленный. Думаю, тебе, песенным даром взысканному, на сердце эта повесть ляжет.
— Как смогу я отблагодарить тебя, великий князь, за столь щедрый подарок? — тихо спросил Степан.
— Не изменяй исконной мечте русских людей о единстве — вот и отблагодаришь, — ответил Дмитрий Иванович.
Прижимая к груди книгу, Степан возвратился в посольскую избу. Приказав Юшке не тревожить его, засел за чтение.
«Слово» потрясло. Степан сидел, закрыв последнюю страницу и глядя на трепетный язычок пламени в светильнике, забыв, что находится в посольской избе.
Мнилось ему, что затерялся он в ковылях бескрайней степи, а родная земля осталась далеко, за окоёмом. Не слышно человеческих голосов, только кузнечики звенят оглушающе да в небе углится багровая краюшка солнца, медленно съедаемая затмением.
«В чём тайна необычного воздействия «Слова»? — думал Степан. — Неведомый Певец назвал его повестью. Но это не повесть. И не песнь, хотя живёт в ней песенный лад и подчиняются стуку сердца ударные слога в словах:
Не лёпо ли ны бяшет, братие...Это нечто более сложное, высокое. Громаду «Слова» не охватишь за единый раз мысленным взором. Есть в нём всё — и повесть, и песнь, и от жития, и от послания».
Степан в волнении вскочил на ноги. Память подсказала ему: в греческом языке есть слова, коими можно было бы определить то, что написал Певец... Он ругал себя за невнимание в юности на занятиях греческим. Наконец вспомнил: воевода Боброк в беседах с ним как-то назвал песнетворцев пиитами. Поизис! Стихотворные произведения, наполненные высоким смыслом, назывались у греков поизис! Только этим, не совсем понятным, но ярким и глубоким, словом можно обозначить сию громаду, родившуюся из-под пера неведомого Певца, — поизис! Поразительно, что двести лет назад он уже владел всеми тайнами стихосложения. Оно было подвластно ему, с его помощью он либо высветлял смысл, либо прятал его в глубине хитросплетения образов. Но если выпрямить все иносказания и изгибы повествования, все прихотливые отступления, то речь-то идёт о простом событии.
Жадность и удальство толкнули Игоря, князя северского, в неподготовленный поход против половцев, всегда готовых налететь на Русь, как ныне татары. Ничто не может остановить Игоря. Даже дурное предзнаменование — солнечное затмение, случившееся как раз в тот миг, когда русский полк вступил в Дикую степь. Знамение Игорю нипочём — хочется князю испить шеломом Дону великого. Первый бой с погаными принёс успех. Добыча вдохновила воинов, но и сделала беспечными. Второй бой оказался гибельным. Полк разбит успевшими собраться со всей степи половцами, сам Игорь, его брат и юный сын взяты в плен. На Русь летит горестная весть о поражении и пленении князя, Его молодая жена, красавица Ярославна, страдает. Стоя на высокой городской стене, глядя полными слёз глазами в Дикое поле, ожидает она любимого мужа.
Степан повторил запавшие в память строки:
О ветер-ветрило, зачем так тоскливо воешь? Зачем несёшь стрелы поганых на воинов моего лады?В Киев прилетела весть о пленении князя. Горюет его старший двоюродный брат великий князь киевский Святослав. Он обращается к боярам и князьям, призывает объединиться, вспоминает великие походы прошлого, печалится о том, что поражение Игоря поставило Русь в трудное положение. Поражение открыло Полю ворота, в обороне образовалась брешь, и в неё ринулись степные хищники.
Победитель, степной владыка хан Кончак предлагает Игорю союз. Его скрепляют женитьбой сына Игоря на дочери Кончака. Игорь вынужден согласиться, но одновременно он готовит побег. Тёмной ночью вместе с преданным ему степняком князь убегает. Возвращению Игоря рада вся Русская земля...
В дверь посольской избы постучали. Степан с трудом вернулся к действительности. Его волновала мысль, что кончается «Слово» странно, скороговоркой: будто конец сочинён не Певцом, а кем-то другим, в более поздние времена. Здесь крылась тайна...
Степан с неудовольствием крикнул:
— Кто там ещё? — лишь потом сообразив, что это может быть только Юшка. Меченоша спал в сенях, и пройти мимо него никто не мог.
— Что стряслось?
Юшка, заспанный, недовольный, вошёл и притворил за собой дверь.
— Там один человек спрашивает, здесь ли посол из Рязани стоит.
— Что же ты его не впустил?
— По какому делу, не говорит. И потом, господин...
— Сколько раз говорить, — перебил Степан, — не господин я тебе. От того, что стольником жалован, господином не стал.
— И потом, Степан, — невозмутимо принял замечание Юшка, — ежели он от Дмитрия Ивановича, так великий князь знает, где ты стоишь. Потому и показался мне сомнительным. Да и время ночное, не для гостевания.
— Что-то ты мудришь.
— Смотрит сторожко, озирается.
— Может, от робости природной?
— Нет, по виду робким не назовёшь. Воин, и бывалый.
— Веди сюда.
— Ты бы окольчужился, Степан. На Москве у нашего князя врагов много.
— Веди, я сказал.
Юшка вышел, всем своим видом показывая, что не согласен, но вынужден подчиниться.
Степан ждал незнакомца с нетерпением, Юшкины слова пробудили любопытство.
Дверь вновь отворилась. Юшка ввёл высокого, плечистого, белокурого молодца с таким открытым, ясным лицом и голубыми глазами, что Степан невольно залюбовался. Тут гость обежал взором просторную избу, словно обшарив все её закутки, и от этого быстрого, опасливого взгляда первое впечатление испарилось, подумалось, что, возможно, прав Юшка в своей настороженной неприязни к незнакомцу.
Меченоша вышел. За дверью раздались звуки его дудочки, как бы говорящие, — я здесь, только кликни.
Вошедший по-воински склонил голову в кратком поклоне и сказал вместо приветствия:
— Добрый у тебя слуга, сторожкий.
— Не слуга — меченоша, — привычно поправил Степан. — А ты кто будешь?
— Сотник я Пажин, из боярских детей. А прозванье моё московское — Харя. Может, слыхал?
— Не довелось. Проходи и садись, Пажин.
— Что же не добавляешь — Харя? Мне привычно. — Сотник сел к столу, мазнув острым взглядом книгу.
— Да прозвище твоё тебе не подходит. У тебя лицо пригожее, светлое, какая же харя?
Пажин улыбнулся одними губами, глаза же остались внимательными и цепкими, и стал рассказывать:
— Было как-то дело, рубились мы с тверичами в деревушке по избам. Сам знаешь такой бой — мечом-то не больно размахнёшься, бьёшь, чем под руку попадётся. На меня квашню с тестом опрокинули, потом поскользнулся, упал, черт знает как вывалялся. В горячке не заметил, а после боя князь Дмитрий Иванович, милостивец, глянул и захохотал — вот это харя! Так и прилепили московские.
— Сам-то не москвич?
— Пришлый, а что?
— Москвичей недолюбливаешь.
— Весёлый больно народ — шилом бреют, навозом умащивают.
— Ясно. С чем пришёл?
— Меченоша твой любит подслушивать?
— Меченоша мой любит на дудочке играть. Говори о деле, коль пришёл.
— Дело такое, что мне головы может стоить, а князю Олегу Ивановичу — слуги верного.
— Это тебя? — на всякий случай спросил Степан, хотя уже понял, что перед ним сидит тайный сторонник рязанского князя, скорее всего, перекупленный Олегом Ивановичем, а может, и подосланный. От былой приязни, возникшей при первом взгляде на открытое, ладное лицо Пажина, не осталось и следа. Степан мысленно похвалил себя за то, что говорил с сотником осторожно, хотя заслуга тут была Юшки.
— Может быть, и тебя, стольник, — ответил Пажин. — О тебе тут разное говорят. На реке Боже ты с Дмитрием плечом к плечу сражался, московскую славу поднимал, от князя тебе честь... — Он опять скользнул глазами по книге, и Степан подумал: видимо, знает о подарке. — Ты Олегу Ивановичу верный слуга?
— Рязани я верный сын, потому и князю нашему верный слуга.
— Целуй крест, что никому, кроме князя Олега Ивановича, не скажешь.
— Чего не скажу?
— Того, что я тебе поведаю.
— Послушай, сотник, — рассердился Степан, — не знаю, что у тебя там за душой. Какие тайны и кому они нужны. Ты или выкладывай, зачем пришёл, или уходи.
— Не горячись. Речь идёт о родной тебе Рязани, о её будущем.
Степан задумался, разглядывая Пажина: «Врёт небось. Позвать, что ли, Юшку и выставить эту харю?.. А если не врёт? Если не с пустым делом пришёл? Опять же согласиться, связать себе руки крестным целованием, не изведав броду? Разумно ли?..»
Пажин сидел спокойно, не спуская глаз со Степана. От его внешней безмятежности мелькнувшая было при встрече приязнь вернулась.
— Крест целовать я не стану, а вот слово воинское дам, — сказал Степан.
Теперь задумался Пажин. Наконец, приняв решение, заговорил скупо:
— Дознался я, что гонцы Олега Ивановича, посланные им в Литву, в Тверь и в Орду, перехвачены Москвой.
— Что? — спросил Степан с искренним непониманием.
— А то, что тайные рязанские грамоты оказались в руках Дмитрия.
— И что в тех грамотах?
В глазах Пажина мелькнуло беспокойство:
— Будто сам не знаешь.
— Я тебя спрашиваю.
Пажин обвёл взглядом избу, размышляя. За дверью пела бесхитростно дудочка Юшки. Видимо, поняв, что выхода отсюда нет и ему ничего иного, как продолжать, не остаётся, сотник сказал:
— Сговор против Москвы.
— Так, — кивнул Степан. Он не удивился, так как ждал чего-то подобного. — И давно Москва перехватила гонцов?
— Как раз перед твоим приездом.
— Чего-то ты врёшь, Пажин-Харя. Олег Иванович, как тебе ведомо, меня с поздравлениями прислал, с уверениями в дружбе. А на словах велено говорить и о союзе против Орды. Дмитрий Иванович со мной обратную грамоту шлёт о великой радости и своём согласии на союз. Меня обласкал и за все эти дни не то что словом о перехваченных гонцах обмолвиться — бровью не повёл.
— И ты ему поверил? Он всё простеньким прикидывается. Мол, воин я, страждатель на полях бранных, коему в боях да походах грамотишку-то толком и ту некогда освоить. — Пажин усмехнулся зло. — Его митрополит Алексий воспитал, а уж тот первейшая был лиса. И в летописцах Дмитрий начитан, и в изборниках, и в хронографах...
Степан вспомнил, как легко и свободно Дмитрий Иванович называл имена князей, княживших два столетия назад в Киеве и других южных, забытых уже ныне, после татарского нашествия, княжествах, и мысленно согласился с Пажиным, подивившись его осведомлённости.
Пажин, помолчав, продолжил:
— Я бы сам весточку Олегу Ивановичу послал, да ведь перехватят. Заставы нынче всюду, птица не пролетит. А ты — посол, Дмитрием обласканный. Всего и передать-то нужно, что гонцы схвачены.
— Как Олег Иванович мне поверит? Тебя ведь, верно, называть не след?
— Ему, один на один, можешь шепнуть, а так, на людях, упаси Господь, стольник. Я ещё пригожусь здесь. А московские уши и на Рязани есть, я точно знаю, только вот кто, ещё не допытался. — Сотник тяжело поглядел прямо в глаза Степану, и тот внутренне поёжился. — Ты назови ему имена гонцов: Третьяк Косой был послан в Тверь, Федот Дюжий — к Ягайле в Литву, Салтык — к Мамаю. Думаю, не забудет Олег Иванович мою службишку.
— И давно ты ему так служишь?
— Это уж мои с ним дела.
— А Дмитрия давно ненавидишь?
— И то мои дела.
— Что ж, понятно. Иди, Пажин. Будь в уверенности: я всё доведу до сведения Олега Ивановича. Юшка!
Дверь настежь распахнулась, и в светёлку вошёл меченоша.
— Проводи сотника с честью. Так, чтобы никто его не приметил ни из наших, ни из московских.
Юшка молча поклонился и отступил в сторону, пропуская Пажина в дверь.
...Всю дорогу до Рязани у Степана мучительно вертелась в голове одна и та же мысль: что теперь делать? Как поступить? Рассказать всё Олегу Ивановичу, ни словом не обмолвившись о том, что, посылая его во главе посольства в Москву, он его, Степана, устами лгал ей, своё предательство общерусского дела прикрывал? Промолчать? Тогда будет и честь, и пожалования, и станет явью мечта об Алёне... А как же книга? Как же слова Дмитрия Московского: «Не изменяй мечте русских людей о единстве — вот и отблагодаришь»? Да, лукавый подарок сделал князь московский по совету вещего Боброка, ох лукавый... Не изменяй мечте русских людей о единстве... А он, Степан, уже этой самой измене помог, и если смолчит, то, укоренив её, укрепит, а значит, и сам пособником станет. Зато будет и княжья милость, и любовь Алёны, и достаток детям и внукам...
Глава тридцатая
Степан дожидался Алёну, и желая, и страшась этой встречи.
Вечерело. Темнота по-осеннему быстро сгущалась, окутывая беседку и весь яблоневый сад.
У боярина Корнея в этом году урожай ещё не собирали — все люди были заняты восстановлением Переяславля после его разгрома отступающей Ордой. Перезрелые яблоки от порывов ветра с шорохом падали наземь, заставляя вздрагивать Степана. «Пуглив я стал что-то», — подумал он с грустью.
Внезапно из полумрака возникла Алёна, радостная и нарядная, хотя выбежала она в тот вечер на тайное свидание поздно, и едва ли мог Степан разглядеть в темноте её наряд. Она отвечала на ласки смело и была податлива, прижимаясь всем телом к любимому.
Внезапно Алёна отстранилась и спросила обеспокоенно:
— Что ты не весел, Степанушка?
А как быть весёлым, если приехал из Москвы не только с Дмитриевыми грамотами, но и с «весточкой» Пажина-Хари, что легла тяжким камнем на сердце. А Олег Иванович не торопится принимать. Оставалось Степану размышлять да ждать, ждать да размышлять, в который раз прокручивая в голове всё и не находя ответа.
— Не волнуйся, Степанушка, отец точно узнал, что завтра будет тебе большой приём и пожалуют тебя в бояре, — по-своему поняла молчание Алёна.
— Ах ты моя вещунья. — Степан улыбнулся, обнял её крепко-крепко.
— А знаешь... — Алёна замолкла.
— Узнаю, коли скажешь.
— Матушка шепнула мне, что отец хоть и не говорит прямо, но согласен твоих сватов принять. Убедила она его, упросила. Если, конечно, милость тебе окажут, как задумано.
Степан знал, что не боярыня, добрая душа, повлияла на Корнея, а он сам, когда перед самым отъездом в Москву намекнул боярину, что пошатнулся тот в милостях великого князя из-за предполагаемого союза с удельными Милославскими.
— Что же ты молчишь, аль не рад? — спросила Алёна.
— Рад, — ответил Степан, — честь мне великая предстоит... — И вдруг, как в прорубь, кинулся в откровенность: — Только ведь не простым оказалось моё посольство.
— Ты о чём?
— Послал меня великий князь со словами мира в Москву. И одновременно гонцов в Литву, Тверь и к Мамаю. Предложил им союз учинить да вместе на Москву ударить.
Алёна тихо охнула. Степан решил, что она не поверила.
— Думаешь, не может этого быть? Я и сам надеялся. Потому и задержался на день, велел Юшке проверить. Всё так. Более того, Москва тех гонцов перехватила до моего приезда. Получается, что князь Дмитрий, меня принимая, о двуличии Олега уже знал. Значит, и меня вправе был в двуличии заподозрить. А может быть, и заподозрил, ибо подарил мне книгу о единстве Руси и о горьких плодах княжьих усобиц.
— Что же ты решил? — Алёна пропустила мимо ушей слова о книге.
— Сам не знаю. Смолчать перед Олегом, получить из его рук великую честь за московское бесчестье, тем самым его предательство и своим сделать? Или в лицо ему всё высказать?
— А ты, Степанушка, выходит, на меня эту тяжесть переложить хочешь? — промолвила Алёна. — Ты сам должен решать. Я любое твоё решение приму и понять постараюсь...
Голос Алёны неожиданно задрожал, и она смолкла.
Олег Иванович принимал своего посла, вернувшегося из Москвы, в думной палате. Собрались ближние бояре, удельные князья, княжата, княжичи, воеводы, ближние мужи. В высоком тереме было жарко от сотни горевших свечей, пот струился по лицам. В бою так не волновался Степан, как здесь, среди родных рязанских лиц, а отчего? Оттого ли, что не знал ещё и сейчас, скажет князю о гонцах или нет? Или оттого, что представлял, как станут все эти лица ему враждебными, если выложит он всё как есть?
Уже принял князь грамоту Дмитрия Московского, уже сказаны были все обязательные слова, уже поцеловал Степан руку Олега Ивановича, и уже поглядывал на стольника с невысказанным вопросом князь, недоумевая, почему тот всё ещё стоит на коленях. А решение так и не приходило.
— За всё благорасположение твоё, государь князь, я тебя вечно благодарить стану, — опять повторил, уже в иных словах, Степан, и опять благосклонно улыбнулся ему Олег Рязанский. По рядам пробежал довольный шепоток, в котором стольник различал и слова боярина Корнея: «От души слова идут, от самого сердца!»
— И в молитвах своих твоё имя стану вечно славить, ибо великой милостью ты меня одарил. — Степан уловил подобие иронической улыбки на устах князя и подумал, что, пожалуй, хватил через край, назвав посольство милостью великой. От того, а ещё от своей нерешительности он рассердился, встал с колен и продолжал уже стоя: — Только вот скажи, государь, как назвать то, что ты, посылая меня вести переговоры о дружбе с Дмитрием Ивановичем, за моей спиной отправил гонцов к врагам Москвы?
В палате стихло, и стало отчётливо слышно, как трещат свечи. Скрипнула лавка под кем-то из бояр и тут же загудели возмущённые, гневные голоса.
— Что он сказал? — переспросил сидевший рядом с Корнеем боярин Ахломатый. Ему никто не ответил. Олег Иванович сидел неподвижно и молчал.
— О каких гонцах ты говоришь? — заговорил старый Милославский.
Степану почудилось, что в голосе старого князя не было гнева, а лишь искреннее желание узнать подробности позорящего Олега деяния.
— О тех, кого москвичи перед моим приездом перехватили! И грамоты князя Олега Ивановича, в коих он врагам Москвы союзы предлагал, прочли!
Глаза Олега Ивановича стали прозрачно-льдистыми, лицо будто замёрзло, но он продолжал хранить молчание. Зато ближние мужи враз закричали, их голоса перекрывали друг друга. Степан различал лишь отдельные слова: «Несмышлёныш... книжник... занёсся умом! Да кто их видел, этих гонцов?» На последнее он ответил:
— В Тверь был послан Третьяк, в Литву — Федот Дюжий, в Орду, к Мамаю — Салтык.
— Зачем ты заговорил об этом? — спросил наконец Олег Иванович.
Голос его был тих и спокоен.
— Я хочу знать правду! — Теперь, когда Степан сделал первый, самый страшный шаг, он говорил убеждённо, твёрдо, как и подобало воину и песнетворцу.
— Какую?
— Разве она бывает разная? У каждого своя?
— Бывает, что и так. Но не у каждого князя, а у каждого княжества. — Олег Иванович тем самым как бы поднимал свои поступки над личным, корыстным.
— Выходит, есть правда рязанская, правда московская, тверская?
— Да, выходит. Есть, была и будет.
— Значит и то, что русские земли врозь, есть, было и будет?
— Ты говоришь — русские земли, я говорю — княжества.
— Да что ты с ним словами-то перебрасываешься, Олег Иванович? — с елеем в голосе спросил старый Милославский. — Он тебя, если подумать, предателем назвал!
— Не было такого слова произнесено! — раздался хриплый голос боярина Корнея.
— Я слово «предатель» не произносил, князь Милославский, — сказал Степан. — Это ты его сейчас выкрикнул, потому что в душе твоей оно давно себе гнездо свило!
Старик вскочил и ринулся с посохом на обидчика:
— Сколько тебе в Москве золота отсыпали?
Олег властно остановил его, повысив голос:
— Тише, други! — И обратился к Милославскому с мягкой укоризной: — Зачем же так сразу о золоте московском думать? Стольник ещё совсем недавно сотником был. На пути государственной мудрости он только первые шаги делает. Первые всегда простыми кажутся. К примеру, если перед Русью враг, поганые, то надо встать всем миром, плечом к плечу и закрыть общему врагу путь общими силами. Так, Степан?
— Воистину так, государь!
— Только вспомни: сколько уже в прошлом князей в борьбе против Орды рядом с Москвой становилось? И где они теперь? Где князья можайские, серпуховские, кашинские, коломенские, галичские, Вяземские, белозерские? А? Под рукой Москвы! Кого купила, кого склонила и сломила, кого просто так, на красных словах слопала. Теперь к южным княжествам тянет руку. Доносят мне, что и Воротынские, и стародубские, и северские, и многие иные князья к Дмитрию послов шлют, торгуются, приноравливаются, как бы удачнее московское ярмо московским же бархатом подбить да московским золотом изукрасить! — Голос князя окреп, загремел под сводами палаты. — А Рязань наша старше Москвы! После Киева, Новгорода да Чернигова Рязань — следующая! Так, други?
— Так, — ответил нестройный хор голосов.
— Почему Рязань должна под руку Москвы идти? Молчишь? — Олег Иванович окинул взором ближних мужей. Те сидели, гордо выпрямившись, посуровев в лицах, иссечённых шрамами в нескончаемых битвах на краю Поля. Олег Иванович продолжил, словно читая в душах собравшихся: — За нашей спиной Москва богатеет, пока мы с Диким полем сражаемся. На наших костях каменный кремль возводит! Я, стольник, тоже за единение, но не вокруг Москвы, а вокруг истинного бойца на границе с Ордой — вокруг Рязани нашей любимой!
Бояре и воеводы вскочили, ещё мгновение — и палата взорвалась бы приветственными криками, но Олег Иванович властно остановил всех мановением руки:
— А для того нам потребно силы собрать!
Вот теперь можно было излить восторг в криках, радостных и грозных. Рязанский князь слушал, кивая головой. Когда крики умолкли, он тихо, устало даже, продолжил:
— И потому мне надобно Мамаю глаза отвести, — вздохнул и совсем по-отечески, почти ласково сказал: — Думаю, что молод и неразумен ещё стольник.
— Вестимо, — согласился молодой Кореев.
— В его годы неразумным оставаться — хуже воровства, — сказал мстительно старый князь Милославский.
Бояре одобрительно загудели.
— Любить надо свою Отчизну! — назидательно произнёс Ахломатый.
— Эх, боярин! — повернулся к нему Степан. — Я ли нашу Рязань не люблю? Выйдешь на башню, глянешь на Оку-реку — сердце занимается от красоты того, что открывается взору. Люди рязанские веселы, на руку легки, в работе споры, в бою неуступчивы. Сколько нашему народу довелось горя вынести, другой бы, казалось, озлобился, а рязанец — нет, всё так же со щитом на спине, с мечом на боку пашет свою нежирную пахоту. Я о Рязани песни слагал ещё в юности и не устану славить её всю жизнь. Только не устоять нам против Орды без Москвы!
— Что ж, стольник, давай разочтём, — подхватил его последние слова Олег Иванович, не позволяя встрять в разговор старому Милославскому, уже изготовившемуся произнести гневную речь. — Ну поднимемся мы вместе с Москвой и на поганых пойдём. Хорошо, знатно, любо — слава и победа! Верю. А потом что? Победим мы Орду объединёнными силами, то есть единым русским кулаком. — Для наглядности Олег Иванович растопырил пальцы, медленно сжал их в кулак и нанёс невидимому противнику резкий короткий удар. — Только нашего, рязанского в этом общерусском кулаке сегодня — всего один палец. Да и тот, если смотреть правде в глаза — мизинный. — Олег распрямил мизинец. — А у Москвы три. — Резко выбросил три пальца. — И добычи она мне выделит всего на один палец, себе же возьмёт на три, а то и больше. Мы её знаем, Москву-то... Так что стану я после победы ещё беднее и слабее в сравнении с Москвой. И когда Орда от поражения оправится, не на Москву сильную пойдёт набегом, а на меня, как уже было недавно. Так?
— Так, — согласились все.
— Вот к чему — если государственным умом расчесть — ты призываешь! Получается, что не я, а ты предатель Рязани, стольник. Ты! — Последнее слово Олег Рязанский выкрикнул и вонзил, как копьё, в воздух перед лицом Степана длинный, тонкий, с хищно загнутым ногтем указательный палец.
В наступившей тишине опять стало слышно, как трещат свечи. Князь не опускал руку. Все ждали, что последует за этой вспышкой гнева.
— Повелеваю стольнику нашему Степану Дебряничу в монастырь удалиться. Пусть думает в тиши. И пока не призову я его к себе, все деревеньки, ему и его отцу нами жалованные, на себя беру! — Палец опустился, словно поставил точку.
Никто не сказал ни слова — наказание было необычным. Бояре не могли припомнить, чтобы так вот сразу князь лишал и пожалованного и вотчинного владения. И за что? За слова, а не за проступок. Мало ли какие слова во гневе говорили и они своему князю, когда поднималась пря[52] меж ними. Стольника, пусть недавно пожалованного, сына старого воеводы, в одночасье сделать нищим и безродным?
— Государь, больно сурова кара — не по вине! — выразил общую мысль Корней.
— Неужто ты и вправду так думаешь, боярин? Сдаётся мне, ты не о стольнике хлопочешь, а о судьбе своей дочери. Я не ошибся? — не стал вдаваться в долгие рассуждения князь. — Бывший, — он подчеркнул это слово коротким весомым молчанием, — бывший стольник наш о своей любви к Рязани говорил. Мы его со вниманием слушали. Красно говорил. Но вот о преданности и любви к своему князю он и словом не обмолвился. Почему? Да потому, что по его словам выходит: не мне он служит, а земле Рязанской. Мне же требуется, чтобы служили мне, князю рязанскому. Земле я сам слуга! — Олег Иванович встал.
Никто не проронил ни слова. Ближние мужи молчали, потупив взоры. Олег Иванович правильно оценил молчание: большинство бояр было недовольно суровостью приговора.
— Но мы милостивы, и худые слова, по молодости сказанные, можем и забыть, если, конечно, одумается бывший наш стольник, найдёт слова нужные. Для того повелеваем ему в монастыре год постриг не принимать. Не одумается, не найдёт нужных слов — пусть на себя пеняет. Эй, отроки! Степашку взять и сопроводить в монастырь!
Глава тридцать первая
Вечером, уложив младших детей спать, княгиня Ефросинья пришла в княжескую библиотеку, заставленную неразобранными сундуками с книгами. Библиотека была у Олега Ивановича любимым местом отдыха, размышлений и бесед с Епифаном.
— За что ты покарал Степана Дебрянича? — спросила без обиняков княгиня, усевшись на стольце против мужа.
— А тебе уже доложили?
— Мир слухами полнится, — хотела отделаться шуткой Ефросинья, но, встретив напряжённый вопрошающий взгляд, пояснила: — Алёна Корнеевна прибегала.
— А она как к тебе тропку протоптала? — раздражённо спросил князь. Только дома ещё не хватало разговоров о Степане. Сегодня Епифан уже душу вынул, допытываясь, почему так суров приговор и за что осерчал Олег Иванович на своего верного слугу.
— Ты же сам летошний год на охоте мне её представил. Сказал, что у боярина Корнея чудо-дочь выросла.
Великий князь припомнил. Было такое дело, пожалел он Ефросинью, тоскующую в обществе располневших, преждевременно состарившихся, глупых боярынь. Показалось по глазам, что дочь боярина Корнея, в отличие от отца, — умница, будет хорошей подругой Ефросинье.
— Ты не ответил, великий князь, — сказала с шутливой укоризной жена.
— А раз великий князь, то и отвечать не должен, ежели не желаю!
— Почему не желаешь? — ухватилась за неудачное слово жена.
— Долго объяснять.
— Поглупела у тебя жена на старости лет?
— Я бы сказал — наоборот.
— Так поясни. Может, и пойму. Или ты и сам толком не знаешь, за что верного слугу в опалу отправил?
Отвечая на настойчивые вопросы Епифана, князь понял, что поторопился, поддался минутному гневу, вызванному тем, что какой-то сотник, стольник, в одночасье ставший, как доносил дьяк из посольства, любимцем Дмитрия Московского, прилюдно обвинил его в двуличии.
Олег Иванович молчал.
— Неужто твой гнев вызван только тем, что Степан назвал имена твоих лазутчиков? Так ли уж нужны они тебе?
— То моё дело решать, кто мне нужен, а кто нет, а не сотника! Сама подумай, как бы я без них знал, что соседи-князья, братья мои по власти, замышляют?
— Значит, и в других княжествах есть у тебя подобные соглядатаи, что за рязанское серебро свою отчину продают?
Князь не ответил. Не рассказывать же Ефросинье, сколько лазутчиков, тайных сторонников, засланных ещё отцом, живёт в разных княжествах, особливо в Москве и Литве.
— И не стыдно тебе с ними якшаться?
— Ас теми, кто в Орде живёт и мне обо всех ханских замыслах сообщает, тоже должно быть стыдно?
— Не пытайся спрятаться за Орду, Олег Иванович. Там — враги, здесь свои.
— А если свои приходят и громят моё княжество?
— Так ведь лишь однажды...
— А если свои оставляют меня в беде?
— Причины этого ты и сам понимаешь. Помнишь, как говорил, что и сам бы так поступил?
— Да! — стал закипать Олег Иванович. — Говорил! Так что же мне, награждать Степана за то, что он меня перед всем миром двуличным выставил, моих сторонников в других княжествах выдал? Да и не только за то я на него осерчал. Он в глубине души к Москве склоняться стал.
— Ты уж и в душу ему заглянул?
Олег Иванович хотел было сказать, что о том ему донёс дьяк, посланный приглядеть за Степаном, но передумал. Опять не поймёт жена. Как объяснить, что сотник Степан вызвал его неприязнь, ещё когда возглавил добровольцев, желающих вместе с Дмитрием Московским дать отпор Бегичу? Злился, потому что завидовал, и едва сдерживал это раздражение, когда Степан вернулся, гордый победой, с повязкой на голове, осыпанный милостями Москвы.
— Почему я, князь, должен оправдываться перед тобой или перед Епишкой?
— Добавь ещё — перед Васятой, если бы он был жив! — воскликнула Ефросинья и вдруг вспомнила: — Ты Степана за своё спасение не наградил. А за пустые слова наказал!
— За спасение я его наградил, стольником сделал.
— То за Вожу. А за свою жизнь?
— Меня его меченоша вывез раненого. А на выкуп Степана я деньги дал! Я так понимаю: ежели дружинную клятву принёс, то должен за меня жизнь отдать без всякой награды!
— Бог с тобой, Олег Иванович, что ты говоришь!
Олег чувствовал в себе перемены, — нарастающее ожесточение, злость, зависть, — произошедшие с ним после московской победы и разорения родной Рязани. Заглядывая вперёд, он ясно видел: Мамаево нашествие неминуемо. Уж если намерился мурза стать ханом, разорив Русь, ничто его не остановит. И на Русь пойдёт в небывалой силе. Вот и раздирали князя сомнения, неуверенность, растерянность — как выгоднее поступить: встать всё же рядом с Москвой или пообещать поддержку Мамаю в надежде, что потом как-нибудь вывернется. Но говорить об этом жене, простодушной и прямой, не стал.
Поражение на Воже заставило Мамая с особенной тщательностью подсчитывать свои силы. Китайские советники и помощники мурз, чины, как называли их русские, ездили по всем подчинённым племенам и народам, вели учёт мужчин, способных носить оружие.
Основным населением земель, подвластных Орде, были половцы. Они же в результате ассимиляции истинных монголов и татар дали Орде свой язык, свою гораздо более высокую, чем у монголов, культуру.
Кроме того, в Орду входили покорённые в разное время волжские булгары, буртасы — племена, родственные мордве, собственно мордва, северокавказские племена черкесов, ясов (осетин), Ногайская Орда. Генуэзские колонии в Крыму также подчинялись Орде, их пехота была вооружена огнестрельным оружием.
Считалось, что после смерти Чингисхана наследникам досталась армия численностью до ста пятидесяти тысяч конников. В походе Батыя участвовало около пятидесяти тысяч татар, не считая союзных племён. Мамай владел через подставных ханов примерно половиной Орды. Таким образом, он мог собрать под свои бунчуки до восьмидесяти тысяч воинов. Восемь туменов! Было о чём задуматься Москве и Рязани!
Ехали в дальний мужской монастырь по раскисшим дорогам долго. Копейщики из охраны не спешили. Степан их, само собой, не подгонял, был задумчив, лежал на ворохе сена, которое набросал заботливый Юшка в телегу, и бездумно смотрел в низкое хмурое небо.
Несколько раз Юшка заговаривал, что и он пойдёт в послушники. Степан не поддержал, более того, обозвал дураком и велел жить в Переяславле, денег, сколько нужно, не скупясь, брать из добычи и служить Алёне.
Монастырь оказался неожиданно большим. Он стоял на палях посреди густого леса, окружённый крепкой дубовой, в два человеческих роста, стеной. Над ней возвышалась звонница. Завидя копейщиков, монах на звоннице — то ли звонарь, то ли сторож — ударил в малый колокол, звук поплыл над лесом. Вскоре ворота открылись, но копейщиков и тем паче Юшку внутрь не пустили, пошёл лишь Степан со скудной своей котомкой, набитой книгами. Ворота захлопнулись. Копейщики ускакали, а Юшка остался. Он переночевал в монастырской деревушке, что расположилась за лесом, потолковал с мужиками.
Были они все монастырские, кабальные. Монахов, понятное дело, не любили. Крепкий мёд, поставленный Юшкой, даже самым молчаливым быстро развязал языки.
— Не первый твой господин тут.
— И не последний.
— Сюда многих ссылают. Да не многие выходят...
— А как выходят? — заинтересовался Юшка.
— А вот так: ежели постриг не принял, а милость князя вернул.
— А бывает, что и монахами выходят. Отец Варсонофий, к примеру. Его князь отсюда в столицу взял, к книгам приставил. Сколько лет княжеским книжником был...
— Покуда не спился бедолага. Тогда его сюда вернули.
— А как их, сюда присланных, содержат? — спросил Юшка.
— В кельях. А кельи на засовах.
— Под замком? — удивился Юшка. — Такого в монастырях не водится.
— Не под замком, а под засовом. Бедолага внутри, а засов снаружи. На ночь двери келарь[53] запирает.
— А настоятель каков?
— Настоятель суров. Старый, помирать пора, а монахов в кулаке держит. Князь ему доверяет.
Настоятель действительно был властным и суровым старцем. Степан сразу почувствовал это на себе. Он требовал, чтобы и монахи, и послушники, а их в монастыре было несколько человек, выстаивали все без исключения службы, невзирая на хворости, бывало, что поздняя вечерня почти без перерыва переходила в раннюю заутреню. Одно спасало — кормили сытно, хотя преобладала рыба. Для души в келье дозволялось читать...
Прошёл месяц. Степан похудел, вернее, усох, втянулся в монастырскую жизнь. Тяготила полная оторванность от мира и сны: по ночам стали посещать соблазные видения. Добро бы, Алёна, а то всё больше Настя с межи да ещё та, рябая, о которой и думать-то забыл. Из монахов он ни с кем не сошёлся, правда, несколько раз разговаривал со старцем Варсонофием. Был тот, несмотря на свои сорок с небольшим, совершенно лыс, шустёр, с маленькими хитрыми глазками. Он пару раз заглянул к Степану, попросил книг почитать, но видно было, что не только за этим приходил, — хотелось ему поговорить. Хмельным от него пахло. Степан держался настороженно, хотя и приятен был ему старец. Как-то раз спросил его, когда шли в трапезную:
— Брат Варсонофий, почему тебя монахи старцем зовут? Не так уж и стар ты.
— Братия уважение высказывает, не за возраст мой, а за многие знания и долготерпение моё к их невежеству. Примешь постриг, станешь, к примеру, Софонием, и тебя старцем начнут звать за великие знания и столь же великие страдания, принятые в миру.
— Откуда ты о моих страданиях знаешь?
— Они на твоём лице написаны.
Стояло припозднившееся бабье лето. Окружающие монастырь леса оделись в золотой убор, по чёрным пашням важно расхаживали грачи, не спешившие улетать.
Юшка прискакал к монастырю к середине дня, покрутился у запертых ворот, постучал. Узкое, как бойница, окошко в створке ворот распахнулось. Глаз сторожа строго осмотрел пришельца, и оконце захлопнулось. Юшка только и успел сказать: «Отче...» Он с досады плюнул, поехал в деревушку, где в прошлый раз бражничал с мужиками. Но и там ждала неудача: все ушли на огороды, даже баб и детишек с собой забрали, остались только несколько глухих сгорбленных старух. Дело же, с которым Юшка прискакал, отлагательства не терпело.
Он дождался, когда стемнеет, вернулся к монастырю, проехал к задней стене, встал, как научился на меже, на седло, забросил татарский аркан на еле заметный выступ, подёргал, проверяя надёжность, и легко взобрался на гребень. Осмотревшись, перекинул верёвку вовнутрь, опять подёргал, крепко ли держится, и скользнул вниз, в монастырский сад. Мелодично и протяжно ударил колокол на звоннице. Юшка с тревогой подумал, что бьют к первой вечерней молитве и скоро все монахи соберутся в храме. А посланцы князя, которых он обогнал, должны уже скоро появиться, и тогда всё усложнится. Он почти не таясь выбрался к задам каких-то хозяйственных построек и увидел медленно бредущего по протоптанной тропинке монаха. Скуфейка открывала высокий с залысинами лоб, глазки были полузакрыты, полные губы шептали что-то неслышимое.
Юшка подкрался сзади и положил руку на плечо монаха.
— Ох! — испуганно воскликнул тот и оглянулся.
— Т-сс! Как тебя зовут, отче?
Монах закрестился.
— Свят, свят, свят... — забормотал он. — Изыди, сатана, сгинь, нечистый.
Юшка притянул монаха к себе и зажал ему рот рукой.
— Какой я тебе нечистый? Самый что ни на есть земной.
— Молчу, молчу, Господи, помилуй! — Монах попытался вырваться.
Юшка сжал его покрепче.
— Стой! Господь помилует, если я пощажу. А я пощажу, коли вести себя будешь тихо. — Для убедительности Юшка выхватил нож и приставил к горлу монаха.
— Ты это убери. Я человек смиренный, я и без твоего ножа порты замочил от страха. Убери...
Юшка хихикнул.
— Чего ржёшь-то, окаянный? — Монах уже справился с первым испугом. — А ежели — тебя так...
— Ишь ты, ершистый какой, — улыбнулся Юшка, убирая нож. — Приведи мне стольника, коего князь Олег Иванович недавно заточил у вас.
— Старца Софония?
— Неужто постригся? — ужаснулся Юшка, и было на лице его написано такое отчаяние, смешанное с недоверием, что монах не удержался и захихикал:
— Нет, не постригся. То я его так шутейно называю в счёт будущих заслуг перед Господом нашим... Брат Степан он.
— Вот я тебе сейчас врежу промеж глаз за такие шутки, — рассердился Юшка. — Давай веди его сюда.
— Что мне будет, если приведу?
— А чего твоей душе надобно? — ответил Юшка вопросом на вопрос, прикидывая, много ли у него с собой в баклажке крепкого мёду: уж слишком явно пахло перегаром от святого брата.
Ответ подтвердил его предположение.
— Душа глотнуть просит. — Монах вздохнул и облизнул губы.
— Ай да душа! — Юшка достал баклажку. — На вот, глотни задаток. Приведёшь — всю получишь.
Монах вцепился в сосуд, поднёс его трепетной рукой ко рту, борода задралась... Юшка услышал несколько булькающих глотков.
— А ну отдай, ишь присосался. — Юшка отобрал баклажку. — Брата Степана приведёшь вон туда, к задней стене монастыря, где сад густой. Там я буду ждать. Ну иди. — Он подтолкнул монаха в спину.
Монах ушёл. Юшка подумал: это, наверное, и есть тот самый Варсонофий, что спился в княжеской библиотеке. О нём поведали в деревне...
Ждать пришлось долго. Когда Юшка уже забеспокоился, появился Степан в монашеской хламиде и вслед за ним запыхавшийся Варсонофий. Степан бросился к Юшке, обнял его, прижался и долго не мог слова вымолвить.
— Что с Алёной? — спросил наконец.
— Бежать тебе надо, Степан, — не ответил на вопрос Юшка.
— А мне обещанное, человече? — подал голос монах.
Степан удивлённо оглянулся. Юшка протянул баклажку монаху.
— Бог с тобой, куда мне бежать? Лучше расскажи об Алёне, не томи.
— А что рассказывать? Живёт как в монастыре — запер её боярин в светёлке. Спасибо, Пригода иногда исхитряется на волю выбраться, весточку передать.
— Ты говори, говори, что тянешь-то!
— Велела тебе передать, что любит по-прежнему...
— Любит, — выдохнул Степан и отвернулся.
— Эй, человече, — подал голос монах, — я тут Господа славить буду, недалеко от вас...
— Славь, отче, славь, — отмахнулся от него Юшка. — В Рязани такие дела начались, что боюсь, долго ей ждать придётся. Бежать тебе надо!
— Бежать? Как я могу бежать? Лишиться всех надежд на Алёну? Я тут милости Олега Ивановича дождаться должен.
— Неужто ты не понимаешь, что ждать тебе здесь нечего! Дело в том, что...
— Так хоть надежда на княжеское слово есть, — перебил Степан. — А убегу — и того лишусь.
— Можешь ты меня дослушать, наконец? — повысил голос Юшка.
— Говори.
— Объявился на Рязани давешний твой ночной гость. Помнишь, в Москве приходил к тебе?
— Пажин-Харя? Ещё бы не помнить, почитай, с него-то всё и началось.
— Он самый, Харя. Сбежал из Москвы. И на тебя князю Олегу Ивановичу челом бил, дескать, ты выдал его в Москве великому князю Дмитрию.
— Я выдал?! Его? — Степан удивился.
— Ты. Он, по его словам, тебе доверился, а ты выдал. И что, дескать, он еле-еле ноги из Москвы унёс, не то сидеть бы ему в яме, а то и головы лишиться.
— Ты же знаешь, я даже тебе слова не проронил! Вот те крест, никому, самому Олегу Ивановичу не сказал, от кого всё вызнал. Один на один князю бы поведал, а при всех умолчал.
— Я-то знаю. Да Олег Иванович поверил Харе и все твои деревеньки на него отписал.
Степан остолбенел. Получалось, что ни надежд, ни достатка, ни будущего для него в Рязани нет.
— Боярин Корней сунулся было к князю, да так и выкатился, будто его тараном вышибли. Пригода передала, что князь попенял боярину: больно долго стольник покаянную челобитную обдумывает, никак не соберётся писать. Ты и вправду не писал?
— Завтра же сяду, — с готовностью сказал Степан.
— Раньше надо было, а ты небось всё дурью маялся, сомневался. Каяться тоже вовремя надо.
— Ты как со мной разговариваешь!
— А так. Я княжеских отроков с копейщиками обогнал — едут они за тобой, чтобы везти на княжеский суд. И сдаётся мне, что будет тот суд скорый и далеко не праведный! Бежать тебе надо.
— Вот и хорошо, я на суде князю всё скажу. А бежать — не хочу.
— Да что же ты никак не уразумеешь! — сорвался Юшка. — Не сбежишь — головы лишишься! Я все денные книги твои, рухлядишку, золотишко, жуковинье из военной добычи — всё собрал, в тюки увязал, на заводных коней навьючил, здесь оно всё, только решай. А что похуже — в саду у Корнея закопал, чтобы той Харе гнусной не досталось. Ну решай! Вот она, стена, перелез — и свободен.
— Нет, нет, Юшка, не могу. Я, право слово, сейчас же челобитную напишу, ты и отвезёшь...
Издалека донёсся громкий стук в ворота.
— Слышь, отче, — позвал Юшка, — сбегал бы ты к воротам да вызнал, кого это на ночь глядя принесло.
Монах исчез в темноте между деревьями.
— Я верное дело говорю, Степан. Сейчас всё у нас тут, за стеной: три заводных коня и два под седлом — твой да мой. И ночь впереди, в ночи нас никто не догонит, а там, глядишь, и затеряемся...
Степан молчал, уставившись в бревенчатую кладку стены.
Послышался громкий голос, распевающий:
— Истомилась душа моя... желая во дворы Го-о-ос-подни! И птичка хочет себе жилья, и ласточка гнезда себе, где положить птенцов сво-о-их! — Голос пустил «петуха».
— Вот Варсонофий упился, сейчас все сбегутся, — сказал Степан с досадой.
— Это он нам знак подаёт: что-то не так. Решай скорее...
Появился монах:
— Слышь, благодетель, там два отрока княжеских и копейщики. Отец настоятель отроков-то в монастырь впустил. Не бывало такого допрежь.
— Всё. — Юшка схватил друга за плечи и потряс. — Времени думать не осталось. Сейчас тебя хватятся и начнут по всему монастырю искать.
Варсонофий неожиданно ясным голосом изрёк:
— Издревле на Руси велось, что волен боярин али иной слуга какой отъехать от своего князя к другому князю, ежели порушено единомыслие меж ним и князем его.
— Слышишь? — подхватил Юшка.
— На что вы толкаете меня? Потерять Алёну, предать и её и родину?
— Родина у нас в сердце и в мыслях, — так же ясно и назидательно сказал монах. — А ежели нету её в сердце, то и не обрящешь нигде.
— В подвал тебя Олег кинет — вот там и обрящешь родину, — уточнил Юшка.
Степан прислушался. Вокруг пока было тихо.
— Ну ладно, Юшка — друг, любит меня, заботится. Ты-то, брат Варсонофий, чего хлопочешь?
— Был бы в силах и в крепости духа, бежал бы и я, поднял бы против лукавого Олега не меч, но слово! Дряхл есьм телом и духом и пороку привержен... — Монах поднял баклажку и вылил остатки в рот.
— Так, говоришь, три заводных коня и для меня боевой? — спросил Степан.
— Да.
— Значит, за меня решил?
— Я не решал. Я всё подготовил, а решать тебе, господин, — качнул головой Юшка.
— Я тебе не господин! — бросил Степан. — Сколько можно повторять!
Варсонофий задумчиво смотрел на стену, за которой исчезли две тёмных фигуры. Он повернулся, чтобы идти в свою келью, и тут его окликнул со стены голос:
— Брат Варсонофий!
— Тут я. — Монах оглянулся и увидел Степана, сидящего на верху. — Ты что, передумал?
— Книги у меня в келье остались... жалко бросать, особенно одну... Взял бы себе?
— Иди с Богом, не волнуйся, книг я не оставлю. Да будет тебе Москва не мачехой — матерью. — Монах вздохнул: — Обеднела земля Рязанская ещё на одну светлую голову и на одну твёрдую руку.
Глава тридцать вторая
Степан и Юшка, переправившись через Оку в стороне от шумной переправы у Коломны, оказались на Московской земле. Отсюда уже не таясь поехали вдоль Москвы-реки путём, знакомым ещё с тех времён, когда ходили в облике певцов разведывать, как строят каменный кремль.
Степан грустил. Юшка, по обыкновению, играл на дудочке, чаще простое и печальное. Три заводных коня, груженных собранными вьюками, поматывали головами в такт дудочке.
В Москве направились к дому Семёна Мелика. Его жена, удивительно моложавая для своих сорока лет, статная, красивая женщина, встретила их приветливо, хотя никогда до того не видела, а только слышала от Семёна.
Весь сторожевой полк, воеводой которого давно уже стоял Мелик, знал, что его жену когда-то давным-давно, когда Семён был рядовым гридем, а Настя одной из самых красивых молодок на Москве, похитил, уезжая в Орду, баскак. Семён в одиночку налетел на баскака, хотя того сопровождал десяток воинов. Баскак от самоуверенности потерял осторожность, поэтому Мелику удалось отбить у растерявшихся ордынцев жену. Он ускакал, посыпая свои следы «чесноком» — железными шариками с длинными шипами. Попадая в копыта обычно некованых татарских лошадей, «чеснок» выводил их из строя. Средство жестокое, но действенное, в сторожевых боях проверенное. Семён успел доскакать до ельника, где загодя приготовил засеку, обошёл её, ведя коня в поводу, несколькими ударами припрятанного топора свалил уже подрубленную ель, закрыв единственный проход в засеке, и умчался, оставив разъярённых татар ни с чем. Больше пяти лет после пережитого волнения Настя не могла родить, пока однажды золовка не уговорила её сходить на богомолье к отцу Сергию. Вскорости Настя понесла и родила мальчика.
Хозяйка усадила гостей за стол. Степан украдкой поглядывал на неё, вспоминая об Алёне. Что-то общее было в чертах этих красивых женщин, несмотря на разницу в летах, — за внешней мягкостью скрывалась сильная воля. Юшка же, не терзаемый пустыми думами, ел и похваливал, от чего хозяйка улыбалась, и на щеках её проступали ямочки. Потом он сел на крыльцо и заиграл на дудочке. Настя подсела к нему, и Юшка, к удивлению Степана, вдруг сделался словоохотливым и рассказал ей грустную историю изгнания из Рязани.
Вечером Семёну Мелику свою историю Степан рассказывал куда короче и гораздо менее красноречиво, нежели внезапно разговорившийся днём Юшка.
Воевода выслушал, задумчиво покачал головой и произнёс одно-единственное слово:
— Властитель...
Князь Дмитрий Иванович принял Степана через день. В отличие от Мелика он был многословен:
— Я рад, что ты пришёл ко мне. Я тебя ещё в бою приметил и в дни твоего посольства к тебе присматривался. Но вот что хочу сказать: ты на Олега Ивановича зла не держи. Он князь своей земли и поступил по-княжески. Не сотниково и даже не боярское дело осуждать князя, государя за совершаемые им тайные деяния на пользу своего государства.
Государь... Это слово Степан услышал в тот день впервые. Он во все глаза смотрел на Дмитрия Ивановича.
— По-твоему, великий князь, правы латиняне, утверждая, что цель оправдывает средства?
— Латиняне были не глупы, если говорили это.
Степан вспомнил слухи о не очень высокой образованности московского князя, что особенно грело тщеславие Олега Ивановича.
— Я бы только уточнил: не средства, а поступки.
— В чём ты видишь разницу, великий князь?
— Не знаю, мне так чутьё подсказывает. Ну да ладно об этом... Я тебя, сотник, вотчиной жалую! А служить будешь под началом воеводы Семёна Мелика.
Вотчина оказалась той самой, коей владел ПажинХаря до своего бегства в Рязань.
— Не разбрасывается наш князь вотчинами, счёт им ведёт, — сказал с явным одобрением дьяк дворцового приказа, выписывая сотнику грамоту на владение. — Пажин убежал, ты прибежал, — чего попусту земле-то простаивать.
Дьяка пришлось угощать в кружале, да и Степан с Юшкой, вопреки заведённому на меже правилу, воздали должное тем медам, что подавал хозяин.
Как домой добрались, не помнили. Вроде верхом...
Поутру, злые с непривычного похмелья, они поскакали с провожатым в Пажиновку, благо, находилось сельцо недалеко от города.
Когда прискакали, Юшка сунул грамоту прямо в нос оторопелому тиуну. Тот опешил, долго не мог понять причины внезапной перемены владельца, но под грозными взглядами смирился и повёл гостей к господскому дому.
Шли гуськом: впереди тиун, за ним Юшка, победно оглядываясь, затем понуро Степан.
Дом стоял на пригорке, был обнесён крепким, нещелястым забором с большой, украшенной затейливой резьбой калиткой. Всем своим видом он говорил о рачительности хозяина и его любви к порядку. К дому примыкали хозяйственные постройки, за которыми начинался плодовый сад.
По двору сновали пёстрые сытые куры, что-то озабоченно выискивая в свеженасыпанном жёлтом песке. Среди них важно расхаживал огромный красавец-петух, время от времени встряхивая кроваво-красным гребешком. На вошедших он не обратил никакого внимания, видно, чувствуя себя хозяином.
Степан присел у крыльца — не хотелось идти со двора в дом. Отправил туда с тиуном Юшку — тот куда хозяйственней, лучше во всём разберётся, если нужно, сразу и распорядится. Дом ему не понравился. Не потому, что был некрасив или ещё что. Просто это был чужой дом, не им, Степаном, построенный, как мечталось и как должно было быть, не на отцовской земле, в детстве исхоженной вдоль и поперёк. Здесь даже пахло по-другому, не похоже на запах родной земли, что помнил он все эти годы.
Перед самым крыльцом, где сидел Степан, петух принялся топтать хохлатку. Делал он это так истово, что у Степана шевельнулись с похмелья срамные мысли. Он даже рассердился на себя.
На крыльцо вышел Юшка, непонятно весёлый, словно не у него всю дорогу из Москвы болела голова.
Вид Юшки вызвал у Степана раздражение — господин в тоске, места себе не находит, а этот зубы скалит, идёт фертом да ещё и весёлый.
— Никак, поднесли тебе?
— А что? И поднесли! По всему видать, хорошее сельцо, стольник.
— Не зови меня стольником, — с неожиданной злостью рыкнул Степан.
— Как скажешь, — с готовностью ответил Юшка, всё так же широко улыбаясь.
— Чему улыбаешься-то, дурень?
— Ничему, Степан. Пойдём-ка лучше в дом. Там тебя малинник ждёт.
— Какой ещё малинник?
— Пажин-Харя ни единого мужика на дворе не держал, одни девки красные. — Юшка закатил глаза. — Не дурак был, этот Харя, не промах.
— Всех девок по домам разогнать! — раздражённо приказал Степан.
— Зачем?! Малинник — душа радуется. Взыгрывает душа. — Юшка даже пританцовывать стал от полноты чувств, поводя плечами.
— Я что сказал! Всех девок по домам, пусть работают!
— Зачем же по домам, господин? — прозвучал чей-то звонкий голос.
Степан и Юшка оглянулись. Они и не заметили, как на крыльцо вышла статная молодая женщина с хлебом-солью в руках. Она стала спускаться по ступеням, а за нею высыпал целый табунок девок — румяных, насурьмлённых, дебелых, в ярких сарафанах: одна дородная, другая — как ивовая лоза гибкая, третья такая, что всё в меру, ни убавить, ни прибавить. У первой в руках поднос с корчагой, у второй — с чарками, у третьей — с заедками. Молодая женщина спустилась с крыльца и, поклонившись Степану до земли, проговорила нараспев:
— Не побрезгуй, господин, своего хлеба, своей соли, своего мёду хмельного.
Степан встал, отломил корочку хлеба, окунул в солонку, съел, взял чарку, выпил и оглядел девок. Те уже спустились во двор, окружили, стояли вольно, но почтительно; будто солнышко выглянуло, вроде как распогодилось.
— Благодарствуйте. — Степан улыбнулся. — Как звать-то?
— Лукерьей, господин. Ключница я твоя. — Молодая женщина поклонилась снова. Выпрямилась, повернулась к Юшке: — И ты, господин меченоша, чаркой не побрезгуй, заедку мимо рта не пронеси. — Она сделала знак, девка поднесла чарку Юшке.
— Будь здоров в своём новом владении, Степан, — сказал тот и выпил.
Степан и не заметил, как его чарка вновь оказалась полной.
— Ну и мёд у тебя, Лукерья, — крепок, душист, — выпив, крякнул он. Женщина поклонилась. — Чем же тебя отблагодарить за встречу?
— По обычаю, господин, — ответила Лукерья, поводя чёрными глазами, — хозяйке за старание поцелуй полагается.
— Ишь ты, какая шустрая. — Степан обнял и поцеловал Лукерью. Хотел в щёку, но то ли мёд тому был виной, то ли ещё что, получилось — в губы. Оторвавшись, смутился. Хорошо, Юшка выручил, сказал со смехом:
— А я?
Лукерья подставила ему щёку с улыбкой. Степан подумал, что улыбка у неё чудесная, ясная, открытая, на тугих щеках соблазнительные ямочки. Юшка смачно чмокнул её, картинно закатил глаза.
— Ох и ядрёная баба! А ещё медку поднесёшь?
Лукерья сделала девке знак, та налила и хозяину, и меченоше. Степан отметил: наливала она мёд из корчаги так, словно всю жизнь этим занималась: струя шла широкая, сильная, ни капли мимо не упало. Да, пили здесь, видимо, часто, много и вкусно.
Степан протянул чарку Лукерье:
— Выпей и ты, ключница, — этими словами утверждая её в прежнем звании.
Лукерья противиться не стала, лишних слов не говоря, в очередной раз поклонилась и взяла чарку. Девка тут же налила новую, протянула стольнику. Лукерья подняла свою и глянула Степану прямо в глаза.
— Будь здоров, весел и счастлив в новом владении, господин! — сказала она распевно. Что-то в говоре её показалось Степану необычным, слишком мягким для акающего московского разговора.
— Где же тебя, такую чернобровую да черноокую, Пажин-Харя отыскал? — спросил он, выпив.
— На Черниговщине.
«Вот откуда мягкость», — подумал Степан.
— Что же он тебя с собой в Рязань не взял?
— Может, я не захотела? Может, на нового господина взглянуть пожелала?
Девки захихикали, подталкивая друг друга локтями, прикрывая рты концами платков.
— Это чему же вы, трясогузочки, смеётесь? — спросил Юшка.
Одна, что пошустрее, ответила:
— Дак он сам от её бежал, от Берендеихи-то. Ишо небось и радовался.
Лукерья повела на них чёрным глазом — девки враз замолчали. Шустрая как-то незаметно, бочком, отступила и скрылась за другими, будто и не было её.
— Почему Берендеиха? — спросил Юшка.
Лукерья ответила, глядя при этом на Степана:
— Может, знаешь, ещё при князе Владимире Мономахе половецкое племя берендеев заключило союз с русскими и осело под Черниговом? Вот от них я и происхожу. От них и прозвище. Ханского рода я!
— Эка невидаль — ханского! Да мы этих самых ханов на реке Воже во как били! — обиделся Юшка.
— Не этих,— поправил его Степан. — Берендеи ещё нашим пращурам союзниками против Дикого поля были. — Он поднял чарку. — За твоих и наших предков, ключница. Ты своих на Черниговщине оставила, мы — на Рязанщине... Сироты мы все.
— Как есть сироты, — подхватила Лукерья, уловив настроение стольника. — Ты уж меня по моему сиротству-то не обижай.
— Такую обидишь! — засмеялся Юшка и хотел обнять ключницу. Та гибко отстранилась, притворно ударила его по рукам, но Юшка, войдя в раж, полез снова. Тогда Лукерья шлёпнула его больно, и в застывшей улыбке её промелькнуло что-то злое.
— Не для тебя припасена, паря!
Степан стоял, чуть покачиваясь, — после вчерашней браги крепкий мёд быстро затуманил голову. Он повторил с пьяной настойчивостью:
— Сироты... да, сироты... Родину потеряли, на земле московской встретились...
— Выпей ещё медку, господин, — вкрадчиво заговорила Лукерья. — Жизнь не кончается с разлукой, я это знаю. Горе горькое — да мёд сладок, память грустная — да хмель радостен! — Она протянула чарку, неизвестно когда наполненную. — Утешься, господин, а я девкам плясать велю!
— Плясать? Вот это дело, это по-нашему — плясать. — Степан обернулся к Юшке, от резкого движения он потерял равновесие и ухватился за плечо ключницы. Плечо было мягким, податливым и одновременно сильным, надёжным. Степан не спешил отпустить, а ключница не спешила освободиться.
Юшка достал из-за пояса дудочку, заиграл. Девки, не дожидаясь знака, сноровисто пошли кругом, поплыли, взвихряя пыль сарафанами, перестроились парами, раскрутились и опять змейкой с поклонами да улыбками — не хоровод-пляска, а нечто бесовское, соблазнов.
И голос зазвучал Лукерьи над ухом — соблазный:
— Чем же мне тебя ещё потешить, господин? Может, баньку с дороги?
— Баньку? Хорошо! — мотнул согласно головой Степан, не спуская глаз с девок. — Вели топить.
— Так готово уже, господин, протоплено. Хочешь, девку тебе пришлю, веничком похлестать? — И вкрадчиво: — Или мне самой?
— Веничком! — подхватил Степан, не отпуская плечо Лукерьи. — Березовым, как в Рязани нашей... Берёза, она всюду берёза... Банька, она всюду банька на Руси нашей! — Он неожиданно ухнул, ворвался в круг пляшущих девок и стал выделывать ногами что-то несуразное, дикое, хмельное, выкрикивая: — Баньку мне! Баньку! Первую на московской земле баньку! Всю память проклятую веничком выхлестай, Берендеиха, прочь её, память! Веди в баньку, веди...
Глава тридцать третья
Семён Мелик обрадовался назначению Степана в сторожевой полк. Говорила не только личная приязнь, но и рачительность хозяина большого, сложного, разбросанного по всей меже войска, почему-то по старинке всё ещё именуемого сторожевым полком. Он не раз повторял Дмитрию Ивановичу, что надо бы разделить полк на межевой, или пограничный, — название, придуманное и ещё не утвердившееся на Руси, — и собственно сторожевой.
Дмитрий Иванович соглашался, но резонно спрашивал: а кого на межевой полк поставить? Кто столь хорошо, как Мелик, знает пограничное дело? Не было подходящего воеводы. И когда появился Степан, Мелик сразу же подумал, что за полгода из него можно сделать хорошего воеводу межевого полка. Но Степану о своей задумке говорить не спешил. Юшка же, по глубокому убеждению Мелика, давно мог принять сотню, тем более что Степану, уже не дружиннику, меченоша не был положен. Говорить об этом тоже не стал — пусть сам Степан решит, что и как, он сотник, все на его участке межи ему подвластно.
По просьбе Степана Мелик предоставил друзьям седмицу, чтобы привести в порядок дела в вотчине: последнее время Пажин-Харя за хозяйством не следил, тиун распустился и был нечист на руку, Лукерья, хоть и держала в крепких руках дом, в другие хозяйственные дела не лезла.
Возвращаясь в Пажиновку, Степан и Юшка прикидывала что следует сделать в первую очередь, но, когда приехали, Степан опять попал в сладкие сети.
Снова всё началось с баньки. Оказалось, что за полгода монастырской постной жизни накопилось у Степана столько сил, подавляемой тоски по женской ласке, что Берендеиха стала для него как баклажка родниковой воды для путника, изнывающего в безводной степи.
Лукерья, знавшая многих мужчин до того, как обосновалась у Пажина, завлекательно-бесстыжая на ложе, вдруг ощутила к Степану дотоле неведомое ей чувство. На третий из семи отведённых Меликом дней она призналась себе, что каким-то чудесным образом успела полюбить Степана всем своим истосковавшимся сердцем.
В итоге хозяйство свалилось на Юшку. Тиуна он прогнал, «малинник» распустил по домам. Нового тиуна по совету Лукерьи взял из деревенских, не со стороны. По вечерам, поглядывая в сторону топящейся бани, вздыхал, играл жалобно на дудочке, но девок из бывшего «малинника» не трогал.
Провожая Степана, Лукерья, как ни крепилась, а зарыдала.
Это тронуло Степана и даже немного примирило Юшку с настырной Берендеихой, вытеснившей из сердца друга Алёну.
Но вытеснившей ли? Степан на это вопрос, задай его Юшка, ответить бы не смог.
В Москве Мелик передал повеление великого князя перед отъездом отыскать его, где бы он ни был, хоть в Кремле, хоть в поездке по волостям.
К счастью, Дмитрий Иванович оказался дома, разбирал грамоты в библиотеке.
Степан шёл в библиотеку, терзаемый дурными предчувствиями. Никак, передумал Дмитрий Иванович, решил оставить его в Москве, при своём дворе, где Степан чувствовал себя чужим. Он часто ловил недобрые взгляды завистников. Понимал их — всю жизнь прислуживать и вдруг видеть, как никому неведомый рязанец в одночасье становится и милостником, и вотчинником.
Если Дмитрий Иванович передумал, надо упасть ему в ноги, молить, заклинать всеми святыми не оставлять его при дворе! Мало разве тех, кто всё бы отдал, лишь бы мельтешить на глазах великого князя?
В сенях перед библиотекой сидели монах-смотритель и воин дворцовой стражи. Завидя Степана, воин встал, перегородил путь:
— Никого пускать не велено.
Монах же присмотрелся, узнал Степана.
— Великий князь ждёт его, — сказал он.
Стражник посторонился. Степан вошёл в библиотеку. Располагалась она в огромной палате, но даже здесь полкам с книгами было тесно. Собирали их с незапамятных времён. Были даже фолианты, доставшиеся московским князьям от Александра Невского.
Степан поклонился, оглядывая ряды книг, подумал, что не прав Олег Рязанский, говоря о невысокой учёности Дмитрия.
— Разбежались глаза? — оторвался от грамот князь.
— Да, великий князь. — Степан снова поклонился.
— Я тебя позвал попрощаться и поговорить по душам.
— Великая честь для меня, государь.
— Ты не обижен, что я тебя, стольника, простым сотником сделал? Прямо скажи, есть ещё время. А то вдруг держать обиду на меня будешь.
— Не буду, государь, — твёрдо ответил Степан. — Наоборот, Господа Бога за тебя молить стану — нет для меня выше чина, чем сотник в сторожевом полку! — Степан сам не заметил, как употребил новое местное слово «чин».
В библиотеку вошёл боярин Михаил Бренк.
— Государь, воротный прислал сказать: отец Сергий к тебе идёт.
Дмитрий подошёл к окну, глянул во двор. Через его плечо посмотрел и охваченный любопытством Степан — о настоятеле Троицкого монастыря отце Сергии слава шла по всей Залесской Руси.
К красному крыльцу великокняжеского терема быстро шёл, крестясь на златые главы кремлёвских церквей и соборов, худой, высокий монах в подоткнутой, чтобы не мешала при ходьбе, рясе, босой, с котомкой за плечами и с высоким посохом в правой руке. Ноги были по колено замызганы, Степан подумал, как холодно месить грязь на осенней дороге.
Монах остановился перед крыльцом, снял скуфейку, вытер лицо, благословил бросившихся к нему копейщиков, достал из котомки тряпицу, обтёр ноги и, твёрдо ступая, поднялся по лестнице.
— Как же он босиком? — не удержался Степан.
— А вот так! — с мальчишеской гордостью за своего настоятеля ответил Дмитрий. — После ранней заутрени выходит босиком и к вечерне приходит. Конные мои гонцы не намного быстрее добираются. — И, прочитав в глазах Степана неподдельный восторг, сказал: — Если хочешь, останься, он тебя благословит.
— Конечно, княже! — с радостью кивнул тот.
В палату вошёл отец Сергий. Великий князь склонился под благословение, потянулся поцеловать руку, но Сергий отвёл её и сказал низким, густым, проникающим в душу голосом, хотя слова были самыми обычными:
— Извини, княже, пылен я с дороги.
Степан шагнул к старцу. Сергий, на мгновение вобрав в себя восторженный взгляд голубых глаз, благословил и даже кивнул каким-то своим мыслям с едва уловимой доброй улыбкой на устах.
— Иди, Мелику от моего имени сам всё расскажешь, — распорядился великий князь.
Степан коротко, по-воински поклонился и вышел.
Через несколько дней, попрощавшись с неожиданно приехавшей Лукерьей, что вдруг тронуло сердце, он уехал с Юшкой принимать сотню на литовскую границу. Именно там недавно в пограничной стычке был тяжело ранен сотник. Как ни уговаривал Степан Мелика послать его на рязанскую границу, доказывая, что в тех местах ему всё до мелочей знакомо и толку будет не в пример больше, чем на западной меже, Мелик не согласился.
Разницу Степан почувствовал сразу: зимой татары редко выходили из Дикого поля, а если выходили, то передвигались в основном по руслам замерзших рек, избегая лесов. Литвины же, как и русские, лес любили и чувствовали себя в нём как дома. И зима была для них привычной. Оттого пограничные стычки происходили на западе круглый год. Литвины были сноровистыми воинами, сильными в пешем бою, хотя уступали татарам в умении сражаться на коне. Сотня несла большие потери, и люди менялись часто.
От новых воинов Степан узнавал, что происходит в мире — в Москве и даже на Рязани. Однажды к нему приехала Лукерья с небольшим обозом мороженого мяса, сала, битой птицы, мёда. Степан хотел было, осерчав за самовольство, прогнать её, но настырная баба ухитрилась остаться и прожила у него две седмицы, ухаживая, обстирывая и лелея.
После её отъезда Степан вдруг запел как-то вечером, сидя с Юшкой в тёплой избе, ещё хранящей особый, домовитый бабий дух. Юшка достал дудочку и принялся подыгрывать. Песня задалась. Слова становились в ряд послушно, сами, словно и не участвовал в том певец...
Лукерья повадилась приезжать с обозом каждый месяц, и Степан уже не пытался её прогнать, не прятал глаз от холостых соратников. Да и стояла сотня в обжитых местах: бабьей заботой воины обделены не были.
Там, на Москве, в отсутствие Степана Лукерья вела хозяйство умело: тиуна держала в ежовых рукавицах, не давая ему ни воровать, ни самовольничать, крестьян не мучила понапрасну, семь шкур не драла, а если кто нуждался — помогала, но под кабальную и долговую запись.
Прошёл год.
Как-то дошли слухи, что татары в очередной раз напали на Рязань, разграбили и столицу, и восточную часть княжества и ушли, избегая встречи с посланными из Москвы полками. Степан с горечью думал: никак не дают проклятые подняться его родине. Заболело сердце — тупо, тягуче, словно воткнулась татарская стрела куда-то за грудину. Прорвалась изгоняемая усилием воли мысль об Алёне: как она там, ушёл ли Корней от налёта в дальние свои деревеньки? И так сильна была эта боль, рождённая страхом за судьбу всё ещё любимого человека, что Степан оставил самовольно сотню на старшего десятника, а сам решился: поскакал, минуя Москву, к Пронску в надежде узнать там хоть что-нибудь о судьбе Корнеевой семьи.
Но пронские ничего толком не знали, потому как сами при первых сведениях о нашествии татар ушли в лесные дебри, в сторону Дебрянска, который теперь всё чаще называли Брянском.
Не в силах больше выдерживать пытку неизвестностью, Степан ночью выехал в Переяславль. Ранним утром Юшка перехватил одну из дворовых девок боярина Корнея, что вышла за ограду. Оказалось, что Алёна с Пригодой теперь постоянно живут в деревушке, купленной боярином на Мещере на случай татарских набегов.
От сердца отлегло. Степан погнал Юшку вслед за девкой, чтобы узнал, как добраться до деревни, но глупая девка там не была ни разу, дороги не знала, а если бы и знала, едва ли могла связно рассказать: в мещёрских топях и лесах вольно ходили только местные.
Не торопясь, заботясь об уставших от скачки конях, поехал домой. Степан усмехался — домой теперь означало на московскую границу.
Там поджидала Лукерья. Как Степан ни клялся, что ездил по княжеским делам, не поверила и оттого была особенно неистощима в ласках.
...В самом начале лета — шёл второй год его жизни в Московском княжестве — с очередным пополнением приехал новый сотник и привёз повеление Мелика возвращаться. Степан признался Юшке, что даже рад этому: однообразная пограничная жизни уже приелась.
В Москве Мелик объявил, что выполняет волю воеводы Боброка, который уже ждёт Степана. Велено явиться к Боброку домой сразу по приезде. Но Степан сосвоевольничал: съездил в деревню, к Лукерье, помылся, попарился, отдохнул — хотя какой отдых в женских объятиях? — и через день вернулся в город.
Дом Боброка знала вся Москва — первый каменный дом в столице. Храмы давно уже возводили из камня, а вот жилой дом впервые построил, приехав с Запада, именно Боброк. Москвичи, когда строился, отговаривали: мол, от камня сырость в доме разводится, кости ломит, не дышит камень подобно дереву, нет в палатах особого, смолистого духа, что хранят хорошие брёвна десятками лет. Но Боброк не слушал. И когда во время Ольгердова налёта — тот осадил московский кремль несколько лет назад — литовцы подожгли посад, а затем стали кидать огненные заряды, многие боярские хоромы погорели, Боброков же дом остался нетронутым. Горючие заряды скатывались со свинцовой крыши или разбивались о каменные стены, дворовые людишки тут же тушили остатки огня, и дом только почернел от копоти. А у многих бояр выгорело всё дотла, с узорочьем, рухлядью и сундуками. Когда отбили Ольгерда и замирились с ним, дальновидные люди стали возводить дома из камня...
Степана поразило обилие книг в горнице Боброка. Пожалуй, столько он видел лишь в великокняжеской библиотеке.
Боброк предложил присесть. Сам сидел у большого стола, подобного пиршественному, — тоже принесённый с Запада обычай. Русские работали всё больше у ларей, куда удобно было прятать и пергамен, и чернила, и даже книги.
— Позвал я тебя вот зачем, — без обиняков начал Боброк. — Хочу поручить важное дело. Известен ты мне как муж не только ратный, но и книжный. А на Москве у нас люди пока что всё больше о ратях думают, а не о книгах.
— А библиотеки, воевода? Великокняжеская, где мы с тобой встречались, твоя, Вельяминовых?
— Библиотеки есть, да людей книжных мало. Москва в этом деле всё ещё захудалым удельным городом остаётся, хоть и кремль у нас каменный, и стол — великий, и митрополит у нас живёт. Надобно, чтобы знание равно с силой в гору шло. Ну, да не о том сейчас разговор. Доносят наши лазутчики, что Мамай всё чаще стал говорить, будто наложит он на Русь Батыевы дани. Если не подчинимся, пойдёт походом.
Нужна ему, безродному, победа, чтобы в Орде встать вровень с правнуками Чингисхана.
Степан только вздохнул. Всё это на Руси уже знали.
— Говорят, ты песни поешь и даже сам сочиняешь? — неожиданно спросил Боброк.
— Пою, князь. Но пока ещё сердце не проснулось для песен. В Москве я чужой, а в Рязани — отрезанный ломоть.
— Тоскуешь здесь, на Москве?
— Тоскую, князь, хотя и не на что жаловаться, — вздохнул Степан.
— Зови меня воеводой, — велел Боброк мягко.
Степан согласно кивнул и улыбнулся, показывая, что понимает: родиться князем в многочисленной и разорившейся княжеской семье — случай. Стать же великим воеводой в крупнейшем русском княжестве — заслуга.
— Значит, тоскуешь? Это хорошо.
— Чего же хорошего? — удивился Степан.
— То, что правду мне сказал, не стал вилять да скрывать.
— Я, воевода, никогда не виляю, с детства приучен к правде.
— Знаю... Думаю, потому и в Москве оказался.
Степан опять удивился — великий воевода знал даже о такой мелочи. Нашёл время разузнать.
— В чём-то и я виноват, — вздохнул Боброк. — Когда схватили гонцов Олега Ивановича, это я приказал ни сотнику Пажину, ни тем паче тебе ничего о том не говорить.
— Зачем? — вырвалось у Степана.
— Дело обычное. Чтобы посмотреть, есть ли ещё тайные сторонники рязанского князя в Москве, есть ли люди из Литвы, Твери... Знаешь, как на живца ловят?
Степан кивнул — живцом отчасти был и он сам.
— А ты весь мой хитрый замысел порушил — взял да всё Олегу Ивановичу выложил, отчего и пострадал.
Степан облегчённо вздохнул — слава богу, и это знал вещий Боброк. Но получалось, что и в Рязани сидят соглядатаи?
А Боброк продолжал:
— Не знаю, как о том вызнал Пажин, только в ту же ночь, как тебя в монастырь увезли, сбежал он из Москвы... Произошёл размен слонов...
Степан улыбнулся — он умел играть в хитрую восточную игру «шах и мат». Правда, умел плохо, но боярина Корнея обыгрывал — тот был нетерпелив и прямолинеен.
— А как идёт служба при дворе?
— Что могу сказать, воевода? Идёт... Пришлый я, рязанец, вот и косятся иные, полагая, что занял их место у порога княжеских милостей.
— Я тоже пришлый, понимаю тебя... — Боброк пристально глянул в глаза Степану.
— Разве можно сравнивать, — смутился Степан.
— А там, на родине, в Рязани, у тебя только сердце осталось или помыслы твои тоже там? Я с Волыни к Москве по велению разума отъехал. А сердце моё всё ещё там, потому что сердцу разумом не укажешь.
— Все мои помыслы здесь. Я ведь Москву после долгих раздумий выбрал. Слава богу, дал мне такую возможность Олег Иванович, в монастырь посадил... Не вижу я сейчас на Руси иной силы, что могла бы Орде противостоять. И не просто противостоять, а собрать вокруг себя других для общего дела.
— Латынь тебе ведома? — опять перескочил Боброк.
— Нет, — растерялся Степан и, оправдываясь, добавил. — Я с шестнадцати лет в княжеской дружине.
— Есть у ромеев мудрые максимы, поговорки по-нашему: «Praemonitus praemunitus». Сие означает примерно — коль предупреждён, то и вооружён. Мы предупреждены своевременно, надо, чтобы были и вооружены. Мамай может собрать под свои бунчуки до двухсот тысяч конного войска, а может, и того больше. Батый с меньшим войском разгромил Русь. Так что, стольник, надобно нам тоже всё заранее рассчитать и взвесить. Для чего и призвал тебя...
С того часа потерял Степан счёт дням и ночам. По приказу Боброка он и полдюжины самых сведомых писцов поднимали все посольские дела, грамоты целовальные, летописи. Рылись и в других записях, копившихся в Посольском приказе со времён Ивана Калиты, любившего ссылаться[54] с соседями. Благодаря этому посольское дело на Москве и стало особо почётным. Подсчитывали, сколько, когда, какое княжество выставляло войска. Прикидывали, возможно ли и ныне просить столько же, затем писали тайные грамоты к владетелям. Утверждённые Дмитрием Ивановичем, грамоты уходили с киличеями[55] в разные земли: к князьям белозерским, тверским, нижегородским, ростовским, владимирским, дебрянским, галичским, каширским, можайским...
Работа с всесильным воеводой сразу же поставила на видное место рязанца, отчего возникла зависть среди придворной челяди. Зато Степана стали выделять в среде бояр, приглашать не только на великокняжеские пиры, — это была вроде даже не честь, а служба, — но и на пиры к родовитым москвичам. Степан заметил, что делилось боярство на две трудно различимые части. Одна — потомки старого московского боярства, сидевшего здесь ещё со времён Юрия Долгорукого и легендарного боярина Кучки, другая — потомки тех, кто приехал вместе с князем Данилой, сыном Александра Невского, посаженным отцом на незавидный в те времена московский престол. Дмитрий Иванович умело обходил внутрибоярские противоречия. (Особенно сильной считалась обширная родня потомков прославленного сподвижника Александра Невского Гаврилы Олексича.) Все эти особенности московской жизни Степан замечал и обдумывал. По сравнению с патриархальной Рязанью многое удивляло. К примеру, недоступность великого князя, о чём говорил Боброк Степану. Ещё пять лет назад он встречался с Дмитрием Ивановичем когда хотел, запросто приезжал, беседовал, давал совет. Ныне же встречи стали редки, хотя и был женат Боброк на сестре великого князя. Правда, воевода всегда добавлял, что сам Дмитрий как был доступным, простым человеком, так им и остался, что всё это придворная возня, дело рук ближних бояр. Они боролись исподтишка за влияние и близость к престолу, поняв, что настали новые времена, когда блага приходят лишь из рук государя.
К середине лета Боброк всё чаще стал получать сообщения от сторож на меже о шевелении татар. Семёна Мелика он принимал в любое время дня и ночи, сообщениям его вёл строгий учёт и даже наносил сведения на большой харатейный чертёж[56] московских земель. Степану удавалось перемолвиться с Меликом, узнать новости из Рязани. Там опять строились. О боярине Корнее Мелик ничего не знал...
Однажды — дело шло к осени — Степана пригласил на пир Микула Васильевич Вельяминов. Был Микула большим воеводой, братом последнего московского тысяцкого Василия Васильевича Вельяминова, по смерти коего Дмитрий упразднил эту должность. Был, как и все Вельяминовы, богат, горд, кичился древним родом. На высокое положение семьи не повлияло даже предательство Ивана, сына последнего тысяцкого, — тот затаил злобу на князя Дмитрия и стакнулся с Ордой, за что и был казнён.
Получив приглашение, Степан обрадовался — наконец-то начинает признавать его великобоярская Москва. Он сидел на нижнем конце стола, далеко от великого князя, и не сразу понял, почему вдруг стало тихо, умолкли голоса бояр и воевод, не звякала посуда. Тут увидел, что рядом с великим князем стоит запылённый гонец. Дмитрий Иванович читает послание, а все напряжённо ждут.
Князь опустил свиток, налил чарку, молча подал гонцу, тот с поклоном принял, осушил, поклонился ещё раз и вышел, пошатываясь от усталости.
Все по-прежнему молчали, ожидая слов великого князя. Дмитрий Иванович ещё раз мельком взглянул на пергамен, словно проверяя, и сказал буднично, как если бы речь шла о самом простом деле:
— Мамай вышел из Крыма.
Никто не проронил ни слова. Все знали — Орда из Крыма к засекам идёт двадцать — двадцать два дня. Гонец мог обогнать её дней на десять. Это означает, что на подготовку осталось самое большее полторы седмицы.
Застолье кончилось, толком не начавшись. Сейчас было важно услышать, какое первое слово скажет великий князь, какое распоряжение отдаст, кому.
Дмитрий Иванович встал:
— Что умолкли, други? И хозяин не хлопочет. Или кончились у тебя перемены, Микула Васильевич? Или мёд в бочках иссяк? Быть пиру честну до утра, как думалось, пусть не радуется поганый Мамай, что испортил нам застолье!
Вскочил Владимир Андреевич Серпуховской, воскликнул громогласно и восторженно:
— Брат, дай я тебя расцелую!
Гости зашумели, заговорили, словно снял великий князь огромную тяжесть. Словно и не шёл на Русь чёрною тропой вековых набегов один из самых страшных своим многолюдством врагов.
Любо было Степану глядеть в этот миг на светлое лицо Дмитрия Ивановича. Не только потому, что любил он сейчас великого князя со всем пылом молодости, но ещё и потому, что знал: есть и его заслуга в том, что сегодня спокойно принял страшное известие московский князь...
Глава тридцать четвёртая
О выходе Мамая из придонских степей в Переяславле узнали на день раньше, чем в Москве.
Олег Иванович распорядился немедленно послать в Москву гонца с известием, а сам запёрся в палате, не приняв даже Епифана Кореева. Вот и настал роковой час, а у него, князя, всё ещё нет окончательного решения, как поступить. Олег Иванович долго мерил шагами палату, неслышно ступая по толстому булгарскому ковру, жалея, что поторопился, отослав Епифана.
За тридцать лет он привык думать, разговаривая и советуясь с Кореевым. Посылать за ним, признавать тем самым свою ошибку, не хотелось. Он подумал, что, наверное, права была Ефросинья, когда в запале наговорила ему ворох обидных слов. Надо было объяснить ей, что обстоятельства переменились и все его метания — от сознания своего бессилия. Вот и нынче: он должен принять решение, от которого зависит судьба княжества. И судьба его детей...
Олег Иванович вздохнул. Сыну Фёдору уже двадцать два, скоро ему княжить, пора вместе с отцом нести ответственность перед Рязанской землёй.
Он велел позвать княжича.
Фёдор вошёл, коротко поклонился. Высокий, ладный, светловолосый, светлоглазый, на подбородке рыжеватая бородка, густые волосы волнами падают на плечи. Олег Иванович невольно залюбовался.
Да уж, не зря все девки, девицы и молодые жёны в тереме вздыхают по Фёдору. А он всё перебирает и никак не остановит свой выбор на ком-нибудь. Мать извелась, не терпится ей внуков нянчить.
«Господи, о чём я в такое время думаю!» — укорил себя Олег Иванович и сел на стольце, жестом приглашая и сына садиться.
— Гонец в Москву ускакал?
— Да, батюшка.
— Вот и настал решающий день. — Слова были пустыми, но они нужны были великому князю, чтобы начать главный разговор, ради которого он позвал сына. — Я, как ты понимаешь, давно готовился к тому, что Мамай пойдёт на Русь.
— Я это видел, батюшка.
— И на всякий случай, как говорится, соломки подостлал во всех местах, куда можно упасть, не дай бог.
Фёдор сразу понял смысл немудрёного иносказания и чуть заметно улыбнулся. На сердце Олега Ивановича потеплело: сын, хотя и с увлечением махал мечом с молодыми дружинниками на бронном дворе, умом был быстр и книг не чурался.
— С Мамаем я договорился, что постараюсь помочь полками, ежели он даст твёрдое обещание в пределы Рязани не вступать.
— А ему можно верить?
Олег Иванович про себя отметил точность вопроса: не пустопорожнее — дал или не дал обещание Мамай, а можно ли верить.
— Это мы с тобой узнаем, только когда он дойдёт до наших рубежей. Списался я и с Ягайлой Литовским.
Ягайло Ольгердович, великий князь литовский, после смерти отца севший на престол, за короткое время успел испортить отношения со своими братьями, дядей и многими русскими князьями. Нрава он был крутого, в словах не стеснялся, вскипал, словно был не медлительный литвин, а хватающийся при любом случае за саблю.
— Батюшка его о каменную Москву три раза зубы обламывал, — как бы невзначай напомнил Фёдор.
— И всё же Ольгерд полководец знатный был. А вот каким его сын окажется?.. Словом, списался я с ним и условился действовать совместно. Так что сделал я вроде два шага на пути к предательству: сговорился с двумя врагами Руси. Но... — Олег Иванович умолк.
— Неужто сделаешь и третий шаг, выступишь вместе с ними? — спросил Фёдор, сбитый с толку откровениями отца.
— Никогда! Больше того, я и с Москвой веду переговоры. Хотя уверен, что не хватит у неё сил в открытом бою противостоять Мамаю. Если, конечно, не увенчаются успехом переговоры, которые ведёт Боброк с другими князьями, и не встанет под знамёна Дмитрия вся Русь.
— Вся Русь, батюшка, ныне только звучит громко. На самом-то деле половина Руси у Литвы, половина — у Новгорода...
— И Новгород, как мне ведомо, норовит в стороне остаться, — закончил Олег Иванович. Поведение Новгорода, прародителя всех северных княжеств, как-то оправдывало его в собственных глазах.
— А если мы встанем рядом? — неуверенно спросил Фёдор.
— С Дмитрием? Рядом не получится. Под него — возможно. Кстати, как ты помнишь, мы уже были вместе, когда Арапша налетел. И что получилось?
— Не нас одних тогда побил Арапша, Москва ведь тоже пострадала. А теперь, ежели Ягайло соединится с Мамаем, то Москве даже с новгородской ратью не выстоять, — с горечью ответил Фёдор.
— Правильно, сын. Вот и следует сделать так, чтобы они не соединились, — согласился Олег Иванович.
— Как?
— Не знаю. Но как поступить с Мамаем, я, кажется, начал понимать. Он идёт к верховьям Дона, откуда на Москву прямой путь. Рязанская земля останется у него по правую руку, в стороне. Грабить, идучи на великое сражение, ордынцы не станут — не позволят воеводы, дабы не отягощали себя добычей степные волки. Сытый волк плохой боец. Если Москва проиграет, то возвращаться они будут сытыми, к нам не полезут. Особливо ежели мы выставим свежие полки на меже. Ну а коль потерпят поражение, их будет гнать московское войско. Тут не до грабежей... Ладно, сын, спасибо тебе за совет. Решено: посылаю Епифана к Мамаю с заверениями.
Фёдор не понял, что за совет он дал отцу, но похвала была приятна.
В Москве на большом совете воеводы решили: быть сбору войск всех русских земель у Коломны. И опять помчались гонцы с этой вестью. Возвращались, шатаясь от усталости. Одни передавали короткий ответ князей: «иду», другие привозили послание и на словах сообщали, сколько собралось войска. А это означало — опять сидеть Степану с Боброком, составляя сводные списки, считая, пересчитывая и прикидывая. Получалось, что сбор произойдёт никак не раньше двадцать четвёртого августа, но даже к тому времени подойти к Коломне белозерские князья не успеют, и едва ли управятся Ольгердовичи, два сводных нелюбимых брата литовского князя Ягайлы, лишённые им владений, перешедшие на сторону Дмитрия и получившие у него хорошие престолы.
К счастью, Мамай двигался куда медленнее, чем обычно шло татарское войско. Из донесений передовых сторожей Мелика, скрытно сопровождавших его, явствовало, что движение замедляет большое количество пешцев и особенно непривычная к хождению в Дикой степи генуэзская пехота. О ней у Боброка с Дмитрием был особый разговор. Москве с фрязями[57] ещё не приходилось сталкиваться в бою. Торговать — торговали с засевшими в Кафе генуэзцами: и напрямую, и через сурожских купцов. Известно было, что генуэзская пехота прекрасно вооружена и владеет секретом огненного боя, последней европейской новинкой военного дела. Это обстоятельство тревожило великого князя.
А ещё беспокоило Дмитрия странное поведение Олега Ивановича Рязанского. Тот метался между Ордой, Москвой и Ягайлой. Вот и теперь лазутчики сообщили, что ведёт себя Олег подозрительно: собрал войска на юге Рязанской земли. Вроде собирается дать отпор татарам, а вроде — готов соединиться с ними.
Куда очевиднее были намерения Ягайлы Литовского. Тот стремительно шёл со своими полками к московским границам, забирая на юг, по всей видимости, преисполненный решимости соединиться с Мамаем в верховьях Дона.
Если три войска сольются, то у Москвы не останется ни малейшей надежды, даже если пришлют свои полки Новгород, Тверь и Нижний Новгород.
Дмитрий осунулся, перестал спать, часами сидел с Боброком над чертежом русских земель. Степан часто видел его, поскольку трудился в соседней палате с отданными под его начало писцами и дьяками. Он вновь и вновь пересчитывал силы, идущие к Коломне для соединения с московскими полками. В списках мелькали всё те же имена князей. И наконец, осознав, что войск слишком мало по сравнению с Мамаевой ордой и его возможными союзниками, Степан обратился к Боброку:
— Прости, воевода, что я не в свои дела встреваю, высоко залетаю, только думается мне, что никак без ополчения нам не выстоять.
— Думали мы о том, сотник. Страшно. Собрать ополчение не трудно — народ ныне так настроен, что лишь кликни клич. Ну поднимем. Придут они на поле брани — необученные, плохо вооружённые, пешие против татар, которые с детства на коне с луком и саблей в руках. Скольких кормильцев земля потеряет? Кто весной в поле сеять выйдет?
— А без ополчения втрое меньше у нас войска, чем у Мамая, — угрюмо промолвил Степан.
— Не втрое. Уверен, что и без набата придут ополченцы, хватило бы только на всех оружия.
Двадцатого августа в московских церквах началось богослужение.
Митрополит Киприан, отслужив молебен в Успенском соборе, облачённый в сверкающую золотом и драгоценными каменьями ризу, вышел вместе со всем синклитом и соборным хором на высокую паперть. Площадь перед Успенским собором и далее, до самых кремлёвских стен, была запружена вооружёнными людьми. Ударили колокола. Все опустились на колени. Киприан благословил воинов. Дмитрий подошёл, преклонил колено, поцеловал руку владыке, поднял глаза — по щекам старого грека, полюбившего Русь как родину, текли слёзы.
Дмитрий встал, протянул руку, и меченоша вложил в неё сверкающий золотом шлем. Великий князь водрузил его на голову, и в тот же миг тысячи воинов встали с колен, а колокола умолкли.
— Братья, други! — сказал Дмитрий, не повышая голоса — стояла такая тишина, что слова его донеслись до самых дальних рядов. — Верю в победу!
Он спустился с паперти, ему подвели коня, князь сел в седло и, не оглядываясь, поехал к Константино-Еленинским воротам.
Княгиня поднялась на красное крыльцо терема и застыла на последней, верхней ступени с поднятой рукой как изваяние. Стояла, вытирая слёзы.
Вслед за Дмитрием двинулись воеводы, дружина, воины. Кремль опустел. Княгиня легко, словно молоденькая девица, взбежала на самый верх воротной башни и смотрела, как бесконечной тёмной лентой уползает по мосту войско за Москву-реку, растворяясь вдали...
В Коломну шли тремя путями. Главные силы под командованием Дмитрия двигались через Котлы, полки князя Владимира Андреевича Серпуховского — через Бронницы, остальные войска с князьями белозерскими пошли Болвановским древним шляхом.
Как и рассчитывал Боброк, в Коломну московские полки прибыли утром двадцать четвёртого августа. В окрестностях города уже стояли тысячи пешцев-ополченцев в надежде, что князь определит их в строй.
В Коломне Степан улучил минуту и обратился к воеводе Боброку с просьбой отпустить его в войска.
— Потерпи ещё, — ответил Боброк. — Ты мне здесь нужен. Соберутся полки со всех земель, урядим их, обустроим, определим пути навстречу Мамаю...
— Тогда и отпустишь? — с надеждой спросил Степан.
— Тогда поедем мы с тобой приглядывать поле для битвы — так, чтобы нам было сподручно, а татарам неудобно. Умно выбранное поле боя способно уравнять силы.
Тем временем Мамаевы полчища неотвратимо приближались. Каждый день один, а то и два гонца приносили сообщения от сторожевых сотен Мелика о продвижении татар. Возвращались и лазутчики. Сведения о численности Мамаева войска были противоречивы, иногда путаны — да и кто мог сосчитать степняков в походе? Но даже примерная цифра превзошла ожидание: получалось двести пятьдесят тысяч! Полчища эти пока топтались в степи: скорее всего, Мамай выбирал направление главного удара.
Наконец, — московские воины стояли у Коломны уже два дня, поджидая союзников, — пришло посольство от Олега Ивановича Рязанского. Возглавлял его боярин Корней. Уже по одному этому Степан догадался: не доверяет пергамену рязанский князь, на словах главное передаёт.
Принимал Дмитрий Московский посла в походном шатре. Он стоял без шлема, но в колонтаре[58], окружённый воеводами, рядом с братом Владимиром Серпуховским. Степан пристроился позади всех.
Корней за прошедшие два года ещё сильнее раздался вширь, так что поклонился великому князю с трудом, едва согнувшись в поясе. А может, это Олег Иванович не велел своему боярину уж больно-то кланяться Москве. Он передал грамоту, Дмитрий Иванович неспешно сломал печать, развернул, прочитал, передал Владимиру Андреевичу и обратился к боярину:
— Только ли о моём здравии спрашивает Олег Иванович?
Корней оглядел окружавших князя воевод.
— Тут все близкие, свои, ни от кого тайны у меня нет. Говори, боярин!
— Велел Олег Иванович тебя упредить, что Мамай идёт с несметным войском на залесские земли и что путь им намечен от реки Сосны к реке Красивая Меча.
Великий князь молчал, кивая головой, как бы подтверждая всё сказанное боярином и вынуждая его продолжать речь.
— Передовые сотни Мамая уже переправы наводят на Сосне. — Корней умолк.
— Что ж, боярин, — заговорил Дмитрий Иванович, — передай брату моему Олегу Ивановичу нашу благодарность за дружбу его и заботу. Только, думается, ты и сам видел у Коломны: опоздал рязанский князь с предупреждением. Собираемся мы встречать незваных гостей всей Русской землёй. Выступит ли он с нами?
— Ты же знаешь, великий князь, после твоей победы на Воже прошёл проклятый Мамай по нашим землям чёрной тучей, оставил за собой пожарища и трупы, увёл людей в полон, обескровил Рязань. Не пополнили мы ещё полки, не встать нам в чистом поле.
— Отсидеться за нашей спиной надумали?
— До сего времени Москва всё больше за спиной Рязани отсиживалась. — Корней побагровел от гнева, задрал гордо бороду.
— Ладно, ладно, боярин, — сказал успокаивающе Дмитрий Иванович. Он чувствовал, что посол сказал не всё, но не мог понять, почему тот медлит. Было ясно, что несказанные слова и есть то главное, ради чего послал князь боярина. Не настолько же наивен Олег, чтобы предполагать полное неведение москвичей о движении войск Мамая в придонских степях.
— Ещё велел сказать тебе мой князь, что Ягайло Литовский намерен соединиться с Мамаем за Окой-рекой.
Видимо, это и было главной целью посольства. То, что вышел хитрый лис Ягайло скрытно из Литвы и шёл, минуя союзные Дмитрию княжества, огибая Смоленск, московская сторожа давно обнаружила и донесла. Но вот где он хочет соединиться с Мамаем, лазутчики не вызнали. Сообщение было чрезвычайной важности. Дмитрий снял со своей руки перстень с огромным камнем и протянул его боярину. Камень сверкнул кровавым светом и померк в жирной ладони Корнея, принявшего перстень с поклоном.
— Передай Олегу Ивановичу мою братскую благодарность. Иди. Тебя проводят.
Степан выскользнул из шатра вслед за Корнеем. Догнал его у самой коновязи. Хотел спросить об Алёне, но вдруг подумал, что всё повторяется, как навязчивый сон, — и коновязь, и разговор об Алёне, и возможный отказ, — и заговорил о другом:
— Боярин! Ты всегда был мудрым советником князю. Молю: пади ему в ноги, убеди выступить за Русь!
Корней ответил, не глядя на Степана:
— То наши, рязанские дела, а ты ныне московский.
— Сегодня нету удельных дел, всё нынче единое!
— Рязань — не удел, а великое княжение!
— Боярин, оглянись! Неужто не видишь, что надвигается сеча великая, может быть, главная во всей гиштории земли Русской? — Степан обвёл рукой бесчисленные шатры, окружившие Коломну.
Вокруг всё кишело: верхоконные и пешие, гонцы и ополченцы. И все они были молчаливы и сосредоточенны, совсем не напоминая обычно гомонливую, языкатую московскую толпу, в которой не то что великому боярину, иному князю не проехать, не пройти без того, чтобы не услышать о себе что-нибудь едкое.
Боярин невольно остановился, и Степан воспользовался этим:
— Если даст Бог, живы из сечи выйдем...
— Что тогда? — прервал его Корней, резко обернувшись. — Сватов зашлёшь? А я их собаками со двора! Об Алёне забудь, как о родине своей забыл! Ты её на московские милости променял, а дочь мою — на блудницу-ключницу! Тьфу! — Боярин плюнул под ноги Степану и пошёл навстречу слугам, подводившим коня.
Степана словно ожгло — значит, и до Рязани дошла молва о Лукерье. Да, не зря говорят: доброе слово на устах сохнет, а дурное вороном летит...
— Распяли меня на слабости моей, распяли... — прошептал он и медленно побрёл в шатёр.
Говорил Дмитрий Иванович:
— Вот и подошли мы к тому делу, что завещано нам от пращуров наших! Подошли не с пустыми руками: идут к нам воины со всей Руси. Я жду не менее ста тысяч! — Дмитрий повернулся к Боброку и склонил голову. — Исполать тебе, воевода, что сумел ты со Степаном Рязанцем за считанные дни оповестить всех союзных нам князей!
Боброк поясно поклонился.
Великий князь продолжил:
— Все вы знаете, что у Мамая больше нас воев. Но в этом бою счёт пойдёт особый: они грабить идут, мы — свою землю защищать!
Шатёр взорвался громкими криками. Дмитрий поднял руку, призывая к тишине.
— Славу кричать потом будут те, кто в живых останется. Поражения не жду — или смерть, или победа! — Он опять властным движением руки заставил молчать воевод. — Нам сейчас о другом думать надобно — куда пойти от Коломны, чтобы Ольгерда от Мамая отсечь, не дать им соединиться.
Глава тридцать пятая
Получив сообщение Олега Рязанского о намерениях Ягайлы, переданное с боярином Корнеем, Дмитрий Иванович не сразу оценил всю его огромную важность.
Первым делом он порадовался, что, вероятно, Олег, который должен был вместе с Ягайлой соединиться с Мамаем у Оки, передумал, исходя из своих, одному ему ведомых расчётов. Может быть, именно боярин Корней, сообщив о громаде войск, собранных под московские стяги у Коломны, повлиял на решение. Или возникли иные причины, но Олег от союза с врагами Руси отказался. Честь ему и хвала, хотя и не вошёл он в союз с Москвой. Всё равно очень важно, что рязанские полки не пойдут против московских.
Но внезапно, словно озарение, появилась у Дмитрия Ивановича догадка — как использовать сообщение Олега Рязанского с наибольшей выгодой. Дмитрий сделал ход, который ставит его вровень с великими полководцами древности: он двинул все войска от Коломны на запад, к устью реки Лопасни.
Рати шли стремительно, вбирая в себя по дороге припозднившихся, как в половодье вбирает река ручейки. Ягайло понял это именно так, как и рассчитывал великий князь, — намерение всей огромной, дотоле невиданной на Руси силой ударить по литовским войскам, — и остановился в нерешительности под Одоевом, в нескольких переходах от Лопасни. Там и простоял до самой Куликовской битвы. Этим хитрым ходом Дмитрий провёл и Мамая: тот вышел на сближение с Ягайлой, но, узнав о броске русских, не устоял перед искушением ударить их по левому крылу, казавшемуся беззащитным. Мамай ускорил продвижение, но русские, ожидая этого, ночью вышли берегом Дона к устью Непрядвы и перешли Дон в обход татар.
Олег Рязанский поступил по собственному замыслу, именно так, как объяснял сыну во время недавней беседы: собрал полки на западной меже княжества и там простоял всё время, пока шёл бой, ожидая его развязки.
Воевода Боброк вернулся в свой шатёр от великого князя ночью. Степан не спал, ожидая.
— Чего не спишь, сотник? — спросил Боброк приветливо.
— Отпусти в сторожевой полк, воевода! — выпалил Степан. — Сил больше нет в стороне от ратей стоять.
— Не беспокойся, воин, отпущу. Успеешь ещё мечом помахать. А сейчас поедешь со мной. Решили мы с Дмитрием Ивановичем: коли ты в рязанской стороже стоял, то должен эти места знать. Вот и поможешь поле боя подыскать.
Поздно вечером Дмитрий Иванович, Боброк, Бренк, Семён Мелик и Степан в сопровождении младшей дружины и двух сотен конников направились к верховьям Дона. Они свернули с наезженной дороги на целину и поскакали по заросшей пахучими травами степи, не знавшей от века ни плуга, ни сохи, ни бороны.
Воеводы отвергли несколько обширных полей — то слишком сдавлено оврагами, то, наоборот, открывает большой простор для движения татарской коннице.
Луна зашла, стало светать. Степан подумал, что поиск пришёл к концу, потому что над степью поднимался утренний туман. Тут выехали на просторное поле, с одной стороны ограниченное дубравой, с другой — крутым берегом притока Дона.
Дмитрий Иванович и Боброк переглянулись и поскакали к дубраве. Мелик не поехал следом.
— Вроде приглянулось им тут, — сказал он Степану.
Степан и сам видел, что место открывало хорошие возможности для построения полков. Дубрава на левом крыле лишала татар возможности нанести боковой удар конницей.
Вернулись воеводы и великий князь.
— Ну, Семён, — весело закричал ещё издали Дмитрий Иванович, — теперь всё в твоих руках. — Он подскакал поближе и спросил уже серьёзно: — Сможешь заманить сюда главные силы Мамая?
Мелик, видимо, уже думал о том, с готовностью ответил:
— Если дашь мне конный полк, князь, сумею.
— Дам, — твёрдо сказал Дмитрий Иванович. — Сколько нужно, столько и дам. Только воев попусту под удар не подставляй. Заманивай супостатов.
— Заманивать без большой крови невозможно, государь, — сказал Мелик. — Это наперёд надобно помнить.
Боброк спешился и отошёл в сторону. Он стоял в призрачном рассветном тумане, плащ, свисая с плеч, делал его похожим на былинного богатыря Святогора. Воевода снял шлем, положил его рядом с собой и лёг на землю, прильнув к ней ухом.
Степан не сразу понял, что происходит. Сзади, где стояли дружинники, кто-то шепнул: «Вещий Боброк землю слушает, будущее вопрошает».
Боброк встал, и — словно подгадал кто — дунул ветерок, развеялся предутренний туман. Открылось всё огромное поле, как по волшебству.
Воевода подошёл к конным. Все напряжённо ждали, что он скажет.
— Слышал стон великий, плач по земле распространяется. То ордынские жёнки плачут. — Боброк сел в седло, не дожидаясь вопросов. Никто не проронил ни слова...
Всю обратную дорогу великий князь, Боброк и Семён Мелик обсуждали, как вернее завлечь татар именно на это поле. Никто ещё не знал тогда, что зовётся оно Куликовым и что войдёт в русскую историю навеки.
Вернулись к войскам, вольно расположившимся на ночлег в перелесках, когда солнце уже встало. Дмитрий уединился в шатре с Боброком, к ним вскоре пришёл остававшийся в отсутствие великого князя главным воеводой князь Владимир Серпуховской. Немедленно от шатра помчались отроки к полкам созывать князей и воевод на совет.
Степан постоял в нерешительности — нужно было дожидаться Боброка, получить обещанное воеводой разрешение идти к Мелику. Между тем после проведённой в седле бессонной ночи накатывала дрёма на теплом сентябрьском солнышке. Появился Юшка, он уже пристроил коней Боброкову коноводу, нашёл знакомцев, те пригласили к своему костерку, посулили горячей каши. Степан побрёл вслед за Юшкой в ближний лесок, туда, где поднимался дымок и тянуло слегка подгорелой на костре кашей.
— Откуда ты их знаешь? — спросил Степан, когда они вместе с Юшкой подходили к опушке леса.
— Так то ж наши, рязанские.
— Рязанские? Каким образом? — удивился Степан. — Может, пронские?
— Нет, рязанские, что я, не знало, с кем кашу хлебаю? — ухмыльнулся Юшка. — Ополченцы.
— Так ведь Олег Иванович выжидает, в стороне стоит.
— Разве я сказал — княжеские полки? Я сказал — ополченцы рязанские. Князь сам по себе, они — сами... Может, они и тёмные мужики, но поняли, что не Москву идут защищать, а Русскую землю.
Подошли к небольшому костру. Вокруг полулежали и сидели мужики — кто в кольчуге, кто в старинном доспехе, кто в простой стёганке, обшитой металлическими бляхами. И вооружены были пестро: и старыми прямыми мечами, и кривыми саблями, и пиками, и рогатинами.
Любое оружие, особенно в южных приграничных местах, передавалось от отца сыну, оберегалось пуще всякого имущества. Здесь можно было встретить даже мечи времён легендарного рязанца Евпатия Коловрата.
Родной мягкий говор рязанских мужиков приятно ласкал слух:
— Где это видано — из Залесья выходить, из засек?
— А ты отсиживаться пришёл в засеках?
— Всё же когда лес кругом, против орды спокойнее.
— Ежели спокою ищешь — на печи с тараканами бы воевал!
— И то руки зашибить можно.
Кругом засмеялись, немудрёную шутку передали дальше, к другому костру. Кто-то уже серьёзно сказал:
— Говорят, воевода Боброк землю слушал.
— И что?
— Говорят, слышал, как стон идёт, плач великий, вороний грай.
— Да, утешил ты нас.
— Так говорят, слышал он, что больше ордынские жёнки плачут.
— После боя всегда плачут.
Рязанцы помолчали.
— Смерть кормильца — она всегда смерть. Что нашим бабам; что татарским.
— Хватит вам, ребяты, сказки про Боброка рассказывать, — донёсся низкий голос. — Воевода он, а не вещун. Он сейчас с великим князем и братом его Владимиром Серпуховским думает, как полки лучше расставить. Только им и дела, что землю слушать.
Трезвая рассудительность рязанца убеждала, но Степану не хотелось расставаться с такой яркой картиной: вещий Боброк слушает землю, а вокруг стоят князья и воеводы. Ждут с тревогой, что скажет своим сынам Русская земля. И несутся слова от полка к полку, от воина к воину, от сердца к сердцу, как песня...
Он стряхнул с себя наваждение — самое время о песнях думать! — и спросил ближнего ополченца:
— Кто над вами воеводой стоит?
Рязанец смешался, стал бормотать что-то невразумительное, подыскивая слова, видимо, не понимая, о каком таком воеводе спрашивает незнакомец.
— Слышь, дядя, отвечай, кто воевода-то? — вмешался Юшка.
— Эт-та... — Ратник поглядел на сидящих рядом с ним, словно в ожидании помощи, тогда все враз загалдели:
— Нету у нас воеводы.
— К Митрию идём проситься.
— Мы ить ополчились... а боярин не пускал... вота как...
— Ты уж нас не гони.
— Олег Иванович в сторону ушёл.
К ним стали собираться от других костров.
— Нету, милостивец, воеводы.
— Хрящ тут у нас за старшего, — неуверенно пояснил кто-то.
— Эка сказал — Хрящ! — возразили. — Хрящ ругаться и рогатиной махать горазд, а урядить войско — тут голову надоть иметь.
— Вот вам воевода! — Юшка указал на Степана. — Наш, рязанский, десять лет на меже сотником был, — приврал он для убедительности, — дважды ранен, в плену бывал, татар не раз бивал, на реке Воже рядом с Митрием сражался! Желаете его воеводой? — не давал опомниться Юшка.
— Желаем! — нестройно закричали ополченцы.
— Ты что это опять за меня всё решил? — недовольно сказал Степан, но крики ратников, сбегающихся к костру, передающих друг другу радостную весть, что нашёлся им сведомый воевода, отбросили мгновенное недовольство. Он вскочил на своего коня, которого успел подвести расторопный Юшка, и возвысил голос, словно в бою:
— Коли желаете, слушайте меня! Сейчас мой меченоша разобьёт вас на десятки, выделит десятских и сотников. Повиноваться ему, как мне, он со мной все эти годы рядом сражался. А я поеду к великому князю и буду челом бить, чтобы он нам место в бою определил. — Уже отъезжая, спохватился: — Сколько вас тут рязанских? Кто-нибудь считал?
По лицам мужиков было видно, что не считали и сосчитать бы не смогли.
— Да уж поболе сотни.
— Считай, три сотни, никак не меньше.
— Полк!
— Говори — тысяча, — гоготнул кто-то. — Тысяцким будешь, сотник!
Все засмеялись. Степан ускакал к великому князю с лёгким сердцем: люди шли на кровавый, смертный бой с шуткой, такие не могут не победить.
Дмитрий Иванович в окружении князей и воевод стоял на опушке дубравы, откуда начиналось Куликово поле. Степан не решился отвлекать его и подошёл к Боброку:
— Воевода! Рязанцы пришли...
— Рязанцы? — переспросил удивлённо Боброк и, когда Степан кивнул, повёл его к великому князю.
— Значит, решился Олег Иванович? Кто же привёл рязанцев? Почему не идёт ко мне с докладом? — засыпал тот Степана вопросами.
— Великий князь, — сказал Степан, кланяясь, — воевода Боброк не так меня понял. Не полки рязанские пришли, а ополченцы. Добровольцы. Нет у них ни воевод, ни иных начальных людей. Я их до твоего повеления принял...
— А Олег? — не понимая до конца, спросил Дмитрий Иванович.
— Струсил Олег, чего от него ждать! — раздражённо вмешался Владимир Серпуховской.
— Олег, великий князь, не струсил, а выжидает, — сказал Степан. — Твой бросок на Ягайлу его напугал, но не столь сильно, чтобы вынудить к тебе присоединиться.
Воцарилось молчание.
— Что с рязанцами-то будем делать? — напомнил Боброк.
— С рязанцами... — отвлёкся от своих мыслей великий князь. — Тебе Степан нужен ещё?
— Я обещал отпустить его на время сражения.
— Вот пусть он и занимается рязанцами. Принимай ополчение, воевода!
Всю вторую половину дня Степан провёл в бесконечных хлопотах: договаривался с воеводой большого полка Тимофеем Васильевич Вельяминовым о месте рязанцев в боевом порядке, выпрашивал у княжеских оружейников мечи и щиты для своих ополченцев, кричал, просил, ругался, втолковывал...
Ночью большой полк занял своё место. Потянулись тревожные часы. Ратники думали о предстоящем сражении. Степан волновался о другом — удастся ли Мелику привести татар именно сюда, на Куликово поле? Если не удастся — весь стройный, продуманный до мелочей замысел рухнет. Его всё время подмывало пойти туда, к воеводам, великому князю, расспросить, но он понимал: не время сейчас отвлекать праздными вопросами занятых людей. А тут ещё поползли разговоры, что великий князь поехал в передовой полк и будет там, в первых рядах. Слух летел от полка к полку, и воины выражали своё отношение к такому поступку: большинство одобряло великого князя, были такие, кто полагал, что его место над схваткой, однако все восхищались им.
Под утро спустился туман, окутал всё поле. Невозможно было разглядеть, что происходит впереди. Где-то вдалеке, судя по звуку, проскакали кони, и сразу же по рядам воинов пронёсся слух: Мелик вернулся! Вывел татар на поле — быть битве!
На востоке, там, где, по расчётам, должны были появиться Мамаевы полчища, заалело восходящее солнце. Туман заколебался и пополз клочьями, открывая огромное, немереное поле.
Великий князь осадил сверкающего боевым нарядом коня перед большим полком, поднял руку, крикнул:
— Верю в победу, други! — и помчался дальше, к другим полкам.
Где-то далеко, на противоположном краю поля заунывно запела татарская труба. Вздрогнула земля — пошли тысячи воинов.
Степан оглянулся. За ним стоял первый ряд его рати — самые вооружённые, самые сильные рязанские мужики.
— Главное — плечо к плечу, щит к щиту, не размыкайтесь! — в последний раз напомнил он и выхватил меч.
Куликовская битва началась.
Глава тридцать шестая
...Как настырная баба пробралась на поле боя ещё до полного разгрома татар, как отыскала Степана среди трупов, ни он, ни раненный позже Юшка не знали. И Степан, и его меченоша очнулись уже в шалаше, в дубраве, за Непрядвой. Чисто вымытые, обихоженные, перевязанные, лежали они рядышком, словно два спелёнатых младенца, на невесть откуда появившейся пуховой перине, брошенной поверх еловых лап. А вокруг хлопотали Лукерья и три холопа.
Первым пришёл в себя Юшка. Когда Степан наконец открыл глаза, меченоша смог ответить на самые главные вопросы об исходе боя, обо всём, чего не мог знать Степан. Дни шли. Оба стали поправляться и неспешно, опираясь на палки, прогуливались вокруг шалаша. А потом смерды пригнали две пароконные телеги. В одной было сложено собранное на поле брани оружие и доспехи — русские, татарские, генуэзские. На вторую настелили сена и еловых веток, там устроились Степан и Юшка. Степан бросил последний взгляд на дубраву. Листва только начинала золотиться, осень стояла тёплая и сухая. Лукерья села на телегу, разобрала поводья, крикнула. Кони легко пошли, прядая ушами, балуя. Холопы поехали следом в телеге с оружием.
Лукерья, устроившись поудобнее, властно и уверенно держала поводья и время от времени оглядывалась на Степана. Она везла его домой, где он, раненный, слабый, почитай, месяц, а то и более будет в её власти. Степан прочитал всё это в глазах женщины, словно в книге, и вместо благодарности в нём проснулось глухое раздражение, и захотелось сделать больно.
— Я бредил в беспамятстве?
— Да, лапушка.
— Небось Алёну вспоминал?
Лицо Лукерьи на мгновение закаменело, но она сразу взяла себя в руки, кивнула и проговорила, почти пропела в ответ:
— И её тоже. Только больше меня звал, Степушка.
Если бы она не справилась так быстро с собой, погрустнела или заплакала или зашлась в гневе, он бы скорее всего почувствовал раскаяние, постарался бы словами, лаской утешить ключницу. Но сдержанность ещё больше рассердила. Степан обратился к Юшке:
— Не узнавал, много ли наших, рязанцев, уцелело?
— Почитай, меньше половины. Дня три хоронили своих, стояли на костях, потом по домам пошли, — ответила Лукерья.
— Помолчи, — приказал ей Степан.
— Зачем ты с нею так? — тихо спросил Юшка. — Не будь её, и нас бы, может, не было.
— Ишь, разнежился. По ранам нам уже давно пора верхами скакать, — громко ответил Степан. — Великий князь уже в Москве?
— В Москве, — как ни в чём не бывало ответила певуче Лукерья. — Говорят, народ его Донским прозвал.
— Что же ты молчала, раньше не сказала? Хорошо-то как народ решил, славно!
— Кто же мог знать, лапушка, что тебе его прозвище важнее всего на свете? — так же спокойно произнесла Лукерья, но Степан почувствовал в её голосе едва приметный гнев и оттого успокоился.
Полдничали на ходу. Лукерья, вызнавшая всё заранее, спешила добраться до засеки, опасаясь встречи с мелкими отрядами татар. Хоть и говорили люди, что орда бежит безостановочно до самого моря, но бережёного и Бог бережёт. Кто их ведает, этих ордынских татей, может, остались шайки удальцов.
Только миновав засеку и углубившись в приокские леса, решилась Лукерья сделать привал. Ужинали обильно — не по-походному: расторопные холопы всё быстро погрели на костре в мисках, которые запасливая Лукерья предусмотрительно захватила с собой. Юшка достал дудочку, тихо заиграл, холопы уселись вокруг и так же тихо завели песню, словно и не было позади самой многолюдной и кровавой битвы, какую знал русский народ.
Третью ночь ночевали уже в избе. Степан проехал в тот день немного в седле, и после ужина его быстро сморило. Заснул прямо на лавке под образами. Проснулся поздним утром на полу. Оказалось, что вечером стол осторожно отодвинули к стене, а Степана перенесли с лавки на застеленный сеном и периной пол, теперь рядом полулежала Лукерья и глядела преданными собачьими глазами. Заметив, что Степан открыл глаза, она прильнула к нему и стала целовать, чуть касаясь губами.
— Ладно тебе, — отстранил её Степан, оглядываясь.
В избе никого не было. Со двора доносились невнятные мужские голоса.
— Кто это там?
— Юшка с какими-то мужиками шумит, непутёвый, тебя вот разбудил.
— Какими мужиками?
— Да нищие, оборванцы, пустой люд, чёрный...
— Чего им надо?
— А чего чёрному люду надо? Поживиться чем, покормиться, — попыталась отшутиться Лукерья.
Степан по уклончивым ответам почувствовал, что не всё ладно, и крикнул:
— Юшка!
Тот появился в избе сразу же.
— Из Рязани люди?
— Да.
— Чего им надобно?
— Тебя ждут.
— Зачем?
— Я сейчас их старшого приведу. — Юшка выскочил и тут же вернулся с высоким, худым, измождённым мужиком. Голова его была обмотана побуревшей от крови тряпицей, глаза лихорадочно горели.
— Воевода! — хрипло выдохнул мужик, падая на колени и протягивая к Степану руки.
Лукерья вскочила на ноги:
— Как ты смел к больному господину его привести? Да как ты...
— Замолчи! — оборвал её Степан и обратился к мужику: — Встань и говори.
— Воевода, спаси! Научи, что делать! Конец нам приходит! — не вставая с колен, завопил мужик.
— Не голоси, не баба. Судя по увечью, ты воином на Куликовом поле стоял!
Мужик умолк.
— Говори толком. С кем был на Куликовом поле?
— В твоём полку бился. — Мужик, подумав, добавил: — С тобой, выходит, рядом.
— Зовут его Игнат, — вставил Юшка, — а прозвище Хрящ, потому что худ да жилист.
— Вот-вот, Хрящ я, — обрадовался мужик.
— Понял. Помню тебя, Хрящ. Рад, что уцелел. Говори дальше.
— Мы, эта... стало быть, Милославских вольные холопы. Когда Ерёма-кузнец клич кликнул ордынцев бить, мы... эт-та... добровольно к Дмитрию Московскому... А тут ты, стало быть... Так мы к тебе, к нашему, к рязанскому... в ополчение, значит...
— Это я уже понял, Хрящ, — нетерпеливо сказал Степан. — Ты о главном говори.
— Ну да, о главном. Вот, значит, мы на Куликовом поле, на рати, а там, значит, они, Милославские... запёршись, — он развёл беспомощно руками. — А мы тут... а они там... — Мужик умолк, тяжело вздохнув.
— Дозволь, Степан, мне сказать. Я во дворе-то всё уразумел. Хрящ мечом ловко орудует, а языком еле ворочает.
— Вот-вот, — подхватил Хрящ. — Вольные мы мужики Милославских, а они...
— Ты погодь, дядя. Понимаешь, Степан, вернулись домой рязанские ополченцы с Куликова поля, а их бояре с дозволения Олега Ивановича хватают, в железы куют, батогами бьют, вольный дух вышибают.
— Неужто Олег Иванович совсем ополоумел?
— Господи, откуда нам знать-то? — опять упал на колени Хрящ. — Мы все... эта... Что нам делать-то, воевода? Мир прислал меня, потому как через силу тяготы наши... кончаемся. Татарин нас не одолел, так свои же... Спаси нас, воевода!
— Юшка, сколько здесь рязанских?
— С пол сотни наберётся.
— Пешие?
— Конные.
— Это хорошо. Оружные?
— Копья, сабли да топоры.
— Раздай оружие, что на телеге, самым крепким и в бою опытным. Мне мой доспех...
Степан не закончил — с неистовым воплем к нему бросилась Лукерья:
— Не пущу! Убей меня лучше! Здесь вот, на месте убей — не пущу! Или жизнь тебе не красна или смерти ищешь — на Рязань идти с полусотней? После ран не оправившись! Не пущу!
— Юшка! Связать глупую бабу и в подклеть! — приказал Степан, не глядя на женское искажённое лицо.
Лукерья вскочила, словно её ударили в спину.
— Меня в подклеть? Меня — связывать?
— Не хочешь в подклеть — умолкни. Лучше о харчах в дорогу позаботься. — Степан встал и вышел во двор.
Один из ратников рассказывал, как пытал его «самый из всех боярских прихвостней кровавый пёс», как бил кнутом, приговаривая: «С Москвой стакнулся, своевольничаешь? Рязань предаёшь? Получай награду!»
— А мне говорит: «Ежели б ты сгинул в бою, кто бы боярину долг твой вернул?» — добавлял другой.
— Вишь ты, с мёртвого защитника долг взыскивать, — ужасались мужики.
Степан приказал поспешать...
Они мчались по Рязанской земле, врывались в вотчины, рушили порубы, вызволяли бывших ратников. Те уходили с семьями в сторону Пронска, Коломны, Москвы, на приграничные пустоши, образовавшиеся за годы татарского ига.
Вскоре напали на след самого жестокого отряда. Его предводитель, как сказывали люди, предлагал свои услуги вотчинникам, боярам, князьям и за плату расправлялся с «куликовцами» неумеренно жестоко. Кто-то из смердов помянул прозвище: Харя. У Степана затеплилась надежда, что это Пажин, что доведёт Господь свидеться.
Как ни странно, но за несколько дней бешеной скачки по Рязанской земле он окреп. Только рана на правой руке давала о себе знать, потому пришлось сменить прямой меч на лёгкую татарскую саблю.
Гнали всю ночь и настигли отряд Хари днём в просторном и богатом селе. Зарёванные бабы сказали: «Палачествуют в овине».
Степан подскакал к приземистому, крытому прелой соломой строению. Оттуда доносились крики. У дверей никого не было, — видимо, не опасались нападения. Степан рывком распахнул дверь. В полумраке глаза не сразу различили деревянную кобылу, к которой был привязан человек, и рядом холопа с кнутом. Степан выхватил саблю, бросился вперёд, крича хрипло:
— Прекрати, раб!
За ним рванулись Юшка и ещё несколько рязанских ополченцев, из тех, кто попроворнее.
Навстречу вскочил Пажин. Да, это был он, всё такой же пригожий, светловолосый, голубоглазый, только на лице, словно веснушки, застыли брызги крови. Меч Пажина отбил лёгкую саблю Степана, тот пошатнулся, и Харя готовился уже нанести колющий удар в шею, не защищённую оплечьем, как подоспевший Юшка перехватил выпад, оттеснив Степана, пошёл вперёд, вынуждая Пажина отступать в глубь овина. Холопы Хари разбежались, охваченные ужасом перед воином, который гнал их предводителя. Юшка наседал, Харя только оборонялся. Вдруг он поскользнулся в навозной жиже и упал. Юшка резко ударил его мечом в горло. Пажин выгнулся, захрипел и затих. Только теперь Степан оглянулся — ополченцы вязали пажинских холопов, освобождали своих. В дальнем углу трое мужиков возились в ворохе соломы.
Освобождённые узнали Степана, окружили его. Почти все они стояли рядом с ним на Куликовом поле. Мужики гомонили, благодарили, спрашивали, что делать дальше: ведь всё одно не будет житья на Рязанской земле.
Послышались голоса из дальнего угла:
— Вот он, главный аспид!
— Спрятаться надумал.
Человека подвели к Степану. Он не сразу его узнал, а узнав, ужаснулся — Корней. Боярин стоял без шапки, в изодранной, изгаженной навозом и гнилой соломой епанче. Он поднял налитые кровью глаза, узнал Степана, побагровел, но смолчал.
— Отпустите его.
— Этого? — переспросил один из мужиков. — Главного кровопийцу?
— Я сказал — отпустите! — повторил Степан.
— Вот оно как, — донеслось из толпы, — свой своему глаз не выклюет...
Люди недовольно загудели.
Юшка, сообразив, что к чему, встал рядом со Степаном с окровавленным мечом в руке. Казалось, прошла вечность, прежде чем державшие боярина рязанцы, глухо ворча, отошли.
Степан бросил саблю в ножны и зло спросил:
— Что же это вы со своим князем удумали, боярин? Как только рука поднялась на героев Русской земли?
Ополченцы придвинулись ближе, поняв, что сейчас идёт суд, расправа же будет потом. Всем хотелось услышать, что скажет московский воевода одному из главных Олеговых бояр.
— Скажи лучше, на предателей Рязани, — гордо выпрямился Корней.
— Неужто и вправду так думаешь? Неужто ненависть твоя к Москве столь далеко зашла?
Степан не спускал глаз с Корнея. Он видел: боярину нестерпимо стыдно за минутную слабость, за то, что уполз в гнилую солому.
— Я любить Москву не обязан, я — рязанец! У нас свой князь. Он ополченье не созывал, к Москве в подручные не шёл, своих мужиков под татарскую саблю не ставил. И потому за самовольство — кнут! И любому, кто поперёк моей и княжьей воли пошёл, я лютый враг!
— Твоя воля в том, чтобы над нами мытарствовать? — крикнул кто-то из холопов.
Круг, в середине которого стоял боярин, сузился.
Юшка проворчал:
— Больно ты расхрабрился, боярин, под защитой моего меча. Мне противу всех не устоять...
Смерды и ратники сбивались всё плотнее, ближе подходя к боярину и Степану. Люди молчали, слышалось только тяжёлое, хриплое от ненависти дыхание.
— Братцы! — начал Степан. — Я вас понимаю, нет прощения боярину! Но и вы поймите меня! Не могу я решить его жизни, не могу...
В толпе зашумели:
— Ясное дело... Нешто стольник боярина в обиду даст?
— Все они на один лад скроены.
— Не потому, что я воевода и он боярин. Потому, что отец он мне названый. Вырастил меня, сироту, и Юшку пригрел. Не могу. Поймите меня! — крикнул Степан.
Толпа, застыв в нерешительности, затихла. Юшка уловил благоприятный миг, схватил Корнея за руку, потащил за собой, из овина на двор. Степан поспешил следом, прикрывая, — мало ли что, передумают мужики, бросятся...
Возле коней Юшка остановился, одного отвязал, но повод подал Степану, а сам отступил.
— Где Алёна?
Боярин оглянулся. Люди стояли в дверях овина в нерешительности, но уже видно было: проходит оторопь, вызванная словами Степана.
— Поклянись, что отпустишь меня!
— Где Алёна? — повторил Степан на этот раз с угрозой.
— В монастыре, — еле слышно выговорил Корней.
— Ты её туда запрятал?
— Сама ушла, как узнала, что у тебя в Москве полюбовница. — Корней не выдержал и протянул руку за поводом.
Степан отстранил руку:
— В каком монастыре?
— В Спас-Никитском. Пострижена сестрой Евпраксией. Полгода уж, как постриг приняла. — Боярин снова протянул руку, выхватил повод у Степана и попятился, увлекая за собой коня.
Юшка удержал коня за узду и вопросительно глянул на Степана.
— Пусть едет, — вздохнул тот.
Юшка выпустил узду. Боярин вскочил в седло с юношеской прытью, несмотря на возраст и немалый вес, гикнул и поскакал, взметая комки грязи с разбитой дороги.
— Куда вы теперь? — спросил Степан мужиков.
— Помозгуем... Может, в лесах схоронимся, а может, в вольный Новгород подадимся.
— А мы куда? — обратился Юшка к Степану.
— В монастырь.
— Ты думал, чем это грозит?
— Ты ли это, Юшка? — удивился Степан. Впервые товарищ и верный друг выражал опасение.
— Ведь она Богу обет дала, — неуверенно протянул тот.
— Ах, это... Ничего, Бог простит, а митрополит грехи отпустит, ежели его великий князь о том попросит. Поспешим, некогда раздумывать. Боярин может раньше нас успеть в монастырь.
...В монастырь ворвались ночью, опередив Корнея. Монахини только крестились, подчиняясь антихристам, да посылали проклятия на их головы.
Степан не ожидал, что полгода, проведённые в монастыре, так изменят внешность Алёны: тоненькая, бледная до прозрачности, с огромными глазами в тёмных подглазницах, стояла она перед ним в своей келье. Слышны были голоса молящихся: Юшка согнал всех в церковь и запер там, чтобы не мешали.
— Алёнушка, любовь моя! — выговорил наконец Степан.
— Нет, нет... — подняла перед собой руки Алёна. — Не губи мою душу! Пожалей... не смей подходить ко мне!
Степан хотел было шагнуть.
— Остановись! Я голову себе о камни размозжу!
— Лапушка, ты выслушай, — начал Степан и остановился. Что он может сказать? Он не был готов к такой встрече. Алёна в мыслях представлялась ему совсем иной, он ждал ревности, слёз, обид, а главное — радости. А перед ним стояла бесцветная, потухшая монашка — что сказать ей?
— Зачем себя заживо хоронить в монастыре? — произнёс он наконец. — Добро бы я ещё не знал, что такое монашество. Куда как хорошо знаю — сам почти полгода милостью Олега Ивановича провёл в келье, ты же помнишь...
Алёна успокоилась, опустила руки. Степан понял: только так и можно разговаривать — неторопливо, рассудительно.
— Видел я сейчас твоих монахинь. Усохли, бабьего счастья не узнали, детей не родили, груди пустоцветом повисли, очи мутными от слёз и ночных бдений стали... Неужто забыла ты меня, не любишь больше?
Алёна встрепенулась:
— Ты первым забыл меня!
— Ни на минуту не забывал, клянусь тебе, Алёнушка. — Степан обрадовался, что прорвалось живое чувство.
— А когда из Рязани убегал — обо мне помнил? А когда навек княжеской милости лишился — помнил? А когда в Москве ключницу себе завёл, тоже помнил? А когда моего отца и мать горевать заставил, меня оплакивать?
— Твоего отца я спас... — Степан сделал шаг.
— Не подходи!
— Пойми, всё это не то, не главное. Я жить без тебя не могу!
— А я могу? — вырвалось у Алёны.
— Значит, помнишь меня, не забыла, любишь?
— Я памятью живу.
— Память — обо мне?
— Нет, о твоей ключнице проклятой!
— Да нет её, нет, прочь уже отослал...
— Врёшь! Здесь она. — Алёна быстро коснулась пальцем груди Степана.
— А тут и вовсе никогда не была. — Степан схватил Алёну за руку и стал медленно притягивать к себе, приговаривая: — Одну тебя любил, одну... клянусь... Была слабость, прости. Неужто не простишь во имя нашей любви? Во имя будущего нашего.
— Будущее моё — гореть в геенне огненной, если не пощадишь, не оставишь меня здесь.
— Ты сама подумай, — Степан гладил руку Алёны, — на что меня толкаешь? Ну, оставлю я тебя в монастыре, замолишь ты грех встречи со мной, и утешится твоя душа, и уснёт в дымке ладана... А мне что — руки на себя накладывать? Без любви жить? Или ключницу возвращать?
— Нет, только не это! — отчаянно вскрикнула Алёна и прильнула к груди Степана.
Глава тридцать седьмая
Пригода появилась в Пажиновке к вечеру. Первой увидела её Алёна, бросилась на шею, заплакала, потом засмеялась и повела в дом с криком:
— Степа, Юшка! Смотрите, кто к нам пришёл!
Вышел Степан, приобнял Пригоду, расцеловал в чумазые щёки. Отстранив, стал с удивлением рассматривать — была она одета в какие-то тряпки, платок надвинут на самый лоб, щёки вымазаны то ли землёй, то ли сажей. Степан хотел спросить, что приключилось, почему в таком виде, но тут вошёл Юшка.
Пригода ойкнула. Юшка крепко обнял её, воскликнул:
— Я знал, что ты найдёшь нас!
Вечером, отмывшись в бане, Пригода, чистая, в длинной льняной сорочице с алой прошвой, в льняном же платочке сидела за столом и, уписывая за обе щеки обильное деревенское угощение, рассказывала:
— Почитай двадцать дён добиралась до Москвы. А уж в Москве язык помогал — расспрашивала, пока концов не нашла.
— Что, так прямо на улицах и расспрашивала? — удивился Юшка.
— Нешто я такая глупая? Имя-то проклятого сотника в памяти осталось, вот и подумала, авось кто-нибудь из его бывшей сотни попадётся на моём пути.
— И что же?
— А ништо. Как встречу воина, так и спрашиваю — не знает ли он, где живёт Пажин.
— Значит, воин какой тебя направил?
— Да не сразу. Поначалу все отмахивались, не до меня, вишь. Тогда я схитрить решила, стала говорить, что бросил меня сотник, а у меня дите от него скоро народится. Наврала с три короба да сама и поверила: как начну рассказывать, так плачу. Тут меня слушать стали, сочувствовать.
— Русский человек горю открыт, — сказал Степан.
— Вот, вот. Даже хлебушка давали. На живот поглядывали, пришлось подкладывать... — Она заливисто засмеялась. — А один так прямо и сказал: у Хари не ты первая, не ты последняя, ищи ветра в поле — он ныне в Рязани обретается. Ну, думаю, раз попался такой разговорчивый, надо его порасспрашивать. Стала вокруг него виться — дядечка да дядечка... Вызнала, что деревня его так и зовётся, Пажиновка, по какой дороге искать. Ну, дальше дело простое: иду и каждую встречную бабу спрашиваю, не знает ли она такую деревню — Пажиновку.
— А чего такая грязная да ободранная? — спросил Юшка.
— Глупый. Навстречь не только бабы попадались. Мужики чаще. У многих взгляд такой, что не только сажей лицо испачкаешь, в навозе вываляешься.
Юшка опять сгрёб Пригоду в объятия.
— Давно из дому убежала? — спросила Алёна.
— Когда твой батюшка вернулся. Ох и злой был! Таким я его никогда прежде не видывала. Всё бубнил боярыне, что опозорили его дочь да воспитание. Я как смекнула, что ты, Степан, Алёну из монастыря собрался похитить, так той же ночью и ушла. Жуковинье твоё, Алёна, из светёлки взяла, подумала, тебе понадобится.
— Так тебя батюшка воровкой ославит! — охнула Алёна.
— Он ославит, ты отбелишь. Правда, одно колечко продать пришлось, ты уж меня прости, — дорогая жизнь в Москве, ох дорогая. Прости...
— Господи, лапушка, да хоть бы всё жуковинье продала!
Вечером, когда Алёна собиралась ко сну, Пригода по многолетней привычке сунулась помогать госпоже. Алёна смутилась и от помощи отказалась.
Пригода сразу обо всём догадалась:
— Давно?
Алёна зарделась:
— От монастыря галопом мчались, я от усталости чуть с седла не падала, Юшка всё приговаривал: терпи, через Оку переправимся, там, в Москве, отдохнём. К ночи переправились, в ближайшей деревушке стали ночлег искать. Никто не пускает. Один сердобольный позволил на сеновале переночевать. — Алёна лукаво улыбнулась. — Юшка сразу, как поснедали, пошёл коней глядеть...
— Сено-то душистое было? — с улыбкой спросила Пригода.
— Ох, душистое, второго укоса.
Девушки рассмеялись...
Утром Юшка и Пригода завтракали вдвоём. Степан и Алёна ещё спали.
Подавала молодая повариха, оставленная из пажинского «малинника» за умелые руки и вкусную стряпню. Она украдкой разглядывала Пригоду, та в свою очередь, не стесняясь, рассматривала девушку.
Когда стряпуха ушла, Пригода спросила:
— И все у Пажина были такие?
— Все. «Малинник»!
— Вот я тебя!
— Да я ни одной «малинки» не сорвал, вот те крест! — Юшка полез обниматься.
Пригода шутливо стукнула его по рукам:
— Верю, верю... Как вы с Берендеихой-то расстались?
— Не мы, а я. Меня Степан наутро после того, как они на сеновале переночевали, погнал в Пажиновку, сказал: делай что хочешь, но чтобы к нашему приезду духа её не было.
— Плакала небось?
— Вначале плакала, а потом сказала, что убьёт.
— Аты?
— А я пригрозил: ежели осмелится чего-нибудь сотворить, то сама о смерти, как об избавлении, мечтать будет.
Пригода взглянула на закаменевшее лицо Юшки и подумала, что, пожалуй, и вправду он способен отомстить самым жестоким образом. Но тут Юшка широко улыбнулся, лицо его осветилось добротой, и Пригода успокоилась.
— Нынче бабье лето дивное стоит. Пойдём по грибы?
— Как проснутся наши голубки, так и пойдём.
— Воин, кто же по грибы в середине дня ходит! По утречку, по холодку, пока они под листьями прячутся — самая грибная охота!
Три дня бабьего лета остались в памяти молодых людей как непрерывный праздник, самый лучший в их жизни.
На четвёртый день Степан с утра о чём-то думал, потом, когда все вчетвером сидели за столом, сообщил, виновато улыбаясь:
— Надобно нам с Юшкой в Москву ехать.
— Так скоро? — опечалилась Алёна.
— Сколько уже дней после битвы прошло... Небось Семён нас в убитых числит, — сразу же поддержал друга Юшка.
— Ну ещё хоть денёчек! — умоляюще прошептала Алёна. На глаза её набежали слёзы.
— Хорошо, лада моя, ещё денёк, — быстро согласился Степан.
День прошёл незаметно, однако прежнего радостного настроения уже не было, словно тень чего-то страшного опустилась на дом.
Степан и Юшка ускакали ранним утром. Вечером вернулись усталые и угрюмые. Оказалось, Семён Мелик пал на Куликовом поле. Друзья помянули его в кружале и прихватили домой добрую баклажку старого мёда.
Новый воевода из молодых знал их плохо, строго попенял, что так долго не являлись. Особенно досталось Юшке:
— Ну, допустим, сотник раненный лежал, не мог явиться, а ты-то целым из боя вышел. Вполне мог прискакать, рассказать. Я тут с ног сбиваюсь — сотников и десятских не хватает, а у меня, оказывается, два каких воина есть!
По ворчливому, но в общем-то доброжелательному тону Степан понял, что новый воевода сторожевого полка слышал о них только хорошее.
Семёна Мелика поминали вдругорядь вечером, наперебой рассказывая притихшим девушкам, каким он был замечательным человеком и отважным воином.
— Завтра надо будет к вдове его наведаться, доброе слово молвить, — сказал Степан. — Один раз видели, но сразу поняли: они счастливо жили...
Юшка согласно кивнул. Над столом повисло молчание. Нарушил его Степан, смущённо откашлявшись в кулак:
— Не сыграть ли нам две свадьбы?
Девушки замерли.
— Отчего же нет, — степенно ответил Юшка.
— Вот завтра и договоримся с батюшкой.
— Это на ком же ты собрался жениться? — спросила с ехидцей Пригода.
— А ты не знаешь?
— Нет.
— До чего же ты у меня недогадливая. На тебе!
— А ты меня спросил? — неожиданно вскинулась Пригода.
— Чего спрашивать? Почитай, пять годков...
— Что пять годков?
— Ну, это...
Степан поглядел на растерянное лицо друга и фыркнул.
— А ты чего смеёшься? А ты меня спросил? — поддержала подругу Алёна с таким серьёзным и строгим лицом, что Степан на какое-то мгновение растерялся. Но девушек надолго не хватило: вначале Пригода, за ней и Алёна с хохотом бросились на шею каждая своему суженому.
До первых петухов сидели за столом, обсуждали, спорили — коль скоро мужчинам предстояло служить в сторожевой сотне в Москве, то и жёнам следовало перебраться в столицу.
— Купим большой дом и заживём вместе, — убеждал Степан девушек, которые никак не хотели переезжать в Москву, боясь, что окажутся там белыми воронами.
Уговорить удалось, лишь когда Юшка пригрозил: мол, на Москве весёлых жёнок много, а как соблазнят они соломенных вдовцов?
Потом стали спорить, где лучше венчаться. Женская половина стояла за скромную церковь. Степан с Юшкой хотели венчаться в самой Москве, найти церковь, чтобы поближе к кремлю, да служил бы не просто поп, а архиерей.
Сошлись на большом храме, что стоял в подмосковном селе на Ярославской дороге, рядом располагался большой мытный двор. Там же жили и сами мытники, или, по-московски, мытышники, знаменитые тем, что деньгу за товар умели взять у любого не мытьём, так катаньем. Потому и храм был в селе богатым, и звоны славные на всю округу, и хор, как говорили, митрополичьему не уступал.
Ещё долго шепталась каждая пара в своей светёлке, до самой тусклой осенней зари, перемежая разговоры ласками, пока наконец не сморил всех сладкий сон.
Юшка примчался на полузагнанном коне из Москвы ближе к вечеру. Спрыгнул во дворе, бросил повод на крюк у крыльца, вбежал в дом.
Навстречу вышла Пригода, румяная, весёлая, ясноглазая, в новом хитоне.
— Вот хорошо, что приехали. А мы баню протопили.
— Где Алёна?
— А что?
— Быстро приведи! — Пригода, почуяв неладное, не говоря ни слова, скрылась в дальних покоях.
Юшка торопливо поднял половицу в сенях, пошарил, извлёк закутанный в холстину пояс, в котором ещё во времена службы на меже прятал добычу, взвесил на руке. Затем метнулся в горницу, прогромыхав коваными сапогами по дубовым ступеням, рывком открыл дверь, схватил сундучок, стал перекладывать из него в пояс жуковинье, золотые иноземные монеты, гривны.
— Юшка, что случилось? — донёсся снизу голос Алёны.
Он быстро скатился с лестницы, застёгивая под портами набитый пояс.
— Степана схватили!
— Кто схватил? — охнула Пригода.
Алёна, пошатнувшись, ухватилась за её плечо и зажала рукой рот, сдерживая готовый вырваться крик.
— Митрополичьи стражники.
— За что?
— По навету рязанского епископа за оскорбление святости женского монастыря и похищение монахини.
— Вот оно, наказание Господне! — прошептала Алёна.
— Что же делать? — спросила Пригода.
— Степан велел всё бросать и уезжать. За Алёной наверняка приедут. Я всю дорогу гнал. Надо успеть опередить. Не вздумай плакать! — прикрикнул он на Алёну. — Мы и в худших передрягах бывали, ничего. Надо вам в наше старое мужское платье переодеться, поскачем на конях. Косы придётся срезать...
Юшка распоряжался уверенно — всю дорогу из Москвы он обдумывал положение и теперь точно знал, что делать.
Ещё не началось смеркаться, когда из задних ворот выехали трое всадников: один воин и двое с виду подростков. За ними в связке три навьюченные лошади.
В ближайшем лесочке, недалеко от большой дороги, ведущей из Москвы в Ярославль, Юшка остановился, предусмотрительно выбрав густые заросли орешника.
— Надо коню овса задать, с утра бедняга ничего не видел, а такие два конца проскакал, — сказал он, наполняя торбу припасённым овсом.
— А сам-то ты ел? — спросила Алёна.
— Теперь и о себе подумать можно.
Верховой конь похрустывал овсом, другие паслись. И Юшка снова и снова рассказывал, как увели Степана, не ожидавшего, что его схватят, и потому не успевшего даже потребовать присутствия воеводы.
Издалека донёсся конский топот, и вскоре по дороге, скрытой от беглецов зарослями орешника, промчались пятеро всадников.
— По наши души, не иначе, — сказал Юшка. — Вовремя я успел...
— Что же теперь с нами будет? — спросила испуганная Пригода.
— Отвезу вас в Суздаль или в Ростов Великий. Определю на подворье в монастыре. Сам вернусь в Москву, попытаюсь узнать, что со Степаном. Может, и выручу... не впервой. Главное — вас определить. Ночью скакать не побоитесь?
— С тобой — нет. — Пригода поднялась, чтобы собрать развязанный вьюк.
Вновь послышался отдалённый конский топот. Юшка прижал Пригоду к земле, сам осторожно выглянул из-за куста.
Обратно в Москву скакал одинокий всадник из той пятёрки, что промчалась недавно в направлении Пажиновки.
— Глупцы, меня вздумали вчетвером ловить, — сказал Юшка, провожая всадника взглядом. — Я бы их перестрелял из лука как куропаток. Да только ни к чему множить московскую злобу на нас, рязанцев.
Алёна, за время пути не проронившая ни слова, а только покорно выполнявшая все указания Юшки, вдруг спросила:
— А те четверо, что поскакали в Пажиновку, не найдя нас, озлятся?
— Ну и черт с ними! — перебила Пригода.
— Не в том дело. — Алёна бросила укоризненный взгляд на подругу. — Они ведь не станут там сиднем сидеть. Я вот всё думаю, куда они дальше денутся?
— Верно, Алёна, незачем им там сидеть. Дальше поскачут.
— Знать бы куда... — произнесла задумчиво Пригода.
— Были б мы в Рязани, я бы вмиг смекнул — там каждую тропку, каждую деревню знаю. А здесь, в Московии, бог его знает...
Юшка помолчал.
Девушки терпеливо, с надеждой ждали его решения.
— Степан мне говорил, что дорога эта ведёт в Ростов Великий, а затем в Суздаль. Вот и получается, что туда нам путь заказан.
— Куда же подадимся? — с тревогой спросила Пригода.
— Надобно нам в Тверь скакать, — после недолгого раздумья произнёс Юшка. — У Москвы нелюбье с Тверью, они туда не сунутся. Только вот незадача: не знаю я дороги в Тверь.
— Эка беда, — ухмыльнулась Пригода. В сгустившемся сумраке Юшка увидел, как блеснули в улыбке её зубы. — Поедем через лес до первой деревни, а потом, как и меня давеча, язык до Твери доведёт.
Юшка кивнул. Где-то в глубине леса негромко, словно примериваясь, ухнул филин. Алёна прижалась к Пригоде.
— Айда, девки. Берите коней в повод и за мной. Поглубже заберёмся в чащу, костерок разложим, переночуем, а с восходом и двинемся, — нарочито бодрым голосом сказал Юшка.
Глава тридцать восьмая
Кованая низкая дверь отворилась с противным тягучим скрипом. Степан остановился на пороге, чтобы в последний раз взглянуть на сумрачное осеннее московское небо, на стремительно рвущиеся ввысь башни белокаменного кремля, но его подтолкнули в спину, и, хватаясь за неровную кладку стены, он стал спускаться в холодную глубину подбашенного подвала. Дверь захлопнулась, отрезая неумолчный крик кремлёвских наглых ворон, стало темно — стражник с факелом успел спуститься ступеней на десять. Степан ускорил шаг, догнал стражника. Теперь перед его глазами маячила заросшая рыжим волосом шея, бугристая, красная, жирная, с рубцами от чирьев, так и вызывала желание по ней ударить. Воистину чудовищно: последнее, что суждено запомнить в мире людей, — отвратительная шея. Степан опустил глаза, разглядывая ступени ведущей вниз, казалось, бесконечной лестницы. Выложенные из белого известняка, они были ещё не истёртыми, — видно, не так часто спускались сюда, это узилище, за двенадцать лет, прошедших с тех пор, как построил Дмитрий Московский свой каменный кремль.
Миновали поворот лестницы. Стражник открыл такую же низкую скрипучую кованую дверь, как наверху, и они вошли в неожиданно просторный сводчатый подвал, слабо освещённый двумя светильниками: один стоял на ларе с бумагами, другой в дальнем углу, где смутно виднелась дыба, вделанные в стену железные кольца и ещё нечто, напоминающее жаровню. Под ложечкой у Степана заныло, он отвёл глаза. Посреди подвала, у мощного опорного столба стояла лавка, сколоченная из грубо отёсанных досок, на полу валялась солома. В другом углу, где дыба, появился человек. «Палач, — мелькнула догадка. — Палач, и никто другой». Это Степан не просто понял, а почувствовал всей кожей, хотя видел палача впервые. На Москве при великом князе Дмитрии Ивановиче казней не бывало, разве что обезглавили одного из великих бояр Вельяминовых, Ваську, умыслившего отравить государя. Но то было давно, когда Степан ещё не жил в Москве. И вот перед ним стоял палач, с которым придётся познакомиться в этом тёмном кремлёвском подвале. Степан, холодея, вгляделся — обычный молодец, в меру высокий, в меру дородный, вот только льдистые глаза на припухшем лице поражали отсутствием какого-либо выражения. Они скользнули по лицу Степана, и палач махнул рукой стражнику, давая понять, что тот может уходить. Рыжий стражник, торопясь покинуть клятое место, бесшумно исчез. И сразу же откуда-то из полумрака возникла странная фигура человека в тёмной бесформенной одежде, напоминающей рясу, в нелепой ермолке, глубоко надвинутой на голову, и в коротко обрезанных валенках.
Человек пытливо оглядел Степана, поскрёб в редкой до прозрачности бородёнке удивительно тонкими, длинными пальцами с обкусанными ногтями, усмехнулся, как показалось, с удовлетворением и указал на лавку, приглашая сесть. Он заговорил, рассыпая слова акающей московской скороговоркой, не сводя со Степана жёстких умных маленьких глаз, не вяжущихся своим напряжённым выражением с ласковой речью.
— Садись, Степанушко, располагайся. Тут тебе назначена тихая обитель до суда... Так-то... А меня кличут Нечаем. Небось не чаял нечаянно с Нечаем встретиться в узилище, хе-хе... — Рот старика растянулся в улыбке, хотя глаза не смеялись. — Судить будет великий князь Дмитрий Иванович. Он сюда самолично пожалует — вот какая высокая честь тебе, Степанушко, не каждому узнику её оказывают, так-то...
Степан послушно сел на лавку и осмотрелся. Глаза уже привыкли к полумраку, и он смог разглядеть за ларём со светильником худого носатого человека в скуфейке, — вероятно, писаря, согбенного и застывшего неподвижно. Другие углы подвала тонули во мраке.
— Ты не смотри, Степанушко, не смотри, — зачастил Нечай. — У нас тут сухо. И воздух завсегда чистый. И мышей нету. Раньше, когда кремль деревянный стоял, тварей этих было видимо-невидимо, ну никакого спасу. А как сложил великий князь Дмитрий Иванович белокаменный кремль — повывелись. Негде им, голохвостым, норки себе устраивать — камень ить кругом. Так-то... — Нечай поскрёб в бородёнке, словно прикидывал, где бы действительно могли устроиться тут мыши. — Ив железа мы не куём. Ибо не уйти отсюда. Так-то, Степанушко. Да ты не вешай головы, человече, не вешай. Жизнь — она и в узилище жизнь.
Степан слушал, не улавливая смысла слов. Угнетало безмолвное присутствие палача. Как захолонуло, заныло где-то в глубине сердца при первом же взгляде на молчаливого детину, как начало мелко подрагивать нутро и засосало под ложечкой, так всё и продолжалось. И чем дальше, тем сильнее становилась дрожь, распространяясь уже на всю грудь, захватывая плечи, расползаясь по рукам. Унять её не было никакой возможности.
Нечай, видимо, догадался о состоянии Степана, потому что сделал знак палачу. Тот скрылся в дальнем углу, сел там тихонько, вздохнув как сонная корова в теплом хлеву ночью, — шумно и протяжно. Дрожь стала утихать. Неизвестно почему — ведь никуда не ушёл чёртов детина, просто скрылся с глаз.
Грохнула железная дверь. В подвал ворвался свет факела, и Степан увидел старика, чем-то неуловимо напоминающего Нечая, только на голове его красовался меховой треух, словно наступила уже на Москве зима. Старик шустро подскочил к Нечаю, держа факел в вытянутой руке, что-то прошептал на ухо и засеменил обратно к двери. Та скрипнула, и старик исчез. По знаку Нечая сидевший за ларём писарь встрепенулся, встал, оказавшись высоким и тощим, и тоже направился к выходу. Из темноты появился палач и побрёл следом. В подвале остался один Нечай.
Он ещё раз задумчиво оглядел Степана, словно покупатель на конских торгах, вздохнул, направился было к двери, но неожиданно вернулся, заботливо проверил, сколько масла осталось в светильнике на ларе, удовлетворённо покивал сам себе и наконец ушёл.
Стало так тихо, что у Степана зазвенело в ушах. Он подумал, что раз Нечай проверял масло в светильнике, значит, ушёл надолго. Может быть, до завтрашнего утра. Сказал, сам великий князь будет допрашивать — получается, что сегодня ему недосуг.
Взяли Степана сразу, как только он приехал в Москву, день продержали на съезжей, потом — сюда. Времени прошло достаточно. «Конечно, — подумал Степан, — Юшка успел спрятать Алёну». Хорошо, когда схватили его внезапно стражники, затаившиеся, словно ордынцы на меже, он успел сказать Юшке, чтобы скакал в подмосковную деревню Пажиновку к Алёне.
От голода заурчало в животе. За весь вчерашний, бесконечно долгий день Степану дали всего лишь ломоть ржаного хлеба и кружку воды. И утром тоже.
Он вздохнул, нагнулся, сгрёб солому, побросал на лавку, прилёг, с наслаждением вытянулся. Принюхиваясь к домашнему запаху свежей соломы, подумал, что в этом подвале прохватит его мёртвым холодом до костей, встал, собрал ещё соломы и наконец лёг, зарывшись в неё. Ещё успел подумать, что Юшке с Алёной нет пути никуда, кроме как в Новгород, и тут же навалился тяжёлый, тёмный сон...
Степан проснулся от собственного крика. Даже не крика, а мычания, словно пытался что-то сказать, но звуки вырывались из безъязыкой глотки. Он сел, суматошно шаря вокруг себя руками и не различая в темноте предметы, крикнул: «Юшка!», чтобы убедиться, что ощущение немоты всего лишь сонное наваждение. Звук голоса не принёс облегчения — какая разница, потерял он дар речи или нет? Здесь, в тёмном, глухом подземелье никто не услышит, хоть криком кричи. Да, это не сон. Сном теперь казались те весёлые, счастливые солнечные дни, что пролетели в Пажиновке рядом с Алёной.
...Степан подумал, что надо бы встать, походить — солома, трухлявая и потому особенно сыпучая, сползла с ног, холод подземелья пробрал до мелкой противной дрожи, но вставать не хотелось. Хотелось снова закрыть глаза и погрузиться в воспоминания. Он превозмог себя, встал, потянулся и заставил поглядеть в угол, где давеча сидел палач. Там никого не было. Светильник моргал, давая знать, что масло на исходе.
Послышался лязг ключа в двери, потом громкий стук — отодвинули засов, дверь заскрипела.
«Неужели она каждый раз будет вот так отвратительно скрипеть?» — подумалось Степану, и он увидел в ярко освещённом проёме двери стражника, за ним знакомого старика в меховом треухе. Старик держал в руках глиняную миску, покрытую ломтём ржаного хлеба.
Стражник остался стоять в дверях, а старик прошмыгнул к ларю, поставил еду и, ни слова не говоря, пошёл обратно.
— Утро на дворе? — спросил Степан.
— Утро, — односложно ответил старик и скрылся.
Стражник медленно затворил дверь, отрезая утренний свет. Степан сообразил, что не догадался попросить масла для светильника.
«Видно, придётся ждать следующего посещения в темноте», — равнодушно подумал он и пошёл к ларю.
Толстые, шероховатые глиняные края миски оказались горячими от густых, наваристых щей. Степан некоторое время держал миску в ладонях, грея руки. Потом поел, тщательно протёр последним куском хлеба миску, съев всё до последней крошки. Хоть и говорил Нечай, что нет в каменном подвале мышей, но мало ли что, может и завестись всякая нечисть.
Степан вернулся на лавку, посидел, потом лёг, укрылся соломой и стал опять вызывать воспоминания.
Когда он попал к боярину Корнею, Алёнки ещё не было на свете. Приняли его в доме как богоданного сына. И когда ходила боярыня на сносях, Корней всё говорил — вот скоро появится у тебя братик. А потом родился не братик, а сестричка...
Как ни старался Степан, он не мог вспомнить ни пухлявую малышку из далёкой юности, ни девочку — высокую, синеглазую, с льняными волосами. Вместо неё перед глазами стояла бледная, осунувшаяся, с потухшим взором когда-то сияющих глаз монашка со впалыми щеками и страдальческой складкой у самого уголка скорбного рта, в чёрных одеяниях, умоляющая не губить её, не трогать, оставить в покое...
Господи, подумал Степан, сколько же пришлось вынести ей, бедной, что превратилась она из весёлой и ясной, как солнышко, девушки в молодую старушку, слабо сопротивляющуюся, когда выносил он её на руках из кельи монастыря, более похожей на узилище...
Снова звякнул ключ, загрохотал засов. Дверь с лязгом отворилась. Появился ставший уже привычным стражник, озарённый светом факела, а за ним палач. Всё внутри у Степана захолонуло, он привстал было, но, взяв себя в руки, откинулся обратно, на лавку.
За палачом, деловито прошедшим в свой угол, появился Нечай, а следом и писарь.
— День добрый, — приветливо сказал Нечай, вглядываясь в полумрак. — День добрый, человече, вишь, не пришлось тебе долго в неведении ждать, вспомнили о тебе властители...
— Палача привёл — значит, и дыба будет? — Степан почувствовал, как забила его мелкая дрожь.
— Вестимо, — певуче ответил Нечай, улыбаясь.
— Что же ты говоришь «день добрый»?
— А по обычаю. — Старик принялся деловито подливать масло в светильник, затем зажёг факел, укреплённый в стене, и другой факел, на могучем опорном столбе.
Осветив подвал, Нечай засеменил в угол к палачу, где тот раскладывал своё снаряжение и разжигал жаровню, о чём-то спросил его шёпотом и, выслушав негромкий ответ, пошёл к писцу. Тот сидел у ларя неподвижно, подперев руками голову. Нечай поглядел сокрушённо:
— Ну что сидишь? Ломит?
Писец тяжело вздохнул.
— Заготовил опросной лист-то?
Писец привстал, изогнулся угодливо, чуть не воткнувшись острым кончиком носа в ларь:
— Не уловил, батюшка...
— Опросный лист, говорю, заготовил? Дабы не томить великого князя напрасной проволочкой?
— Так ведь никогда досель загодя я не делал, батюшка...
— Не де-елал, — передразнил Нечай. — Никогда досель великий князь самолично не спускался. Пиши, чего пялишься?
— Пишу, пишу, — сел за ларь писец, выбирая перо. Наморщил лоб. — Что писать-то, благодетель?..
Степан усмехнулся, почувствовав, как дрожь ушла из сердца, холодок растаял, и вздохнулось свободнее, легче.
— Что всегда пишешь, будто впервой, — ответил Нечай, почёсывая бородёнку и поглядывая на Степана.
— Ох, грехи наши, — вздохнул писарь, макнул перо в чернильницу и заскрипел, диктуя сам себе: — «Лета от сотворения мира шесть тысяч восемьсот восемьдесят восьмого[59] Дмитрий Иванович, великий князь Московский, Владимирский, князь Угличский, Галицкий и прочая, прочая...»
Степан откинулся на лавке и упёрся взглядом в нависающий свод, а писец продолжал бубнить:
— «...Призвал на суд стольника своего Степана Рязанца по просьбишке епископа рязанского владыки Василия...»
Нечай встрепенулся, вскочил, подбежал с нежданной лёгкостью и остановил писца:
— Ты что, никак, белены объелся! Нешто епископ обращается с просьбишкой?
Писец торопливо закивал, засопел виновато, скобля написанное. Противный звук повис в недвижном воздухе подвала. Закончив счищать, глянул на лист пергамена на свет, поводил ногтем по чистому месту, наводя лоск, заискивающе посмотрел на Нечая и сказал раздельно и внятно, но с вопросительной интонацией:
— По велению епископа рязанского?
— Час от часу не легче, — перебил Нечай. — Рази епископ рязанский может повелевать великому князю, да ещё московскому?
— Ох, прости, благодетель... — Писец страдальчески сморщился, потёр рукою лоб: — Со вчерашнего голова, будто улей, гудит. Может, ещё есть время, — я бы сбегал, хлебнул медку, похмелился...
— Вот я тебя сейчас батогами похмелю! Пиши: по жалобе!
Грозные слова Нечая не вязались с помягчевшим голосом. Степан подумал: «Как же всё-таки на Руси завелось, что похмелье не в укор, а в оправдание?» Задумавшись, он опять вперил взгляд в нависающий свод, а когда взглянул на писца и старика, то с удивлением обнаружил, что они как бы приостановили какое-то действо, разыгрываемое для него, Степана. Чтобы не пропустил по невнимательности ни слова — мысль мелькнула, но додумать он не успел, потому что, поймав его взгляд, Нечай ткнул костяшками пальцев в темя писца, тот дёрнулся, охнул и, словно нерадивый ученик, вспоминающий от тычка урок, спросил:
— А что его, стольника, ждёт-то, благодетель?
Нечай словно ждал этого вопроса:
— Если подтвердит, признает, что виновен, то ждёт его тяжкое наказание! Великий князь в гневе несдержан!
Писец согласно закивал.
— Неужто казнят, если сознается бедолага-стольник?
— Казнить — нет, оно не по-божески, да и не водится того на Москве. Великий князь наш по Русской Правде живёт. А вот заточить навечно может.
— Это, выходит, по-божески?
— Ежели признает вину на себе. А не признает — тут воля княжеская. Может и миловать, всё в его руке.
— Князь у нас строг, да отходчив, — сказал писец и, склонившись над листом, проворно и уверенно заполнил его, словно не он и спрашивал, что да как писать. Отложил перо, сощурился, поглядел на Нечая, склонив по-птичьи голову набок, и заговорил уже иначе — неторопливо, задумчиво, как бы беседуя:
— Я вот думаю — чего бы это стольнику монашек красть? Иль мало на Москве жёнок, девок весёлых, вдовушек жарких? Вон их сколько после Куликовой-то битвы безмужних. Только мигни — так и летят к тебе лебёдушки, утешения ищут, прости нам, Господи, грехи наши, успокоения и душе, и плоти...
— Утешитель, — вдруг подал голос из дальнего угла палач. О нём Степан успел забыть, опять в груди что-то дрогнуло и застучало.
— А то, — ответил писец. — Ты не гляди, что телом я хил. В ночи я лев рыкающий, хе-хе... Сухое дерево в сук растёт.
Слова скабрёзные, и повадка, и весь облик писца так разительно переменились, что Степан подумал: нет, не случаен разговор Нечая с писцом о его, стольниковой, судьбе. «Если признается — виновен, не признает вину — в княжьей воле...» Это был явный знак, перст указующий. Только кому, с какой целью? Задумавшись, Степан не слышал шутливой перебранки палача и писца, не заметил и того, что вдруг они умолкли: на лестнице, ведущей в подвал, раздались тяжёлые, уверенные шаги.
Вошёл великий князь Дмитрий Иванович Московский. Все встали, поклонились. Степан ждал, что за великим князем появится кто-либо из ближних бояр, но никто больше не спускался. Это отметилось в сознании как странное, однако осмыслить Степан не успел, потому что Дмитрий Иванович подошёл к Нечаю, о чём-то негромко спросил, тот, выпрямившись, метнул взгляд на Степана и так же негромко ответил. Князь кивнул утвердительно, движением руки отослал Нечая и писца в тёмный угол к палачу, а сам подошёл к Степану и положил ему руку на плечо, усаживая на лавку. Сел и сам.
— Серчаешь на меня?
— На государей не серчают, — тихо ответил Степан.
— Не мог я иначе поступить. Сам рассуди: добро бы ты простым воином был, в государственных делах несведущим. А ты и не просто стольник, ты книжный человек, да ещё и песнетворец, как мне ведомо. Что же, мне из-за тебя с Рязанью ссориться? В кои-то веки к согласию стали близки. Или с церковью русской, не дай бог, разойтись из-за того, что мой стольник, как лис в курятник, в монастырь женский полез?
Степан удручённо молчал — всё, что говорил великий князь, было правдой, вина его очевидна. И время тяжёлое, хотя и празднует Русь от степей до холодного моря Куликовскую победу.
— Не ожидал я от тебя, — продолжал доверительно Дмитрий Иванович. — Тут, слыхал небось, Тохтамыш[60] в Золотой Орде зашевелился. Быстро степняки Куликово поле забывать стали. А ты меня с Рязанью стравливаешь...
Степан хотел было сказать, что понимает и винится. Если бы государь знал, что толкнуло его на это! Но тут вспомнились слова Нечая о непризнании вины, и он сказал, не утверждая, а как бы вопрошая:
— Оболгали меня, государь, да?
Великий князь словно ждал этого и ответил, сразу посветлев лицом:
— Оболгали, говоришь? Оболгать у нас могут, это так. Особливо тех, кто в милости растёт. — Слово «оболгали» прозвучало уверенно. — Но вот беда — я-то тебе поверю, что оболгали, ты со мной конь о конь в двух битвах бился, а вот посланец владыки Василия, что из Рязани приехал, поверит ли? — Князь вздохнул сокрушённо и продолжил всё так же доверительно: — Придётся мне тебя на дыбе вздёрнуть. Перед очами архимандрита. Так что не обессудь. — И заботливо спросил, заглядывая в глаза: — Выдержишь дыбу-то?
— Выдержу, Дмитрий Иванович, — твёрдо ответил Степан.
— Вот и ладно. — Великий князь повернулся к Нечаю, хотел что-то сказать, но в этот момент на лестнице послышались шаги, тяжёлое дыхание, и в подвал вошёл архимандрит во всём блеске парадного облачения. За ним двое монахов, воин с факелом, ещё кто-то. Архимандрит благословил великого князя, монахи мелко закрестились, кланяясь, воин остался у входа.
— Садись, святой отец, в ногах правды нет. Беседа у нас, по всему выходит, будет долгая... — Обернувшись к Степану, великий князь сказал раздельно, чётко, словно диктуя: — Привёз отец архимандрит жалобу владыки рязанского. И жалобу ту митрополит поддерживает. Мол, дескать, налетел ты ночным татем на Спас-Никитскую женскую обитель, нарушил святость её стен. Аки пёс поганый, похитил сестру Евпраксию, в миру Елену, увёз и жил с нею в блуде, скрывая в деревеньке своей. Верно ли я излагаю дело? — спросил Дмитрий Иванович архимандрита.
— Верно, великий князь. Только слово «дескать», которое ты употребил, больно милостиво к нечестивцу и вину его под сомнение ставит! — ответил архимандрит.
— А я его ещё не осудил, — сказал Дмитрий Иванович жёстко. — И вина его не доказана. Так что пока не подтвердится, что в обвинении владыки всё правда, милость моя на нём!
— Оболгали меня, государь! — воскликнул Степан.
— Вот видишь, святой отец. И сёстры Евпраксии, в миру Елены, в деревеньке его не обнаружили, и следов её не нашли ни мои людишки, ни ваши, монастырские.
«Слава богу! — мысленно возблагодарил Степан Господа. — Хоть здесь проявил ты милость к своему непутёвому рабу». — Он принялся с жаром, давно уже не испытываемым, молиться.
Неожиданно архимандрит подошёл, вперил гневный взор и поднял крючковатый когтистый палец:
— Кто оболгал, владыка? Ты кого обвиняешь, нечестивец? Одумайся, не бери грех на душу.
— То всё слова, отец архимандрит, — прервал Дмитрий Иванович. — Ответь мне, откуда известно, что именно он похитил?
— Свидетель тому есть, великий князь!
— Кто свидетель, батюшка? — подал голос молчавший до сего времени Нечай.
— Церковь хотела бы сохранить сие в тайне, — произнёс архимандрит.
— Никак, на исповеди выпытали, батюшка? — с елеем в голосе спросил Нечай.
— А ты не оскорбляй церкви, человече. Мы бережём не токмо тайну исповеди, но и тайну чистосердечного признания. Человек покаялся во грехе, ранее содеянном, и, каясь, показал на стольника.
— Так мы до сути не дойдём, святой отец, — вмешался Дмитрий Иванович. — Я неведомому грешнику верить не стану.
— Не грешнику, а церкви! — гордо вскинул голову архимандрит.
— Но ведь и церковь ввести в заблуждение можно, — опять встрял в разговор Нечай.
Архимандрит обернулся к старику, как бы признавая наконец его присутствие и право участвовать в споре, и произнёс со сдерживаемой яростью:
— В том порука — слово епископа рязанского!
— Рязань издревле против Москвы шла! — парировал Нечай.
— Церковь на Руси едина!
— Зато княжества на Руси, святой отец, всё боле врозь, чем заодно, — возвысил голос великий князь. — А церковь хотя и едина, но разными людьми возглавлена.
— Русскими людьми, великий князь.
— Да русские ли мы? — вырвалось у Степана. — Если бы так... О том только и мечтаю, чтобы русскими себя мы все осознали. Ныне же — кто тверской, кто новгородский, кто суздальский, а кто и рязанский. Ты, отче, — ты ведь рязанский, а не русский!
Архимандрит пристукнул посохом:
— Слышишь, великий князь? Он не то что грешник и блудодеец. Он смутьян, он над землями, что от века стоят, подняться вознамерился! Не оттого ли ты его покрываешь?
— А не ты ли и такие, как ты, усобицы благословляют? — спросил Дмитрий Иванович.
Архимандрит долго смотрел на великого князя, смиряя гнев, пока наконец не обрёл ровного дыхания. Тогда сказал тихим голосом:
— Кого же тут судят, великий князь? — И, покачав укоризненно головой, вздохнул: — Ты владыке обещал, что с пристрастием допросишь.
Дмитрий Иванович согласно и скорбно кивнул, повернулся к Нечаю, сделал знак. Тот мелкими шажками прошмыгнул в дальний угол, где стоял недвижно палач, что-то шепнул, вернулся, подошёл к Степану и, легонько подтолкнув его в спину сухой ладошкой, сказал ласково:
— Пошли, горемычный...
Палач вздёрнул Степана на дыбу с лёгкостью и проворством, свидетельствующим о немалом опыте. Как ни ждал тот боли, как ни крепился, ни готовился, внушая себе, что сдюжит, а всё ж не сдержал сдавленного стона, когда рвануло, выворачивая суставы, и ударило в лопатки, в голову, в глаза, словно по жилам потекла не кровь, а раскалённая руда.
Архимандрит, услыхав стон, бросил косой взгляд в полумрак застенка, отступил, крестясь и бормоча молитву:
— Блаженны и творящие суд, и хранящие правду во всякое время...
— Невиновен я, оболгали! — крикнул Степан хрипло, и тут же спину ожёг удар кнута.
— Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего его, да будет потомство его на погибель, да изгладится имя его в следующем роде, — постепенно возвышал голос архимандрит.
— Ты что, уже проклинаешь и семя его? — гневно спросил Дмитрий Иванович. — А вина-то ещё не установлена!
— Не виновен я! — встретил Степан криком второй удар кнута.
— Пусть целует крест, что невиновен! — Архимандрит двинулся с поднятым наперсным крестом к дыбе. — Помни, грешник, отсохнут уста твои, ежели солжёшь!
Что-то в благостности архимандритова лица, в явно скрываемом торжестве настораживало Степана, но боль, сотрясавшая всё его мускулистое тело, знавшее раны, но не такое тупое, бессмысленное истязание, притупила, заглушила мелькнувшее недоверие. Он, как ему показалось, крикнул, а на самом деле прохрипел:
— Клянусь на кресте святом... невиновен...
Архимандрит приложил крест к губам Степана, тот поцеловал холодное серебро и только тогда по довольной улыбке на лице монаха понял внезапно, что именно этой клятвы ждал тот, что он, Степан, поторопился вступить в расставленную хитрыми церковниками западню, в которую вместе с ними толкал его, сам того не ведая, и простодушный, далёкий от тонкого лукавства великий князь со своей наивной хитростью. Эти мысли настолько сильно завладели им, что на короткое время ушла куда-то в глубину боль...
— Что же ещё надобно тебе, святой отец? — спросил Дмитрий Иванович.
И тогда, торжествуя, архимандрит возгласил:
— Проклял ты себя, раб божий Степан, погубил свою душу нетленную лжой на кресте, гореть тебе в геенне огненной! — Он обернулся к Нечаю и распорядился: — Вели кликнуть наших, монастырских. Пусть приведут сюда женщину, что с нами явилась.
Нечай взглянул на великого князя. Тот был спокоен, кивнул разрешающе, — видимо, ничего опасного в просьбе привести женщину не усмотрел. На Степана не глядел, а если бы глянул, то прочитал бы на его лице ужас — кого приведут сейчас монахи? Неужели Алёну? Но ведь только сейчас сказал князь Дмитрий Иванович, что не нашли Алёнушку! Неужто монастырские перехватили где-то верного Юшку?
Вернулся Нечай. За ним шла женщина в тёмных одеждах. Степан с трудом поднял голову, вгляделся мутными глазами: это была не Алёна! Сознание снова захлестнула неутихающая боль, нужно было удерживать её, чтобы не вырывалась криком.
— Подойди к дыбе, грешница, — сказал архимандрит. — Повтори, что рассказала владыке.
Женщина словно не слышала. Она, пятясь, с ужасом смотрела на обвисшего на дыбе Степана, на рубцы от кнута на его теле, на неестественно вывернутые руки. И вдруг бросилась к его ногам с воплем:
— Прости, Степанушка, меня, прости! Люблю я тебя. Из-за ревности проклятой донесла. Если можешь, прости... — и зарыдала, охватив колени подвешенного.
Палач оттащил, ругая неразумную бабу:
— Что же ты делаешь, дурища! Мало ему боли, ещё и твою тяжесть терпеть...
От толчка женщина отшатнулась, чёрные волосы выбились из-под платка, упали траурной волной на каменный светлый пол, и было их столько, не заплетённых в косу, что архимандрит закрестился, отводя глаза от соблазна, палач крякнул, а Нечай, вытянув шею, причмокнул губами.
Степан поднял глаза и разлепил губы в горькой усмешке, только сейчас узнав Лукерью. Она лежала простоволосая, опозоренная, молящая и яростная, — и ждала суда его, слова его, взгляда его, хоть и знала, что предала, а всё надеялась.
Горло Степана перехватило тоской, жалостью, поздним раскаянием, сожалением — кто знает, отчего вдруг могут прорваться слёзы у висящего на дыбе?
— Пусть её уведут, — выдохнул он наконец. — Виновен я, великий князь.
Монахи подхватили женщину, уволокли. Она обвисла в их руках, как покойница. Дмитрий Иванович проводил её взглядом, сказал властно:
— Уходите все.
— Как же так, государь, — попытался было возразить архимандрит. — В самый рост допрос вошёл...
Но Дмитрий Иванович перебил:
— Сказано — уходите! А ты, святой отец, допрежь всех! Тебе не страждущим утешение нести, а палачом быть... — Было в его словах столько скрытого гнева, что архимандрит смолчал, попятился к выходу. — Можешь известить рязанского владыку, что бывшего своего стольника Степана за грехи я повелел навечно в темницу каменной кремлёвской башни заточить.
Облегчение и злая радость выразились на лице архимандрита, но тут же сменились постной благостностью. Он вышел чинной поступью пастыря, свершившего трудное, но богоугодное дело.
За ним ушли все, только палач топтался неопределённо перед дыбой.
— Я, что ли, снимать буду? — спросил раздражённо великий князь.
Палач, того только и ждал, снял Степана с дыбы, подхватил на руки, понёс к скамье, закинув на плечо. У скамьи он легко, словно и не весил Степан ничего, несмотря на воинскую стать и видный рост, нагнулся, достал соломы и бросил на доски. Затем бережно уложил недавнюю свою жертву на живот на скамью. Вздохнул шумно, поглядел равнодушно на истерзанную спину, потом на великого князя, сказал:
— Сам видишь, государь, с бережением бил. Без бережения он...
— Уходи.
— Ухожу, государь. — Палач неумело согнулся в поясном поклоне и исчез.
Дмитрий Иванович подошёл к ларю, покопался, достал сулею с бурой маслянистой жидкостью, вернулся к лавке, налил себе в ладонь, прогладил спину Степану легонько, не выпуская сулею, ещё плеснул на ладонь, ещё пригладил, нажимая сильнее, и стал втирать привычным движением, словно чистил коня.
Боль вроде отступила. Степан сел, распрямив плечи, расслабив мышцы, сказал:
— Будя, государь, спаси тя Бог...
— Чего тебе прислать?
— Книг, государь. И главное, ту, что ты мне пожаловал, — «Слово о полу Игоревен.
— Пришлю, — кивнул великий князь. — А пергамена, принадлежностей для письма?
— Полагаешь, я писать здесь смогу? Чтобы петь, свободным быть надо.
— Так зачем же ты признался? — закричал в гневе Дмитрий Иванович. — Я, великий князь, ему лжу придумываю, готов на кривду перед церковью идти, а он, бабу простоволосую увидев, сознается!
— Прости, государь, любил я её.
— А я, думаешь, никогда никого не любил? Полагаешь, всю жизнь на одну богоданную Евдокию-лапушку глядел? Других не замечал? Но я всегда сердце в узде умел держать, потому что знал — надо! Человек, поставленный к власти, в сердце своём не волен. A-а, да что говорить! — Князь стал ходить взад и вперёд, вбивая каблуки в светлый камень пола, отчего пошёл сдержанный гул по всем невидимым в темноте каморам. — Ненадёжные вы люди, книжники и песнетворцы. Пииты, как воевода Боброк вас зовёт... Никогда не знаешь, что от такого, как ты, ждать: подвига или глупости. Смута в сердце, смута в голове, смута в словах. Будто и не князьям вы вовсе служите, а своим мечтам.
— Может, так оно и есть, государь, не князьям, — согласно сказал Степан.
— Вот, вот, не зря мне покойный Бренк говаривал: — не допускай его к делам государевым, службы не поручай. Его, мол, служба одна — славу князю петь. А ты даже и славу не пел.
— Может, и спел бы, да в клетке оказался. А соловей в клетке нем.
Дмитрий Иванович остановился так резко, что короткий плащ завернулся вокруг его плотного, могучего тела.
— Объясни мне, Степан, почему повинился?
— Сам не знаю... — Степан осторожно повёл плечами. — То моё дело.
— У людей, при дворе моём высоко поставленных, своих дел не бывает! — снова вскипел гневом великий князь. — Твой каждый шаг на виду, и люди по тебе о всей власти судят.
— Нет такой власти, чтобы могла между человеком и его любовью встать!
— Даже если эта любовь наперекор самому святому — единению Руси?
Степан застонал и лёг ничком, уткнув голову в скамью.
Великий князь сел рядом, опять начал растирать ему спину маслом из сулеи.
— Мог ли я думать, когда тебя в бою на реке Воже встретил, что мы с тобой здесь будем?
Степан молчал.
— Ты давеча сказал — да русские ли мы? Мол, ты о том только и мыслишь, чтобы русскими мы себя осознали. Ты — мыслишь, я Русь собираю.
— Под Москву?
— Против Орды.
— Мечом?
— Мечом я князей своевольных тщился усовестить.
— Усовестить можно лишь словом.
— А ты это слово сказал?
— Слова исходят из уст, но рождаются в душе.
— А душа твоя где? Там, на Рязанской земле? Сам ты — русский ли? Меж двумя землями, как между двумя бабами, заплутал.
— Разве не за Русь единую я в бою на Куликовом поле кровь пролил?
— В бою кровь пролить и дурак может. Там всё просто: вот враг — рази! Мудрость души не боем, но миром проверяется. Прости, Степан, но я, как государь, миловать тебя не волен! — Дмитрий Иванович ещё раз провёл рукой по спине Степана, встал и не оглядываясь пошёл к выходу. — Не понимаю я тебя.
— А я что, себя понимаю? — тихо произнёс Степан ему вслед. — Какой человек может сказать, что себя понял, до самого донышка исчерпал и взвесил? Человек бездонен,если он человек!
Но Дмитрия уже не было в подвале. Степан закончил, убеждая скорее себя, нежели князя:
— Если я перестану Рязань любить, я от того больше русским, чем есть, не стану. Да и не рождаются русскими, а становятся в муках душевных. А на реке Воже всё и вправду было просто да ясно.
Он зажмурил глаза, и ему почудились хрипы коней, вопли ордынцев, свист стрел так явственно, что даже ощутился запах крови, смешанный с запахом конского пота и влажного железа, — так пахнет битва.
Он открыл глаза, и видения отступили, затихли, только звенело в ушах от немыслимой тишины подвала.
— Господи, как в могиле. — Степан застучал кулаком по лавке. В плечах и в спине тут же взорвалась боль, будто от удара ордынского копья, когда заслонил он собой Дмитрия Ивановича в давнем бою.
Грохнула кованая дверь. Послышались шаги, вошёл Нечай. В одной руке он держал факел, в другой чистую тряпицу. Подойдя к скамье, присел на край и спросил с неожиданной заботой:
— Болит?
— Отпускает.
Нечай покивал, мол, так оно и должно быть, встал, прошаркал к ларю, достал давешнюю сулею с бурой жидкостью, налил на тряпицу, вернулся, всмотрелся в багровые, вспухшие рубцы, покачал головой и приложил тряпицу. Спину приятно захолодило.
— Вот же, аспид, рожа богомерзкая, заплечный умелец, обещал полегоньку. Ан нет, не может он полегоньку, так хлещет, что небось и душу выхлестал. На месте душа-то?
— Вроде на месте.
— О чём задумался, стольник?
— Да вот воспоминаю...
Нечай засопел, укрыл Степана и сказал горестно:
— Поначалу все вспоминают. Потом думать начинают. Иные от этих дум головой об стенку бьются.
Обрадовавшись, что старик разговорился, Степан спросил:
— Никто обо мне не спрашивал?
— А хоть бы и спрашивал, я бы тебе не сказал.
— Почему?
— Потому как у нас тут тайное узилище, — с гордостью и значительностью ответствовал старик.
— Такое уж и тайное, — вдруг озлился Степан. — Я в этом вашем тайном месте бывал.
— Ишь ты, — недоверчиво протянул Нечай.
— Бывал! — с вызовом повторил Степан и даже приподнялся на локте.
— Когда же?
— Когда хотел! И уйду, когда захочу!
Нечай обидно захихикал:
— Чего же не захотел-то ещё? Лежишь, страдаешь.
— Потому что вина на мне, и должен я её страданием искупить!
— Как я погляжу, тебя тут в темноте совсем повело, человече, — сказал старик и убрёл наверх, грохнув дверью.
Степан закрыл глаза, пытаясь успокоиться. Дремота обволакивала, притупляя и злость, и боль, и мысли. Время тягучим потоком уплывало, и невмоготу было ни просчитать его, ни определить...
Звякнул ключ. Вошёл вновь Нечай, неся что-то тяжёлое. Бросил у ларя, зашаркал к скамье, склонился над Степаном:
— Не замёрз?
Степан облизал запёкшиеся губы и ничего не ответил.
— Слышь, стольник? Не замёрз?
Степан промычал что-то вроде «Не-е...».
— Вот и слава богу. Задержался я там, наверху-то. Дела обступают так, что и вздохнуть некогда.
Нечай стал развязывать принесённый узел, продолжая говорить: — Великий князь Дмитрий Иванович тулупчик велел тебе принести. Заботится о тебе великий князь-то, боится, что замёрзнешь, заболеешь, преставишься раньше сроку и всей чаши наказания, тебе предназначенного, не изопьёшь.
— А книги? Обещал великий князь книги.
— Тулупчик вот, чтобы тело согреть, прислал, а книг, душу согревать, нету, не прислал. Так-то, Степанушко. — Нечай бросил тулуп на лавку. Остро пахнуло новой, невыветрившейся овчиной.
— Ты напомни, скажи князю.
— Великому князю, великому, — поправил Нечай. — Только, думаешь, я его вижу-то, великого князя? Это вы, ближние, с государями разговариваете.
Просите, напоминаете, молите. А мне и тут тихо, покойно, ничто не терзает. Мне при моём убожестве княжья милость — что золотая серьга свинье в ухо. Так-то... — Нечай подождал, может, ответит что Степан, не дождавшись, извлёк из узла светильник, снял факел, поджёг крохотный фитилёк, а факел затоптал, отчего из всех углов подвала прыгнули тени. Поглядел на лежащего и молча ушёл...
Боль в спине не проходила, но стала привычной, терпимой. Степан задумался, вспоминая давние времена. И теперь, спустя столько лет после победы над татарами и на реке Боже, и на Куликовом поле, удивлялся он тому, как непрочны связи русских друг с другом, с какой готовностью иной раз идут не только дружины, но и ополченья на соседей, проливая братскую кровь.
Он поднялся с лавки, подошёл к ларю, поболтал корчагу — квас кончился. Пить хотелось непрерывно, наверное сохло во рту от сухости в подвале. Степан провёл рукой по кирпичной кладке стены. Где-то здесь прочно залёг тот самый кирпич, на котором мастер вывел первые буквы своего имени. Найти бы его. Только зачем? Степан побрёл обратно к лавке, лёг.
Опять звякнул ключ. В дверь боком протиснулся Нечай, неся охапку свежей соломы.
— Ночью-то два светильника не жги, — ворчливо сказал он.
— А когда ночь, думаешь, я знаю?
— Вот сейчас и будет.
— Мне бы квасу или воды.
— В другой раз принесу, когда утро будет.
Старик ушёл. Дверь закрылась...
И вновь волна воспоминаний нахлынула на Степана. Он не пытался ни сдержать её, ни прогнать. Прав был Нечай — что ещё делать узнику в своём глухом одиночестве, как не вспоминать. Только мысль об Алёне была невыносима, и как ни старался Степан не ворошить всё, что было с ней связано, образ всё чаще и настойчивее возникал так зримо, что хотелось кричать: «Прости, прости, если можешь!» Что с ней сейчас, как живёт, одинокая и беззащитная, отринутая от семьи и предоставленная лишь заботам Юшки, пусть верного, надёжного, изворотливого человека, но тоже лишь человека, с которым в любое время может случиться всё что угодно? Что будет с ней, так опрометчиво и безрассудно; против её воли вырванной им, Степаном, из спасительной тиши монастыря и брошенной в чужой московский мир? Ведь в глазах церкви и людей и в Рязани, и в Москве она безбожница, погрязшая в грехах.
Да, был виноват он перед Алёнкой всю свою жизнь, даже когда мчался к ней из походов. Он нёс на себе вину и грех, а она, ни о чём не ведая, любила только его и ушла в монастырь, чтобы не принадлежать другому. Почему всем, кто его любил, он приносил одни несчастья? Что за проклятье на нём?..
Постепенно перестала ныть иссечённая кнутом спина, и Степан заснул. Перед глазами почему-то возникали недостроенные стены московского кремля, они с Юшкой сидят на Пожаре, площади перед главными воротами. Он поёт, а Юшка играет на дудочке, и зеваки кидают им, как собакам, куски...
Проснулся он от тишины. Лежал долго, не шевелясь, вглядывался в нависшие своды подвала. Там, наверху, смутно виднелся в слабом свете коптилки правильный узор, образованный светлым раствором, связующим кирпичи в единое целое, в монолит. Слово было чужое, он несколько раз повторил его про себя, покрутил в голове так и эдак, вспоминая, в какой книге встретилось оно, и размышляя, почему неведомый переводчик оставил это слово — или не нашёл соответствия в русском языке, или почувствовал, что приживётся оно в чужой речи. Монолит. Единокамень, однотвердь, цельнотвердь. Господи, о чём он думает, какие слова, зачем ему это нужно! Он здесь, в узилище, где день тянется бесконечно, словно вечность, где всё вперемешку — и страшная с дыбой явь, и полубредовые воспоминания о прошлом, об Алёне, Юшке.
Степан закрыл глаза в надежде снова заснуть или хотя бы забыться, но, вопреки тихим, скорбным и нежным мыслям об Алёне, перед глазами возникла Лукерья, распростёртая на полу у его ног, простоволосая, молящая о прощении... А ещё в самом дальнем уголке сознания почему-то билась невесть откуда пришедшая строка: «Как на Воже-реке притрепали татар...» Эту строку когда-то он отверг, сказав Юшке: «Не задалась песня». Степан гнал её, сердился на себя, понимая, что просыпается в нём неуместный в подвале песенный дар, не хотел и... хотел этого. Чтобы отвлечься, встал, поправил фитиль, а строчка не подчинялась, она уже дарила в голове, нахально вытанцовывая нечто бесшабашно-плясовое, скоморошье, великому бою не соответствующее: «Как на Воже-реке притрепали татар...» Почему, откуда возникали эти танцующие строки, почему сами выстраивались слова? Звучали в лад ударам сердца или цокоту конских копыт? Та-та, та-та, та-та, та-та, та-та, та-та... Можно было продолжать до бесконечности, но куда-то исчезла мысль, запутавшись в перестуке слогов. Да и нужна ли мысль? Ведь она, поплутав по воспоминаниям об Алёне и Лукерье, всё одно приведёт сюда, в узилище, к Москве и её владыке Дмитрию Ивановичу, которого он и уважал, и ненавидел одновременно, как первопричину всех своих бед...
Словно для того, чтобы напомнить, что здесь трудно отгородиться от московского, загремел засов. Скрипнула дверь, ворвался свет факела. Появился всё тот же Нечай. За спиной у него горбился большой холщовый узел. Старик ступал тяжело и, сбросив узел у ларя, надсадно вздохнул.
— Ещё не бьёшься головой о стенку, страдалец? — спросил вместо приветствия;
— Что на воле — утро, день? — не ответил Степан.
— Кому утро, а кому день. Тебе-то зачем? Тут всегда одно — сумерки. И для глаз, и для души.
— Затем, чтобы знать, как с тобой здороваться, старый ворчун, — доброе утро либо добрый день.
— Добрый день? Он лишь на том свете будет добрым.
Нечай развязал принесённый узел, извлёк полкраюхи ржаного хлеба, десяток распаренных реп, луковиц. Нырнув в ларь, вытащил глиняную миску, бросил в неё репу и лук, отставил и стал доставать из узла книги.
Степан, вытянув шею, вглядывался.
— Вот, не забывает, однако, тебя великий князь. Прислал не токмо брашно[61] и книги, но и ещё кое-что.
Нечай показал Степану берестяной короб, открыл, вынул пергаменные листы, пучок заточенных перьев и разложил всё, словно торговец на базаре. Степан вскочил, схватил пергамен, стал неистово совать в руки Нечаю.
— Унеси, унеси! Сказал же я князю, что не писать мне здесь! — повторял с непонятной самому себе злостью, а в голове стучало: «Как на Воже-реке...»
— Не велено, — попятился Нечай, пряча руки за спину, — не могу я нарушить княжеское слово.
Степан швырнул листы на пол и стал топтать их, приговаривая:
— Змий лукавый, змий соблазный, змий ползучий...
Так же неожиданно, как появилась, злость утихла. Он побрёл к своей лавке, нагнулся, поднял тулуп, набросил и сел, шурша соломой.
Нечай собрал пергамен, приговаривая:
— Чего добро-то зря портить? Небось телёночек когда-то по травке бегал, брыкался от полноты жизни, матку сосал. Первыми рожками-пупырышками с другими телятками бодался, а его промеж этих рожек — хрясь! Мясо в щи, ножки на холодное, а кожу дубили умельцы, скоблили, тянули, белили, чтобы она, став пергаменом, мудрое слово на себя приняла и тем самым телёночка-то, несмышлёныша невинного, бессмертным сделала. А ты — пятой давишь.
— Изыди, сатана, — вяло сказал Степан.
— Сатана в тебе, а во мне кротость, — ответил Нечай примирительно и пошёл к двери.
Степан хотел спросить старика, как часто тот будет приходить, но помешала гордость. Он дождался, пока лязгнул засов с той стороны двери, встал, подошёл к ларю. Потянулся было к книгам, но сдержал себя, сел есть. Репа была ещё тёплой, луку Нечай принёс изобильно, вода оказалась тут же, в корчажке, и была на диво вкусной. Степан спохватился, лишь когда в миске ничего не осталось.
«Кто его знает, на весь день это или нет», — он отложил мягкий, духовитый хлеб в сторону. Но не удержался, отломил корочку, прожевал и потянулся наконец за книгами. Псалтирь, «Изборник» Святослава Черниговского, «Изборник» Ярослава Владимирского. А вот и книжечка в четверть листа, не одетая в переплёт... Он взял её и, не глядя, произнёс на память строки:
«Не лепо ли ны бяшетъ, братие, Начати старыми словесы Трудных повестей о полку Игореве, Игоря Святославича? Начати же ся тъи песни По былинам сего времени, А не по замышлению Бояню!»Потом раскрыл книгу, проверил себя — память удержала всё слово в слово. Ещё в самый первый раз, читая повесть, он поразился, с какой страстностью, с каким задором неведомый Певец утверждает своё право идти в песнетворчестве не торными путями, отказывается от канонов, установленных другими, даже такими прославленными, как вещий Боян...
Степан задумался: а как сказал бы он сам всё это сегодня, нынешним языком? Слова с трудом отыскивались, устанавливаясь в стройный ряд:
Нет, не ладно было бы, братья, Начинать нам петь по-старинному О походе трудном Игоря, Игоря Святославича! Мы начнём эту песнь Как бывальщину По событиям сего времени, А не следуя ладу Боянову...Последняя строчка никак не задавалась. Он менял её в мыслях по-всякому, потом отбросил на время и принялся перелистывать книгу. Оказалось, многие места он помнил наизусть, хотя и читал «Слово», кажется, сотню лет назад, ещё в той, счастливой жизни...
Глава тридцать девятая
До Твери беглецы добирались целых десять дней. Опасаясь погони, Юшка избегал больших дорог и выспрашивал в деревнях, можно ли проехать лесом.
Выпал первый снежок, растаял, дороги развезло. Ночевать просились в избы, но людей пугал замызганный вид трёх мужиков, неизвестно откуда взявшихся и куда следующих. Так что кормить — кормили, а ночевать не оставляли. Надо было Алёне и Пригоде переодеться в женское платье, но Юшка не велел, полагал, что ещё не так далеко ушли, могут опознать.
Только когда добрались до Твери, увидели монастырь, вздохнули с облегчением и споро переоделись.
Устроились на монастырском подворье — попарились, поели и два дня проспали беспробудно.
Добрая стряпуха, баба необъятных размеров, вечно что-то жующая, окружённая кучей своих и чужих детишек, забавно окающая, с охотой приняла их под своё покровительство.
Пригода и Юшка лихо уплетали вкусную стряпню, дивясь на Алёну, которая, едва дотронувшись до еды, сразу же отворачивалась, говоря, что сыта и есть вовсе не хочет. Стряпуха поначалу обижалась, но когда на третий день за ужином Алёну чуть не наизнанку вывернуло, сразу смекнула:
— Да ты, девка, в тяжести!..
Степан потерял счёт дням. Сколько он был уже в проклятом узилище — неделю, месяц? — как ни силился, не мог определить. Мерой пребывания были лишь приходы и уходы Нечая, звяканье ключа, стук дверей. Вот и сейчас дверь открылась, вошёл старик с коробом в руках и факелом. Зыбкий свет играл на его лице, тени кривили губы, словно в улыбке. А может быть, и впрямь усмехался?
— Сладко почивать изволил, стольник. Зачитался вчера, видать? — Нечай просеменил к ларю, поставил короб, стал неторопливо разгружать. — Ну и слава богу, коли так. Отошло сердце, выходит. Ко всему привыкают людишки. На воле уж утро, а ты, сердешный, спишь, аки дите малое, невинное. Что читал-то?
— «Слово о полку Игореве». Слыхал?
— Нет, батюшка. Я всё больше пытошные листы читаю. Поучительно, хотя и кроваво. — Нечай извлёк из короба узел с чем-то жирным, баклажку с мёдом, две чарки, каравай ситного хлеба.
Степан удивился:
— Дмитрий Иванович прислал? — Он поднялся, подошёл к дыбе, где висел у стены утконосый рукомойник, ополоснулся, вернулся, утираясь рукавом.
— Нет, не великий князь. От него тебе краюха хлеба положена, а это умолила взять одна красавица, упросила. Не устоял я, грешный...
— Какая? — перебил вопросом Степан. — Светленькая, беленькая, с нею воин?
— Нет, одна была. Бойка, настырна, черноока да соблазнительна, такой воин в спутники не нужон.
— Унеси! — приказал Степан, отворачиваясь.
— Ась? — спросил Нечай недоумённо.
— Унеси, сказал!
— Да ты взгляни на гуся. — Нечай развязал узел. — Будто в золотом жирке выкупан. С любовью жарен. Разве такое унесёшь? Не в силах я, стольник.
— Почему? — Степан проглотил набежавшую от вида гуся слюну.
— Поклялся, — умильно глядя на птицу, ответил Нечай.
— Кому, в чём?
— Да этой, настырной. Поклялся, что съешь ты. И мне, грешному, поднесёшь. — Нечай кивнул на баклажку. — Ты только погляди! — Старик с хрустом выломал крыло гуся, повертел перед глазами, словно выбирая, куда вонзить зубы.
Степан ещё раз сглотнул слюну, тяжело вздохнул и обречённо сказал:
— Садись, деда.
Нечай проворно сел, извлёк откуда-то нож, умело разрезал гуся на несколько частей, откромсал пару ломтей от хлебного каравая. Степан тем временем налил из баклажки в обе чарки выдержанный до густоты хмельной мёд.
Выпили. Крякнули одновременно. Взяли по куску гуся, пачкая бороды и усы, вонзились зубами поглубже, откусили, пожевали, проглотили и откинулись блаженно.
— Чем эта черноокая тебе не угодила? — спросил Нечай.
— Предала, — ответил, жуя, Степан. — Выдала.
— Так ведь не тебя выдала — разлучницу. Иль я при допросе что-то не так записал в пытошный лист? — Старик налил ещё мёду, по второй чарке выпили уже не торопясь. — Имея слабости, и в других надобно их прощать.
— Не слабость она, а проклятие, мне посланное за мою слабость! — вздохнул Степан.
— А это всё едино. Греки говорят — рок, римляне — фатум, славяне — судьба. Мы вот гуся едим и ношу своей совести на Господа сбрасываем, а сбросив, молимся ему же... — Нечай потряс баклажку, прикидывая, много ли в ней ещё осталось, налил по третьей. — Крепок мёд у черноокой.
— Ты ешь, отец. — Степан подвинул к старику гусиную ножку.
— Да нет, идти надобно. А то ведь русский человек под хмельком и до петухов проговорит.
— Вот и поговорим. Куда тебе спешить?
— Спешить вроде некуда. Великий князь, бывает, по полгода меня не призывает. Нет у него любви к нашему делу, нет и людишек, кроме меня, к этому приставленных.
— А палач? — Степан вспомнил противный, липкий страх, испытанный им в первый день.
— Кат есть. Как на Руси без ката — батогов кому дать, кнутом ободрать для порядку. Добрый кат. Работает, дело делает, а не зверствует. Хотя рука тяжёлая. Так то от Бога, силой не обижен. — Неожиданно Нечай вернулся к тому, что его, видимо, волновало. — Где ты её сыскал, такую черноокую да настырную?
— Где? — Степан разлил мёд до конца и, не дожидаясь Нечая, выпил свою чарку. — Рок, фатум, как ты сказал. Судьба нас свела. — Степан сел поудобнее, подвинул светильник, опёрся локтями о ларь и, глядя на трепетное пламя, стал медленно рассказывать: — Повелел Олег Иванович, князь рязанский, заточить меня в монастырь за мою службишку. Что да как — говорить тебе не стану, к делу сие не касаемо...
Нечай слушал.
— Полагал князь-милостивец, что буду я там о своей вине думать, грехи замаливать, — пояснил Степан в ответ на вопрс1сительный взгляд старика. — Только ведь, отец, в узилище оно как — не о своей вине думаешь, а о княжеской немилости. Так?
Степан смолк, потому что эти слова внезапно приоткрыли причину необъяснимой для самого себя обиды на Дмитрия Ивановича.
— Что замолчал? — спросил Нечай.
— Узнал я от меченоши своего, что объявился на Рязани некий Пажин-Харя, бывший сотник на службе у Дмитрия Московского. Он оболгал меня перед Олегом Ивановичем. А тот, не подумавши, лжи поверил и на него мои земли отписал. Так мне это обидным показалось, что велел я Юшке, меченоше и названому брату, все мои пожитки и достатки в золото обратить и в назначенный день с заводными конями у монастыря появиться. — Степан и не заметил, как, подобно песнетворцам древности, уклонился от строгой, нелестной для себя истины. — Не много сохранилось у меня от щедрот Олега Ивановича, наг и сир покинул я родную Рязанскую землю. И сам не ведаю — разум или эта вот книга, Дмитрием Московским подаренная, — он указал на лежащее на лавке «Слово о полку Игореве», — или судьба привела меня в Москву...
— А дальше что было?
— А дальше банька была в Пажиновке с Лукерьей.
— С этой черноокой?
— Ну да, с ней... — тяжело и горестно вздохнул Степан. — Вышел я из баньки трезвый и тихий. Юшка-меченоша сидел на крыльце да на дудочке наигрывал. Поглядел я на него, а он не то чтобы морду воротит, но так, уклончиво в сторону смотрит. «Судишь меня?» — спросил его. «Кто я таков, чтобы судить». Не вытерпел я, крикнул: «Не в силах я больше одной памятью жить, Юшка, понимаешь, не в силах! Человек я!» И тогда, старик, хочешь верь, хочешь нет, — было мне видение. Будто прошелестело нечто за спиной — и возникла на крыльце моя Алёна.
Нечай даже придвинулся:
— Ну?
— Точь-в-точь такая, как я её последний раз видел в саду у батюшки. Глядит на меня и хочет будто в дом войти, а дверь никак не открывается. Тогда говорит: «Человек, если он настоящий, может и памятью жить». Ну, прямо как ты мне вчера сказал. Поторкалась в дверь и исчезла. А Юшка, гляжу, на меня во все глаза смотрит да крестится. Я тогда не понял, а теперь уразумел: не пустила её Лукерья в мою жизнь, себе на радость, мне на горе. Не внял я тогда видению. Это я вот тут мудрым стал, понял...
Степан поднялся и начал ходить по подвалу, круто поворачивая у столба, подпирающего свод.
— В любой жизни есть радость и горе, добро и зло. Из них жизнь и память человеческая сотканы. Для меня радость всегда злом оборачивалась.
Нечай горестно вздохнул, сочувствуя, поднял баклажку, поболтал — пусто. Поставил, опять вздохнул:
— Злее зла только зло.
Степан, не отвечая, метался по подвалу. Нечай краем глаза поглядывал. Выждал немного, потом полез в ларь, достал принесённый давеча пергамен, взглянул на девственные в своей нетронутости листы. Один упал с шорохом. Степан резко остановился.
— Ну что ты там роешься, вынюхиваешь? Думаешь, я здесь писать стану? Не кивай головой — не стану! Убирайся!
— Убираюсь, милостивец, убираюсь, страдалец.
Нечай засеменил к выходу, прихватив по пути факел. У двери обернулся и метнул ядовитую стрелу:
— Что же ты, стольник, только с черноокой великому князю служил? В баньке? Хе-хе...
Степан кинул в старика баклажкой, но тут успел скрыться. Баклажка стукнулась о стенку, упала на каменный полк и разбилась.
— Врёшь ты всё, старик, служил я! Получше иных московских! — крикнул Степан, но в ответ донёсся лязг засова. Наступила тишина.
Степан подскочил, сбросил злобно с лавки «Слово» — всё с него началось. Так почему же он попросил у Дмитрия Ивановича после дыбы прислать именно его? Возненавидеть бы повесть, а он читает и восхищается...
Была в ней какая-то дьявольская сила. В чём она, в красоте слога или в возвышенности мысли? Или все вместе?
Степан поднял книгу, погладил пергамен, ощутив рукой его живое тепло. В голове после выпитого мёда немного шумело, мысли прыгали. Вдруг вспомнилось, как однажды Дмитрий Иванович мимоходом спросил, правда ли, что он оставил у себя пажин-харинскую ключницу. Он смутился тогда, пробормотал что-то несуразное, а великий князь усмехнулся: «Дело житейское...»
Вот именно, что житейское. Степан поковырял остатки гуся, взял закрылочек, обсосал смачно, налил из бадейки в чарку, выпил, с удивлением обнаружив, что в бадейке оказался квас — и когда это Нечай успел принести? Побрёл к лавке, лёг на тулуп и провалился в сон.
Спал без сновидений, ни тулуп не сполз, ни солома не рассыпалась. Колодой спал.
Проснулся внезапно, будто спал не в подвале, а в боевом походе, когда даже самый крепкий сон слетает в мановение ока. Встал, подошёл к ларю, открыл, достал несколько листов пергамена, положил перед собой. Взгляд упал на свернувшийся в трубку лист, который рассматривал Нечай. Он всё ещё валялся на полу. Степан поднял, распрямил, отряхнул, в голове уже звучали слова, словно кто-то невидимый говорил:
От Калкской битвы До Мамаева побоища Сто шестьдесят лет...Степан захлопнул ларь — и голос умолк. Опять стало тихо, как в могиле. Он взял «Слово о полку Игореве», открыл. Знакомые, наизусть выученные строки поплыли перед глазами. Некоторые древние слова он не понимал, да и переписчик московский, видимо, плохо разбирал, что пишет, потому местами вдруг исчезал смысл, но в целом строки катились чеканно, как русские пешцы в наступлении на врага:
Были вечи Трояни, минули лета Ярославля, Были плеци Ольговы Ольга Святославличя. Тъи бо Олег мечем крамолу коваше И стрелы по земле сеяше...Степан опустил книгу, задумался.
А не насвоевольничал ли здесь переписчик? Московский или тот, кто до него переписывал, — мало ли их за двести лет было? Если бы сам Степан складывал эту песнь, он бы начал так: «Были века Трояновы, минули годы Ярославовы, были войны Олеговы, чёрные войны усобные — ведь тот Олег мечом крамолу ковал, стрелами землю засевал...» Это именно запев. А вот после запева, сказанного старинными словами, по старинным преданиям, будет понятна и необходима запальчивость певца: «Не лепо ли ны бяшетъ, братие!» И дальше — призыв петь по былям сего времени, а не по замышлению Бонна. Ведь Бонн обычно умом воспарял и пел возвышенно, отрываясь певческой — греки сказали бы, поизической — мыслью от грешной земли, взбираясь по мысленному древу к небесам, чтобы воспарить над обыденностью событий. А надо петь правду, как было, как есть. И рассказ о битве Игоря со степняками он, Степан, не стал бы прерывать в одном из самых напряжённых мест, там, где Игорю нужно идти на помощь брату Всеволоду...
Чем больше думал обо всём этом Степан, тем сильнее крепла в нём уверенность, что кто-то ненароком перекроил повесть. На самом деле именно так, как представлялось ему, замышлял и складывал свой сказ неизвестный певец, отдалённый двумя веками. А изменения произошли по вине переписчиков, невнимательных и не очень грамотных. Ведь появился же в повести какой-то таинственный Соломон. «О Русь, уже за Соломоном ты есть» — что это?
Степану захотелось сесть и переписать «Слово» или хотя бы начало его по-новому. Он улыбнулся сам себе и вспомнил подходящие к случаю строки из «Слова»: «Спала на ум его похоти!» Как верно — похоть разум застила, заслонила.
Он открыл склянку с чернилами, подумал и стал писать зачин... но не «Слова», хотя книжка лежала перед ним. Чего-то иного, ему самому ещё неведомого, что ещё не набрало поэтической силы, оставалось лишь наброском будущей песни, но в чём уже начинал прорезываться мерный перезвон слогов:
Великий князь Дмитрий Иванович Со своим братом Владимиром Андреевичем И со всеми воеводами Пировали у Микулы Васильевича, И сказал Дмитрий Иванович: — Ведомо нам, братие, Что у быстрого Дона Пришёл царь Мамай на Святую Русь И идёт к нам в Залесскую землю... Если мысленно мы пойдём в полуношную страну, Где удел Ноева сына Афета, Прародителя всех русичей, И взойдём на горы Киевские, То увидим славную Днепр-реку И всю красную землю Русскую. А затем бросим взгляд на земли восточные, Где лежит удел Ноева сына Сима: Там расселись хиновцы проклятые, Басурмане, татары поганые...Степан перечитал написанное и опять, как прежде, когда возвращался с битвы на реке Воже и завёл песню, почувствовал, что не задаётся она, не может он ни следовать за событиями, как хотел неизвестный певец, ни, по завету Бояна, взлететь в синее небо сизым орлом. Может, потому, что не отошло ещё всё пережитое достаточно далеко в прошлое и события не стали гишторией? А может, и потому, что не происходило ничего ныне на Руси без участия Дмитрия Ивановича, а его имя никак не шло с кончика хорошо заточенного гусиного пера?
Степан опустил голову на сцепленные руки и стал в который раз вспоминать, не торопя свою память...
Так почему же он всё время словно спотыкается, когда садится писать о московском князе? Почему каждый раз, как перо доходит до его имени, рука застывает, повисает в воздухе и не идёт песня, замерзают слова, капают строки скучными перечислениями, теряя песенный размер? Неужто только потому, что сидит он, Степан, здесь, в подвале, по приказу Дмитрия, хотя и за дело, по своей вине? Не глупо ли, не смешно ли? Только ведь песне не прикажешь!
Словно в подтверждение того, что песня прихотлива, ни разуму, ни приказу не подвластна, его вновь потянуло к перу, к пергамену.
А уж дуют с моря ветры жестокие, Надвигаются тучи ненастные, Полыхают зори кровавые, И трепещут в них синие молнии... Заскрипели телеги за Доном, То татары идут в землю Русскую! Набежали серыми волками, Воют стаями у реки у Мечи. То не серые волки, то поганые, Что войной идут в землю Русскую! Вот гогочут дикие гуси, Бьют крылами белые лебеди. То не гуси гогочут, не лебеди Расплескались белыми крыльями, То бедой Мамай По Руси идёт! В поле вороны грают, Галки каркают, Орлы клекочут, Лисицы брешут, Кости чуют! Жены русские плачут аркуючи Во Рязани на городской стене...Степан остановился.
Почему в Рязани? Откуда вырвалось это слово? Из каких глубин! И будто наяву возникла рядом с ним Лукерья, заговорила жарко, так, что её горячее дыхание защекотало щёку:
— Забудь, нет её, Рязани, нет!.. И откуда ты взялся такой на мою беду?
— Так-то уж и на беду?
— Беда ты моя радостная!
— А Пажин?
— Желанный ты мой, ревнуешь, значит? А ревнуешь — выходит, любишь!
И тут же рядом с Лукерьей возникла Алёна.
— Меня ты никогда не ревновал, — прошелестел её тихий голос.
— Не ревновал.
— Потому что не любил, как меня, — ответила Алёне Лукерья, гордо выпрямившись. — Да нешто можно бабью любовь с девичьими охами сравнивать?
— А ты и вправду черноока и чернокудра, колдунья, Берендеиха, — грустно сказала Алёна.
— Женщин нашего рода не забывают...
Звякнул засов, заскрипела дверь, в подвал ворвалась прямая, как меч, полоса света. Вошёл Нечай с едой.
«Вот и ещё день прошёл?» Степан стал торопливо запихивать исписанные листы в ларь. Едва ли мог он и себе объяснить, почему не хотелось, чтобы узнал хитрый старик о его писаниях. Но тот на сей раз любопытства не проявил, не спеша прошёл к столбу, вставил факел — за это время Степан успел все листы упрятать, — только потом подошёл к ларю, сел рядышком и поставил узел с едой перед собой.
— Вспоминаешь?
— Странная вещь — память, — задумчиво сказал Степан. — Важное вперемешку с пустым в голову лезет. И не поймёшь, что было пустое, а что важное.
Нечай согласно покивал, развязывая узел.
— Казалось бы, чего проще — забыть, и делу конец. Ан нет, совесть не даёт забыть, помнит.
— Совесть, она как петух, — подхватил Нечай с готовностью. — По утрам спать не даёт. Правда, нынче того петуха всё больше норовят сунуть в котёл, брюхо набить за счёт совести.
— Что-то не уразумел я твоих слов, старик, — не понял Степан.
— А чего тут не понять? Не успели мы на Куликовом поле поганых победить, разогнуть шею, игом проклятым пригнутую, как у иных снова в глазах искательство появилось, в спине гибкость, в словах мёд. Милость князя ловят. Вот уж воистину: Господи, пошли нам князя, а холопами мы ему и сами станем! Зачем же на Куликовом поле кровь русские люди проливали?
— Не смей так говорить! Не ради же корысти.
— А я разве сказал — ради? Я сказал: победив, новое иго для себя ищем, собственное, кровное. Чужое, оно, конечно, нам гордость натирает, а своё нет, ежели к тому же подачкой облегчено... Ты ешь, голубь сизокрылый.
— Подачку?
— Пошто подачку? Ешь то, что тебе, сирому, в узилище властью ввергнутому, эта самая власть давать обязана до скончания живота твоего.
Видно было, что старику хочется поговорить. Однако Степан молча придвинул к себе миску, поворошил ложкой хорошо разваренную жёлтую от масла овсяную кашу, заглянул в каганок — там искрились жирные густые щи...
— Что-то нет у меня охоты.
— А мне, старому, второй раз к тебе спускаться? — заворчал Нечай.
— Оставь, завтра заберёшь...
— Завтра... Дожить ещё надобно до завтра. Чего тебе не по нутру? Щи моя старуха приготовила, содержу тебя как родного. А ты — завтра.
— Яблочка бы принёс как родному, старик. Осень, самая яблочная пора. У нас в Рязани о сю пору...
— У вас в Рязани. — Нечай засмеялся. — Вспомнил! Мучит тебя, не отпускает... Так ведь?
Степан не ответил. Нечай продолжал:
— И сам ты не ведаешь, Алёну ли свою любишь али родину, Рязань.
Опять промолчал Степан. В голове смутно шевелилась какая-то мысль, слова старика отпугивали её, но она не уходила, не исчезала, хотя никак не могла проявиться.
— И за-ради чего ты в бой пошёл на Куликовом поле? — продолжил, ехидно улыбаясь, старик. — За Русь или в надежде Алёну вернуть?
— Совсем ты заврался, старый! — вскинулся Степан. — Уходи! Уходи, змий, не трави душу!
Нечай с готовностью засеменил к двери, бормоча себе под нос, что придёт время, когда узник будет рад любому слову, другим человеком сказанному.
«А ведь в чём-то он прав», — подумал Степан, когда хлопнула дверь. Тогда, в суматохе событий, набегавших одно за другим, в суматохе дел, щедро наваливаемых на него Боброком, он даже и не задумывался, во имя чего идёт на бой. Само собой понималось — во имя Руси. Всей, а значит, и единой. Хотя бы перед лицом Мамая единой.
...Темнота обволакивала, и казалось, что время остановилось. Зато хороводом крутилось в памяти прошлое, даже волчица из далёкого детства вдруг уставилась на него зелёными глазами.
Воспоминания вконец одолели, Степан застонал, словно его вновь вздёрнули на дыбу. Воистину нет ничего страшнее одиночества — оно убивает человека!
«О Господи, сделай так, чтобы пришёл этот нелепый хитрый старик, не дай мне свихнуться...»
Словно в ответ на его мольбы дверь скрипнула, и появился в луче света Нечай.
— Что там? — спросил Степан. — Небось полдень уже?
— Утро, — коротко ответил Нечай, освобождая место на ларе. — Как есть утро.
— А мне не спалось. Думал, полдня прошло, никак не меньше. — И, не дожидаясь ответа или вопроса, Степан принялся торопливо и сбивчиво рассказывать о своих ночных видениях, о тяжких мыслях, о прошлом, что не отпускало, потому что только оно и осталось в жизни.
Старик не перебивал, слушал, глядя куда-то в сторону. Когда Степан умолк, долго ещё беззвучно шевелил губами и качал головой. Потом вздохнул, перевёл взгляд на узника:
— Правду сказал тут намедни великий князь: никогда нельзя с такими, как ты, книжниками да песнетворцами, знать, куда вас повернёт. Что творите, как — даже Бог не ведает.
— Он не так сказал.
— Э-э, всё едино. Главное — смысл верен. — Нечай исподлобья поглядел на Степана. — А ты ведь великого князя оскорбил.
— Чем? Когда?
— Когда промолчал, не растолковал, почему налетел на Рязань.
— Какое же тут оскорбление?
— Сейчас объясню, стольник. Скажи ты, почему Рязань на твой налёт не жаловалась? Почему тебя не в вооружённом набеге обвинила, а всего лишь в похищении монашенки?
— Святые отцы взъярились.
— Будто до тебя монашек из монастырей не крали на Руси! Эх, нелепый ты человек... Ты полагал, что не взволнует Дмитрия Ивановича судьба его соратников. А Рязань понимала: не спустил бы ей великий князь избиение героев Куликова поля. Понимала и молчала о твоём налёте, говорила лишь о том, что ты в монастырь, как лиса в курятник, полез... Нет, не спустил бы им великий князь. Ты его своим недоверием оскорбил!
Степан опустил голову на руки.
— Вот и выходит, что ты сам себя дважды к вечному заключению приговорил. В первый раз, когда в великого князя не поверил, допустил в мыслях, что предаст он боевых друзей, а второй, когда, увидав бабу, вину признал. А тебе великий князь ещё и книги шлёт, и тулупчик для тепла! Хе-хе, жизнь-то штука хитрая... — И, по своему обыкновению не договорив, Нечай ушёл.
Степан сидел неподвижно. Как хорошо, что никто не мог сейчас видеть его лица. Щёки, наверное, пламенем горят от стыда. Действительно, он оскорбил великого князя неверием. Какое-то время Степан не мог отделаться от этой мысли, потом вдруг почувствовал, что впервые за все эти дни вспоминает о Дмитрии с той любовью, с которой думал о нём прежде всего, и что к любви этой примешивается чувство вины, раскаяния и ярости на самого себя. Он поднялся, взял перо, заточил, и — словно весной прорвало половодьем ледяной завал на реке — потекли строки:
Тогда Дмитрий Иванович Вступил в стремя золотое, Взял меч в правую руку И сказал брату Владимиру Андреевичу: «Воеводы у нас крепкие, Дружина испытанная, А кони под нами борзые, А доспехи на нас золочёные, Шлемы черкасские, щиты московские, Сулицы немецкие, кинжалы фряжские. Мечи русские, булатные. А дороги нами разведаны, Мосты возведены, Воины рвутся голову положить За землю родимую! Себе чести добыть, Руси — славу!»Степан писал, и подвал словно наполнился шумом боя: ржали кони, звенели мечи, стонали раненые, призывно кричали воеводы и сотники.
Затрещали копья калёные, Зазвенели доспехи злачёные, Застучали щиты червлёные, Загремели мечи булатные О шеломы хиновские В битве на поле Куликовом, На реке Непрядве за Доном! На рассвете щуры жалобно запели У Коломны, на городской стене; То не щуры жалобно запели, То восплакались жёны, причитаючи: «О, Москва-река быстрая, Зачем унесла ты на своих волнах Мужей наших в поле незнаемое?» Причитали они, приговаривали: «Можешь ты, великий князь, Днепр вёслами перегородить, Дон шеломами вычерпать, Речку Мечу татарскими трупами запрудить! Так замкни, государь, Оку-реку, Чтоб поганые к нам бы не шастали! Уже наши мужья от ратей истружены... Уж и Диво плачет под саблями, Витязи русские изранены...» Тогда нукнул Владимир Андреевич, Поскакал во главе своего полка На поганых ордынцев, Молотя урожай Цепами булатными! Красна земля под копытами — кровью полита. Бела земля под копытами — костьми засеяна, Только кровь-то всё больше татарская, Только кости всё больше — ордынские... Кликнуло Диво по Русской земле, Возвестило славу победную!Листы исписанного пергамена усеяли пол вокруг ларя. Степан писал не разгибаясь. Он вдруг вспомнил, что ни слова не сказал о чернеце Пересвете, может, потому, что, стоя за передовым полком, сам не видел его боя с Челибеем? Он стал вписывать строки о нём, об Ослябе.
Всё медленнее ходила рука по пергамену, с трудом ложились строчки:
А в Рязанской земле запустенье и скорбь: Ни пахари в поле не кличут, Ни пастухи на рожках не гудят, Только вороны грают над трупами, Да деревья к земле горем согнуты... Нету славы Олегу-отступнику!Степан задумался, зачеркнул последнюю строку и стал перечислять убиенных на Куликовом поле, почти не заботясь о песенности этого краткого синодика: Вельяминов, Мелик, Бренк...
...Утром пришёл Нечай. Чадил светильник, десятки исписанных листов пергамена устилали пол. Старик на цыпочках подошёл к ларю, поправил фитиль, поставил узелок с едой. Взял один лист, прочитал и стал торопливо собирать всё, что валялось вокруг и лежало на ларе, опасливо поглядывая на крепко спавшего Степана. Собрав, сунул за пазуху и вышел, заперев засов без обычного стука.
Степан спал и тогда, когда вновь открылась дверь и в подвал вошёл Дмитрий Иванович. За ним семенил Нечай с факелом. Князь сел рядом со спящим. Нечай поставил факел в гнездо и выскользнул за дверь.
Дмитрий Иванович посмотрел на Степана, потом вздохнул и положил тяжёлую ладонь ему на голову:
— Вставай!
Степан поднял голову, повёл глазами вокруг, ничего со сна не соображая, увидел великого князя, но снова опустил голову, закрыл глаза.
— Вставай! — повторил Дмитрий Иванович.
Степан ошалело вскочил, затряс головой. Он огляделся и, не увидев ни одного листа пергамена, хрипло спросил:
— Где они? Упёр этот аспид? Подстерёг?
— Не упёр, а отнёс князю Боброку. Тот прочитал — пришёл ко мне. Я прочитал — к тебе! — Великий князь произнёс медленно, будто читал по написанному: — «Задонщина великого князя московского Дмитрия Ивановича Донского». Хорошо!
— Название — отсебятина Нечаева, — буркнул Степан. — Я не успел надписать. Хотел так: «Слово о полку Дмитриеве, Дмитрия Ивановича, внука Невского, против Мамая поганого на поле Куликовом».
— Вроде как «Слово о полку Игореве»?
— Угу...
— От Слова родилось Слово?
— Получается, так...
— Я это уразумел. А ещё я увидел, что ты, воспевая победу Руси над Ордой, новую славу Москвы с древней славой Киева воедино сплёл и тем самым Москву наследницей Киева поставил. Цены нет твоей повести. Не за то, что меня прославила, а за то, что Москву вровень с Киевом подняла.
Степан, склонив голову, глядел на Дмитрия Ивановича с удивлением.
— Не думал я о том вовсе. Красота Слова меня заворожила, за ним и шёл.
— Одно дело, что ты писал, другое дело, что я, читая, понял. Мысли великие!
Степан недоверчиво ухмыльнулся, но в словах великого князя не было насмешки.
— Ты мне ответь, Степан, почему сам не сказал о написанном?
— Лучше у Нечая спроси, великий князь, как он украл Слово, не дав мне даже перечитать. Да и что бы от этого изменилось?
Дмитрий Иванович медленно встал и ответил, возвышаясь:
— Многое.
— Да? — Степан тоже вскочил и шутовски раскланялся. — Может, отпустил бы меня? Что ж получается, великий князь? Если нужное пишешь, то грешить можно? Молчишь? Ты по навету монахов ратное братство нарушил, меня в узилище вверг, а теперь ради лести и славы простить готов?
— Я ещё не сказал, что простить готов, не лезь поперёк батьки в пекло, стольник. Вспомни, я тебя не винил, а, напротив, сам тебе ложь подстраивал. Это ты повинился. Да что говорить о прошлом... Скажи, как нам ныне поступить?
— Ты государь, ты и решай.
— А ты песнетворец. И думается мне, в мыслях своих куда выше государя себя ставишь.
— Человек я, просто человек!
— Государь — тоже человек. Вот и давай решать вместе — ты да я. Два человека.
Они снова сели рядом и замолчали.
Первым заговорил Степан:
— Что-то не пойму я, великий князь, отчего тебе трудно решение принять?
— Потому что я уже осудил тебя, — ответил Дмитрий Иванович с готовностью, которая показывала, что он думал об этом.
— Ты осудил, ты и помилуй.
— Да будь ты московский боярин, а не стольник из рязанских перемётов, было бы проще казнить или миловать. А ты ещё и песнетворец, Божьим высоким даром взысканный. И поешь мне славу. А слава из уст осуждённого — лесть. Простить тебя сейчас — показать всему миру, как ты сам сказал, что я на лесть падок. И ещё — с церковью поссориться.
— Так не прощай, кто тебя понуждает! — в сердцах бросил Степан.
— Как человек — мог бы, как великий князь — нет. Ибо забыть о твоей песне, закрыть на неё глаза, будто и нету её вовсе, — Москву великой славы лишить.
— Хм... — Степан вздохнул. — А говоришь, как два человека подумаем... Ты ко мне государем пришёл. Вот и думай, как государь.
Потому, что было это истинной правдой, и ещё потому, что сказал эти слова Степан, обидно улыбаясь, великий князь засопел, давя в себе возмущение, готовое вырваться необдуманным поступком, и встал:
— Ну что ты за человек! Что ни слово — то углами выпирает. Никогда нельзя заранее сказать, чего от тебя ждать можно.
— Ты знал, чего ждёшь, когда мне пергамен да перья гусиные с Нечаем посылал, — торжествовал Степан.
Великий князь молчал.
— Что же ты теперь передо мною, сирым и убогим, скоморошествуешь? — И быстро добавил: — Хочешь, чтобы узник в твоём подвале сам свою судьбу решил?
И опять великий князь ничего не ответил.
— Молчишь? Значит, единственный выход, который и тебя, и Москву устроит, — моя смерть?
— Нет! — качнул головой Дмитрий Иванович. — Нет и нет!
— А что же ещё? Не верю я тебе, Дмитрий Иванович. — Степан не заметил, как вдруг легко и свободно обратился к великому князю по имени-отчеству. — Не верю, что ты — и вдруг без готового решения пришёл. Не похоже на тебя, с обликом и всей повадкой не вяжется. Так говори же! Где твоё мужество? Или то, что ты надумал, страшнее смерти?
Дмитрий Иванович взял Степана за плечи и, глядя прямо в глаза, произнёс как заклятие:
— Откажись от своего имени! Встань вровень с певцом «Слова о полку Игоревом» — будь незнаем, но прославляем!
Степан отшатнулся. Руки князя упали с его плеч.
— Как это — отказаться от своего имени? — спросил он в растерянности. — И разве нам ведомо, почему кануло в Лету имя его?
Дмитрий Иванович не ответил, и Степан со стыдом почувствовал, как неуместны и жалки сейчас эти слова, в другое время положившие бы начало долгой и упоительной беседе о прошлом.
— Да, великий князь, ты верно своё решение выше смерти ставишь...
— Имя — ещё не жизнь!
— Для песнетворца?
— Коль тобой написанное другими людьми услышано, оно уже не твоим становится, а всеобщим. Если всей Руси от него польза — ты в своём творении не волен!
— А в чём я волен? — Степан вскочил на ноги. — В любви — не волен! В свободе не волен. В творениях своих, даже прославляющих, — не волен. Теперь получается, что и в имени своём я тоже не волен... Согласен, в жизни своей не волен. Я её тебе ещё на реке Воже вручил. Но имя — нет. Имя потерять — душу утратить. А песнетворцу, коим ты сам меня назвал, — особенно.
Великий князь молча смотрел на Степана, и под этим взглядом он говорил всё тише и тише.
— Ну оставлю я здесь своё имя, и выпустишь ты меня отсюда Иваном, коих на Руси тысячи...
— Нет, не Иваном, стольник, — перебил князь.
— А кем же? — спросил Степан, хотя уже догадался, содрогнулся и воспротивился внутренне, но краешком сознания понял: иного пути нет, а на этом развязываются все узелки. — Монахом?
— Да. Прими постриг. В монастырь я тебя из узилища в любой час могу отпустить, и никто, даже сам митрополит, слова поперёк не скажет. И примешь ты при пострижении имя, к примеру, Софония. И выйдет за монастырские стены в мир песня «Задонщина, писанная старцем Софонием Рязанцем». По всей Руси набатом прогремит, понесёт славу по всему миру!
Степану почудилось, что за спиной князя стоит Алёна. Но не измождённая постами и ночными бдениями, какой он выкрал её из монастыря, а румяная, тугощёкая и златокудрая, из далёких рязанских дней, и говорит ему с едва заметной укоризной:
— А решать, Степанушка, тебе самому. Я любое твоё решение пойму и сердцем приму!
Если он скажет сейчас «да», придётся Алёне возвращаться в монастырь и отмаливать грех счастливых дней в Пажиновке до скончания жизни. И опять станет она потухшей и бесцветной, разучившейся поднимать глаза к небу, солнцу, птицам.
— Были мы уже в монастыре, князь. И я был, и Алёна. Всё едино, что заживо погребены — хоть здесь, хоть там. А уж Алёна... — Он замолчал, представляя, как отыщут её вездесущие монахи, как повезут в рязанский монастырь, и замотал головой, глухо застонав.
— Ну?
— Не нукай, великий князь, не взнуздал ещё, — резко, даже грубо ответил Степан. — Хотя ты всё за меня решил.
— Не решил, а предлагаю. А последнее слово за тобой.
— Да, за мной, за мной! — яростно крикнул Степан. Он рухнул на лавку, и вдруг безумная, шальная, но такая заманчивая мысль сверкнула в его затуманенной отчаянием голове. Он забормотал молитву, чтобы отогнать Лукавого, оглянулся беспомощно на Дмитрия Ивановича.
— Надумаешь, кликни Нечая, — сказал холодно Великий князь, по-своему истолковав растерянность Степана, и вышел из подвала, оставив дверь открытой.
Где-то далеко возникла тихая мелодия Юшкиной дудочки и угасла под сводами подвала — её Прогнало позвякивание Нечаевых ключей. Как старик проскользнул в незапертую дверь, Степан не заметил.
Он поднял глаза на Нечая. Тот ухмыльнулся, продолжая позванивать ключами, и едва заметно развёл руками, как бы повторяя: решать тебе самому...
Глава сороковая
Весной 1381 года с берегов Волги стали приходить дурные вести. Дмитрий Иванович не раз вспоминал свои слова, сказанные им в сердцах Степану на допросе: «В Орде Тохтамыш зашевелился». Увы, действительно, добив в Приазовье разгромленного на Куликовом поле Мамая и утвердившись в Сарае, новый владыка Золотой Орды стал вынашивать честолюбивые планы. Они не многим отличались от замыслов Мамая — взять с Руси новые огромные дани.
Более того — и это особенно беспокоило Дмитрия Ивановича, — хан стал заботиться, в отличие от своих предшественников, о скрытности подготовки к походу. Так, он неоднократно задерживал под самыми различными предлогами купцов из Волжской Булгарии, выезжавших в Москву, и добивался, чтобы они ехали торговать на юг. К счастью, кроме торговых гостей у великого князя московского были и другие источники: сообщали о венных приготовлениях хана и некоторые давно прикормленные ордынские вельможи, падкие на московское серебро.
Дмитрий Иванович сделал несколько попыток договориться о союзе с соседями. Но Тверь, издавна выступавшая против Москвы, так как мечтала сама стать центром Руси, предпочитала вести свои переговоры с Литвой и Сараем. Другие княжества были слишком слабы, боялись нового усиления Москвы и потому всячески увиливали от выгодных предложений о заключении союзов.
Оставался Олег Рязанский.
Дмитрий Иванович хорошо представлял себе всю огромность собираемых Тохтамышем сил. Пользуясь поддержкой владыки Бухарских эмиратов, прославленного и ужасного Хромого Тимура, хан Золотой Орды мог не бояться за свою спину и бросить на Русь все имеющиеся тумены. От одной мысли об этом холодело сердце. И потому московский князь готов был закрыть глаза на не очень достойное поведение рязанского князя в дни Куликова сражения. В конце концов, Олег, как истый хозяин, в первую очередь заботился о своей земле.
Дмитрий Донской велел начать осторожное прощупывание через купцов — как отнесётся Олег Иванович к предложению о военном союзе. Примерно в это время к такому же решению пришёл и князь рязанский.
Бояре вошли в малую палату гуськом, чинно следуя за самым старым — великим боярином Фролом Дубянским. Не скрывая любопытства, рассматривали убранство палаты, не спеша рассесться по лавкам, обитым тиснёной кожей, в отличие от прежних голых лавок ныне сгоревшего великокняжеского терема. Новые лавки казались мягкими и удобными.
— В Кафе куплены за немалые гривны, — важно сказал Фрол, уже побывавший в малой палате и видевший все её чудеса: и мягкие лавки, и тканую обивку стен, именуемую фрягами из Кафы мудреным словам «шпалеры», и тканые картины с девами, и большие водяные часы, по-гречески клепсидра, какие до того были лишь у великой княгини Ефросиньи, и большой харатейный чертёж Русской земли в тяжёлой золочёной раме на стене против окон. Разноцветные стёклышки, которые были вставлены в окна, бросали игривый свет на пол, выстланный огромным кафским же ковром.
Мелодично прозвенел упавший на серебряную пластину золотой шарик клепсидры, отмечая время. Фрол призвал бояр рассаживаться. В тот самый момент, когда они затолпились, пытаясь занять лавку поближе к престолу, стоявшему на незначительном возвышении у дальней стены палаты, вошёл Олег Иванович. Вслед за ним бесшумно возник в дверях Епифан Кореев, скользнул к стоящей отдельно лавке, встал рядом, как бы показывая, что это его место.
Великий князь улыбнулся, довольный тем, что застал своих бояр во время нелепой толкотни и от того смущённых, ласково поздоровался с каждым, сел на престол, выждал, когда все угомонятся и заговорил:
— Други мои! Завтра вы отправитесь в Москву. Но не с большим посольством, а с моим поручением. Надо выяснить, как отнесутся великий князь и московские бояре, если мы заведём разговор о прекращении раздоров и, более того, о заключении союза. По тому, что вы узнаете, я буду судить о готовности Москвы и самого Дмитрия Ивановича к действенным шагам нам навстречу. Думаю, всем понятно, какая огромная ответственность ляжет на вас, хотя вы и не называетесь великим посольством.
— Это как же получается? Мы вроде лазутчики? — засопел недовольно боярин Фрол.
— Нет, боярин, не лазутчики, а вроде как сваты, — пошутил Кореев.
— А Москва — невеста красная, — подхватил шутку великий князь и продолжил серьёзно: — Рассказали мне торговые гости, те, кто из Москвы в Орду через Рязань ездят, о расспросах Дмитрия Ивановича. Хочет великий князь понять, готова ли Рязань к союзу с Москвой против Орды.
Олег Иванович обежал глазами бояр, собрал бороду в кулак — появилась у него последнее время такая привычка — и спросил доверительно:
— Как полагаете, мы готовы?
Бояре заёрзали. Иван, недавний дружинник старшей дружины, возведённый в бояре за удаль, проявленную при отражении малых налётов на меже, вдруг вспомнил о сотнике Степане. Видно, наслушался на меже баек о его мужестве.
— Я, Олег Иванович, помню, что ты стольнику Степану говорил, когда его в опалу отправлял: Москва получит на три пальца из общего кулака, а мы на один, и тот мизинный.
«Память у Ивана крепкая, в отличие от чего иного!» — подумал великий князь, но ответил спокойно:
— Заяц и тот петли меняет, когда от волка прячется. А мы не зайцы, нам надобно и петли менять, чтобы ордынских волков с толку сбить, и силу набрать, чтобы не зайцем, а псом-волкодавом зверя встретить, когда время придёт.
Видя, как насупился молодой боярин, великий князь понял, что тот погрузился в трудные размышления, пытаясь распутать словесные петли государя.
Но слова о Степане кольнули. Неужто был прав он? С самого начала прав, и напрасно лишился он, князь, давний и убеждённый собиратель умов, доброго слуги и мудрого советника? Вспомнился рассказ Епифана. Тот со слов одного торгового гостя поведал, что Дмитрий Иванович роздал переписчикам некое хвалебное Слово, или песню, и велел списки рассылать в княжества. Уж не Степан ли это сложил, сидя в подвале московского кремля? Олега Ивановича захлестнули злость и ревность — в Рязани доброго слова ему, великому князю и благодетелю, не спел. А тут даже в узилище распелся!
— Досконально с вами, други, боярин Кореев побеседует. Всем вам ведомо, что он со мной с юных лет одной мыслью живёт. — Великий князь встал и пошёл к двери.
Кореев удивлённо глянул на него, но ничего не сказал, хотя твёрдо помнил: вчера, когда уславливались с великим князем о встрече с боярами, ни о чём подобном речи не шло. Хорошо хоть успели договориться, что для отвода глаз бояре в Москве будут уряживать порядок ловли рыбы во время нереста на Оке. Дело, кстати, не надуманное, а давнее, спорное, прибыльное и даже кровавое, ибо шла речь о больших уловах красной рыбы...
Олег Иванович, покинув малую палату, направился было в библиотеку. Но он вспомнил о неразобранных сундуках с книгами, стоящих там, как напоминание о постоянной угрозе монгольского нашествия, пошёл на половину великой княгини.
Здесь давно уже всё было приведено в надлежащий вид: ещё леса вокруг верхних ярусов терема не снесли, а княгиня принялась обустраивать своё гнёздышко. Ефросинья и сейчас продолжала руководить девками и холопами, украшая светёлки, опочивальню, детскую, горницы, куда вели многочисленные лестницы и лесенки.
— Фёдор с тобой? — спросил Олег Иванович жену.
Последнее время Фёдор обычно присутствовал на всех советах как в малой, так и в большой палате, не говоря уже о торжественных сборах всей боярской думы.
— Нет. Я его уже несколько дней не видела.
— Я тоже, — буркнул недовольно великий князь.
Надо бы раньше думать, куда запропастился сын, когда обнаружил, что нет его в малой палате. Решил, что матери помогает, — ан напрасно.
Ничего не сказав княгине, Олег Иванович пошёл на гульбище. Оно опоясывало добрую половину терема, словно подпирая башенки и светёлки витыми столбами.
Походил, полюбовался видом с детства милого города, вечно лежащего в грудах древесных стружек, позвал ключницу, хлопотливую, расторопную и властную, ловко подбирающую за старым дворским падающие из его немощных рук крохи власти.
Старуха подплыла, позванивая ключами, висевшими на поясе. Это давно уже были не настоящие ключи, они были сделаны по заказу тщеславной ключницы серебряных дел мастером. Знаки власти. Настоящие ключи хранила она в особом сундучке, ключ носила на шее, на цепочке, рядом с нательным крестом. Всё это Олег Иванович знал. Ключницу он уважал и некоторые вольности ей спускал. А та в свою очередь тонко чувствовала предел своей власти и никогда не вступала в спор с великой княгиней. Было у старухи одно неоспоримое достоинство. Какими-то неведомыми путями она узнавала обо всём, что происходило в тереме и на дворах: бронном, конном, банном, на поварне, в молодечной, в девичьей — и неспешно всё докладывала по вечерам великой княгине, несказанно потешая её. Если спрашивал Олег Иванович — ему тоже сообщала хитрая баба, но больше никому.
— Что-то я княжича давно не вижу, старая, — сказал великий князь, положив руку на пухлое плечо ключницы, чтобы не дать ей упасть на колени. Знал, что уже трудно подниматься, хотя по переходам и лестницам она семенила с удивительной лёгкостью.
— Княжича? — переспросила, соображая, как лучше ответить на немудрящий по первому взгляду вопрос господина. — Фёдора Олеговича?
— Разве появился у нас другой княжич?
— Может, о Милославском, княжиче изволил великий князь спрашивать...
— Только мне о Милославских с тобой и говорить. Так ведомо что о Фёдоре?
— Одно ведомо — повадился он в последнее время на рыбалку ездить.
— Ездить? Нешто у нас под Переяславлем рыбы не стало?
— Так ведь и ты, батюшка, когда молодой был, с Василием Михайловичем, мир его праху, всё больше подале от града ездил.
— Говори, старая, почему Васяту упомянула?
— Ведомо мне стало, батюшка-князь, что ездит Фёдор Олегович как раз на то самое место, где когда-то ты с Василием Михайловичем бывал... — Ключница не договорила и вопросительно посмотрела на великого князя, словно испрашивая повеления продолжать.
— Ну?
— Там на отшибе Марья Васильевна, дочь приёмная Василия Михайловича покойного, мир его праху, живёт. Настасья Ильинична, вдова, с сыном его родным, здесь, в Переяславле, у бабушки, а падчерица, значит, на отшибе... Одна...
— Что ты заладила — на отшибе да на отшибе!
— Так его стремянный уже два раза вечером о двуконь приезжал, именем княжича заморских вин спрашивал да заедок всяких. — Ключница выжидательно умолкла.
— Дальше!
— Что дальше?
— Дальше рассказывай!
— А я дальше детинца никуда не хожу, ничего не вижу. Что мне ведомо, то и рассказала без утайки. А дальше ты сам думай, великий князь.
Думать Олег Иванович не стал. Велел оседлать коня и выделить трёх дружинников. На скорую руку переодевшись, поскакал в то памятное место, где когда-то впервые увидел и своего сына от Дарьи, и её, в то время жену огнищанина.
Дом был новый. Чем-то напоминал тот, что открылся ему много лет назад, когда заглянул за высокий забор. Только сам забор, кажется, стал пониже. Но всё такие же крепкие тёсаные доски, заострённые вверху, тянулись вокруг большого сада.
Олег Иванович нетерпеливо забарабанил рукоятью плети в ворота. Выбежал дворовый холоп:
— А ну, балуй, вот я сейчас кобелей спущу!
— Отворяй, смерд! — заорал старший из дружинников.
Холоп, что-то смекнув, скрылся в доме, и на крыльце появилась молодая женщина. Именно женщина, не девушка — лет двадцати, статная и до того красивая, что сердце у Олега Ивановича защемило.
Она глянула на возвышающиеся над забором головы всадников и крикнула:
— Отворяй, дурень, это великий князь с дружиной!
Холоп суматошно завозился с запором. Женщина сбежала с крыльца, толкнув парня, сама откинула засов. Створка тяжёлых ворот отворилась. Олег Иванович въехал и, склонившись с седла, спросил:
— Фёдор у тебя?
— У меня! — вздёрнув норовисто голову, ответила женщина. Олег Иванович с ужаснувшей его ясностью понял, что в дом пришла беда. Даже не одна беда, а две: одна заключалась в том, что не такая Марья девица, от которой легко будет отвадить Фёдора, когда придёт срок жениться на какой-нибудь княжне, чтобы продолжить славный род. А другая... О другой и думать было страшно и одновременно сладко, потому что вдруг потянуло его к Дарьиной дочери, любовнице сына, как давно не тянуло ни к одной женщине. В том числе и любимой, да, любимой и лелеемой Ефросинье.
А бесовка, словно для того, чтобы показать свою власть, позвала певуче и протяжно:
— Феденька! Твой батюшка приехал! Выходи!..
Вечером, когда Олег Иванович рассказал обо всём жене, та, к его удивлению, закрутила головой, словно заболели внезапно и невыносимо зубы, причитая:
— Укусила всё ж, змея... Укусила, гадюка...
— Кто гадюка? — не понял великий князь.
— Да твоя Дарья!
— Не моя, Васятина...
— Не лги, я всё знаю... Твоя! Первую не забывают... — Дальше Ефросинья понесла такую околесицу, что Олег Иванович только рукой махнул.
— Сына своего, от тебя прижитого, раньше Феденьки воеводой сделала. А после лаской, слезами и лжой добилась, чтобы Васятина мать на него все отчины и вотчины отписала, и ты это без единого слова своей княжеской печатью утвердил! Так что теперь твой выблядок чуть ли не целой волостью владеет, и в любой миг ты его удельным князем можешь сделать.
— Замолчи! Он мне сын!
— А она полюбовница! Думаешь, не чуяло моё сердце, что ты не забыл её даже тогда, когда она Васятиной женой стала? Женой твоего лучшего друга? Может, и хаживал к ней после его смерти, за тебя принятой?
Олег Иванович хотел было накричать на жену, заставить её умолкнуть, остановить поток нелепых обвинений. Но ему не к месту вспомнились бездонные глаза Марьи, в которые он заглянул, склонившись к ней с седла, манящий запах волос, и он подумал: до чего всё-таки проницательны бывают любящие жёны — видят то, что ещё только собирается грозовой тучей на окоёме желаний. Но этого он никогда, пока есть в нём хоть капля воли, не допустит. Олег Иванович обнял жену, поцеловал в стиснутые губы и ушёл. Однако вернулся и сказал негромко, но внушительно:
— Фёдора не допекай, пусть любится. Лучше она, чем хоровод всяких жёнок!..
На прощупывание Рязани Москва ответила своим прощупыванием. Поговорили дома у Кореева. Покряхтели — больно давними были и обиды, и взаимные счёты. Куда как глубже уходили в прошлое, чем захват Лопасни, случившийся уже на памяти Олега Ивановича. Но хоть со скрипом, с взаимными упрёками, случалось, и с криком, а дело подвигалось вперёд: каждому была памятна Куликовская победа, добытая всем миром.
Настало время отправлять в Москву боярина Кореева с посольством. Перед отъездом сидели втроём — Фёдор, поняв, что батюшка не серчает, стал появляться на советах. И Ефросинья успокоилась — умная Марья не питала несбыточных надежд, помнила, что она даже не боярыня, а всего-навсего падчерица боярина, о замужестве не заговаривала. Любила Фёдора и была счастлива этой любовью. А княжич напрочь забыл обо всех своих лапушках, весь мир для него сосредоточился в Марье. Конечно, князь и княгиня беспокоились, как будут бороться с ней, когда придёт время наследнику жениться, не станет ли Марья непреодолимым препятствием, но это ждало в будущем. В конце концов, утешала себя Ефросинья, не стала же препятствием Олегу Дарья, хотя и родила ему сына. Правда, в глубине сердца что-то болезненно копошилось — ревность ли, обида, зависть, опасение. И не понять было — из-за сына и его будущего или из-за мужа и его прошлого...
Фёдор сидел на совете ясный, счастливый, пополневший. Он напоминал отцу сытого кота, только что не жмурился и не мурлыкал.
— ...До какого края мне доходить в торге с Москвой? — спросил Кореев, прерывая затянувшееся молчание.
— А сам-то как полагаешь? — ушёл от ответа великий князь…
— Ведомо мне стало, что хочет Дмитрий вернуться к меже, что проложили и в грамотах обговорили ещё при Иване Калите.
Олег Иванович молча кивнул, давая понять, что ему это известно. Кореев говорил для княжича.
— А мы по тем старым грамотам много деревень теряем? — спросил Фёдор. — И больших ли?
— Да как сказать, сёла известные: Такасов, Талицу, Выползов, — ответил Кореев. — Зато Лопасня по грамотам за нами останется.
— Сие по-божески, — кивнул Фёдор.
— Вот и я так думаю, — улыбнулся поощрительно сыну Олег Иванович.
— Но есть ещё одно условие москвичей. О нём ты, великий князь, пока ещё не слышал.
— Это как — ты не доложил, получается?
— Не хотел при боярах докладывать.
— Какое условие? — В голосе Олега Ивановича явственно прозвучала опаска.
Фёдор встал, ободряюще положил руку отцу на плечо.
— Желает Дмитрий, чтобы ты, великий князь, признал его старшим братом.
— Вроде того, как признает его старшим братом Владимир Андреевич Храбрый, удельный князь Серпуховской?
Фёдор почувствовал, как напряглось под его рукой плечо.
— Никогда Рязань уделом Москвы не была. Рязань издревле великое княжение со своими уделами, а Москва на нашей памяти поднялась, из отчины Кучковичей выросла!
Кореев тяжело вздохнул — он был уверен, что это условие окажется для Олега Ивановича неприемлемым, и сознательно отложил разговор до встречи наедине или при Фёдоре.
— Чего ты вздыхаешь, Епифан? Обещал что Дмитриевым боярам?
— Разве ж мог я, великий князь, без твоего ведома!
— Тогда что?
— Из Орды тревожные вести маленькими ручеёчками текут. Я не обо всём докладываю.
— И напрасно. Реки из ручьёв вырастают.
— Виновен, великий князь.
— Мне твою вину на поле боя не вывести... — Олег Иванович вперил взгляд в боярина. — Тохтамыш после провала Мамая осмелел?
— Не только осмелел, о походе на Русь возмечтал. Про Батыевы дани поговаривает в ближнем кругу.
— Ручеёк достоверный?
— В том-то и дело, что не из близкого круга, надо бы ещё проверить.
— Зачем Тохтамышу большой поход?
— Другие чингисиды после разгрома Мамая, того и гляди, в кошму под Тохтамышем вцепятся, вытаскивать начнут. — Повернувшись к Фёдору, объяснил: — Он по примеру великого предка не на трон сел, а на белую кошму.
— Надо бы намекнуть его близким людям: пока будет с Руси Батыевы дани требовать, за его спиной Орду разделят.
— О том уже владыка подумал. Намекнул.
— Не внял хан?
— По всему получается, что не внял. За ним Хромой Тимур стоит.
Олег Иванович долго молчал. Имя Тимура для Фёдора было внове, он тихонько толкнул Кореева.
— Когда добежал разгромленный Мамай до своих улусов и начал собирать тумены, чтобы отомстить Руси за поражение на Куликовом поле, из Кипчакской Орды пришёл Тохтамыш, настоящий чингисид. Его поддержал владыка чагатайских монголов эмир бухарский, великий полководец Хромой Тимур, или Тамерлан, как его у нас ещё называют. Вот с его помощью и разгромил Тохтамыш остатки Мамаева войска. А самого мурзу выгнал в Крым. Там в Кафе его бывшие союзники генуэзцы поймали и казнили. — Кореев заметил, что Олег Иванович сморит на него, и умолк.
— Что думаешь? — спросил князь сына. — Тебе после моей смерти под Дмитрием ходить. А то ещё хуже, под Василием. Сам Дмитрий-то хоть Донской, победитель, а Василий кто? Сопляк. Младший будет старшим называться.
— Ну, батюшка... это... — Фёдор замялся, и вдруг, хитро улыбаясь, сказал:
— Так до Василия ещё дожить надо, мало ли что изменится.
— Ай да Федька! Ай да выученик мой! — восхитился Олег Иванович и встал, давая понять, что совет окончен.
Кореев понял, что князь склонился к тому, чтобы принять непомерное, по мнению боярина, и так его насторожившее требование Дмитрия Московского.
Подписывать грамоты и целовать крест договорились в Коломне, на полпути между Москвой и Переяславлем. Но всё же это была земля Москвы. Ехали всем двором, ибо узнал Кореев, что Дмитрий намеревался взять с собой всех своих домочадцев.
По утрам морозило. Днём же в высоком, сияющеголубом мартовском небе безраздельно господствовало солнце, изгоняя своими лучами даже малейшую тучку, и потому отовсюду — с крыш, с ветвей деревьев — свисали сосульки. С них капало, и было непонятно, как доживали они до вечера, когда опять морозило. Синее небо мгновенно становилось тёмным, поднималась окружённая ореолом луна, снег под ногами начинал скрипеть.
Санный поезд Олега Ивановича растянулся на несколько поприщ[62].
Выехали загодя и потому двигались неспешно. Ночевали в деревушках, расползаясь по избам, благо, те были недавно поставлены и не завелось ещё ни тараканов, ни мышей, ни прочей гнусной живности. Едкий дым открытого очага ещё не пропитал дерево, как в старых избах, где обычно запах стоял такой, словно живёшь на пожарище.
С москвичами встретились приветливо, будто и не было в недалёком прошлом подозрительности, обид и предательств. Вечером, за пиршественным столом Олег Иванович, не скрываясь, разглядывал своего союзника. Тот был открыт, прост, улыбчив, в разговоре нетороплив, в суждениях крепок. К концу пирования неприятно резануло одно: Дмитрий Иванович мимоходом, как о чём-то давно известном и очевидном, упомянул свою новую куплю. Оказалось, что эта купля не что иное, как Мещёрский край, который рязанцы издревле считали почти своим и, в надежде на давние и скреплённые немалым количеством серебра дружеские отношения с Уковичем, не спешили ни приобретать, ни заключать союзы или иные договора.
И вот на тебе — теперь это московская купля!
Обошёл Дмитрий Иванович, не по-братски обошёл. Олег Иванович уже раздумывал, не прервать ли встречу и вернуться назад, в Переяславль: потерять союзника, зато сохранить уважение к себе, но тут Дмитрий Иванович обнял за плечи, притянул к себе и шепнул:
— О том, что там ты от Орды исстари скрываешься, знаю. Мещера и впредь тебе будет открыта. Только платить жадному Ляксандру — нехристь он и есть нехристь, хотя и крещёный, — не надо будет. Разве что за постой в избах. — И протянул с ясной улыбкой чашу.
Что оставалось делать? Отвергнуть дружественный жест? Упрекнуть за куплю? А почему он сам не сделал этого?
Олег принял чашу...
Утром на высоком берегу Оки великие князья и княгини, их дети и ближние бояре любовались, как коломенские парни брали снежную крепость, выстроенную за ночь.
Фёдор, немного перебравший вчера, — Олег Иванович не останавливал, понимал, что думы сына за пиршественным столом витают далеко от Коломны, — вдруг сбежал вниз с обрыва к реке и ринулся на помощь обороняющимся. Вслед за Фёдором с высокого берега посыпались молодые дружинники, боярыни и княгини оживились, столпились у самого обрыва. Одна дородная красавица оступилась, поскользнулась и покатилась с визгом вниз. Два седобородых боярина с хохотом бросились за ней, подхватили и вытащили. Вокруг извалявшейся в снегу женщины вертелась девочка лет двенадцати, вся в соболях, румяная, синеглазая. Она, заливисто смеясь, помогала отряхиваться боярыне, на самом деле мешая. Олег Иванович залюбовался девочкой и вдруг сообразил, что это дочь Дмитрия Ивановича Софья.
Второй раз он обратил на девочку внимание, когда та вместе со всеми поздравляла победителей, отстоявших крепость. Подошла к Фёдору, начала отряхивать его от снега и вдруг, зардевшись так, что румяные от мороза щёки стали пунцовыми, отошла и прижалась к матери. Фёдор в этот миг был несказанно хорош — глаза блестят, в короткой светлой бородке самоцветами сверкают капли растаявшего снега, зубы сверкают в ослепительной улыбке. Его окружали боярыни и боярышни, наперебой поздравляли, заигрывая, стреляя глазами. Олег Иванович глянул на Софью — та стояла рядом с матерью, великой княгиней Евдокией, и со странным выражением лица смотрела на женскую кутерьму вокруг княжича.
Вечером Ефросинья, расчёсывая волосы перед сном, спросила мужа:
— Обратил внимание, как княжна на нашего Федю глядела?
Олег Иванович кивнул с улыбкой.
— А этот чурбан даже взгляда не бросил.
— Чего ему взгляды бросать? Кругом вон какие лебёдушки крутились, только мигни!
— Охальник ты старый, только мигни! — шутливо замахнулась подушкой жена. И добавила уже задумчиво: — Надо его от Марьи начинать отваживать.
— Далеко вперёд смотришь, лапушка! — Олег Иванович притянул к себе жену, отчего волна душистых волос накрыла его лицо.
— Вовсе не далеко. Ей уже двенадцать. Через четыре-пять годков в самую пору войдёт.
— Эх, лапушка, на пять лет в наше время не загадывают. — Олег Иванович нетерпеливо положил руку на тугую, несмотря на многие роды, грудь Ефросиньи.
— Лучшая невеста на Руси! Такую и пять лет не грех ждать! — Супруга никак не хотела проникнуться настроением мужа.
Рука Олега Ивановича скользнула вниз, от груди к округлому и мягкому животу.
— Надо будет почаще его в Москву с поручениями посылать. Чтобы не забывала! — продолжала рассуждать великая княгиня, и только когда рука Олега Ивановича сделалась настойчивей, воскликнула: — Господи боже мой! Старый хрыч, седина в бороду, а всё неймётся... — И уже другим, воркующим голосом добавила: — Свечи-то задуй...
На следующий день Олег Иванович с удивлением наблюдал, как ловко Ефросинья всё устроила: когда все поехали кататься на тройках, княжна Софья оказалась в одних санках с Фёдором. Воистину, чего хочет женщина, того хочет Бог, вспомнил князь латинскую, кажется, максиму, запавшую в голову со времён занятий с учёным греком. А жена, развеселясь, сама помчалась на тройке, прихватив с собой великую княгиню Евдокию. Вернулись смеясь: на повороте Ефросинья умудрилась чуть не вывалиться из саней и удержала её только Евдокия.
Потом неугомонная Ефросинья устроила состязание в стрельбе из лука. Стреляли на двадцати шагах в женское серебряное колечко, было в этой потехе что-то неприличное и волнующее. Это чувствовали все: и кто принимал в состязании участие, и кто следил за потехой.
Победил Фёдор, и опять Ефросинья подстроила так, что награду, то самое серебряное колечко, вручала Софья. Княжич Фёдор, словно прочитав тайные мысли матери, принял его с поклоном и ласковыми словами.
Ефросинья победно поглядела на Олега Ивановича, но он только усмехнулся — впереди годы, всё ещё многажды может перемениться...
Возвращались домой спешно: торопились доехать раньше, чем раскиснет снег на рыжих от конских яблок дорогах.
Вечером, когда после короткого пирования Фёдор поскакал к Марье, Олег Иванович запёрся с Кореевым в библиотеке. Долго молчали, Кореев терпеливо ждал. Наконец, великий князь вымолвил, почти не разжимая губ:
— Нет...
— Что нет, государь?
— Не уверен я, что мы правильно поступили, заключив союз с Дмитрием.
Кореев молчал, ожидая продолжения.
— Объяснить не могу, но нутром чую.
Кореев привык к тому, что иногда у великого князя срабатывало почти звериное чутьё и он совершал ничем не объяснимые поступки, ведущие к успеху.
Олег Иванович ещё помолчал, потом встал, взял свечу в медном подсвечнике и побрёл к двери.
— Ты пока не говори о моих сомнениях, — сказал он и, кивнув, ушёл.
Кореев, слегка раздосадованный странным замечанием государя, пошёл домой. Его терем, скромный и невысокий, стоял впритык ко двору терема великокняжеского. При желании можно было, минуя охрану, пройти в калитку, проделанную в невысокой ограде.
Кореев так и сделал. Хотелось скорее забраться под пуховое одеяло и в тишине ложницы, под тихое посапывание жены, подумать.
С женой ему повезло. Однако понял он это не сразу. Первое время сердило безразличие к его ласкам, ко всему, что происходило по ночам. Правда, смягчалось это безразличие полной покорностью и податливостью. По это и злило. Вспоминались немногие дворовые девки, которых он успел узнать до женитьбы, — те были не в пример ласковее и горячее, хотя любили, скорее всего, в силу кабальной обязанности. А тут лежала колодой.
Он тихо вздохнул, стараясь не разбудить жену. Самое странное, это он знал: жена любит его, даже, можно сказать, очень любит. Ровно, сильно. По-своему. И детей рожает исправно. Без криков, охов, волнений, продолжая хлопотать по дому чуть ли не до самых родов. Дети рождались крупные, спокойные, молчаливые и прожорливые. Жена кормила их сама, от того груди у неё после третьих родов стали большими и обвислыми.
Мысль о белой груди жены с едва заметными голубыми жилками взволновала, он приткнулся к тёплому боку. Жена что-то пробормотала, повернулась, приоткрыла глаза. Бог ведает, что она углядела в полумраке, но сразу же притянула мужа к себе...
Уже в полудрёме он подумал, что напрасно так волнуется Олег Иванович, — сделан важный шаг на пути объединения всех сил Руси против Орды. Так в начале ледохода, когда уже треснул припай у берегов, но ещё могут ударить ночные морозы, пробуждающуюся весну ничто не повернёт вспять. Непременно вскоре двинутся вниз по течению льдины, громоздясь друг на друга, унося с собой всё, что накопилось за зиму.
Глава сорок первая
Алёна носила свой большой живот легко и весело. Мысли о том, что там зреет крохотный Степан и что теперь она никогда с ним не разлучится, наполняли радостью.
Пригода немного завидовала. Сколько времени была она близка с Юшкой, чуть ли не с шестнадцати лет — и только раз шевельнулась в ней жизнь. Тогда Пригода, после долгих раздумий и терзаний, пошла к бабке-знахарке и скинула плод, выпив каких-то настоев. Её два дня трясла лихоманка, корячило так, что хоть криком кричи. Но самое страшное было потом, когда она узнала: больше не будет у неё детей. Постепенно боль притупилась, помог Юшка, ласковый и заботливый.
И вдруг Алёна, худая, измождённая после всех страданий, монастырских постов, изнуряющих покаяний, чуть ли не в первую ночь со Степаном зачала!
Но больше, чем завидовала, Пригода радовалась за подругу. Она заботилась об Алёне, угождала и голубила, как старшая сестра.
Юшка дважды ездил в Москву, искал следы Степана. Но всё было безрезультатно. Даже вдова Семёна Мелика, искренне расположенная, ничем не смогла помочь.
Днём по-весеннему припекало солнце, дорога раскисала, поэтому Юшка решил возвращаться из Москвы ночью, по морозцу, с одной лишь днёвкой. Конь у него за несколько дней, проведённых в Москве, отдохнул, лихих людей Юшка не боялся. Волновало, как там без него управляются женщины. Наверное, поэтому, забежав перед отъездом к Настасье Меликовой, он рассказал о беременности Алёны и об их неопределённом положении на монастырском подворье.
— Когда ей рожать?
— Не знаю, — растерялся Юшка.
— Ох, мужики, мужики, — покачала укоризненно головой Настасья.
— Слышал, Пригода с ней шушукалась, вроде, о конце лета говорили...
— И ты всё это время собираешься держать их на монастырском подворье?
— Там безопасно. И стряпуха к Алёне с лаской.
— Алёна — кто? Боярская дочь. И Степан твой хоть и в опале, но боярский сын. Значит, рожать она должна и жить, как ей от рождения предназначено. Может, и глупым тебе покажется мой совет, но только не вижу я иной возможности, как в Рязань вам возвращаться, боярину Корнею в ноги падать и всё ему, как на духу, рассказывать.
— Я его чуть не зарубил, когда Алёну вызволяли из монастыря, — угрюмо сказал Юшка. — Не простит боярин.
— Но не зарубил же! Время нынче такое — вчера в поле на мечах рубились, сегодня за пиршественным столом одну чашу пьют. Без прощения нам в этой жизни не выстоять! — Поседевшая, усохшая за один год, Настасья строго посмотрела на Юшку. — Надо тебе свою гордость усмирить и повиниться. Не может быть, чтобы отец единственную дочь, да ещё с будущим внуком, не принял.
Юшка задумался. Стоять на коленях перед Корнеем страсть как не хотелось. Но вдова была права: лучше уж в Рязань податься, чем по разным подворьям мыкаться.
— А может, к Олегу Ивановичу? Я как-никак его однажды спас. Он у меня перед седлом полумёртвым лежал, я его своей спиной от татарских стрел заслонял.
— Ты веришь в княжескую благодарность? — спросила Настасья и, не дождавшись ответа, пояснила: — Уж на что Дмитрий Иванович на добро памятливый, сколько раз его в бою Семён собой загораживал, а... — Она махнула рукой.
Юшка знал, что после торжеств и поминовений никто больше не приходил, о вдовьих нуждах не спрашивал. Настасья не бедствовала — Семён оставил достаточно добра, чтобы до конца жизни вдова могла жить, как великая боярыня. Но ведь одно дело достаток, другое — память...
— Мы с тобой да со Степаном всего несколько раз виделись, но в тебе больше участия, чем... — Настасья помолчала и твёрдо закончила: — В великих князьях. Так что мой тебе совет — падай в ноги боярину Корнею.
Всю обратную дорогу в Тверь Юшка обдумывал этот разговор. Но, однако, в Рязань пока решил не возвращаться — кто его знает, как встретят попы и монахини сбежавшую из монастыря послущницу, нагулявшую пузо?
Дома, отмывшись и отдохнув, обласканный и размягчённый, он решился. Вечером запер на два засова дверь каморки, где ютились Пригода и Алёна, завесил под удивлёнными взглядами женщин окна рядном и велел Пригоде принести заветный пояс, что был спрятан в женских одеждах. Потом подпорол ножичком пояс и высоко его поднял. Из потаённых карманов и кармашков хлынули, сверкая в лучах светильника, кольца, браслеты, ожерелья, перстни, диадемы, золотые монеты и неоправленные самоцветы.
Алёна и Пригода как зачарованные смотрели на неожиданное изобилие драгоценностей.
— Вот, девки, почитай, десять с лишком лет мы со Степаном собирали: мечтали осесть в Дебряновке, как только получит он боярскую шапку. Осесть, отстроиться, кабальных накупить, закупов перекупить, вольных пригласить. Всё проклятый Пажин поломал. — Юшка поворошил пальцем жуковинье.
— И ты молчал? Даже мне ничего не сказал! — вскинулась Пригода.
— Не моё это, Пригодушка.
— Выходит, Степан мне не доверял?
— Доверял. Жизнь свою доверял, и не единожды. А это... ну, как бы негаданную радость мы вам готовили.
— Успокойся, Пригода, — улыбаясь одними глазами, сказала Алёна. — Ты же знаешь, у мужиков любовь иногда нелепо проявляется!
Юшка насупился — кто его знает, как понимать эти загадочные слова. Но решил не обижаться.
Девушки принялись перебирать сокровища.
— Ладно, девки, я вам не для того это показал, чтобы вы тут как сороки блестящие камушки рассматривали да охали, — сказал строго Юшка. — Нам надо решить, где мы будем жить так, чтобы маленького Степана родить, и растить сподручно, и большого Степана, если я его вызволю, не опасаясь, поселить.
— А когда ты его вызволишь? — быстро спросила Алёна.
— Вот родишь, я поеду в третий раз в Москву. Уже по монастырям поезжу подмосковным.
— А чего ждать-то? — возмутилась Пригода. — Или я одна не справлюсь?
— Справишься. Только мне так спокойнее будет. И Степана хочу сразу порадовать счастливой вестью.
— Так зачем ты нам эти сокровища вывалил? — не поняла Пригода.
— Говорю же, надо решить, где жить и где дом покупать.
— В Твери! — сказала Алёна.
— В деревне, — одновременно с нею выпалила Пригода.
Девушки поглядели друг на друга и рассмеялись.
— Вы чего? — недоумённо спросил Юшка.
— В первый раз разошлись, — уклончиво ответила Пригода. — Мне бы хотелось, чтоб как в Пажиновке! — мечтательно пояснила она. — Три самых счастливых дня...
— Четыре, — уточнила Алёна. — Только разве может быть Пажиновка без Степана?
— Зато маленькому в деревне будет лучше. Вон какой дым стоит по утрам в городе. И помои тверичи в Волгу сливают, вонища! — Пригода брезгливо сморщила нос.
Спорили долго. В конце концов решили, что Юшка присмотрит недалеко от города укромную деревеньку.
— Ты у нас должна как боярыня жить! — твёрдо сказал он, вспомнив слова вдовы Семёна Мелика.
В конце августа начались схватки. Повитуху приглядели загодя в соседнем селе. Юшка помчался звать. Пригода с помощью дворовой девки принялась носить воду, поставила два котла на печь.
Алёна лежала в горнице. Кусая губы, сдерживала рвущиеся стоны и молилась.
С приходом повитухи она перестала сдерживаться и закричала в голос. Повитуха только приговаривала: «Крича, милая, кричи, болезная!» И суетилась, гоняя Пригоду за водой и тряпками...
Новорождённый появился на свет Божий под утро. Повитуха показала его Алёне и, счастливо улыбаясь, сообщила: «Мальчик!»
Алёна, собрав последние силы, потянулась, погладила головку, счастливо улыбнулась, прошептала: «Стёпка...» — и потеряла сознание.
Умерла она к вечеру от потери крови: огромный, чуть ли не десяти фунтов весом ребёнок разорвал ей всё... и теперь кричал непрерывно, требуя есть. Пригода рыдала над быстро остывающим телом подруги...
А в ста поприщах от дома, где только что совершились два великих таинства — рождение и смерть, — под могучим придорожным дубом отдыхал монах, старец Софоний, в миру Степан, отпущенный настоятелем монастыря на север Руси, в Великий Новгород, куда не дошли монголы, для поиска и переписывания божественных книг, буде таковые найдутся.
Глава сорок вторая
К осени 1381 года из Орды стали поступать тревожные сведения: в окружении хана Тохтамыша, уже не скрываясь, говорили о походе на Русь. Всё чаще два двора — московский и рязанский — сносились: ездили гонцы, бояре, когда к грамоте надо было добавить что-то на словах.
Великая княгиня Ефросинья, не забывшая, как восторженно смотрела на княжича Фёдора дочь Дмитрия Ивановича, быстро сообразила, как можно использовать всё это в своих целях. Она упросила Олега Ивановича послать в Москву Фёдора, благо подвернулся удобный предлог: поздравить князя Владимира Андреевича Серпуховского с рождением дочери.
Фёдор принял поручение отца с радостью. Москву он никогда не видел, было любопытно поглядеть: разговоров о каменном кремле он наслушался за последние годы более чем достаточно. Московский великокняжеский двор представлялся ему более молодым и весёлым по сравнению с рязанским. Вот если бы ещё исхитриться взять с собой Марью. Но сие было несбыточно.
— Я говорила тебе! — не преминула попенять мужу великая княгиня, узнав о согласии Фёдора. — А ты сомневался.
Олег Иванович только посмеивался. Неужели Фрося думает, что восхищение тринадцатилетней девочки может пересилить любовь зрелой красивой женщины? И не просто женщины, а Дарьиной дочери.
Почему ему думалось, что любовь Марьи должна быть какой-то особой? Хотя бурные ночи в сарае за четверть века стёрлись в памяти, помнилось только, как заснул однажды стороживший Васята.
Фёдор вернулся из Москвы весёлый, с гостинцами и для матери, и для Марьи. Смеялся, раскладывая подарки, приговаривая:
— Ничего у них нет такого, чего бы у нас не было. А жуковинье ихнее с нашим не сравнить, им ещё сто лет учиться!
Олег Иванович догадался о подарке для Марьи и, улучив минутку, спросил сына на следующий день:
— Довольна?
За столом великая княгиня не утерпела, стала расспрашивать, как там Софья Дмитриевна поживает.
На третий день праздничное пирование переместилось из Москвы в Серпухов. Именно здесь, в Серпухове, с его вольностью провинциального городка, Фёдор провёл с Софьей почти целый день.
За прошедшее лето она заметно вытянулась, обогнав мать, и очень похорошела.
Видимо, северная кровь далёких предков, женившихся гораздо реже южных князей на половецких знойных красавицах, взяла своё: выросла Софья голубоглазой, белолицей, златовласой. Было в её лице нечто, разительно отличавшееся от цветущей, по земному прекрасной Марьи: утончённость, унаследованная от десятков поколений изнеженных, холёных княгинь. Может, если поставить Софью рядом с Марьей, она бы и проиграла в яркости, броскости, но зато выиграла бы в одухотворённости: таилось в её лице что-то загадочное и потому влекущее к себе.
Много разговаривали обо всём и ни о чём. Пожалуй, никогда Фёдор не был ни с кем так разговорчив. И всё, что говорила Софья, было умно и к месту. Может, вправду имя накладывает свою властную печать на человека: София — мудрость.
Ефросинья продолжала плести свои кружева. Зимой Фёдор несколько раз ездил под разными предлогами в Москву. Возвратившись, спешил к Марье, бросался в её объятия, как в омут, словно спасаясь от наваждения. На какое-то время помогало. Но вскоре он будто ненароком забегал к матери, заводил разговор о Дмитриевых детях. Мать про себя ликовала, но беседовала с сыном чинно, выслушивала вопросы, отвечала, как могла, о поездках в Москву не упоминала. Однако при случае убеждала мужа послать сына в соседнее княжество.
Олег Иванович давно раскусил несложную игру жены, но виду не подавал. Вечерами, когда был твёрдо уверен, что Ефросинья на женской половине, посмеивался с Епифаном над её хитростями.
Однако частые поездки Фёдора в Москву привели к совершенно непредсказуемым последствиям...
— Батюшка, мне надо с тобой поговорить, — сказал Фёдор, улучив минутку, когда великий князь был один.
— Приходи в библиотеку.
— Без Епифана, батюшка.
Великий князь с любопытством глянул на сына. Что скрывается за этими словами? Вроде между сыном и боярином никогда не было вражды. Фёдор боярина уважал. Епифан парня любил, как сына.
— Поднимемся ко мне. — Олег Иванович неторопливо, тяжело ступая, двинулся к лестнице, ведущей на самый верх. В убранной медвежьими шкурами горнице на широкой лежанке он иногда, скрываясь ото всех, лежал и размышлял. Фёдор там бывал всего несколько раз за те полтора года, что был отстроен новый терем. Бывала ли мать, он сказать с уверенностью не мог. А вот Епифана отец, кажется, туда не приглашал ни разу.
— Рассказывай! — сказал отец, подвигая к Фёдору блюдо с калёными орехами.
Тот взял несколько крупных, очищенных, слегка прожаренных в печи лесных орехов, бросил один в рот, разжевал, проглотил — к орехам, столь любимым батюшкой, он был равнодушен. Предстоящий разговор заботил, и он досадовал, что отец начал не по делу.
— Садись, в ногах правды нет.
Фёдор послушно сел рядом на лежанку.
— Так что ты хотел мне сказать?
— В Москве всё чаще говорят о возможном налёте хана Тохтамыша.
— Неудивительно. Я Дмитрию грамотки с верными гонцами посылаю обо всех донесениях с межи и от моих лазутчиков в Орде. — Олег Иванович пояснил с усмешкой: — Чай, мы с ним союзники.
Как понимать это усмешливое «чай»? Но думать было некогда.
— Сонюшка мне поведала, что отец очень обеспокоен, и это её тревожит.
— Значит, вы с ней не только орехи щёлкаете да в горелки играете, но и о делах беседуете?
— Нешто это плохо?
— Отчего же, хорошо. Так почему это её тревожит?
Фёдор замялся. Пока ехал из Москвы, всё казалось простым. Но теперь, когда надо было облечь в слова то, что влюблённая девочка не сказала, а дала понять, доверившись ему, как самому близкому человеку, засомневался — не означало бы это предать доверие.
— Говори, сын! — В голосе отца послышалось раздражение.
Фёдор собрался с духом и рассказал...
Воспользовавшись первыми солнечными днями наступающего лета, они с Софьей катались на большой лодке по Москве-реке. Две боярыни, под чьим присмотром обычно гуляла княжна, заболтались с дружинниками, и молодые люди остались на корме без пригляда. Княжна была печальна, призналась, что батюшка, Дмитрий Иванович, недоволен их прогулками. Наверное, это последний раз, когда отпустили её с княжичем. Фёдор спросил о причине запрета, Софья не знала этого, но предположила: хотят её просватать за владимирского княжича, ибо не складывается у батюшки союз против Тохтамыша, не верят ему князья после Куликова сражения.
— Чему не верят? — перебил рассказ Олег Иванович, хотя сам догадывался: слишком откровенно обратила в свою пользу Москва победу на Куликовом поле, обделила союзных князей добычей.
— Не знаю, отец. И Сонюшка не знает. Ведомо ей только одно: намеревается Дмитрий Иванович скрепить её рукой будущий союз с Владимиром против Тохтамыша.
Олег Иванович задумался, рассеянно бросая в рот орешки.
Новость была наиважнейшая. И дело вовсе не в том, что рушились честолюбивые планы Ефросиньи связать родственными узами два великих княжеских дома Руси. И не в том, что останется Фёдор с носом — он, по донесениям соглядатаев, почти перестал бывать у Марьи, следовательно, увлёкся молоденькой девочкой.
Дело куда как серьёзнее. Если у Дмитрия Ивановича не складываются союзы с другими князьями, то останутся Москва и Рязань перед огромной ратью Тохтамыша вдвоём. И мечтать о втором Куликовом поле — дело пустое. А значит, надо думать о спасении своей земли, своего княжества, своей шкуры. Но говорить об этом пока рано.
— Не кручинься, сын. Пока Софья заневестится, три года пройдёт. А за три года в наше-то беспокойное время много чего произойти может.
— Я ведь не о том, батюшка, волнуюсь. Как бы так не сталось, что мы с Москвой одни перед Ордой останемся...
«Пожалуй, Фёдор за два года, что на наших с Епифаном беседах присутствует, поумнел», — подумал Олег Иванович довольно.
— И это, глядишь, образуется, — ответил он неопределённо. — Иди. Спасибо тебе за весть.
Когда Фёдор вышел, Олег Иванович в ярости ударил кулаком по ларю так, что блюдо с орехами подскочило. Несколько ядрышек покатилось по полу.
— Ведь чувствовал, знал, что ни к чему Рязани союз с Москвой! — выкрикнул он и откинулся на мягкую тёплую медвежью шкуру...
К вечеру великий князь вышел из горницы спокойный, собранный и неразговорчивый. Позвал Епифана, скрылся с ним в библиотеке. Там в нескольких словах рассказал то, что путано и сбивчиво поведал ему Фёдор, поделился своими мыслями и повелел:
— Снарядишь в Москву торговых гостей, лазутчиков, гонцов. Пошлёшь их под разными предлогами.
Кореев кивнул.
— Чего киваешь? — вспылил неожиданно Олег Иванович.
— Киваю я, государь, оттого что понимаю: нужно нам всеми способами поскорее проверить, верны ли сведения княжича, — спокойно ответил боярин.
— Ишь, какой умный! Всё понял, раньше, чем я изрёк! Где твой ум был, когда советовал с Москвой союз заключать?
— А что плохого из союза проистекло, государь?
— А что хорошего? Не влюбись эта девчушка в Фёдора, так и прозевали бы мы всё, успокоенные громкими словами московских воевод.
Кореев молчал.
— Почему молчишь? Не согласен с государем?
— Всё едино когда-то первый шаг к сближению с Москвой нужно было сделать.
— Охти, какие мы умные! — с издёвкой бросил Олег Иванович. — Первый шаг... А как я из этого первого шага раком пятиться буду, ты подумал?
— Почему пятиться?
— Да потому, что не выстоим мы вдвоём с Москвой против ордынской силы! Не вышлет Москва, оставшись без союзников, свои полки к нашим рубежам с Ордой. У своих поставит.
Кореев с грустью подумал, что он, в отличие от Олега Ивановича, так и не научился на всё смотреть с точки зрения выгод для своей земли.
— Значит, так всё и сделаешь, как сам говорил.
Вроде князь немного успокоился; но по глазам своего державного друга Кореев видел, как тот придавлен свалившимся страшным известием. И то сказать, год с лишним чувствовать себя в стае, в союзе с другими, небеззащитным перед ордынской силой и вдруг обнаружить, что ты один...
Глава сорок третья
Степан-Софоний возвращался в свой монастырь с полной котомкой книг, подаренных северными монахами, и с пустым сердцем: никаких следов Юшки, Алёны и Пригоды обнаружить ему в Великом Новгороде, Пскове, Изборске и Ладоге не удалось.
Книг надавали щедро. Он в благодарность переписывал тут же, в монастырском книгохранилище, свою «Песнь» и отдаривался ею. Песнь уже получила известность среди книжников и бродячих гудошников как «Задонщина». В Ладоге тщеславие толкнуло под руку, и он написал на первом листе пергамена: «Писано старцем Софонием Рязанцем»...
Лето в этом году стояло не то чтобы жаркое, но солнечное, с частыми грозами. Трава на лугах поднялась чуть ли не в рост человека, напоминая ковыльные степи на южной рязанской меже.
Степан смотрел на буйноцветие со смешанным чувством восторга и тревоги — думалось, что при таких сочных и обильных выпасах надо непременно ждать если и не крупных налётов, то разбойных лихих наездов ордынцев. Он сплюнул, помянул имя Господа всуе, — воистину, как ни постись, ни молись, сколько поклонов не бей, а остаёшься в глубине души Степаном, не Софонием, и руки по-прежнему тоскуют по мечу, а сердце — по бешеной скачке на взмыленном коне...
Он шёл, поглядывая по сторонам, когда заприметил полосу трубочника и осоки, спустился с дороги и вскоре набрёл на ручеёк, убегающий в заросли кустарника. Пошёл по бережку, отыскивая место, где не росли бы водоросли, а дно устилал чистый песок. Нашёл, хотел было уже расположиться со всем удобством, попить чистой водички, но увидел под кустом ракиты сладко похрапывающего монаха. Босые пятки, чёрные и затвердевшие до крепости коровьего рога, торчали из-под рясы, задравшейся до колен, лицо было прикрыто большим лопухом, рукой спящий бережно прижимал к себе берестяной туесок с выжженным на нём крестом и прорезью на торце — по всему, сборщик подаяний именем Христа.
Степан решил не будить монаха и осторожно попятился, но задел ногой сухую ветку, я она хрустнула. Монах тут же проснулся, сел, бестолково хлопая глазами и прижимая к себе туесок с подаянием.
— Не пугайся, брат во Христе!
— Я не пугаюсь, — сказал монах густым басом. — Давно хожу по дорогам и селищам. Славлю Господа, люди подают на строительство сгоревшего храма Божьего в нашем монастыре, ибо не утратили веры. А от лихих людей у меня вот что есть. — Монах поднял здоровенную суковатую дубину. Она лежала у него под боком. — Ну, и слово Божье!
— И что больше помогает? — спросил Степан. Усевшись у самого бережка ручья, он снимал лапти, предвкушая, как опустит натруженные ноги в прохладную прозрачную воду.
— Не богохульствуй, брат, — монах хитро улыбнулся, — вестимо, хорошая дубина.
— Ты куда путь держишь?
— В Волок Ламский.
— Не встречал ли на дорогах высокого воина? Он на дудочке играет. С ним две женщины: одна светлая, робкая, другая пошустрее, волосом потемнее.
Этот вопрос Степан задавал всем встречным. Монах подумал, затем пророкотал:
— Нет, брат. Не встречал. А ты-то куда идёшь?
— В Москву.
— Не ходи!
— Почему?
— На Москву хан Тохтамыш идёт с огромным войском, имя коему легион.
— Бог мой! — только и сумел вымолвить Степан.
— Говорят, Олег Рязанский ему тайные броды через Оку показал.
— Врёшь!
— Что люди бают, то повторяю, не более того!
— Как он мог? Поклянись!
— Вот те крест!
— А Дмитрий Иванович?
— Говорят, в Кострому с семьёй уехал.
— И этому не верю!
— Люди опять же говорят...
Ни слова не говоря, Степан отвернулся от монаха и принялся надевать лапти.
— Ты чего?
— В Москву пойду, — ответил Степан, не оборачиваясь.
— Умом рехнулся? Там небось уже эти нехристи!
— Я в миру воином был. Если хоть на одного врага ордынский легион уменьшу, нашим полкам будет легче! — Степан встал, забросил котомку за спину и быстро зашагал в сторону дороги.
— Эй, брат во Христе, погоди!
Степан оглянулся. Монах поднялся с земли и стоял, поигрывая суковатой дубиной. Был он высок, на полголовы выше не обиженного ростом Степана, но брюхат. Туесок для сбора подаяний болтался на груди как игрушка.
— Я с тобой. — Он совсем по-детски улыбнулся. — Может, сподобит Господь уменьшить басурманский лёгион ещё на одного врага. А зовут меня Никодимом.
— Степан, то есть я хотел сказать Софоний.
— Недавно пострижен?
— Недавно.
— Вот я и вижу, ещё живёт в тебе мирское. Впрочем, оно во всех нас долго живёт, а в ком — так до самой смерти и не смиряется...
Хан Тохтамыш учёл промахи Мамая: два года назад продвижение мурзы сильно замедлили генуэзская пехота и непривычные к степи аланские сотни. Тохтамыш взял с собой только конные тумены, и бросок их был стремительным, а появление у берегов Оки неожиданным для всех, кроме Олега Ивановича. Его лазутчики сопровождали Орду на всём пути от Волги и, загоняя коней, сообщали рязанскому князю, где сейчас хан и каким путём идёт.
Решение попробовать сторговаться с ханом стоило Олегу Ивановичу ночей раздумий и свирепой боли в сердце. Многие годы эта боль накатывала каждый раз, когда надлежало сделать трудный шаг.
Но так или иначе, он решился, приказал показать броды как можно дальше от Рязани. Огромное войско ордынцев двинулось вслед за проводниками из сторожевых сотен через Оку к Москве, обтекая рязанские земли. Перед собой Олег оправдался тем, что Дмитрий, вопреки союзной договорённости, так и не сумел собрать князей под свои стяги. Более того, московский великий князь ускакал с семьёй в Кострому, оставив город на бояр, успевших ещё до появления Тохтамыша под стенами кремля перессориться и разойтись во мнениях.
Никто из русских князей, два года назад так рьяно поддержавших Дмитрия, не захотел ныне прийти к нему на помощь. Что тому причиной — значения не имело, для Олега Ивановича главное заключалось в том, что он оказался не одинок. Ну а сердце болело потому, что был он не просто рязанцем, но русским, как русскими были многие поколения его предков от новгородца Рюрика, киевлянина Олега, черниговца Святослава... И ещё потому, что не знал, не был до конца убеждён, можно ли верить клятвам нехристей и не обрушится ли всей массой своих войск Тохтамыш на Рязань, возвращаясь обратно. Одна была надежда — подлая, гнусная, разъедающая совесть, но всё-таки греющая душу, — что будут ордынцы на обратном пути из Москвы утомлены грабежами и минует рязанцев страшная участь...
Чем ближе подходили монахи к Москве, тем больше встречалось им беженцев. Кто ехал в Ржев или Торжок, кто уходил в дремучие леса, окружающие неторопливую речку Истру, название её напоминало Степану древнее имя величайшей реки Дуная.
Слухи множились, противоречили друг другу, становились совсем уже нелепыми, вроде того, что идёт с Тохтамышем страшное войско на диковинных зверях с двумя горбами на спине и что никто не может им противостоять. Сходились беженцы в одном: Орда ещё не подошла к Москве, а Серпухов взяла совсем недавно, разграбила и сожгла.
Рассказы о Серпухове ставили Степана в тупик — как могли оказаться под Серпуховом татары, идущие, по слухам, от Волги через земли волжских булгар?..
Монахи миновали обычно шумную и грязную Ямскую слободу, вышли к валу. Трезвонили колокола. Воротников на валу не оказалось. Встречная старушка на вопрос ответила, что людишки совсем ума лишились, вместо того чтобы бежать, второй день на Пожаре, вишь, вече собирают, древние вольности вспомнили. Вот вернётся Дмитрий Иванович, он им припомнит вече.
Действительно, на Пожаре, огромной площади перед главными воротами в кремль, бурлило, взрываясь время от времени яростными криками, огромное людское море. От беспрестанных хождений поднималась пыль, мешала разглядеть сменяющих друг друга на сбитых наспех мостках мужей, пытавшихся докричаться до толпы.
Степан пустил вперёд себя своего спутника, тот легко раздвигал людей. Вскоре монахи оказались у самого помоста. Седобородый боярин в шлеме с шишаком и броне, несмотря на августовскую жару, надсадно кричал, призывая брать имущество и уходить из города.
— Не могу я, братцы, пустить всех в кремль! Всех он не вместит! Еды на седмицу достанет, не боле! С голоду пухнуть начнём, всё едино ворота откроем!
Степан понял, что боярин — один из тех, на кого Дмитрий оставил город. Говорил дело: действительно, вместить всех жителей огромного города даже такой большой детинец, как московский кремль, не мог. Но люди не слушали. Кто-то в сермяге вскарабкался на помост, оттолкнул боярина и закричал, приложив ладони ко рту:
— Пусть оружие дают!
— Оружие! — подхватила толпа.
Уже через мгновение вся площадь ревела:
— Оружие давай!
На помост полезло сразу несколько человек. Первым оказался здоровенный детина, — судя по прожжённому кожаному фартуку, молотобоец. Он тщетно размахивал руками, призывая к тишине. Тут Степан увидел, как сквозь плотную толпу пробирается всадник в алом плаще — князь или наибольший воевода. Люди, оглядываясь, уступали дорогу, и вскоре он оказался у помоста.
— Кто это? — спросил Степан своего спутника.
— Нешто не знаешь? Князь Остей, Ольгердов внук.
— Как это, Ольгердович — с нами?
— Так он давно отъехал из Литвы к Дмитрию. Слышал я, что любим народом за смелость и добрый нрав.
— Где же он раньше был?
— Утром из Брянска прискакал.
— Все-то ты знаешь, — покосился Степан на Никодима.
— Имеющий уши да слышит.
Тем временем князь Остей спешился, взобрался на помост и заговорил:
— Оружие дам! Тем, кто держать умеет! И в кремль их пущу! Остальные идите в леса! Орда будет завтра поутру! Не мешкайте, люди! — Короткие, ясные фразы заставили умолкнуть всех собравшихся: чувствовалось, что появился настоящий вожак.
Степан протолкался к помосту:
— Князь, я в миру сотником был!
— Давай за мной. Сейчас поеду в кремль. Такие, как ты, мне нужны!
— А брат Никодим?
Остей скользнул оценивающим взглядом по внушительной фигуре монаха и молча кивнул.
Князь оказался распорядительным и умным воеводой. С помощью Степана и ещё нескольких бывалых воинов он разбил горожан на сотни, выделил сотников из числа оставшихся в кремле гридей, определил для каждой сотни место на стене и на башнях. Степан вспомнил, как они с Юшкой, разглядывая только что строящуюся крепость, гадали, правильно ли расположены башни, и пришли к выводу, что правильно. Но только сейчас, облазив все башни и изучив круг обстрела из каждой, Степан понял, как мудро ставил их псковский каменных дел матёр Лука. Вынесенные вперёд стен башни позволяли лучникам держать осаждающих под перекрёстным огнём.
Ещё не рассвело, когда занялись пожары в Занеглименье — верный признак, что появились передовые отряды татар.
— Чем больше сожгут, тем короче продлится осада, — произнёс кощунственную на первый взгляд фразу князь Остей.
— Пошто так? — спросил шёпотом Степана Никодим.
— Всё нехристи пожгут — так стоять им негде будет. Здесь не степь, кибитки не раскинешь.
Глава сорок четвёртая
Под стенами кремля татары появились только в середине дня двадцать третьего августа. Первые удальцы гарцевали, но никто из них предусмотрительно не подъезжал к стенам ближе, чем на два полёта стрелы.
Все защитники высыпали на стены и заборала. Иные пытались достать ордынцев стрелой, но князь Остей передал всем строгий приказ не стрелять: беречь припасы.
— Как маленькие, право, будто не понимают, что не долетит стрела, — сказал Степан Никодиму.
Тот ходил за ним по пятам, вооружённый огромной рогатиной и старинным тяжёлым мечом. Котомка с подаяниями всё так же болталась на груди, не прикрытой ни кольчугой, ни латами — ничего не нашлось монаху по росту.
Вскоре к стене подскакал какой-то мурза, спросил на ломаном русском языке, в городе ли «коназ Митрий». Ему с издевательским хохотом ответили, ищи, мол, ветра в поле.
Татары стали совещаться, пытаясь понять, что означает ответ русских. Это ещё больше развеселило шутников на стенах, острые на язык москвичи изощрялись в советах, где искать «коназа».
К вечеру ордынцы ускакали.
Защитники ликовали. Напрасно князь Остей и назначенные им воеводы объясняли, что завтра татары придут снова и начнут правильную осаду. У костров веселились, пили крепкий мёд и чуть ли не праздновали победу, горланя песни.
Утром, как и предсказывал князь, появились ордынцы, но уже с лестницами, деревянными щитами, под прикрытием которых можно было приблизиться к стенам, и с вязанками хвороста.
Пешцы-лучники, укрывшись за вязанками хвороста, начали столь часто и метко обстреливать защитников кремля, что тем пришлось прятаться за заборала и укрываться в башнях.
— Сейчас пойдут на приступ! — передал князь Остей по рядам. Его слова полетели, повторенные сотнями воинов.
И действительно, спешенные ордынцы двинулись, прикрываясь деревянными щитами, к стенам.
Князь подал знак, и осаждённые потащили из внутреннего двора крепости, где всю ночь горели костры, бочки с кипятком и котлы с расплавленной смолой. Под стенами их цепляли специальными воротами и поднимали вверх, готовясь встретить гостей на славу.
Степан, убедившись, что работа идёт слаженно, достал лук, ещё вчера выбранный в Бронной палате, натянул тетиву, надел перчатку на левую руку, чтобы не исхлестала её спущенная тетива, выбрал, придирчиво взвешивая на вытянутом указательном пальце, стрелу и осторожно выглянул из-за зубца.
Прямо перед его участком стены ордынцы наступали, прячась за поставленный стоймя деревянный щит — ну точно как мальчишки за забором, ограждающим яблоневый сад у жадного огнищанина.
Степан помусолил палец, уточнил направление ветра, поднял лук, оттянув тетиву так, что она коснулась кончика его носа, и, нацелив лук почти в самое небо, пустил стрелу.
— Чего это ты? — услыхал он за спиной бас Никодима, но не ответил — следил за полётом.
А стрела взвилась вверх, скрылась на мгновение из глаз, проглоченная солнечными лучами, и упала коршуном, вонзившись в шею ордынца, полускрытого деревянным щитом.
— Ловко ты его! — восхитился Никодим.
И сразу же ещё с десяток стрел взвились вверх, но все упали в стороне от ордынцев, многие даже не долетели до линии щитов.
— Стрелять только сведомым лучникам! — крикнул Степан.
Откуда вдруг пришло на память это древнее слово? Ему вспомнилась строка из песни неизвестного автора: «А мои куряне сведомые кмети. С конца копья вскормлены...» Так похвалялся своему брату Игорю князь Буй-Тур Всеволод.
Мысли мелькали в голове, а руки делали привычное воинское дело, уже третий ордынец рухнул, поражённый меткой стрелой.
Татарские лучники в ответ начали ответную стрельбу из-за вязанок хвороста. Защитники кремля попрятались, однако несколько зазевавшихся получили ранения.
Ветер переменился, дым от горящих посадов пополз на кремль. Ордынцы словно только того и ждали — с дикими криками, подчиняясь гнусавым сигналам невидимой трубы, побежали к стенам, приставляя лестницы.
Первых смельчаков окатили кипятком. Они с визгом и воплями попадали вниз.
— Охолонись, болезный! — крикнул какой-то весельчак. Защитники встретили немудрёную шутку радостным гоготом.
Между тем пожар в посадах разгорался, перекинулся на дома, обступавшие кремль. Полыхала уже Знаменка, Тверская дорога, Арбат, пылала Ордынка — москвичи, поджигая свои родные дома, не поскупились на огонёк и для жилищ ненавистных ордынцев, осевших в Замоскворечье со времён Калиты.
Дым мешал и нападающим, и защитникам. К вечеру ордынцы вдруг исчезли, прихватив с собой убитых и оставив исковерканные лестницы, щиты, вязанки хвороста.
Первый приступ отбили, но веселья уже не было. Навалилась усталость, мучил дым, страшила неизвестность, смущало малое количество воинов. Начальных людей почти не было. Напрасно защитники спрашивали друг друга, кому поручил Дмитрий Иванович оборону. По всему выходило, что кому-то из бояр, но их никто не видел на стенах. Командовал, кричал, ругался, стрелял, поддерживал добрым словом молодой князь Остей. Москвичи уже прознали, что великий князь город на него не оставлял. Литвин, прискакав в последний день перед приходом нехристей, самовольно взял на себя руководство обороной, за что была честь ему и хвала, хоть и внук он проклятого Ольгерда...
Следующий день начался так же, как прошедший, разве что дыма не было, зато нестерпимо пахло гарью.
С дикими криками ордынцы вновь бросились с осадными лестницами к стенам. Лучники осыпали стрелами всех, кто хоть на мгновение показывался из-за зубцов.
Осаждающие лезли вверх, как муравьи по травинке, казалось, ни кипяток, ни смола, ни брёвна не способны остановить их яростный напор.
Вот на стене появился первый ордынец с саблей в руках.
Ещё мгновение — и враги хлынут, сметая на своём пути защитников-добровольцев. Степан прыгнул вперёд, в открытое пространство между зубцами, надеясь, что в него не станут стрелять из боязни попасть в своего удальца, срубил врага, словно не было двух лет перерыва в боевой выучке, и отскочил под прикрытие. Мимо просвистела опоздавшая на мгновение оперённая смерть. Степан выхватил рогатину из рук растерявшегося Никодима и, упёршись остриём в верхнюю перекладину лестницы, оттолкнул её. Вопли ужаса падающих вместе с лестницей татар перекрыли на мгновение шум битвы.
Степан бросил рогатину Никодиму, крикнул: «Смотри, не высовывайся!» — и побежал к башне, где двоим ордынцам удалось взобраться на стену, теперь они яростно рубились, тесня обороняющихся.
С другой стороны подоспел князь Остей. Вместе со Степаном они, играючи, словно на бронном дворе, зарубили каждый своего противника: в пешем бою с русским воином степняк был почти беспомощен.
И опять повалил град вражеских стрел, и опять ордынцы волокли лестницы, лезли на стены. Кипяток и смола у защитников иссякли, но теперь уже многие, по примеру Степана, выжидали, спрятавшись за зубцами, когда появится голова вражеского воина над стеной, чтобы столкнуть лестницу.
Прозеваешь это краткое мгновение, когда ты закрыт врагом, и либо упадёшь, пронзённый стрелой, либо степняк прыгнет на стену. Смертельная, но захватывающая игра.
Третий штурм тоже не удался.
Стемнело. Под стенами валялись сломанные лестницы, облитые смолой, утыканные стрелами щиты — и трупы, трупы, трупы...
Но и на стенах обороняющихся заметно поубавилось.
Никодим сидел, прислонившись спиной к зубцу, опустив голову, опираясь на свою рогатину.
«Задремал, умаялся от непривычной кровавой работы», — решил Степан. Но что-то показалось ему странным в положении рук монаха. Он пригляделся. Ордынская стрела почти скрылась в туеске с подаяниями, пригвоздив его к огромному телу.
— Надо бы предать его земле, — вздохнул Степан и стал прикидывать, где можно найти в застроенном кремле клочок земли. Пожалуй, только на склоне, ведущем к реке, в противоположной части огромной крепости, там, где когда-то в малиннике лежали они с Юшкой.
Степан подумал о погибшем монахе, случайном спутнике последних сумбурных дней. Впрочем, таком ли случайном? Всё предопределено свыше, и, видно, так было записано в книге судеб, что погибнет раб божий Никодим при защите родного города.
Но похоронить монаха Степану не удалось. От князя Остея пришёл воин: князь приглашал отца Софония на военный совет.
Степан не сразу понял, о ком идёт речь. За один день боя из головы начисто вылетела сама мысль, что он ныне монах, полтора года назад принял постриг, подчиняясь воле великого князя Дмитрия, и теперь имя его Софоний.
После короткого совета — указания князя были продуманными и чёткими — Остей позвал Степана отужинать. Видно, любопытно ему было узнать, как стал монахом такой опытный и сильный воин. Степан коротко рассказал о себе и в свою очередь поспрошал князя.
Остей был младшим сыном Дмитрия Ольгердовича, сидевшего одно время, после отъезда из Литвы на Русь, на брянском столе. Степан, никогда не забывавший, что корень их рода брянский, или дебрянский, ежели по-старинному, стал расспрашивать князя о городе. Но Остей был трубчевским удельным князем, входившим в состав Брянской земли, стольный град знал плохо, на многие вопросы ответить не смог. Зато с увлечением рассказывал о своём уделе, который хорошо знал. Он даже называл себя по-местному: не князь Трубчевский, а князь Трубецкий[63].
Растревоженный ночной беседой, Степан долго не мог заснуть. Он бродил по стене, размышляя, что побудило Дмитрия Московского, человека, в смелости и личной храбрости которого Степан совершенно был уверен, сбежать в Кострому, оставив, по сути, беззащитным главный город своего княжества. Искал объяснение — и не находил. Искал оправдание — и не находил. Ему вдруг вспомнилось, как трудно давались строки, восславляющие Дмитрия в «Задонщине». Может быть, уже тогда он внутренним оком песнетворца видел нечто, до того никому не ведомое, в Дмитрии. И нет особой разницы между ним и Олегом, тоже предавшим его, Степана. И, что ещё хуже, неоднократно предававшим рязанцев, убегая при угрозе ордынского нашествия в мещёрские непроходимые леса.
Степан уже собрался было прилечь на припасённую ещё с прошлого дня охапку соломы за одним из зубцов, как вдруг услыхал лёгкий шорох. Он прислушался.
Кто-то поднимался по каменной лестнице, ведущей на стену со стороны внутреннего двора, где всю ночь горели печи и грелась смола в огромных чанах.
— Кто идёт? Кому там не спится? — спросил Степан в темноту негромко, чтобы не будить умаявшихся защитников.
— Степанушко! — донёсся из темноты низкий, чуть хрипловатый женский голос.
Он ещё не понял, кому принадлежит этот голос, как кто-то упал ему в ноги, чьи-то руки охватили колени, и тот же голос, — теперь он узнал его — Лукерьин, — повторил:
— Степанушко!
— Изыди! — только и смог сказать от нахлынувшей внезапной ярости Степан.
— Прости! Прости неразумную, не знающую меры в любви бабу.
«Заранее слова приготовила», — подумал он со злостью и, оттолкнув её руки, пополз прочь, пятясь, пока не упёрся спиной в остывшее тело Никодима.
— Как увидела тебя на стене вчера, сердце перевернулось — жив! Только и думала, как подойти, да невозможно было котлы со смолой бросить...
«Аки дьяволица из преисподней!»
Степан забормотал:
— Свят, свят, свят!
— Да земная я, истосковавшаяся, грешная, не гони, Степанушко, прости, бей до полусмерти, но прости! — Горячие руки хватали его за колени, тянулись выше, одновременно с гневом что-то тёмное, казалось, давно забытое шевельнулось в нём.
Степан рывком поднялся на ноги, стряхивая Лукерью, схватил её грубо за выбившиеся из-под платка волосы, подтянул, сознательно причиняя боль, к себе и прошипел в запрокинутое лицо:
— Убирайся! И со стены, и из моей жизни! А не то...
— Бей! Что же ты медлишь, Степанушко, бей, то мне в сладость!
— Ещё раз подойдёшь, змея подколодная, не побью, с башни скину! — Он с силой оттолкнул женщину, та упала навзничь — как когда-то, в незапамятные времена, в подвале под этой башней, во время допроса. Но вместо слова «Виновен!», что произнёс Степан тогда в подвале, с его губ опять сорвалось гневное: «Убирайся!» Столько в нём было силы и непреклонности, что Лукерья, настырная, не умеющая признавать своё поражение, знающая свою власть над мужиками, поднялась и, как побитая собачонка, побрела, оглядываясь, к каменным ступеням лестницы, ведущей вниз, во внутренний двор, где горели костры и кипела смола...
Следующий день прошёл спокойнее, к великому счастью осаждённых, ибо они были измотаны до предела.
Только два раза сумели мурзы и темники заставить воинов идти на приступ. Осаждённые всю ночь носили воду к котлам, продолжали жечь костры: кипятка и смолы было в изобилии. Ордынцев буквально смывали с лестниц.
Третьего приступа не было — без видимого сигнала ордынцы вдруг отхлынули от стен и исчезли в чёрных провалах улиц, образованных сгоревшими домами.
Ночь Степан спал без просыпа. Под утро ему смутно почудилось, что кто-то сидит рядом с ним. Открыть глаза не было никаких сил, и он лишь пробормотал: «Алёна».
На четвёртый день штурма, двадцать шестого августа, перед главными воротами кремля появился монгол на великолепном белом коне. Если судить по богатым одеждам и огромному смарагду на рукояти плётки, это был приближённый самого хана.
Монгол поднял над головой обе руки, открытыми ладонями обращённые в сторону крепости, — мирный жест, понятный всем, и закричал по-русски:
— Хан не хочет воевать с руссами. Хан любит их, как и всех остальных своих подданных. Хан только хочет наказать коварного коназа Митю.
Смех был ответом на эту речь. И тогда перед удивлёнными москвичами предстали два улыбающихся юных князя, верхами, в полном воинском русском уборе. Народ узнал сыновей князя Дмитрия Константиновича Нижегородского, Василия и Симеона. Они заверили москвичей: хан действительно не желает простому люду зла и готов простить всё, что произошло под стенами кремля, если ему откроют ворота и позволят поговорить с начальными людьми миром. Больше того, дали клятву и целовали на том крест, что хан сдержит слово и не станет никому мстить.
Осаждённые попросили ночь на размышление. Ордынский вельможа согласился.
Совещались в большой палате великокняжеского терема. На совете появились пять седобородых бояр, коих на стенах Степан не видел, два иерея и келарь монастыря. Пришли несколько выделенных князем Остеем сотников. Из простых людей пригласили: суконщика Адама, показавшего себя героем при защите Флоровских ворот, — он застрелил мурзу из самострела, — и кузнеца Никиту. Его Степан приметил в первый же день на стене: распоряжался уверенно и умно, и народ его слушался.
Бояре призывали довериться хану, положившись на клятву христианских князей. Келарь молчал, только чётки белого рыбьего зуба постукивали в его пальцах. Зато иереи убеждали поверить князьям и хану, сдать крепость и тем самым спасти кремль, красу и гордость Московского княжества, от уничтожения. Князь Остей, как был в закоптелом доспехе, примостился на ступенях возвышения, не решаясь сесть на престол, внимательно слушал каждого.
Чем дольше длилось совещание, тем напористей говорили бояре. Один из них, самый молодой, хотя и в его бороде обильно проступала седина, договорился до того, что обвинил Остея в самовольстве: мол, великий князь Дмитрий Иванович ему защищать город не поручал, а оставил московских бояр своими наместниками.
— То-то я вас на стенах не видел, почтенные. — Степан не вытерпел.
— А ты молчи! — вдруг вмешался келарь. — Забыл, что пострижен! Ни рясы под броней, ни подряска! Монастырь своим видом богомерзким позоришь. Весь в кровище на совет пришёл!
— Так ведь басурманская-то кровь, святой отец! — заметил кузнец.
— Кто ему дозволил рясу скинуть, где она?
— Ты его ещё спроси, святой отец, почему он на стене в шишаке, а не в скуфейке ходит! — Кузнец не унимался.
— Не о том разговор ведёте, други, — заговорил самый старый из бояр. — Надо нам хану ответ давать.
Спорили до хрипоты. Когда Степану показалось, что князь Остей склоняется к принятию предложения ордынцев, он не выдержал:
— Не верь ордынцам, князь! Ты ещё молод, а я на меже десять лет провёл да полтора года в плену мыкался. Нехристям христианина обмануть — самое любезное дело, за доблесть считается! Неужели ты не понимаешь, князь, что уловка эта от бессилия — понял хан: не возьмёт он детинец!
— Вот видите! — вдруг закричал младший из бояр. — Детинец! А мы говорим кремль! Проговорился ты, монах! Ты из Рязани. Засланный! Твой князь ордынцам броды через Оку, нам в тыл ведущие, показал!
— Дурак ты, боярин, хоть и до седин дожил. Где ты был, когда я с князем Боброк-Волынским к нашествию Мамая готовил войско? Где ты был, когда меня но повелению великого князя в монахи подстригли? — Степан опять обратился к князю Остею: — Глупость хуже воровства, князь. Негоже от победы ради пустых обещаний отказываться. Но решайте как знаете, я действительно рязанец, моё слово в московских делах последнее...
Он махнул рукой и вышел из палаты. Во дворе его перехватила Лукерья. Степан не поверил своим глазам — принаряженная, нарумяненная, сочные губы алеют, чёрные брови вразлёт прорезают высокий чистый лоб — и когда только умудрилась привести себя в порядок?
— Не послушали тебя недоумки?
— Я же сказал — убирайся!
— Нужно тебе за Москву, за предавшего тебя Дмитрия голову класть? Он-то сбежал...
— Молчи!
Но не так-то просто было заставить Лукерью замолчать.
— Бежим! — зашептала она. — Я знаю тайный ход. У Водовзводной башни. Мне Нечай показал, перед тем как ушёл из кремля...
— Что же ты с ним не ушла? — не думая, что этим вопросом вступает в разговор с предательницей, спросил Степан.
— Тебя, нелепого, нескладного, но любимого, узрела в тот день на стене — нешто не понятно?
— Уйди!
— Бежим!
— Я ненавижу тебя!
— Вот и ладно — ненависть лучше безразличия. — Лукерья улыбнулась и потянулась к Степану всем телом. — Ну, ударь, побей — но бежим!
Степан властно отстранил Лукерью, поднял руку — теперь это был старец Софоний, начертил в воздухе святой крест, сказал:
— Бог тебя простит, женщина! — и твёрдыми шагами пошёл к узкой каменной лестнице, ведущей на стену...
На следующий день под неумолчный звон кремлёвских колоколов отворились главные ворота. Князь Остей в сопровождении пяти бояр, двух иереев и толпы именитых горожан вышел навстречу ордынским вельможам с дарами.
На заборалах башни, в подвале которой он совсем недавно сидел, ожидая суда великого князя, а затем писал свою бессмертную песнь, стоял Степан, одетый в чёрную монашескую рясу, и глядел с высоты на разворачивающееся перед ним действо отстранённо и скорбно.
Он смотрел, как из-за толпы ордынских вельмож и военачальников выдвинулись отборные нукеры с обнажёнными саблями в руках, ещё дальше появились конные воины. Что-то происходило не так, не похоже было на торжественную, мирную сдачу непобеждённой крепости.
Догадка сверкнула молнией.
Обман! Предательство!
Степан глянул вниз. Князь Остей уже вышел из ворот и медленно, степенно шествовал навстречу ордынским вельможам.
Что делать?
Ещё есть время! Ещё можно побежать по стенам к наречной стороне, к знакомой Водовзводной башне, к тайному ходу, выбраться из крепости, переплыть реку, скрыться в проулках сожжённой Ордынки, сбросить рясу и отправиться по Руси искать Алёну, Юшку, Пригоду, вернуться в мир!
А князь Остей, с коим сроднился за дни боев? А тысячи защитников кремля? А женщины и дети, нашедшие здесь убежище? Предать их, уподобившись Дмитрию Ивановичу?
Степан крикнул, надсаживаясь:
— Князь, предательство! Назад!
Остей всё так же неторопливо и торжественно продолжал идти навстречу ордынцам.
Степан, забыв об осторожности, сунулся между зубцов и закричал как можно громче:
— Князь, там засада! Там...
Свистнула стрела, впилась в горло. Степан пошатнулся, рухнул вниз, прямо перед толпой именитых горожан.
Глухой стук упавшего тела привлёк внимание князя. Он оглянулся, и в тот же миг несколько арканов взвились в воздух, пали на шею и плечи князя, и его, спелёнатого, потащили, а в ворота, сметая людей, ринулись нукеры ханской стражи.
А над стенами и башнями кремля взвился отчаянный, тоскливый, как звериный вой, крик женщины:
— Степан!!!
Глава сорок пятая
Несколько дней бесчинствовали ордынцы в кремле — убивали всех, кто попадался им на пути, будь то священник, монах или старик, высаживали двери, взламывали погреба, отыскивая золото, серебро, драгоценности. По слухам, люди свезли в казавшийся неприступным город из окрестных селений и городков несметные сокровища.
Полыхали перед княжеским теремом и монастырским подворьем горы книг, горели бесценные сокровища человеческой мысли, собранные многими поколениями рачительных хозяев, книжниками, монахами и князьями — от великого Александра Невского, младший сын которого Даниил привёз в крохотный город Москов часть отцовской библиотеки, до смиренного Ивана Ивановича.
Разгромив кремль, ордынцы рассыпались по всему Московскому княжеству. Заполыхали пожары в Можайске, Юрьеве, Звенигороде, Дмитрове, Переславле Московском. Пал гордый Владимир. И только когда стоявший под Волоком Дамским со своею дружиной и ополчением князь Владимир Андреевич Серпуховской уничтожил в свирепом бою отряд ордынцев, Тохтамыш решил больше не рисковать и повелел возвращаться в Орду.
Ордынцы двинулись на Коломну, разграбили её и вошли в пределы Рязанской земли. Здесь они, по обычаю степи, позабыв о клятвах, вновь жгли и грабили, затем ушли на юг, в родные края.
Нашествие завершилось...
В сентябре 1382 года Дмитрий Иванович решил наказать неверного союзника и всеми полками, убережёнными ценой разгрома Москвы, навалился на Рязанскую землю.
Москвичи словно стремились выместить на своих соседях, недавних союзниках, бессильную злобу. Они вели себя ещё отвратительнее, чем извечные враги, нехристи-ордынцы. Единственное, чем отличались от степняков, — не жгли с такой тупой яростью жилища. Не уничтожили и переяславский детинец, пустой и гулкий, брошенный князем.
Олег Иванович скрылся в лесах, из осторожности не обращаясь за помощью к Ляксандру Уковичу.
...Весть о том, что идёт Москва, ещё только расползалась от деревни к деревне, когда княжич Фёдор в сопровождении десятка гридей прискакал к дому Марьи.
Дворовая девка, завидя княжича, вместо того чтобы отворить ворота, побежала в дом с криком:
— Марья Васильевна, приехали!
Марья вышла. Фёдор не был у неё больше месяца — отец отрядил его скрытно сопровождать войско Тохтамыша и доносить с гонцами обо всех передвижениях.
Вечером, когда уже спустилась на землю тёмная осенняя ночь, со двора выехал целый поезд: гриди, холопы верхами, каждый вёл за собой навьюченную лошадь, дворовые девки, тоже верхами, подоткнув длинные юбки, и, наконец, сама Марья в мужском одеянии, стремя в стремя с княжичем.
Даже в темноте было видно, как сияют в улыбке её белые зубы, как сверкают глаза, как льнёт она при каждом удобном случае к едущему рядом княжичу.
Устроились в непроходимой чаще густого ельника, за надёжными засеками, в наспех отрытой землянке. Здесь счастливая Марья на две седмицы, всё время московского налёта, получила княжича в полное своё распоряжение. Она лучилась счастьем, не понимая, что жадностью ласк, ненасытностью, неуёмностью уже пресытила Фёдора и что он изнывает в нежных силках её объятий.
— Этого Дмитрию я никогда не прощу! — Олег Иванович расхаживал по изгаженной малой палате своего терема. — Нижегородский князь просто стакнулся с Тохтамышем, а ему ничего!
— Нижегородский Дмитрию тесть, — напомнил боярин Кореев.
— Сам знаю.
— А раз знаешь, великий князь, зачем гневаться. Выплеснул на тебя злость Дмитрий Иванович, можно и о переговорах подумать.
— Если ты ещё хоть раз заикнёшься о переговорах с Москвой, я тебя до конца жизни в отчину отправлю!
— Воля твоя, Олег Иванович. Я не заикнусь. Жизнь тебе сама скажет.
— Молчи! — Князь закричал, словно Кореев был ключником или дворским. — Почему в хоромах нет ни баб, ни девок, ни холопов? Давно пора порядок навести, мы уже второй день, как вернулись! — И тем же злым голосом спросил: — Где Фёдор?
— Он с Марьей в Солотчанском бору в землянке жил.
— Знаю! Обрадовался, дорвался до бабы! Сейчас где он?
— Прикажешь послать?
— Не нужен он мне, я знать хочу, где мой сын и наследник обретается. — Олег Иванович хмыкнул. — В землянке с бабой!
Кореев поднялся на возвышение, где лежал поваленный кем-то малый престол, поставил его, смахнул пыль.
— Думаешь, я сяду на опозоренное место, в чужое говно? — опять взвился криком Олег Иванович.
Кореев спустился с возвышения.
Великий князь подбежал, вскочил на верхнюю ступень, ногой пнул престол, тот со стуком покатился вниз.
— Вот так бы Митькин престол!
На шум вбежал стольник с выпученными от усердия глазами, готовый служить, бежать, выполнять...
— Почему до сего часа не убрали? Пшёл прочь.
— Не стой, аки жена Лотова, соляным столбом, — усмехнулся Кореев, проходя вслед за князем.
За тридцать лет он привык ко всему. Знал, что вспышка гнева у Олега Ивановича чем яростнее, тем короче.
И действительно, когда он нашёл великого князя на гульбище, тот был уже спокоен.
— Думаю, надобно набрать в полки молодых парней и отправить на межу, в сторожевые сотни, дабы воинскому умению обучались у бывалых воинов.
— Полагаешь, вдругорядь придёт Дмитрий?
Великий князь молча покачал головой, словно удивлялся, до чего же недогадлив верный соратник, и, ничего не сказав, пошёл на женскую половину.
«Мечтает об ответном ударе», — понял боярин, сокрушённо вздыхая.
Ведать подготовкой новых полков великий князь поручил Фёдору. Кореев, увидев, как рьяно и, главное, разумно взялся за дело княжич, понял, что не заметил в юноше того, что углядел в нём отцовским взором великий князь. Именно тогда и стал Епифан величать Фёдора не княжичем, а князем. А вскоре и вся Рязань стала называть его «молодой князь»...
В конце зимы Марья, смущаясь, сказала Фёдору, когда тот, выбрав время, заглянул к ней: она в тяжести.
Девушка вся светилась радостью — пять с лишним лет не беременела, а тут сподобил Господь. Никак, в лесной землянке понесла.
— Толкается уже! — сказал она с улыбкой.
— Чего радуешься? — огорошил её вопросом Фёдор. — Твой сводный брат — мне сводный брат. Теперь твой сын ему кем будет — племяшом? Совсем в родстве запутались, ни стыда, ни Бога в мыслях.
— Со мной спать — о Боге не думал, а дитё шевельнулось, вспомнил? — упёрла руки в пополневший стан Марья.
— Кто ты, чтобы меня попрекать?
— Мать твоего будущего выблядка! — в запале бросила Марья. Она так ждала Фёдора, так мечтала, что поведает ему радостную весть. Он обнимет, приголубит, скажет ласковые слова, поведёт в ложницу, проведёт крепкой, но нежной рукой по животу и, может быть, прислушается к тому, что происходит там, — а он? Накричал!
Нет, она никогда не мечтала о том, что вдруг как-то повернётся судьба и станет она его женой. Слишком велико расстояние от сына великого князя до дочери огнищанина. Но порадоваться вместе, ощутить себя отцом...
— Ты меня спросила, когда к знахарке не пошла, дите решила оставить? — резко спросил Фёдор.
— А чего я должна была тебя спрашивать?
— Как чего? — растерялся княжич. — Вроде я не последний человек.
— Не последний? — переспросила Марья. — То-то твой батюшка Ваньку сделал моей матери и её огнищанину спихнул. — Логики в словах не было, но был напор и вызов.
— Всё равно... — начал было Фёдор.
— Нет, не всё равно! Это ты посопел и отвалился! А я о ребёночке, может, с первых дней, как с тобой, кобелём, легла, мечтала, только Бог не посылал. А теперь, когда сподобилась, ты мне своими дурацкими рассуждениями радость портишь?
Фёдор посмотрел на выпирающий живот, на перекошенное от злости лицо Марии, с удивлением заметил, что у неё слегка расплылись черты лица, будто опухла ото сна. Он с горечью подумал, что скакал к ней в надежде сладко провести ночь после бесконечных поездок на межу, а нашёл попрёки, которых не терпел, особенно если были те в какой-то мере справедливыми. Фёдор молча встал, пошёл к двери, оглянулся. Марья стояла, всё так же уперев руки в боки, но было в её позе, совсем недавно вызывающе-победной, что-то жалкое. Он хотел уже было вернуться, приголубить, но Марья, углядев жалость в его глазах, злобно крикнула:
— Огнищанина мне пошёл искать? Не трудись, обойдусь!
Фёдор вышел, хлопнув дверью.
Стука копыт по мягкому февральскому снегу в избе слышно не было, зато ворота скрипели долго и противно.
Марья села на лавку и тихонько завыла...
Всю весну Фёдор носился с десятком гридей от одного межевого городка к другому, проверяя, как обучаются в сотнях молодые бойцы.
Он сразу же оценил отцовский замысел — подготовить скрытно умелое, молодое войско, не возлагая все надежды на ополчение.
В конце июля, почти через год после начала Тохтамышева нашествия, от которого ещё долго на юге Руси вели счёт, Марья родила девочку.
Вдова Василия Михайловича, Дарья, хотела забрать и дочь и внучку к себе, чтобы жили они в богатом боярском доме, окружённые дворовыми и холопами. Но Марья заупрямилась, осталась жить там, где когда-то поселилась её мать с огнищанином.
— Здесь моё место, — сказал она матери. — Нечего мне, простой бабе, в боярские хоромы лезть.
Дарья не спорила, про себя решив: надеется, что вспомнит о ней молодой князь, прискачет. Но время шло, Фёдор всё не скакал, объезжая сторожевые городки. Люди болтали, будто у него на каждой засеке и в каждом городке по бабе. Может, и приврали для красного словца, но что князь Фёдор бабам нравился, Дарья знала. На дочь, когда приезжала к внучке в гости, глядела с жалостью. И красива, и учена, и умна. И роды стан не испортили, не идёт — плывёт, на голову хоть миску, полную молока, ставь, капли не прольёт, — а не даётся счастье.
Осень в этом году была долгая, тёплая. Листопад начался поздно, и лист не торопился устлать золотым ковром землю, держался на ветках, словно не верил, что когда-нибудь да придёт зима.
В ворота громко постучали. Сердце ёкнуло, Марья бросилась к окошку, выглянула.
За глухим забором были видны только головы верхоконные, бородатые, ей неведомые. Среди них лишь одно знакомое лицо: Олег Иванович.
Неужто с Фёдором что случилось?
Марья суетливо накинула на голову платок, выбежала сама, торопясь, отворила ворота. Во двор въехал великий князь, улыбнулся, сверкнув молодыми крепкими зубами. От сердца отлегло.
— Ну, веди, показывай. — Он спрыгнул с седла, не глядя, бросил поводья дружиннику и уверенно двинулся к крыльцу. Пожилой дружинник с большим коробом в руках пошёл следом.
«Подарки!» — догадалась Марья.
В избе Олег Иванович по-хозяйски уселся за стол, дружинник поставил перед ним короб и бесшумно исчез.
— Неси внучку!
— Внучку, великий князь? — переспросила Марья, сверкнув глазами. — Скажи лучше, выблядку! Я не обижусь, наслышана уже.
— Дура! Если я сказал — внучка, значит, внучка. А ты — сводная сестра моему самому старшему сыну, коего, если кто выблядком назовёт, я в узилище сгною! Неси! И норов мне тут свой не показывай, я тебе не Федька!
Марья поспешила в горницу, подхватила сонную Катюшу на руки, поцеловала на всякий случай в румяные, словно с мороза, щёки, вынесла.
— Вот, Катенька, это твой дед. Сам назвался, никто его не неволил.
Олег Иванович нахмурился, взял властной рукой Марью за подбородок, приподнял ей голову и поглядел в глаза. Марья вдруг со всей отчётливостью поняла, почему у некоторых воинов кони, даже самые брыкливые, непослушные, становятся смирными — столько силы было во взгляде, уверенности, повелительности, что захотелось упасть на колени и молить о прощении за бабью глупость.
Олег Иванович отпустил подбородок, легонько щёлкнул внучку по носу, достал из короба лёгкое соболье одеяльце, тёплое лисье, миску и чару из серебра. Всё это разложил на столе, сказал:
— Это к зиме. Старики говорят, холодная будет.
Тщательно подобранный нежнейший соболь не мог оставить равнодушной ни одну женщину. Марья гладила его одной рукой, другой прижимая к себе дочь.
— Дай подержу, неудобно небось.
Марья молча отдала дочь князю. Та бессмысленно таращилась, дед пригнулся, и она цепко ухватила его за бороду. Великий князь довольно рассмеялся.
— Всегда о дочери мечтал, а у меня одни парни. — И добавил: — Законные и незаконные...
Олег Иванович ушёл, когда уже начало смеркаться, и прощался с явной неохотой. Ему было приятно сидеть за столом в маленькой каморке, говорить ни о чём, любоваться внучкой и поглядывать на красивую молодую женщину.
— Так ничем и не угостила, — шутливо попенял он Марье.
— Да, батюшка, великий князь, да я... — Она так побагровела от смущения, что могла бы соперничать цветом щёк с осенней рябиной.
— Ладно, не красней, в следующий раз угостишь.
Великий князь вышел на крыльцо. Перед ним уже стоял отдохнувший конь, дружинники гарцевали кто на дворе, кто за воротами. Олег Иванович легко вскочил в седло и поскакал к воротам, не оглядываясь.
Двор опустел. Стало тихо и грустно.
Глава сорок шестая
Юшка изнывал от скуки. Ему не хватало дела, волнений и, главное, Степана.
Он любил Пригоду, души не чаял в маленьком Стёпке, охотно хватался за любую мужскую работу по дому, хотя и взяли из деревушки одного бобыля, услужливого и работящего. И Пригоде в помощь взяли девку, она убирала в доме, что-то кухарила, благо Юшка не был избалован разносолами. Но тем больше оставалось свободного времени, и не могли его заполнить ни охота, ни долгие прогулки в соседнем лесу с женой и Стёпкой, ни бесконечная возня с оружием.
Юшка сам посмеивался над собой, полируя клинок:
— Словно кошка — чистая, аж искры сыплются из меха, а всё вылизываю.
Как-то пришла ему в голову мысль: выбрал из деревеньки двоих парней покрепче, лет по семнадцати-восемнадцати, и стал обучать их сабельному бою. Им дал боевые, хорошо заточенные сабли. Себе ж взял специально затупленную и сказал, что за каждую царапину, если, конечно, они смогут её нанести, будет награждать. Пригода разволновалась, запротестовала, стала говорить, что Юшка от скуки совсем ума лишился, но он только улыбался.
Первое время Пригода с тревогой наблюдала за потешным боем двоих против одного. Парни старались, наседали, кружили вокруг, подзадоривали друг друга. Царапнуть Юшку хоть разок, хоть чуточку им так и не удалось...
Так прошло около года. Поначалу Пригода радовалась, что Юшка — вот он, под боком, не носится невесть где, подвергаясь опасности. Потом стала задумываться — уж больно жалко было видеть, как мается здоровенный мужик без дела, с какой тоской чистит он блистающее оружие, точит и клеит всё новые и новые стрелы. Даже против парней, заметно поднаторевших в сабельном бою, но так и не сумевших хоть раз оцарапать его острыми клинками, Юшка выходил без прежнего увлечения.
— Поехал бы ты в Тверь, поглядел, может, и нужен кому в дружину хороший воин, — наконец сказала Пригода однажды, подавив в себе понятное желание каждой жены видеть мужа поближе к своей юбке.
— Откуда ты знаешь, что хороший?
— Иного бы не полюбила.
— Подумаю...
«Конечно, — усмехнулась про себя Пригода, — нетто можно сразу по бабьему слову делать? Хотела бы я знать, сколько дён ему понадобится, чтобы гордость свою потешить? »
Оказалось, двух дней хватило…
Из Твери Юшка вернулся мрачный.
— Неужто никому не глянулся? — охнула Пригода и сунула Стёпку мужу в руки, зная, что нет лучше средства развеселить мужика, чем дать ему потетёшкать малыша.
Стёпку Юшка в руки взял, но обычная улыбка не засияла на его лице.
— Что стряслось, не томи. Будто я не вижу.
— Тверской князь в Орду поехал ярлык просить.
— Какой?
— Какой-какой! Разве не ясно? На московское княжение, под Дмитрия роет.
— Ну а тебе-то что? Дмитрий нам враг, Степана заточил в узилище, не знаем, жив ли он, нас сюда бежать вынудил, с Рязанью не по совести поступил...
— Всё одно, нехорошо.
— Что нехорошо? — набросилась на мужа Пригода. — Я сколько страдала, переживала, сомнениями мучилась, пока тебя в Тверь не решилась направить, так ты теперь губу воротишь!
— Степан говорил, сколько Москва с Рязанью ни схватывается, а всё равно им вместе быть. При случае и в морду дашь, а все соседи.
— А Тверь?
— Тверь на Литву всё больше глядит. Вон с Ягайлой тверские князья и покумились и породнились. Нет, теперь, когда князь в Орду с поминками[64] поехал, я и думать не могу ему служить.
— Юша, а помнишь, Меликова вдова, Настя, тебе советовала Корнею в ноги упасть, внука предъявить.
— Он его отберёт у нас!
— А ты поначалу поезжай один. Вызнай, договорись...
— С Корнеем договоришься! Он пообещает и обманет.
— Пусть крест целует. Стёпку нам Алёна завещала.
На этот раз Юшка размышлял всего один день.
— Пожалуй, и впрямь надо съездить в Рязань, с боярином Корнеем перемолвиться. Я тебе и охрану ненароком подготовил.
— Нет! Ты парней с собой заберёшь! — закричала вдруг обычно спокойная Пригода. — Кто тут на нас со Стёпкой нападёт, кому мы нужны? Тебе вон какой путь, ты без Степана никогда и не ездил в такую даль.
— Всё, Пригодушка, один еду, и весь сказ. Одному проще, поверь.
Прощались всю ночь, как в былые времена, когда уезжал Юшка со Степаном на межу или на войну. Пригода крепилась и расплакалась лишь тогда, когда затих перестук копыт Юшкиного коня.
Москва поразила: пожарище без конца и края. Правда, поближе к детинцу уже грудились новые дома, всё больше сложенные из не потемневшего ещё смолистого бревна, но было их совсем немного. В основном вернувшийся в Москву чёрный люд жил в землянках.
Юшка съездил на то место, где до Тохтамыша стоял дом вдовы Мелика, но там обнаружил лишь две землянки: расторопные люди уже захватили хорошее место вблизи кремля. О Насте никто ничего не знал. Видимо, сгинула, как тысячи москвичей...
Сунулся Юшка и в кремль. Мрачный воротный расспросил, кто таков, да откуда, да к кому. Его насторожил рязанский говор Юшки.
— К князю Боброку-Волынскому, — назвал Юшка единственного из наибольших людей, кого он знал по Куликовской битве и кто, по его сведениям, остался в живых.
— На Литовской меже он, паря.
Хотя что он мог сказать князю? Что князь мог сказать ему? Вряд ли он что-либо знал о судьбе Степана.
Юшка развернул коня, бросил последний взгляд на каменный детинец, когда-то в дни их первого со Степаном похода ослепительно белый, а ныне чёрный, закопчённый, в потёках смолы, и поехал через чёрную, мёртвую Ордынку в сторону Серпухова.
В Серпухове, выгоревшем, так же как и Москва, Юшка с трудом нашёл уцелевшее подворье, остановился на ночь, чтобы дать отдых коню и себе. Ранним утром, когда седлал коня, подошёл монах.
— Я слышал, добрый человек, ты вчера говорил, что держишь путь в сторону Коломны?
— Да.
— Сделай богоугодное дело, возьми меня с собой. — Монах, видя, что Юшка собирается ответить отказом, пояснил: — Я от Смоленска иду, доброхотные подаяния для братии собираю. А тут люди толкуют, будто у Кашина брода тати объявились, одиноких путников грабят и, что хуже того, в рабство нехристям продают.
В глазах монаха — был он юн, безбород и наивен, — явственно читался страх.
— Ты не думай, я хожу без устали, могу даже бежать, за стремя держась, ежели ты надумаешь рысью ехать. — Монашек уже не просил, а умолял, не опуская больших, светлых, в белёсых ресницах глаз. — Полную кису подаяний несу, щедр наш народ в беде. Даже полтины[65] давали. Ибо взыскан я от Господа ласкательным голосом...
Монах, казалось, готов был пасть на колени.
— Пятый день никто в сторону Коломны не идёт, проживаюсь, хоть в кису залезай, а она всей братии принадлежит!
— Голос, говоришь, от Господа ласкательный? — Юшка подумал, что давно уже никому не подыгрывал на своей дудочке. — Хорошо, отец святой, собирайся.
— А я вот, всё со мной! — заулыбался монашек.
Он оказался лёгким, приятным спутником. Природа действительно наградила его высоким чистым голосом. Расчувствовавшись, Юшка даже пару раз подсаживал его в седло, давал отдохнуть, но монашек сидел неуверенно, боялся упасть, так что отдыха не получалось.
...Вечерело. Луга подёрнулись лёгким туманом, синеватый лес на рязанском, высоком берегу Оки казался таинственным и мрачным. По расчётам Юшки, до Кашина брода оставалось совсем немного, засветло они, пожалуй, успеют перебраться на свою, рязанскую сторону, а там костерок разложат, обсушатся, обогреются. Монашек притих. Притомился, видно.
Юшка подумал, что за всем время пути они не встретили ни единой души на дороге. До нашествия такого просто не могло быть: сновали в обе стороны и конные, и пешие, тянулись обозы — чумаки с юга, москвичи с севера, рязанцы в обе стороны.
...Дорога свернула в сторону от реки, дальше на многие поприща простирались песчаные отмели. Даже в сумерках чистейший, светлый окский песок словно светился — так светится снег в лунные ночи. Впереди показалась небольшая рощица. Юшка подумал, что можно будет там переночевать. В рощице не сложно насобирать хвороста, сложить костерок, из валежника получатся отличные лежанки. Конь приучен пастись невдалеке от спящего хозяина, чужаков чует не хуже любой собаки, незнакомого не подпустит.
Юшка ехал к лесу, погруженный в приятные мысли о близком отдыхе. Монашек брёл позади, негромко напевая что-то молитвенное.
Задумавшись, Юшка пропустил момент, когда из лесочка выскочили двое конных и молча, словно весенние, отощавшие волки, кинулись с двух сторон с саблями наголо.
Спасли только никогда не исчезающая, даже в задумчивости, готовность встретить опасность да упорные занятия с парнями на дворе под Тверью.
Юшка бросил коня на нападающего справа, — чутьё подсказывало, что тот слабее, — ударом сабли выбил оружие из его рук и. вторым ударом безжалостно зарубил, одновременно поворачивая коня, чтобы встретить нападение. Второй замешкался, устрашённый гибелью товарища. Юшка успел сорвать с седла булаву, метнул её, целясь в грудь врага, пока тот медленно падал, соскочил с седла и подбежал.
Заросшее пегой бородой лицо явно было русским. На человеке не было ни кольчуги, ни брони.
— Н-да... — протянул Юшка, подобрал булаву, сел рядом, ожидая, когда человек придёт в себя. Краем глаза он заметил, что монашек стоит на коленях и молится.
Человек шевельнулся. Юшка привстал, поднёс к его лицу булаву, негромко произнёс:
— Отвечай, как перед Христом Богом. Солжёшь — зубы в глотку вобью.
Человек с трудом кивнул, превозмогая боль.
— Зачем напали?
— Поживиться... хотели...
— Вас двое было?
Глаза мужика вильнули, и Юшка слегка стукнул его булавой по лбу.
— Смотри, паря, я тебя предупредил. Ещё раз попытаешься соврать, и всё, будешь зубами плеваться... Вас двое было?
— Нет.
— А сколько?
— Пятеро.
— Остальные где?
— В лесу...
— Что же, вы только вдвоём выскочили?
— Пленники там у нас...
— Сколько?
— Трое.
— Как же вы их взяли, вояки?
— Арканами.
— Вы, никак, рязанцы?
— Пронские.
— Один хрен. А пленные кто?
— Рязанцы.
— Ну, полежи отдохни... — Юшка стукнул булавой по голове мужика, тот закатил глаза.
Монашек всё так же молился, стоя в пыли.
Юшка прицепил булаву на седло, достал из налучья лук, натянул тетиву, расстегнул колчан, извлёк стрелу и, скрываясь за мощным крупом коня, двинулся к лесу.
На опушке, поросшей кустарником, появился человек.
— Ну, что там, чего возитесь? — крикнул он.
Юшка, не отвечая, сделал ещё несколько шагов, приближаясь к нему.
— Эй, паря, стой, где стоишь!
Юшка замедлил шаг, наложил стрелу на тетиву, выскочил из-за коня и, не медля, выстрелил.
Человек на опушке упал со стрелой в шее. Юшка негромко свистнул, конь подбежал к нему, как собака, вспрыгнул в седло и поскакал к лесу. Второй разбойник, выбежавший на опушку, так и не успел понять, что происходит, рухнул со стрелой в груди — Юшка стрелял на скаку тоже хорошо.
«Если тать не соврал, остался один», — подумал Юшка, спрыгивая с седла.
Не соврал, понял он, выбегая на полянку: там стоял, напряжённо вслушиваясь, один человек. Двое пленников лежали, связанные по татарскому обычаю — спина к спине — у кустов, ещё один — у костра.
Юшка поднял лук — если тати сами лезут под стрелы, так поделом им! Последний разбойник рухнул головой в костёр — пущенная с близкого расстояния стрела вошла в грудь по самое оперение и при падении сломалась под тяжестью тела. Жаль, конечно, стрелы, — Юшка точил и клеил их сам, иногда на одну уходило чуть ли не два дня...
— Потерпите, мужики! — крикнул связанным. — У меня там недобитый остался!
Он выбежал из леска. Монашек всё так же молился поодаль, а тать уже начал приходить в себя — сидел, тупо поматывая головой. Юшка подбежал к нему, сорвал кушак, связал за спиной руки, рывком поднял, поставил на ноги, сказал, зловеще улыбаясь:
— Топай, не мне ж тебя тащить! — И крикнул монашку: — Святой отец, иди за мной, всё кончено.
На полянке ничего не изменилось. Юшка бросил взгляд на лежащего у костра — то был труп, страшно изуродованный: видимо, беднягу пытали. Подошёл к связанным, хозяйским глазом оценил настоящий волосяной ордынский аркан и принялся его распутывать, бесцеремонно переворачивая пленных.
— У тебя что, ножа нет? — прохрипел младший.
— Нож есть, но зачем добру пропадать.
Наконец он освободил пленникам ноги, и пока те, кряхтя, поднимались, деловито смотав аркан, свистнул — меж кустов продрался конь. Юшка подвесил на седло второй аркан и только после этого спросил:
— Как же это вас, троих мужиков, повязали?
— Заарканили, — коротко ответил младший. Видимо, он был главным в троице.
— Небось когда от воды ваши кони отряхивались? — догадался Юшка. Он и сам бы действовал так же, если б решил брать пленников на переправе.
Младший мрачно кивнул. Его лицо показалось Юшке чем-то знакомым. Бородка ухоженная, лоб высокий, чистый...
— Как звать тебя? За кого Бога молить, кому свечку ставить?
— Юшка.
— Юхим, что ли? — подал голос второй пленник.
— Не, Юрий значит.
— Где воевать научился?
— На меже... — ответил Юшка, вглядываясь в младшего. — А не Фёдор ли Олегович ты будешь?
— Он самый.
Фёдор произнёс это спокойно, однако Юшка заметил, как подобрался его спутник, стараясь незаметно придвинуться к оружию, лежащему у костра.
— Сядьте-ка, парни, в сторонку, на оружие не коситесь. Иначе у нас разговору не получится. Мне-то вы и вдвоём не страшны, однако зачем вас в соблазн вводить.
— Ты как со своим князем разговариваешь? — подал голос второй пленник, по облику воин.
— А он мне не князь.
— Ты ж рязанский, — удивился воин. И повторил, подчёркивая открытое «я» в слове «рязанский».
— Был я рязанским, пока твой батюшка, Фёдор Олегович, моего господина в монастырь не заточил, вотчины не лишил...
— Постой — ты не меченоша Степана Дебрянича, стольника и сотника?
— Он, знамо дело. Но всё равно, отойдите от оружия и сядьте в сторонке.
Бывшие пленники с видимой неохотой выполнили просьбу — сели в стороне.
— Мы со Степаном к Дмитрию Московскому отъехали, так что Олег Иванович мне теперь не указ.
— Жаль, что батюшка поспешил тогда. О Степане да и о тебе на меже до сих вспоминают добрым словом.
— Тебе откуда знать, Фёдор Олегович?
— Мне батюшка сторожевой полк под руку отдал.
— Что ж тебя, князь-воевода, сюда занесло? На московской меже у нас отродясь сторожей не было. Да ещё на этом берегу.
— К Дмитрию нас повезёшь?
— С Дмитрием мои пути разошлись.
— Что же вы так — с моим батюшкой Степан характером не сошёлся, с Дмитрием пути разошлись?
— Наше это дело... — нахмурился Юшка. — Не служу я ныне Дмитрию, вот и весь сказ.
Фёдор помолчал, разглядывая его. Перевёл взгляд на монашка, который всё это время хранил молчание.
— А где сам Степан?
— Зачем он тебе?
— Хочу службу ему предложить.
— В узилище бросил его Дмитрий, — неохотно признался Юшка. — Ещё до Тохтамыша. А после татарвы в Москве не то что человека, собаки живой не осталось.
Фёдор что-то обдумывал.
— А ты ко мне в таком разе не пойдёшь служить?
— Мы боярина Корнея кровно обидели.
— То моя забота. Решай. Я бы тебя дружинником взял.
Юшка задумался. Если бы можно было съездить в Тверь, посоветоваться с Пригодой... Но не признаваться же в желании спросить совета у жены двум этим воинам. Они только что видели его в деле, прониклись уважением. Стать дружинником сына великого князя! Сколько лет Степан пытался сделать Юшку полноправным дружинником. Добился одного меченоши. Предложение княжеского сына лестно и открывает им с Пригодой путь к возвращению на родину. Так чего же он думает? Он ведь всю жизнь принимал решение за Степана — почему боится сейчас принять решение за себя? И всё же Юшка ещё немного потянул с ответом:
— А дружина большая?
— С ним было две дюжины. — Фёдор указал на труп своего второго спутника.
— Его пытали? Он тоже? — Юшка указал на связанного пленника.
— Да.
— Если я всё скажу, вы меня пощадите? — заговорил торопливо тот, поймав на себе взгляды.
— Что скажешь?
— То, что для вас важно. Пощадите?
Юшка вопросительно глянул на князя.
Тот неопределённо пожал плечами.
— Говори! — приказал Юшка.
— Скоро ещё пятеро наших вернутся. Помилуй, батюшка-князь! Помилосердствуй! Всеми святыми клянусь, не буду больше лиходействовать! С голоду пухли после Орды проклятой...
— Где наши кони? — спросил спутник князя.
— Там, на дальней полянке... стреноженные... все вместе пасутся.
— Веди!
Тать торопливо вскочил на ноги и поспешил в кусты, подальше от страшного человека, расправившегося с разбойниками, словно с малыми ребятами.
Вскоре послышался шум — это кони пробирались сквозь кустарник. На полянку вышел дружинник. Один.
— Я-то ему ничего не обещал... — пояснил он в ответ на немой вопрос князя.
— Что ж, коли не передумал, Фёдор Олегович, — смущённо сказал Юшка, — то я согласен.
— Вот и ладно! — широко улыбаясь, ответил Фёдор. Юшка ему сразу понравился: простой, ясный, прямой, как булатный старинный меч.
— Будем ждать татей? — спросил он деловито.
Князь утвердительно кивнул. Впрочем, Юшка не сомневался в ответе — по всему было видно, что князю страсть как хотелось посчитаться за позорное пленение.
— Тогда этот пусть идёт? — полувопросительно сказал он, указывая на монашка. — В попутчики напросился, один идти боялся.
— Я, это, потом... — подал голос монашек.
— Когда потом, святой отец?
— Ну, это... — монашек перекрестился. — Потом.
— Тогда посиди в кустах, — хохотнул Юшка.
Всё возвращалось на круги своя. У него был господин, господина следовало оберегать и защищать, и, главное, был этот господин своим, рязанским. Счастливо завершался мучительный долгий путь.
«А Пригода как рада будет!» — подумал Юшка, оглядывая внимательным взглядом едва различимые в сгустившихся сумерках кусты. Он уже прикидывал, как лучше встретить разбойников.
Боя практически не было. Засевший в кустах Юшка с такой непостижимой быстротой выпустил четыре стрелы, поразив четырёх татей, что ему мог бы позавидовать любой татарский батыр. Пятого, поскакавшего было прочь, перехватил князь. Юшка дал возможность ему показать себя.
До самой Москвы Юшка не знал, с какой целью едут они в столицу враждебно настроенных к Рязани соседей. В Москве дружинник — звали его Фрол и был он младшим внуком старого боярина Фрола Дубянского — уехал в город.
Вернулся поздно вечером, уставший, но довольный.
— Она с матушкой в Коломенском, — доложил князю. — За селом на обрыве к Москве-реке новый терем построили, кругом яблоневый сад, к реке мостки настелили» По утрам там гуляет, к реке спускается, чаек кормит. Её сразу угадать можно — где чайки, там и она.
Князь обнял Фрола, потом покопался в кисе, достал дорогой перстень, пожаловал за удачную службу, ещё раз обнял и вышел из избы, чтобы побыть одному.
— Кто она-то? — не утерпев, спросил Юшка.
— Как это? — удивился Фрол. — Я думал, ты знаешь, потому и не спрашиваешь. Княжна Софья.
Софья... Юшка смутно припомнил девчушку, дочь Дмитрия Московского. Расспрашивать не стал. Не его это дело.
Утром, чуть свет, Фёдор ускакал, взяв с собой Фрола. Юшка не обиделся. Он служил князю всего-навсего седмицу.
Фёдор вернулся к полудню, весёлый, сказал, что обратно поедут послезавтра. За оставшееся время сгонять в Тверь никак не получалось, и Юшка завалился спать. Теперь, когда опять появился господин, спать следовало впрок и как можно больше: кто знает, что может случиться.
Глава сорок седьмая
В конце зимы 1385 года Олег Иванович предпринял большую поездку по сторожевым городкам — решил проверить, как подготовлены новые сотни. Сопровождавший его Фёдор взял с собой Юшку.
К Юшке великий князь отнёсся милостиво. Вспомнил, как спас его верный меченоша, а когда Юшка с разрешения Фёдора съездил в Тверь и привёз в Переяславль Пригоду с сыном, пожаловал гривну на обзаведение. Однажды, осведомившись, как растёт на Рязанской земле сын, даже пошутил: мол, догадывается, в честь кого нарекли его Степаном.
Боярин Корней, встречая Юшку в переходах княжеского терема, делал вид, что не узнает. Юшка всегда кланялся, как и положено дружиннику младшей дружины наследника кланяться боярину старшей дружины великого князя.
В первых числах марта нежданно-негаданно отряд ордынских удальцов, поддержанный мордвой, налетел на восточные пределы княжества у впадения реки Цны в Мокшу, крупный приток Оки.
Жены бояр и дружинников с семьями ушли, не дожидаясь веления великого князя, в заокские леса. Их сопровождали, по обыкновению, старики дружинники и пожилые воины.
В молодости Пригода не раз проделывала этот скорбный путь, сопровождая Алёну. Ныне же оказалась одна — Юшка мотался с князем Фёдором по меже, сколачивая полк, чтобы дать отпор налётчикам. Пригода растерялась. Дом был невелик, Юшка не захотел ставить терем, чтобы не привлекать внимания людей: зависть царила в среде новых дружинников. Но даже в небольшой избе за полтора года жизни с маленьким ребёнком накопилось много важного и нужного на первый взгляд имущества. К счастью, появился старый дружинник Михей, — его послал боярин Кореев. Михей быстро взял всё в свои руки: Стёпке дал поиграть свою плётку с затейливо изукрашенной резной ручкой, Пригоду успокоил, рассказав, как помогал при Тохтамыше уезжать одной толстой и глупой боярыне и как та всё пыталась взять с собой в лес огромного индюка с кровавой соплей и расписным хвостом. Потом к месту помянул, что несколько раз видел Юшку в деле и очень его уважает. Михей так умело распорядился дворовыми парнями и девками, что к вечеру небольшой обоз уже спускался к бродам.
Здесь верховодил другой старик дружинник. Он следил за тем, чтобы возы с добром и детьми не лезли все разом в воду, вернее, в ледяную кашу, образовавшуюся на месте брода, а спускались и входили в реку гуськом, спокойно. Если, не дай бог, что произойдёт и воз перевернётся, не будет затора и от того ещё большей беды.
Около одного из тяжело нагруженных возов Пригода приметила знакомые лица. Это были девки из дворни боярина Корнея. Пригода похолодела — ей вовсе не хотелось встретиться с самим боярином без Юшки.
К счастью, смеркалось, девки были заняты обычной болтовнёй и не заметили, вернее, не признали: Пригода оделась в свои лучшие одежды — дорогой хитон, сурожский плащ, подбитый куницей и заколотый у горла золотой причудливой булавкой, на голове высокая, отороченная соболем шапка. Боярыня, да и только!
Утомившийся Стёпка дремал.
Пригода прислушалась.
— И чего нашему боярину дома не сидится? — сказала одна из девок. — На межу, видишь ли, с молодым князем поскакал.
— По его годам не в седло взбираться, а на печь, — подхватила вторая.
— Не знаю, как на печи, а в девичьей он рукам волю даёт, — хихикнула третья.
— И не только рукам! Всё надеется, горемычный, что Бог ему ребёнка пошлёт, пусть хоть какого, хоть на стороне прижитого.
— И куда только боярыня смотрит?
— Как боярышня сгинула, никуда не смотрит. Молится цельный день.
— Ой, девки, я что слышала! Устя, её комнатная, рассказывала, что собралась боярыня к Пригоде сходить, поспрошать.
— Ну?
— Не пустил боярин. Плёткой пригрозил.
Девки помолчали.
— А Пригода-то наша сама чисто боярыня. Я её как-то у церкви встретила.
— Признала она тебя?
— А почему не признать? Али я постарела так?
— Не ты постарела, она не загордилась ли?
— Куда там — на поклон ответила, остановилась, первой заговорила, расспрашивать стала. И что я вам скажу, девки...
Болтушка — Пригода хорошо её помнила — умолкла.
— Сказывай!
— Сынок-то у неё — вылитый Степан.
Впереди закричали, боярские возы медленно двинулись к берегу. Первый воз вступил в воду, перед ним, подсвечивая факелом, брёл холоп, указывая брод.
Пригода сидела, сжимая горящие щёки.
«Вылитый Степан! Как же я сама не замечала?»
Малыш засопел и притулился к Пригоде, тёплый, родной.
— Не отдам! — прошептала она, прижимая мальчонку к себе.
— Ты что-то сказала? — спросил старый дружинник, подходя к возу.
— Может, вернёмся домой? Ну куда мы, на ночь глядя, в сырой лес, в темень. Может, отгонят наши ратники нехристей, не допустят до города?
— А если нет — как я твоему Юшке да боярину Корееву в глаза посмотрю?
Кто-то крикнул: «Давай!», и возы медленно двинулись к реке.
В лесу беженцам пришлось провести только одну ночь. Рано утром примчался гонец от князя Фёдора с сообщением, что ордынцы разгромлены и изгнаны. Жёны бросились, выкрикивая имена своих мужей, в надежде, что, может, гонец знает что-нибудь.
— Юшка! Дружинник князя Юшка! — кричала вместе со всеми Пригода.
— Твой Юшка герой! — крутнулся на коне гонец. — Он князя Фёдора Олеговича спас и ордынцев намолотил, как на току!
Пригода шла к тому месту, где смерды рыли с вечера землянку, и тихо плакала от радости. Наверное, потому не сразу разглядела — на заготовленных для землянки брёвнах сидела старая боярыня Корнея, а рядом с нею Стёпка.
У Пригоды защемило сердце: разболтали девки, пришла боярыня проверять. А проверять-то нечего, только слепой не увидит, что ребёнок на Степана похож, и Алёны черты в нём проглядывают. Что же делать? И Юшки, как назло, нет рядом...
Боярыня подняла глаза и увидела Пригоду. Положила руку на грудь, словно усмиряя рвущееся сердце. Встала. Пригода поразилась, какой маленькой она оказалась. Усохла, что ли...
Женщины стояли молча. Первой нашла в себе силы заговорить боярыня:
— Сердца у тебя нет. О себе только думаешь.
— Разве с этого надо начинать, боярыня? С упрёка?
Они напряжённо смотрели друг на друга. Стёпка стал дёргать боярыню за подол:
— Ты мне сказку не досказала!
— Сейчас, маленький, сейчас доскажу, только вот поговорю с твоей... — Боярыня споткнулась на слове «мамой» и умолкла, не спуская глаз с лица Пригоды.
— Я не сказала, что хочу с тобой разговаривать.
— Хочешь, чтобы я на колени перед тобой встала?
— Стёпка! Иди к маме! — Пригода почти выкрикнула слово «мама» и повторила ещё раз, спокойнее: — Иди к маме!
Боярыня медленно, с трудом опустилась на колени. Стёпка растерянно смотрел на неё. В отдалении стали собираться холопы.
— Не гневись, Пригода. Выслушай! Я обо всём догадалась, как только на него поглядела. Можешь молчать, только правды молчанием не скроешь. — И страшным шёпотом, чтобы Стёпка не слышал, спросила, вернее, утвердила:
— Доченька моя... — боярыня с трудом вытолкнула застрявшее в горле слово, — умерла?
Пригода только склонила голову.
— И ты ему мать заменила?
— Да! — с отчаянием выкрикнула Пригода, словно у неё уже сейчас забирали ребёнка.
— Не кричи: честь тебе и хвала! Только что же ты о нас, стариках, не подумала? — Боярыня с усилием поднялась с колен.
Пригода молчала.
— Ты у нас четыре года счастья украла!
— Вы бы его у меня отобрали!
— Корней — может, и отобрал бы, во всяком случае, попытался, — согласилась боярыня. — Я — никогда. Ребёнку мать нужна.
— Это ты сейчас, когда Юшка дружинником стал, так рассуждаешь. А были бы мы никем, ты бы совсем иначе говорила, за боярином Корнеем его жестокие слова эхом бы повторяла!
— Что понапрасну ныне судить — так ли, иначе ли... Бог распорядился, и не нам его волю обсуждать. Только должен Степан, боярский сын, и расти боярским сыном, наследником всех — и Корнеевых, и Дебряничевых вотчин! — Голос боярыни окреп, и Пригода вспомнила, как умело подчиняла та шумного, грозного мужа.
— Жить с вами мы с Юшкой всё равно не станем!
— И не надо, — быстро согласилась боярыня. — Главное, вы перед нами дверь не закрывайте.
Заскучавший Стёпка ухватил мать за руку и стал дёргать:
— Мама, дядя Михей сказал, что мы домой сейчас поедем!
— Да, медовый мой!
— И что нас там папка уже будет ждать!
— Да, лапонька!
Старая женщина с умильной улыбкой смотрела на мальчика, по щекам её текли слёзы.
— А эта тётя сказку мне доскажет?
Ох, как много иногда зависит от одного короткого слова!
Пригода долго молчала. И только когда у боярыни стали подгибаться колени, а лицо побелело, как на смертном одре, вымолвила:
— Доскажет...
Победителей встречали колокольным звоном и радостными криками.
Пировали два дня, пили без меры. Олег Иванович сидел во главе дружинного стола, неторопливо потягивал хмельной мёд, поглядывал на Фёдора: воевода! Вроде радоваться надо, но на сердце было неспокойно: ждал — сейчас сын встанет, выпьет прощальную чару и уедет к Марье! Почему-то от этой мысли становилось тошно, он не хотел задумываться — боялся.
Но Фёдор сидел рядом, широкоплечий, ясноглазый, пил, почти не пьянея, и, по всей видимости, никуда не спешил. Ефросинья не сводила с сына любящих глаз, и всё, опережая кравчего, подкладывала куски повкуснее.
— Понимаешь, отец, ордынец боковой конный удар не выдерживает! — в который раз повторял Фёдор великому князю о сделанном им в боях открытии. — Конные сотни с межи — твоя, отец, великая мысль! А боковой удар татары не держат, да! — Вдруг он с хмельной непоследовательностью вспомнил: — Юшка, подойди сюда, я о тебе с великим князем говорить буду!
Юшка подошёл и степенно поклонился Олегу Ивановичу.
— Почему без чары? Эй, кто там! Подайте дружиннику чару!
В руки сунули полную мёду чару.
— Он меня в бою два раза своим телом закрывал, два смертельных удара принял! — втолковывал Фёдору отец.
— Но жив остался, — не удержался от лёгкой насмешки великий князь. Юшка почему-то вызывал в нём всегда лёгкое раздражение, а может быть, и смущение за причинённую когда-то ему и его другу несправедливость.
— Он воин, каких мало! Хочу просить тебя, отец, дай ему боярство!
«Нет, всё же ещё многого не понимает сын в искусстве власти», — подумал Олег Иванович. Нельзя просить о милости для того, кто стоит рядом, ибо милость будет принята как должное, а отказ — как оскорбление.
— Я его воеводой правой руки поставлю! — продолжал Фёдор.
— Если будет воеводой, в бою прикрыть тебя уже не сможет, — пошутил Олег Иванович. — У него иные заботы появятся.
Фёдор непонимающе уставился на отца. Он был уверен, что ему в такой день ни в чём не откажут. А Олег Иванович разглядывал Юшку. Ничего в лице не дрогнуло, хотя слышал весь разговор. Только в глазах теплился огонёк приязни, а точнее даже, любви к молодому князю.
«Не так ли любил он своего непутёвого Степана?» — подумал великий князь и неожиданно для себя сказал:
— Выпей со мной чару, боярин!
Олег Иванович проснулся рано, ещё затемно. Ночь была по-мартовски морозной, он вышел на гульбище, кутаясь в подбитый хорьком плащ. На тёмно-синем бездонном небе стояла прозрачная луна, задетая первыми, ей одной лишь видимыми лучами солнца. Пели растревоженные весной птицы. С бронного двора доносился звон сабель. Олег Иванович пошёл по гульбищу на звук.
На утоптанном, потемневшем снегу прыгали двое бойцов, обнажённых по пояс. Пар валил, мускулы бугрились, сабли со звоном скрещивались. Оба смеялись, радуясь равно своему удачному удару или удару противника.
Великий князь узнал Фёдора и Юшку и с толикой обиды подметил, что воин играет не в полную силу.
— Эй, петухи, поднимитесь потом ко мне в горницу! — крикнул он и вернулся в дом.
В горнице мокроволосых после умывания бойцов ждало горячее молоко и свежий, духовитый, только что из печи хлеб. Фёдор набросился на еду.
Олег Иванович хмыкнул:
— Два дня, как вернулся, а к дочери ещё не заглянул?
— Какой дочери? — поперхнулся куском хлеба Фёдор.
— Катеньке.
— Знаешь уже?
— Большая тайна — у сына великого князя есть дочь, прижитая с любовницей. Все бабы в Переяславле о том судачат.
— Сегодня же Юшку пошлю с гостинцами.
— Юшку... — проворчал Олег Иванович. — Сам поедешь и попрощаешься.
— Почему попрощаюсь? — удивился Фёдор.
— Потому что сегодня же начнёшь готовиться к походу на Коломну. Пока полки в сборе, — спокойно сказал Олег Иванович, словно речь шла о небольшой охотничьей потехе.
— Коломну?
— Ну да. Она древняя рязанская волость. Давно пора вернуть.
— Это что же выходит — война с Москвой? С Дмитрием Ивановичем?
— У него полки по домам распущены. Пока ополчится, мы своё возьмём.
И вдруг Фёдор, здоровенный, красивый, упал перед отцом на колени и жалобно, словно маленький, попросил:
— Батюшка, не надо воевать с Дмитрием!
— Это ещё почему? Я с того самого дня, как мы стали полки на меже готовить, о походе на Коломну думаю. Всё обмозговал. Неужели ты не догадывался, зачем нам полки?
— Ордынцев отгонять...
— Для тех, что ты недавно разгромил, и одного полка достанет. А против Тохтамыша, к примеру, или второго Мамая воинов мало. Нет, сын, мне эти полки против Москвы нужны, пока она коней расседлала. Думаешь, я забыл, как они, когда я ещё от Тохтамыша не оправился, на Рязань навалились и хуже нехристей себя повели?
— Выходит, ты три года месть лелеял?
— Три года я землю после их воровского налёта восстанавливал. — Великий князь обратил наконец внимание на неподвижного, как изваяние, Юшку. — Вот что, боярин, бери гостинцы и поезжай к Марье, дочери вдовы Василия Михайловича. И помни, её дочь Катенька моему сыну непутёвому — выблядок, а мне, старому, пока единственная внучка!
Юшка низко поклонился и вышел из горницы. Всё время, пока великий князь говорил, Фёдор удивлённо глядел на отца.
— Так ты бывал у них? — спросил он растерянно.
— Бывал. Катеньку качал и щёчки её пухленькие своей бородищей колол.
— А матушка?
— Мать терзается, что не может дурацкую бабью ревность — выдуманную — переступить и внучку свою сладенькую понянчить.
Олег Иванович прилёг на медвежью шкуру, протянул руку, достал из ларя чашу с орехами, пододвинул к сыну, всё так же стоящему на коленях перед ложницей. Он взял один орех, повертел в тонких, длинных, сильных пальцах, отправил в рот.
— Не иди на Москву, батюшка! — опять попросил Фёдор.
— Почему?
Фёдор опустил голову и ничего не ответил.
— Не думал я, что мой сын и наследник из-за бабьей юбки откажется от славы победителя. Не протянет руку и не возьмёт то, что нам по праву принадлежит. Может, мне тебя на удел посадить, а наследником твоего брата тишайшего Родослава объявить?
— Воля твоя, батюшка, только...
— Молчи! Молчи, недоумок, пока я тебя всего не лишил! Задурила тебе мать голову этой княжной! Неужто не понимаешь, что не отдаст её за тебя Дмитрий, не по тебе кус!
— Я ей по сердцу.
— С каких это пор княжон спрашивали, кто им по сердцу? Встань! Я тебе великую славу приготовил, а ты от неё отказался. Я сам полки поведу. Ты на княжении останешься.
В день выхода рязанских полков из Переяславля Фёдор подошёл к отцу, улучив момент, когда матери, великий княгини Ефросиньи, не было поблизости:
— Был я у них, Катеньке гостинцы отвёз.
Олег Иванович молча кивнул, всем своим видом показывая, что сын выбрал не лучшее время для этого разговора.
— Марья велел тебе глубокую благодарность передать.
— Вот как? — с видимым безразличием сказал Олег Иванович.
— А дочка не ко мне, а к Юшке потянулась. Он обещал её со своим сыном познакомить.
Фёдор помялся и сказал главное, то, ради чего он подошёл к отцу в такой день:
— Возьми Юшку с собой, батюшка. Верь моему слову — нет воина в бою надёжнее защиты ошуйю[66], чем Юшка.
И древнее слово, кстати употреблённое сыном, и умоляющий взгляд его глаз, и внутренняя, с давних пор возникшая симпатия к бывшему меченоше — всё сошлось. Великий князь, не раздумывая, согласно кивнул головой...
Двадцать четвёртого марта 1385 года неожиданно и для Москвы, и для соседей Олег Иванович напал на Коломну. На следующий день — это был день Благовещения, и коломенцы приступа не ждали — рязанские войска захватили город и жестоко разграбили его, взяв большой полон, в том числе многих коломенских бояр и самого наместника.
Добыча оказалась огромной. Город, удачно расположившийся на месте впадения Москвы-реки в Оку, давно уже стал крупным торговым центром, по праву считался одним из богатейших в Московском княжестве.
Олег Иванович уже на третий день пребывания в захваченной Коломне понял, что отягощённые добычей и пленными — каждый пленный означал выкуп — рязанцы превратились в никудышных воинов.
Взвесив все «за» и «против», он приказал возвращаться в Переяславль и готовиться к отражению главных сил Москвы.
— Растревожили медведя в берлоге, — ворчали старые бояре. — Зачем нам эта Коломна, ежели удержать не способны? Лучше бы в Лопасне закрепиться!
Но у Олега Ивановича был свой расчёт. Вторая подряд военная удача, большая добыча, пленные, которых уже начали выкупать московские родственники через мещеряков-посредников, — всё это воодушевило воинов. И когда от лазутчиков пришли сообщения, что Дмитрий Иванович собрал многочисленную рать, призвав под свои знамёна удельных князей тарусских, союзных князей новосильских, отъехавшего к Москве князя Михаила Полоцкого, Олег Иванович повёл рязанское войско навстречу с уверенностью, что, припрятав по домам и лесным схронам добычу, его воины будут теперь воевать с удвоенным пылом.
В жестокой битве Олегу Ивановичу удалось поквитаться за поражение на Скорнищевом поле: москвичам, потеряв многих бояр, воевод, доблестных воинов, пришлось отступить. А ведь возглавлял московское войско доселе не знавший горечи поражения Владимир Серпуховской, прозванный народом после Куликова поля Храбрым.
Это была полная победа!
Однако Олег Иванович полагал, что это только начало. Следовало развивать успех. А для этого надлежало в помощь полкам собрать ополчение, распределить сотни по всей Коломенской волости так, чтобы на сто закалённых воинов пришлось бы по двести ополченцев, найти воевод и сотников, десятников и старших обозников.
Великий князь трудился, как никогда раньше, укрепляя своё положение в Коломенской волости. С раннего утра писцы уже сидели, перебеливая его грамотки, десятки гонцов ждали только знака, чтобы прыгнуть в седло и мчаться с поручением, неотступно ходил Кореев, подхватывая на лету распоряжения, и, как всегда, во времена удачи, повсюду, радостные и оживлённые, крутились бояре, стараясь заглянуть в государевы глаза.
Всё молодило и веселило душу.
Только Юшка немного смущал. В бою он оказался незаменимым. У Олега Ивановича появилось такое ощущение, что слева у него вырастает в сражении незримая каменная стена.
А всё остальное время был хмур и молчалив, стараясь не попадаться великому князю на глаза.
«Так и не простил мне Степана, — думал Олег Иванович. — Не простил, но не предаст, не в его натуре».
Глава сорок восьмая
Все поступки Олега Рязанского ставили Дмитрия Московского в тупик. Не сумели помочь советом ни премудрый Боброк-Волынский, ни двоюродный брат Владимир Серпуховской, ни Тимофей Вельяминов.
Олег сидел в Коломне, неторопливо назначал своих тиунов в сёла, осваиваясь и укрепляясь. Видно, решил ограничиться одной Коломенской волостью и, прикрываясь давними межевыми спорами, оттяпать её у Москвы. Уж больно богата была Коломна: все московские товары, идущие к волжским городам водным путём, перехватывала и брала обильное мытное...
Давно не чувствовал себя Дмитрий Иванович таким бессильным. Озабоченный, он не замечал даже, что любимая дочь, Софья, в последнее время, с начала неудачной войны с Рязанью, с лица спала.
А княжна Софья совсем извелась. Причину тому ведала лишь матушка, великая княгиня Евдокия, что когда-то, на празднике под Серпуховом, вместе с Ефросиньей Рязанской то ли в шутку, то ли всерьёз сватала Фёдора и Софью. А девочка приняла всё за чистую монету и после нескольких приездов княжича в Москву и Серпухов влюбилась в него без памяти. Ныне ходила как тень, прислушиваясь к малейшим слухам оттуда, из Коломны.
Счастье хоть, что не участвовал Фёдор в сражениях. Лазутчики доносили, что оставил его Олег Иванович на столе вместо себя. То было понятно — русские князья, уходя на войну, большую ли, малую, оставляли на столе наследника, дабы не вышло, в случае гибели, замятии вокруг власти.
На богомолье к преподобному отцу Сергию в Радонеж великая княгиня отпустила дочь даже с радостью — авось немного развеется Софьюшка. Что ей по терему мыкаться, слухи ловить, на взволнованные лица бояр и воевод глядеть.
Выехали на зорьке. Апрель выдался жарким. Дороги, раскисшие после мартовских снегопадов, подсохли, если повезёт, то к вечеру можно было приехать в Радонеж.
В возках неимоверно трясло, Софья и молодые боярыни с радостью пересели на коней. Когда проехали богатое Мытищное село, где жили мытники, поднялось солнце, настроение улучшилось, появилась вера, что отец Сергий поможет. Софья, отличная наездница, поскакала вперёд, забавляясь тем, как вдруг всполошились воины охраны.
Отец Сергий, знавший Софью с детства, принял её ласково, попенял, что не послала гонца уведомить. Теперь придётся келарю крутиться, дабы без обиды срочно высвободить гостевые кельи на разросшемся подворье, — идёт и идёт нескончаемо к монастырю народ молиться каждый о своём. А перед Богом все равны, и не может он, смиренный его слуга, даже ради любимого чада потеснить простого смерда, приехавшего из далёких земель молить о чуде.
Ночью Софья спала как убитая. На рассвете подняли, она отстояла со всеми монахами обители заутреню. Затем отец Сергий повёл её, размягчённую душой после молитв и торжественной службы, исповедаться.
А в чём безгрешной, доброй, чистой девушке признаваться на исповеди? Только в одном — в налетевшей сладкой грозой любви к сыну извечного врага Московского княжества Олега Рязанского и в тайных помыслах о нём. Исповедь кончилась бурными слезами...
Вместе с немного успокоившейся княжной в Москву приехал доверенный монах отца Сергия. Он передал великому князю пожелание настоятеля отслужить большой молебен о ниспослании мира на земли Московскую и Рязанскую.
В сентябре 1386 года, оставив Владимира Серпуховского на столе, Дмитрий Иванович всем двором выехал в Радонеж.
Но мудрый отец Сергий не ограничился одним молебном. Несколько дней служил он обедни о ниспослании мира и спокойствия на Русь. Наконец заговорил с Дмитрием Ивановичем о необходимости примирения с Олегом Рязанским.
— Он меня ныне и слушать не станет, его верх, его воля, — ответствовал Дмитрий задумчиво.
— А меня? — огорошил внезапным вопросом отец Сергий.
Получалось так, что Дмитрий согласен на замирение и всё дело в том, кто поведёт с Олегом переговоры.
— Кто же тебя на Руси осмелится не слушать, — попытался уйти от ответа великий князь.
К разговору о мире с Рязанью он не был готов и теперь мучительно прикидывал, во что может обойтись вмешательство святого старца — с потерей Коломны Дмитрий согласиться никак не мог.
— Вечный мир в границах от дедов, — сказал отец Сергий, словно прочитав его мысли.
«От дедов — получается, что Лопасня Олегу отойдёт», — сразу же сообразил Дмитрий.
— Ты не торгуйся, сын мой, — опять прочитал его мысли Сергий. — Верю я, что Москве и Рязани порознь не быть.
— Мне сотник Степан о том же твердил, — удивлённо вымолвил великий князь, сам не понимая, почему он это говорит.
— Старец Софоний? — показал знание происходящего в монашеской середе отец Сергий.
— Он самый, святой отец.
— Мученическую смерть за своё убеждение Софоний принял. — Отец Сергий как бы ставил точку в бесполезном споре о нужности или ненужности мира между двумя стоящими на меже с Ордой княжествами.
— Единение — то было бы лепо... — задумчиво произнёс Дмитрий. — Мы бы тогда...
— Вот и ладно, — ласково улыбаясь, перебил его отец Сергий. — Завтра же, отслужив заутреню, поеду в Рязань. — Он предпочёл по-своему истолковать изумлённо вскинутые брови Дмитрия Ивановича: — Стар я уже в такую даль пешком ходить...
Первой узнала о выезде отца Сергия в Рязань великая княгиня Ефросинья. Олег Иванович разоспался: вчера вернулся из Коломны поздно. Пока парился, пока сидел с Кореевым и ближними боярами за чаркой, пока спорил до хрипоты о будущем заокских земель, время подошло к полуночи. В голове зашумело — крепкий мёд, который неразумно чередовали с фряжскими винами, дал о себе знать.
В ложнице богоданная супруга лежала, разметавшись, чуть ли не поперёк ложа. Олег Иванович торопливо сбросил с себя камчатый халат, стал расталкивать княгиню — дали о себе знать «постные» коломенские ночи. Та не сразу сообразила, чего от неё хотят, — чай, борода в инее, а всё не угомонится. Но, поворчав, податливо притянула к себе, зашептала ласковые и смешные слова, давно придуманные, ещё в первые годы замужества...
Засыпая, князь с некоторым тщеславием подумал, что в свои сорок пять лет он мужик ещё вполне и, пожалуй, напрасно не берёт в собой в походы лапушку.
Спать бы ему после этих дел до полудня, но жена безжалостно растолкала его со вторыми петухами.
— Гонец прискакал! Говорит, отец Сергий из Радонежского монастыря выехал, в Рязань путь держит!
— Ну и что с того? — сонно спросил Олег Иванович. Но тут же сел на ложе: — Точно в Рязань?
— Точно, батюшка. К нам погостить святой отец надумал, слава тебе Господи... — Заметив, как побагровело лицо мужа, как яростно полыхнули непонятным гневом его глаза, испуганно зачастила: — Прикажешь привести гонца? Я его на поварню отправила. Голодный, чай. Вчера ещё вместе со святым отцом из Радонежа выходил, ночь и день без роздыху скакал.
— Веди! Сюда прямо! И быстро...
Вбежал гонец, торопливо дожёвывая кусок мяса.
— Говори!
Гонец принялся рассказывать, как приехали в монастырь чуть не все московские великие бояре с великим князем во главе, как стояли молебен, как запёрся Дмитрий Иванович в настоятельской келье со святым отцом, как ждали его выхода, перешёптываясь, бояре, как вышел из кельи первым отец Сергий, и по лицу его, просветлённому, поняли, что принял он решение вдругорядь послужить Руси...
— Руси, не Рязани! — вдруг перебил Олег Иванович и, злобно расшвыривая подушки, покрывала, меховую, белых песцов полость, сбившуюся перину, выбрался из постели в одной, до пят, льняной рубашке.
— Иди на поварню, доедай! — крикнул он оторопевшему гонцу. — Как посмел при князе... — Наткнулся взглядом на укоризненные глаза жены, замолчал на полуслове и, дождавшись, когда закроется дверь за гонцом, почти застонал:
— Обошёл меня Митька, обошёл, лукавый змий!
— Что ты, лапушка, Олег Иванович, не обошёл. Отец Сергий мир тебе везёт. Счастье-то какое.
Тут Олег Иванович заметил, что всегда умное лицо жены стало до смешного восторженно благостным. Сейчас оно ничем не отличалось от лиц простых баб во дни особо удачных проповедей архиепископа отца Вениамина, когда толпились те вокруг в надежде облобызать белую, мягкую, несущую благость и успокоение руку.
— Вот же дура! — В сердцах великий князь, кажется, впервые в жизни обозвал жену этим словом. — Что-то он мир не вёз, когда Боброк с Пронским нашу Рязань жгли. Не торопился с миром, когда после Мамая Дмитрий огнём по нашим волостям прошёлся... А стоило мне Дмитрию хвост прижать, вмиг о мире на Руси вспомнил святой отец...
Великий князь бросал злые слова, распаляя себя, но по лицу жены видел: в её глазах он богохульствует. Не примет ни она, ни кто иной на Рязани, может быть, кроме верного Епифана, обвинений преподобному Сергию Радонежскому. Вспомнил, как закрывал отец Сергий церкви в Нижнем Новгороде за непослушание тогдашнего тамошнего князя митрополиту, как стоял при этом, казалось бы, ужасном деянии на коленях весь народ и как покорно принял кару нижегородский князь. Олег Иванович, взяв себя в руки, пробормотал:
— Нежданный мир хуже татарина! — От того, что получилось складно, подобрел: — Я в мыльню. Когда выйду, чтобы Епишка всех в малой палате собрал. Он знает кого... — Уже в дверях добавил: — И Фёдора чтоб непременно!..
При первом взгляде на лица бояр Олег Иванович понял: все уже знают о выезде великого старца из Радонежа, и — глупцы, дальше своего носа не видящие! — счастливы тем, что удостоилась Рязань столь великой чести.
А о том, что именно сейчас могла бы Рязань навеки утвердить своё первенство по отношению к Москве, никто и не думает!
Посему Олег Иванович не стал произносить речь, сложившуюся у него в голове, пока ждал он сбора всех великих мужей княжества. Он просто спросил:
— Где будем принимать?
Грянули споры. Одни полагали, что в стольном граде Переяславле, ибо приход великого старца поднимет престиж города.
Другие, более дальновидные, настаивали на Коломне. Как сказал Кореев, сославшись на мудрую игру в шахматы: негоже терять позиционное преимущество.
Нашлись такие, кто от превеликого почтения предлагал встретить преподобного Сергия на полпути. Олег Иванович не удержался, спросил елейно: на каком полпути — от монастыря к Москве, от Москвы к Коломне или же от Коломны к Переяславлю?
Фёдор сиял, в споры не встревал, по лицу было видно: уже встречается он в мыслях с Софьей.
«Ну и Бог с ним, — подумал великий князь, — может, и правда выйдет что путное из затеи двух княгинь, зародившейся на высоком берегу Оки».
Вслух же сказал:
— Встречаем преподобного отца Сергия и его московских спутников в Коломне!
Никто, кроме Кореева, не обратил внимания на то, что всех москвичей Олег Иванович помянул гуртом. Кореев же сделал для себя вывод: спор будет трудный, долгий и надобно заранее приготовить все древние записи и харатейные листы...
Но ничего этого не понадобилось.
Отец Сергий оказался худощавым, немного сутулым, с глубоко запавшими, добрыми глазами и вовсе не величественным. Он с трудом выбрался из простого возка, до верху набитого соломой, и под неумолчный перезвон коломенских, по всей Руси славящихся колоколов, размашисто перекрестившись, благословил встречающий народ. Затем цепко ухватил за руки двух великих князей и спросил их с простоватой укоризной, не напрягая голоса, но так, что его услыхали даже в самых задних рядах:
— Что же вы, аки дети малые, никак не помиритесь?
Олегу Ивановичу стало ясно, что никаких споров не будет...
Мир заключили по воле отца Сергия, что на деле означало утрату всех огромной кровью и напряжением сил сделанных приобретений.
Зато, к вящей радости двух великих княгинь, Софью и окончательно поглупевшего от любви Фёдора сговорили тут же, в присутствии преподобного старца. Установили, что свадьбе быть на следующий год, когда вернётся из заложников в Сарае брат Софьи, Василий.
Волости, обещанные за Софьей, немного утишили гнев Олега Ивановича, но всё едино, бурлила и не давала спокойно спать обида — не на Сергия, тот вызывал восхищение и поклонение, — а на церковь, которую Дмитрий вовлёк в мирские дела. Хотелось бросить вызов небесам, смутить покой их, сделать что-то, пусть даже кощунственное. Но что?
Две земли, два княжества ликовали, славили отца Сергия и, по русскому обычаю, пили, пили...
Начали в Коломне, продолжили в Переяславле.
Проводили святого, усадив его с превеликими почестями всё в тот же простой возок, набитый пахучим сеном, положенным сверху на упругую солому. И опять ринулись в пиршественную палату, словно боялись куда-то опоздать...
Глубоко ночью после очередного пирования Олег Иванович поднял боярина Юшку, спавшего у порога великокняжеской опочивальни, словно простой гридь:
— Вели коней седлать.
— Гридей сколько брать? — не удивился приказу Юшка.
— Не нужны гриди. Вдвоём.
— Заводных коней брать? — Обстоятельный Юшка не унимался.
— Нет, — раздражённо буркнул Олег Иванович. — И, не удержавшись, пояснил: — К внучке едем...
Была глубокая ночь, когда двое всадников подскакали к знакомому дому за высоким, крепким забором. Залаяли собаки, помедлив, подал низкий, густой голос волкодав, главный защитник двора. На этот голос не всякий воин решался пойти.
Юшка легко, прямо с седла, перебрался через забор. Злобный собачий лай сменился радостным повизгиванием, бухнул в последний раз, как в бочку, волкодав: все собаки за несколько приездов успели не просто привыкнуть к Юшке, но и необъяснимым образом проникнуться к нему любовью.
Юшка отворил ворота, отступил и сел под деревом.
На крыльце появилась Марья, кутаясь в длинную цветную шаль.
Олег Иванович спрыгнул с коня, в два прыжка взлетел на высоко крыльцо, шагнул к Марье, на краткий миг замер, но решился, сделал ещё шаг и обнял её.
Небеса молчали, земная твердь не разверзлась. Великий князь жадно ласкал, не думая о Юшке, подавшееся к нему гибкое тело матери своей внучки и ничего, кроме бурно нарастающего желания, не ощущал. Только в самом далёком уголке сознания билось: вы святые, аз же грешен...
— Не ждала?
— Ждала, — только и ответила Марья, отступая в дом...
Зимой 1387 года всё изменилось к лучшему в жизни Олега Ивановича. Между двумя соседними великими княжествами не просто установился прочный мир и пришло согласие, удалось объединить сторожевые полки. Пять раз пытались налететь ордынцы на юго- восточные пределы союзников. Пять раз помолодевший Олег Иванович сам водил в бой сводные полки и прогонял нехристей, не подпуская к срединным волостям.
Свадьбу Фёдора и Софьи играли на полпути между двумя стольными градами — всё в той же Коломне, где зародилась когда-то любовь молодожёнов. И в который уже раз, дружески беседуя за пиршественным столом или в библиотеке с Дмитрием Ивановичем, Олег Иванович убеждался, сколь много у них общего — в мыслях, желаниях, замыслах, даже в повадках. Беспокоило одно: Дмитрий Иванович не по годам рано начал седеть — было ему всего каких-то тридцать восемь, — полнеть, страдать одышкой и потихоньку ограничивать себя в медах и фряжских винах.
На следующий год, успокоившись за свои границы с Ордой, Рязань и Москва обратили внимание на запад. Там после смерти смоленского князя Святослава Ивановича началась неприкрытая усобица между его сыновьями. Этим умело воспользовался Витовт Литовский. Легко разбив разрозненные смоленские полки, он подчинил себе древнейшее русское княжество, исстари прикрывавшее путь в Залесье и к северским землям, завязав тем самым узел кровавых русско-литовско-польских противоречий. Его распутают лишь в XVIII столетии.
Но это в будущем. А в конце восьмидесятых годов XIV столетия, даже объединившись, два свата, два великих князя, Олег Рязанский и Дмитрий Московский, не смогли вышибить Литву из древней Смоленской земли. Правда, после многих боев удалось преградить Витовту путь на восток и установить крепкую межу. Но стычки не прекращались. К удивлению бояр, Олег Иванович, в прошлом не проявлявший особого желания махать мечом, в последнее время при первых сведениях о нападении литвинов мчался с отборным отрядом младших дружинников к литовской границе и одерживал маленькие, но рождающие славу защитника русских земель победы.
Может быть, он делал это ещё и потому, что каждый раз, возвращаясь с литовской границы, тайком заезжал к Марье...
Глава сорок девятая
Завтракали поздно. Вернее было бы назвать это полдником, так долго спал Олег Иванович, вернувшийся за полночь от Марьи.
Он сидел напротив своей княгинюшки, попивая остылое парное молоко, откусывал крепкими, белыми от жевания смолки зубами от ломтя пышного, утром выпеченного любимого ржаного хлеба, обильно политого янтарным мёдом, и поглядывал на жену.
Красивая, вальяжная, статная, но не пышная и всё ещё страстная на супружеском ложе... Почему его так тянет к Марье? Неужели в нём гнездится чёрное, звериное непотребство, что пришло на Русь незнамо откуда — с Востока ли, с его многожёнством и любовью к мальчикам, с Запада ли, из внешне суровых замков рыцарей-монахов, погрязших в разврате...
Ефросинья улыбнулась и спросила:
— В молодечной вчера засиделся, батюшка?
Олег Иванович что-то невнятно промычал с полным ртом. Кто знает, не проверяла ли она: сидел князь в молодечной со своими дружинниками до петухов или, осушив чару, незаметно ушёл?
Без стука вошёл Фёдор. Встал, прислонившись к косяку двери, словно ноги его не держали.
По лицу сына Олег Иванович сразу понял: случилось нечто ужасное.
— Дмитрий Иванович скончался. Гонец прискакал.
Великая княгиня охнула, глаза её округлились и стремительно набрякли слезами.
«Как это легко и быстро у баб бывает», — подумал Олег, прислушиваясь к своим ощущениям. Он не испытывал ни горя, ни радости, ничего. Только-только начали складываться добрые отношения с Дмитрием, человеком, всегда волновавшим Олега и привлекавшим его любопытство. Но ведь как ни крути, а более четверти века Дмитрий был врагом, в нём олицетворялось всё то, что разделяло Рязань и Москву. Несколько лет, как началось сближение...
— Как же я Софьюшке-то скажу, матушка? — вопрос прозвучал совсем по-детски.
— Пойдём, Феденька, пойдём... вот так вместе семьёй придём и скажем! Горе-то какое, горе... но не сиротинушка она у нас, а любимая доча...
Олег встал и пошёл вслед за женой и сыном к переходу, ведущему в терем Фёдора. Вдруг возникла тоска, сжала сердце холодными тисками. Вспомнились все недомогания свата, которые он так старательно скрывал во время совместных походов на Литву. А ведь тридцать девять лет всего. Он на десять лет старше. Словно насмехаясь, лукавый подсунул сладкое воспоминание о прошедшей ночи, о том, каким молодым он чувствовал себя, когда скакал к Марье в сопровождении молчаливого верного Юшки...
На похороны Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Московского, съехалась вся Залесская Русь.
Олег Иванович с приличествующей случаю скорбью обнимался с каждым князем, троекратно, по обычаю, лобызался, говорил несколько слов, неторопливо переходил от одной группы к другой. Великих бояр почти не было видно. Вельяминовы, Микуличи, Акинфовичи — те стояли чуть в стороне.
Прошёл озабоченный Владимир Андреевич Серпуховской, двоюродный брат и ближайший сподвижник усопшего. За ним спешил постаревший, отяжелевший Боброк. Когда-то он жестоко разгромил рязанцев. Потом, накопив не только воинский опыт, но и количество боеспособных полков, прошедших выучку на меже, Олег нанёс ответный удар. После совместных походов против Литвы сблизились: друзьями не стали, но взаимное уважение друг к другу непременно выказывали. Собственно, если вдуматься, такими были отношения Олега со всеми залесскими князьями. Он так и не стал им своим. Перестал быть чужим, да, но ведь есть разница. Вот Ефросинья — своя. Вон как плачет, обнимая сватьюшку Евдокию, над гробом...
А он, Олег, испытывал только сожаление политика, потерявшего союзника, с которым последнее время стало просто и удобно договариваться о совместных действиях против врагов как на Востоке, так и на Западе.
Видимо, слишком долго видел он в Дмитрии лишь противника, а во всём московском — олицетворение той силы, что невозбранно и последовательно перенимала могущество и блеск древнего Киева. А ведь именно Рязань являлась наследницей и хранительницей древних традиций.
Олег Иванович ещё раз оглядел собравшихся князей.
Все Рюриковичи — но как далеко разошлись они за те пять столетий, что промчались над Русью после смерти Рюрика Старого, общего пращура. Одни вознеслись, их предки побывали и на великих столах, о чём потомки никак не могут забыть. Другие смирились с участью удельных подручных князей, коим уже никогда не примеривать на себя великокняжеский венец. По обрывкам речей, по шепотку, умолкавшему с его приближением, Олег Иванович чувствовал, что все так или иначе говорят о древнем лествичном праве, которое так властно, жёстко и, главное, самовольно нарушил своим завещанием Дмитрий Донской. Он осмелился отдать и Москву, и великое княжение старшему сыну в обход множества родичей, в первую очередь Владимира Серпуховского.
Чутьё политика, десятилетия следившего за малейшими изменениями во взаимоотношениях князей, подсказывало Олегу Ивановичу, что Русь неожиданно оказалась на грани усобицы. Он даже мог бы определить будущего зачинщика усобицы — Владимир Серпуховской. Его права на освободившийся престол наиболее весомы, более того, у него даже есть владения в Москве, полученные им по наследству от отца, — почти треть стольного града. Мысли своих братьев князей Олег Иванович легко читал: сейчас поддержать Владимира, а потом, пользуясь тем, что тот человек боя, полководец, но не политик, исподволь растащить огромное Московское княжество.
Он незаметно вышел из палаты, спустился по красному крыльцу на небольшую площадь, пошёл к надвратной башне. На стену вела широкая удобная лестница, сложенная из крупных известняковых плит, уже немного истёртых сапогами воинов, поднимавшихся за четверть века на стену.
Олег Иванович неторопливо поднялся на самый верх. Огороженная квадратными, в рост человека зубцами, надстенная площадка была широкой и удобной для действий обороняющихся. Слева возвышалась оседлавшая стену надвратная башня, глядя во все стороны узкими бойницами. Вышел воротный, всмотрелся, узнал рязанского князя, скрылся в башне. Странно — это был единственный воин, встреченный на стене. Куда подевались все — неужели так стремительно расшатался порядок, коим всегда славились войска Дмитрия?
Олег Иванович поглядел вниз — под стеной гомонил, шумел, толкался базар. Удивительно, как быстро въелось в русскую речь это принесённое татарами слово, потеснив старокиевское — привоз.
Он полюбовался видом на Пожар, открывшимся с высоты, и двинулся по гребню стены в сторону Москвы-реки. Стена спускалась вместе с довольно отлогим Васильевским спуском. Князь дошёл до угловой башни, нигде не встретив стражу. Постоял, разглядывая обмелевшую реку, подумал, что ни в какое сравнение она с красавицей Окой не идёт, и вдруг вспомнил, как рассказывали ему Степан и Юшка четверть века назад о первых впечатлениях от реки и от кремля. Они тогда стояли на противоположном берегу и любовались первой на Руси каменной крепостью, а потом добыли комок раствора. Он, князь, вместе с боярами изучали этот комок так, словно перед ними лежал слиток золота.
Кремль! Вначале просто старорусское слово, означающее детинец» внутреннюю крепость, или, если по-франкски, кастель, цитадель. А потом постепенно в сознании народа слово «кремль» стало означать только этот, московский, и писали его уже с большой буквы.
Если бы тогда он смог начать вслед за Дмитрием строительство каменного детинца?! Если бы попытался вернуть столицу княжества из нищего, убогого Переяславля на старое место, туда, где раскинулась за пологими земляными валами на высоком берегу полноводной Оки огромная, сожжённая, засеянная костями, опозоренная Старая Рязань, один из самых больших городов Европы в пору своего расцвета?! Если бы...
Но что повторять: если бы да кабы.
Олег Иванович отвернулся от Москвы-реки и загляделся на кремль. Отсюда, с нижней точки, он представлял собой незабываемое зрелище. Словно огромное, каменное чудище, вздыбаясь по холмам, кремль возвышался над рекой во всём своём грозном величии, утверждая незыблемость власти Москвы над всем Залесьем.
Но ведь Рязань — не Залесье...
Вернувшись домой, Олег Иванович решил поговорить о наболевшем с Епифаном.
Они сидели, по обыкновению, в книгохранилище за шахматами, лениво перебрасываясь словами.
И вдруг Олег Иванович без предисловия сказал:
— Коломна — ключ к московскому богатству.
— Вестимо, — скрыл настороженность за старинным словом Епифан.
— Когда возвращались и проходили мимо на стругах, заметил: стены просели.
— Пока мы с покойным Дмитрием были заодно, коломенский воевода совсем беспечным стал.
Кореев сделал вид, что задумался над ходом, сам же размышлял — оговорился Олег, сказав «пока были заодно», или нет. Скорее всего, нет. Случайных оговорок, непродуманных слов у него не бывает. А коль так, с чем вернулся из Москвы с похорон великий князь? Сказал, чтобы проверить, правильно ли понял мысли господина и друга:
— В стародавние времена в устье Москвы-реки Рязань сидела.
— И я о том вспомнил, проходя мимо Коломны. — Великий князь сделал хитрый ход конём, и Епифан не сразу разгадал, что скрывается за этим. А разгадав, с торжеством отразил будущую угрозу движением лодии.
— Коломна — это всегда хорошо.
— Вестимо. — Олег с лёгкой насмешкой повторил сказанное слово.
«Значит, представляет мне честь начать первым», — подумал с толикой неприязни Епифан. Опять игру затеял. Вроде сорок лет рядом, мог бы всё прямо говорить...
Игра же, порядком поднадоевшая Корееву, заключалась в том, что Олег Иванович хитроумными вопросами и намёками подталкивал соратника к высказываниям по волнующим его вопросам. Если выводы Епифана совпадали с теми, к которым уже пришёл князь, дело считалось решённым, князь начинал говорить прямо, называя всё своим именем.
— А как ближайший сосед, князь Серпуховской, посмотрит? — Боярин поглядел в глаза князю, давая понять, что всё уразумел.
— Владимиру Андреевичу ещё завещание Дмитрия переварить надобно.
— Думаешь, даже так?
— Я за ним всё время наблюдал, рядом сидели за поминальным столом. Он Василию не опора.
— Выходит, пришло время о меже времён Ивана Калиты вспомнить?
— А может быть, и времён Данилы.
Это был первый московский князь, посаженный отцом, великим Александром Невским, на престол княжества, бывшего чуть поболе владений бояр Кучковых.
По тому, как глубоко ушёл в историю границ с Москвой великий князь, боярин понял, что тот думал о возвращении лакомых земель давно, может быть, ещё сидя за поминальным столом.
— Когда — до сороковины?
— На сороковину Ефросинья поедет с Фёдором и с Софьей. А мы с тобой начнём обстрелянные сотни с южной межи стягивать.
Великий князь всё обдумал и всё решил. Совета Кореева вроде как и не спрашивал. Но всё же, по привычке четырёх десятков лет, проверял на нём своё решение. Если бы сейчас Епифан нашёл весомую причину сказать, что не стоит даже ради звонкой Коломны нападать на недавнего союзника, нынешнего свояка, возможно, Олег бы и прислушался. Но Кореев не хуже Олега понимал, что не будет удобнее времени, слишком уж лакома Коломна, чтобы совеститься, по каким- то соображениям отказываться от того, что само плывёт в руки и что, скорее всего, в ближайшем будущем станет яблоком раздора между Москвой и Серпуховом...
Уже не в первый раз Олег Иванович сталкивался с тем, что хорошо продуманный замысел начинал вдруг на первый взгляд необъяснимо проваливаться, скользить в сторону, словно телега под уклон в осенней грязи.
За десять дней до сороковин из Москвы в Переяславль неожиданно примчался Фёдор. Великий князь в сопровождении Юшки и нескольких воевод как раз обходил недавно прибывшую с южной межи сотню, ставшую лагерем у земляного вала.
Юшка узнавал знакомых среди десятников, когда- то начинавших вместе с ним простыми воями. Здоровался, расспрашивал, шутил. Великий князь давно не видел его таким оживлённым и весёлым. Да и сам был ясен, милостив; вид обученных, закалённых, хорошо вооружённых воинов веселил, он улыбался, несколько раз снимал с пальцев перстни и жаловал особо приглянувшихся.
И вдруг Юшка поднял руку, вглядываясь в приближающуюся к временному лагерю горстку бояр и дружинников. Зоркий, как природный степняк, он различил среди всадников князя Фёдора, кому надлежало быть в Москве.
Вскоре и все остальные увидели Фёдора. Тот осадил коня прямо перед отцом, спрыгнул с седла, торопливо поклонился и задышливым после скачки голосом вымолвил требовательно:
— Отпусти всех, отец. Мне с тобой говорить надо...
Князь сделал знак рукой, люди отступили на пару десятков шагов в сторону. Только Юшка остался стоять рядом.
— И ты иди, — кивнул Фёдор.
— У меня от него секретов нет...
— Боярин Тютча-младший сказал мне, что ты, отец, уже три полка с межи снял и в столицу призвал.
Тютча-младший, сын прославленного боярина Тютчи, уже несколько лет стоял воеводой московского сторожевого полка. Как достойный наследник павшего на поле Куликовом Семёна Мелика, он сумел наладить службу на меже так, что знал обо всех передвижениях в степи как ордынцев, так и соседей.
— И что с того?
Фёдор опешил от прямого вопроса отца:
— Я из Москвы скакал...
— Чтобы это сказать?
— Ты против кого силы собираешь?
— Это кто же тебя надоумил, что я силы собираю? Тютча?
— Да.
— С каких это пор я свои полки собирать не волен?
— Не играй со мной словами, отец. Боярин доложил Боброку, тот со мной откровенно поговорил. Боброк считает, что ты не прочь в дни всеобщей замятии некоторые московские волости занять.
— Ничего не скажешь, умён Боброк. На аршин под землёй видит.
Глупо-растерянное лицо Фёдора заставило Олега Ивановича едва заметно улыбнуться.
— Получается, батюшка, ты и вправду готовишься на Москву пойти?
— А ты из Москвы галопом скакал, полагая, что я шутки шутить надумал?
— Значит, прав был Боброк?
— Значит, прав. Но и я сто раз прав — были бы у Москвы силы, не стал бы мудрый Боброк тебя в эти дела впутывать. Собрал бы полки и перекрыл мне возможные пути наступления. Только нет сейчас у Москвы достаточно сил.
— Как ты можешь, батюшка? В такие дни... Сороковины твоего свата...
-— Я не нехристь, сороковины бы справить дал.
— Как ты можешь даже думать о таком?
— А как Дмитрий думал, когда вслед за Ордой на Рязань налетел? А как он думал, когда того же Боброка вместе с Пронским на меня натравил? Из-под живого великого князя замыслил стол вышибить, своего пособника посадить? О чём он думал, когда по его навету какой-то подручный хан нашу землю терзал, меня чуть не полонил, а потом его нукеры в меня, в князя, стреляли? Вон спроси Юшку, тогда он меня первый раз спас.
— Батюшка, я всё понимаю! — в отчаянии воскликнул Фёдор. — Кровавая у нас история, много обид в прошлом, много трупов. Но ведь ныне в кои веки мы в мире живём, в согласии!.. Вон сколько за несколько лет покоя добра сделать смогли. Мужик на ноги встал...
— Когда наши предки сюда из Чернигова пришли, Москвы ещё и в помине не было. Так, деревушка Москов. А Рязань уже тогда великим княжеством устояла! Ты вспомни, где наши межи на севере проходили! Чуть ли не у самых Кучкиных огородов! И куда нас Москва оттеснила? За Оку. Думала она тогда, что и у нас кто-то умер, по ком-то сороковины справляют, кто-то рожает? Нет, сын, никогда Москва о чужом горе не думала, знай себе волость за волостью хапала. Вспомни, как Дмитрий, уже крест о дружбе со мной поцеловав, Мещеру себе оттяпал!
— Он Мещеру купил, потому что ты не покупал!
— А мне рязанских княгинь да боярынь стало некуда от ордынцев прятать благодаря его торопливой купле.
— Врёшь, отец, он за тобой оставил право прятаться от орды в мещёрских болотах!
— Это кого ты во лжи обвиняешь? Отца своего?
Фёдор упал на колени:
— Прости, батюшка! В запале дурное слово молвил!
Олег Иванович долго смотрел на стоящего перед ним на коленях сына, постепенно успокаиваясь, наконец сказал:
— Встань.
Фёдор продолжал стоять на коленях, умоляюще глядя снизу вверх на отца:
— Батюшка, ты рассуди... ну, возьмёшь ты ныне, пользуясь неустройством в Москве, пару волостей. Ну, закрепишь за собой... а мне-то каково потом будет с шурином дела вести? А ведь ты сам говорил, что в союзе с Москвой нам ни Литва, ни Орда не страшны.
— То не я, то сотник Степан, у которого боярин Юшка в начале стремянным, а потом меченошей был, говорил, а я его за то в монастырь заточил, — усмехнулся Олег Иванович, вдруг вспомнив непутёвого песнетворца, сложившего голову за брошенную Дмитрием Москву. Но тут новая мысль спугнула мимолётное воспоминание.
Он склонился к сыну и, зло прищурившись, спросил нарочито спокойным голосом:
— Я что-то не совсем понял тебя, сыне. Никак, ты уже сейчас за мои будущие сороковины заглядываешь, примериваешься, как тебе ловчее с шурином в согласии жить. Или я что-то не так уразумел?
— Нет!
— Что — нет?
— Не думал я о твоей смерти, батюшка!
— Не я, а ты произнёс слово «смерть». Я лишь выразился: так далеко смотришь, что уже и за мои будущие сороковины заглядываешь.
Фёдор, всегда чувствовавший себя бессильным в словесной игре с отцом, повесил голову.
Олег Иванович с грустью глядел на сына.
«Любовь редко кого делает сильным», — подумал он и приказал Юшке:
— Боярин! Прикажи сотне отдыхать. Пошли, сын надо нам о многом поговорить...
В книгохранилище великий князь заботливо спросил сына, не хочет ли тот с дороги в баньку зайти. Фёдор, всё ещё напряжённый, словно тетива, отказался. Тогда Олег Иванович велел принести заедок, квасу, своих любимых лесных орехов, удобно устроился на ложе, поглядел, как трудно, часто запивая квасом, ест сын, повздыхал о том, что молодость неразумна и всё ей хочется сразу. Спросил:
— Матери что сказал, когда уезжал?
— Что надо на пару-тройку дней домой съездить по делу.
— Это ты молодец: не след мать зря волновать.
— Ты считаешь, война со сватьей, с моим шурином — зряшный вопрос?
— Говоришь — война со сватьей. А я слово война ещё не произнёс.
— Как не произнёс? А мы о чём говорили там, перед сторожевой сотней?
— О том, что не плохо бы нам кое-какие наши древние волости вернуть.
— Это — война.
— Допустим. Но тут есть одна очень, сын мой, весомая разница. Война не со сватьей, как ты изволил выразиться, а с Москвой. С той самой Москвой, которая нас вот уже сотню лет теснит, под Орду выталкивает и в любой момент нашим горем пользуется.
— Ты это уже говорил, батюшка.
— Говорил и готов повторять, ибо истина, как тебе известно, от повторения не тускнеет.
— Батюшка, ну а я?
— Что — ты?
— Как я Софье в глаза смотреть буду? Как с ней на ложе взойду?
Неожиданно Олег Иванович привстал и рявкнул, словно перед ним был не сын, а провинившийся холоп:
— Дурень! Софья кто?
— Так я про то и говорю — жена моя!
— Я не о том. Здесь она кто — наследница рязанского великого стола, будущая великая княгиня. А там — одна из многих княжон! И это ты должен понимать и ей в её головку накрепко вбить!
— Я её пальцем не трону! — взвился Фёдор.
— Во-первых, напрасно, во-вторых, я и не призываю тебя кулаками вколачивать. Убедить сумей, что она и ныне и вовек рязанка, а не московитка. А теперь, сын мой, поговорим о том, кто какими глазами на кого смотреть будет. Потерпи, если повторяться стану...
Князь опять откинулся на ложе и заговорил негромко, словно рассуждая сам с собой:
— Тридцать пять лет назад, когда умер Иван Московский, мои бояре решили, что самое время вернуть Рязани городок и волость Лопасня. И вернули — правда, всего на несколько лет, ибо потом было пронское нашествие, которое, кстати, твой советчик возглавлял, мудрый Боброк-Волынский, и многие были другие кровавые битвы. Рязань перестала думать о Лопасне, хотя это исконно наша волость. Перестала, потому что, замахиваясь на Лопасню, замахивалась на Владимира Серпуховского. Хотя я этого прославленного князя, прозванного в народе Храбрым, и бивал, но противник он знатный, такого лучше в союзниках иметь. Вот стоит у впадения Москвы-реки в Оку город Коломна. Кто им владеет, тот собирает мытное со всех грузов, что из Москвы, Смоленска, Пинска, Литвы идут в Оку. Это непрерывный, как река, поток гривен в княжескую казну. Мы вон несколько лет в покое прожили, и то я сумел с нашего нищего землепашца столько налогов собрать, что и стольный град в божеский вид привёл, и несколько новых полков вооружил. А если золотой поток из Коломны на дело укрепления всей Рязанской земли направить? Сейчас в сторожевых сотнях и полках вой повёрстаны землёй. Иными словами, я их за ратный труд землёй наделю, когда настанет время на покой выходить. А теперь прикинь — много ли у меня земли осталось, чтобы ею всё новых и новых воев оделять? Того и гляди, без собственных земель останусь, нечем станет одаривать. Да и тебе, сыну, ничего, кроме великокняжеского стола и громкого титула, в наследство не оставлю. А мне ведь нужно ещё и старых дружинников жаловать... Ты об этом думал?
— Нет, — растерянно сказал Фёдор.
— Вот то-то и оно. Мне тоже по молодости лет казалось, что земли у меня немереные. Ан нет. Так что, если за службу землёй пахотной верстать, я могу всего несколько полков иметь. Столько, сколько сейчас... — Великий князь задумался.
Фёдор терпеливо ждал, когда продолжит отец свои рассуждения. Он впервые столкнулся с такой простой мыслью: пахотная земля, извечно единственная награда за службу и воину, и дружиннику, и боярину, может иссякнуть.
— Но когда у меня в казне будет золото, я смогу не землёй одаривать, а платить воинам так, как византийский император платит варяжским наёмникам. И тогда не будет предела моим полкам и, следовательно, не будет боязни, что в очередной раз разгромят обученные ордынцы необученных моих ополченцев, от сохи оторванных. Будут полки — будет и земля: вся степь до ногайских становищ, весь Дон от истоков до устья. Я всегда считал, что Дон — рязанская река, в нашей земле начало берёт! А когда укреплюсь, тогда — открою тебе сокровенную свою мечту — смогу приступить к возвращению стольного града на его истинное древнее место, туда, на высокий берег Оки...
Великий князь умолк. Непривычно мягкая, затаённая улыбка мелькнула у него на лице.
Фёдор молчал, не решаясь поднять глаза от узора на огромном напольном черкасском ковре.
— Каменный детинец возведу... Митрополита к себе переведу... — Вдруг, почуяв в прямом молчании сына несогласие, Олег Иванович закричал: — Что косоротишься? Глаза отводишь? Если мы сегодня не воспользуемся этой великой возможностью, когда Дмитрий, желая сделать как лучше, вбил завещанием клин между сыном Василием и двоюродным братом Владимиром, если мы провороним этот краткий миг, историей нам дарованный, — как сможем рязанцам в глаза смотреть? Ты пойми. Быть князем не только почёт и власть! Быть князем ещё и ответственность великая перед людьми.
У Фёдора побелели губы. Он поднял глаза и, с трудом выталкивая слова из пересохшей глотки, сказал:
— О тебе, отец, на Руси слава как о перевёртыше идёт. Хочешь и меня к этой славе пристегнуть?
— Как ты сказал? Как ты посмел? — Олега словно подняло неведомой силой с ложа.
Он подскочил к сыну, ухватил попытавшегося было отшатнуться Фёдора железными пальцами за ухо, дёрнул, повторяя:
— Чти отца своего! Чти, щенок, отца!
Выпустил ухо, вмиг покрасневшее и опухшее, ткнул указательным пальцем в грудь сыну и сказал обычным, ровным голосом:
— Иди в свой терем. Никуда не выходи, ни с кем не разговаривай. Жди, когда я тебя призову. Узнаю, что нарушил моё повеление, клянусь, посажу тебя на удел, на место Родослава. А его к себе возьму, наследником сделаю, хоть и тих он, и родиться бы ему не князем, а пономарём. Иди!
Фёдор попятился и, не забыв поклониться, вышел.
Великий князь рухнул на ложе, уткнулся лицом в подушку и замер. Когда стемнело, он, кликнув Юшку, поехал к Марье. В её жарких объятиях невзгоды отступили, стали казаться не такими уж неизбывными...
Ранним утром, заглянув по привычке на поварню и взяв ломоть горячего хлеба, Олег Иванович стал неторопливо подниматься к себе в горницу.
У двери на коленях стоял Фёдор.
Сердце радостно дрогнуло.
«Осознал!» Чувство торжества охватило великого князя. Но хотя всё внутри ликовало, он нахмурил брови и грозно спросил:
— Как ты посмел нарушить моё повеление? Я же сказал — пока сам не призову.
— Я потому, батюшка, нарушил, что ты своим непристойным поведением мне такое право дал.
— Это каким же непристойным поведением? — не понял Олег Иванович. — Ты говори, да не заговаривайся!
В груди, где только что всё пело и радовалось, вдруг больно защемило от дурного предчувствия.
— Умён ты, батюшка. Да не учёл, что окна моей горницы, где ты велел мне пребывать, смотрят как раз на ту дорогу, что ведёт из детинца к дому Марьи.
— Ну!
— Не нукай, батюшка, не взнуздал. За ухо, как дитё несмышлёное, таскал, а взнуздать не взнуздал. Я давно знал, что ты к ней повадился по ночам шастать, поправ закон божеский и людской обычай...
— Юшка сказал?
— Из Юшки чужие тайны и раскалёнными клещами не вытянуть, сам знаешь. Проведал я, и всё тут. Всю ночь думал, батюшка. Вчера я тебя слушал, как ты тут соловьём разливался, будущее Рязани живописуя. Теперь имей терпение, меня послушай. Если пойдёшь на Коломну, я матушке про Марию расскажу. Как ты, презрев на свете всё святое, к матери твоей внучки по ночам блудливым котом бегаешь. Даже не снохач — нет в русском языке для тебя слова достойного...
— Ты с ума спятил! Как мать...
— Как мать поступит, ей решать! — перебил отца Фёдор. — Руки на себя наложит, в монастырь уйдёт или примет тебя, простит — то её решение. Я же на Москву отъезжаю. Пусть тихоня Родослав, брат мой единственный, на престол садится. Но помяни моё слово: ты умрёшь, я у него Коломну отберу, а остальное он и сам из рук выпустит... Если же ты не пойдёшь войной на Москву, подтвердишь новым крестным целованием с Василием все договорные грамоты, что с покойным Дмитрием о мире и дружбе заключил, — буду тебе примерным сыном и ни словом матери не обмолвлюсь.
Олег Иванович молча смотрел сверху вниз на коленопреклонённого сына.
— Что ж, речь не мальчика, но мужа. Только отчего ты её на коленях произносишь?
— Потому что, батюшка, я пока ещё на твою милость уповаю.
— А не боишься, сын, что я тебя за угрозу матери про Марию рассказать сейчас прикажу удушить?
— Я в твоей воле.
Вопреки всему, в душе Олега Ивановича шевельнулась гордость. Это бы его сын, его наследник, человек с твёрдым характером, умеющий настоять на своём, рисковать головой, любить и быть верным. Такому и престол не стыдно завещать.
— Ладно. Раз сам на колени встал, постой ещё. Аз же, грешный, пойду вздремну после трудов ночных, неправедных! — Великий князь с удовлетворением отметил, как дёрнулась голова сына от тонко рассчитанного оскорбления...
...Всё сделал Олег Иванович, как потребовал Фёдор.
И грамоты договорные с Москвой крестным целованием подтвердил, и сторожевые сотни на восточную и южную межи вернул, и даже (о том Фёдор слова не сказал) какое-то время к Марье по ночам не ездил.
Но радость ушла из сердца, а удача — из дел.
Эпилог
В 1395 году над всей Русью нависла новая грозная туча: Тимур, Железный хромец, прославленный полководец, двинул свои тумены в поход.
Первой жертвой пал Елец, стольный город удельного княжества, входившего в состав Рязани. При защите города погибли князь, вся его дружина и ополчившиеся жители близлежащих сел. От Ельца Тамерлан двинулся на север вдоль Дона. Олег Иванович, получив страшные вести, стал готовиться к отходу в Мещеру.
Всё, что произошло в следующие две недели, — легенда.
Летописи о том молчат. В ордынских сказаниях есть лишь смутные намёки.
...Войска Тимура подошли к самым дремучим хвойным лесам, отделяющим степные земли от Залесья. Словно воины, стояли перед ним могучие разлапистые ели, за ними чернел таинственный и грозный русских лес.
Спустилась ночь. Шестидесятилетний эмир[67], чуть прихрамывая, вышел перед сном из огромного походного шатра. Морозило. В шатре ждала наложница, готовая согреть в любую минуту своего повелителя. Завтра эмиру предстояло вступить в лес. По его замыслу, сотни рабов будут валить деревья, прорубая дороги для конницы. Русский лес ляжет к его ногам так же, как легли пески Хивы и Бухары, сады Ферганы, горы и ущелья Кавказа... Эмир постоял перед шатром и только собрался вернуться в тёплую, пряную духоту, как внимание его привлекло странное явление. Над лесом разгорался голубоватый, мертвенный свет. Эмир перевёл взгляд на восток. Там, как и надлежало, светил стареющий месяц, его свет не мог быть причиной зарева над лесом. А оно вело себя странно: поднялось над верхушками деревьев, приближаясь к опушке, стягивалось, уплотняясь и становясь всё ярче, пока наконец не превратилось в нестерпимо сверкающую огромную лепёшку, или, вернее, блин, отвратительную, непропечённую еду русских дикарей. Эмир заворожённо смотрел, как надвигается на него сверкающее чудо: вот из него вырвались огненные стрелы, достигли опушки и исчезли в кустарнике. В этот момент в голове начал бить огромный барабан, невыносимо заболели глаза. Эмир зажмурился, пошатнулся, упал и пополз в шатёр...
Утром Тимур приказал возвращаться в ногайские степи.
Но не успела таинственная сила отвести одну страшную угрозу, как обострились отношения с Витовтом Литовским.
Всё началось с мелких стычек на западной, литовской, границе. Как и предвидел Олег Иванович, Василий, женатый на дочери Витовта, во всех столкновениях, в отличие от отца своего Дмитрия, старался остаться в стороне. Винить его Олег Иванович не мог: собственный сын не так давно вёл себя так же по отношению к Василию. В итоге Рязань оказалась один на один против Литвы.
В 1395 году к Олегу Ивановичу приехал за подмогой незадачливый зять, муж младшей дочери князь Юрий Святославович. Набравший силу Витовт с упорством истинного литвина вытеснял его из могучей и обширной когда-то Смоленской земли. Пока Олег Иванович ополчался и вёл переговоры с подручными удельными князьями — козельскими, пронскими, муромскими, — Витовт окончательно укрепился в Смоленской земле и захватил её столицу.
Началась трудная и длительная борьба с западным соседом, в которой обе стороны несли потери, поочерёдно громя друг друга. Но если Олег Иванович разорял русские же земли, оказавшиеся под Литвою, и до самой Литвы ни разу не добрался, то Витовт разорял рязанские волости и города. Так, в 1396 году на Пасху он ворвался, воспользовавшись отсутствием князя, в Рязанскую землю и с таким зверством расправлялся с побеждёнными, что летописец записал: «Витовт же проливал рязанскую кровь, аки воду».
В 1400 году князь Юрий Святославович опять пришёл со слёзной просьбой к тестю. Вопреки тяжёлому предчувствию, Олег Иванович просьбе зятя внял, собрал под свои знамёна полки удельных князей и во главе мощного соединения напал на Витовта. Ему удалось освободить от литовцев Смоленск, продвинуться впервые в собственно литовские пределы, взять огромную добычу. Мрачные предчувствия оставили его. На следующий год он продолжил наступление, но, плохо себя почувствовав, вернулся домой, а на Брянск послал сына Родослава. И тут удача отвернулась от рязанцев. Они потерпели поражение, Родослав попал в плен. Олег Иванович, получив это известие, только и смог вымолвить: «Ведь знал же, что тихоня!» — и слёг.
В первых числах июня великий князь Олег Иванович, самый яркий из семнадцати поколений рязанских князей, мудрый, многоликий, страстный, нетерпеливый и одновременно способный выжидать, безжалостный и щедрый, гордый и умеющий смирять свою гордыню, если это было нужно его родному любимому княжеству, всегда ставивший интересы родины во главу своей извилистой политики, почувствовал приближение смерти и принял схиму, взяв имя Иоакима. Он скончался от жестоких сердечных болей пятого июня 1402 года. Похоронили Олега Ивановича согласно его воле в основанном им и великой княгиней Ефросиньей Солотчинском монастыре.
Великим князем стал Фёдор Олегович. Больше столкновений между Москвой и Рязанью не было.
А в 1521 году Рязань вошла в состав Великого княжества Московского.
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
1337-1338
Примерная дата рождения Олега Ивановича Рязанского.
1350 год
Смерть Ивана Ивановича, отца Олега. Олег становится великим князем рязанским. Рождение Дмитрия, будущего великого князя московского.
1365 год
Ордынский князь Тагай нападает на Рязань, сжигает Переяславль Рязанский. В битве под Шишевским лесом Олег впервые одерживает победу над ордынцами.
1367 год
Дмитрий Московский строит каменный кремль.
1371 год, декабрь
Москва нападает на Рязанское княжество. Московские полки, возглавляемые князем Дмитрием Михайловичем Волынским, Боброком, в битве при Скорнищеве наносят жестокое поражение рязанцам. Олег уходит в мещёрские леса, Москва сажает на рязанский престол Владимира Пронского, до того бывшего удельным князем под рукой Олега.
1372 год
Олег прибегает к помощи татарского мурзы Салахмира, изгоняет Владимира Пронского, возвращает себе рязанский стол.
1372 год
Начало сближения Рязанского и Московского княжеств. Олег выступает в качестве третейского судьи в споре Москвы и Твери.
1377 год
Нашествие царевича Арапши (Араб-шаха) на Рязанскую землю. Олег попадает в плен, бежит.
1378 год, 11 августа
Битва на реке Вожа, в которой объединённые русские войска разгромили посланного мурзой Мамаем мурзу Бегича.
1380 год, лето
Олег договаривается с идущим на Москву мурзой Мамаем о том, чтобы тот в обмен на невмешательство Рязани не вводил войска в рязанские земли.
1380 год, конец лета
Олег предупреждает Дмитрия о движении войск Мамая на Москву.
1380 год, 8 сентября
Победа русских сил на Куликовом поле. Дмитрия Московского народ нарекает Донским.
1381 год
Дмитрий Московский и Олег Рязанский заключают договор о дружбе и взаимопомощи. По этому договору Олег признает Дмитрия «старшим братом», то есть его верховенство, и возвращает Москве спорные волости.
1382 год
Олег Рязанский нарушает договор с Москвой, оказывает помощь хану Золотой Орды Тохтамышу. Дмитрий Донской бежит из Москвы, оставляя её беззащитной.
Тохтамыш берёт обманом Москву, сжигает её. Возвращаясь в Орду, громит Рязанскую землю, берёт в качестве заложника младшего сына Олега — Родослава.
Вслед за Тохтамышем Дмитрий Московский разоряет Рязанское княжество, наказывая за предательство Олега. Тохтамыш налагает на русские княжества тяжёлые дани.
1385 год
Олег Рязанский внезапно нападает на Московское княжество и захватывает город Коломну.
Дмитрий Донской, потерпев несколько поражений, предлагает мир. Олег Рязанский отказывается.
1386 год
Дмитрий Донской прибегает к заступничеству и посредничеству Сергия Радонежского. Отец Сергий едет в Рязань и устанавливает мир «на своей воле».
1386 год
Олег Рязанский женит своего сына Фёдора на дочери Дмитрия Донского Софье.
1387 год
Княжич Родослав бежит из Орды.
1395 год
Тамерлан, эмир бухарский и фактический владыка Золотой Орды, нападает на Русь, вступает в пределы Рязанского княжества, захватывает и сжигает Елец. Неожиданно, по необъяснимой причине, поворачивает войска и возвращается в Орду.
1396-1399 годы
Олег Рязанский оказывает помощь мужу младшей дочери — Юрию Смоленскому в борьбе с Литвой.
1400-1401 годы
Олег Рязанский наносит несколько поражений великому князю литовскому Витовту.
1402 год, 5 июня
Смерть великого князя Олега Ивановича Рязанского.
ОБ АВТОРЕ
Юрий Леонидович Лиманов родился в 1926 году в Москве. В начале Отечественной войны, будучи в эвакуации на Алтае, работал конюхом. В 1944 году пошёл в армию. Служил на Балтике, на канонерской лодке «Красное знамя», участвовал в боях. После увольнения в запас работал в различных газетах, объездил всю страну, но всегда главным его увлечением оставался театр.
Был руководителем литературного отдела Малого театра, в это же время стал выступать и как драматург. Лучшие пьесы Ю. Лиманова, поставленные в разных театрах страны, были посвящены истории нашей Родины: «В начале было слово» — о судьбе автора «Слова о полку Иго рёве», «Задонщина» — о её авторе Софонии Рязанце, «Кирилл и Мефодий» — о создателях современной славянской письменности. По его сценариям поставлены фильмы «Господин Великий Новгород», «В начале было слово». Опубликованы два исторических романа: «Святослав, великий князь киевский» и «Прелестное дитя греха».
Член Союза писателей.
Исторический роман «Многоликий» — новое произведение автора.
Примечания
1
После нашествия хана Батыя в 1237 году, когда город Рязань был уничтожен, столицу перенесли в Переяславль Рязанский, который в 1778 году был переименован в Рязань. На месте разрушенной столицы до сих пор сохранилось городище под названием Старая Рязань.
(обратно)2
Стол — престол. Отсюда — столица.
(обратно)3
Вятший — выдающийся, знатный.
(обратно)4
Чёрный мор (холера) 1352 года.
(обратно)5
Боярский сын — титул. В данном случае речь идет не о родственных отношениях, а о положении в дружине.
(обратно)6
Кафа — генуэзская колония в Крыму.
(обратно)7
Сурож — древнерусское название города Судак в Крыму.
(обратно)8
Залесское государство, Залесский край, Залесье — территория Руси, отделенная от южнорусских княжеств полосой густых лесов, протянувшихся от Пинска и Смоленска до Мурома.
(обратно)9
В Залесский край входили княжества: Тверское, Суздальское, Ростовское, Владимирское, Ярославское, Московское, Нижегородское.
(обратно)10
Воин личной гвардии монгольских ханов.
(обратно)11
Борти — улья.
(обратно)12
Знамена — знак владельца.
(обратно)13
Путевая мера длиною около 20 верст.
(обратно)14
Рында — воин придворной охраны.
(обратно)15
Огнищанин — свободный человек, домовладелец, живущий на своей земле.
(обратно)16
В истории татаро-монгольских нашествий Козельск прославился самым длительным и упорным сопротивлением врагу.
(обратно)17
Русская формула вассальной зависимости.
(обратно)18
Здесь и далее автор сознательно употребляет современное слово «библиотека», чтобы не перегружать текст архаичным «вивлиофика».
(обратно)19
В детскую дружину зачисляли только детей старших дружинников и бояр.
(обратно)20
Большая чаша для питья вкруговую.
(обратно)21
Вотола — верхняя грубая одежда, накидка.
(обратно)22
Васильевский спуск.
(обратно)23
Пожар — древнее название Красной площади.
(обратно)24
Порок — стенобитное оружие, таран.
(обратно)25
Бархатный.
(обратно)26
Первым заместителем.
(обратно)27
Паль — выжженное в лесу место для распашки.
(обратно)28
Ушкуйники — речные разбойники.
(обратно)29
Колывань — нынешний Таллинн.
(обратно)30
Жуковинье — ювелирные изделия, драгоценные камни.
(обратно)31
Чумак — возчик на волах, перевозящих соль и рыбу.
(обратно)32
Тьма — десять тысяч.
(обратно)33
Харатейный чертеж — карта.
(обратно)34
Мещера, или мещеряки — малочисленное угоро-финское племя, населявшее Мещерскую низменность.
(обратно)35
1371 год.
(обратно)36
Шуйца — левая рука.
(обратно)37
Тумен — десять тысяч воинов.
(обратно)38
Удел — княжеское владение на Руси в XII-XVI вв.
(обратно)39
Голица — железная перчатка.
(обратно)40
Улусник — правящий княжеством, или улусом, на основании ханского ярлыка.
(обратно)41
Хиновский — китайский.
(обратно)42
Хурултай — съезд представителей правящего класса.
(обратно)43
Вежество — образованность, знание.
(обратно)44
Джагун — сотник в татарском войске.
(обратно)45
Шевлюга (бранное) — выродок, кляча.
(обратно)46
Кафские — генуэзские. Кафа — генуэзская колония в Крыму, недалеко от нынешнего Судака.
(обратно)47
Мытное — пошлина.
(обратно)48
Боярские дети — члены младшей дружины князя.
(обратно)49
Гридь — воин.
(обратно)50
Мягкая рухлядь — меха.
(обратно)51
Занеглименье — правобережье реки Неглинки.
(обратно)52
Пря — раздор, ссора.
(обратно)53
Келарь — монах, заведующий монастырским хозяйством.
(обратно)54
Ссылаться — обмениваться посланиями, вести переговоры.
(обратно)55
Киличей — гонец в ранге посла.
(обратно)56
Харатейный чертёж — географическая карта.
(обратно)57
Фрязи — итальянцы (др.-русск.).
(обратно)58
Колонтарь — доспех из блях и колец.
(обратно)59
1380 год.
(обратно)60
Тохтамыш (7-1406 г.) — чингисид, хан Золотой Орды с 1380 г.
(обратно)61
Брашно — еда.
(обратно)62
Поприще — древняя русская путевая мера, равная примерно 1150 метрам.
(обратно)63
Именно этот герой обороны Москвы был одним из основоположников славного рода князей Трубецких, давшего Руси многих доблестных воевод, наместников, генералов.
(обратно)64
Поминки — в данном случае — подарки.
(обратно)65
Полтина — крупная денежная единица XIV-XV вв., происходит от глагола «располоть», то есть разделить пополам вдоль отрезок серебряного прута, рубля. Это — годовая дань с небольшой деревни.
(обратно)66
Ошуйю — слева, по левую руку, от древнерусского слова «шуйца», левая рука.
(обратно)67
Тимур (Тамерлан), повелитель Орды, не являясь потомком Чингисхана, не мог стать великим ханом, поэтому, правя через подставных ханов-чингисидов, он носил всего лишь титул эмира, так же как и его предшественник Мамай.
(обратно)


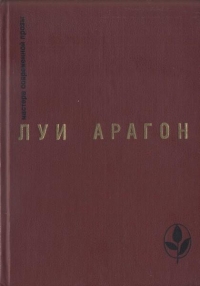
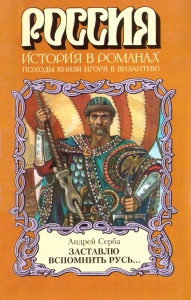


Комментарии к книге «Многоликий. Олег Рязанский», Юрий Леонидович Лиманов
Всего 0 комментариев